Зденек Плугарж Если покинешь меня
Родина и свобода
Три парня перешли государственную границу. Один из них почти машинально положил в карман голыш, подобранный в приграничном ручье, там, на бывшей своей, чехословацкой стороне…
Шел 1949 год. Чехословакия выбрала социализм. С февраля 1948 года, когда свершился исторический этот акт, на Запад уходили люди, так или иначе не принявшие нового строя жизни. Но что толкнуло к побегу этих трех юношей, проснувшихся от холодной росы уже на другом, немецком «берегу» жизни?..
Вацлав Юрен, сын состоятельных когда-то родителей, еще имел какие-то видимые основания: классовое недоверие, обиду за семью, разом потерявшую все — привилегии буржуазного клана, материальное благополучие, надежды на будущее для сына (студент-медик, Вацлав не мог продолжить свое образование — на два года был отчислен из института). Но у его случайных приятелей, автомеханика Ярды и наборщика Гонзика, и таких оснований не было. Правда, заносчивый Ярда воровал казенные полуоси, но не боязнь отсидки за кражу, если уж на то пошло, заставила его поменять родину… Маячила перспектива побыстрее выбиться в люди, протолкаться сильными локтями в хозяева жизни. Иметь свое хозяйство — автостанцию, заправочную колонку со смазливыми девочками в штате — вот что было голубой мечтой Ярды. А на родине разве дождешься такого апофеоза? Там требуют работы, плана, там трудно опередить другого, вырваться, выделиться, разбогатеть. Гонзик, самый щуплый из них, очкарик из бедной семьи, просто поначитался книг о сладкой жизни. Моря, пустыни, приключения… Ему кажется, что жизнь на родине сера, монотонна, скучна. В ней нет размаха, красоты. Даже рассвет в горах с той, с другой стороны кажется ему не таким, каким виделся из родных мест…
Правда, начало одиссеи не совсем отвечало их планам и надеждам. Немецкие патрули, немецкие тюремщики, американские вербовщики… Подкуп сигаретами, шоколадом, краешком показанной сладкой жизни — и вонючие камеры с парашами, пинки — такие «контрасты» заставили несколько побледнеть радужные фантазии мальчишек. «Волшебный романтический мир» Запада оставался на лакированных открытках в несколько красок — только на открытках!
А открытки эти лежали на столе комендатуры пересыльного лагеря, куда попали наши авантюристы после первых, робких, но пока еще принципиальных поступков — нежелания вербоваться в шпионы против бывшей родины. Лагерь этот, «Камп Валка», находился в Нюрнберге. Городе, который стал символом суда над мировым фашизмом. Валке же суждено было оказаться символом крушения иллюзий тысяч восточных беженцев, их надежд на широкое, доброе сердце «цивилизованной» Европы. Миска похлебки, клопы, общие нары, постепенное обнищание духа, многомесячное ожидание по запросам — США, Канада, Австралия, Новая Зеландия… Редко кто получал вызов, да и тот, кто дождался приглашения в неведомое, успевал так опуститься, что переставал уважать себя, строить какие-то иллюзии насчет осуществления первоначальных планов.
Жизнь в лагере беженцев и составляет основу романа Зденека Плугаржа «Если покинешь меня». Целая панорама разбитых судеб проходит перед читателем. И общая картина говорит о крахе — полном и бесповоротном — самой идеи эмиграции. Крахе измены, которую иной раз люди склонны именовать другими словами, романтизировать ее, противопоставляя свою судьбу судьбе своего народа, пытаясь спастись от зависимости родины, заглушить шум ее общей крови в собственных жилах…
Сюжет романа Плугаржа неумолимо приводит наших героев к реалистическому пониманию ложности их рокового шага. Но художник не торопится поставить точку раньше времени. Герои романа должны полной мерой испить горькую чашу испытаний. Сами, каждый по-своему, прийти к печальному для всех финалу. Нет, Плугарж ни в коем случае не хочет рисовать эмиграцию одной черной краской. Он стремится проанализировать скрытые пружины поступков и намерений разных людей, попадающих в критические ситуации жизни. С явной симпатией рисует он образ идеалиста профессора, мировой знаменитости, Маркуса. Профессор, например, упрямо не хочет принять некоторые «жесткие» стороны социализма, по его мнению, ограничивающие свободу совести и творчества. И даже трезвое понимание убожества и коррупции эмиграционной верхушки, бесперспективность эмиграции в целом не могут поколебать Маркуса в его неприятии коммунизма. Но благородство его личной позиции, его бескомпромиссность, неумение и нежелание служить неправде и лжи, донкихотская его война с продажными и продавшимися деятелями от науки, давно подчинившими научные принципы принципам личного благополучия, — подкупают читателя, а крушение Маркуса, возвращение в лагерь и вынужденное согласие обучать детей мелкого фабриканта за пропитание вызывают не презрение, а сочувствие. И в крушении своем Маркус остается человеком. Он остался у разбитого корыта научной карьеры, но не предал себя, свою душу. Он определил свою жизненную позицию очень точно: «зернышко между жерновами двух эпох». Но уже в том, что коммунизм косвенно признан им как эпоха, за которой будущее, — признание поражения идейного. Идейное банкротство — это смерть, формулирует Маркус. Трезво, горько-иронически наблюдает профессор за самим собой — помимо воли руки его держат шляпу у груди просительным жестом, когда преуспевающий фабрикант обдумывает: стоит ли ему брать домашним учителем для своих лоботрясов Маркуса (это его-то, мировую знаменитость!). А позади — возможность приглашения в Кембридж. Увы, теперь даже гимназия кажется недостижимым счастьем…
Именно Маркус скажет после самоубийства Вацлава: он умер потому, что перестал понимать, зачем живет… Вацлав был молод, честен, в нем в большей степени, нежели в других, жило духовное начало. Его убило разочарование, в котором уже нельзя было не признаться самому себе. Близкая душа, Катка, женщина, державшаяся долго, сломлена лагерной жизнью, опустошена — это последняя капля… Но сколько их было, разочарований. Подделав с согласия Гонзика его паспорт, Вацлав едет в Париж, где разместился штаб эмиграции. Он выступает как представитель всего лагеря. И что же? Вернувшись ни с чем, он понимает то, что еще раньше до него поняли Маркус или доктор, инспектировавшая Валку: хотя верхушка эмиграции и рядовые лагерники называют друг друга «брат», между ними расстояние — шире океана, одни имеют по нескольку секретарей, другие — только блох в матрасе… Вацлав прозревает поздно. Народ твой, там, на родине, просто отрекся от них, там никакого дела нет ни до него, Вацлава, ни до других таких, как он. Этот вакуум безразличия к его судьбе вконец заставляет Вацлава ощутить трагизм положения. Его и ему подобных просто перестали принимать во внимание. Там, на родине, — в силу их личной незаметности и безвредности новому, массовому, могучему движению к цели. А здесь? У эмиграции нет идеала, никакой положительной платформы. Западу они не нужны. Тут люди практичные. Зачем им вкладывать средства в пустую затею, в игру с эмигрантским «правительством»? «… И тем не менее каждый удар, обрушивающийся на него в эмиграции, был в то же время ударом по его ненависти к коммунистам. Труднодоступный для понимания факт, и Вацлав не мог ни осмыслить его, ни разобраться в самом себе…» На последние деньги покупает он пистолет и один патрон. Точка поставлена.
Ярда пошел по другому пути. После ряда мелких компромиссов он спускается все ниже. Просто воровство сменяется ограблением могил. Он сдается шантажу и обрекает себя на роль шпиона против родины. Сильно написаны эти сцены. Ярда не готов к предательству даже после всего, что было позади в его жизни, запутанной и темной. Мысль о сдаче властям созревает в его мозгу. Он не в силах бороться с искушением и идет к родному дому, встречается с некогда любимой им и преданной девушкой, нарушая инструкцию «шефа», старшего группы, дважды убийцы, патологического мерзавца, Пепека. И Пепек в лесу, недалеко от дома Ярды, боясь его, не доверяя ему, убивает Ярду.
Еще больше испытаний выпало на долю третьего участника группы — Гонзика. Искренний малый, осознавший неорганичность для себя положения эмигранта, отрезвевший от мечты по романтическим приключениям в экзотических краях, он раньше других отринул все сомнения в трагической глупости их шага. Коварство вербовщиков, обманом завлекших Гонзика в западню и сделавших из него солдата Иностранного легиона, стоило ему года тяжелейших мытарств в Марселе и в Алжире. Его нещадно избивали, унижали, его жгло беспощадное солнце пустыни, но ничто не могло вытравить из его сознания и сердца образа родины. Он жил только ею, он собрался в комок воли, упорства, надежды и победил. Победил, вырвался из ада — не стал наемным убийцей, не стал предателем, не опустился нравственно, более того — спас еще одну слабую душу — Катку, пережившую измену близкого человека, насилие одного из руководителей лагеря, самоубийство последнего друга, Вацлава… В финале романа Катка и Гонзик переходят границу Чехословакии… И облегчающие душу слезы покаяния, готовность радостно принять любое наказание, только бы начать новую жизнь потом, после наказания, — очищающий катарсис этой трагедии…
Но всей логикой повествования Плугарж говорит нам, что эта судьба — исключение из правила, не правило. Так же как исключение — устройство старой женщины по прозвищу «Баронесса» на теплое местечко. Она одна, не считая Маркуса, да еще одного персонажа, Капитана, бывшего летчика, ныне помощника слесаря-водопроводчика, смирившегося с судьбой, нашла пристань в бурном море эмиграции. Но Баронесса счастлива маленьким счастьем, она и раньше не знала другого. Капитан же — фигура нравственно незаурядная, совестливая и отзывчивая к беде ближнего, мог бы рассчитывать на лучшую долю. На протяжении всего романа читатель не раз сочувственно следил за мытарствами этого человека. Вторая мировая война, летчик на западном фронте союзников, в 1945 году возвратившийся на родину, перелетел во время тренировочного полета на мюнхенский аэродром — история запутанная, сомнительная, грустная, непоправимая… Капитан не в силах повернуть, довернуть ручку «штурвала» своей судьбы… Поздно. Но, думая о жизни весьма трезво и практически, презирая эмигрантскую верхушку и добродушно подсмеиваясь над стариком Маркусом с его надеждами найти на Западе атмосферу «достоинства, братства и любви», Капитан все же ограничивает собою круг порочных привычек, делясь последним куском хлеба с ближними, помогая каждому, кто в нем нуждается, он не хочет, чтобы зараза Валки поражала слабые души. В нем есть что-то от ремарковского героя. Известное благородство и печальная уверенность, что он должен прожить максимально достойно в его недостойном положении.
Да, редко кому удается вырваться из этого ада и позорного круга предательства. Вступивший на него неумолимо подвержен вращению, перемалыванию и будет выброшен, поздно или рано, на свалку. Разве не символично, что «выбившаяся» из нужды ценой проституции Ирена говорит вернувшемуся после похищения его вербовщиками Гонзику, показывая на новое жилище свое: «Мы там, в новом бараке «Свободная Европа»…» Свобода и барак! Не о такой свободе мечтали эмигранты, не о такой Европе грезили по ночам, слушая вкрадчивые голоса по приглушенному радио… На городской свалке ищут что-то многие герои романа — что они ищут там? Один — банку из-под консервов, чтоб использовать ее как миску, другой — винт или кран, который еще сгодится в продажу барахольщику, третий — словно тянется сюда в предчувствии общего конца…
«Эмиграция — это ожидание», — говорит папаша Кодл, помощник начальника лагеря, фигура страшная в откровенности своей гадливой сентиментальностью и цинизмом. Образ законченного предателя, личности страшной, по-смердяковски растленной и беспощадной, — один из наиболее убедительных художественно. Временами, скажем, в сцене смерти маленького Бронека Штефанского и сумасшествия его матери, Кодл не лишен сострадания и смущения, временами его слащавая болтовня, особенно под влиянием винных паров, способна выдавить настоящие слезы из его заплывших глазок… Он хочет на родину, любит свои кнедлики и вид на Градчаны со стороны парламента. Ему нельзя отказать в таком патриотизме. Он, разумеется, ненавидит словаков, презирает евреев, знает цену «дружбе» с немцами и хотел бы, чтобы чехи жили получше в этом проклятом Нюрнберге. Но не за счет его, Кодла. Тут у него расчет точный и безошибочный. Он умеет стравлять, подкупать, расслаблять волю своей очередной жертвы. Когда он находит адрес бывшего мужа Катки и едет с ней на поиски ее Ганса, который молчал два года и не отзывался, он ведет себя почти «по-рыцарски». В чем дело? Извращенный его ум тешится мыслью о том, что время просто еще не приспело, что жертва его, Катка, должна сама упасть к его ногам, как созревший плод… И он не ошибается. Кодл не дрогнет, по существу отравляя начальника лагеря, немца, ничто не шевельнется в его душе, когда он, меняя продукты, поступающие для лагерников, на деньги и девок, видит голодающих детей… И папаша Кодл клянется именами Коменского, Гуса и Жижки, взывает к памяти о великой Чехии! Он тоже знает, что вожди эмиграции — политические трупы. Но, в отличие от Маркуса, Вацлава или Капитана, он, как шакал или гиена… питается трупами. У чешского фашиста Кодла нет доктрин, платформ, взглядов, страстей духа. Он патриот животный. Из такого человеческого материала, только с другими приметами «патриотизма» (пиво, «Хорст Вессель» и т. п.), делал фашистов фюрер. Делали фашистов в разных странах, в разные времена. Даже тогда, когда слово «фашист» было неизвестным.
Вот о каком «патриотизме» (а ведь это каждое третье слово у папаши Кодла!) поведал нам Плугарж, нарисовав образ слезливого «патриота», наживающегося на слезах эмиграции.
В романе Плугаржа отчетлива тема свободы и патриотизма. Он подходит к ней с разных сторон. Величие свободы личности, которая способна перешагивать через рубежи, если эти рубежи стесняют естественные права человека, связано для Вацлава, например, с именами того же Коменского, Шопена, Эйнштейна, Томаса Манна… Мы, русские, могли бы добавить Герцена или Ленина, живших вдали от родины многие годы. Плугарж дает возможность своим героям и нам, читателям, разобраться с мыслями о свободе подлинной и мнимой, о родине истинной и мнимой. Вацлав думает о политических изгнанниках, борцах за свободу: «Они отвергали подлинное зло, находили истинную свободу». Сам масштаб личности эмигранта порою — лучшее подтверждение масштаба идеи, во имя которой происходит переоценка святого понятия родины. Эйнштейн ушел от Германии, которая уже потеряла право на звание родины. Многие же люди, оставляющие за спиной родную землю, делают это из эгоистических, мелких поводов, в поисках более легких путей и надеются, что громко звучащие слова — «политический эмигрант» — могут спасти их репутацию, поднять в цене элементарную нескромность их посягательств на внимание к их скромным персонам и жалким обидам на время, историю, государство. Эти мысли тоже приходят на ум, когда задаешься вопросом Вацлава: «Где же, в чем именно кроется ошибка — незаметное начало этой истории…»
Истинный патриотизм богаче простой ностальгии. Когда Гонзик думает о своем наборном станке, о матери, которой он приносил бы сейчас получку, о девушке, которую он мог обнимать не за деньги, — он думает и о том, о чем не хотел думать раньше — о чертах родины, социальной природе отношений в оставленном обществе, о морали трудового человека, которому не только физически трудно, но и нравственно непросто переменить строй жизни, ибо он у него, оказывается, в крови. Здесь в понимании этих истин Гонзику ближе любого «освободившегося» чеха немецкий коммунист Губер, работающий мусорщиком в родном своем Нюрнберге. «Человек может переносить любые трудности во имя великой цели», — говорит Маркус. И он, конечно, прав. Трудность в другом: узнать эту цель, не ошибиться в ней. Среди эмигрантов, говорит нам Плугарж своим романом, находятся разные «агасферы» — одни ищут идеальную общественность, общество идеала, другие — материальные выгоды, третьи хотят компенсировать себя за наличие комплексов. Но все они — агасферы, проклятые люди, жертвы.
Нельзя иметь две родины, как нельзя иметь двух матерей. Мать одна. Ей надо помогать, с ней вместе надо пройти тот путь, который ей уготован такими же, как ты, и тобою тоже…
Помни, сынок, что родину-мать Можно утратить, нельзя обменять. Если покинешь меня — не погибну, Сам пропадешь…Слова из стихотворения чешского поэта В. Дыка неспроста поставил в заглавие своего романа Зденек Плугарж… И так же неспроста Вацлав, герой романа, перед тем как пустить пулю в лоб, сжал в руке теплый голышек — последний знак родины…
Владимир Огнев
Если покинешь меня
1
Торжественный, печальный псалом малиновки прозвучал где-то близко и разнесся в белесом тумане хмурого утра. Вацлав проснулся, машинально схватился за свитер, скомканный под головой. Ежась от холода, юноша подумал: «Что же я, болван, не оделся получше!» Но четыре часа назад, когда, обессиленные долгим, быстрым маршем, а еще больше — пережитым нервным напряжением, они почти свалились в траву у лесной дороги, никому и в голову не пришло, что перед рассветом будет так холодно. Ледяная капля упала сверху прямо на его лицо. Вацлав мигом сел. В лесу царил покой, было сыро и сумрачно. Звонкий жалобный голосок малиновки слышался теперь издалека.
Рядом на мху, похожий на убитого, с неестественно подогнутой ногой и широко раскинутыми руками, лежал Ярда. Вацлав схватил его за руку. Ярда вздрогнул и быстро оперся на локоть.
— Что? — тревожно спросил он.
Надевая волглый свитер, Вацлав ответил:
— Ничего. Холодище адский. Ночью, вероятно, был дождь.
Неподалеку, свернувшись в клубочек, как барсук в норе, похрапывал последний член неразлучной троицы — Гонзик Пашек. Его пришлось долго трясти, чтобы разбудить. Наконец он опрокинулся на спину. Небольшими покрасневшими руками Гонзик натянул до самого подбородка прорезиненный плащ, словно это была домашняя перина.
— Ведь сегодня я в ночной смене, мама… — Но сейчас же сел и вскрикнул: — Чего с ума сходите?
— Дурень, — зевнув, сказал Ярда и стал сгибать и разгибать одеревеневшие в коленях ноги.
Длинная лощина убегала куда-то вниз, упираясь в серую полосу неба.
Гонзик протер носовым платком запотевшие стекла очков. У него от холода зуб на зуб не попадал.
— Эх, горячего кофейку бы сейчас! — сказал он и с наигранной серьезностью добавил: — Джек О’Флаерти, прозванный для краткости Джек Колорадо, когда его терзал голод, просто-напросто соскакивал с коня и завтракал беконом и кофе.
Они пустились лесной дорогой. Шагали быстро, чтобы согреться. Идти под гору было легко и приятно. Вместе с теплом, растекавшимся по жилам, постепенно подымалось и настроение.
— Скажу вам, кабальерос, я даже не представлял себе, что нам все так легко удастся! — восторженно сказал Гонзик.
— Ведь я же говорил: надо ковать железо, пока горячо. У тех, кто долго раздумывает, ничего не получается, — ответил Ярда, бодро шагая по мягкой тропинке.
— Псст! — Вацлав задержал своих спутников, выбросив вперед правую руку.
Впереди, на поляне, стояла стройная серна. Она подняла голову, настороженно прислушиваясь. Парни, затаив дыхание, приближались к ней шаг за шагом. Серна забеспокоилась и скрылась в лесу.
И тут Гонзик сболтнул невероятную чушь:
— Будь при мне мой неразлучный кольт, я поставил бы свинцовую точку на ее привольной жизни.
— А самое смешное, — Ярда, прикуривая, повернулся спиной к ветру, — что при нас ты издеваешься над ковбойскими романами, а на самом деле они были для тебя как манна небесная. Глаза-то как испортил? Зачитываясь такой литературой по ночам!
Ярда, прикурив, поднял голову. Лицо у него было взволнованное. Юноши взглянули туда же, куда смотрел Ярда, и у них дух захватило: государственная граница — главный Шумавский хребет — была уже за спиной! Старый отдыхающий великан. Восходящее солнце заливало его костлявый обросший бок. Над зеленым морем леса, клубясь из долин предгорья, поднимались кучевые облака. Солнце разделило их на два горизонтальных пласта, белый и розовый, — наподобие сахарной ваты, которой в дни храмовых праздников лакомятся на ярмарке ребятишки. Молодые люди стояли очарованные, вдыхая пряную влагу сентябрьского утра, полного чудесных ароматов поздней малины, сосновой смолы и тлеющего валежника. Этот величественный восход солнца над горами казался им символом новой блестящей жизни, в которую они сегодня вступают, — жизни, полной приключений, острых ощущений, неведомых далей и огромной, безграничной свободы.
Первым опомнился Гонзик:
— Какая красота! У нас такой не увидишь.
Вацлав молча на него посмотрел, нащупал в кармане голышек, который бог весть почему подобрал в придорожном ручье на чехословацкой стороне, и замахнулся, чтобы бросить его подальше, но передумал. Рука его опустилась, и он снова спрятал голыш в карман.
Ярде наивные слова Гонзика тоже показались какими-то фальшивыми. Ему вспомнилось холодное искрящееся утро. Первый вагончик с отдыхающими мягко затормозил у последней остановки подвесной дороги. Восход солнца на Ломницком щите! Ярда смотрел во все глаза на розовый клюв на горизонте — говорили, что это Кривань, — на далекие скалы Низких Татр и снова на север, куда-то в сторону Польши. Его рука обнимала Анчу…
Ярда никогда не был сентиментален, но в тот раз перед этими прозрачными далями в его душе словно раскрылся какой-то тайник, что-то, ранее никогда не испытанное, сжало ему горло. Если бы он не стыдился Анчи, то, наверное, начал бы громко петь, кричать, смеяться. Он почувствовал себя таким богатым, чистым и светлым, как татранская быстрина. Это впечатление было несравненно более глубоким, чем то, что он испытывал сейчас. Однако Ярда проглотил вертевшиеся на языке слова в защиту родины, которую сегодня ночью он покинул навсегда.
Анча… Ярда как бы снова ощутил упругий теплый овал ее плеча. Они стояли тогда, обнявшись, — первый раз в жизни в горах, влюбленные друг в друга… А в этот час Анчины туфельки стучат на улице, сбегающей вниз, к фабрике. Через минуту девушка сядет за свою машину, сошьет первую, двадцатую, стопятидесятую пару сандалий, сегодня — так же, как вчера. Ей и во сне не приснится, что Ярда в этот момент уже на чужой стороне! Черт знает, отчего эта девчонка перестала его волновать…
Ярда задумчиво глядел на хребты, залитые солнцем, и уже не замечал, что розовое утро уступает место солнечному дню, сверкающему, как новенький золотой. Краска стыда вдруг залила лицо Ярды: «Лжешь сам себе! Ведь ты знаешь, что так внезапно потушило твой интерес к этой девушке…»
Ярда на мгновение зажмурился, стараясь задушить что-то в самом себе.
— А здорово мы эту республику в дураках оставили! — хрипло проговорил он, глядя в сторону гор, и сам изумился своему наигранно-веселому голосу. Он пригладил ладонями пышную шевелюру, эффектно прилизанную на висках. Его широкая нижняя челюсть чуть заметно выдалась вперед, уголки полных губ опустились вниз. — Скоты! Не вам со мной тягаться! Из хозяина сделать поденщика, чтобы я вечно копался в машинах — лапы по локоть в мазуте? Нет, дудки! Я лучше сам на машинах покатаюсь! Пошли, ребята!
Вацлав и Гонзик поглядели, как в такт шагам покачиваются широкие атлетические плечи Ярды, а затем двинулись вслед за ним.
— Правильно! — сказал Вацлав, расстегивая пиджак на плоской узкой груди и с каким-то мстительным самодовольством потирая руки. — Бригады, социалистические обязательства, ударничество, национальные вахты — все это мы послали к черту! Пусть господа «товарищи» надрываются сами! «Тридцать миллионов часов для республики!» Хоть миллиардов, теперь нам на это плевать! — Вацлав энергичным ударом суковатой палки так рубанул по фиолетовой головке чертополоха, что та, описав дугу, отлетела далеко в сторону.
Ярда снова пришел в ярость при воспоминании о бесславном конце своей недолговечной предпринимательской карьеры: до самого февраля[1] они вместе с Тондой жили припеваючи, дела их шли лучше день ото дня, и вдруг в один прекрасный момент — бац! — все полетело вверх тормашками! Точно у «товарищей» других забот не было! Набросились, как коршуны, на его маленькую автомастерскую, которая могла бы вскоре стать золотым дном! А куда господ предпринимателей? На фабрику, на черную работу, куда же еще девать такую сволочь!
— Нате вам! — И Ярда показал нос.
Приятели изумленно посмотрели на него.
— Ничего! — пробормотал Ярда, стараясь как-нибудь ослабить впечатление от своей злобной вспышки. — Жалею тех бедняков, которые закисли в этом бедламе и не в состоянии ничего предпринять.
— Жалеешь? Пусть что-нибудь предпринимают, как мы! Лежа на печке, еще никто себе свободы не завоевал. А когда мы вернемся, пусть тогда эти мямли не уверяют нас, что у них тоже есть какие-то заслуги…
Друзья ничего не ответили Вацлаву. Зачем расстраиваться? Все это уже в прошлом. Даже Ярда не хотел больше думать об этом. К чему? Если перед ними уже простирается неведомое бескрайнее будущее?
Они шли все дальше, солнце поднималось вверх по зубчатому гребню гор, лесная тропинка расширилась и превратилась в укатанную дорогу. Первая одинокая черепичная крыша мелькнула между деревьями. За оградой неистово залаял пес.
Лайн. Дома они изучили дорогу по карте, и Вацлав вел их теперь отлично. Они шли, но постепенно их начинало одолевать волнение. Оно стесняло дыхание, сжимало горло, отдавалось зудом в ладонях. Глаза боязливо высматривали чужой мундир. За поворотом дороги — старое, полуразвалившееся колесо водяной мельницы. В траве у белой стены валяются караваи отслуживших свой век жерновов. Около них возятся дети. У босоногого мальчишки перемазан рот, под носом что-то подозрительно блестит, совсем так же, как и у ребятишек в Чехии. А юноши идут все дальше. То здесь, то там кто-нибудь из встречных обернется и посмотрит на них молча, испытующе.
Домики стоят фасадом к дороге, отгородившись от улицы палисадниками. На площадке около школы разворачивается голубой лакированный автобус нового, непривычного вида.
Гонзик не может больше молчать.
— Что же, мы так и пойдем до самого Регенсбурга?
В этот момент из переулка появились два ярко-зеленых мундира. Полевые фуражки, автоматы, на рукавах — синий кружок. Пограничная полиция. Путники вздрогнули. В тот момент, когда Вацлав двинулся по направлению к старшему пограничнику, из уст младшего прозвучало резкое и строгое:
— Halt![2]
Через два часа легковая машина уже мягко катилась с нагорья по превосходному шоссе. Три молодых чеха разместились на заднем сиденье. Около шофера — зеленая фуражка полицейского.
По левой стороне дороги, в глубине, — горная речка. На противоположном ее берегу — колея какой-то железнодорожной ветки. Увязавшаяся было за машиной собака тут же отстала. За кюветом убегали назад верные предвестники осени — ярко-красные рябины.
— Вот дает жизни! — Ярда толкнул локтем Вацлава. — Шесть цилиндриков, шестьдесят две лошадки впряжены в мотор! Такое авто нашим не построить, хоть ты их озолоти, и не их драндулетам тягаться с «мерседесом»!
— А как встречают! Попадись этак нашим милиционерам трое немцев, отправили бы бедняг в телятнике и уж, конечно, попотчевали прикладами по ребрам, — проговорил Гонзик, захлебываясь от ветра, бушевавшего под брезентовым верхом автомашины. Вихор светло-русых волос трепыхался надо лбом Гонзика, то падая на стекла очков, то взлетая. Ну и езда! Изумительное начало захватывающего приключения, которому, быть может, позавидовал бы сам Великий Джек — лучший стрелок и самый искусный шулер во всем горном Колорадо. Лассо и рубленый свинец…
Гонзик бог весть почему почувствовал в этот момент свинцовый запах наборного цеха, услышал в свисте вихря монотонный стук линотипов. Перед его глазами возникли затененные лампочки над наборными машинами во время ночной смены. Как бесконечно далеко все это теперь! Еще только позавчера он горбился над реалом, досадовал, что Франта Кацел набирает за минуту сто знаков, а он только девяносто. А сегодня…
Ярда, удобно раскинув руки на спинке сиденья, прервал мысли Гонзика:
— Запад, ребятки! Не асфальт — загляденье. Вот это качество!
Вацлав снисходительно усмехнулся:
— О культуре, развитии народа можно судить по двум вещам: по сортирам и по дорогам. — Ему пришлось чуть ли не кричать — ветер мгновенно уносил звук его голоса. — Чего ради нашим заботиться о дорогах? Это же не имеет отношения к строительству социализма, и высокой производительности труда здесь не покажешь. Дорога не имеет даже собственной продуктивности, а ездят по ней разве что буржуи. Так на кой черт заботиться о дорогах? Это, конечно, трагедия. К немцам бегите учиться, «товарищи», к немцам!
На крутых поворотах визжали шины. Молодые люди наклонялись, чтобы разглядеть показания спидометра, оглядывались назад, на главный Шумавский хребет, который становился все ниже, хохотали, теряя на поворотах равновесие. Они громко обменивались впечатлениями о непривычной архитектуре строений. Даже телеграфные столбы у дороги и те были какими-то иными. Все вокруг казалось интереснее, лучше, куда лучше, чем в их убогой Чехословакии. Каждый километр пути, каждая минута отдаляли, уносили в прошлое их бедную родину, страну насилия и неволи. Им казалось, что они уже так давно покинули ее. Острота новых впечатлений, пережитые волнения притупили ненависть и презрение, и теперь они были почти готовы в каком-то великодушном порыве простить своей бывшей отчизне длинный ряд ее грехов.
Шофер очертя голову срезал углы. На одном из поворотов старая женщина с ведром в руках едва успела отскочить; вода выплеснулась на ее широкую юбку. Она подняла кулак и погрозила вслед автомобилю. Ярда заржал во все горло. Гонзик стремительно оглянулся. У женщины были такие же седеющие волосы, расчесанные на пробор, и такая же порыжевшая кофта, как… Гонзик мотнул головой и постарался вникнуть в то, что Ярда говорил Вацлаву.
— …как думаешь, этот парень даст мне минутку посидеть за рулем? Я еще никогда не водил «мерседеса».
— Только какой нам интерес закончить жизнь где-нибудь у придорожной сливы, да еще в самый первый день! «Мерседесом» будешь править, когда мы его заимеем!
— А где мы возьмем монеты на это самое авто? — с усилием выдавил из себя Гонзик, судорожно сжимая край сиденья. Ему представилась мать, как стоит она, бессильно свесив руки, у его опустевшей кровати, около скромной библиотечки, составленной им из бракованных изданий, как это делают все наборщики.
— …Да вам-то, ясное дело, на авто не зашибить монет до самой смерти! Предпринимателем может быть только тот, у кого есть голова на плечах. — Ярда постучал себя по лбу согнутым пальцем и пригладил свою взлохмаченную гриву. — Обыкновенная мастерская, ишаченье с утра до вечера рядовым поденщиком — все это позади. Гараж! — Ярда с минуту наслаждался недоумением своих соседей. — Да, да, гараж с дамским персоналом! Автосервис, красный лак и хром, подкатывает роскошная машина, навстречу ей целый выводок улыбающихся девочек в комбинезончиках. Одна красотка наливает бензин, другая измеряет давление воздуха в шинах, моет окна, третья кокетничает с клиентом, подносит ему лимонад, черный кофе, кока-колу — разумеется, у нас будет и буфет. Вы таращите глаза, синьоры, до вас не доходит, как нам удастся это дельце развернуть? Ничего, тебя сделаем бухгалтером, ты — ученая вошь. — Ярда самоуверенно хлопнул Вацлава по спине. — Ну, а Гонзика определим на ремонт, куда его еще, такого недотепу…
Гонзик кисло улыбнулся, преодолевая спазму в горле. Красный лак и хром… А мама теперь накинет на узкие плечи старую шаль и побредет выплакать горе к папиной могиле, что приютилась у самой кладбищенской ограды. Гонзик сжал ладонями виски, будто придерживая волосы: «Мама, мамочка! Теперь уже поздно, ничего не поделаешь, но я… я вернусь! У нас ведь скоро все переменится, я погляжу на белый свет, наберусь ума-разума, а там в один прекрасный день и объявлюсь…»
Речка, бежавшая вдоль шоссе, превратилась в реку, долина расширилась, фабричные трубы, маячившие вдали, приблизились, появились две высокие готические колокольни. А вот конечная остановка трамвая и первые следы войны: заброшенная фабрика, прогнутые траверсы, куски белого бетона, висящие на мертвой, проржавевшей арматуре. А затем вдруг зеленоватый простор широкой реки. Город Регенсбург.
Автомашина остановилась перед зданием, похожим на казарму. Признательной улыбкой юноши дали понять шоферу, что восхищаются его мастерской ездой, но лицо шофера осталось равнодушным. Полицейский провел чехов наверх, в пустую канцелярию, а сам ушел.
— Дунай, — кивнул Вацлав в сторону окна, за которым в послеполуденном солнце ослепительно блестела широкая излучина реки.
Гонзик в волнении прижал нос к оконному стеклу. Когда-то, еще перед оккупацией, его класс поехал на экскурсию в Девин. Ребята должны были плыть на пароходе по Дунаю.
У матери Гонзы не было денег. Как он тогда наревелся! В неукротимом приступе ярости он треснул камнем соседского петуха, а потом удрал в лес и вернулся уже затемно, чтобы не видеть, как хромает несчастный петух…
Водная гладь Дуная серебристо сверкала, теряясь где-то вдали за откосом холма. Гонзик стер кружочек на стекле, запотевшем от его дыхания, и подумал: он пойдет к Дунаю, поедет пароходом куда захочет в десять раз дальше, чем ездили его одноклассники. Гонзик даже закрыл глаза от счастья. Ему чудился аромат необозримых далей, поэзия неведомого.
Вошел пожилой человек в расстегнутой униформе. Ежик седеющих волос над наморщенным лбом придавал ему добродушный вид. На худощавом лице Вацлава отразилось душевное облегчение и умиление, какое бывает у людей, когда после долгой и опасной дороги по неприятельской территории они добираются до своих. Однако серые глаза полицейского комиссара этого не видели: они впились в документы трех перебежчиков.
— Ну-с, так что же? — поднял голову офицер. — Воровство, афера, убийство?
— Вацлав побледнел, гордо выпрямился, встал чуть ли не по стойке «смирно»:
— Мы политические…
— Ach so![3] — Мясистая рука погладила ежик надо лбом. — Давно состоите в коммунистической партии?
Вацлав от изумления сглотнул слюну.
— Herr Kommandant[4], ради бога, как вы могли подумать? Ведь мы эмигрировали от коммунистов.
Круглое лицо чиновника растянулось в довольной улыбке, словно ему удалось остроумно пошутить. Он роздал чехам анкеты для беженцев. Парни засели в углу за столиком. Вацлав переводил, а Ярда и Гонзик пыхтели над ответами.
Полоса солнечных лучей передвигалась по затоптанному ковру, перебралась на стену, а потом и совсем исчезла.
— У нас с утра во рту маковой росинки не было, — вдруг громко сказал Ярда и локтем толкнул Вацлава. — Переведи ему и скажи, что мы явились сюда не за тем, чтобы околевать с голоду.
Вацлав заколебался. Тогда Ярда отпихнул его.
— Есть, essen… — Он два раза выразительно ткнул указательным пальцем в открытый рот.
— Вы получите ужин, господа. Все зависит от вас — чем скорее управимся, тем лучше.
Офицер нажал кнопку звонка. Вошла некрасивая машинистка в блузке с пышными рукавами и безвкусно отделанной вязаной жилетке. Шелковые чулки у нее были во многих местах заштопаны. Полицейский удобно откинулся на спинку кресла.
— Рассказывайте сначала сами: об армии, о коммунистической партии, о тяжелой промышленности, о настроениях населения…
Вацлав нервно расстегнул воротник сорочки.
— Мои приятели слишком многого вам не скажут. Один — автомеханик, а другой — недоучившийся наборщик. В политике они не разбираются.
Полицейский чиновник постучал карандашом по столу.
— Так говорите вы!
Вацлав сжал кулаки так, что хрустнули косточки. Он оглянулся на своих товарищей, вытер ладонью лоб и откашлялся.
— Видите ли, я полагаю, что международное право убежища не связано с допросом, который находится… в явном противоречии…
Комиссар медленно положил руки на стол.
— Вам должно быть ясно: вы хотите получить ужин и вообще двинуться отсюда куда-нибудь дальше. Отказ от информации заставит нас думать, что вы лояльны по отношению к коммунистическому режиму в Чехословакии.
Вацлав выпрямился на стуле.
— Дело не в лояльности. Речь идет… о человеческом достоинстве…
Человек за столом изумленно поднял брови и вдруг рассмеялся. С минуту он хохотал так, что у него тряслась обвислая кожа под глазами. Даже некрасивая женщина за пишущей машинкой фыркнула. Нахохотавшись, следователь отрезал кончик тонкой длинной сигары и закурил.
— Diese Tschechen[5] — веселый народ. Чем народ меньше, тем высокопарнее он выражается. — Офицер, все еще смеясь, покачал головой и платочком осушил слезы на глазах.
Вацлав сгорбился на стуле. Кожа на его скуластом лице потемнела. Полицейский посмотрел на часы.
— Also los![6] Не много воды утекло с тех пор, как вы еще служили в чехословацкой армии. Говорите же, время уходит. Труда, пишите!
Сумерки сгустились. Под окном канцелярии загорелся уличный фонарь. Дым от сигары стлался горизонтальными пластами. Свет настольной лампы, проходя сквозь них, становился оранжевым. Часы на кафедральном соборе пробили девять раз. Комиссар наконец сложил протоколы в ящик стола и поднял телефонную трубку. С тяжелыми головами, голодные, но все же надеясь получить койку на ночь, перебежчики понуро брели по коридору вслед за полицейским. На дворе они машинально направились к легковой машине, стоявшей у стены.
— Wohin denn?[7] — остановил их охранник.
Он открыл заднюю дверь автофургона без окон. Вдоль стен — две скамьи, тусклая лампочка в потолке.
— Для той машины нет шофера. Вы уж нас извините, — язвительно сказал стражник.
Автомобиль затрясся по неровной дороге, усеянной кое-как замощенными воронками от бомб. Сзади в оконце убегали вспять зажженные фонари. То здесь, то там промелькнет освещенное окно. Над крышами зданий — холодное сияние неона.
У Вацлава разболелась голова. Сказались усталость после перехода через границу, бессонная ночь и нервное напряжение.
— Мы должны принимать действительность такой, какая она есть, — сказал он вдруг без всякого предисловия и прижал ладонь ко лбу. — Убежали мы не только к американцам, но и к их союзникам. Вы ждете, что бывшие судетцы будут нас обнимать? Выселение немцев из Судет было ужасной политической ошибкой.
Шофер стремительно затормозил машину, и они вышли. Длинный угрюмый фасад здания терялся где-то во тьме. У входа стоял человек в серой форме с автоматом. Юноши осмотрелись: в корпусе за высокой стеной неотчетливо вырисовывались симметричные ряды небольших квадратных окон. Все они были темными.
У Вацлава вдруг ослабли колени. Он шагнул к конвойному.
— Я. Протестую!..
— Это вы доложите начальнику тюрьмы. — Полицейский потерял терпение. — Also los! — сурово повысил он голос.
У Вацлава пересохло во рту. «Also los!» Уже второй раз в течение дня прозвучал в его ушах этот грубый повелительный окрик, неразрывно связанный в его памяти с нацистами и оккупацией. Что, собственно говоря, происходит? Люди сменились, а повадки остались прежними?
Караулка встретила арестованных целым букетом застоявшейся вони. Пахло пропотевшей одеждой, пищевыми отбросами, мышами, душным влажным теплом.
Вацлав неуверенно заявил свой протест толстяку в темно-серой куртке, похожему на немецкого железнодорожника.
— Всего лишь пустая формальность, камрады, — ответил толстый «папаша» и почесал голову.
— Мы же имеем право убежища!..
— Никто его у вас не отнимает. Отсидите за недозволенный переход границы и поедете в Мюнхен.
Мгновение недоуменного безмолвия. Только из коридора непрестанно отзывалось нетерпеливое звяканье: кто-то там ритмично позванивал связкой тюремных ключей.
— Дайте нам есть, мы голодны. Переведи ему, Вацлав, — сказал Ярда.
— Ja, um Gotteswillen![8] — всплеснул руками старик. — Ужин был в шесть. Мне нечем вас кормить.
Ярда понял.
— Довольно, хватит! — закричал он по-чешски. — Со вчерашнего дня мы в дороге, протопали двадцать пять километров своими ногами, утром в Лайне похлебали черной бурды и с тех пор — с пустым брюхом. Мы хотим жрать, понимаешь?
— Чего он кричит? — обратился старик к Вацлаву. — Вас должны были покормить в Landespolizei[9]. Они же получают пайки, да еще какие! А я теперь на ночь глядя должен все перевернуть вверх тормашками из-за каких-то трех fluchtling’ов[10]. — Старик хлопнул по столу книгой учета заключенных и, повернувшись лицом к соседней комнате, закричал:
— Соберите им чего-нибудь поесть!
Из коридора донесся грохот: надзиратель катил на ребре обода бидон; под мышкой тюремный сторож зажал полкаравая хлеба.
— Есть у вас во что налить?
Парни вытаращили на него глаза.
— Перебежчики — и не взяли с собой ни котелка, ни ложки? — укоризненно покачал головой толстяк. — Не понимаю, что вы за люди? Разве у вас едят руками? Я еще не видел ни одного чеха, который бы имел при себе котелок и ложку.
В тепловатом супе плавали сгустки какого-то застывшего жира, однако ребята, усевшись за почерневший, покрытый пятнами стол, принялись хлебать с большим аппетитом. Вацлав начал было резать хлеб, но Ярда нетерпеливо выхватил из его рук горбушку и отломил себе изрядный кусок. Из соседнего помещения приплелись любопытные надзиратели. Они были без шапок, в расстегнутых гимнастерках. Обступили жадно поглощающих пищу чехов. Один из немцев процедил на баварском диалекте:
— Хорошо же, должно быть, в этом коммунистическом раю…
Вацлав перестал есть.
— Не чавкай так, — сказал он вполголоса Ярде.
— Пошел ты… — невнятно проворчал Ярда с набитым ртом.
— Во время еды лучше с ним не связываться, — сказал Гонзик. — У моей бабушки из Круцембурка есть фокстерьер, так к нему, когда он жрет, лучше не подходи: укусит!
Ярда совсем развеселил надзирателей. Он налил себе третью миску похлебки и ел без хлеба: от полкаравая не осталось и крошки. Папаша сунул Вацлаву в руку бумажку с номером камеры.
— Второй этаж. Ступайте!
Они затопали по железной лестнице. Шаги гулко отдавались в притихшем здании. Гонзику казалось, что они перебудят всех обитателей тюрьмы. Странное, леденящее спину ощущение охватило его: впервые в жизни он будет сидеть в тюрьме!
На галерее, тянувшейся вдоль внутренней стены тюрьмы, к ним бесшумно, как дух, приблизился надзиратель в домашних войлочных туфлях. Он взял у Вацлава бумажку, открыл дубовую дверь и, не говоря ни слова, дал пинка ближайшему. Гонзик кубарем влетел в камеру и растянулся на полу.
— Не бесись! — крикнул проходивший по галерее надзиратель. — Это беженцы из Чехии.
— Так бы и сказали, — примирительно пробурчал верзила в войлочных туфлях.
У Вацлава потемнело в глазах, в камеру он вошел, шатаясь, как пьяный. В ней стояло с десяток топчанов, четыре из них не были заняты. В углу кто-то тяжело храпел. В душном воздухе стоял острый кислый запах пота и немытых ног. Едва парни успели осмотреться, как лампочка под потолком погасла. Во внезапно наступившей кромешной тьме перед глазами заплясали и быстро расплылись золотые круги.
— Не двигайтесь! — с дрожью в голосе закричал Гонзик. — Раздавите мои очки!
Слышно было, как Гонзик шарил ладонями по полу. Но вот наконец он нашел свои окуляры. Ощупью арестанты добрались до своих коек. Тьма немного разредилась.
В неясном мерцании отраженного света, который проникал в каземат через два решетчатых оконца, на Вацлава уставились полные ужаса и скорби глаза Гонзика. Его круглый подбородок дрожал мелкой дрожью. По судорожно подергивающемуся лицу медленно текли две крупные слезы.
2
Беглецы стояли в просторном холле здания в Мюнхене: травертин, мрамор, за стеклянной стенкой справочного бюро блондинка с холодным, безразличным лицом манекена… Через широко распахнутую дверь было видно, как снаружи разворачивался автомобиль, только что привезший чехов из Регенсбурга. Машина вскоре исчезла, оставив после себя сизый дымок. Узкие, ввалившиеся глаза Ярды на пожелтевшем лице ожили. Он лихо подтянул штаны на отощавших бедрах и сказал:
— Ну, вот она, последняя ступень в рай. Если мне в этом германском рейхе что-нибудь и понравится, то уж, во всяком случае, не полиция. Это точно.
— Теперь мы могли бы преспокойно, смотаться отсюда, — прищурив глаза, сказал Гонзик, Его тонкие розовые руки, поросшие золотистыми волосками, беспокойно задвигались.
— Без продовольственных карточек, без гроша в кармане, а главное — теперь, когда мы наконец у наших! — Вацлав подошел к окошку справочного бюро, куда сопровождавший полицейский положил их документы.
— Second floor[11], комната двести пятнадцать, подождите в коридоре, пока вас не вызовут, — протянула девица и сощурилась от дыма сигареты. У нее были длинные ресницы.
Юноши стояли перед ней в изумлении, не в силах отвести глаз от ее губ, густо накрашенных лиловой помадой, светло-русых пышных волос, ниспадавших до плеч, от тонких дужек ее бровей. Ведь их одежда все еще была пропитана стойкой вонью тюрьмы, их уши, казалось, слышали звякание ключей в руке надзирателя, шум воды в клозетах тюремных камер, усиленный великолепным резонансом тюремного здания. И вдруг перед ними лицо кинозвезды. Мир свободы и роскоши! Передовой пост настоящего Запада!
— Полный вперед, boys![12] — опомнился первым Ярда и ни с того ни с сего хлопнул по спине Гонзика, выбив столб пыли из его помятого пиджачка. — Надеюсь, старый шакал, ты опять нацепишь свои ржавые кольты, на случай встречи с полицией.
— Я бы с таким койотом, конечно, поговорил бы свинцовым языком, — усмехнулся Гонзик и подхватил под мышку потертый, истасканный портфель.
Небрежной походкой, не спеша двинулись они вверх по широкой лестнице на второй этаж. Ярда и Гонзик с видом людей, умудренных житейским опытом, приобретенным в тюрьме, опустились в мягкие кожаные кресла, стоявшие в белом коридоре. Из какой-то канцелярии сюда долетали звуки джаза, порой заглушаемые стрекотней пишущей машинки. Вацлав тоже удобно уселся и с облегчением вытянул ноги.
— Слава богу, — сказал он, — самое худшее мы уже пережили. Теперь все будет несравненно проще.
Наконец дверь напротив распахнулась. Показалась гладко выбритая физиономия с квадратным подбородком и сломанным носом боксера. Непропорционально маленькая голова сидела как будто бы прямо на широких плечах. Руки были глубоко засунуты в карманы. На минуту спортсмен перестал жевать своими челюстями.
— Здорово, ребята! — рявкнул спортсмен по-чешски.
Гонзик разинул рот от радостного удивления.
— Я здешний transleiter, переводчик. Можете называть меня Франтой. — В мгновение ока он притянул к себе свободный стул и сел на него верхом. — Что, как там Коширже, мальчики? А не знаете ли вы случайно Анку Полцерову, блондинистую шлюху с Нусельского моста?[13] — Франта протянул парням сигареты, а когда Вацлав отверг их, вытащил серебряную коробочку с жевательной резинкой.
По коридору плавной походкой приближалась девушка с ниткой янтарных бус на шее. В холеных руках — легкая портативная машинка. Девушка равнодушно посмотрела на молодых людей, затем локтем нажала на ручку двери и попыталась ногою закрыть ее за собой, но безуспешно.
— Учтите, — Франта щелчком сбил пепел с сигареты прямо на пол и уставился на свои короткие толстые пальцы с широкими ногтями, — вы поодиночке пойдете на разговор «по душам», как говорят «товарищи». Это будет вроде беседы в отделе кадров. Ну, конечно, — кивнул Франта головой, заметив скептическую улыбку Гонзика, — только немного в другом смысле: то, что там, у коммунистов, вам было бы во вред, здесь принесет только пользу. Наш старик — мировой парень, только вы не вздумайте его водить за нос. — Франта мгновенно вскочил со стула. — Если кто-нибудь из вас меня подведет, мне придется, хотя я этого и не хотел бы, познакомить вас со своими знаменитыми кулаками… — Франта втянул голову в плечи и молниеносно нанес воображаемому противнику сокрушительный удар левой, затем правой рукой и встал в защитную позицию. — Я ведь бывший чемпион Чехословакии в полутяжелом весе! — Франта заржал, как жеребец, продолжая наносить короткие удары, и вприпрыжку, как на ринге, убрался за ту же дверь, из которой вышел.
Из полуоткрытых дверей соседней комнаты донесся девичий смех и английская речь, немного растянутая и шепелявая, — очевидно, девушка была чешкой. Низкий мужской голос передразнил ее, потом оба рассмеялись.
Дверь распахнулась, выглянула девица в янтарных бусах; все еще улыбаясь, она назвала имя Вацлава. Она говорила по-чешски, но с акцентом.
Долгая томительная тишина воцарилась в коридоре. Иногда был слышен стук пишущей машинки, на которой работали где-то близко; издалека доносился меланхолический блюз, приглушенный толстыми дверями. Вот по коридору прошел человек, похожий на еврея, в белом шлеме military police[14]. И время снова лениво потянулось дальше. Но наконец появился Вацлав. Приятели засыпали его вопросами. К их изумлению, Вацлав попросил сигарету — он, некурящий! — и сломал две спички, прежде чем ему удалось прикурить.
Едва они вытянули из Вацлава два-три слова, как в дверях появилась черная физиономия в пилотке.
— Lunch![15]
Ребята не поняли.
— Ам, ам, — оскалил полицейский белоснежные зубы в ободряющей улыбке. — Essen, you understand?[16]
Они спустились за ним на первый этаж в столовый зал, где уже сидели за столом несколько десятков человек — военных и штатских. Полицейские ели, не снимая головных уборов. Чехам подали сандвичи, черное мюнхенское пиво, бифштекс с яйцом и натуральный кофе.
— Я бы отсюда вовек не ушел! — воскликнул Ярда. — Жаль, что я, остолоп, не умею по-английски, а то пристроился бы здесь переводчиком, заарканил бы ту самую кобылку с длинными ресницами, которую мы сегодня видели в холле.
Приведший их негр обедал за соседним столиком. Вероятно, поэтому Вацлав молчал.
— Ты не хочешь? Давай-ка сюда, — обрадовался Ярда, когда Вацлав вялым движением отодвинул тарелку.
После обеда вызвали Гонзика, а за ним и Ярду. Он пробыл на допросе дольше всех и вышел развинченной походкой, приглаживая ладонями волосы.
— Курите, ребята! — Ярда выложил из кармана горсть американских сигарет.
— Что он от тебя хотел? — спросил Гонзик.
Ярда сквозь облако дыма искоса посмотрел на Вацлава, склонил голову к плечу и прислушался.
— Прекрасный джаз! — одобрительно сказал Ярда и начал отбивать такт.
Однако Гонзик не отставал.
— Так что же он все-таки от тебя хотел?
Ярда в такт синкопам подергал плечами.
— Так себе, ничего особенного… Нет ли у меня на совести чего-нибудь: изнасилования, вооруженного нападения, ограбления. По глазам было видно, что такие проделки ему бы очень понравились. Я признался, что на производстве воровал запчасти к автомашинам и продавал их. «Слабовато», сказал он мне. Вот вам, бедняги! — Ярда бросил ча стол кусок шоколада.
— Nestlée, Swiss made[17], — с ужасающим произношением по слогам читал Гонзик. — Это ты получил за воровство на фабрике? — спросил он.
Его короткие пальцы с обкусанными ногтями неловко орудовали с оберткой. «Вот это да! Не сравнить с нашими соевыми бобами».
— Что ты еще рассказывал? — вяло спросил Вацлав и отломил кусочек шоколада.
— О Шкодовке[18] — все. Ее я знаю как свои пять пальцев. О службе в армии тоже доложил, что мне известно. Я же старый служака… — Ярда выпятил грудь и с улыбкой отдал честь. — Жаль только, не всех знакомых коммунистов я смог вспомнить. Сегодня я не усну, ребята, три чашки черного кофе с ромом! Эх, черт возьми, о нашем завкадрами я не сказал ни слова! Этому, если бы до него добрались, следует задать перца… old boys…
Вацлав внимательно посмотрел на Ярду и опустил руку с кусочком шоколада, так и не попробовав его.
— Три чашки кофе с ромом, шоколад, сигареты, — иронически произнес Гонзик, скатывая между ладонями шарик из станиоля. — А мне полковник дал одну сигарету, тебе — вообще ничего, — кивнул он в сторону Вацлава.
— Я ведь не курю, — отозвался Вацлав.
В дверях появилась лошадиная жующая челюсть, а потом и сам Франта. Ярда доверчиво сунулся ему навстречу.
— Вспомнил я, что не назвал еще одного… — начал было Ярда, но поперхнулся. Лицо Франты было строгим и холодным От давешнего добродушия и панибратства не осталось и следа.
— Ну и прохвосты же вы! — презрительно скривил рот Франта. — А больше всего этот недоносок. — Франта ткнул в сторону Гонзика. — Какие же болваны удирают из республики, ужас! Ведь ты, шут гороховый, даже толком не знаешь, чего ради вообще здесь находишься, God damned![19] В Чехословакии, мол, почти одни линотипы и очень мало монотипов, а норма для наборщика, дескать, сто знаков в минуту! Чушь! Я сгорал со стыда перед шефом за то, что я тоже чех…
Тишина заполнила коридор. Вацлав не поднимал глаз от стола.
— Скажу вам, мальчики, для ясности: только здесь, — Франта постучал толстым указательным пальцем по столу, — здесь и нигде больше решается ваша дальнейшая карьера на Западе. Никто вас ни к чему принуждать не будет, и если вы глупцы — дело ваше!
Франта встал.
— Сейчас вас отвезут. — Переводчик достал из кармана несколько банкнотов. — Вот вам на первый вечер. Гостиницу и харч мы оплатим сполна за все время, что вы тут будете. Начиная с завтрашнего дня будете получать на карманные расходы. Только не вздумайте, стервецы, на наши деньги подцепить в первый же вечер чего-нибудь от немецкой шлюхи. Утром, точно к восьми, чтоб вы уже позавтракали в гостинице. На допрос и обратно будем вас возить в машине. И поразмыслите о том, что я вам говорил, в особенности ты, трясогузка! — И Франта ткнул Гонзика в живот, однако от этого «дружеского» тумака паренек согнулся вдвое и присел на корточки.
— Good bye[20], — Франта оскалил в добродушной улыбке широкие, как лопаты, зубы. Вдруг он, как пес, потянул сплюснутым носом и навострил уши, уловив сквозь закрытые двери комнаты ритм свинга. Засунув руки в карманы, Франта двинулся по коридору, шаркая по полу подошвами и покачивая бедрами в такт музыке.
Они вышли. Их овеяло прохладной сыростью, запахом отработанного бензина и истлевших листьев. На улице было много людей в американской военной форме, чавкали шины черных лимузинов. На мокром асфальте отражалась огромная неоновая реклама кинотеатра: вслед за белыми огнями вспыхивали красные, зеленые, фиолетовые. Потом все гасло — и снова: белый, красный, зеленый, фиолетовый…
В вечернем небе вырисовывался контур наполовину разрушенного фасада здания. Окна в уцелевшей части стены — слепые, безжизненные. Высоченная одинокая труба вознеслась ввысь, как карающий перст. Две девицы прошли мимо молодых чехов, за ними потянулся пряный запах дешевой парфюмерии. Девочка с льняными волосами и вздернутым носиком вела слепого человека с лицом, покрытым страшными рубцами от ожогов. Слепцу было не более двадцати пяти лет.
— Эрна! — вдруг громко сказал Вацлав. Девочка недоуменно оглянулась, еще крепче ухватила за руку слепого и ускорила шаг.
— Иди, чего с ума сходишь? — Ярда втолкнул Вацлава в автомашину.
Они сели, утонув в мягком сиденье; в глазах Ярды, сидевшего справа, мигали отсветы рекламы — маленькие огоньки: белые, красные, зеленые, фиолетовые. Автомобиль мягко тронулся с места.
Лицо девочки, которая вела слепого, маячило перед прищуренными глазами Вацлава. Странное дело, случайные встречи здесь почему-то всегда напоминали о доме.
У его сестрички такие же льняные волосы, собранные сзади в узелок. Сейчас Эрна уже спит. Днем она — двенадцатилетняя девица, мальчишки на нее оглядываются украдкой, а ночью она еще спит с плюшевым мишкой в руках. В результате долголетней службы медвежонок лишился половины опилок, животик его опал и сплюснулся, а одна нога стала тоньше другой. Однако этот старый, облезлый мишка — часть ее существа. Эрночка! Сестричка! Теперь он уже не поможет ей решать задачки. Возможно, сегодня перед сном она снова горько плакала, уткнувшись в подушку. «Поплачь, девочка, поплачь! Твой «большой» брат неповинен в том, что у нас на родине студент с клеймом неугодного классового происхождения лишен возможности завершить высшее образование. Ничего, когда ты вырастешь, я уже вернусь с дипломом врача в кармане. Он будет значить немного больше, чем лоскут бумаги, который получают коллеги с безукоризненными анкетами. И от нас будет зависеть, признаем мы или не признаем дипломы отечественных профанированных высших школ. Да, от нас, которые имели отвагу начать борьбу и вступили на тернистую тропу эмиграции. За месяц отсидки в регенсбургской тюрьме вы мне заплатите с процентами, дорогие коллеги с красными книжечками в кармане! Нет, Эрна. Я не должен вспоминать о доме. Все это еще слишком свежо в памяти и жжет сердце».
Вацлав опустил стекло автомашины. Холодный воздух ударил в лицо. Юноша усилием воли заставил себя смотреть на мелькающую, как в калейдоскопе, панораму большого города: витрины магазинов залиты светом, за ними не обремененные покупателями продавцы; бесконечный поток автомобилей и красиво отделанных мотороллеров. На перекрестке перед ратушей — затор машин; вот возвышаются две готические башни какого-то костела с зияющей дырой от прямого попадания снаряда, а вот портал непонятного сооружения в античном стиле. Вацлав наклонился к добродушному шоферу, жующему резиновую жвачку.
— Что это за здание? — кивнул Вацлав в сторону ряда дорических колонн над монументальной лестницей.
Водитель, прищурившись, взглянул на пеструю путаницу неоновой рекламы, потом повернул к Вацлаву широкое сытое лицо.
— Бар «Онтарио», — не переставая жевать, произнес он.
3
Трехсотметровая дорожка в сторону от главного шоссе, полуразвалившийся, опутанный колючей проволокой забор, несколько низких каменных построек, а за ними — ровные ряды деревянных бараков. На эмалированной вывеске, прибитой к столбику возле ворот, надпись: Camp Valka[21].
Страшное любопытство разбирало молодых людей, пока они ехали в нюрнбергском трамвае и потом в автобусе: как-то будет выглядеть последняя ступень лестницы, которую придется преодолеть на пути к свободе?
Две девушки вышли из ворот им навстречу. Ярда и Гонзик оглянулись: как приятно слушать родную чешскую речь после этой малопонятной тарабарщины! Вацлав был очень взволнован: ведь здесь, на этом клочке земли, временно живет лучшая часть чешского народа, избавленная от плевел, от всякой сволочи и жалких трусов, неспособных сопротивляться коммунистам. Настоящие борцы формируются и закаляются здесь, а всякая мразь и рабские души остались там, в закабаленной стране за пограничными хребтами.
Девичья рука с трауром за розовыми ногтями протянулась из-за барьера и приняла их американские сопроводительные документы.
— Zugang? Willkommen[22], — сказала она равнодушно, но при виде мудреной прически Ярды в глазах девицы мелькнул огонек одобрения. — Постельные принадлежности имеются, — продолжала она, — но одеял мало. Лагерники, эти дармоеды и грубияны, выменивают их в кабаке «У Максима» на консервы. За кражу одеял выбрасывают из лагеря и сажают за решетку, verstanden?[23] Девица зевнула во весь рот, откинулась на спинку стула и томно потянулась. Ярда посмотрел на ее упругую грудь и облизнул верхнюю губу.
Немка бросила на барьер три учетные карточки.
— Писать умеете? Это хорошо. А то час тому назад приходил сюда один румын, так тот не умел. Медвидек, отведи их! — крикнула девица в соседнюю комнату и, прислонив к чернильнице зеркальце, пинцетом стала выщипывать себе брови.
Человек, названный Медвидеком, повел их по улице, которая тянулась между длинными бараками.
— Я, чтоб вы знали, лагерный фотограф, а не холуй, и нечего ей делать из меня мальчика на побегушках. — Медвидек оглянулся и сделал какой-то неопределенный угрожающий жест, затем с любопытством окинул взглядом спортивную фигуру Ярды. — Сюда, налево, — подтолкнул он Ярду в поперечный переулок. Здесь Медвидек зашел в один из бараков. — В женских комнатах разрешается бывать только до восьми вечера. Место на нарах найдете сами, а завтра приходите на полицейскую регистрацию. — И Медвидек грязной рукой изобразил, как снимают отпечатки пальцев. На прощание он обнял Ярду за плечи и удалился.
Юноши осматривались в темном коридоре, куда с обеих сторон выходил ряд дверей. В самом конце коридора — окно, за ним быстро сгущались осенние сумерки. Из-за ближайшей двери доносились прерывистые звуки гармоники и детский плач. Кто-то прикрикнул на музыканта, и гармошка замолкла, но ребенок продолжал плакать.
Ярда и Гонзик обратили недоуменные взоры к Вацлаву, но тот опустил глаза и взялся за ручку двери. В лицо ударил теплый запах грязных пеленок и мыльной воды. Женщина с растрепанными волосами развешивала мокрое белье на веревке, натянутой между нарами.
— Новенькие? Здесь Familienzimmer[24]. Попробуйте зайти в одиннадцатую. — Женщина вынула из ведра следующую пеленку, на мгновение закрыла глаза и бессильно свесила руки. — Не ори, — устало сказала она в сторону детской кроватки.
Вацлав открыл дверь с номером одиннадцать; приятели последовали за ним. Недалеко от двери человек средних лет, сидя на койке, старательно наматывал портянку на босую ногу, затем надел высокий, до колен, ботинок.
— Nazdar![25] — сказал он решительно. — Вас трое? Два свободных места найдется. Позавчера двое смылись, с одеялами, конечно. — Его голос, неожиданно высокий и резкий, как-то не вязался с дюжей, плечистой фигурой.
Вацлав отрекомендовался: полное имя, фамилия и звание. Его протянутая рука привела в смущение обитателя лагеря, и он как-то неловко пожал ее.
— Ладя, — улыбнулся он, показав крепкие ровные зубы. — Но в нашей комнате меня называют Капитаном.
Ярда бросил взгляд на верхние нары.
— Да, господа, мы здесь проживаем совместно с девушками. — Капитан прошелся между нарами: портянка терла ногу. Он уселся и стал переобуваться.
— Эти живут здесь в виде исключения. Вообще-то женщины квартируют отдельно. Только семейных поселяют вместе: мужчины и женщины. Но на наш барак это правило не распространяется. Он предназначен для новичков. Ты особенно-то не заглядывайся на них. Здесь я главный начальник, староста. — Ладя осклабился: — Баскервильский пес по сравнению со мной щеночек, если речь зайдет о дисциплине. — Гладко выбритое, широкое, с правильными чертами лицо Капитана вызывало доверие.
— Они что, больные? — кивнул Ярда в сторону девиц.
Одна из девушек тихонько посвистывала носом во сне.
Капитан нахмурился.
— Работенка у них ночная. Не будите их! — И он стал обматывать портянкой другую ногу. От уголков его глаз к вискам веером разбегались тонкие нити мелких морщинок. Вблизи он выглядел не моложе сорока лет.
Гонзик занял одно свободное место на нарах. Ярда швырнул свою сумку на другое. Вацлав же беспомощно оглядывался по сторонам.
— Сегодня на ночь можешь занять мою постель, — сказал Капитан, вынимая из старого портфеля жестяную коробочку с надписью «Navy Cut»[26]. Он высыпал на соломенный тюфяк иголки, два клубочка ниток, пуговицы, разложил на коленях пиджак, извлек откуда-то лоскуток материи и начал нашивать заплату на протертый локоть. — Осторожность — мать мудрости, а «от великого до смешного один шаг», — заключил Ладя.
— Разве ты здесь не живешь? — спросил Вацлав подавленно.
— Живу, — сказал Капитан, откусив нитку и вдевая ее в иглу. Затем он поднял на Вацлава голубые глаза: — Сегодня ночью меня не будет дома.
В комнате воцарилась тишина. Девушка на верхних нарах вздрогнула во сне и перестала посвистывать. Гонзик провел ладонью по лбу. В ушах у него звучало последнее слово Капитана: «дома». Этот человек здесь — дома! Гонзик в недоумении осмотрелся. Под потолком висела тусклая, засиженная мухами лампочка. Деревянные стены, одиннадцать нар, почерневший, изрезанный стол, около него две скамейки, одежда, развешанная на гвоздях у изголовий.
«Нет, это какое-то невероятное недоразумение!»
В коридоре поднялся шум: громкие голоса, звяканье жести, грохот бидонов. Из угла вышел толстый лысый старик в очках. На нем был сильно помятый костюм из дорогого материала, расстегнутая рубашка и спущенный узелок галстука не придавали солидности его фигуре. Толстяк критически оглядел новичков, слегка кивнул им головой, его мясистые губы шевельнулись, но он ничего не сказал и указательным пальцем тронул седеющие усики. Пробираясь бочком по проходу между нарами, толстяк тронул кого-то на одной из нижних нар и произнес:
— Баронесса, ужинать!
Нары заскрипели, с них спустились тощие белые ноги и нащупали шлепанцы. Жилистая рука сняла с гвоздя шелковый халат, а с полки — белую миску. Увидев молодых людей, женщина всплеснула руками:
— Новички! Пресвятая богородица, и меня не разбудили! Откуда вы, мальчики? А правда, что в Праге готовятся к встрече Трумэна со Сталиным? Сумасброды! Неужели они настолько глупы, что всерьез надеются, будто Трумэн поедет в Прагу?! — заговорила она дребезжащим голосом и сжала костлявые руки. Баронесса остановилась перед зеркалом, прикрепленным к стояку, поправила высокую замысловатую прическу и напудрила увядшее лицо с красными пятнами на скулах.
Прежде чем молодые люди успели ей ответить, два здоровых парня втащили в комнату большой молочный бидон. Старший из них начал разливать суп.
— Девушки, ужинать! — Капитан растолкал спящих девиц.
Они проснулись. Капитан представил им вновь прибывших.
— Ирена и Ганка, — назвал Капитан имена девушек, но не пояснил, которую как зовут, а сами девушки не сочли нужным представиться. Старшая приподняла взлохмаченную голову.
— Суп мясной хотя бы? — громко зевая, спросила она.
— Нет, картофельный, — ответил Капитан.
Девица презрительно опустила уголки красивых губ и снова легла.
Человек, разливавший суп, спросил у новичков:
— Имеете продовольственные карточки?
— Откуда? Они еще не зарегистрировались, — нахмурился Капитан и заговорщически толкнул локтем Вацлава.
— Девчата есть не будут. Возьмите их порции. — Не дожидаясь согласия, Капитан снял с полки две миски и встал в очередь за супом.
— Добавь еще, — сказал он раздатчику, — их ведь трое. А ложки у вас есть? — обернулся Ладя к парням.
Они отрицательно покачали головами.
— А зря. Небось когда ходили на два дня в туристский поход, ложку брали, а тут уходили из дому навсегда и оставили ложку дома, черти! — укоризненно промолвил он. — Возьмите пока у девушек.
Дверь опять распахнулась, и в комнату вбежал мальчик лет одиннадцати, следом вошли высокий, очень худой человек и две женщины. Долговязый перекрестился. Когда женщины вошли в круг света, стало видно, что одна из них молодая, некрасивая, плоскогрудая. Очевидно, это были дочь и мать. Девушка уставилась лихорадочно блестевшими глазами на юношей и начала одной рукой нервно стягивать вырез блузки, а другой — энергично взбивать волосы.
— Я уж подумала, что вернулся Казимир, — сказала она по-польски, покраснела и тут же болезненно закашлялась, низко наклоняя голову.
— Ojcze nasz, ktorys jest w niebiesiech…[27] — слышался громкий шепот отца семейства. Когда он шептал молитву, под носом у него подпрыгивала узкая изогнутая полоска усов, подобная скобке.
Веснушчатый мальчишка не спускал больших искрящихся глаз с новичков и только для виду шевелил губами.
Женщина с высокой прической, которую назвали «Баронессой», с негодованием посмотрела на нары, где лежали девицы.
— Нашим благородным дамам ужин опять не по вкусу, — скрипнул ее неприятный, каркающий голос. Наклонившись через стол к Вацлаву и вытянув длинную шею, она закончила: — Наверное, им перепадает кое-что повкуснее, а?
— Ну и пусть их, Баронесса, — басом прогудел толстяк. — Помните, что наш собственный гнев приносит нам больше зла, нежели то, что нас к нему побуждает.
— Не философствуйте, а то остынет ваш суп, уважаемый господин ректор, — отрезала женщина.
У старого господина конвульсивно задергался мускул на лице. Он склонил голову над миской и ничего не ответил.
Баронесса взглянула на красивое здоровое лицо Ярды.
— Вот это волосы! — одобрительно сказала она, показав белоснежные ровные зубы.
Вацлав проглотил две ложки похлебки и отодвинул миску. Гонзик не понял, в чем дело.
— Болтушка для собаки. Эх, как кормили нас в Мюнхене!.. — сказал Вацлав.
— Все новички такие привередливые, — заметила Баронесса и по-приятельски улыбнулась Гонзику. — Картофельный суп — это единственное блюдо, которое здесь готовят более или менее сносно.
— Давай-ка сюда! — нетерпеливо сказал Ярда, ожидавший, когда Вацлав уступит ему миску и ложку.
Верхние нары скрипнули — девушки снимали пижамы и облачались в платья. Гонзик увидел упругую линию бедра. Какое-то мгновение он смотрел прямо в глаза девушке — в них не было ни возмущения, ни вызова.
После ужина обитатели барака понемногу разбрелись. Некоторые вышли в коридор и возвратились с вымытыми мисками.
— Почему вы не проветриваете помещение? — спросил, побледнев, Вацлав у старой дамы.
— Mon dieu![28] — жеманно воздела руки Баронесса. — Ведь зима на носу. Мы еще насидимся в холоде. Кому охота мерзнуть преждевременно?
Одна из девиц, более миловидная, села на нарах. Ее глаза блеснули холодным светом.
— Кто вам позволил брать наши миски?
Вацлав покраснел и встал из-за стола.
— Это я им дал, — сказал Капитан. — Они пришли голодные, у них нет ни мисок, ни ложек.
— А мы из-за этого должны есть после бог знает кого, тьфу… — Пунцовая от злости, девица начала натягивать платье. — Эти милостивые государи могли бы потрудиться сбегать за барак. В свое время мы начинали с этого.
Гонзик закусил губу. Ярда ухмыльнулся. Вацлаву показалось, что воротник ему стал тесен. Глаза его искали сочувствия и помощи у Капитана.
— Бегите, ребята, пока что за жестянками. Не стоит из-за мисок затевать долгие разговоры, — сказал Капитан.
— А где их взять?
Капитан отвел взгляд в сторону.
— Это зависит от того, сколько у вас денег. Новички обычно приобретают жестянки за бараком.
Холодный влажный ветер хлестал им в лицо. Моросил дождь. Лампа на столбе раскачивалась из стороны в сторону. Слабо освещенный круг пьяно метался по мокрой земле, освещая рябь на лужах. Парни озябли. Вацлав на ходу поднял воротник.
— Ничего здесь не выдают, — сказал Гонзик, когда обошли весь барак кругом.
Вацлав вдруг остановился и уставился на повалившуюся ограду. Перед ней возвышалась гора консервных банок; одни уже совсем заржавели, другие хорошо сохранились; среди банок, мокро блестевших в колыхавшемся свете фонаря, рос большой лопух. Молодые люди в оцепенении стояли над свалкой. В электрических проводах жалобно свистел ветер, откуда-то доносились звуки гармоники.
У Вацлава внезапно возникла сумасбродная мысль: это все — дурной сон. Какое огромное облегчение принесет пробуждение!
Бог знает почему, но перед глазами Вацлава отчетливо возникла вереница автомашин и карет, приезжавших время от времени во двор их имения. Он увидел выражение безграничной самоуверенности и снисходительного превосходства на лице своего отца, принимавшего посетителей в гостиной их просторного дома. Эти люди просили, унижались перед отцом, вымаливая его помочь им получить землю, отрезанную от помещичьих усадеб[29], какой-нибудь мандат или просто разрешение осушить пруд и превратить его в полоску пшеницы. Огромной властью обладал его отец: одно его слово, два-три ходатайства — и любого он смог бы сделать богатым, — стоило ему захотеть, конечно. «Маркграф Юрен» — так начали величать его отца!
Вацлав, не понимая, таращил глаза на свалку. Сухой кленовый лист зашуршал между жестянками, а затем, как в цветочную вазу, упал в консервную банку, полную дождевой воды.
Взгляд Вацлава встретили глаза его друзей. Он почувствовал необходимость что-то предпринять, чему-то воспротивиться, пока он не начал хвалить постную картофельную похлебку и предпочитать мерзкую вонь свежему, холодному воздуху, или… будет поздно!
Не оглядываясь на приятелей, Вацлав твердой поступью вернулся в барак, сел на койку рядом с Капитаном.
— Мы здесь не останемся! — сказал он решительно.
Капитан повернул к Вацлаву широкое спокойное лицо.
— Куда же вы денетесь?
— Безразлично. Лишь бы выбраться отсюда.
— Сколько у вас денег?
На лице Вацлава мелькнула растерянность.
— Есть несколько марок.
— На что же вы будете жить?
— Будем работать.
Ладя вывалил содержимое старого рюкзака на матрац и начал запихивать вещи в портфель.
— Все мы так думали, когда попали сюда, — терпеливо разъяснил Капитан. — Правда, кое-кто имеет работенку, — Капитан взглянул в сторону девиц, — но таких мало. Те, кому удается добыть настоящую работу, редко остаются жить здесь.
Капитан защелкнул замок набитого портфеля и молча отнес его Баронессе. Она приняла портфель так же безмолвно и уложила его у изголовья.
— Но все же… все же соответствующие органы должны о нас позаботиться! — сказал Вацлав упавшим голосом.
— До какой-то степени они уже позаботились… Разве вас не кормили целых три недели в Мюнхене? И разве вам не купил Франта Апперкот билеты до Нюрнберга?
Вацлав так сильно сжал почерневшую подпорку нар, что у него побелели пальцы. В наступившей тишине он уловил еле слышный скрип — работу жучка-точильщика внутри деревянной стойки.
Капитан обмотал рюкзак вокруг тела, а сверху надел пиджак.
Вацлав схватил его за рукав.
— Еще один вопрос. Не сердись на меня. Сколько времени ты уже находишься здесь?
— Девять месяцев.
Вацлав даже немного сгорбился. Руки его плетьми упали на колени.
Капитан мельком глянул на ребят, сидевших, как воплощение несчастья, потоптался, поморгал голубыми глазами и, надевая пальто, спросил:
— Знаете, какая из стран Европы самая наэлектризованная? Чехословакия! В ней максимальное напряжение, максимальное сопротивление, но не дай бог тронуть ее vedeni[30].
Вацлав улыбнулся скорее из вежливости. Анекдот его не только не воодушевил, а, напротив, вогнал в тоску.
Капитан бесцельно слонялся по комнате.
— Вы, ребята, в футбол играете?
Юноши оживились. Ярда встал.
— Ведь мы и познакомились на футбольном поле! — ответил он за всех.
Капитан вернулся, отпер чемоданчик и вынул из него старый футбольный мяч.
— Весной будешь меня тренировать на вратаря, Гонза! — Капитан шлепнул парня по спине. — Когда-то я был вроде Планички или Заморы. Увидите, как мы всем командам в Нюрнберге утрем нос.
Молодые люди улыбались: где-то еще они окажутся к весне? Но доброта этого человека их тронула.
— Если хотите, я вам дам почитать Бромфилда[31]. Роман у Баронессы. А теперь мне пора идти. Который час?
Вацлав взглянул на запястье.
— Семь. Твои не идут?
— У меня их нет вообще.
Звук его шагов вскоре утих.
Баронесса в шлепанцах на босу ногу остановилась возле новичков в проходе между парами. Вблизи было видно, что вышивка на ее халате в некоторых местах потерлась; у одного из золотых павлинов недоставало головы.
— Все его здесь уважают, — кивнула она на постель Капитана. — Когда ему перепадает банка консервов, он всегда найдет кусочек и для Баронессы. Мало кто здесь считается с тем, что нам, старикам, трудно что-нибудь раздобыть. Если бы хоть на старости лет желудок сжимался и пропадал аппетит — где там! Он, дьявол, скорее наоборот… — Баронесса умильно покосилась на Ярду. — Когда я была молодой, черноволосые парни были моей слабостью. Такой мохнатенький! — Старуха протянула высохшую белую руку к вырезу его майки, откуда выбивались курчавые волосы.
Ярда испуганно отшатнулся.
— У нас там, в Чехословакии, как будто бы собираются отбирать большие квартиры. Об этом объявила «Европа»[32]. Пускай! Мне уже все равно, только ванной жалко, там есть и биде, а они ведь даже не знают, для чего это! С умыванием здесь плохо, а иногда ведь немного теплой воды просто необходимо.
— Кем он был до того, как попал сюда? — Вацлав кивнул на дверь, за которой исчез староста комнаты.
— Летчиком на Западе. Потом служил офицером в нашей армии. Воинское звание, как видите, сохранилось за ним и здесь. А тот старичок, — Баронесса оглянулась на противоположный угол и понизила голос до шепота, — профессор университета, доктор Маркус. Знаменитость. Он с нами долго не проживет. Руку даю на отсечение, если он не получит заграничного паспорта без всякой волокиты.
— А семья в углу?
— Штефанские. Молодая вроде туберкулезная. А я вовсе не баронесса. Как-то раз я обмолвилась о своем двоюродном дяде из рода Шаумбург-Липпе. Профессор с тех пор и прозвал меня Баронессой. Противный! А это правда, что те наши душегубы перебили всех бендеровцев?
Вацлав взглядом вызвал своих приятелей из барака. Медленно шли они по песчаной дорожке между бараками. Моросил редкий дождь. Мокрый ветер трепал их тонкие плащи. По насыпи за лагерем с лязгом и дребезжанием шел товарный поезд. Длинный шлейф искр вертелся и танцевал по крышам вагонов. Пройдя немного, молодые люди остановились. Глаза Гонзика и Ярды были устремлены на Вацлава. В их взглядах Вацлаву почудился укор.
— У этих людей, видно, просто нет настоящей хватки, — сказал наконец Вацлав хриплым голосом. — Завтра же отправлюсь к начальнику лагеря. Если здесь не клюнет, пойдем к американцам. По правде говоря, нам у них жилось совсем не плохо. Американцы, наверно, и не подозревают о том, что здесь творится… А если и это ни к чему не приведет, поеду к нашему правительству[33]. Раздобуду работу себе и вам… А пока мы должны относиться к трудностям, как спортсмены. — Ему, к собственному удивлению, удалось даже улыбнуться. — Мы не смеем делать преждевременных выводов, тем более что здесь мы не засидимся… — Вацлав зябко поежился под своим прозрачным дождевиком. — Пойду лягу, что-то голова разболелась. — Оставив друзей на дорожке, Вацлав вернулся в барак, залез на нары, не раздеваясь, улегся навзничь и закрыл глаза.
В углу, сопя и отдуваясь, профессор карабкался на свои нары. Из коридора доносился шум спускаемой в уборной воды. Потом скрипнула дверь, и шлепанцы Баронессы прошаркали по полу. Вацлав сделал вид, что спит.
Глухая пустота медленно наполняла Вацлава. Он впитывал ее, как губка. Опять откуда-то отозвалась гармонь. Долетели обрывки смеха. Он слышал возню, говор, тяжелое дыхание польской семьи в противоположном углу комнаты, тихое перешептывание девиц. Все это доносилось до него приглушенно, словно сквозь какую-то завесу, отделившую его сознание даже от его собственного недвижного тела. Обрывки мыслей проносились в его голове. Бессвязная путаница и хаос. Ни одну из них он не мог задержать и додумать.
За деревянной перегородкой раздался отчаянный плач ребенка; воплю, казалось, не было конца, он прерывался лишь в те мгновения, когда младенец переводил дыхание. Мерцающая полоса света снаружи освещала лысый блестящий череп профессора, лежавшего на нарах у окна; Вацлав увидел, как Маркус пальцем, украшенным тяжелым золотым перстнем, зажал себе ухо.
У отца Вацлава тоже есть такой перстень — один из немногих знаков былой жизни. Вацлав зажмурился. Шесть недель эмиграции как будто бы сразу сократились до шести часов даже до шести минут. Ему грезилось: несколько мгновений тому назад он допил чашку натурального кофе. Мать убрала со стола в старомодный буфет фиолетовую хрустальную сахарницу. Эрна все еще пыхтит над задачкой, высунув кончик языка, а мама снова заводит разговор на самую больную тему, — разговор, отравлявший им немало вечеров, — отец, бывший депутат и важная особа, теперь жалкий служащий на лесопилке!..
Ребенок в соседней комнате все еще плакал. Раздались шлепки, и в ответ на это такой вопль, что, не выдержав, профессор приподнялся на локте и забарабанил в перегородку, отчего задребезжало окно.
Однако ничто теперь не могло потушить яркое и живое видение родины. Вацлав раз и навсегда заявил: никаких свекловичных полей, свиней и хлевов в отцовском имении, он будет заниматься медициной. Упорным старанием и прилежностью, самостоятельной учебой по вечерам он подготовился к экзамену на аттестат зрелости по латинскому языку. И вот после четырех семестров учебы на медицинском факультете разразилась катастрофа, какой не знала история высшего образования на его родине. И кто судил его! Студенты-коллеги с безупречными анкетными данными! Председатель комиссии — сын дворника, члены комиссии — дочь прачки и студент-горбун с лицом, пожелтевшим от хронической ненависти к здоровым и статным буржуа. Девушки-студентки всегда посматривали на него сверху вниз — горбун был на голову ниже их.
«Товарищи, мы не можем оставить его в университете! Не можем, учитывая поведение Вацлава Юрена, а также откровенно враждебную позицию его отца. Пусть через два года Вацлав докажет, что он достоин нашего доверия!»
И это называли демократизацией! Плюю я на вашу сомнительную милость. Начхать и на врачебную поденщину в какой-нибудь больничке! Частная практика в Англии, во Франции или, на худой конец, в Германии. Автомашина, горы, море, роскошная жизнь и свобода. Свобода!
Ребенок наконец утих. Через некоторое время девушки слезли с нар. Их каблучки застучали по направлению к двери. В лицо Вацлаву повеяло запахом гвоздики, смешавшимся с затхлой вонью барака. Внезапно Вацлав почувствовал укус в бедро, затем в грудь.
— Боже мой! Неужели здесь блохи?! — Вацлав вскочил.
— Преимущественно клопы, — сказала старшая из девиц и, выходя, погасила свет.
Наступил мрак. Вацлав сидел на нарах, не отваживаясь лечь и наивно думая, что так он убережется от паразитов. Но вскоре он убедился в тщетности своих надежд, и медленно, покоряясь, улегся на спину.
«Вероятно, не все правда, что говорил Капитан…» — думал Вацлав. Он, Вацлав, найдет себе работу, заработает на дорогу до Аугсбурга, до Мюнхена, выхлопочет стипендию и поступит в университет. В стране, настолько разоренной войной, не может быть безработицы! Скорее всего это результат недоверия к чехам. Ну конечно! Среди них в самом деле встречаются сомнительные личности, авантюристы, бездельники, но ведь в основном-то эмигранты — серьезные люди с честным стремлением жить свободно!
Откуда-то послышались раздраженные голоса. Вацлав затаил дыхание. Ссора нарастала, перебранка усиливалась и теперь, видно, уже перенеслась в коридор.
— …Мерзавец! Это ты украл! То-то все терся около моих нар, хотя дрыхнешь в другом углу!
— Нужна мне такая рвань! А ну, пусти, не то…
Топот и такой удар, что стены задрожали.
— На, получай, сволочь!
И вслед за этим плаксиво-просящий голос:
— Отдай мне… возврати ботинки! Ну в чем я выйду? Я ведь договорился о дельце и смогу сегодня достать жратву…
Некоторое время еще слышится жалобный голос, затем решительные шаги по направлению к выходу; бухнули двери, и все стихло.
Сердце Вацлава так колотилось, что его удары отдавались в висках.
«Жестянки? Там, за бараком…»
«Работа? Все мы так думали, когда попали сюда…»
«Часы? У меня их нет вообще…»
Вацлав провел языком по пересохшим губам. Перед своими друзьями он не смеет обнаруживать малодушия. Ведь они молчаливо признали его вожаком, он вел их через границу, был переводчиком, в его образованности, в его познаниях — их опора. Между тем ему самому нужно ободряющее слово, чтобы избавиться от гнетущего представления, будто за ним, Гонзиком и Ярдой ворота лагеря захлопнулись накрепко, а здесь, в Валке, оставаться им невозможно.
Его отговорка оправдалась: у Вацлава на самом деле разболелась голова. Он слез, распахнул окно, подставил под холодный, влажный воздух свое разгоряченное лицо. Потом снова улегся; взгляд его был устремлен на низкий потолок, от этой бездонной темноты жгло глаза. Сон не приходил. Паразиты жадно сосали его свежую кровь. Теперь в комнате храпело не менее четырех глоток, среди них выделялся свистящий храп Баронессы.
Прочь, прочь отсюда…
4
Польская семья, взяв завтрак, убралась в свой угол. Новички и Баронесса сели за дубовый стол.
— Бурда, как в концлагере. — Гонзик сморщил нос и отстранил от себя жестяную банку.
Маркус захлопнул книгу, которую читал, некоторое время прислушивался к однообразному шуму дождя за окном, затем вперил пронизывающий взгляд в физиономию Гонзика.
— Вы там были?
Гонзик покраснел и пригладил пятерней непокорные волосы.
— Не судите несправедливо, — продолжал Маркус. — В концентрационном лагере похлебка бывала совершенно горькой, а тут мы всю прошлую неделю получали даже заправленный суп!
Маркус поднялся, лицо его исказилось от боли, и он застыл в смешной скрюченной позе; лишь спустя несколько мгновений он смог постепенно выпрямиться.
— Поясница пошаливает, правда, профессор? А угля нам не дают! — Баронесса положила ладонь на жестяную банку с теплым кофе.
Но Маркус, казалось, не слышал ее.
— Я понимаю ваши сетования, первые впечатления здесь никого не настраивают на веселый лад. Однако надо смотреть на это с других позиций. — Маркус отвечал Гонзику, но глядел при этом на Вацлава. — Речь идет не о черном кофе или о кофе с молоком, а о чем-то большем. А во имя великой цели люди всегда должны были страдать, бороться и даже умирать! Ведь дело-то идет ни много ни мало, как о новом обретении смысла жизни, друзья, о созидательном патриотизме, о всесторонней демократии и о подлинном социализме, проникнутом духом гуманизма! — Бас профессора зазвучал патетически. — Чтобы не было доктринерства, деления людей на чистых и нечистых, никаких категорий униженных и забытых! Национальная программа правительства, не допускающая существования паразитических элементов, — вот чего должны добиваться мы здесь объединенными силами!
— Хорошо вам разглагольствовать, профессор, — вздохнула Баронесса, — недели через две вы будете разгуливать с сигарой в зубах по Елисейским полям!
Бумажный голубь закружился под потолком и штопором упал на стол. Веснушчатая мордашка Бронека расплылась в виноватой испуганной улыбке. Гонзик расправил помятое крыло голубя и отправил его в обратный путь, но непослушная птица, описав красивую дугу, приземлилась на верхних нарах у девушек. Ирена в пальто, накинутом поверх пижамы, открывала большим ключом килограммовую банку мясных консервов. Младшая, Ганка, наклонила к ней растрепанную белокурую голову. Ее полные, немного чувственные губы были сосредоточенно приоткрыты, на лбу и подбородке краснели пятнышки угрей.
Гонзик машинально поднес к губам банку с кофе, глянул на верхние нары, на Ирену. В нежном, тонком лице с маленьким ртом была какая-то неправильность, но Гонзик не мог понять, в чем она заключалась.
Консервная банка была наконец открыта. Ирена наклонилась, чтобы положить ключ на полку. У Гонзика зарделись уши: щелка в пижаме из-за недостающей пуговицы расширилась и открыла молодой, упругий профиль груди. Гонзик в смятении отвел глаза, но вскоре снова уставился на Ирену. Взяв обеими руками жестяную банку, он пил, в горле становилось горячо; волнуясь, он глотал отвратительную бурду, чувствуя какую-то вину и в то же время страх, что кто-нибудь откроет его тайну.
Ключ был водворен на полку. Гонзик разочарованно вздохнул. Ирена скомкала бумажного голубя и спокойно вытерла им жир на приподнятой крышке консервной банки. Гонзик нахмурился и встал: вчера ей было жалко одолжить ему свою миску. Что, собственно, в ней интересного? Волосы, накрученные на бумажки… Ему все хотелось смотреть куда-нибудь в другое место, но он никак не мог оторвать глаз от Ирены. Наконец его осенило: он ее ненавидит. Однако окончательно в этом он уверен не был.
В коридоре послышались шаги, немецкая речь. Ганка перестала жевать и заморгала лишенными ресниц глазами.
— Шериф и Кодл с ним.
Двери шумно распахнулись. Вошел человек с круглым, сияющим, толстоносым лицом. Густые колечки седеющих волос ореолом обрамляли низкий лоб.
— Приветствую вас, братья! — с пафосом воскликнул вошедший. Стряхнув капли воды с широкополой шляпы, какие носили когда-то художники, он прошел к столу, грузно ступая на пятки. Без всяких околичностей он обнял Вацлава, а Гонзику и Ярде долго тряс руки и по-дружески крепко хлопал их по спине.
— Одну постель я для вас освободил в седьмой комнате. Все я уже знаю, все уже устроено, — затараторил он, тяжело дыша. — И зовите меня папаша Кодл. Буду счастлив, если вы увидите во мне подлинного папашу, так же, как и все в лагере. — Кодл умиленно склонил голову к плечу. От уголков глаз, светившихся теплом и лаской, к вискам разбежались лучи морщинок. — Ведь у папаши Кодла одно-единственное желание в этой жизни, дети мои: чтоб вы нашли тут вторую родину после столь трагично утраченной первой.
Затем он подступил к нарам девушек, заложил пухлые руки за спину и, одобрительно подмигнув, проговорил:
— «Corned beef»[34]. Это нам по вкусу, да?
Стремительно повернувшись к парням, Кодл продолжал:
— Вы мне тут с девушками — ни-ни. Этого мы здесь не терпим! — И Кодл погрозил пальцем, потом вытер платком вспотевшее лицо.
Штефанский неуклюже вышел из своего угла у двери и, сильно побледнев, встал, вытянув руки по швам.
— Egi… eligibit[35] для меня не поступил? — забормотал он на ломаном чешском языке.
Папаша Кодл сочувственно развел руками.
— Пока еще нет, голубчик. Потерпи, вскорости и о тебе вспомнят и дадут разрешение на въезд… — Кодл с искренним участием глядел на крючковатый нос поляка, казавшийся несоразмерно большим по сравнению с узкими плечами его донкихотской фигуры. — Спешить не в характере канадцев. Потерпи, друг. Как только поеду во Франкфурт, свяжусь с генеральным консулом. Ты ведь знаешь папашу Кодла? Он имеет привычку идти прямо in medias res[36] дела.
В дверях появилась желтая скуластая физиономия человека в черном, блестевшем от дождя плаще. За ним вошел плечистый длиннорукий парень.
— Трое новичков, — проворно подскочил к вошедшему папаша Кодл и по-немецки отрекомендовал троих друзей. Затем, почтительно указав на вошедшего в черном плаще, Кодл провозгласил: — Герр Зиберт, начальник лагеря. — В сиплом голосе Кодла послышались нотки преданности. — А это Пепек, начальник вашего барака, — кивнул Кодл в сторону хмурого молодца с маленькой головкой на широких плечах. Своим могучим туловищем на коротких ногах и непомерно длинными руками Пепек напоминал гориллу.
Герр Зиберт, глядя куда-то в сторону, сунул новичкам плоскую холодную ладонь.
— Итак, мы встретились снова. — Зиберт кашлянул и начал протирать запотевшие в комнате очки.
Все озадаченно смотрели на его желтое лицо, впалые щеки, на угловатый череп с коротко остриженными белесыми волосами.
Профессор поднялся со скамейки, чуть толкнув стол животом.
— Сегодня ночью нас снова жрали клопы. Почему вы ничего не предпринимаете против этой мерзости, герр Зиберт? Разве истребление газами стало для Германии трудной проблемой? В недавнем прошлом этого не замечалось…
Наступила напряженная тишина. Баронесса испуганно зашелестела газетой Но лицо профессора с растрепанными моржовыми усами оставалось агрессивным.
— Вероятно, первое, что я сделаю, как только доберусь до Совета, добьюсь проверки, как осуществляется управление лагерями, — продолжал Маркус.
Папаша Кодл оскалил редкие пожелтевшие зубы, пытаясь улыбнуться.
— И клопы ведь имеют право на крошечное местечко под солнцем, профессор, — пошутил он. — Всего каких-нибудь два месяца тому назад мы провели здесь дезинфекцию, а эту мерзость приносят с собой новички, не в упрек будь сказано, братья, ведь не все вы одинаковы. — Кодл панибратски обнял Гонзика за плечи и притянул его к себе.
Начальник лагеря сверлил холодными серыми глазами лицо профессора.
— Вы здесь всего две недели, а от вас уже четвертая жалоба. Буду весьма благодарен, если вытребуете от этого вашего Совета улучшения условий в нашем лагере. — Зиберт напряженно согнулся, пытаясь изобразить иронический поклон, и напялил зеленую шляпу с засаленной лентой. Его тонкие синеватые губы скривились. — Итак, желаю успеха, ребята, — Зиберт посмотрел на пуговицу пиджака Вацлава и добавил: — И твердой веры. Я, по крайней мере, никогда не утрачу уверенности в том, что снова буду есть графштайнские яблоки из своего сада в Карлсбаде. Мы непременно вернемся на родину, вернемся все вместе.
Он вышел, сопровождаемый Пепеком и папашей Кодлом.
Баронесса злобно отшвырнула газету на нары.
— Вы только отравляете колодец, из которого мы пьем, профессор, и ничего иного! Жалобы и жалобы! Если вам охота компрометировать себя, так могли бы хоть подумать о других!
Профессор удивленно обернулся к ней. Лицо Баронессы пожелтело от ярости.
— Что, собственно говоря, вы воображаете? Разве вы здесь один? Где это видано, чтобы таким тоном разговаривать с начальником лагеря? Неужели вы не понимаете, что мы всецело в его руках?
Она кричала, все более распаляясь. Профессор незаметно стер с рукава своего пиджака капельку ее слюны.
— Мы тоже хотим выбраться отсюда! Еще скажут, что наша комната заражена коммунизмом, да, да! — Баронесса стянула пояс своего халата. — A cause de vous[37], то они бы не очень ошиблись. Вы… вы… большевик!
Отголосок ее резкого ядовитого голоса еще мгновение звучал в ушах затихших от изумления обитателей комнаты.
У профессора потемнел затылок. Раза два Маркус подымал кулак вверх, как бы подчеркивая, как важно то, что он хочет сказать, потом неожиданно сел, согнул могучую спину, оперся локтями о колени. Кисти его рук свесились, а большие, немного выпуклые глаза уставились в то место на халате Баронессы, где от пестрого павлина остался один жалкий контур.
— Отвага покинула наше поколение, — сказал профессор глубоким металлическим голосом. — Может быть, мы никогда ею и не обладали. Страх — страх перед обществом, страх перед богом — овладел нами. А должен быть только страх перед нашим собственным ничтожеством.
— Проявляйте свой интеллектуальный героизм, где хотите, — Баронесса истерически воздела руки, — но нас в это дело, пожалуйста, не впутывайте. Я вовсе не желаю подыхать здесь!
— Это, надеюсь, не выпад против интеллигенции! — Профессор поднял брови и по-стариковски, медленно выпрямился. — В этом, конечно, нет ничего нового. Уже Франк[38] ненавидел интеллигентов. И Моравец[39] тоже. Так или иначе, но знаете, Баронесса, горе народу, интеллигенция которого перестает быть носителем свободного и несокрушимого духа! Там, где интеллигенция предает, побежден весь народ! Вспомните о нацистской Германии.
— Только не воображайте себя каким-то спасителем всех! — Баронесса не могла не оставить за собой последнего слова. — Да что далеко ходить за примерами! Не будь меня и мне подобной шушеры, вы бы со своей философией витали в облаках, только нищие и голодные.
Обход барака, по-видимому, окончился: из коридора слышался четкий шаг Зиберта и тяжелый топот Кодла. Вацлав, не раздумывая, сорвался с места, выбежал и догнал папашу Кодла на кирпичных ступеньках перед бараком.
— Мы не желаем оставаться здесь, — сказал Вацлав решительно. — Вы говорили, что мы можем видеть в вас отца. Мне кажется, вам я могу довериться. Наше впечатление от Валки ужасно. Ни о чем подобном, что Валка похожа на концлагерь, «Свободная Европа» не сообщала.
— Го-луб-чик, — протянул изумленный папаша Кодл и сдвинул черную шляпу на затылок. — Ну что за тон! Человек заботится о своих питомцах, как родная мать, с ног сбивается, во Франкфурт каждый месяц ездит на поклон к американцам хлопотать о дотации, просить масло, простыни, одежду. Ты думаешь, просто добывать все это? А ты — концлагерь!.. Впрочем, благодарность — ныне редкая монета. — Кодл сокрушенно покачал головой, в мочке его правого уха блеснула серебряная серьга. — А чего, собственно, ты хочешь?
— Учиться! — выпалил Вацлав. — Я окончил два курса медицинского факультета. Меня выгнали из университета. Но я хочу быть врачом и буду им!
Папаша Кодл запустил руку в расстегнутый ворот рубашки и задумчиво поскреб грудь, потом пытливо взглянул в лицо взволнованному Вацлаву.
— Папаша Кодл предпочитает меньше обещать, больше делать. Заходи вечером ко мне в канцелярию. Поговорим. Не вешай носа, дружище! — Серые мышиные глазки Кодла светились дружелюбием Он дотронулся рукой до плеча студента. При этом юноша заметил необычайно длинный ноготь на мизинце левой руки Кодла.
Вацлав медленно поплелся в барак.
— Кому-то из нас придется перебраться в седьмую комнату, — сказал он, входя.
Гонзик стрельнул взглядом на верхние нары, быстро положил обе руки на свой сенник и заявил:
— Я предпочел бы остаться здесь.
Ярда осклабился, подбросил кверху сигарету и ловко поймал ее ртом.
— Пожалуй, могу пойти я. Мне не так уж улыбается оставаться тут. — Ярда оглянулся на Баронессу. — Да и не все ли равно, где скоротать два-три дня, которые мы еще пробудем здесь…
Вацлав вдруг почувствовал нечто вроде благодарности приятелям. Ярде — за то, что он не спорит из-за места, им обоим — за то, что они ни в чем его не упрекают и не утратили оптимизма. До побега они не были близкими друзьями. Просто в свободное время играли в футбол в одной и той же команде. Как-то однажды у них возник разговор об эмиграции, а затем их захватила навязчивая мысль о побеге за границу. Провал Ярды, воровавшего запчасти, ускорил дело. Вацлав раньше не знал об этих махинациях. Он осудил бы их. Но что делать теперь? Они здесь, и Гонзик и Ярда на деле показали себя хорошими, компанейскими ребятами.
Молодые люди оделись и вышли. Необходимо было выполнить формальности, неизбежные для всех вступающих в лагерь, дать отпечатки пальцев для регистрации в полиции, приобрести хотя бы элементарную экипировку эмигрантов — котелки и ложки. Дождь прошел, но лохматые тучи тянулись низко над землей, как согбенные призраки. Пряный запах сырой земли бодрил парней, как освежающий напиток, после тяжелого, спертого воздуха барака. Они шли по грязной улице, сторонясь подернутых рябью луж, осваиваясь с новым для них будничным видом лагеря. Деревянные бараки, вытянувшиеся в безупречно строгие линии, создавали впечатление порядка. В просвете одной из боковых улочек мелькнула зеленая площадка.
— Футбольное поле, — сказал Ярда. — Говорят, будто здесь устроят и теннисные корты. Вчера вечером я кое-что разнюхал. Говорили еще, что организуются языковые курсы. Можешь изучать какой угодно язык.
— Ребята нам рассказывали, что каждый вечер здесь бывает кино, билет — тридцать пфеннигов. — Гонзик поправил на носу очки. — А там вот костел, — указал он вправо. — Читальня тоже есть.
— Только для нас здесь хоть трава не расти, — сказал Ярда, перескакивая через лужу. — Все равно удерем.
— Пешком? — Гонзик посмотрел на него с укором. — Разве что ты возвратишь нам наши денежки.
Ярда не ответил.
Они вышли на шоссе, ведущее к городу. Вацлав в шляпе и прозрачном игелитовом дождевике. Гонзик — в старом прорезиненном плаще и синем берете. Только Ярда отважно пренебрегал каким бы то ни было головным убором: ни один из них не уместился бы на его шевелюре, не смяв прически. Временами солнце разбрасывало по земле овальные золотистые лужицы. Отдаленные, поросшие лесом холмы после дождя казались кристально чистыми и были как будто бы совсем близко. Стая ворон с криком пронеслась на промокшие пашни. Быстро плывущие тучи заставляют человека поднять голову: в них есть какое-то очарование неведомых далей, притягательной тайны чужбины, захватывающих впечатлений!
Автобус, шедший в город, медленно и мягко обогнал молодых чехов.
— Могли бы и мы ехать, — Гонзик снова начал задирать Ярду, — зато на наши марки Ярда основательно заложил за воротник.
— Брось скулить, — нахмурился Ярда. — Скоро я верну вам эти жалкие гроши. Дай немного осмотреться.
И все же горькое свежее воспоминание испортило настроение Гонзику.
Последний день их пребывания в Мюнхене. Бог знает, как это случилось, но Гонзик влюбился в того голубоглазого американского комиссара. Все в нем импонировало Гонзику: звучный голос, холеные руки, спокойная манера держаться и то, как он бросал в пепельницу только наполовину выкуренные сигареты. Часик допроса, полтора часа болтовни с чешской девушкой Марией в соседней канцелярии, бутерброды и черный кофе, джазовая музыка по «Рот-Вайсс-Рот»[40], душистые сигареты «Кэмел». Стоило только пожелать. Как быстро человек привыкает к комфорту! Прекрасная гостиница и хорошее питание, плавный «форд», или «бьюик», или «крейслер», который их ежедневно отвозил к белому дому, облицованному травертином.
Избыток свободного времени и шуршание марок в кармане.
Но в то же время хорошее настроение Гонзика все больше и больше омрачалось: он не мог исполнить требования комиссара. День ото дня Гонзик снова и снова вынужден был обманывать ожидания этого приятного человека. Гонзик не признавал за собой никаких обязательств перед родиной, но вернуться туда с такими заданиями, какие хотел дать ему американский офицер… это было невозможно!
И вот настал день, которого они боялись: светловолосый комиссар захлопнул папку с протоколами допросов. Гонзика охватило сожаление. Он чувствовал, что они должны были бы поблагодарить за две недели райской жизни, пожать руку американскому другу. Гонзик оглянулся на Вацлава, который все это время был как бы их полпредом. Тот, видимо, также был растроган и никак не мог подобрать соответствующие случаю слова. Наконец Вацлав от смущения попросил последнюю сигарету. Комиссар посмотрел на него отчужденно и указал на граненую пепельницу, полную окурков.
— Можете все это забрать.
Американец широко зевнул им в лицо, застегнул свой светло-серый китель и вышел, не сказав ни единого слова.
Вечером Вацлав и Гонзик в каком то безотчетно-подавленном настроении отказались идти на прощанье в ресторан «Три викинга», и Ярда упросил товарищей одолжить ему деньги. Вернулся он лишь утром, растрепанный, с лицом бледно-серым, без галстука и без бумажника. Единственно, что удалось из него вытянуть, раньше чем он свалился на постель и захрапел, были несколько несвязных фраз о каких-то девках, на которых он якобы заявил в полицию.
Приятели молча бредут по шоссе. Вот и первые дома Нюрнберга. По площади, перед длинным фасадом казармы, по кругу конечной станции пронзительно скрипит трамвай с табличкой «Мерцфельд». Предместье почти безлюдно в эти утренние часы. То здесь, то там парами бродят американские солдаты в брюках, забранных в гамаши. По проезжей части дороги, на виду у американцев, не обходя луж, с удивительным проворством вприпрыжку ковыляет на деревянном протезе крохотная фигурка в форме немецкого солдата. Когда чехи его обогнали, они были поражены: у «солдата» было веснушчатое лицо двенадцатилетнего мальчика. Его гимнастерка, явно с чужого плеча, болталась на узенькой плоской груди. Выцветшая воинская пилотка была надвинута до тонких просвечивающих ушей, на месте споротой кокарды гитлеровской «лучшей в мире» армии на пилотке осталось темное пятно.
Вскоре появились и первые руины домов, терриконы кирпичной крошки, заросшие бурьяном и лебедой, жилища без потолков и оконных рам. Некоторые окна заколочены досками или «застеклены» картоном. Первые очереди перед молочными и мясными лавками, судачащие женщины с хозяйственными сумками. Уличное движение становится все оживленнее. Американские автомашины мягко и плавно катят по асфальту, на котором выделяются темные овальные заплаты на местах бывших воронок. Вот густая сетка лесов — это строится высокое здание торгового дома, рождается новая жизнь.
Вацлав с приятелями подымается по затоптанной лестнице биржи труда. Они вошли в темные двери вопреки надписи «Keine Arbeitszuteilung»[41].
— Работу? — поднял голову человек в черных сатиновых нарукавниках. — Дружище, вы что, с луны свалились? Здесь уже побывало человек тысяча. Они вроде вас не умели читать надписи на дверях.
Из соседней комнаты вышел лысый толстяк. Шестым чувством он сразу угадал, что перед ним чехи.
— Tschechen, so[42]. Так-так. Припожаловали, значит, сюда; кормите, дескать, нас, господа. Так, что ли? А помните, Herrschaften, Winterhilfe[43] во время войны? — Немец поднял на лоб очки в тонкой золотой оправе. — Много нам тогда чехи помогли? А теперь мы у себя должны проводить новую «винтерхилфе» — на этот раз для чешских эмигрантов!
— А все-таки где мы могли бы найти работу? — спросил Вацлав, комкая шляпу в руке.
— Я вам на это охотно отвечу: нигде. Сидели бы у себя дома, сюда вас никто не звал. Здесь не хватает работы для своих, не то что для пришельцев! — Толстяк положил бумагу на стол подчиненного, дав этим понять, что разговор окончен.
Три товарища снова бредут по площади. Ветер треплет дождевик Вацлава. На свежем воздухе быстрее появляется аппетит и здоровый желудок требует пищи.
Они бредут, а перед их глазами развертывается печальная картина опустошения и гибели: развалины и развалины, высокие фронтоны зданий с черными языками копоти над мертвыми окнами. Заборы на месте жилых домов. Даже памятников старины не пощадили смерть и безумное разрушение.
Дома, которые выжили, изменили свое лицо. Они возвысились над узкими улицами старого города, у них появилось множество чердачных окон, покрытых косыми кровельками, которые разнообразят и пестрят поверхность высоких остроконечных крыш. В конце улицы, на холме — старый замок. Город словно тянется к нему со всех сторон. Юноши забыли о лагере, о голоде и о том, что ищут работу: неповторимая красота средневековых зданий очаровала их. Контрфорсы стен, галереи и эркеры на углах, фасады, которые будто бы устремились друг к другу в вышине, чтобы низринуться в узкие улицы.
Торжище поглотило молодых чехов. Пестрая мозаика огромных парусиновых тентов, до сих пор мокрых от дождя, а на заднем плане какой-то костел: широкий фасад с большой готической розеткой… Вацлав пылающими глазами смотрел на каменное кружево портала, стройный готический фонтан поодаль. Потом остановил прохожего.
— Это же костел девы Марии, — ответил немного удивленный старожил. Затем, догадавшись, с кем имеет дело, указал назад и пояснил: — А это — храм святого Лаврентия. Обратите внимание на башенки: одна имеет слуховое окно, а другая нет. Рекомендую вам обязательно осмотреть могилу святого Себальда, патрона города. Если вы пойдете вот этой улицей, то в конце ее спросите, и вам покажут дом Альбрехта Дюрера.
Они вдруг почувствовали себя беззаботными, восторженными туристами. Им казалось, что они в отпуске и сейчас осмотрят еще набережную Пегницы со старым мостом и крепостные башни, как им посоветовала морщинистая дама со старомодным зонтиком, затем разошлют открытки своим близким, а после этого усядутся в один из роскошных автобусов, которые выстроились стройными рядами на стоянке в ожидании американских туристов, и отправятся дальше осматривать красоты немецких исторических городов.
Однако действительность скоро отрезвила их.
Вот в подворотне однорукий слепец в пилотке полевой жандармерии продает открытки.
Прилично одетый молодой человек с портфелем в руках обращается к прохожим тихим монотонным голосом:
— Я студент-архитектор. Не купите ли лезвия для бритья?
Молоденькая немка в эффектном коверкотовом пальто вцепилась в лацкан кителя своего кавалера, запрокинув голову, игриво смеется:
— You are foolish[44].
Нищий с лицом индийского философа, в черном котелке на ниспадающих белоснежных волосах сидит неподвижно на ступенях костела святого Лаврентия.
Беглецы медленно возвращались назад. Их взгляды уже не устремлялись ввысь на зубчатые фасады, они видели, что по тротуарам под поэтическими средневековыми стенами ходят немцы тысяча девятьсот сорок восьмого года. Многие из них хромают, многие носят перешитые военные мундиры. Кто не помнит их серо-зеленый цвет с тех времен, когда короткие немецкие сапоги громыхали по чешским мостовым! Теперь повыцвели эти мундиры, они уже не нагоняют ужаса, не возбуждают и ненависти: много рукавов, которые когда-то стремительно взлетали, отдавая честь, теперь пусты и с полной покорностью судьбе засунуты в карманы кителей.
— Подождите меня здесь, — Вацлав указал своим спутникам на скамейку перед сумрачным зданием университета.
Когда он вернулся через четверть часа, ответ был написан на его плохо выбритом лице: если он с успехом пройдет screening[45], получит соответствующее разрешение, то можно будет надеяться на возможность дальнейшего учения — лучше всего в Париже.
Сколько вопросов, сколько неизвестных в этом уравнении, которое они начали решать недавно утром за Шумавским хребтом!
— Мы не можем ожидать успеха немедленно, в первый же день, друзья, — говорит Вацлав, — но мы не должны капитулировать. Нас тут слишком много, вот в чем беда! Тем, которые пришли сюда сразу после февраля, было легче.
Нет, Вацлав не сдается. Однако поиски избранного пути становятся бессистемными.
— Подождите тут, — снова сказал он, исчезая в воротах с вывеской «Окружное дорожное управление».
Сутулый человек за столом поднял голову. Один бог знает, какое клеймо выжжено у Вацлава на лбу.
— Вы Flüchtling, да? Послушайте совет: пожалейте подметки. Искать работу около Нюрнберга — это либо провокация, либо идиотизм.
— А где же мне ее искать?
— Трудно сказать. Возможно, в шахтах Рура, а может быть, в Гамбургском порту, разве я знаю? Лучше всего — в Нью-Йорке. У вас там есть свое правительство. Почему бы ему о вас не позаботиться?
Они возвращались через предместье. Усталым путникам теперь уже ничем не удавалось отвлечь себя от мучительного чувства голода. Вдали показалось здание казармы и знакомый круг конечной остановки трамвая — Мерцфельд.
Ярмарочная музыка оркестриона ударила им в уши. Два окна с выцветшими занавесками. На зеленой табличке у входа два скрещенных кия и три разноцветных шара, а над этим готическая надпись: «Zum Maksim»[46].
Двое мужчин вошли внутрь. До парней долетела чешская речь. Тогда без долгих размышлений вошли и они.
Длинное помещение с тремя бильярдами и рядами мраморных столиков в стиле модерн. Среди посетителей больше всего чехов. Назойливо дребезжит оркестрион. Душно, пахнет дымом и кислым запахом вина. Увядшая дама с высокой прической, немного похожая на Баронессу, стоит за стойкой и отпускает ликер. На высоком стуле, спиной к публике, сидит девица, положив локти на стойку, и что-то шепчет соседу на ухо.
Тощий человек с лицом, перекошенным, как после паралича, шаркающими шагами приблизился к парням. Он засучил рукав, просительно улыбнулся и произнес на пражском диалекте:
— Не купите?
От запястья до локтя на его руке были нанизаны ручные часы, мужские и дамские, золотые и никелированные. Между ремешками виднелась синяя татуировка на руке — голая женщина.
На ближайшем бильярде сидят два молодых человека и болтают ногами. В зубах папиросы, в руках газеты.
— Кабель? — прогудел один из них, когда эмигранты проходили мимо, и опустил газету на колени.
— Какой кабель? — изумился Ярда.
— Ну, кабель. Не знаешь, балда, что это такое?
В заднем углу режутся в карты. Один из игроков швырнул карты и, повернув голову к молодому человеку, стоящему у его плеча, сказал:
— Если хочешь по морде, получишь. Проваливай!
Хмурый седой человек с глубокими морщинами около рта в белом фартуке подошел к столику с профессионально безразличным видом и по-чешски с русским акцентом осведомился об их желании. Вацлав вдруг осознал, что они вошли сюда, не подумавши: утром покупка мисок, сигарет и мыла поглотила почти все их денежные ресурсы. Он смущенно стал считать мелочь.
— Чего лезете сюда без денег? — недовольно проворчал официант и пошел прочь. Его лохматые брови сошлись над мясистым носом, а челюсти под кожей, изрезанной глубокими морщинами, беспрерывно двигались.
Стареющая девица с яркими стразеровскими серьгами оставила своего партнера у стойки бара и приблизилась к юношам, но по ее улыбочке видно было, что она заранее знает о своей неудаче.
— Ну и что?
Ярда понял.
— Не имеем наличности, — отрезал он.
На ее усталом лице ничего не отразилось. Вблизи казалось, что она утром забыла помыть шею.
— Сигарету!
Женщина взяла сигарету без единого слова и побрела прочь.
За соседним столиком какой-то обтрепанный человек ел колбасу с горчицей и пил пиво. От аромата этой пищи Ярда побледнел и проглотил набежавшую слюну.
Официант подошел снова.
— Три порции черного кофе. — Ярда выбросил на стол горсть американских сигарет.
Официант сверкнул глазами. Он молча пересчитал сигареты, две положил назад на стол.
В центре зала кто-то вытащил из рюкзака черные в полоску брюки.
— Семьдесят марок!
— Пятьдесят. Больше не дам! — ответил ему высокий сиплый голос. Он принадлежал щупленькому человечку с болезненно выпученными глазами и с удивительно продолговатым, скошенным вверху черепом.
«Базедка», — мысленно заключил Вацлав. Человечек быстро приближался нетвердой дергающей походкой сифилитика.
— Колчава покупает, будет потеха, — сказал гость за соседним столиком. Он доел колбасу и поднялся.
Торговались долго. В перебранку включилась целая компания зевак, в том числе и девица с серьгами. В воздухе висели брань и оскорбления, но страстное желание продать и твердая решимость купить преодолели все. В конце концов вспотевший, возбужденный покупатель, названный Колчавой, унес штаны к своему столу.
Между тремя приятелями воцарилось молчание. Его не смогли прервать даже фальшивые тоны оркестриона. Оборванный человек за соседним столиком заказал себе вторую порцию колбасы. Когда ее принесли, Гонзик на мгновение прикрыл глаза.
Молодые люди нарочно не допивали свой кофе до дна, чтобы официант не унес чашки. Гонзик положил ладонь на руку Вацлава, но тут же снял ее. Их взгляды встретились. В них была одна и та же мысль: должно же все-таки что-то произойти…
Да, что-то должно свершиться. Но что именно — они не знали. Вдруг им пришло в голову, что они очутились в тупике. Однако и из тупика есть выход — выход назад, но из Валки… Куда ведут пути из Валки?
Рассеянный взгляд Вацлава блуждал по помещению.
Нет, это отнюдь не бар с мягким затененным освещением: джаз, зеркала, эксцентричные женщины и смокинги из американских фильмов. Ничего похожего здесь не было. Это даже и не салон золотого Запада, полный грубоватого веселья и щедрых девиц. Плохо выбритые физиономии, равнодушные глаза, согнутые спины двух молодых людей за бильярдом как бы говорили совсем иное.
И Вацлав вдруг понял это, и его охватило щемящее чувство: стремление раздобыть несколько марок и убить время — вот что светилось во взглядах людей.
— Напишу в Париж нашим министрам о том, как это все здесь выглядит. Попрошу у них помощи. — И, понизив голос, Вацлав добавил: — Я уверен, что они об этом не имеют представления. Они обязательно что-то сделают. Сошлюсь на отца. Думаю, что с некоторыми из них он был знаком лично…
Гонзик ловил каждое слово Вацлава, но червь сомнения глодал его душу: неужели подобная мысль не приходила в голову никому из чехов, обитающих в Валке?
Вацлав тем временем продолжал:
— А если, паче чаяния, и это не возымеет действия, то я поеду к ним сам!
— А где возьмешь деньги на дорогу?
Вацлав рассеянно посмотрел на приятелей.
— Заработаю. Не знаю еще как, но как-нибудь да заработаю. Посмотрите, один около нас ведь съел две порции колбасы, другой, тот, с базедкой, откуда-то взял пятьдесят марок на брюки, третий нацепил десяток часов на руку…
Гонзик дернул Вацлава за рукав и указал глазами на дверь: у входа стоял Капитан из их барака! Плоская кепка надвинута на лоб, на заросшем лице глубокая печать усталости. Он оглядел помещение, но Вацлава и его спутников, сидевших в противоположном углу комнаты, не заметил. Ладя сел. Девица с серьгами положила локти на его столик. Минутку они о чем-то шептались. Затем девица приподняла голову, и официант мгновенно подал Капитану черный кофе с ромом. Двое молодых людей, до сих пор игравших на бильярде, положили кии и подсели к столу Лади. Капитан расстегнул пальто и пошарил в спрятанном под ним мешке. Вацлав и его друзья увидели латунный блеск трех водопроводных кранов и телефонную трубку с обрывком шнура. Дальнейший обзор вещей закрыли люди, сгрудившиеся вокруг стола. Через пять минут группка рассеялась. Около Капитана сидела одна лишь девица. Официант поставил перед ней рюмку с коньяком, и она профессиональным жестом подняла ее как бы для тоста, улыбаясь, вызывающе посмотрела на Капитана и одним глотком выпила. В ее потухших глазах мелькнула надежда, но Капитан встал, шепнул ей что-то веселое на ухо и ушел. Она печально смотрела ему вслед, на ее грубом лице угасала улыбка, а в глазах было разочарование.
Гонзик и Ярда глядели на Вацлава, но он, в задумчивости опустив голову, старался стереть чешское ругательство, написанное карандашом на мраморной доске.
Часы в стиле модерн на оклеенной обоями стене пробили полдень.
Молодые люди вышли на улицу. На первом же углу они увидели группу людей и услыхали возбужденные чешские голоса. Что это значит? Разве Мерцфельд — чешское предместье? Парни вплотную подошли к толпе. В центре ее стоял мужчина с выпученными глазами. Он размахивал купленными в трактире штанами и выкрикивал:
— Девяносто, и ни маркой меньше! Бог свидетель, к вечеру я обязан раздобыть деньги на лекарства — жена смертельно больна!
— Семьдесят, больше у меня не найдется, даже если меня выпотрошить, — отвечал чей-то дрожащий голос.
— Есть у тебя совесть? — кричал Колчава сипло и негодующе, закрывая глаза. — Христианин ты или нет, есть на тебе крест? Нищего обираешь, на горе человеческом наживаешься.
Несчастный покупатель — у него действительно кто-то украл последние штаны, и сегодня он выбрался в город в чужих брюках — отдал, наконец, восемьдесят марок — всю свою наличность, кое-как накопленную в течение последних месяцев. Колчава с видом оскорбленной невинности, зажав деньги в руках, выбирался из толпы.
— Негодяй! — процедил кто-то ему вслед. — Он ведь неженатый!
Однако в голосе не было морального осуждения. Была лишь лютая зависть и горькое сожаление, что кто-то другой так легко извлек барыш из беды товарища.
5
Солнце погружалось в прозрачную дымку над излучиной реки Пегницы, затем скользнуло по очертаниям низких холмов за городом. В воздухе висел едкий запах паленой ботвы. Дым отдаленного костра стлался низко над опустевшими пашнями. На фоне кровавого заката трепетал запоздалый бумажный змей.
Багровые и желтые кленовые листья неслись, обгоняя Вацлава. Его глаза следили за полетом листьев, шелестящих по асфальту дороги. Вдруг девичья туфелька впереди наступила на лист. Хорошая форма ног, серое весеннее пальто, берет, упругая девичья походка. Вацлав ускорил шаг в надежде увидеть лицо идущей впереди девушки.
Она повернула голову и испытующе посмотрела на него.
— Идете… в лагерь? — пролепетал, запинаясь, Вацлав.
— Нет, в Патагонию, — иронически ответила она.
Вацлав заколебался.
Легкая тень пробежала по ее выпуклому лбу.
— Почему вы меня так оглядываете?
— Извините, но так приятно встретить землячку на чужбине.
— Вы на редкость находчивы, — язвительно улыбнулась она.
Он покраснел, не зная, как быть дальше. Потом нерешительно представился.
— Катка, — нехотя ответила она, — то есть так зовут меня в бараке…
Он сбоку смотрел на ее нос с чуть заметной горбинкой, на красивую линию подбородка.
— Почему все здесь не называют своих фамилий?
Она шла некоторое время молча.
— Разве она что-нибудь значит? Многие потеряли здесь больше, чем фамилию. Вы здесь новенький?
— Мы только позавчера приехали. — Он ожидал от нее каких-то вопросов: откуда? куда направляется? почему? Но она — ничего, молча свернула с шоссе на дорогу, ведущую к лагерю.
На него вдруг нашла тоска. Бог знает сколько на этом небольшом клочке земли живет чехов — соотечественников, объединенных одинаковым несогласием с новым режимом на родине, борющихся за равные ценности, разделяющих одну и ту же судьбу. Какие же все-таки преграды существуют между ними? Эгоизм? Равнодушие? Недоверие? А девушка справа от него была симпатичной и выглядела порядочной. Он мысленно представил себя и ее, как вдвоем бродят они между уцелевшими зданиями старого Нюрнберга, как вместе сидят в кафе, а снаружи — осенняя хлябь. Его воображение рисовало одну картину ярче другой. Не зная этой женщины, он тем не менее думал, что она могла бы помочь ему пережить первые трудные дни разочарований.
— Расскажите мне что-нибудь о себе, — вырвалось у него неожиданно.
Она остановилась, повернув к нему лицо; руки, покрасневшие от холода, энергично засунула в карманы; серые глаза ее сразу стали холодными.
— Вы шпик?
Вацлав от изумления разинул рот.
— Ради бога, что вы обо мне… какой шпик?
— В каждом бараке здесь имеется по крайней мере один такой, — отчужденность исчезла с ее лица. В этот миг он заметил обтрепанные края рукавов ее пальто, обметанные нитками несколько иной окраски. Эта мелочь его растрогала. Он всей душой стремился сблизиться с ней, но в смятении чувств утерял нить разговора.
— Что вы чувствовали, когда только-только попали сюда?
Быстро темнеющая полоса неба отразилась в ее неспокойных глазах. Катка горько улыбнулась. В уголках ее рта стали заметны скорбные складки.
— Точно я уже и не помню. Первую ночь я всю напролет проплакала. То же, вероятно, было и во вторую ночь. Ну, а потом человек начинает ко всему привыкать…
— Как долго вы здесь?
— Зачем этот допрос? — Она нервно передернула плечами.
Но он все же поймал на ее лице следы некоей благосклонности.
— Новички в Валке всегда удивительны: они как дети, потерявшие маму. — Катка плотно сжала маленькие упрямые губы и вдруг показалась ему намного старше, чем он сам. — Восемь месяцев, если хотите знать, — сказала она.
У Вацлава опустились руки, и он сделал судорожный глоток.
— Разве вы не хотите уехать отсюда?
— Хочу…
Им навстречу шли три субъекта: руки в карманах, в зубах сигаретки, воротники пальто небрежно подняты. Отпечаток равнодушия и скуки на их молодых лицах моментально сменился наглостью, как только они увидели Катку. Когда поравнялись, средний из них, рыжеватый, причмокнул и отпустил по адресу Катки пошлое замечание. Присутствие Вацлава молодчики совершенно игнорировали.
— Мерзавец! — бросил ему вслед Вацлав.
— Ну, ну, смотри у меня, как бы я не выкупал твою морду в луже, болван! — И рыжий залихватски сплюнул сквозь зубы.
Казалось, Катка на весь этот инцидент не обратила никакого внимания. Она все порывалась уйти, но Вацлав не отставал от нее.
— Мне пришла в голову мысль, — сказал он торопливо и покраснел, — что мы могли бы посидеть за чашкой черного кофе, как только я получу первую зарплату. Однако не «У Максима».
— Зачем? — Она подняла брови.
Вацлав нащупал в кармане камешек, принесенный с чешской стороны Шумавы.
— Я здесь страшно одинок. Да вы, вероятно, и сами знаете, как тяжко, если человек не может никому довериться.
Искренность его тона заставила ее на минуту задуматься, потом она слегка пожала плечами.
— Это не имеет смысла, я замужем.
Вацлав беззвучно пошевелил губами, растерянно посмотрел на ее пальтишко, обтрепавшееся у петель.
— А ваш муж?
Она явно не хотела отвечать. Вацлав понял, что ничего не достиг бы неуместной настойчивостью, и спросил лишь, в котором бараке она живет.
— До свидания, — ответила Катка с еле заметной улыбкой. — И забудьте о рыцарстве. Оно вам здесь будет только мешать. — Она ушла. Чулки ее были заштопаны на пятках, но в походке чувствовалось достоинство и изящество.
Вацлав медленно прошел через входные ворота, мимо подслеповатых, давно не мытых окон хозяйственных построек и складов и нерешительно остановился перед дверью кирпичного здания канцелярии, откуда доносился звучный голос певца. Немецких служащих уже не было, дежурный послал его в кабинет, из-за закрытой двери которого доносилась ария из «Якобинца»[47]. Вацлав постучал. Певец тотчас умолк.
— Привет тебе, брат мой! — воскликнул папаша Кодл, и его широкий подвижный рот растянулся в приветливой улыбке. Кодл смущенно топтался на месте, как будто был застигнут за каким-то постыдным занятием, и даже слегка споткнулся о складку ковра. — Когда-то я неплохо пел. Теперь уже не то, да и пою редко. Хоть в песне на миг перенесешься в любимую Чехию…
В кабинете было сильно натоплено. Папаша Кодл был без пиджака. Брюки — на подтяжках. Галстук немного приспущен. На толстой шее — капельки пота, а жирное лицо — багровое от недавнего напряжения. Кодл допил стаканчик, который держал в руке, а потом, согнав с кресла ангорского кота, сказал Вацлаву:
— Садись, дружище!
Кабинет отличался от других комнат: вдоль стены стоял широкий диван, покрытый потертым смирненским покрывалом, и радиоприемник. На окнах висели плотные шторы, в углу, возле письменного стола, маленький курительный столик. На нем сигареты, спички, пепельница. Вокруг столика — три кресла, а над ним, на стене, дешевая литография, изображавшая нагую цыганку.
— Вы приглашали меня… — Вацлав комкал шляпу в руке.
— Ну, рассказывай. — Папаша Кодл плюхнулся в кресло, задрав короткие ноги.
Вацлав, смущаясь, начал свой невеселый рассказ о неудачном визите в ректорат Нюрнберского университета. Он поведал Кодлу о своем доме, о годах учения. Много времени было упущено при протекторате, а теперь, когда Вацлаву уже двадцать пять лет — такой возраст, при котором иные уже имеют дипломы в карманах, он не может позволить себе впустую тратить невозвратимые годы!
Папаша Кодл в задумчивости теребил серебряную серьгу в ухе. Наконец он сказал:
— Нравится мне твое мужество и энтузиазм, парень. Ты знаешь, чего хочешь. Таких немного в Валке. Некоторые здесь потеряли самих себя, начали хиреть, как цветы, пересаженные в глину. От других не добьешься четкого ответа, почему, собственно говоря, они вообще находятся в эмиграции. Возможно, что они сами того не ведают. Есть здесь скептики, для которых будущее — туман. Почти все чего-то ждут, на что-то надеются. Эмиграция, мой друг, это ожидание. Однако некоторые ждут чуда, но счастье не приходит к людям, неспособным бороться.
Кодл встал. Тяжело ступая на пятки, он прошел к висевшему на стене белому шкафчику с красным крестом на дверце. По соседству с несколькими бинтами и пузырьком йода стояла бутылка с тремя звездочками. Кодл налил гостю и себе. Вацлав незаметно стер следы губной помады со своей рюмки, но от проворных мышиных глаз Кодла это движение не ускользнуло. Однако он не подал виду и продолжал:
— Вообще это кабинет начальника лагеря Зиберта, но с сегодняшнего дня я его замещаю, он опять заболел — язва желудка. Пей, коньяк мы ему вернем. Папаша Кодл еще ни перед кем не оставался в долгу.
— Я хочу выбраться из Валки, здесь невозможно жить!
Папаша Кодл, запрокинув голову, выпил свою рюмку. Потом долго фыркал и шумно чмокал мокрыми губами. Казалось, задетый последним замечанием Вацлава, он хотел было защитить лагерь, но вдруг он изменил свое намерение.
— Я ведь говорил об умении ждать. — Кодл склонил голову к плечу. — Никто не собирается прожить здесь жизнь, но нельзя же переть напролом. Куда ты денешься? — мягко сказал он. — В других лагерях не лучше, легально ты на работу не устроишься: немецким биржам труда запрещено устраивать на работу эмигрантов, пока в Западной Германии имеются сотни тысяч своих безработных.
Кот прыгнул к хозяину на колени и тихонько замурлыкал, щуря зеленые глаза. Кончиком пальцев Кодл почесывал кота, не прерывая своей речи.
— Папаша Кодл находится здесь именно для того, чтобы помогать людям поднимать голову. А ты, если меня не обманывает чутье, вполне достоин моей заботы. Первым делом, конечно, нужно пройти проверку. Без этого ты значишь меньше, чем этот кот. Затем сделаем широкий заход. Мы попросим разрешение на твой выезд в Канаду, США, Австралию. Поедешь куда захочешь. На худой конец, будешь учиться в Германии. Папаша Кодл имеет кое-какие связи. Я ничего не обещаю, брат мой, за молодца говорят его дела, а не слова. Пей! Зиберт не держит плохого вина.
Вацлав смотрел на жирное пятно на полосатой сорочке Кодла, на расстегнутые верхние пуговицы брюк. Вид у него был отнюдь не привлекательный, и все же Вацлав почувствовал какое-то облегчение. Его подкупал живой интерес Кодла к судьбе человека при том безразличии, с которым он сталкивался здесь на каждом шагу.
— Думаю, что ты, малый, хороший патриот. И ушел ты на Запад не затем только, чтобы закончить образование, но и затем, чтобы бороться против тьмы, которая поглотила нашу родину.
В единении — сила. Нигде эта заповедь так не свята, как в эмиграции. А в действительности что? Папаша Кодл не ангел, он может выпить, иногда и другой грех совершить, но, как поглядишь вокруг, сердце кровью обливается, так бы и заревел. Говоришь людям, что мы должны быть вместе, а они отвечают: «Дайте нам жратву получше!» Убеждаешь их, что уважение к себе мы можем снискать только собственной дисциплинированностью, а они орут: «Давай новые ботинки!» Да, не только герои, но и бездельники без идеалов, беспринципные, бесхребетные люди очутились в Валке. Ты в этом еще убедишься. Именно поэтому, мой дорогой камрад, я так уважаю каждого порядочного, каждого преданного человека. И мне кажется, я не ошибаюсь, видя такого человека в тебе.
— Вы действительно не ошибаетесь, — пробормотал, немного волнуясь, Вацлав.
Жабий, слюнявый рот Кодла был в каком-то непостижимом противоречии с его сердечным тоном.
— Да, да, именно поэтому я откровенно перейду прямо in medias res дела. Необходимо забрать нашу часть лагеря в чешские руки. — Папаша Кодл с таинственным видом наклонился вперед. — Зиберт, — Кодл положил ладонь на мясистый затылок, рассеянно оглянулся на аптечку на стене и понизил голос до полушепота, — дурной человек. Ну, я не знаю, я не был выселен из Чехословакии, на его месте, может быть, и я вел бы себя не лучше, но разве можно ожидать любви к чехам от судетского немца телом и душой? Зиберт ездит во Франкфурт на совещания Lagerfürer’ов[48] с американцами, «выхлопатывать» лучшие условия для эмигрантов. Представь себе, как он станет защищать интересы тех, кто отобрал у него родину, имущество, все!
Папаша Кодл сбросил кота с колен и, заложив руки за спину, стал топать по комнате.
— Кое-чего мы уже добились. У нас медпункт, чешский врач, Комитет содействия выезду за океан. Это жизненно важная организация! Да и то, что папаша Кодл, смиховец[49] до мозга костей, крещенный во влтавской водице, замещает начальника, — тоже большой успех, редкое исключение. Жаль только, что мало людей, способных это оценить. Ведь управление лагерями всюду в немецких руках.
Папаша Кодл начал сосредоточенно срезать кончик сигары.
— Твой отец был депутатом. Сам ты — интеллигент. Твоя семья раньше кое-что значила, — продолжал Кодл изменившимся голосом, носясь на ножик в руке. — Два-три свидетельства лиц, заслуживающих доверия, о том, что политические убеждения герра Зиберта во времена прежней республики были весьма подозрительны, что целых три года он сумел каким-то путем уклоняться от службы в Wehrmacht’e[50], — это, замечу мимоходом, легко доказуемый факт, — что в обстановке всеобщего психоза он, собственно говоря, был выселен по ошибке вопреки своим антифашистским взглядам и даже симпатиям… И Валка начала бы цвести, как черешневая аллея в мае!
Вацлав крепко сжал рюмку с недопитым коньяком.
— Но… я Зиберта совсем не знаю! Такое свидетельство… Я бы сказал неправду!
Папаша Кодл закурил и снова уселся в кресло. Его маленькие глазки сощурились в дыму сигары.
— Правда — сложное понятие. Искать правду и говорить правду — не одно и то же. Я верующий человек, и у меня всегда сердце сжимается, когда мне приходится лгать. Но я чувствую, что есть ложь, в которой бог не увидит греха. Разве ты скажешь смертельно больному, что он скоро умрет? А меньше всего надо считать грехом ложь, которая направлена на благо тысяч твоих близких. Речь идет о чешских людях. И хотя между ними есть и такие, которые не заслуживают жертвы, они все же наши братья. Наше великое прошлое обязывает нас, друг мой. В каждом из нас течет капля крови Коменского, Гуса, Жижки, Масарика. Для лучших сыновей Чехии, защитников наших традиций свободы, демократии и гуманизма, стоит пожертвовать частицей своей совести!
Папаша Кодл шлепнул мягкими ладонями по подлокотникам кресла и поднялся.
— Подумай обо всем этом, мальчик. Только не принимай того, что я тебе сказал, даже за малейший нажим. А главное, не вообрази, что я стремлюсь к руководству исключительно только для себя. Если даже я и стану начальником всего лагеря, то могу сразу же уступить, если нужно, это малозавидное место лучшему из вас. Важно лишь то, чтобы лагерь был в чешских руках, и руках честных.
Вацлав медленно брел к жилым баракам. Из кирпичного здания канцелярии за его спиной глухо прозвучали гаммы и вокализ…
В глубокой задумчивости Вацлав проглотил несколько ложек остывшей вечерней похлебки.
Баронесса, сидевшая напротив, заканчивала письмо. Ее перо поскрипывало, скользя по бумаге. В комнату вошел Капитан. Брошенная им от самых дверей шапка, описав дугу, пролетела прямо на нары. Ладя потер застывшие руки и стал стаскивать с себя пальто. Он казался довольным, переминался с ноги на ногу, моргал голубыми глазами.
— Знаете анекдот, как подгулявший отец шел из гостей и залез по горло в реку? «Ради бога, — кричит ему с берега жена, — где Иржичек?» — «Будь спокойна, мамочка, сына я веду за руку…»
Профессор затолкнул салфетку себе за жилет и проговорил:
— Я человек миролюбивый, но в этой комнате вылечусь от отвращения к убийству.
Баронесса не слышала его слов. Она продолжала благодарно хохотать над анекдотом Капитана, а пальцы ее крошили мелкие кусочки хлеба в суп.
Вацлав упрямо избегал смотреть в лицо Капитану. У студента не хватало для этого силы воли. Он едва слушал Баронессу, не всегда понимая ее слова.
— …какие были толки в Праге, когда Провазникова не возвратилась с лондонской олимпиады?
— А что могли говорить? — недоумевал Гонзик. — Ничего! Да я, собственно, и не знаю.
— Ее исключили навсегда из «Сокола»! Об этом объявило и пражское радио… — Но, проговорившись, Баронесса запнулась, беспокойным взглядом обвела присутствующих и высохшей ладонью стала сметать хлебные крошки со стола. — А как обстоит дело с эпидемией детского паралича в республике? — быстро переменила она тему. — «Рот-Вайсс-Рот» говорила о полутора тысячах жертв, а «Свободная Европа» — о трех тысячах! Вот как далеко зашло! Что правда, то правда — хорошо, нечего сказать, зарекомендовало себя это наше новое, социалистическое здравоохранение… А с какой миной встретили в Праге новое избрание Трумэна? — Баронесса схватила Гонзика за рукав.
Парень покраснел до ушей, не зная, что ответить. Баронесса моментально это заметила.
— Господи, в кои-то веки заполучили в барак новичков и, вместо того чтобы узнать от них какие-нибудь новости, сами должны их информировать! Ну, так я тебе отвечу, молодой человек: провал Уоллеса вызвал в Праге переполох! И то сказать, в Вашингтоне умеют разделываться с социалистами. Вам бы следовало сегодня послушать радиопередачи «Европы».
Профессор до сих пор выжидательно щурил глаза, но теперь вмешался:
— А что во Франции огромная забастовка горняков и что она перекинулась в пределы Западной Германии, тоже передавали? И о Чан Кай-ши? О том, что он эвакуировал всю Маньчжурию и отступает к Пекину?
Баронесса передернула костлявыми плечами, задрала тонкий острый нос и раздраженным резким жестом запахнула халат.
— Порой я в самом деле опасаюсь, что мы имели честь заполучить в нашу комнату выдающегося марксистского пропагандиста! Spectabilis![51]
Маркус коркой хлеба вытер миску после супа.
— Ни в коем случае! До последнего вздоха не соглашусь с коммунистами! Однако это не значит, что на вещи можно смотреть так безрассудно односторонне. Говорю откровенно, что и моей целью был социализм, но не в марксистском понимании, а такой, который вытекает из чистейшей морали и из стремления воплотить новый строй нравственных ценностей в повседневную жизнь. Социализм без циников, готовых ради своих эгоистических целей предать грядущие поколения. Только в условиях абсолютной свободы и правды мы останемся верны духу своих демократических традиций. — Глаза Маркуса светились каким-то внутренним пафосом.
— А чего, собственно говоря, вы ждете от Запада, профессор? — прозвучал резкий, деловитый голос Капитана.
— Прежде всего свежего воздуха, чтобы я мог просто-напросто дышать. Атмосферы, не зараженной неуверенностью, вечными подозрениями и демагогией. Сознания, что человеческая личность еще что-то значит. Облегчения после пережитой травли. Избавления от ощущения, что меня кто-то преследует, как лисица зайца, с определенным умыслом запугать, обессилить, затравить, а главное — настичь. Это погоня за душой. Трагедия в том, что речь-то ведь идет не о зайцах, а о большей части нации. Я надеюсь найти на Западе обстановку человеческого достоинства, братства и любви. Вот чего я жду от Запада.
Капитан начал поджаривать на плитке три кружочка колбасы, переворачивая их вилкой. Слушая профессора, он в такт его речи кивал орлиным носом.
— Приятно слушать этот показательный идеализм. Только вы быстренько от него излечитесь. Те, наверху[52], плюют на братство и любовь к ближнему. У них совсем иная любовь — доллары!
Профессор с минуту неподвижно смотрел на него поверх очков.
— Не люблю скептиков, особенно в солдатской форме. Ведь именно они должны были бы быть борцами.
— Отвечу вам для ясности. Нас здесь два сорта борцов, — Капитан иронически улыбнулся, щуря глаза. Жир со сковородки разбрызгивался через край. — У одних — голод и блохи, эти борцы не в счет, другие владеют «паккардами»; эти имеют какое-то значение, но в погоне за благами земными теряют его день ото дня. Здесь у нас не пять, а пятьдесят сыновей Сватоплука, и каждый урвал свой прут, не беда, что их можно сломать между пальцами!
Капитан выключил плитку, сковородку с душистой колбасой отнес на стол, накрошил в нее кусочки хлеба, чтобы жир не пропал зря, и с блаженным выражением уселся на своем обычном месте.
— Свой идеализм, профессор, держите при себе, иначе скоро вы станете здесь всеобщим посмешищем! — пробормотал Капитан и прислонил перед собой к солонке эмигрантскую газету «Свободный зитршек».
Вацлав отстранил недоеденный ужин.
— Это несъедобно.
— Давай сюда, — отозвалась Баронесса. — Лучше репа и картошка на свободе, чем шницель в советском раю!
Никто ей не возразил.
Вацлав залез на свое ложе и, не мигая, пристально смотрел в почерневшие доски потолка. На душе у него было муторно.
Серый мышиный зрачок Кодла, его длинный ноготь на мизинце и слова: «За молодца говорят его дела, а не слова…», «Эмиграция, мой друг, — это ожидание…», «Искать правду и говорить правду — не одно и то же…».
Вацлав чувствовал, что его одолевает усталость. Целый день сегодня он опять напрасно мотался по Нюрнбергу в поисках работы. А в прошлую ночь едва сомкнул глаза из-за сосредоточенной атаки целого сонмища клопов.
Капитан на своих нарах снова прибивал маленькими гвоздиками оторвавшуюся подметку башмака. Польская семья в углу переговаривалась шепотом, полным мягких шипящих звуков. Разговоры обитателей комнаты долетали до Вацлава приглушенными, словно он был отгорожен от них стеклянной перегородкой. Надтреснутый голос Баронессы выделялся как ведущий.
— …Только смотри, Гонзик, как бы ты и твои друзья не нахватали вшей. Это было бы несчастьем. Вы должны почаще стирать рубашки, — поучала Баронесса.
«Рубашки…» — вяло думал Вацлав сквозь дремоту, разморенный душной, сонной атмосферой барака. Две из трех его сорочек просто-напросто потерялись во время стирки в регенсбургской тюрьме. «Во что ты оденешься, пока будет сохнуть эта, последняя? — говорил сам с собой Вацлав. — Ты взял в рюкзак только самые необходимые вещи на дорогу, чтобы не обращать на себя внимание. Все, что понадобится потом, ты намерен был купить за границей. А теперь вот близится зима, и у тебя нет ничего теплого. Каким же ты был беспечным сумасбродом, не взяв из дому хотя бы полупальто!»
— Нет ли у кого почтовой марки? — ворвался в его мысли резкий женский голос.
— Кому вы опять написали? — послышался вопрос профессора.
— Еще остался в Германии с десяток фирм, у которых Баронесса слезно не просила помощи, — ответил за нее Капитан. — Каждую подачку она ухлопывает на марки. Блажен, кто верует.
— Беспокойтесь лучше о себе, чтобы вас не накрыли при ваших барахольских операциях, — донеслось из затуманенной дали.
Нестройные мысли, прерываемые мгновениями легкой дремоты, снова роились в его голове. В беспокойном мозгу опять всплывали многозначительные фразы: «Люди потеряли здесь больше, чем фамилию…», «Не пять, а пятьдесят сыновей Сватоплука…»
Вацлаву представилась обстановка «У Максима», за мраморным столиком Капитан. Он — бывший офицер чехословацкой армии, военный летчик — теперь вор!..
И все же, засыпая, Вацлав с радостным чувством вспомнил чуть-чуть раскосые глаза, темные гладкие волосы, выбившиеся из-под берета, едва заметные веснушки на скулах, очертания упругой груди под плащом, легкую походку, взволновавшую его. Вдруг ему представились вздрагивающие губы Катки, ее закрытые глаза и нежное тепло мягких рук, обнявших его шею…
Рука Вацлава под плоским соломенным тюфяком вздрогнула, как от электрического тока, а бледное похудевшее лицо расплылось в счастливой улыбке. Он уснул.
В одиннадцатой комнате укладывались спать. Только лысый череп профессора все еще светился за столом на темном фоне нар, да Гонзик все смотрел в сторону верхних нар, в углу, у окна. Ирена, сидя на сеннике, подпиливала ногти. Младшая, Ганка, наклонив растрепанную белокурую голову над консервной банкой, вылавливала последние куски тушенки и ела без хлеба. Аппетитный запах свиного сала распространялся под потолком.
Капитан, починив свой ботинок, вытащил из портфеля ломоть хлеба, отрезал кусок и накрыл ломтиком сыра. Заметив склоненную над столом лысину, Капитан перестал жевать, отрезал еще один кусочек хлеба, новый ломтик сыра и молча положил на стол. В этот момент шелковый безголовый павлин неслышно уселся на нижних нарах Капитана. В сумраке комнаты Гонзик увидел пылающий, выжидательный взгляд Баронессы. Профессор же, едва приподняв голову от книги, сказал:
— Благодарю! Вы очень любезны, Капитан, но я есть не буду. Гамсун когда-то так впечатляюще описал голод, потому что сам голодал. И мне не вредно познакомиться с этой особенностью жизни в Валке. Когда я попаду в Совет, мой голос среди сытых зазвучит убедительнее, если я познаю голод.
Капитан задумчиво пожал плечами. Глаза Баронессы светились, как два уголька. Капитан не мог не заметить этого алчного взгляда. Хмуро, молча, глядя куда-то в сторону, он протянул руку с бутербродом. Гонзик видел, как челюсти Баронессы, соблюдавшей приличия, быстро, без всякого чмоканья пережевывали кусок хлеба с сыром. Он не знал почему, но когда старая женщина кончила есть и не спеша легла навзничь, он вздрогнул, как от озноба.
Шлепая босыми ногами, Капитан подошел к выключателю. Он молча переждал, пока Ирена красила губы, и погасил свет. Гонзик, лежа одетым на сеннике, мог теперь без помех наблюдать за Иреной: полоса света, проникавшая через окно от уличного фонаря, освещала ее, и юноша мог любоваться нежным профилем, подбородком и выразительной линией ее губ. Ирена на ощупь поправляла прическу. Колеблющаяся тень от ее груди то нелепо увеличивалась на стене, то вновь сокращалась. У Гонзика пересохло в горле. Как похорошела Ирена в этом бледном потоке света! Парень почувствовал, как холодок пробежал по горячим ладоням, дыхание его стало частым, он старался не моргать из-за безотчетной боязни спугнуть это видение. Временами он чувствовал укусы то в бедро, то в живот и неистово тер эти места через одежду, думая, что так можно убить насекомое.
Вскоре две тени спустились с нар. Две пары туфелек простучали по направлению к двери, а потом дробью отозвались в коридоре. Гонзик, как ласка, соскользнул на пол, наспех обулся и на цыпочках выбрался наружу. Неотступно, как тень, он крался следом в ста шагах, дрожа от страха, что они обернутся. Но девушки шли прямо к воротам. Ирена была на полголовы выше. Ее тонкая талия и широкие плечи и теперь волновали Гонзика.
Гонзик прошел в ворота за девушками. Холодный ночной ветер пронизывал его насквозь. Молодой месяц, выбравшийся на чистый кусок неба, в бешенстве бросался на облака, рвал их в клочья своими острыми загнутыми краями. Автобус на главном шоссе отошел от станции в город и открыл стоявшую за ним группку людей. Гонзик замер на месте: знакомые силуэты девушек и тут же брюки, внизу стянутые гетрами, пилотки американской пехоты. Гонзик стоял в тени клена у края дороги, во рту у него пересохло, ноги ослабели. Подошел автобус. В потоке света, падавшем из квадратных окон, Гонзик увидел белокурые взлохмаченные волосы Ганки. Она повисла на руке одного из солдат, тот повернул к ней веселое лицо: оно было черным! От глубокого волнения Гонзик никак не мог разглядеть Ирену. Наконец ему показалось, что он увидел ее упругую икру в разрезе юбки, когда девушка ступила на подножку автобуса. Тут же Гонзик заметил пилотку, энергичное, радостное движение руки солдата, вскочившего в автобус вслед за Иреной.
Группка людей шла навстречу Гонзику. Он в замешательстве ретировался поближе к порогам лагеря, а когда прохожие миновали его, снова вернулся на свой наблюдательный пункт, занимаясь мучительным самоистязанием. Автобус уже ушел. Какая-то незнакомая девица осталась на станции. Судя по жестикуляции и обрывкам разговора, Гонзик понял, что она препирается со своим черным партнером. Негр улыбнулся, показывая крупные белые зубы, обиженно развел руками и вытащил из кармана банку мясных консервов. Девица успокоилась. Солдат подхватил ее под руку, и они медленно ушли в темноту по направлению к городу.
Гонзик обнял ствол дерева, прижал лицо к шершавой коре и зажмурился. Постояв, он уныло побрел обратно к воротам лагеря, спотыкаясь на ровной дороге. Сердце его до сих пор билось так, что стук его отдавался где-то в пересохшем горле. Во рту стояла горечь. Навстречу Гонзику двигались новые девичьи тени, но он поднял воротник плаща и ничего не хотел замечать. Необъяснимый стыд вдавил его голову в плечи, у него не хватало мужества посмотреть на девушек. Гонзик не помнил, как очутился на нарах. Он страшился взглянуть на то место, где еще так недавно Ганка доедала заработанные ночью консервы. Паренек прижал ладони к глазам, что-то горячее подступило к горлу, давило грудь, и вдруг из глаз его брызнули слезы.
Гонзик уткнул заплаканное лицо в грязный сенник, пахнувший старой, истлевшей соломой. Обветренные, загрубелые губы Гонзика помимо его воли механически, прерывисто шептали слова, которым когда-то давно учила его мать и которые он уже почти позабыл:
«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим…»
Он оборвал молитву на полуслове, сжал маленькие кулаки и стиснул зубы. И душа его тоже будто сжалась, ее тоже зажали в кулак в надежде, что она оденется панцирем, под которым он спрячется, подобно черепахе, перед жгучей болью от только что пережитого.
Долго оставался Гонзик в таком напряжении; ему казалось, что ужасные впечатления сегодняшнего вечера сделали его сердце жестче.
А Вацлав около него тихо дышал, улыбаясь во сне.
6
Низкий барак на кирпичном фундаменте, отличающийся от остальных бараков только надписью над дверями: «Чешский комитет».
Юноши вошли. Пышнотелая блондинка, сидевшая у конторки, бесшумно повернулась к ним на вращающемся стуле.
— Добро пожаловать, братья! — Круглолицая дама улыбалась, но ее невыразительные водянистые, почти без ресниц, глаза остановились лишь на Ярде. — Садитесь, пожалуйста, чтобы не лишить нас, как говорится, приятных сновидений. Не подумайте, что мы тут в комитете, извините за выражение, спим. Много спать — дела не знать. — И она звонко рассмеялась.
Вацлав с горячностью объяснил, что они хотели бы выехать за океан.
— Вот незадача, ребята! Всего две недели назад была здесь канадская вербовочная комиссия. Если бы вы явились тогда, все бы устроилось быстрее. Ну, ничего! Зарегистрируйтесь, и вы тоже дождетесь. Так куда влечет вас жажда приключений? В США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию, в прерии, в аргентинские пампасы? Весь мир открыт перед вами, братья, да, весь мир! Только о России не мечтайте, тут мы не смогли бы помочь вам. — И женщина поперхнулась смехом.
Неуклюже ступая, дама вышла из комнаты и вскоре вернулась с коробкой видовых открыток.
— У нас есть выбор и обслуживание, как в лучших магазинах Запада. Это не то, что в социалистическом секторе нашей любезной родины, где продавец сначала минут шесть пялит на вас глаза, будто не понимая, по какому праву вы его беспокоите, а потом повернется к вам спиной и уйдет в клозет. Для нас клиент — наш господин.
Она разложила перед ребятами стопки фотографий.
Озеро Онтарио с белыми яхтами. Лов лососей на Юконе, гора Мак-Кинли в просвете между причудливыми ветвями канадской сосны.
Статуя Свободы на фоне внушительных контуров Манхеттена, Ниагарский водопад, медведь с подносом в лапах у входа в Йеллоустонский парк, Белый дом в Вашингтоне, индеец, украсивший голову перьями. Его орлиный взгляд устремлен в бездонную глубину колорадского каньона.
Пастельные цвета, очарование экзотики, все красоты огромного мира.
— Предельный возраст для выезда в Канаду — сорок пять лет, в Соединенные Штаты — пятьдесят, но это, братья, не может вас печалить, — из накрашенного сердечком рта госпожи начальницы сыплются слова и улыбочки. — Непременное условие — политическая благонадежность, честные намерения и хорошее здоровье. Крепкие мускулы в дополнение к этому — совсем не помеха. — Мадам пощупала бицепсы у Ярды и одобрительно покачала головой. — Консульства отдельных стран проверят ваши данные только формально.
— А как долго это может тянуться? — спросил Вацлав.
Дама провела пухлой ладонью с большим перстнем по ребру стола.
— Не буду вас обманывать. Вы, наверно, и сами понимаете, что за океаном совсем не заинтересованы в коммунистических агентах, спрятанных под овечьей шкурой эмигрантов. Пройдет каких-нибудь полгода, ребята, и ваши души обретут крылья! — Заметив глубокое разочарование на лице Вацлава, мадам добавила: — Кое-что, конечно, зависит от моего мужа и, возможно, даже от меня. — Она вспыхнула и начала зачем-то поправлять кудряшки густых золотых волос над низким лбом.
Ярда просматривал последнюю стопку фотографий. Дама медленно приблизилась к нему.
— Вот чудесный уголок на земле! — Она постучала по открытке длинным накрашенным ногтем, с которого облупился лак. — Горячие гейзеры, тропическое море, а в двух часах езды поездом — катанье на лыжах под горным солнышком! Нигде, кроме Новой Зеландии, вы этого не найдете.
— Но мы ищем работу, пани…
— Пани Ирма. Так зовут меня все обитатели лагеря.
Ярда немного попятился от острого, едкого запаха пота.
— Речь идет не только о работе. — Ирма наклонилась над прилавком, и вырез ее блузки неодолимо притянул взгляд Ярды. — Важна ведь и обстановка, в которой человек будет жить. Почему бы не соединить необходимое с прекрасным? Взять хотя бы ту же Австралию. Сегодня тут будет демонстрироваться фильм «Гремящие стада». Я пойду на эту картину в третий раз. Непременно сходите и вы. Но учтите, народу будет много. Будь я мужчина, я избрала бы Австралию. — И пани Ирма звучно щелкнула языком. — Так куда же все-таки мы запишемся, друзья?
— В Соединенные Штаты. — Вацлав сгреб в кучу открытки, обменявшись взглядом со своими товарищами.
Пани Ирма театрально подняла брови. На верхней губе у нее блестели капельки пота.
— На США слишком много заявок Больше надежды попасть в Канаду, имеются шансы поехать в Австралию. Но лучше все-таки записаться в Канаду. — Она доверительно понизила голос. — Пройдет время, и вы добрым словом помянете пани Ирму за совет. Конечно, многое зависит от того, где вы хотите работать, но в сельском хозяйстве, как правило, работа там находится для каждого.
— Я хочу изучать медицину. — Вацлав умоляюще посмотрел на пани Ирму, как будто она могла спасти его.
— А большинство эмигрантов хочет заработать деньги, — пани Ирма громко рассмеялась. — Ах, медицина! Мой муж всегда мечтал изучать медицину, — дама задумчиво покачала головой. — Как жаль, что ему не удалось! «Карличек, — говаривал ему классный наставник, — люди с такой головой, как твоя, должны идти в медицину! Доктора нужны народу!» Теперь вы видите, как нужны народу доктора! Они затравили и выгнали его, как собаку! Но вам, вероятно, придется делать два дела, — пани Ирма по-приятельски сняла соломинку с рукава Вацлава, — сначала зарабатывать, а потом учиться. Вот если бы вам удалось попасть в Париж, тогда другое дело. Там в университете как будто есть какое-то отделение для эмигрантов.
Пани Ирма раздала клиентам регистрационные бланки.
Гонзик едва слушал водопад ее слов. Он, наклонившись над барьером и близоруко сощурившись, разглядывал новозеландские гейзеры, бешеную крутизну Корковадо над заливом Рио-де-Жанейро, широкие просторы пампасов, окаймленные белоснежными горами Анд вдали, и шакала Могавской пустыни, воющего на закат недоступных природе тонов. Один бог ведает, как сюда попало изображение красотки с острова Бали, снятой на манер голливудских «кинозвезд» — с огромным венком из белых цветов, из-под которого виднелась обнаженная грудь. Этой фотографии Гонзик уделил больше всего внимания и в конце концов отложил ее в сторону.
Он совсем забыл о своих товарищах и о пани Ирме. Приятное тепло натопленной комнаты разморило его. Неласковая действительность последних дней чуть не выбила из Гонзика веру в существование выдуманного им мира далеких знойных стран и необычайных приключений. Но сейчас он держал этот мир в своих руках! Это не надувательство, ведь на каждой открытке с обратной стороны написано, виды какой страны на ней изображены; эти открытки продаются во всех магазинах. Можно своими собственными ногами встать на то место, где фотограф щелкнул аппаратом. Нужно только заполнить несколько граф в анкете и потерпеть месяцев шесть. Почему, в самом деле, не соединить необходимое с красотой, как говорит пани Ирма?
В тот миг, стоя у захватанного барьера, Гонзик почувствовал в себе непреодолимую силу, огромную решимость. Завлекательная, «а-ля Голливуд» полинезийка была самым живым воплощением того, что называлось Западом. Гонзику даже стало жаль расплывшуюся пани Ирму, которая, находясь здесь среди всех этих красот, вероятно, никогда не выберется далее Нюрнберга.
Высунув кончик языка, поминутно заглядывая в анкету Вацлава, Гонзик заполнял бланк с просьбой направить его на работу в Канаду. Его, конечно, влекло в страны Тихого океана, но он не мог записаться в иное место, чем Вацлав. Вацлав — его опора, ангел-хранитель. К тому же в конце концов это все равно. Все красоты мира так или иначе находятся за морем, а Европу он уже узнал в регенсбургской тюрьме, в Мюнхене и по пути в Нюрнберг. Ничем в общем она не отличалась от его родины; от Европы он ничего не ждет. Вот если он выберется за океан, тогда можно будет путешествовать по Юкону, Колорадо или Амазонке Но пока нужно держаться за Вацлава.
В комнате было натоплено до нестерпимой жары. Гонзик прикидывал, как бы прихватить полюбившуюся открытку с полинезийкой, но взмокший от жары Вацлав настаивал на немедленном уходе.
— Я и мой муж, мы оба будем стараться сделать для вас все, как для своих родных детей. Много чешских патриотов за океаном вспоминают нас добрым словом. Я была бы очень рада, если бы и вы в скором времени оказались среди них. Но когда это случится? Только не в нашей власти определить этот срок. Те, которые были согласны на любые условия, обычно слишком долго не ждали. А обстоятельства и условия заранее предвидеть нельзя. Смотря по тому, в чьи руки в консульстве попадет ваше дело. Мы работаем с людьми, и сами мы — люди. Тут уж ничего не поделаешь, — пани Ирма без видимой причины рассмеялась. — Теперь пройдите рядом, в Fürsorge[53] — сказала Ирма. — Медвидек изготовит вам фотокарточки, утром вы принесете их сюда.
Вошел почтальон и почтительно снял с головы синюю фуражку.
— Заказное письмо для папаши Кодла. В канцелярии я его не нашел.
— Муж в Мюнхене, в командировке. Дайте письмо, я сама распишусь.
Изумленный Вацлав выпустил ручку двери, а у Ярды поднялись кверху брови.
— Так прощайте, молодые люди, и запомните, что в пани Ирме вы можете видеть маму, хотя по возрасту она для такой роли еще молода, — жеманно заворковала пани Ирма и дружески протянула через барьер руку Вацлаву. Ладонь Ярды она продержала в своей руке на секунду дольше. — Жаль, что мой именно сегодня в отъезде. — Пани Ирма пристально и обещающе посмотрела на Ярду и целомудренно опустила глаза.
Слабый морозец неприятно пощипывал влажные от пота лица и заставил юношей спрятать руки в карманы. Песок скрипел под ногами Вацлава, который шел, низко опустив голову.
— Кодл — папаша лагеря, фрау Ирма — мамаша. Ну что ж, хорошие родители — фундамент семьи, — заключил Ярда, нервно приглаживая растрепавшиеся на ветру волосы.
Медвидек сразу узнал Ярду. Фотограф усадил Вацлава, затем и Гонзика перед двумя потрескивавшими рефлекторами, тараторя через пятое на десятое всякую чепуху. Озадаченный Вацлав, испытывая какое-то незнакомое ранее чувство ненависти, обратил внимание на длинные тонкие пальцы Медвидека, на его бабий, толстый, низко посаженный зад.
— Вы уже свободны, хлопцы, — обратился Медвидек к Вацлаву и Гонзику.
Но они не спешили уходить.
Медвидек долго усаживал Ярду, поворачивая его туда и сюда, похлопывал по плечу, хватал за подбородок. Ярда, наконец, не выдержал и дал ему по рукам.
— Делай дело, а то в морду дам, свинья!
Маленькие глазки за очками виновато заморгали. Медвидек нажал кнопку, перевел пленку в аппарате и метнул на Ярду грустный, какой-то умоляющий взгляд.
Молодые люди опять очутились на сыром, леденящем ветру. Гонзик брел в стороне от товарищей. Перед его глазами до сих пор проносились окрашенные в пастельные тона видения далеких стран, полуобнаженная девица с вызывающе закинутыми за голову руками. Ему представилась в этой же позе Ирена. Девушка на открытке чем-то напоминала ее.
Внезапно в его воображении возникла другая картина. Он зримо представил себе черные руки на белых плечах Ирены, на ее шее, груди… Гонзик зажмурился, его охватило тупое безразличие. Спотыкаясь, добрел он до своей комнаты. Усилием воли ему удалось заставить себя не взглянуть на верхние нары у окна, где виднелось свернувшееся калачиком тело Ирены.
Гонзик уселся за стол с книгой Бромфилда, которую ему дал Капитан. Но строки прыгали перед его глазами. Наконец он убедился, что вообще не может понять того, что читает.
Гонзика очень занимал вопрос: видел ли Капитан те самые открытки, когда, как и они сегодня, заполнял анкеты на выезд? Капитан, вероятно, собрался ехать в Канаду, Новую Зеландию или Австралию. А сегодня, по истечении девяти месяцев, он ходит по ночам на воровской промысел в нюрнбергском предместье. Гонзик хотел бы обо всем этом поговорить с Капитаном, но у него не хватало смелости, не было сил разрушить воздушный замок, который воздвиг он для себя. Возможно, в будущем башни этого замка рухнут сами собой, но зачем ему сокрушать все это прежде времени? Горькая правда будто бы лучше розовых надежд, но эта истина хороша для тех, кто каждый день ходит на работу в чистом воротничке, после хорошего завтрака. В Валке предпочтительнее беспочвенные мечтания — горьких истин здесь пока больше, чем нужно.
7
Ярда, засунув руки в карманы плаща, бродил по улицам Мерцфельда. Полчаса тому назад он просто-напросто удрал из лагерной команды, куда его сегодня в первый раз назначил Пепек. Нужно было копать глину, уже скованную первыми заморозками, подавать голыми руками кирпичи или таскать балки, и все это за несколько пфеннигов, да еще на голодный желудок. Что он, дурак!
Пустынные, как всегда в предобеденные часы, улицы предместья нагоняли тоску. Низко над крышами с ревом проносились истребители с белыми звездами на крыльях. Временами с большой высоты доносился мгновенно нарастающий и затихающий вой реактивных самолетов.
Ярда остановился перед витриной мясной лавки. За плохо вымытым стеклом красовался пыльный глиняный поросенок с головой, напоминавшей морду пса. В строгом ряду висели несколько колбас в упаковке из черной бумаги. Тут же было объявление, предлагавшее по сходной цене скрипку. Ярда проглотил слюну. Ему казалось, что и сквозь стекло он обоняет божественный аромат колбасы. Его охватила слабость, желудок сжали голодные спазмы. Чтобы отвлечься, молодой человек старался думать о приятных вещах. Ну, хотя бы о щедрых на любовь девицах из «Трех викингов» или вообще ни о чем не думать. Однако его неотступно преследовало навязчивое видение мюнхенского отеля для подследственных Си-Ай-Си[54]. Ростбиф с зеленым горошком, омлеты, черное баварское пиво, кофе и обворожительное шуршание новеньких марок в кармане. Эх, какие то были времена! «Запомните… только здесь и нигде больше решается ваша дальнейшая карьера…» — вспомнились Ярде слова Франты.
Перед глазами Ярды возникла жующая челюсть боксера, крикливый синий галстук с Ритой Хейворт в желтом овале. А ведь это житье могло продолжаться и теперь, если бы… Что, если бы? Черт возьми!.. Почему родина причинила ему так мало зла? Правда, его там лишили возможности быть шефом на самом пороге шикарной жизни. Но почему-то потом его не преследовали, не отравляли жизнь на каждом шагу. Зачем-то они не вели себя так, чтобы он, Ярда, ненавидел их всей душой. Тогда, возможно, он не захлопнул бы за собой двери в кабинете симпатичного американского комиссара.
Ярда вспоминал: кривая усмешка, слюна между редкими зубами Франты Апперкота и его слова: «Из вашей троицы я верил лишь в тебя одного. Не хочешь, болван, дело твое! Но я все же думаю, что мы свидимся!»
Дурацкие предрассудки, нелепые оглядки на эту карликовую страну; невидимое, но все же непреодолимое препятствие, для которого люди выдумали название «совесть». Шестьсот марок в кармане, костюм из английского материала, квартира в особняке. Вот что имел бы он сейчас вместо того, чтобы стоять тут, прижавшись носом к стеклу запыленной витрины. Зато он может сказать себе: «Выдержал характер!»
Паршивенькая столовая в их авторемонтных мастерских! Громкие жалобы, что мало мяса, что оно жилистое, и даже на то, что на столах нет бумажных салфеток, но, боже милостивый, сколько же там было жратвы! Четырнадцать ломтей кнедликов с укропной подливкой съел Ярда еще за день до того, как лопнула его афера с продажей полуосей, сделанных «налево»!
Что делать? К сожалению, он не уличная девка, которая может питаться консервами без хлеба. Но ведь и некоторые парни…
Ярда остановился над открытой траншеей. Рабочие в измазанных спецовках укладывали газопровод, поодаль шумел автогенный резец. Ярде в нос ударил противно-сладковатый запах сырой земли и просачивающегося светильного газа. Носком ботинка Ярда сбросил комок глины в траншею: что-то все же должно произойти! Он, всегда имевший прекрасный нюх на то, где можно хорошо заработать, долго ли еще будет с изумлением смотреть на тех, других, которым, кажется, деньги сами идут в руки! Содержимым пепельниц в клубе американских офицеров сыт не будешь. К тому же швейцар на третий раз уже вытолкал Ярду взашей.
Грузовик протащил на тросе поврежденную легковую машину. Ярда еле увернулся от фонтана воды, когда колесо грузовика проломило тонкий ледок на луже. Обе машины въехали в ворота. Ярда побрел туда же. Обширный двор, отремонтированные автомобили рядом с поломанными машинами всевозможных марок. Знакомая обстановка: кислый запах железа, бензиновых испарений и промасленных спецовок. У Ярды даже зачесались ладони — ведь он же автомеханик! — и заныло сердце: здесь было совсем как в его бывшей мастерской. Тот работник — механик, которого Ярда вместе с Тондой нанимали в конце сорок седьмого года, — знал толк в ремесле, но они не спросили его, в какой он партии. А зря. Едва он успел принюхаться, сунуть нос в каждую дырку — и бац! Через две недельки после февраля господин механик предъявил бумажку: «Комитет действия назначил меня, господа, временным управляющим мастерской. С этого момента вы не имеете права распоряжаться деньгами, а книгу ваших левых доходов, которую вы называете «торговой», выложите, пожалуйста, вот сюда».
Не прошло и четырех дней, как оба молодых шефа — Ярда и Тонда — отправились к верстакам, на разные предприятия; так устроили те…
Но все это теперь уже где-то далеко-далеко, в безвозвратном прошлом. Однако заглянем в сегодняшний день. Что же это стало с настоящим, будь оно трижды проклято? Ярда иронически скривил губы. Где же красный лак и сияющий хром, гараж с женским обслуживающим персоналом?! Кажется, всего этого достичь будет не так-то просто.
Только что поставленный на шасси и впервые пущенный после капитального ремонта мотор страшно стучал.
— У него очень большое опережение, — не удержался Ярда.
Рабочие оглянулись на Ярду.
Он припомнил жаргонные словечки, бытовавшие в мастерской, и, применив жалкие познания немецкого, сказал:
— Gross — Vorzündung!
На него смотрели недоверчиво и позвали мастера. Тот смерил непрошеного гостя сердитым взглядом, вынул изо рта чубук и усмехнулся.
— Чем можем служить, господин? Отрегулировать тормоза, отшлифовать или сделать капитальный?
В лице, заросшем редкой седой щетиной, в узких щелках глаз — злорадство.
— Ищу работу. Я специалист, знаю все марки автомашин и ваши тоже — все.
Прищуренные глаза мастера мгновение ехидно смотрели в покорное лицо Ярды.
— Tschechen, was?[55] Из Валки? Ну, конечно, именно из того сброда! So a Gesindel! Я на третий же день недосчитался бы половины инструментов. Убирайся подобру-поздорову, и чем скорее, тем лучше! Raus, raus, raus[56]. — Немец выразительно показал рукой на выход.
Так как Ярда минутку помешкал, то мастер без всяких церемоний схватил его за плечо и стал выталкивать вон.
Ярда сбросил его руку со своего плеча.
— Я не какой-нибудь вор! А орать вы можете на своих подмастерьев!
Ярда с возмущением оглянулся, подергивая плечом, чтобы поправить задравшийся воротник. Мастер, посасывая чубук, встал в воротах, глаза его были сощурены так, что оставались лишь узенькие щелочки. Круглое лицо мелко тряслось от довольного язвительного смеха.
За ближайшим углом Ярда злобно оглянулся.
— Хохочешь, как болван, но смеяться последним буду я! — Ярда не удержался и подпрыгнул на одной ножке, как мальчуган.
«Джип» с длинной хромированной антенной, с четырьмя пассажирами в белых шлемах американской военной полиции тихо ехал по улице. Патрульные на задних сиденьях высматривали пешеходов в военной форме. Ярда улыбнулся.
— Наконец-то, наконец-то!..
Резкие звуки оркестриона, вырвавшиеся сквозь приоткрытую дверь, ударили в уши. Вчерашняя девица украсила сегодня свою увядшую шею черной бархатной ленточкой. С профессиональной улыбкой на устах женщина уныло бродила между столиками. На ее лице можно было прочесть заведомое сознание неудачи. Каждый, кому перепадала марка-другая, думает сперва о куске мяса, а не о любви. Ярда осторожно осмотрелся. Правую руку он судорожно сжимал в кармане брюк, как будто боялся, что кто-то лишит его первого неожиданного успеха.
Худой человек сидит на высоком стуле, склонившись над стойкой бара. У него сплюснутый череп, выпученные глаза. На губах бессознательная, застывшая улыбка, нагонявшая бог весть почему страх. Ярда обратился к нему:
— Я хотел бы купить универсальные клещи. Сколько могут они стоить, коллега?
Колчана с недовернем посмотрел на него.
— Это дефицитная штука, — кивнул он понимающе. — Марок двадцать пять — тридцать, дешевле не достать.
Ярда подошел к компании на другом конце зала. На столе перед каждым — черный кофе и двойная порция рома. Стало быть, люди солидные.
— Клещи не купите? У них изолированные ручки. Тридцать пять марок, и ни на грош дешевле.
Пять минут переговоров, перебранки и смятые марки в кармане у Ярды. Он заторопился к выходу, но бархатная ленточка внезапно приблизилась к его уху.
— Заработал! — В шепоте проститутки чувствовалась наигранная радость. — Отпразднуем, Джонни? Ой, какие у тебя чудесные волосики…
Ярда упрямо пробирался к выходу. Выпученные глаза повернулись в его сторону, и он услышал слова Колчавы:
— Лопух! Мог бы получить самое малое сорок…
Но Ярда не слушал. «Тридцать марок», — выстукивало его сердце. «Тридцать марок», — звоном отзывалось в ушах. Ощущение победы щекотало ладони: он прорвал темный круг неизвестности, прочно ступил на первую ступеньку пути, ведущего вверх. Теперь уже дело как-нибудь пойдет. «Куда вам до меня, взбалмошный студентик и неженка Гонза, считающий себя искателем приключений и ревущий в подушку из-за одной-единственной девки! Вам ли тягаться со мной?»
Колбасы висят за стеклом, как ровный строй солдатиков. Даже на противоположной стороне улицы чувствует Ярда дивный запах колбасы!
Из лавки Ярда помчался что есть духу, пряча под плащом пакет, а в сердце — дикую радость. Минута — и он будет в раю! Он сделал порядочный крюк, чтобы обойти стороной автомастерскую, вбежал в ближайшие развалины, шлепнулся на огромную осыпь. Засохшие стебли репейника и лебеды касались его плеч, укрывали его, как густой лес. Ярда с жадностью стал пожирать свою манну небесную. Дешевая колбаса была перчена и как бы напитана водой. Ей далеко было до пражской, но все-таки это душистое мясо! Челюсти Ярды работали, как жернова. Он откусывал прямо от еще теплой буханки хлеба. После голодных дней душа его наконец переполнилась блаженным ощущением сытости. Ярда закурил сигарету, мир снова стал для него светлым и бесконечно великим, хотя и был сейчас ограничен полуразрушенными стенами дома. В огромной дыре, которую бомба проделала в крыше дома, по ярко-синему небу плыло белое облако. Среди развалин стояла мертвая тишина. Ярда рыгнул и нащупал в кармане остатки денег: почти пятнадцать марок! Эге, завтра «У Максима» он заставит побегать того генерала в белом фартуке. Ярда цыкнет, и господин полководец быстренько принесет ему горячую сардельку, черный кофе с ромом да еще учтиво поклонится. Ярда, возможно, бросит ему двадцать пфеннигов, и генерал поймает монету в воздухе, как пес.
А то можно на десять марок угостить себя девкой. Платят будто бы двадцать пять, но которая поголоднее — та пойдет и за десять.
Ярда оперся спиной о каменную стену, широко раскинул перед собой ноги и сладострастно зажмурился. Влезть ночью на нары к Ирене, а потом во всех подробностях рассказать Гонзику, как было дело! Сосунок еще повесится из-за этого на собственном ремне, олух эдакий! Ярда живо представил себе Гонзика, его голубые доверчивые глаза. Этот так же подходит для Валки, как монашка для кафешантана.
Мимолетно, словно из дальней дали, отозвалась совесть. Дома, когда он работал на фабрике, Ярда однажды достал приятелю полуось к автомобилю. Тот прилично заплатил, а на фабрике даже ничего не заметили. В конце концов чего ради он, Ярда, должен был экономить материал для коммунистов? За то, что они в самом начале пресекли его карьеру, которая могла бы быть блестящей!
Через неделю тот человек пришел опять. Кому-то снова потребовалась полуось. И Ярда незаметно оказался втянутым в какой-то водоворот. Деньги потекли сначала ручейком, а потом полились рекой. Казалось, он снова получил половину своей мастерской. Только форма деятельности немного изменилась. Но в один прекрасный момент он почувствовал, что водоворот начал тянуть его книзу и нет никакой возможности выплыть из него. Уже тогда он начал понимать, что эти дела не закончатся так невинно, как начались.
А теперь… Теперь опять начинается как будто бы невинно. Правда, прошлый раз он начал это просто так, денег у него и без того было достаточно, но теперь речь идет буквально о том, чтобы не голодать. Совсем иное положение. Да что говорить, каждый второй в Валке поступает так же!
Вспомнилась Анча — в тот последний вечер она шла молча, между ними постепенно возникало какое-то странное отчуждение. Ее испуганные глаза как-то виновато и странно смотрели на него, шевельнулись бледные губы, и чужой робкий голос произнес: «Ярда, мне кажется… у меня будет ребенок…» — «От кого? — отрезал тогда он. — Тому и говори, кого это касается!»
Перед его глазами встало ее лицо, как-то сразу пожелтевшее и состарившееся, ее задрожавшие губы.
Какая бессмыслица! Она, может быть, ошибалась, и с нею ничего такого не стряслось, но если бы даже это и случилось, то две тысячи на доктора он, конечно, мог бы раздобыть. Он не скряга какой-нибудь!
Похвалив себя таким образом, Ярда широко улыбнулся и встал. Засунув руки в карманы, он направился в лагерь. Пройтись по морозцу с полным желудком было весьма приятно.
Гонзик лежал на нарах и читал вслух корреспонденцию из газеты «Свободный зитршек» — свидетельство двух перебежчиков из Словакии о том, как после месяцев угнетения они наконец вздохнули свободно, когда перед ними приветливо раскрылись ворота Валки. Вацлав лежал около Гонзика, заложив руки под голову, и молча смотрел в потолок.
Войдя, Ярда остановился, широко расставив ноги, разломил остаток колбасы на две части и, обернув газетой, бросил вместе с хлебом.
— Ешьте вы, голодранцы!
Те вскочили.
— Откуда?..
— Ешьте да помалкивайте!
Гонзик со зверским аппетитом вцепился в колбасу. От окна к их нарам обратились блестевшие жадностью глаза Баронессы. Комната наполнилась запахом колбасы, и даже польская семья прекратила свои разговоры. Маленький Бронек громко проглотил слюну. Потом у него вдруг затрясся подбородок. Он судорожно схватил за руку безучастную мать, сунул лицо в сенник и разрыдался. Гонзик понял все, но отвернулся. Голод заглушил в нем в эту минуту все остальное.
— А все-таки где ты достал? — спросил Вацлав.
— Какое тебе дело?
— Я хочу знать.
Ярда блеснул белыми зубами и сунул руки в карманы.
Вацлав перестал жевать.
— Ты нашел работу?
Ярда отрицательно качнул головой.
— Ты… — У Вацлава бессильно опустились руки, глаза сузились, он побледнел.
Ярда оскорбленно поддернул брюки.
— Я тоже мог бы валяться на нарах и ждать чуда!
Вацлав не спеша слез с нар и завернул в скомканную газету остаток колбасы и хлеб, которые ему дал Ярда.
— Болван! — воскликнул Ярда, вспыхнув. — Человек заботится о товарище, от собственного рта отрывает для него последний кусок, а ты морду воротишь, безмозглый дурак!
Гонзик растерялся. Он держал в руке остаток колбасы. Теперь уже все равно, к тому же даже в мыслях он не мог бы себе представить, как бы он отказался сейчас от колбасы, и незаметно впихнул ее себе в рот.
В комнате наступила тишина. Только Мария, дочь Штефанских, сухо покашливала да Бронек всхлипывал в углу. Мать прикрикнула на него, он не угомонился.
— На вот, по крайней мере, будет от чего реветь! — И мать закатила ему пощечину.
Мальчик, отшатнувшись, ударился головой о подпорку нар и закрыл лицо руками. В широко раскрытых глазах его стояли слезы от несправедливой обиды.
— Я не для того бежал из Чехословакии, чтобы позорить чешских людей! — ответил Ярде Вацлав. При этом его тонкие желтые ноздри вздрогнули. — Можешь это отдать кому-нибудь другому. — И Вацлав протянул Ярде колбасу.
Яркие павлины халата Баронессы слегка приблизились к месту действия.
— С ума сошел! — Ярда демонстративно откусил кусок колбасы, возвращенный Вацлавом.
Баронесса стояла тут же, подобная шакалу. Ее подбородок с черными волосиками судорожно дрогнул. Вацлаву эта женщина показалась вдруг невыносимой, и он резко отвернулся.
Дешевая колбаса, которая вызвала такой разлад, камнем лежала в желудке Гонзика. «Неужели не остается ничего иного, — думал он, — как примириться с мыслью, что всякая надежда, всякий маленький успех в этом мире лишений, зависти и свободы приобретает горький привкус полыни?»
Из комнаты Пепека долетали звуки радио. Ярда, повернувшись лицом к окну, доел последний кусок возвращенного дара, пнул ногой скомканную бумагу и захлопнул за собой дверь.
В седьмой комнате Пепек насыпал в деревянную солонку соль.
— Ты где был? — поднял он голову, когда Ярда вошел. — Утром я назначил тебя в команду! — Пепек говорил вяло, будто через силу.
Ярда удивленно заморгал глазами, потом развеселился.
— Ты что, рехнулся? Мы не солдаты.
— Из каждого барака шел один. За тебя пришлось работать мне!
— А ты бы начхал на это.
— Я старший в бараке, и у меня соблюдай порядок или катись отсюда!
— Идиот!
Пепек вскочил как ужаленный. Но в этот момент в дверях появилась голова.
— Твоей сестры тут нет?
— Я ей не сторож! — Пепек отступил на два шага, сунул руки в карманы, в желтоватых глазах его блеснула ярость. — Пошел отсюда, гад! Кто тебе позволил совать нос в чешские бараки?
Словак взглянул на широкие плечи обоих чехов и, по-видимому, смекнул, что сила на их стороне, но все же высунул язык и бухнул дверью.
Ярда спросил серьезно:
— У тебя здесь сестра?
Пепек помрачнел.
— Ты жил вместе с нею в одиннадцатой.
— Ирена? — изумился Ярда.
— Ганка. — Пепек закурил сигарету.
Ярда свистнул от неожиданности. Смущенный, он представил себе ее черты: как у Пепека, бледное плоское лицо, широкие скулы, короткий вздернутый нос с большими ноздрями. Ярда мысленно снял с ее головы странную прическу — воронье гнездо, получился вылитый Пепек! Даже угри на щеках!
Музыка сменилась речью диктора. Ярда притянул к себе стул и настроил приемник на другую волну. Он был смущен. Ярда не был святым. Богу известно, что он никогда не задумывался — пойти или не пойти с уличной девкой, если та ему нравилась. Но представить себе, чтобы родная сестра за банку тушенки…
Он косился на Пепека, на его горилью фигуру. Ярде хотелось как-нибудь больно задеть его, унизить.
— Ты, Пепек… — Ярда откашлялся. — Разве тебе безразлично, когда твою сестру может кто угодно… черный, белый…
У Пепека холодные, невыразительные рыбьи глаза.
— Я ей не нянька. Она взрослая и сама должна понимать, что и как надо делать, — прозвучал резкий ответ.
Ярда уставился в пол, разглядывая какой-то сучок.
— Ну, в конце концов меня это не касается. Сестра твоя, а не моя. Но если бы у меня была такая сестра, я бы ей разбил физиономию.
Ярда с победным чувством посмотрел на своего собеседника, чтобы потешиться над тем, как тот попытается оправдать то, чему нет оправдания. Он страстно хотел увидеть Пепека взбешенным, прижатым к стене. Но тот, к изумлению Ярды, весь как-то сник, съежился, будто проколотый пузырь. Втянул голову в плечи, руки у него смешно повисли вдоль тела, и весь он со своей могучей короткой шеей, широкой согнутой спиной стал удивительно похож на побитую гориллу.
Пепек молча растер ногой окурок сигареты и полез на верхние нары. Но сначала поставил ногу мимо ступеньки и лишь во второй раз попал на приставную лесенку. Это было не похоже на него. Пепек плюхнулся на сенник, и нары затрещали под его тяжестью.
— Она получила по морде, когда я впервые узнал, — раздалось сверху через довольно большой промежуток времени. Голос Пепека утратил агрессивность, в нем была только усталость и горечь. — А потом я выгнал ее из моей комнаты Больше я ничего сделать не мог.
Ярда услыхал шорох расстилаемой попоны. Ему казалось, что Пепек говорит больше с самим собой, чем с ним. Тот продолжал:
— «Давай мне тогда жратву, — ответила Ганка, — чтобы я не сдохла от голода!» С тех пор мы не разговариваем…
В радиоприемнике тихо звучал заигранный вальс Штрауса. Большой сучок, отчетливо видный на истоптанной половице, до сих пор притягивал к себе взгляд Ярды. Его триумф понемножку таял и — странно — превращался в беспомощность.
Пепек лежал наверху, бледный, с закрытыми глазами. Нападки этого проклятого мальчишки снова взбудоражили его. С детства над ним тяготеет проклятье. Отец спился и умер раньше, чем Пепек начал ходить в школу. А мать? В самых ранних воспоминаниях он видит ее возвращающейся ночью. Незнакомые мужчины входили за ней в кухню, где спали Пепек и Ганка. Яркий свет ослеплял заспанные детские глаза, а потом из комнаты часто слышны были шепот и возня, приглушенные выкрики, звон рюмок, иногда ссоры. Пепек вспоминал безотрадное, бесцветное детство, побеги от хозяев, куда его определяли учеником, взрослые приятели, крещение, полученное среди представителей остравского дна.
А дальше — тот проклятый вечер, когда он шел в заведомо пустую квартиру, а в разгаре «работы» вдруг появилась эта старушенция, задыхавшаяся от смертельного испуга. Он сам не знает, как случилось, что от страха попасться он стал колотить ее револьвером по голове и убил. Никогда ему не удалось бы доказать, что он не шел убивать и револьвер был незаряженный, что из-за двухсот крон он не хотел губить человеческую жизнь. Ведь ему нужны были только деньги на девку.
Теперь родной край потерян для него навсегда. Он не сумасшедший, чтобы вернуться в страну, которая потребовала его выдачи (об этом ему сообщили в конторе, полагая, что этим подогреют его ненависть к родине).
Из проклятой Валки он тоже никуда не может двинуться! А здесь он не чувствует себя в безопасности. Кто знает, вдруг изменится эта дьявольская политика, а требование о его выдаче лежит у здешних властей. Только когда он очутится там, за океаном, он сможет вздохнуть свободно и поставить крест на глупой истории того проклятого вечера.
Ярда сидит у приемника и ловит то одну, то другую волну. Из репродуктора несутся разные голоса, звуки, тоны, хрипы всей Европы.
— Выключи радио, я хочу спать! — рявкнул Пепек и так перевернулся на бок, что нары застонали под ним.
Ярда без возражений выключил приемник и вышел вон.
8
В самописке Вацлава кончились чернила на середине фразы. Он разочарованно осмотрел ручку — пуста! Вацлав вспомнил круглую бутылочку на отцовском письменном столе. Из нее за день до побега он набрал чернил. Юноша горько улыбнулся: набирая чернила, он тогда готовился к началу нового этапа жизни. Какое легкомыслие!
Несколько капель чернил, принесенных с родины. Теперь их уже нет. Порвалась еще одна маленькая, на первый взгляд совсем незначительная ниточка, которую уже нельзя скрепить. И так постепенно будут отмирать тоненькие корешки, которыми ты был связан с родной землей.
Вацлав, извиняясь, попросил ручку у профессора. Тот критически приподнял очки на лоб.
— Обращаться за материальной помощью, не пройдя даже проверки, screening’a, это не только идеализм — это просто откровенная дерзость. У вас много лишних денег на марки, молодой человек?
Баронесса грела на плитке, принадлежащей Капитану, щипцы для завивки волос. Золотой павлин глядел вместе с ней через немытое окно в холодные сумерки и не шелохнулся, даже когда хозяйка заговорила.
— Лет пятнадцать назад я была в Лурде. Сотни, тысячи калек; не протиснуться между этими бесчисленными носилками, колясками, костылями. Ужас пробирал от этого зрелища. А в меню ресторана гостиницы — рагу из вальдшнепов под татарским соусом. Как сегодня, вижу гарсона в белом фартуке с зачесом на лоб, виртуозно управлявшегося с подносом! А я не могла есть. На меня ужасно действовали эти фанатичные, пылающие глаза, парализованные, изуродованные тела, это бормотание молитв на всех языках! Вечером горничная в отеле сказала мне: «Бог знает, как там получается, но не проходит недели, чтобы кто-нибудь из калек не отшвырнул костыли и не побежал целовать ризы святой Бернадетты!»
Баронесса поднесла щипцы к лицу. Они были перекалены, и она покрутила ими, чтобы остудить.
— Пишите, молодой человек, пишите! Исчерпайте все возможности. Пишите в Париж, в Нью-Йорк, в Лондон. Тормошите всех, пусть очнутся, пусть выполнят свои обязанности!
Вацлав, к собственному удивлению, вдруг сник и не смог закончить начатого письма.
Баронесса, не торопясь, сосредоточенно начала завиваться и продолжала:
— Только не сидите как мокрая курица. Не выношу пессимистов, особенно же молодых. Я сама ни на минуту не теряю веры в то, что еще дождусь лучших времен. Кто знает, может быть, фабрика будет снова моей. Быть на вершине материального благополучия — вот единственный смысл жизни.
Профессор Маркус сгреб какие-то бумаги, исписанные его крупным разбросанным почерком, и сказал:
— Вот вы обвинили меня недавно в марксистском образе мышления. Я же опасаюсь, что вы к материализму во сто крат ближе, чем я. Что стало бы с цивилизованным миром, если бы все те героические защитники свободы и правды во время войны или после нее думали только о своей выгоде, если бы движущей силой их поступков был только их эгоизм? Слава богу, что все это низменное, материалистическое понимание исторического процесса осталось за нашей спиной, на несчастной родине!
Капитан, лежа на койке, захлопнул книгу и зевнул.
— Сдается мне, что даже здешняя клоака не излечит вас, профессор. Похоже, что дома вы пестовали свою науку, как орхидею в теплице. И на здешнюю жизнь вы смотрите через стекла, да еще окрашенные в розовый цвет. Вы шли в рай и не можете понять, что угодили в пекло. К черту идеалы! Вот послушайте, что я вам скажу.
Капитан приподнялся на локте, громко чиркнул спичкой, выпустил облачко дыма, секунду смотрел, как оно колышется над верхним сенником, и заговорил:
— Вначале, пока у меня еще были деньги, ездил я из лагеря в лагерь, выбирал, где лучше. Было это в Вегшайде. Приехал туда наш бывший министр, держал речь. Его начали перебивать выкриками, что-де голодают. Американский полковник около министра, само собой, его хороший друг, никак не мог понять такого отношения собравшихся к представителю правительства. Я стоял рядом. Министр, вероятно, вообще не допускавший, что кто-нибудь из наших плебеев знал английский, а может быть, ему было и наплевать на нас, сказал полковнику: «Простите им, это ведь скоты». В тот раз, профессор, меня это потрясло. Нет, нет, дорогой профессор, борцы, герои, лучшие сыны народа? В задницу эвфемизмы! Мы им нужны только для того, чтоб оперировать в своих речах нашим количеством. Во всех других случаях мы для них сброд, стадо, обременяющее их совесть.
Маркус неподвижно глядел на покачивающийся носок ботинка Капитана. Потом он тяжело встал, медленно выпрямил спину и начал молча прохаживаться взад и вперед.
Вацлав смотрел на профессора изумленно и вопросительно. Он ждал, что Маркус ответит Капитану, убедительно опровергнет его взгляды, побьет его цинизм своим гуманным идеализмом, но профессор молчал. Звуки его равномерных шагов долетали до слуха Вацлава. Он не понимал почему, но молчание профессора начало его душить, словно Маркус ходил по его горлу.
Вацлав кинулся к окну и распахнул его.
Баронесса раздраженно приподняла воротник халата и вскоре захлопнула окно.
— Невозможно жить в такой духоте, — резко сказал Вацлав.
— Теперешняя молодежь совершенно бесцеремонна. Любопытно было бы знать, как вы отнеслись бы к холоду, будь вам шестой десяток! Стыдно! — Баронесса стукнула по столу щипцами.
Вацлав вышел, хлопнув дверью.
Он медленно зашагал к городу.
— Да, Баронесса права, — сказал он сам себе, — надо исчерпать все возможности.
Вацлав вошел в ворота доходного дома. «Курт Зиберт» было изящно написано на табличке, прибитой к входной двери.
Откормленная краснощекая девочка с льняными косичками и пестрым мячом в руках приоткрыла дверь.
— Папа болен, — сказала она.
Но Вацлав ответил, что ему всего на несколько минут.
— С людьми из лагеря папа разговаривает только в канцелярии, — сказала девочка с изумительной самоуверенностью, смерив взглядом посетителя.
— У меня неотложное дело.
Девочка неохотно впустила Вацлава, глядя на него дерзко и неприветливо. Она пятилась назад через темную прихожую, хлопая ладонью по подпрыгивающему мячу. Вдруг она высоко подняла ногу, метнула мяч вокруг голой ноги так, что, отскочив от стены, он попал под ноги Вацлаву. Молодой человек чуть не споткнулся. Девчонка засмеялась и, не оглядываясь, нажала ручку двери.
Комната, в которую вступил Вацлав, была заставлена старомодной мебелью: высокий буфет с безвкусной резьбой, кресло-качалка со множеством подушек, разобранная постель, на парчовой скатерти на столе граненая ваза, доверху заполненная апельсинами. Макушка квадратной белокурой головы шевельнулась за высокой спинкой кресла, придвинутого к окну.
Герр Зиберт сейчас же узнал Вацлава.
— Не понимаю, зачем вы приходите сюда, когда я болен, — сказал он вместо ответа на приветствие. — Разве в лагере у меня нет заместителя?
— Мне сказали, что вы единственный человек, кто может в моем положении помочь. Вы моя последняя надежда!
— К чему эти громкие слова? — возразил Зиберт, и серые тени на его похудевших щеках обрисовались еще четче. — В чем дело? — Хозяин холодно взглянул на Вацлава и указал глазами на стул с высокой спинкой, обитой плюшем.
Вацлав сел. С дрожью в голосе рассказал он о своих делах. Он должен, просто даже обязан завершить высшее образование.
Нервозно поигрывая перстнем, Зиберт смотрел на тонкие пальцы посетителя, затем, втиснувшись в угол кресла, затянул шнур на халате, наконец сухо прервал Вацлава:
— Hören Sie, junger Mann[57]. — Тонкие болезненно-фиолетовые губы скривились в недоброй усмешке. — Я был владельцем прекрасного магазина: пять продавщиц, исключительно английские материалы — в Карлсбад не ездили те, у кого пустой карман. Золотое дно, поверьте. Вилла, в гараже — автомашина…
Рука Вацлава машинально скользила по шляпкам отделочных гвоздиков, которыми был прибит плюш на стуле.
Кривая усмешка вдруг исчезла с губ больного.
— Выгнать нас, судетских немцев, в телячьих вагонах — это чехи сумели сделать в двадцать четыре часа! Так что же теперь вы от нас хотите: чтобы мы вас кормили да еще и луну с неба вам достали?!
Вацлав, ошеломленный, прижался к спинке стула.
Вошла девочка. Удерживая мяч в руке, она прислонилась к дверному косяку и стала с вызывающим видом разглядывать гостя.
— Три пиджака, понимаете, молодой человек? Три пиджака на себе, в каждой руке по чемодану, всего — тридцать килограммов. Со мной беременная жена и плачущий ребенок. Возможно, именно вы были одним из тех выродков, которые орали на нас, рылись в наших чемоданах, пихали нас в телятники, бесконечно забавляясь всем этим. — Дрожащая рука Зиберта потянулась к сигарете, на его серых щеках двигались желваки, челюсти были плотно сжаты.
— Ступай отсюда, Кристль, — сердито сказал Зиберт, но девочка не ушла.
— О господи, не мы вас выселяли, — наконец сумел выговорить Вацлав, превозмогая судорогу, стягивающую горло. — Мы же политические эмигранты.
— Quatsch[58], — выкрикнул человек в кресле. — Все вы, все были единодушны. Не пытайтесь морочить нам голову! Ни один чех не выступил в сорок пятом против «выселения», как вы это нежно называли. Все вы, verstanden[59], все насквозь пропитаны коммунизмом. Этот яд гнездится в вашем теле, как рак, хотя, возможно, вы о том и не ведаете!
— Что тут за крик при ребенке? — раздался в дверях женский голос; вошла красивая, элегантная дама с фигурой театральной героини. — Курт, ты опять курил? Ты забыл, что доктор тебе запретил? — Она неприязненно посмотрела на плохо выбритое лицо Вацлава, складки в уголке ее рта обозначились резче.
— Уж тысячу лет вы, чехи, путаетесь у нас под ногами в Центральной Европе! — выкрикнул Зиберт и болезненно схватился за желудок. — Карл Герман Франк жил на нашей улице. Слушайте хорошенько, что я вам скажу: бесконечно жаль, что он не смог выполнить свое обещание — вымостить чешскими черепами эту вашу знаменитую Фацлафску площадь![60]
— Марш в свою комнату! — повелительно протянула руку госпожа Зиберт. Девочка беспрекословно повиновалась. — А вы, прошу вас, уходите! — И она брезгливо посмотрела на грязный воротничок Вацлава. — Разве вы не видите, что муж болен? Такая бестактность! Действительно, вы ничем не отличаетесь от тех, которые остались там… — Она решительно направилась к двери и открыла ее, шея госпожи Зиберт побагровела.
Вацлав не помнил, как выбрался на улицу.
Пепельные, ввалившиеся щеки больного, дорогое ожерелье на шее у его жены, желтые апельсины в вазе на столе — эти три зрительных впечатления стояли перед его глазами, когда он плелся вдоль улицы, натыкаясь на прохожих.
«Исчерпайте все возможности», — вспомнил он кудахтающий голос Баронессы и, сам того не замечая, горько улыбнулся. «Да, вера твоя тебя исцелила…» — иронизировал он над собой.
Вацлав сделал крюк и обогнул очередь, стоявшую под редким дождем на тротуаре. Женщина в мужском дождевике с засученными рукавами отходила от очереди, унося в бутылке четверть литра молока.
Вот каким оказался человек, на которого он неведомо почему возлагал надежду. Возможно, что Валка начала бы цвести, как черешневая аллея в мае…
Какой-то прохожий дернул Вацлава за рукав, в тот же миг рядом завизжали шины, чернолицый водитель в американской военной форме яростно выплюнул жевательную резинку и, возмущенно глядя в сторону Вацлава, согнутым пальцем два раза стукнул себя по лбу.
Герр Зиберт — начальник лагеря Валка. Три с лишним тысячи чехов зависят от его прихотей. Дети, питающиеся мороженым картофелем с вонючей рыбной подливкой, дети, спящие на грязных нарах, изобилующих блохами и клопами, и эта дерзкая девчонка с льняными косичками, которая может объедаться апельсинами. Тысячи соотечественников, бежавших с родной земли, чтобы спастись от террора, попадают под опеку Курта Зиберта, почитателя, а может быть, и друга Карла Германа Франка!
Вацлав постучал в дверь канцелярии лагеря.
— Ты читаешь мои мысли! Сегодня утром я о тебе вспоминал, брат мой. Что же ты так долго не показывался? — И Кодл распростер свои короткие руки.
Курчавая шевелюра, сияющее круглое лицо. Обычная бутылка на столике. В канцелярии витал чудесный аромат черного кофе, но на письменном столе стояла только чашка с засохшими следами кофе.
Перед Вацлавом появилась такая же рюмка коньяку, как и в прошлый раз. Только сегодня на ее краях не было следов губной помады.
«…Два-три свидетельства лиц, заслуживающих доверия, о том, что политические убеждения герра Зиберта во времена прежней республики были весьма подозрительны…»
«…что… он, собственно говоря, был выселен по ошибке вопреки своим антифашистским взглядам…»
А люди из лагеря собирают на улицах окурки, ходят воровать…
Во всей Германии, наверное, нельзя в настоящее время купить апельсинов. Но голландский Красный Крест (безусловно, не зная обстановки в лагере) послал два ящика для беженцев. Они попали на квартиру начальника Валки…
«…Правда — сложное понятие… Как в прошлый раз выразился папаша Кодл? Ложь, которая послужит на благо тысяч людей, бог не сочтет грехом…»
Мысли, обрывки мыслей проносились в мозгу Вацлава.
— Я рад, что ты решился, друг мой. Жалеть не будешь. Надеюсь, став врачом, ты скоро избавишь меня от ревматизма. — Папаша Кодл разливал коньяк.
Вацлаву снова бросился в глаза длинный ноготь на его мизинце. Вспомнилось злое серое лицо Зиберта, его коротко остриженная голова, голос, в котором слышится смертельная ненависть, жгучая, непримиримая жажда мщения. Но хотя человек, сидящий напротив Вацлава, сейчас выжидательно молчит, юноша слышит его слова: «В каждом из нас течет капля крови Коменского, Гуса…»
— Ну как, напишем несколько строчек? — короткие пальцы почесали в курчавой седеющей шевелюре и в напряженном ожидании затеребили блестящую серьгу в ухе.
У Вацлава на лбу выступил пот. Воротничок начал душить его, хотя вообще он был ему впору. Зиберт — и симпатии к социализму… Поставить свое имя под таким заявлением! Коменский и Гус… Почему именно этих двоих назвал папаша Кодл — этих людей, которые были готовы умереть ради правды?
— Я рад, что ты решился, друг мой. Жалеть не будешь…
Вацлав вытер лоб. Противная влага осталась у него на ладони. Он входил сюда все-таки с решением выполнить просьбу Кодла: отвратительный инцидент у Зиберта утвердил его в убеждении, что он имеет право не щадить этого человека. И все же…
— Я не могу засвидетельствовать то, что вы хотите. Это была бы вопиющая ложь, — глухой, чужой голос неожиданно проговорил это за Вацлава. Однако Вацлав не взял назад произнесенные слова.
Тишина. Только большая муха, очнувшаяся в тепле от зимней спячки, упрямо атакует окно.
Вацлав видит, как холодно блеснули маленькие мышиные глазки. Папаша Кодл встает, разводит руками, а затем прячет их за спиной.
— Ну, как знаешь, брат. Это был бы отличный шанс прежде всего для тебя. В Валке есть люди, которые думают только о себе, о своих личных интересах. Есть и десятка два других, у которых более широкий, я бы сказал, более гуманный взгляд на вещи. У них развито чувство ответственности и за остальных Думал я, что ты принадлежишь к последним. Итак, ты решил окончательно. Принимаю это к сведению.
Вацлав встал. Тяжелая свинцовая усталость овладела им.
— Я очень сожалею, что обманул ваши ожидания, но я не могу… Мать учила меня не лгать, и это как-то во мне осталось.
Он протянул влажную руку. Папаша Кодл равнодушно пожал ее.
Вацлав вышел. Так, стало быть, эту дверь он за собой захлопнул. Тем не менее он почувствовал облегчение. Твое пребывание здесь — это целая цепь разочарований, тягостных мук, которых ты ранее не мог познать: корни, черпавшие жизненные соки на родной земле, перерезаны, их уже нет, но ты их чувствуешь, как калека, у которого ноет ампутированная нога. Горькая действительность разбила многие твои иллюзии. Но две вещи, однако, ты не смеешь утратить ни при каких обстоятельствах: надежду и уважение к себе. Итак, надежда все еще есть.
Ведь заявил же ты в комитете о своем желании выехать за океан. Теперь время работает только на тебя. А уважение к себе ты сегодня упрочил.
Чувствуя себя словно вышедшим из бани, Вацлав поднялся по ступенькам в женский барак. Катка уже два раза отказывалась от встреч с ним. Один раз она будто бы плохо себя чувствовала, а другой — якобы собралась стирать. Сейчас Вацлав не даст провести себя, сегодня она ему очень нужна.
Столкнулся он с ней на лестнице, когда, убедившись, что ее нет дома, уже выходил обратно из барака.
— Третий раз вы возвращаетесь в одно и то же время! — сказал он, обрадованный. — Куда это вы, собственно…
— Допрос продолжается! — оборвала она его. — До сих пор вы не поняли, что зря тратите время!
На узком худом лице Вацлава отразилось такое разочарование, что она пожалела его.
— Видите, если молодой мужчина в Валке заговорит с девушкой, — пояснила она уже миролюбиво, — то содержание третьей или пятой фразы бывает: «Пойдем переспим». Вот почему я…
Вацлав передернул плечами и опустил глаза.
Она искоса взглянула на его покорное лицо. Нет, этот человек не похож на шпиона, он похож скорее на того, кто молча взывает о помощи.
— Хотите пройтись? — спросила она смущенно.
Они пошли в противоположном от города направлении. В опускавшихся сумерках вдалеке неясно рисовались первые домики деревни Фишбах. В стороне от дороги тихо засыпала сосновая роща, серая и убогая, какая-то неестественно кроткая, как и все леса близ больших городов. Свернули в рощу; на каждом шагу зримые черты «цивилизации»: на коре деревьев вырезанные ножом сердца, пронзенные стрелами, на траве — обрывки бумаг, ржавеющие консервные банки, множество следов пятиминутной любви.
Катка шла медленно, засунув озябшие руки в карманы. «Он не ушел, хотя знает, что надеяться ему не на что. До чего он не подходит к этой обстановке!» — вдруг осенило ее. Она почувствовала к нему признательность: это ведь счастье встретиться с человеком, который хоть как-то приподнимается над уровнем гниющего болота. Островок над поверхностью сточных вод. Дома, на родине, тебе не нужно было бояться ответить людям, если они о чем-либо спрашивали. Как убийственна эта вечная подозрительность, этот горький опыт, вынуждающий тебя видеть в человеке доносчика, агента либо, в лучшем случае, ловеласа, который завтра не вспомнит, как тебя зовут!
— Вы спрашиваете, куда я хожу? Человеку иногда необходимо рисковать и верить кому-то Иначе сойдешь с ума. Я работаю.
Она заметила радость на его лице. Вацлав сорвал длинный стебель травы и стал рассеянно играть им.
— Это, вероятно, очень большая удача, да?
— В Мерцфельде я нашла себе работу швеи. Платят мне половину того, что немкам, но это все же работа. Однажды я было обрадовалась, ушла из лагеря и сняла себе комнатку, но хозяева заломили такую цену, что мне ничего не осталось от заработка. Пришлось вернуться в лагерь, — быстро, словно торопясь, рассказывала Катка.
— Я только не понимаю, почему вы говорите, что рискуете…
— Никто из живущих в лагере не смеет поступить на работу. Если об этом дознаются, человек должен или покинуть Валку, или платить за питание и жилье. Лагерь только для тех, кто находится на самом дне.
Где-то высоко, над кронами деревьев, с криком пролетела стая ворон.
«…Кто находится на самом дне». Еще никто так не характеризовал истинное положение дел. Вацлав знал о лагерях, когда шел через границу, знал, что это неизбежная переходная ступень к нормальной, свободной жизни. Профессор ждет визы на въезд в Париж, Штефанский с семьей — бумаги на выезд в Канаду. И Баронесса желает двинуться куда-то дальше. А что же Капитан, девушки, Пепек, те сотни и тысячи остальных, которые кое-как перебиваются, не имея никаких надежд? Их перспектива ограничена нарами, кабаком «У Максима». Изо дня в день, из месяца в месяц одно и то же! Неужели лагерь для некоторых людей стал вершиной их карьеры в эмиграции?
— А все же кое-кто здесь имеет деньги, — заметил Вацлав.
— Да, здесь есть некоторые возможности, кроме торговли и воровства: мусорная свалка либо «рабовладельцы».
Он остановился, озадаченный. Катка пояснила:
— Транспортные фирмы. Они имеют склады на товарной станции и иногда за полцены нанимают людей из лагеря для выгрузки вагонов.
Вацлав перекусил стебель и в отчаянии схватил за руку Катку.
— А вы, Катка, ради бога, вы ведь не смирились? Если бы я должен был здесь остаться, то… вообще не было бы смысла жить!
— Не преувеличивайте! — Она быстро высвободила свою руку из его руки. Но все же он почувствовал, какие у нее холодные пальцы. Когда она улыбалась, на щеках у нее появлялись ямочки. Это ей очень шло. — В вашей жизни, Вацлав, вероятно, еще не было настоящих трудностей.
Ему стало немного стыдно.
Верно, не было. До февраля ты действительно не встречался с трудностями, ты, тепличный цветок, наследник родового имения. Тебе, может быть, суждено еще дожить до лучших времен, которых не надеется уже увидеть твой отец. Ты получал все, чего хотел. Все уступало тебе дорогу. В особенности после войны, когда отец понял, что слава аграриев на некоторое время померкла, и смирился, наконец, с действительностью и с тем, что сын будет не помещиком, а врачом. А после февраля? Все свое жестокое унижение, потерю власти и престижа, всю свою горечь отец как бы утопил в новой надежде, что хотя бы ты, его кровь, отомстишь когда-нибудь за страшную несправедливость, совершенную по отношению к отцу, ко всей семье!
— Вам холодно, вернемся в лагерь. Мы можем там посидеть в кабачке, — Вацлав попытался перевести разговор на другую тему.
Она посмотрела на свои посиневшие ногти.
— У меня с детства было плохое кровообращение. А месяц тому назад произошло настоящее несчастье: я забыла перчатки на бирже труда.
Вацлав начал рвать стебель на мелкие кусочки, не зная, что сказать.
Вацлав и Катка двинулись в обратный путь. В лесу уже потемнело, он засыпал, как повесивший голову уставший конь, хмуро подставив свои кроны под холодный дождик, беззвучно моросивший с низкого неба.
Они вступили в круг света, падавшего от фонаря у ворот. Мелкие капельки блестели на липе и на черных волосах над Каткиным лбом. Только теперь Вацлав понял, чем она отличается от других девушек в лагере: она не красит губ.
Вацлав облегченно вздохнул, когда они миновали ее барак и Катка не вошла в него.
Прокуренное помещение, разноязыкий говор, табачный дым, звон посуды у распивочной стойки, выкрики картежников, огромный плакат: Trink Coca-Cola eiskalt[61]. Под ним, где-то в углу, взрывы игривого девичьего смеха в тесном кругу молодых мужчин.
Вацлав разыскал свободный столик в углу. Прежде чем сесть, Катка брезгливо смахнула носовым платком пепел со стула. С какой-то усталой покорностью посмотрела она на бумажную скатерть, прожженную сигаретами и усеянную жирными и винными пятнами.
Вацлав нащупал в кармане последнюю мелочь. Катка это заметила.
— Заказывайте кока-колу, — сказала она спокойно. — Для двоих это обойдется в восемьдесят пфеннигов.
Попробовав напиток, Вацлав был разочарован. Дома он жаждал хотя бы разок отведать этот нектар лучшей половины мира. Почему при ближайшем рассмотрении этот мир с неумолимой последовательностью, даже в мелочах, утрачивает блестящие краски, вкус и аромат, которым его наделила фантазия обиженных жизнью почитателей?
— Что с вашим мужем? — решился спросить Вацлав.
— Вы упрямы, — ответила она тихо после долгой паузы и посмотрела на Вацлава. Ее темные глаза в тусклом свете зала были как из черного бархата. Внезапно в них отразилась неукротимая воля. — Разыскиваю я его, если хотите знать. По отцу, давно умершему, он немец, но мать его — чешка, которая как следует и говорить-то по-немецки не умеет. До поры до времени ему удавалось как-то затемнить вопрос о национальной принадлежности. Поэтому его призвали в гитлеровскую армию лишь в сорок четвертом. Ему посчастливилось: в хаосе майских дней он сумел, переодевшись в гражданское платье, ускользнуть от плена и вернуться в Чехословакию, но, понятное дело, явиться домой он не мог — жил у меня. Один влиятельный друг взял его под свою опеку, достал документы о благонадежности, определил на работу. Мы поженились. Но наши соседи проявили слишком много интереса к новому человеку и каким-то образом разузнали правду — кто-то из них донес на Ганса. Ну, конечно, скандал, невыносимая обстановка, и он должен был бежать за границу. Через два месяца после свадьбы!
— Мы договорились, — продолжала Катка, — что я приеду к нему в Германию, как только он устроится. Потом он писал, чтобы я еще повременила — в ту пору в Германии было очень плохо. Затем почему-то письма прекратились. Я не знала, что предпринять. Грянул февраль, и я не захотела больше ждать разрешения на легальный выезд: убежала, как и многие другие. Последнее его письмо было из Нюрнберга. Но он куда-то уехал. Теперь все его следы исчезли. Ну, вот вам самая обыкновенная банальная история, да? Вынудили вы меня рассказать ее.
У стойки вспыхнула ссора: брань, шум отодвигаемых стульев. Звякнула опрокинутая рюмка. Кто-то, ругаясь на все лады, вытирал залитые брюки. От соседних столиков к месту происшествия ринулись другие завсегдатаи кабака и прекратили ссору. Катка, не отрываясь, смотрела в ту сторону. Лицо ее помрачнело.
— Я откладываю марку за маркой, экономлю на всем. Единственная моя цель — скопить деньги на билет для поездки туда, где окажется Ганс. Я должна его найти во что бы то ни стало! Не могу допустить и мысли, чтобы мне не удалось этого дождаться и что я вынуждена буду оставаться в этой среде…
Каждое ее слово ранило его сердце. Ну вот он, берег спасения, который ты хотел обрести среди этого моря уныния и несчастий. Ты увидел его, одинокий путешественник, потерпевший кораблекрушение, воспылал внезапной дикой надеждой… Но тебя вновь отбросило назад в пустынное море…
В углу около стойки кто-то, фальшивя, играл на пианино.
— Два месяца после свадьбы, — сказала она как-то вяло. — Пережила я когда-то расставания в студенческие годы. Как все это было просто: безболезненные разрывы после ни к чему не обязывающих начал! Теперь же совсем другое! — Она приложила ладонь ко лбу. — Почему, собственно, я вам все это рассказываю, что вам до этого? Вы никогда не поймете, что значит потерять смысл жизни на самой вершине счастья. Это открытая рана, которая всегда кровоточит…
Он слушал ее, побледнев и опустив голову. Напиток, к которому он больше не прикасался, искрился желтым светом в стакане перед ним.
Музыка раздражала Катку. Ганс тоже немного играл, но довольно плохо. Она в шутку укоряла его, говоря, что фортепьяно — это не наковальня.
Шум в зале резко усилился. Громко зазвучали злые голоса, послышался хлесткий звук пощечины, глухой стук опрокинутого стула, женский визг. В Каткиных глазах отразился ужас: в чьей-то замахнувшейся руке блеснул нож. Но в мгновение ока три другие руки тут же сжали вооруженную руку, послышался характерный звук разрываемой одежды и звон разбитого стекла. Катка увидела на лице одного из дерущихся струйку крови, текущую от носа к подбородку. Клубок сцепившихся тел покатился к выходу. Раздавались выкрики:
— Тисо[62] повесить — это вы сумели, чешские свиньи…
— Только пикни еще, и я разорву твою поганую словацкую рожу от уха до уха, проволочники паршивые…
— Полиция! На помощь!..
Каткины пальцы судорожно впились в руку Вацлава. Она вздохнула с облегчением только тогда, когда дерущиеся вывалились из кабака. Но кто-то еще возвратился, поднял с пола истоптанную шляпу и виртуозным ударом ноги вышиб ее в открытую дверь, как футбольный мяч.
Катка сжала виски ладонями.
— Я здесь уже восемь месяцев с лишком. — Голос Катки стал вдруг хриплым. Она глотнула из стакана. — И мне все здесь чуждо, и чем дальше, тем больше. Ведь я вовсе не героиня, я не принадлежу и к отверженным изгнанникам, даже не имею с ними ничего общего. Я не убегала от коммунистов. Ведь я не разбираюсь в политике. Единственно, к чему я стремлюсь, — это найти своего Ганса. Кроме этого, мне не нужно ничего. В республике я оставила старую мать. Теперь получила весточку, что ей, бедняжке, плохо. Если бы я потеряла надежду найти Ганса, то сегодня же ночью удрала бы отсюда сломя голову, бежала бы к границе, домой! Вы не можете понять, чего мне стоило оставить маму, тем более что я догадывалась о ее болезни. И эту мерзость, побег, я совершила ради него. У мамы рак желудка, я знаю, от этого же умерла моя бабушка. Иногда я начинаю сомневаться — в уме ли я? — В ее затуманенных глазах, смотревших куда-то мимо его плеча, вдруг отразился страшный испуг.
Вацлав обернулся: над ними стоял папаша Кодл! Преувеличенно-церемонным жестом, полунасмешливо снял он свою бесформенную черную шляпу.
— Что здесь произошло? — Однако ответа он ждать не стал и тут же заметил: — Так, так, сдается мне, что амур Валки снова пустил в ход свою стрелу… Ну, ну, не тревожьтесь, дети мои…
Вацлав уловил холодный блеск в его мышиных глазках. Катка и Вацлав молча смотрели на широкую спину Кодла, удалявшуюся в сторону распивочной стойки. В памяти Вацлава остались только кривая усмешка и мелкие пузырьки слюны, вздувавшиеся у Кодла в уголках губ во время разговора.
— У меня такое чувство, что этот человек меня преследует, но при этом он хорошо относится ко мне, — сказала Катка устало.
— Хуже всего то, что я не могу поверить, будто он не знает, что я имею работу. Он пронюхает все, у него удивительно цепкая память. Думаю, что он подробно информирует наших «покровителей» о своих овечках, как он нас называет. Ведь все это лагерное начальство так или иначе сотрудничает с Си Ай Си. Ну, я пойду, — она неожиданно поднялась, — а вы еще немного побудьте здесь. Пусть папаша Кодл не подозревает нас понапрасну…
Один. Кругом разговоры, шум, пьяные шуточки, хлопанье карт по столу, женский смех.
…Твой письменный стол в старой просторной квартире, куда он приезжал на каникулы. Отделение библиотеки, заполненное твоими конспектами и медицинской литературой, вечера у лампы с зеленым абажуром, когда Эрна уже уснула, мама еще читала роман, а отец мирно похрапывал — у него никогда не было интереса к художественной литературе. С каждым днем росли твои знания и гордость от сознания того, что ты систематически и неуклонно приближаешься к вершинам медицинской науки и в один прекрасный момент достигнешь заветной цели…
Внезапно Вацлав очнулся от грез, от яркой, будто живой картины. Непонимающе огляделся вокруг.
Равнодушные лица с отпечатком бессмысленно потраченного времени, бесплодного ожидания чего-то, что никогда не сбудется, полной покорности судьбе. Все окружающее показалось Вацлаву удивительно нереальным; и он сам показался себе таким неподходящим к этим людям, к этим отверженным изгнанникам, как их назвала Катка. Вацлав щурился: табачный дым, висевший тяжелыми туманными пластами, щипал глаза. Нет у него ничего общего с этими людьми — он не хочет красть, покупать за плитку шоколада семнадцатилетних проституток, он не бежал ни от наказания, ни от труда, наоборот, он хочет работать, хочет исполнить свой долг перед обществом, помогать людям — в конце концов безразлично, на каком языке они будут рассказывать ему о своих болезнях! Что он наделал, где очутился?..
Необдуманный шаг в пустоту. Да, были трудности, бывали тяжелые моменты в том оставленном мире. Жизнь не была похожа на барскую езду по автостраде, скорее приходилось тащиться пешком по каменистому пыльному шоссе. Часто нужно было отступать, возвращаться назад, но все же была возможность идти, перед ним всегда было сто дорог. Только отсюда как будто нет никаких путей. Конечно, какие-нибудь да есть, только они заказаны для человека, если он не подлец.
Западня. Самая обычная западня. Сюда попадают люди, ослепленные фальшивыми иллюзиями, совершенно не знающие истинного положения вещей. А когда они прозревают — уже поздно, выхода нет.
Вацлав поднялся, подошел к стойке и высыпал на ладонь горсть мелочи.
— За две порции кока-колы. — Ему бросились в глаза волосатые татуированные руки буфетчика, круглый, наголо выбритый череп. Широкая нижняя челюсть детины на миг перестала жевать.
— Ну и ловок же ты, должно быть, баб ублажать. Барышня заплатила.
9
Обитатели комнаты молча ели. Слышался кашель Марии.
— И где его сегодня носит! Еще не было случая, чтобы во время еды он не был на месте. — Баронесса заботливо посмотрела на остывающий суп профессора.
И еще одна порция супа сегодня оставалась нетронутой: Бронек лежал под одеялом, свернувшись в клубочек, и потихоньку скулил.
— Чем ты там опять обожрался? — с набитым ртом кричала в сторону верхних нар Штефанская. — Если я еще хоть раз увижу, что ты копаешься на свалке, получишь взбучку. — Она с жадностью доела порцию Марии, к которой та едва прикоснулась, и продолжала: — Будешь есть только то, что принесет отец!
Громкие шаги в коридоре, энергичный поворот дверной ручки, и могучая фигура профессора почти полностью заполнила дверной проем. Все сразу поняли: что-то произошло. Его моржовые усы были как-то по-особому распушены, в выпуклых глазах — взволнованность и какая-то отчужденность. Не здороваясь, он направился к нарам и стал рыться в своих вещах.
— Куда это вы запропастились? Если бы я не позаботилась о вашем обеде… — У Баронессы вдруг не хватило сил договорить, голос ее осекся.
— Съешьте мой обед сами, дружок. — Профессор, суетившийся около своей койки, был подобен растерявшемуся медведю. — Я… — Он не удержался и вытащил из кармана маленькую книжечку. — Reiseausweis![63] — выкрикнул он, и глаза его засияли. — Все уже оформлено: бумаги, виза — все!
В комнате наступила немая тишина. Те, кто еще ел, перестали жевать.
— Даст бог, завтра в это время буду в Париже, — оживленно говорил профессор. Его обычная важность куда-то исчезла. Он без толку перекладывал вещи с места на место, засовывал в чемодан и вынимал обратно.
Вацлав смотрел на его воодушевленное лицо. Последние два глотка супа показались юноше горькими, как полынь.
— Кто же придет на ваше место? — глухо отозвалась Баронесса. Она сидела за столом, положив руки на колени, удары сердца глухо отзывались в висках. Вся бодрость покинула ее, тяжкая, тупая тоска разлилась желтизной по щекам.
Наконец поднялся Капитан.
— Поздравляю вас, профессор. И расскажите им там, как мы живем. Если даже это ничего не изменит, то и хуже не будет…
Штефанский теперь уразумел, в чем дело. Он приблизился к столу, длинные руки его висели плетями вдоль тела, в глазах — униженная покорность:
— Если бы вы, ясновельможный пан, посодействовали…
Профессор оглянулся вокруг, посмотрел на обращенные к нему глаза, в которых застыли печаль и разочарование и нечто такое, в чем никто никогда не признается, — лютая, испепеляющая зависть. Его радость на минуту омрачилась. Но изумительное ощущение того, что в кармане лежит всемогущая книжечка, заглушило все — его сострадание к остающимся было в эту минуту похоже на сочувствие счастливца, покидающего «Титаник» в спасательной лодке, к тем, кто остался на тонущем корабле.
— Я все запишу, все у себя отмечу, — смущенно бормотал профессор и действительно вытащил блокнот.
Все наперебой стали просить профессора похлопотать за них. Поляк обстоятельно выкладывал свои просьбы, перечислял несущественные подробности, отпихивал других от профессора.
— …Не забудьте, профессор, о моей учебе…
— …А если будет речь о какой-нибудь работе — дайте знать! Скажем, в авиапромышленности. На худой конец, я бы согласился занять пост министра авиации…
— …Я уже набирал сто двадцать знаков в минуту, почти столько же, сколько Франта Кацел, а тот считался квалифицированным наборщиком…
Все сгрудились вокруг профессора. А он все записывал крупными рублеными буквами в свой блокнот. Люди смотрели на Маркуса с искрой новой надежды. Старый, плохо выбритый господин с пятном от супа на лацкане пиджака, он уже не принадлежал к жильцам комнаты номер одиннадцать. Маленькая книжечка в зеленой обложке внесла отчужденность, отдалила его, вовремя вырвала отсюда, так как лагерь начинал накладывать на него свою печать. Теперь он уходил в какую-то недосягаемую даль. Здесь он был уже только гостем, счастливец!
— Я ничего вам не обещаю, друзья, кроме одного: я все записываю не для того, чтобы забыть на первой же станции за Нюрнбергом. Надеюсь, я еще объявлюсь в Валке, в этой именно комнате, но уже как человек, который приехал сделать для вас что-то конкретное!
В дверях появился Медвидек, за ним вошел статный молодой мужчина в сутане.
— Вот эта комната, ваше преподобие, — сказал Медвидек.
Некоторое время он потоптался у двери, повертел широким задом, не спуская глаз с Капитана. Но на него никто не обращал внимания, и Медвидек, смущенно почесав живот, вышел вон.
Молча, не понимая, смотрели обитатели комнаты в полное розовое лицо пришедшего. Мамаша Штефанская, как ласка, вынырнула из своего темного угла и с вытянутыми губами ринулась к руке священника. Тот отдернул свою руку от ее губ, но пожал ее жилистое запястье левой рукой. Глаза его засветились теплотой.
— Бог да пребудет с вами, братья! — сказал он немного в нос. — Меня прислали из канцелярии, здесь как будто есть свободное место.
— Через несколько минут будет, — победоносно отозвался профессор, а его глаза говорили: «Ну, вот видите, Баронесса, вам недолго пришлось ждать моего преемника!»
— Патер Флориан, — отрекомендовался священник и поставил на пол старенький чемоданчик. Потом, озадаченный, он уставился на верхние нары. Ганка, сидя в пижаме, явно забавляясь, с любопытной усмешкой рассматривала необычного пришельца. Его гладко выбритое, по-деревенски здоровое лицо слегка помрачнело. — Я не знал, что здесь общежитие. Сегодня я переночую вместе с вами, а завтра поищу что-нибудь другое…
— А разве вы не поселитесь в прихрамовом домике, ваше преп… брат, — заикаясь, возбужденно проговорила Баронесса и, улыбнувшись в зеркальце, прикрепленное к стойке нар, поправила волосы.
Священник положил поношенное, лоснящееся пальто и черную шляпу на край стола.
— Предлагали мне это, но я отказался. Там, пожалуй, было бы больше удобств, — и он растерянно обвел комнату взглядом. — Но бог учил, что все люди равны перед ним; я не хочу отличаться от других.
— Он и вправду святой, — зашептала Ганка Ирене. В наступившей тишине все услышали ее слова, а патер повел густыми черными бровями.
— Ты глупая коза, — послышался тихий ответ Ирены.
— Здесь я буду всегда под рукой, — быстро сказал патер, заминая инцидент, — если кто-нибудь из вас будет нуждаться в посреднике между своей душой и богом. — Он легкой пружинистой походкой прошел между нарами, чтобы помочь профессору снять с полки второй чемодан. Полы его сутаны разлетелись, как юбки испанской танцовщицы.
Профессор протопал к окну, за которым у него было что-то спрятано.
— Посредник? — Его скептический взгляд остановился на немного засаленном, обтрепанном воротничке патера. — А вы знаете, что говорил Толстой? Не позволяй никому быть посредником между твоей душой и богом. Никто не может быть ближе к богу, чем ты сам… Этот маргарин возьмите себе, Баронесса, а здесь еще есть и кусок сыра, — он протянул ей маленький сверток.
— Толстой кое в чем заблуждался, — в очках патера отразился свет электрической лампочки. — Бог пребывает во всех людях, но не все люди живут в боге. В этом главная причина человеческого скепсиса.
Профессор кое-как засовывал в чемодан свое грязное белье. Он заметно помрачнел и стал агрессивным.
— Звездное небо над головой, по известному изречению, должно было бы побуждать меня к вере в существование бога. Но многие явления находятся в явном противоречии с фактом его существования. Одно из них — этот лагерь.
— Magnificénce[64], — ужаснулась Баронесса. — Ну, почему же вы так беспощадно язвите? Вы как будто стараетесь, чтобы о вас осталась здесь память как о злом человеке…
Чемодан был наконец наполнен. Профессор энергично захлопнул его.
— Зло! Добро! — усмехнулся Маркус. — Самые релятивные понятия на свете. — Профессор, неуклюже пыхтя, стал одеваться. Воротник его пальто остался наполовину подвернутым. — Доброе, Баронесса, чаще всего следует вместе с человеком в могилу. А вот недоброе, сотворенное им, остается.
Маркус осмотрелся: не забыл ли чего-нибудь на постели? Рукой, украшенной большим перстнем, профессор пошарил под сенником.
Минута расставания неудержимо приближалась, и все это чувствовали. Вацлав хотел, чтобы она уже скорее миновала, — счастье этого человека действовало ему на нервы. Старый господин выпрямился, вздохнул с каким-то облегчением, лицо его прояснилось. Ведь он завершал хотя и краткую, но тяжелую главу своей жизни.
— Ну-с, может быть, хоть что-нибудь и от моей деятельности останется, — он направился к Баронессе и протянул ей руку. — Прощайте, надеюсь, что и вы скоро… — Он не знал, что говорить дальше.
— Мне будет недоставать вас, профессор, — глухо сказала она. — Мы иной раз ссорились, но… — глаза ее увлажнились.
Девушки спустились с нар и наскоро надели на себя пальтишки. Все обступили профессора. Гнетущее напряжение воцарилось в комнате.
— А знаете, — Капитан переступил с ноги на, ногу и заморгал глазами, — как сидели у стола белый и негр? «Милостивый государь, вы же негр!» — говорит вдруг белый. «Да, но как вы это узнали?» «А по вашему произношению».
У профессора задергались уголки губ, глаза вдруг заволокло слезами. Внезапно, как из окружения, ринулся он из группы обступивших его людей, неуклюжей походкой прошел в польский угол, подал руку Штефанским, прикоснулся к вихрам Бронека, торчавшим из-под одеяла, но мальчик спал, на его лице остались еще полоски от недавних слез.
— Поторопитесь с ним к врачу, эти боли в животе вызывают у меня подозрение. А тебе желаю быстрее поправиться и стать здоровенькой. — Маркус ласково потрепал Марию по бледной щеке.
Подойдя к девушкам, он сказал:
— Вы от меня ничего не хотели, не могу ли я что-нибудь и для вас…
Девушки переглянулись.
— Если вы где-нибудь узнаете о лучшем пристанище… — сказала Ирена и как-то неопределенно усмехнулась.
А Ганка, возясь с угрем на щеке, закончила за подружку:
— Напишите нам, но чтобы там был гарнизон…
— Итак, друзья, прощайте, good luck[65].
Маркус кое-как заправил кашне под воротник пальто, натянул на голову шляпу и затопал к дверям, держа в каждой руке по чемодану. Ручку двери он нажал локтем.
В этот момент подбежала Баронесса, приподнялась на цыпочки и расправила подвернувшийся воротник.
— А то скажут, что я о вас не заботилась. — Голос ее сорвался, и она вдруг без всякой связи выкрикнула: — А я тут все равно долго не останусь, не думайте!
— Да поможет вам бог! — произнес патер.
Двери наконец закрылись за профессором.
Глухая, гнетущая тишина воцарилась в комнате. Только Бронек слегка посапывал во сне. Девушки снова взобрались на нары и начали прихорашиваться к вечеру. Гонзик раскрыл Бромфилда, но сосредоточиться не мог. Капитан неподвижно сидел на нарах, свесив руки между коленями, спина его сгорбилась, взгляд был устремлен в пустоту. Уже давно никто не видел его таким.
Патер не спеша распаковывал свои вещи, раскладывая их на полочке. Когда он наклонялся, костяной крест качался у него на груди.
Баронесса стояла у окна и с тоской смотрела на пустой, тускло освещенный, унылый двор. Когда она повернулась, запахнув халат и держа руки в карманах, особенно бросилась в глаза ее плоская грудь. Женщина вперила пронизывающий взгляд в здоровую, гладкую физиономию священника, но тут же постаралась подавить в себе чувство неприязни: «Глупости, ведь не он выжил отсюда профессора». Однако сердце ее сжимала глухая тоска.
Давно ли, как-то в полдень, появилась здесь солидная импозантная фигура с двумя внушительными чемоданами в руках. Баронесса помнит все, как будто это было сегодня. Она видит, как, пораженный и недоумевающий, оглядывает он эту убогую и отвратительную обстановку. Капитан уже который раз обращается к нему, а профессор все стоит остолбенелый, в шляпе, и не может прийти в себя. И вот теперь его уже здесь нет…
Одно из ужасных мучений в Валке заключалось вот в таком, иногда выпадающем на долю других счастье.
Быть свидетелем их успеха, а самой по-прежнему мыть холодной водой отвратительную, покрытую застывшим жиром миску, снова укладываться спать под вонючее одеяло и с содроганием ждать первых укусов блох… Снова и снова. Сегодня так же, как завтра и послезавтра. Долго ли это будет продолжаться? Дождется ли она вообще чего-нибудь? Сколько писем послала она во все стороны! Писала всем, кого знала, и тем, чьи имена смутно помнила в ряду своих предвоенных торговых партнеров. Все это делала она в слабой надежде на какую-то сословную солидарность. Бросала письма, как в бездонный океан, и голос ее был гласом вопиющего в пустыне. А еще говорят, что друг — тот, кто придет в беде, хотя другие от тебя отвернулись. Но, должно быть, умерла дружба в этом волчьем мире.
Упадок духа, злость на профессора и на самое себя, жгучая, ядовитая зависть, внезапное желание взять эту противную обеденную миску и швырнуть в окно, выругать кого-нибудь, унизить, что-нибудь сделать, что-нибудь вытворить, только бы не эта вынужденная бездеятельность — сидеть сиднем и ждать, ждать…
Она превозмогла себя. Наскоро припудрилась и, шаркая по полу шлепанцами, подошла к патеру.
— Ведь вы не останетесь здесь, в лагере?..
— Почему? Я значу не больше, чем остальные.
— Я полагала, — она медленно засунула руки в карманы халата, — что если бы вы переехали в прихрамовую квартиру… то… — Баронесса не знала, как докончить фразу, но ей помог его спокойный, ободряющий взгляд, — там бы и для меня нашлось место при кухне. Пока было из чего, я стряпала отменно. Мой муж знал толк в еде, а мучные блюда были его слабостью. Их пекла я сама, не доверяя кухарке…
Вацлав перестал внимать их разговору. Он сидел за столом над номером «Свободного зитршка» и в третий раз принимался читать рассказ какого-то недавнего перебежчика о возрастающем красном терроре в Чехословакии. Строчки безжизненно лежали перед глазами: слова были пустыми, бессодержательными.
Всего на четырнадцать дней раньше Вацлава профессор прибыл в Валку, а вот поди ж: «Даст бог, завтра буду в Париже…» Знаменитость!
Вацлав посмотрел на дверь, строчки спроецировались на ее поверхности. Тогда он взглянул в пространство, но черные тонкие линии и тут мелькали перед глазами.
«Да, неисповедимы пути этой божьей справедливости! Все это лишь ничтожная мелкая зависть», — укорял он себя. Но напрасно. Зависть, лютая, всепожирающая, поднималась в нем. Он прямо физически ощущал, как желтеет от ослепляющего чувства, которое впитывается в него, подобно кислоте, вылитой на сухую почву. Профессор… Он уже не встретит с ними рождественских праздников. Но почему, собственно, это обстоятельство тебя так тревожит? Боишься приближающихся праздников и не хочешь в этом признаться! Ты хотел бы видеть около себя как можно больше таких же, как ты, бедствующих? Каждый, кому как-то удалось убежать отсюда, действует тебе на нервы!
Круглый стол дома, в их столовой. Праздничные тарелки с золотыми ободками, два больших серебряных подсвечника с зажженными свечами, еловые веточки на белоснежной скатерти с блестящим шелковым узором.
Традиция минувших лет. Он лежит рядом с маленькой, что-то лепечущей Эрной. Из щели под дверью гостиной доносится запах хвои, оба они — брат и сестра — под властью легенды о младенце Иисусе.
Выжидательное напряжение последних минут рождественского поста, кончающегося беспорядочным обилием праздничного стола в сочельник.
Еще в прошлом году, несмотря на трудное положение, ему, как всегда, достались превосходные подарки. Его мать ни при каких обстоятельствах не отказалась бы от привычки праздновать рождество торжественно и пышно. «Никому и ничему, — говорила она, — я не позволю отнять у меня то единственное, что еще осталось, — частичку моей частной жизни. Не позволю! Слышите вы, слуги антихриста! В стенах своего дома я остаюсь хозяйкой!»
Несчастная мамочка! Спустя два месяца после рождества стены ее замка были повержены в прах залпом из орудий самых крупных калибров: вон из барского дома, немедленно, без проволочек! Иначе даже Комитет действия не сможет поручиться, что бывшие батраки имения стихийно не разделаются с помещиком!
— О чем вы так задумались, Вацлав? Я уже второй раз обращаюсь к вам, а вы сидите, как король Вацлав на Бездезе! — Баронесса подошла к столу. Ее странная высокая прическа сбилась немного набок.
— О доме вспомнил, — смущенно признался Вацлав.
Она опустилась на скамейку около него, прислонившись спиной к столу.
— Расскажите мне что-нибудь о своей семье.
— Зачем?
— Вы здесь один из немногих людей нашего круга.
Баронесса оглянулась и понизила голос. В нем слышалось любопытство и неожиданная сердечность.
Молодой человек понял, что Баронессе нужно с кем-то поговорить. Ей, как и ему, необходимо как-то заглушить душевную боль, вызванную отъездом профессора.
Понемногу Вацлав разговорился. В Баронессе действительно было что-то такое, что сближало его с ней, несмотря на то, что она часто действовала ему на нервы.
Он начал рассказывать, как уже в сорок пятом году погас блеск былой славы отца: исчезла надежда на получение депутатского мандата от аграрной партии. Беда всегда тянет за собой другую — цены на сельскохозяйственные продукты упали. Наконец, треть отцовской земли одним росчерком пера нового господина министра земледелия была передана бывшим батракам!
— Должен же был министр чем-то купить их души! — проскрипела Баронесса.
— Но, — продолжал Вацлав, — у отца были кое-какие резервы, накопленные в годы войны и в последние годы первой республики[66], когда он обладал очень большой властью, было, что продавать. Еще много лет мы могли бы жить зажиточно, хотя отец не без горечи шутил с приятелями за рюмкой коньяку: «Хотите мое поместье? Даром отдам, немедля. Управляйте им и выполняйте обязательные поставки!»
Грянул февраль. Эта страшная стремительная лавина событий! Устои, на которые опирался отец после войны, рушились, как карточные домики. Слава, известность и сила наших влиятельных друзей испарились в течение одной ночи.
А под нашими окнами бушевала толпа в грязных сапогах: «Вон! Не только из дома, из имения и вообще из села! Улепетывайте за тридевять земель — в пограничье! Вы, барин, называете себя земледельцем. Вот вам и дадут там халупу, кусок косогора — извольте хозяйничать, господин депутат!»
Все: жилые постройки, машины, скот, полные закрома; скаковые лошади, автомобиль, лес — предмет особой любви отца — все это было утеряно нами в одну минуту, исчезло, подобно Атлантиде, поглощенной пучиной океана. Погибли плоды труда всей жизни! Потом постыдное путешествие нашей семьи из родного гнезда в изгнание! Приютились мы в каком-то захолустном государственном имении в Горацке. Кто-то из знакомых сжалился, наконец, и определил отца на место… рядовым рабочим! Правда, это была лишь пустая формальность. Уже через месяц отец был повышен в должности и переведен на лесопилку, поближе к предмету своей давней страсти — к дереву.
— И… после всего этого ваши родичи не наплевали на эту паршивую республику!
— У отца больное сердце. Он не смог бы перейти через горы.
Баронесса промолчала.
— Не бойтесь, — сказала она, наконец, с видом союзника. — Людей, у которых в крови есть традиции власти, так легко в бараний рог не согнуть! Пусть этого не забывают «товарищи»!
Вацлав глядел на подбородок Баронессы. Вблизи на нем были отчетливо видны редкие волоски.
Эта непривлекательная женщина права. Вацлав знает, что даже и в нынешний сочельник в маленькой, битком набитой мебелью квартире его мать сумеет создать вполне достойную этого праздника торжественную атмосферу.
Юноша не мог не представить себе три склоненные над столом головы. Только к четвертой тарелке никто не прикоснется. Серебряная сервировка для рыбы, граненые бокалы для вина, еловые веточки на белоснежной скатерти, из радиоприемника звучат церковные напевы и торжественный звон лондонского Биг-Бена. Эх, лучше уж и не думать обо всем этом!
Вацлав простился с Баронессой и вышел на свежий воздух. Слабое облегчение от сочувствия Баронессы испарилось быстро, едва только он увидел знакомые серые ряды лагерных бараков. Ноги сами привели его к Каткиному бараку. Но несчастье подобно грибам — редко растет в одиночестве. Катки дома не было, хотя она уже давно должна была прийти с работы. Где она? Ищет мужа? Или, может быть… существуют еще мужчины, готовые бескорыстно выслушивать ее сетования?
Мрачное настроение охватило Вацлава. Мир показался ему темным, беспросветно-темным. Кто он для нее? Бездушный камень, утес, который только и может что отозваться эхом на ее вопль. Случайная кукла в роли наперсника, нужная только для того, чтобы Катка могла поверять ему свои горести?
Вацлав горько усмехнулся. Дома девушки мечтали о тебе. Эва, та, последняя, дорого заплатила бы за твою благосклонность. Ты, сын уважаемой семьи, важная особа, мог выбирать, кого хочется, мог и бросить, как кожуру выжатого лимона, если любовь твоя теряла крылья. Что же с тобой стало? Почему ты страдаешь по этой одной-единственной? Ведь достаточно только пройтись наугад по баракам Валки — и к твоим услугам десятки девиц, не одержимых мыслью обрести утраченного возлюбленного! Крохотное интимное счастьице! Какая это пустячная, смешная проблема здесь, где сотни, тысячи людей борются за то, чтобы как-нибудь просуществовать, а некоторые и за саму жизнь!
«А тебе чего нужно?» — отозвался откуда-то из глубины души язвительный голос. Так в старину королевский шут осмеливался порой бросить правду в лицо своему повелителю.
Засунув руки в карманы. Вацлав бесцельно бродил по лагерю. Заглянул он и в кабачок. Настороженно осмотрелся: вуаль тяжелого дыма, знакомый хлест карт по столу, привычный звон бокалов, перебранка и остроты, взвизгивание девиц, пьяные выкрики. Катки здесь не было.
Вацлав вернулся в свою комнату. Через минуту из коридора донесся знакомый, немного сиплый голос, с ликованием возвестивший:
— В Валке праздник, братья! Скорее все в седьмую!
Отворилась дверь, и голос зазвучал громче:
— Братья и сестры! Собирайтесь все в седьмую. — Жабий рот Кодла с недостающим передним зубом улыбался.
Медленно и нехотя собирались обитатели барака в комнату Пепека: было слишком поздно. В такое время не проводят важных, имеющих практическое значение собраний.
Слово взял папаша Кодл.
— Братья и сестры! — сказал он. — Позвольте представить вам дорогого гостя: секретаря Совета свободной Чехословакии![67] Он прибыл сюда, чтобы выслушать и ободрить вас. Не имея возможности обойти все бараки, он все же отказался выступить в клубе, потому что хочет своими глазами увидеть, как вы живете. Счастливый жребий пал на ваш барак. Вы сами поведаете гостю о своих испытаниях, хотя, впрочем, я уже это сделал за вас. — И папаша Кодл потрогал серьгу в оттянутой мочке.
В переполненной комнате поначалу даже трудно было разглядеть секретаря — чисто выбритого, здорового, загорелого мужчину лет двадцати восьми.
— Во-первых, прошу вас меня извинить, что до вашего барака я дошел в то время, когда вы, вероятно, уже подумывали о сне, — начал он звучным голосом в понурой тишине. — Но Валка велика, а у ваших братьев многое накипело на сердце. — Рука с куцыми сильными пальцами слегка ослабила воротник нейлоновой снежно-белой рубахи, тон голоса понизился на терцию, стал задушевным. — Я должен откровенно признаться, братья, что общее впечатление от Валки у меня далеко не блестящее… Вы живете здесь не так, как того заслуживают борцы за свободу нашей родины. Я даже видел тут вещи, которые, простите мою откровенность, но я иначе не могу, — потрясли меня.
Секретарь одернул пиджак из отличного английского твида и ускорил темп своей речи.
— Однако вопреки этой действительности, дорогие мои братья и сестры, умоляю вас и прошу об одном: не поддавайтесь ложным, абсолютно неверным впечатлениям, что вы тут якобы покинуты и забыты! Об этом говорили почти во всех бараках!
Хоть и правда то, что первоочередная задача Совета — это осуществление высокой, принципиальной политики, речь идет ведь о будущем новой, счастливой, всем нам такой дорогой Чехословакии! Но верьте, что мы о вас не за…
— Зима на пороге, а топить нечем, — прервал гостя хриплый астматический голос, прозвучавший откуда-то сверху из темного угла.
Секретарь с негодованием оглянулся.
— Идите сюда, взгляните, прежде чем говорить о высокой политике, — кто-то постучал костяшкой согнутого пальца по стоявшей на столе миске с недоеденным ужином. — Пять ложек мороженой картошки с так называемой рыбной подливкой — ужин для братьев — соратников по оружию. Сгнившая солома в тюфяках, не покрытых простынями, — постель для героев, борющихся за новую Чехословакию.
Воцарилась напряженная тишина.
— О, брат всегда был остер на язык. — Папаша Кодл потирал влажные ладони.
— Вам, вероятно, кажется, братья, — оратор начал нервно расстегивать и застегивать свой пиджак, — что кое-что делается не так быстро, как должно было бы. И вы совершенно правы! Но, поверьте мне, мы в Совете каждодневно печемся о вас! Понятно, что удручающие условия в Валке могут кое-кому из вас затуманить здравый взгляд на действительность во всей ее широте. Иной раз бывает трудно убедить наших благодетелей, которые нам так охотно предоставили убежище, в неотложности отдельных частных проблем. Мое положение поистине тяжкое, коль скоро я должен вам объяснять, что нам прежде всего необходимо договариваться с ними о проблемах основных, принципиальных.
Из сумрака вдруг вынырнул крючковатый нос Штефановского. Поляк схватил секретаря за рукав.
— Проше пана, смилуйтесь над моей семьей. Полтора года мы ждем паспорта в Канаду!
— Идиот! — Баронесса возвела свои жадные глаза вверх и потом обратилась за сочувствием к соседу в черном подряснике. — Он нам всем может напакостить!
Представитель Совета осторожно освободил рукав от грязной руки поляка, не изменив при этом приветливого выражения лица.
— Почему вы не предложите знатному гостю стул? — выручила его в этот трудный момент пожилая дама в синем берете, натянутом до ушей. — Не часто нам выпадает честь сидеть за одним столом с уполномоченным нашего Совета! Очень жаль. Если бы встречи не были так редки, мы, быть может, были бы более уверены в вопросах политики и менее голодны.
Начальник барака Пепек нелюбезно согнал кого-то с места и подал стул секретарю.
— Неуверенность в вопросах политики, братья и сестры, это же немыслимо! — Гость уселся на стул и бесцеремонно закинул ногу на ногу. — На то мы и существуем… Мы… — ему явно недоставало подходящего слова, — чтобы разъяснить вам неясные вопросы, чтобы подкреплять тех, кто начал колебаться…
— Мы хотели бы прежде всего узнать о какой-либо официальной политической программе, — отозвался своим спокойным, немного резким голосом Капитан, восседавший на нарах под самым потолком. Из одиннадцатой комнаты он принес с собой консервы и теперь, говоря, в то же время вылавливал из банки куски мяса. — Я знаю, что здесь обосновались десятка два политических партий, фракций, союзов, группировок. Каждая из них ставит перед собой какие-то свои цели. «Богемия» пишет против «Свободного зитршка», а «Ческе слово»[68] ополчается и на «Богемию» и на «Свободный зитршек».
— Отлично подмечено, — изрек представитель Совета. — Только в людях, составляющих самый Совет, вы имеете полную гарантию, что…
Нары у окна резко заскрипели.
— Уже поздно, время спать, — сказал кто-то, шумно слезая с нар и направляясь к двери.
Это взбудоражило всех в комнате. Несколько слушателей двинулись вслед за ушедшим. Их шаги гулко отозвались в наступившей тишине. Ярда подтолкнул локтем Вацлава.
Через четверть часа начнется кино. Если сейчас мы не пойдем, все места будут заняты, как вчера. — Ярда даже не пытался понизить голос.
— Не убежит от вас это идиотское кино! — крикнул Пепек и зло погасил окурок сигареты о стол.
Гость вынул записную книжку.
— Чтобы вы не сомневались, друзья, эта записная книжка, — секретарь торжественно постучал золотым перстнем по сафьяновой обложке, — полна заметок и обоснованных жалоб жителей Валки. Все они будут фигурировать в программе очередного заседания Совета! Говорите, записываю: блок «Ц»…
— Ничего не пиши, — прошипел из темноты астматик. — Ты ведь уже записывал весной, а потом, видно, не то чтобы Совету показать, сам посмотреть в книжку не удосужился!
Баронесса побледнела. В этом «тыканье» рядового лагерника было такое презрение к члену Совета, что у нее от волнения начались перебои в сердце.
— Чудак, но человек неплохой, — развел руками папаша Кодл и кивнул головой куда-то вверх. Взглянул на часы. — Вас ждет еще долгая дорога, дорогой брат, а вы уже основательно устали. Это видно по вашему лицу. Только не перенапрягайтесь, здоровье дается нам один-единственный раз, да, да…
Его голос потонул в поднявшемся шуме и топоте: обитатели барака уходили, коридор наполнился шарканьем шлепанцев, кашлем. Секретарь скривил губы, встал, беспокойным движением одернул пиджак. Папаша Кодл положил ему руку на плечо и повысил голос, чтобы перекричать шум в комнате. Из щербатого рта вырывались шипящие звуки.
— Побеседовали и пойдем! — выкрикнул он, улыбаясь и поворачиваясь во все стороны. На его широком затылке блестели мелкие капельки пота. Вдруг, словно спохватившись, он приподнялся на носки и начал что-то нашептывать гостю.
— Прежде чем я попрощаюсь с вами и пожелаю вам доброй ночи, — прокричал молодой человек в спины уходившим, — хочу сообщить вам от имени Совета радостную весть: в ближайшие дни будет проведена кампания «Масло» и еще до рождественских праздников кампания «Зимняя одежда»! Поэтому я убежден, что нынешняя зима будет для вас намного… — Он не досказал: в комнате уже было слишком мало слушателей.
Секретарь нервно оглянулся на заместителя начальника лагеря.
— Ваше стадо воспитано весьма странно, — вполголоса сказал он, сознавая бессмысленность всей разыгранной здесь комедии.
— Я бы сумел согнуть их в бараний рог, не сомневайтесь, — вздохнул папаша Кодл, — будь другие времена. Эх, пропащая жизнь…
Вацлав и Гонзик догнали представителя Совета в коридоре.
— Я наборщик. — Гонзик бесцеремонно схватил секретаря за рукав. — Вы же издаете газеты, может быть, я вам понадоблюсь в этом деле?
— Я возьму вас на заметку, брат. — Секретарь устало провел рукой по лбу.
— Дайте мне совет, брат, как поступить в университет. — Вацлав решил не упускать этой возможности. Он рассказал свою историю.
Секретарь смотрел на него без всякого интереса. Для него лицо Вацлава было просто одним из многих лиц, виденных в лагере. В мыслях он уже ужинал в перворазрядном нюрнбергском отеле. Умыться, снять «рабочий» костюм, переодеться в черный и поскорее забыть проклятый лагерь, вонь похлебки, пота и нечистот. За день своей инспекторской поездки секретарь устал. Ему осточертели и свои собственные стереотипные фразы, и докучливые, до бесконечности однообразные жалобы лагерников. Ему не терпелось поскорее попасть в гостиницу: он заприметил там сегодня утром смазливую девчонку. С ней можно было бы приятно скоротать вечер. А тут теряешь время на бессмысленную болтовню.
Ему стоило больших усилий исполнить последние служебные обязанности этого дня.
— Сволочи! — он хрустнул пальцами. — Вот так они намерены извести чешскую интеллигенцию! Отказать ей в праве на образование, втоптать в грязь все великие священные традиции Коменского… Осквернить их псевдообразованностью рабочих… Тьфу! — сплюнул он с негодованием.
— Это я все и сам знаю. Мне нужна помощь, а не сочувствие! — ответил Вацлав.
Секретарь недоуменно протер поставленные слишком близко друг к другу глаза и подавил внезапный зевок. «Удастся ли увидеть ту девицу за ужином?» — вертелось у него в голове. У красотки была фигура, как у Лолобриджиды. Ему захотелось есть.
— Будь спокоен, камрад. Мы в Совете знаем о подобных случаях. Ты не один. Твоя фамилия? Хотя, впрочем, здесь темно, но папаша Кодл напомнит мне в канцелярии. Так ведь, брат?
— Конечно, конечно. — Папаша Кодл сбоку посмотрел на Вацлава и ребром ладони вытер мокрые губы.
Вацлав почувствовал, что нервы его отказывают после всех неудач сегодняшнего дня.
— Так зачем вы вообще сюда ездите, зачем притворяетесь, что вас интересуют наши дела, если заранее знаете, что вы для нас ничего не сделаете?
Секретарь был изумлен. У него даже дух захватило. Он собрался было изречь гневную тираду, но вдруг осекся.
— Ка-каким тоном… вы со мной говорите, — только и сумел пробормотать он.
— Я говорю то, что думаю! — запальчиво отрезал Вацлав.
Секретарь почувствовал, что прижат к стене. Ни один из десятков штампованных ответов, которые он нередко извлекал из своего реестра, как попугай пакетики с предсказаниями судьбы, в этот момент не годились. Он покраснел.
— По-вашему, Совет свободной Чехословакии — это благотворительное общество? У нас есть более важные задачи, чем забота о каких-то частных делишках одиночек! Иначе мы бы рехнулись! — прокричал он.
— Пойдемте, мой друг, вы же не машина. Да и наглость должна иметь предел. В любом лагере можно, к сожалению, встретить хама, — просипел папаша Кодл и увел секретаря прочь.
Гонзик стоял пораженный. Ему все еще слышался раздраженный голос человека, не знавшего, куда деваться от колючей правды. Боже мой, возможно ли, чтобы этот фрукт был представителем недоступной в понимании Гонзика загадочной организации, на которую юноша возлагал непоколебимые надежды? Что же это в самом деле получается? Выходит, что нельзя ни от кого ожидать помощи? Все, стало быть, зависит только от себя самого, от собственной цепкости?
— Пошли в кино! А то опоздаем. — Ярда ткнул Гонзика пальцем в ребро.
Приятели пошли в барак, где демонстрировались кинофильмы.
«По всей вероятности, это еще одно звено в цепи случайных неприятностей, — внушал себе Вацлав с каким-то удивительным, почти животным упрямством. — Надо лишь пробиться сквозь первоначальные неурядицы, преодолеть все препоны. И только не терять веры. Ведь Совет — это не шалопаи в пиджачках с покатыми плечами по последней американской моде. В Совете — старые, серьезные политики, министры, премьеры, приматоры — гранитные устои бывшей республики; двадцать лет они ею руководили, под их водительством Чехословакия создала себе на Западе репутацию одного из солиднейших государств!»
Капитан с большим трудом удерживал для ребят три места в переполненном зрительном зале.
Погас свет, и появившийся на полотне черный атлет с блестящей кожей ударил молотом в огромный гонг.
Вацлав с облегчением подумал: «Ну, теперь на два часа забудешь все на свете». Наклонившись к соседу, он спросил:
— Кто, собственно говоря, этот тип, делающий эту самую «высокую принципиальную политику»?
Капитан вытер яблоко платком и с аппетитом принялся его есть.
— Бывший правый край футбольного клуба «Метеор», — сказал он. — Не вернулся на родину из заграничной поездки. У него в Совете дядюшка как будто.
10
Первые рождественские праздники в эмиграции — эти дни мира и любви — не внесли ни мира, ни любви в жизнь беженцев. За два дня до сочельника в клубе водрузили стройную ветвистую ель, упиравшуюся в потолок. Украсили серебряной канителью и для пробы включили электрические лампочки, холодные, неуютные по сравнению с трепетными огоньками восковых свечей.
С этого дня многие обитатели лагеря старались не заходить в клуб.
Большой плакат, вывешенный на доске объявлений около конторы, на четырех языках приглашал обитателей лагеря на торжественный рождественский концерт.
— Мы могли бы отпраздновать сочельник и в своей комнате, — неуверенно сказал Вацлав, и перед его глазами возникло нежное лицо Катки.
Баронесса тут же радостно согласилась, но Капитан почему-то помрачнел. Ганка не ответила, а Ирена молча кивнула. Штефанские, вероятно, не поняли.
Обрадованный Вацлав побежал в Каткин барак.
— Вчера уехала в Ингольштадт, — сказала ее соседка.
— Что ей там понадобилось сейчас, в рождество? — побледнел Вацлав. — А когда вернется?
Соседка пожала плечами и ответила:
— Наверное, там оказался этот, ее…
Вацлав, уныло свесив голову, побрел обратно в барак. Его охватило горькое разочарование, ярость против незнакомого человека и даже злость на Катку. «Сумасброд, последние, с таким трудом приобретенные марки ты истратил на подарок!» — упрекнул он себя. У него явилось желание вынуть заботливо сберегаемый пакетик, бросить его в огонь или кому-нибудь отдать, хотя бы Марии.
С тяжелым сердцем отправился Вацлав в сочельник утром снова в женский барак.
Катка сидела за столом.
Радость засветилась в его глазах, но он превозмог себя, чтобы не показаться смешным. Лицо Катки было усталым после ночного путешествия в переполненном поезде. На нем лежала печать неудачи.
— Одна здешняя девушка мне сказала, что неделю тому назад она встретила в Ингольштадте мужчину. По ее описанию он в точности выглядел, как мой муж; ко всему этому его звали Ганс. Однако ездила я напрасно: этот человек совсем не похож на мужа. Некоторые люди лишены наблюдательности либо одарены слишком большой фантазией, а к тому же им недостает чувства ответственности. Я потратила кучу денег, и все зря.
Эгоистическая радость овладела им… «Ты скверный человек, — думал о себе Вацлав. — Бормочешь слова участия, а сам счастлив, что все так обернулось».
Перед обедом Капитан принес под мышкой метровую елочку, а Ирена на свои деньги купила в городе кулечек дешевой карамели и стеклянные нити, чтобы украсить елку. Но последнее слово сказал Капитан, раздобыв дюжину тоненьких свечек. Гонзик смастерил крестовину. После обеда вдвоем с Каткой, которую Вацлав позвал к себе на сегодняшний вечер, Гонзик начал наряжать елочку. Сквозь редкую хвою он то и дело посматривал на правильное, строгое лицо своей напарницы. Около носа и на скулах у нее виднелись коричневые пятнышки веснушек. Катке не удавалось прикрепить свечки кусочком проволоки. Гонзик, помогая ей, касался ее изящных холодных рук.
Перед бараком Капитан выбивал пыль из одежды, покрикивая на Бронека, катавшегося на льду замерзшей лужицы. Потом Капитан долго и сосредоточенно чистил свои латаные-перелатаные башмаки. Под вечер он явился с целой охапкой штакетника от какого-то забора. В планках еще торчали ржавые гвоздики.
— Вы гениальный человек! Сегодня мы натопим, как в Чешском комитете. Вас нужно произвести хотя бы в полковники, — возликовала Баронесса, надевая перед зеркальцем на свою напудренную шею искусственные кораллы.
Мария, сидя на сеннике, накручивала волосы на бумажки. Она посмотрела на елочку, источавшую свежий запах хвои, и, покашливая, мечтательно протянула будто про себя:
— Если бы здесь был Казимир…
Девушки на верхних нарах стали наряжаться уже с пяти часов. Вацлав опасался, не собираются ли они, как обычно, в город. Это было бы возмутительно. Он вздохнул с облегчением, когда Ирена и Ганка, разряженные, с накрашенными губами, наконец, подсели к общему столу. Разносчики вкатили бидон, и запах скверного жиденького супа заполнил комнату. Катка устроилась на освободившееся место патера Флориана, который на второй же день после своего прихода переселился в седьмую комнату. На Катке была тщательно выглаженная шелковая блузка. Перед обедом она в каком-то женском бараке более часа ждала своей очереди, чтобы погладить ее электрическим утюгом.
Штефанский торжественно встал и сложил костлявые руки.
— Ojcze nasz, ktorys jest w niebiesiech, swieé sie imie twoje, przyjdz krolestwo twoje…[69]
В другое время присутствующие попросту набросились бы на еду; сегодня все встали и, опустив глаза, с серьезным видом ожидали, когда Штефанский кончит молитву. Только у Ярды, который принял приглашение Вацлава и тоже стоял здесь у стола в чистой сорочке с пестрым американским галстуком, играла на лице усмешка.
Молитве поляка, казалось, не будет конца. Бронек нетерпеливо шевелил губами и глотал слюну. Мальчик таращил глаза на жестяные банки, в которых так многообещающе дымилась похлебка. Потом его внимание привлекла муха, ожившая в необычном тепле комнаты. Бронек незаметно вооружился ложкой, улучил момент и прихлопнул ее. Отец, не прерывая молитвы, дал сыну подзатыльник.
— …Swieta Marjo, matko boza, modl sie za name grzesznymi[70], — монотонно звучал в нетерпеливой тишине гнусавый баритон.
Штефанская, моргая покрасневшими глазами, вторила мужу плаксивым тягучим дискантом. Ирена и Ганка распространяли острый запах дешевой парфюмерии. Мария сухо покашливала.
Наконец, облегченно вздохнув, все уселись. Суп из рыбьих голов показался им очень вкусным. Только второе блюдо — рыба с картошкой — было приготовлено на прогорклом постном масле и немного пересолено.
Вацлав всеми фибрами своего существа чувствовал, что рядом с ним, совсем близко бледное лицо Катки. Но он почему-то боялся взглянуть на него; звяканье ложек и противное, беззастенчивое чавканье мамаши Штефанской делали особенно заметным упорное молчание собравшихся, и Вацлав в душе укорял себя за идею отпраздновать сочельник в кругу соседей по комнате.
Рыбу запивали терпким вином, за которое они должны были быть благодарны американскому Красному Кресту. Мария разочарованно отодвинула тарелку — кушанье ей не понравилось. Бронек так и накинулся на ужин сестры.
Старое, почерневшее дерево стола пропиталось запахом пролитых похлебок, но сегодня над этой вонью взял верх аромат елочки, отогревшейся в натопленной комнате.
Пряный запах хвои будил воспоминания и только расстраивал Вацлава. Но он защищался как мог, стараясь не обращать внимания на елочку, сосредоточенно, с безрассудным упрямством смотрел на тонкие руки Ирены, сидевшей по другую сторону стола. Эти руки несли к губам красное вино в майоликовой чашке, затем церемонно зажгли сигарету. «Роскошный» камень на ее пальце отдавал дешевкой бижутерии. «Нет, я не смею, ни в коем случае не смею впадать в сентиментальность. Экая важность, сочельник! Христос-младенец, это щедрое божье дитя, в странном противоречии со своей любовью к бедным, всегда избегал нищих на своем рождественском пути. Как бы он не прошел мимо тех, кто беден вдвойне — мимо нас, горемычных, которые лишились не только материальных благ, но и родины, а многие, возможно, потеряли и надежду».
— Выпьем ваше здоровье! — неожиданно встрепенулся Вацлав. — Чего вы все молчите, будто проглотили языки? — и он поднял свою кружку.
Люди подняли кружки, как-то робко, неловко чокнулись. Штефанские с удивлением глядели на эту господскую церемонию. Сами они не могли участвовать в ней — у них не было кружек.
Но самая горькая минута была еще впереди; все ее ожидали в каком-то добровольном самоистязании, которого нельзя было избежать. Капитан зажег спичку, и дюжина желтоватых огоньков, один за другим, вспыхнула на елочке.
Двенадцать человек молча сидели за столом. Порой кто-нибудь отпивал кисловатого вина; мамаша Штефанская бог знает почему начала опять шептать молитвы; тоненькие свечки горели, потрескивая, сгибаясь в своих примитивных подсвечниках. Сильный запах умирающей хвои наполнял комнату.
«Завтра опять будет хорошо», — внезапно подумал Гонзик. Завтра он и тысячи других вздохнут с облегчением. Утром эта елочка на столе потеряет символическое значение и станет обыкновенной вещью, к которой можно будет относиться снисходительно. Она уже не сможет ранить сердца. Глаза юноши помимо его воли устремлялись на Катку, молча сидевшую напротив, возле Вацлава. Теплое сияние свечей смягчало ее черты. Ровный пробор, разделивший черные волосы на две половинки, придавал лицу строгое, серьезное выражение. «Она похожа на мадонну, — подумал Гонзик, — и совсем не похожа на таких, как Ирена и Ганка». Он попытался по невыразительному лицу Ганки отгадать: думает ли она вообще о чем-нибудь? И ему показалось, что она на такое даже не способна.
Однако Ганка не обращала внимания на его недружелюбные взгляды. Помимо своей воли она вспоминала свое прошлое. Сегодня и ей не удалось убежать от невеселых мыслей. Пепек, ее брат, сидит в соседней комнате. Он не пришел к сестре даже сегодня! Хотя, может быть, он пьет водку в кабаке или играет в двадцать одно. Кто знает?
Вечер казался бесконечно долгим. Перед Штефанским стояли две литровые бутылки. Бронек едва лизнул вина, оно ему не понравилось. Мамаша никогда в жизни не пила и относилась ко всему этому почти как к греху. Мария пригубила и пренебрежительно опустила уголки синих губ.
— Оно кислое. Мне понравилось бы сладкое вино. Папочка, если бы оно было сладкое…
Но отец пил огромными глотками прямо из бутылки, вино булькало у него в горле. Мамаша Штефанская худой смуглой рукой вцепилась в бутылку, пытаясь отнять ее у мужа, но он ударил жену по руке.
— Пьяница, алкоголик мерзкий, в святой вечер!.. Что мне с ним делать? — Она обратила воспаленный взгляд к Капитану. — В прошлом году в новогоднюю ночь он тоже напился! Года еще не прошло, а он уже опять пьет…
Но у поляка блестели глаза, он развалился на стуле, выбросив длинные ноги далеко перед собой. Непонятно почему, лицо у него оказалось измазанным рыбной подливкой. Его большой длинный нос блестел, как только что наточенный кривой нож. Кто-то погасил электрическую лампу, подвешенную к потолку, и комната, освещенная теперь трепетными огоньками елочных свечей, стала более уютной, углы потонули в темноте, поэзия святого вечера одолела, наконец, Штефанского, и он, набравшись храбрости, затянул грубым голосом:
Gdy sie Chrystus rodzi i na swiat przychodzi, ciemna noc w jasnosciach promienistych brodzi. aniolowie sie radujg pod niebiosa wyspiewuja…Мамаша Штефанская присоединилась к певцу, тонким дребезжащим голосом взяв на две октавы выше. Это подбодрило певца, голос его окреп и усилился. Мария смущенно засмеялась, виновато поглядела на присутствующих и, склонив голову, стала пальцем размазывать лужицу красного вина на столе.
Допели; невольные слушатели облегченно вздохнули и отважились поднять глаза, но Штефанский, сделав большой глоток вина, отчего выступающий на его шее кадык два раза конвульсивно подпрыгнул, снова затянул:
Przybiezeli do Betlehem pasterze, grali skocznie dzieciegleczku na lirze…Теперь он вложил в пение всю свою страсть; в глазах его дрожало пламя свечек, голос звучал фальшиво, восторженно и неумолимо, обтрепанный рукав отбивал в воздухе такт. Слушать его было тяжко. Бронек, разинув рот, удивленно глазел на отца.
Сидящие за столом невольно повернулись к Капитану. Он был их единственной надеждой. И действительно, как только Штефанский затянул третью коляду, Капитан встал, минутку шарил в полумраке около своих нар, а потом поставил перед Бронеком ярко раскрашенный жестяной паровозик.
— Возвращаясь из города, я встретил Иисуса-младенца, и он дал мне это для тебя. Пружинка, к сожалению, сломана.
Бронек ухватился за игрушку, но отец вырвал ее; пение смолкло. У всей компании точно гора с плеч свалилась. Ирена прикоснулась пальчиками к вискам, улыбнулась прищуренными глазами и подняла кружку.
— Вы моя симпатия, Капитан!
Бронек тянулся к отцу за игрушкой. Наконец он заполучил ее, перебрался на пол, и все окружающие перестали для него существовать.
— Живем мы тут в одной комнате, друзья, — начал, откашлявшись, Вацлав, чтобы лишить Штефанского возможности славить Христа снова, — а друг друга почти не знаем. Может быть, хоть сегодня каждый в нескольких словах расскажет о себе и… — Он хотел еще что-то сказать, но потерял нить и густо покраснел.
Все глядели друг на друга, молчание становилось все тяжелей. Вацлав почувствовал признательность к Ирене даже за то, что она нарушила эту тишину, чиркнув спичкой.
— Так начинайте же кто-нибудь, — нетерпеливо произнесла наконец Баронесса.
— А мне так хочется сладкого вина, — захныкала Мария, мечтательно посмотрела на Гонзика и потянулась, как кошка.
— Смотри, как бы тебя господь не покарал за такое кощунство, — проскрипел голос мамаши. Однако злой блеск ее глаз относился к мужу, принявшемуся за вторую бутылку.
Из темного угла доносилось дребезжание жестяного паровозика и возбужденное сопение Бронека.
— Вы какие-то рохли, заскорузлые эгоисты, тьфу! — вдруг воскликнула Баронесса. Вацлав готов был ее обнять. — Сидите тут, как мокрые курицы, ни на что не способны. Начинайте вы, Капитан, — приказала она.
Капитан изумленно огляделся, надул щеки, шумно вздохнул, развел руками.
— Моя история вам ведь известна, черт бы ее побрал! — сказал он с обычной для него прямотой. — Аэродром в Чешских Будейовицах, февраль тысяча девятьсот сорок восьмого. «Капитан, полетите по тренировочному маршруту в треугольнике: Чешский Крумлов — Прахатице — Чешске Будейовице и уточните учебную задачу для своего звена истребителей!» — «Есть, товарищ майор!»
«Брум-гуиии, гуии, рррр…»
Крумлов, два моста через Влтаву, замок на скале. Лечу себе, все идет как по маслу. Гляжу, а внизу уже замок Рожмберк, ни души кругом. Даже белая пани Перхта и та не бродит по крышам. Вышши-Брод. Проклятая ручка управления, она вдруг стала такой непослушной. А граница уже где-то за спиной! Только тут я сумел повернуть ее. Самую малость — Мюнхен — Пасов. I announce landing, mister colonel[71]. Тренировочный полет закончен. That’s all[72].
— Великолепно, — захлопала в ладоши Баронесса, пригубила вино и схватила под руку Ярду. — Руководство нашей комнатой находится в надежных руках, а Ярда — мой кавалер. — И она запустила пальцы в его старательно уложенную гриву.
Ярда раздраженно отклонился. У него на языке вертелось резкое слово, но он вовремя сдержался.
— Кто следующий кандидат на исповедь? — бодро выкрикнула Баронесса.
Только один Вацлав заметил, с каким мучительным старанием она отводила глаза от елочки, стоявшей на противоположном конце стола.
Никто не изъявил желания рассказывать. Мария то и дело сухо покашливала. Свечки догорали, Капитан тушил огарки.
— Вон ту оставьте, Капитан! Пусть еще немножко посветит, — попросила молчавшая весь вечер Ганка.
Она сидела за столом, непривычно сгорбившись, распространяя вокруг запах гвоздики. Накрашенные губы ее были приоткрыты, светлые глаза упорно и настороженно смотрели на желтоватый огонек последней свечки.
— Неужели придется начинать мне самой? — помрачнела Баронесса. — Ну и в комнатку же я попала! — Она вздохнула, отпила вина и начала, поигрывая кораллами на шее: — Не мне, конечно, тягаться с Капитаном, друзья. Моя история страшно обыденна и неинтересна. Дочь Ида, обувная фабрика и зять Оскар. После смерти моего старичка руководил фабрикой зять. Но таланта, Geschäftsseele[73] — Баронесса постучала пальцем по лбу, — ни у него, ни у Иды не было. Ах, этот Оскар! Не будь меня, фабрика давным-давно прогорела бы в тяжкой конкуренции со Злином! А потом явились господа «товарищи»: «Убирайся с фабрики, старуха, да поскорее!» Все досталось им, и автомобиль, и даже стиральная машина — счет на ее покупку фигурировал в документах фабрики. С тех пор я стирала руками. Вот посмотрите, как они выглядят! — Она, повернув ладони кверху, растопырила все десять пальцев. — Оскар, — продолжала Баронесса, — этот блаженненький простофиля, не имел ни доллара ни в одном заграничном банке. Ничего! Но все-таки молодым удалось как-то перебраться за океан. Оскар уверял: «Как только устроимся, ты, мама, приедешь к нам». А, глупая! Давно бы я могла быть там, даже сейчас я попыталась бы там чего-нибудь добиться. Он почему-то не занимался обувью, бог знает отчего ему там во всем не повезло. Пробовал даже работать на табачной плантации — он, Оскар, с ручками, как у акушера. Ведь этот человек дома каждый вечер мазал физиономию ночным кремом! За какой только бизнес он там не принимался! Наконец допустил ужасную безответственность: его хватил апоплексический удар. И вот, представьте себе положеньице: Ида с ребенком в Буффало, а я — в Валке, обе без денег, и я изволь тащить ее из болота! Ваше здоровье, молодой человек. — И Баронесса чокнулась кружкой Ярды о его же бутылку. — Бурда! — Баронесса скривила лицо. — Мы с Вилли предпочитали бежоле, но любили и вослайер. А портвейн, mein Gott![74] Воспоминания — это все равно, что чугунное ядро, прикованное к ноге сосланного на галеры. Как мне было бы хорошо, если бы я не знала Ривьеры, Цюриха, Гельголанда и Будапешта! Ведь я от Далмации нос воротила, золотые вы мои! Пляжи там каменистые! Да, — вздохнула Баронесса. — Нет большей глупости, чем вспоминать в нужде счастливые времена! — И она задумчиво сощурила глаза. — Только я не раскисну, нет! Все снова будет хорошо, это только вопрос времени. Я никогда не терялась, не пропаду и теперь. Верю в международную солидарность — солидарность коммерсантов. Ей не страшен никакой коммунизм. Мои торговые друзья не оставят меня. Придет время, и я снова буду ездить в автомобиле и пить портвейн.
Ярда встал, подбросил в огонь несколько планок. Сырое дерево чадило и дымило из дыр в железной печурке. В комнате опять наступило молчание.
На потном лице захмелевшего Штефанского, склонившегося над бутылками, светилось тихое, давно не выпадавшее на его долю счастье. Гонзик упорно старался не смотреть в лицо Ирены. Во время обычных обедов и ужинов можно было сделать так, чтобы одновременно не сидеть за столом, но теперь старая рана могла открыться: мучительное видение десятков мужских рук, лапающих ее белое тело, возвращалось к нему, как призрак.
Катка неподвижно сидела возле Вацлава, водя ногтем по желобку на доске стола. Вацлав не был уверен, слушала ли она вообще Баронессу.
«Ганс» — все сосредоточилось для нее в этом образе. Как встречает этот сочельник ее голубоглазый Ганс? Она видит его, видит их единственное совместное рождество через несколько дней после свадьбы. Ганс в смокинге, она в длинном темном платье — «семейные торжества», как он это называл, были слабостью Ганса. Зажгли два подсвечника, каждый на три свечи, на столе, свет погасили, и Каткина мама начала подавать на стол, не доверив эту работу молодоженам. Мать уже смирилась с военным прошлым Ганса и даже начала восхищаться им. Как он умел найти к ней подход!
Уже второй сочельник без него! А что будет на следующее рождество? Боже мой, как его найти в этом вавилонском хаосе Западной Германии? Неужели придется вот так до бесконечности писать в справочные бюро больших городов и получать отрицательные ответы? А что же Ганс? Почему он тебя не ищет? Как понять, что за последнее время он не сделал даже попытки узнать, дома ты или нет? А если он узнал, что ты уехала в Германию, почему не справится в эмигрантских лагерях, — это ведь куда проще, чем искать одного-единственного среди пятидесяти миллионов населения!
Из угла донесся приглушенный плач. Все удивленно оглянулись: Бронек лежал, прижав коленки и руки к животу, и тихо стонал. Мать наклонилась над ним.
— Зачем сожрал ужин Марии? Ведь знаешь, что у тебя от этого пучит живот. Ради святого вечера и то не мог не обожраться, — ворчала Штефанская на своем малопонятном для присутствующих ратиборском шлёнском наречии.
Штефанский с Капитаном отнесли Бронека на нары и прикрыли его одеялом, но он в ужасе приподнялся на локте: где паровозик? Ему подали игрушку, и он уставился на нее с обожанием. У паровозика были красные колеса и массивный шатун, когда-то это была роскошная игрушка.
— Нужно сводить его в больницу на исследование. Это похоже на аппендицит, — сказал, помрачнев, Капитан.
— Мальчишка много жрет. — Штефанский без толку топтался в узком проходе между нарами. — Это у него от нее, — поляк указал на жену. — Когда была молодая, ее раздувало от всякой лишней груши.
Штефанская сердито расправила одеяло и положила мальчику на лоб мокрую тряпку, смутно веря в универсальность этого средства.
— Ну, девочки, хватит играть в молчанку! — Баронесса попыталась рассеять хмурую тишину. Однако ее слова показались всем неуместными.
Ирена смотрела неприязненно и часто затягивалась сигаретой.
— Но ведь вы же не хотите, чтобы я за вас рассказала сентиментальную сказку о двух принцах и двух принцессах, — продолжала Баронесса нарочито грубым голосом.
Она враждебно скользнула взглядом по красивой груди Ирены, плотно сжала губы и крепче стиснула в руке кружку с вином.
— Только принцы оказались мерзавцами. Это, впрочем, случалось и не с такими дамами. Даже с Марией-Антуанеттой или императрицей Шарлоттой… Вот это мускулы! — вдруг круто переменила она тему и обеими руками сжала бицепс Ярды. — Встретиться бы нам, парень, с тобой лет тридцать тому назад, был бы совсем другой разговор…
К изумлению Вацлава, Ярда не отшвырнул с презрением тощие руки Баронессы, а довольно вежливо снял их со своего плеча, придвинул свою бутылку и галантно сказал:
— Выпейте, Баронесса, за мое здоровье.
Старая пани метнула язвительный взгляд на Ирену.
— Вас удивляют ваши кавалеры, дамочки? Такая вдовушка чего-нибудь да стоит! Она не только сберегла силы, но и квартиру, приличную пенсию и к тому еще неофициальный ореол мученицы в глазах властей!
— Оставьте это, Баронесса! — Ирена резко поставила свою кружку на стол. — Пейте себе вино, а других оставьте в покое.
— Надо было самим что-нибудь рассказать, но мы для вас, видите ли, недостаточно аристократическая компания и говорим только по-чешски, — съехидничала Баронесса и прибавила повелительным тоном: — Подбросьте дровишек кто-нибудь, а то все погаснет. — И Баронесса прижалась к Ярде.
Коротенький огарок свечи начал потрескивать и чадить. Капитан потушил огонек пальцами. Острый запах паленого фитиля поплыл над столом. Ганка пристально, не мигая, глядела туда, где только что светился язычок пламени. Его последние, замиравшие вспышки до сих пор мельтешили перед ее глазами. Вдруг девушка всхлипнула, зажмурилась и медленно склонила взлохмаченную голову на руки, лежавшие на столе. Ее плач, все усиливаясь, перешел в рыдание, которому, казалось, не будет конца. Яркие эффектные серьги в ее ушах бессильно тряслись. Все растерялись и сидели подавленные, в тягостном унынии. Больше всех был удручен Гонзик. Он никак не мог понять, почему именно Ганка, эта грубоватая девица с угреватым лицом и похотливыми губами…
Наконец Ирена собралась с духом.
— Не сходи с ума, Ганка, ну, хватит, успокойся… — Она обняла подругу за плечи и повела к нарам.
Ганка, закрыв лицо руками, словно девочка, плачущая о разбитой кукле, неловко влезла на нары и легла как была — обутая, в праздничном платье. Ее сигарета с красным ободочком от губ осталась на краю стола. Тоненькая нитка дыма тянулась от нее кверху и расплывалась под потолком в легкое облачко. Гонзик наблюдал, как сигарета постепенно превращалась в полоску пепла, которая затем обломилась и упала.
«Пепек в соседней комнате, — думал Гонзик, — но он не позвал к себе Ганку и сам к ней не пришел, а ведь они брат и сестра…»
Всхлипывания, доносившиеся из-под одеяла, доконали Гонзика. Стремглав, как будто под ним подломилась сухая ветка, он с головой нырнул в воспоминания, которые в последнее время гнал от себя: кухня у них дома, мама со строго сдвинутыми бровями, на плите, распространяя аппетитный запах, потрескивая, жарится рождественский карп, в духовке печется одна порция с тмином для мамы. Праздничная скатерть на кухонном столе, и над ним, на стене, знакомая вышитая синим надпись: «Где любовь, тишь да гладь, там и божья благодать».
Мама. Широкая прядь седеющих волос над лбом; мама вечно куда-то торопится; напрасно теперь он роется в памяти, стараясь припомнить, видел ли он ее когда-нибудь без дела. Может быть, сегодня она притворяется перед самой собой, что никакого рождественского праздника нет вообще?
Однажды ночью маневрировавший состав зацепил отца и протащил вдоль всей платформы. Гонзик смутно помнит только блестящие тромбоны духового оркестра на многолюдных похоронах железнодорожника; с того времени, если случается бывать на вокзале, Гонзик с тягостным чувством отводит глаза от узкого промежутка между платформой и вагонами. Образ отца для него с детства ассоциировался со свадебной фотографией, которая висела над пропахшим лавандой бельевым комодом: отец застыл на ней с торжественной и напряженной улыбкой; и еще при имени отца Гонзику вспоминаются мамины руки, бессильно опущенные на колени всегда, когда она рассказывала о погибшем муже.
И вот теперь, в эту минуту, облик матери совершенно реально возник перед его глазами. Ему даже хотелось протянуть руку и прикоснуться к ней, к своей преждевременно состарившейся мамочке с узлом волос на макушке и узкими плечами; ее жизнь на протяжении последних пятнадцати лет имела лишь один-единственный смысл: будущее Гонзика. Он побледнел и усилием воли закрыл глаза — ведь он все же мужчина, мужчина. Но сдерживаемые непролитые слезы стали комком в горле, душили, рвались наружу: «Что ты наделал?.. Почему?..»
В самом деле, почему? Ты не можешь избавиться от этого вопроса, неотступно, как тень, следует он за тобой… По мере того как удлиняется ряд прожитых здесь дней, этот мучительный вопрос вырастает до чудовищных размеров. Люди около тебя — у каждого из них есть какие-то причины, из-за которых они оказались здесь. У одних они более серьезны, у других — менее. Ну, а ты?
Отвращение к работе, возникавшее время от времени; обида на то, что другие, дескать, лучше тебя и зарабатывают больше. Разговоры, что новые хозяева Чехословакии, мол, будут за грошовое жалованье выжимать все соки из людей. Туманное представление о заграничном рае, где за работу, вдвое меньшую, якобы платят втрое больше. Книги и брошюрки, дразнящие, волнующие, страница за страницей незаметно и помимо сознания западавшие в душу, — волшебный романтический мир, моря, пустыни, приключения.
Гонзик, закрыв глаза, явственно увидел свой наборный цех. Ворчун-мастер с очками, поднятыми на лоб, товарищи, их шутки, которыми они перебрасываются во время работы, легкое подтрунивание друг над другом; первые две тысячи, которые он принес домой.
Какое страшное, непонятное безрассудство, какую безответственность проявил он по отношению к маме и к самому себе! Как избавление воспринял он шумный говор, топанье, смех, возникшие в коридоре. Через распахнувшуюся дверь в комнату вплыла черная сутана. Папаша Кодл вел патера под руку. Покрасневшая рука священника сжимала костяной крест на груди.
— Здравствуйте, братья и сестры! Я уверен, что среди вас не найдется ни одного человека, который бы не пришел на всенощную; я буду ее служить специально для вас. Мы попали в трудное положение, и управление лагеря решило принимать во внимание ваше присутствие на всенощной при новогодней раздаче масла. Приходите, бог во все времена был на стороне страждущих и обремененных, наша сила — в непоколебимой вере.
Он окинул комнату воодушевленным взором и вышел.
— А папаша Кодл, — он был в новом овчинном тулупе, с вышивкой, — рождественском подарке, — прибыл к вам от имени управления лагеря в качестве представителя самого Совета свободной Чехословакии, чтобы от всего сердца пожелать вам радостных рождественских праздников! Идите, молодцы, сюда, несите рог изобилия! — проговорил он и обернулся с театральным жестом.
Два носильщика наклонили широкий деревянный ящик, чтобы пройти в дверь, и его содержимое пересыпалось к одной стороне. Папаша Кодл швырнул свою широкополую шляпу на стол.
— Елочка, свечки, очарование домашнего уюта — я одобряю. — В уголках губ у него выступили пузырьки пены. — О, и Катушка здесь! Так, так, в такой день оттаивает каждое покинутое сердечко, и оно дождется, оно… — Он потерял нить и рукавом тулупа вытер потный лоб.
— Каждому по два яблока и по пять винных ягод! Да не отплатите мне за доброту дракой при дележе, банда вы этакая, ведь нынче сочельник. — Говоря так, Кодл весело ржал. Затем он схватил со стола чью-то бутылку и начал пить прямо из горлышка.
Штефанский инстинктом пьяного почувствовал в Кодле родственную душу. Вопреки всем нормам субординации, он облапил заместителя начальника лагеря и чмокнул его в щеку.
— Chrystus sie narodzil. Szczesliwe Wigilie![75]
— Куда ты лезешь? — набросилась на мужа Штефанская. Тщетно пытаясь оттащить его от Кодла, она барабанила по спине своего мужа маленькими смуглыми кулачками. Длинный, как жердь, Штефанский только счастливо смеялся и в порыве нежных чувств шершавой рукой погладил изумленного Кодла по щеке.
— А где же Ганочка, неужели она спит, кошечка? — Папаша Кодл направился в угол, тяжело поднялся на первую ступеньку лесенки и запустил руку под одеяло.
— Убирайтесь! — крикнула Ганка и повернулась к нему спиной.
— Однако, голубушка, знай, с кем говоришь! Я все же здесь начальник. Так вот она, благодарность за яблоки и инжир… — забормотал Кодл, тяжело спускаясь на пол.
— Оставьте ее, ей не по себе, — подошла к нему Ирена. Она достала из чемоданчика бутылку и налила полную кружку. — Выпейте за счастливое и веселое рождество.
— «The old Sam»![76] — воскликнул папаша Кодл. Он поднял кружку и торжественно стукнул каблуками. — «Войди в живот мой и не причини мне зла». — Единым духом выпил и, крякнув: — Нектар, черт возьми, — вытер губы рукавом овчинного тулупа. — Чего я никогда не прощу нашей паршивой республике, — продолжал он, — так это того, что она не сумела изготовить порядочного виски и в оставшейся ей краткой жизни теперь никогда уже не изготовит! Когда вернемся в Прагу и я в «Золотой короне» снова буду пить «The old Sam» и мечтательно смотреть через Влтаву на Вышеград, тогда я помяну тебя добрым словом, девочка. — Грузно ступая на пятки, Кодл выбрался из прохода между нарами, опустил руку в карман, набитый инжиром, вытащил одну ягоду и начал жевать. — Бронек, старый партизан, папаша Кодл чуть не забыл, что пришел сюда ради тебя!
Он встал перед мальчиком, широко расставив ноги, и приложил указательный палец к губам. Все затихли. Папаша Кодл вытянул из мехового воротника круглую взлохмаченную голову и, как заяц, стал шевелить ушами. Бронек так хохотал, что даже нары тряслись. Папаша Кодл поочередно поднимал брови и в то же время шевелил ушами; он вспотел в своей шубе и вытирал лицо платочком. В конце концов он вытащил из кармана большой апельсин и эффектным жестом бросил его мальчику.
К Кодлу подошел Вацлав.
— Вынужден обратиться к вам с просьбой. Скоро зима, а у меня только дождевик, — сказал юноша глухо. — Сюда поступают посылки с одеждой, дайте мне зимнее пальто, замерзаю.
Папаша Кодл дружески обнял его.
— Желающих много, но я возьму тебя на заметку. Немного терпенья, камрад.
Он обернулся к остальным.
— Желаю всем вам следующее рождество встретить дома! Слышали речь министра час тому назад? В новом году коммунизм получит если не свое Ватерлоо, так, по крайней мере, Березину. Очень обнадеживающая речь — не какое-нибудь рождественское краснобайство с пустыми обещаниями. Это объективная речь! Кто из вас не желал бы через год встретиться с папашей Кодлом на всенощной в храме святого Микулаша в Праге? Оставайтесь с богом, дети. Привет.
Его черная поношенная шляпа осталась на столе возле двенадцати порций фруктов. Капитан посмотрел на шляпу, затем взял ее и вышел вслед за Кодлом в коридор. Вернувшись, он положил одно яблоко и пять ягод инжира в свою шапку и направился в угол к двери, но на полдороге нерешительно остановился, подумал, вернулся к столу, вложил в шапку второе яблоко и все это высыпал на одеяло Бронека. Гонзик тоже отдал часть своих фруктов мальчику. Бронек широко открытыми глазами смотрел на это изобилие, крепко сжимая грязной ручонкой подаренную ему машину; его бледное веснушчатое лицо сияло непередаваемым счастьем.
— Каждый год я оставляла тысячу крон под елкой на площади Свободы в Праге, — Баронесса попыталась нарушить тягостную тишину. — И пятьдесят крон давала полицейскому, который охранял эту общественную копилку. Если бы мне иметь сейчас те полсотни довоенных крон, я купила бы тебе к рождеству шелковую рубашку, — шлепнула она Ярду по спине. — А то у тебя, гляди, воротник превратился в лохмотья. Пей, парень, пей! Эх, не хватает тебе, дружок, темперамента! Когда мне было двадцать, умела я кружить головы вашему брату!
Вацлав посмотрел на Баронессу. Обвисшая кожа на ее шее напоминала кожу слона.
Штефанский, лежащий на нарах, раскинув руки и широко раскрыв рот, захрапел.
— Есть такой анекдот. — Капитан закурил, поморгал глазами, неуверенно оглянулся. — Бабушка лежит на кровати и никак не поймет, кто же это около нее топ-топ-топ-топ… топает, а это, оказывается, ее платья выходят из моды.
Вацлав наградил Капитана улыбкой за его стремление хоть как-то разрядить атмосферу. Баронесса же, как обычно, благодарно хохотала во все горло.
— Выпьем до дна, друзья мои!
Подняли кружки, допили вино, не глядя друг на друга. Вацлав вдруг глубоко почувствовал, как одинок каждый из них. Ему стало жаль Баронессу за ее честные, но бесплодные усилия в продолжение всего вечера как-то сплотить эту группку людей. Вацлав тайком сжал Каткину руку. Минутку она терпела, но затем вынула руку из его ладони.
Нары в углу затрещали. Ганка села, пряча бледное, угрюмое лицо. Несколько мгновений она нерешительно смотрела в пустоту, потом нащупала бутылку, налила немного виски в чашку, из которой Ирена потчевала папашу Кодла, выпила, слегка встряхнулась. Слезла с нар, ладонями попробовала разгладить смятое платье, накинула на плечи пальто, мельком взглянула в зеркальце: не видно ли, что плакала? Сильно напудрилась. Кивнула Ирене и вышла. И черт ее дернул участвовать в этой паршивой вечеринке! Лучше бы весь вечер провести в кабачке: там мальчики, весело и, конечно, танцуют под джаз, транслируемый из США; компания уже, конечно, под градусами и в ударе, ей придется догонять. Но сегодня, именно сегодня она их всех перегонит, вот бог свидетель!
Вацлав взглянул на оставшихся за столом. Семь равнодушных, погруженных в свои мысли людей. Сотни подобных им сидят в клубе, кабаках, тысячи отмечают сочельник в других лагерях, разбросанных по всей Западной Германии. Валка, Аугустдорф, Швабах, Мохендорф — как бы эти лагеря ни назывались, в бараках любого из них люди, тесно усевшиеся за столами, более одиноки, чем потерпевший кораблекрушение моряк, выброшенный на необитаемый остров.
Толпа, беспомощная, как медуза на берегу.
Сегодня мысли Вацлава были особенно острыми, неожиданно четкими. Чем, в сущности, является современная эмиграция?
Странный организм, голова которого на пять тысяч километров удалена от тела. Представительная голова, а тело хилое, общипанное; они подходят друг к другу, как нищий бедняк к миллионеру. Разве могут поддержать жизнедеятельность этого аморфного организма тоненькие, реденькие связующие нервы в виде бывших футболистов в твидовых пиджачках? Борцы! Как могут они поднять меч, когда им недостает позвоночника? И еще более важного: идеи?
Мария залезла на свои нары и стала при всех раздеваться. Она уже давно отвыкла стесняться.
— Мне так хотелось сладкого вина, — капризным тоном сказала она и легла на спину. — Думала я, что хотя бы сегодня объявится Казимир… Он подарил бы мне нейлоновую сумочку.
Темные стены комнаты, казалось, наклонялись, чтобы раздавить Вацлава. Он встал и позвал Катку на всенощную.
— Хотите получить масло? — безразлично спросила она.
— Хочу уйти отсюда.
Целый вечер он втайне радовался, что приготовил ей сюрприз. Как бы невзначай он запустил руку в свой рюкзак, висевший над постелью. Капитан стоял возле, опершись локтями на верхние нары, и пристально глядел на какую-то карточку. Вацлав заглянул в нее и увидел фотографию девочки с большим бумажным змеем в руках. Капитана передернуло, он насупился и спрятал фотографию Вацлав досадовал сам на себя: ему не хотелось быть бестактным.
— Твоя дочка? — участливо спросил он.
Капитан шумно бросил ботинки на пол и начал обуваться. Носок как-то смялся. Капитан стал сердито топать ногой по полу Обувшись наконец, он обмотал шею шарфом и накинул пальто на плечи.
— Суд присудил ее моей бывшей жене. И я, стало быть, свободен от каких-либо обязательств, — сказал Капитан сдавленным голосом, как-то подчеркнуто, будто оправдываясь, затем повернулся спиной и ушел.
Вацлав шагал возле Катки. Они шли по освещенному лагерю к церкви. Вацлав нервозно оглядывался: ему казалось, что тень, которая двигалась за ним шагах в пятидесяти, — это Гонзик. Окна многих бараков до сих пор еще светились, то в одном, то в другом из них были видны елочки. За окнами чешского трактира они увидели стройную елку почти до потолка; электрические свечки, блеск серебряной канители едва пробивались сквозь густые облака табачного дыма. Через открытые двери на улицу доносилось хоровое пение коляд. В эти напевы то и дело врывалась английская джазовая песенка.
Вацлав почувствовал, как забилось у него сердце. Он остановился в густой тени барака, задержал Катку за руку, волнуясь, достал из кармана вязаные рукавички.
— И я по дороге из города встретил Иисуса-младенца.
Катка изумленно взглянула на него, держа подарок в руках.
— Что вы… — Она не могла продолжать, как будто голос у нее прервался.
— Это против плохого кровообращения, — улыбнулся Вацлав.
— Где вы взяли деньги?
— Это не имеет значения.
— Я хочу знать, — твердо сказала она.
Вацлав понял, что она подозревает неладное.
— Я разгружал вагон у рабовладелицы, вы же сами мне это подсказали. Но нас постигла неудача: кто-то эту бабу выдал, заявив, что она за нас не уплатила страхового взноса, и ей запретили брать лагерников.
У Катки опустились руки. Она попыталась что-то сказать, но только беззвучно шевелила губами и затравленным взглядом смотрела ему в лицо.
Чужой человек подумал о ней, первые и единственные заработанные деньги он пожертвовал ей, а Ганс, ее муж… Ее охватило глубокое сожаление, сознание одиночества и неудовлетворенности собой; этот бледный студент любит ее, а она глуха к его чувству. Все в ней устремлено к единой цели, единому смыслу ее жизни — Гансу. А что, если?.. Боже мой, если Ганс уже о ней и не думает! Кто знает, где и с кем провел он сегодняшний день!..
Вацлав шел рядом, касаясь ее плечом, душу его заливали волны восторга, вдохновенной эгоистической радости дающего. В конце лагерной улицы светились окна костела, в дуновении ветра послышались звуки фисгармонии — всенощная началась.
Катка остановилась и повернулась к нему лицом, вдруг плечи ее вздрогнули, и она, жалобно, по-детски всхлипнув, прижалась лбом к его плечу. В ладонях Вацлава вздрагивали от судорожных рыданий ее руки. Он совсем растерялся, бормотал бессвязные слова утешения и счастливо улыбался куда-то в темноту. Бог весть как это произошло, но он почувствовал на своих губах горьковато-соленый привкус. Вацлав едва преодолел желание приподнять ее опущенную голову и поцеловать. Но в самый критический момент невдалеке от них заскрипел песок. Кто-то нерешительно остановился.
Гонзик ошеломленно смотрел на два неясных силуэта перед собой и не мог решить, идти ли ему дальше или вернуться; что-то горячее сдавило ему горло. Не зная, что делать, он переступил с ноги на ногу, вздернул воротник, резко всунул в карманы руки и побрел наобум в первую попавшуюся боковую улочку.
Вацлав — его друг. Он, конечно, имеет право быть здесь с кем угодно, но все же… Нет, нужно выбросить это из головы, нельзя допустить, чтобы между ним и Вацлавом встало что-то. Он не должен терять свою единственную опору. Или прав был профессор, говоря, что нигде и ни у кого, а только в самом себе можно обрести убежище от разочарований, которые несет нам здесь каждый день.
Мама — вот с кого надо брать пример. Ее жизнь после смерти отца — беспрестанная борьба с нуждой, ни в ком не было ей ни опоры, ни помощи, и все же она никогда не жаловалась. Только теперь поняв это, Гонзик почувствовал что-то вроде стыда.
Через полчаса холодный, пронизывающий ветер загнал его обратно в комнату. Свет был уже погашен. Елочка нежно благоухала во тьме, а в углу, у двери, чувствовался дурманящий, роскошный запах апельсина, преподнесенного сегодня Бронеку. Из этого темного угла смотрели два широко раскрытых блестящих глаза. Сам не понимая зачем, Гонзик подошел. Девушка лежала на спине, закинув руки под голову. Гонзик присел на краешек нар.
— Мне показалось, что это Казимир… — зашептала Мария так тихо, что он едва понял ее.
— А кто он такой?
— Он говорил, что женится на мне. Бежал с нами в Германию, потом куда-то исчез.
Она вытащила руки из-под головы и медленно опустила их на одеяло. Уличный фонарь отбрасывал сюда слабо мерцающий свет. Очертания некрасивого лица Марии стали мягкими. Только глаза — две светящиеся точки пронизывали полумрак. Вдруг Гонзик почувствовал горячие пальцы на своей ладони. Рука Марии с усилием стала тянуть его к себе, в тишине комнаты он отчетливо услышал учащенное дыхание девушки. От растерянности он перестал сопротивляться, но вдруг его ладонь нечаянно коснулась твердого соска. Как будто электрический ток пронизал парня с головы до пят, его охватил ужас: ничего, кроме твердого бугорка, только ужасающая плоскость грудной клетки и остро торчащие ребра. Гонзик вырвал руку.
— Доброй ночи, — прошептал он, сгорая от стыда, и ретировался к своим нарам.
Из угла отозвался надсадный кашель. Гонзик шумно залезал на нары, сердясь на себя за то, что ноги его не слушаются. Острое чувство стыда навалилось на него, пригибало к земле.
11
Увитая плющом прекрасная вилла; вдалеке, за длинным фасадом Лувра, в холодном сиянии опалового солнца на Сене блестит тоненький ледок.
— Добро пожаловать, профессор! — выскочил из-за письменного стола секретарь Совета, как только девушка-секретарша сообщила ему о визите. — Это подлинная честь приветствовать на земле свободного мира такое глубокоуважаемое имя! Лучшие сыны народа постепенно осознают, где нужно искать настоящую демократию и гуманность. — Он прикоснулся к узенькой полоске усов и одернул пиджак.
Профессор с удивлением смотрел на здоровый, загорелый цвет его лица, особенно заметный рядом с белоснежным воротничком рубашки. Маркус стоял ссутулившись, чуть наклонившись вперед — поясница снова причиняла ему страдания.
— Министр у себя?
— Ожидаем с минуты на минуту. Он уже знает о вашем визите и вызвал руководителя секции Крибиха и депутата парламента Мразову для неофициальной беседы с вами.
Внизу стукнули дверцы автомашины, секретарша ввела приглашенных. Вскоре приехал и министр.
— Добро пожаловать, профессор! — министр на какой-то миг радушно стиснул гостя в своих объятиях. Его благообразное, утомленное лицо озарилось улыбкой. — Ну вот, лучшие сыны народа постепенно осознают, что их место на стороне подлинной демократии, свободы и гуманности!
Профессор при этих словах вопросительно посмотрел в глубину комнаты, на обладателя узких усиков, но секретарь смущенно потупился. Министр обеими ладонями пригладил седые виски.
— Приношу вам свои извинения, профессор, за неприятные недели в Валке. К сожалению, и действия американских учреждений не лишены причуд, и наши силы не являются неограниченными… И не примите, пожалуйста, за выражение недостаточного почтения то, что на встрече с вами нас так мало; мы трое, — министр описал рукой полукруг, — практически все, что осталось от прежнего сильного исполнительного комитета Областного Совета. Мы надеемся, что ваш авторитет будет убедительным подкреплением наших сил.
Министр сел, рассеянно оглядел лица присутствующих; его рука нервно теребила розетку на подлокотнике кожаного кресла.
— Вы плохо выглядите, господин министр, — пани Мразова поправила очки с сильными стеклами. — Недобрые вести?
— От добрых вестей я уже отвык, — ответил министр, глядя на Маркуса. — Американский национальный комитет «Свободной Европы» образуется намного раньше, чем мы думали. — Отвечая на вопросительный взгляд профессора, министр пояснил: — Видите ли, его задача будет заключаться в том, чтобы освободить наиболее выдающихся индивидуумов от бремени материальных забот, парализующих их политическую деятельность. Таким образом, должен возникнуть некий brain trust[77] для борьбы с коммунизмом. Но, разумеется, нас не удостоят включением. — Он неопределенно махнул рукой, уголки его рта иронически вздрогнули.
Министр на мгновение задумался.
— Ну-с, расскажите нам о родине, господин профессор. — Он глазами подал секретарше знак принести угощение.
— Едва ли я вас чем-нибудь удивлю, имеющаяся у вас информация, вероятно, свежее. — Профессор ерзал в кресле, стараясь найти удобное положение для своей больной поясницы.
— Мы имеем сведения, что в последнее время там создалось катастрофическое положение со стратегическими запасами, — сказал, закуривая, руководитель секции. Мускул на его лице нервно вздрогнул.
— Ну конечно, вы правы, профессор, господа коллеги действительно находятся у самых первоисточников. Надеемся, что они превосходно используют вновь создаваемую организацию, — с иронией в голосе ответил министр, пропустив мимо ушей сказанное Крибихом.
Пальцы министра все время беспокойно крутили латунную розетку. Он наклонился к Маркусу, голос его стал более агрессивным.
— Чехословакия была первой страной, откуда бежала масса народу, спасаясь от большевистского террора. Мы имели огромные шансы, полную поддержку, неограниченный кредит, нью-йоркские журналисты только и ждали сенсаций! Совет мог бы стать фундаментальной опорой в борьбе против большевизма, а в действительности что получилось? Прозаседав пять дней, Совет оказался неспособным даже избрать себе председателя, опубликовать какую-либо программу, вообще сорганизоваться… Перед лицом такой катастрофической неудачи многие господа коллеги устроили соревнование на скорость в получении заморских виз, — министр закинул ногу на ногу, закурил, его тонкие губы судорожно вздрагивали.
Профессор долго смотрел на красиво завязанный узел его черно-белого галстука.
— А разве вы не член Совета?
— Член Совета, разумеется, — откашлялся министр. — Кто-то ведь должен был пожертвовать собой; было нелегко найти кандидатуру с достаточной дозой… идеализма, мягко выражаясь, на роль Черного Петра[78] в этой великолепной игре, — министр сделал кислую гримасу.
— Что же, разве центральным пунктом вашей политической деятельности, и Совета в целом, не является человек, его здоровье, благосостояние и счастье, его человеческое достоинство и развитие его личности в эмиграции? И как раз вы здесь, а не Совет из Нью-Йорка должны непосредственно опекать тех, которые нуждаются в помощи.
— Это звучит красиво, профессор, почти как с кафедры, — усмехнулся министр. — Только главным содержанием нашей работы не может быть благотворительная деятельность.
Белые руки с красными ногтями поставили поднос с бутербродами и севрский кофейный сервиз; невыразительное лицо девушки глядело куда-то поверх голов людей, сидевших за низким столиком.
Наступила напряженная пауза. Депутат кашлянула, открыла и снова заперла замок сумочки, лежавшей у нее на коленях.
— Перебежчики из республики рассказывают, что затея с рождественскими подарками окончилась полным провалом, — деликатно, но в то же время подчеркнуто произнесла она.
— А верно ли, что там готовится конфискация радиоприемников? Кажется, «Свободная Европа» подсыпала перцу пражскому правительству, — сказал Крибих, оттягивая отворот темного пиджака.
Профессор поднял глаза от чашки.
— Я хотел бы с вами говорить о вещах более серьезных, чем какие-то сплетни о республике. О свободе человека!
Министр выжидательно прищурил глаза.
— Я не хочу делать выводы из того, что я увидел в первые недели жизни в эмиграции. Я понимаю, что лагери не представляют всей эмиграции, но опасаюсь, что они составляют огромную ее часть. Большинство беженцев уходят из республики с убеждением, что здешняя жизнь принесет им наконец облегчение, приведет их в дружный коллектив лучших наших людей, индивидуальность которых не терпит над собой насилия. А в действительности что находят беженцы? Горстку потерпевших крушение неудачников, подобных скорее подонкам нации, нежели ее ядру. Вместо радости от найденной свободы — ад без перспективы. Вместо монолитного коллектива — полнейшую разобщенность, какой не знала история обоих наших народов. И не удивительно: войско, позорно брошенное полководцами, всегда в конце концов становилось ордой, наводящей ужас на всю округу.
— Вопрос в том, каковы ваши представления о свободе, профессор, — заметил министр и взял бутерброд.
— Я имею в виду такое освобождение человека, — ответил Маркус, — примером которого в сфере культуры может быть реформация, а в экономике — расцвет эпохи либерализма! Чешский народ отрекся бы от славнейшего периода своей истории, если бы не присоединился именно к этой тенденции мирового развития. Что предприняли вы, чтобы ослабить горькое разочарование наших людей, которые пришли сюда, чтобы обрести свободу?
Министр грыз мундштук; от этого звука у Мразовой нервно дергались уголки рта.
— Вероятно, не так уж трудно понять, дорогой друг, — ответил министр, — что задача руководящих лиц — это прежде всего осуществление высокой принципиальной политики… — Голос его прозвучал резче, чем он хотел.
Изумленный профессор оттолкнул блюдце с золотым ободком, голубая чашка опрокинулась, но старый господин не обратил на это внимания. На его лице отразилось какое то внезапное прозрение.
— По моему суждению, — хрипло отозвался Маркус после длинной паузы, — задачей генерала во время перемирия должна быть прежде всего повседневная забота, чтобы войско не терзали голод и вши, чтобы солдаты не воровали и не дрались между собой, не нагоняли бы ужас на окружающее население и не предавались всевозможной проституции.
— Вы утрируете, профессор, — руководитель секции встал и, заложив руки за спину, начал энергично вышагивать по комнате. — Мы имеем связь с лагерями, и хотя обстановка в них действительно отнюдь не прекрасная…
— Да, это верно, вы связаны с лагерями. — Маркус устало снял очки и протер глаза. — Одного вашего связного я лично встретил перед отъездом из Валки. Он сидит здесь, — и профессор указал на секретаря. — Разведчиков, которые извращают или умалчивают о своих наблюдениях, отправляют с фронта в военную тюрьму либо расстреливают. Слава всевышнему, что эмигрантский фронт, о котором пишут «Богемия» и «Свободный зитршек», в действительности только жалкий фарс!
— Господин профессор… — секретарь вспыхнул, руки его начали судорожно разглаживать загнувшийся уголок какого-то письма, — как вы можете…
— Мне сдается, что вы пришли нас всех обвинять, брат профессор. — Министр рассеянно выбил трубку. — Однако позвольте заметить вам: во-первых, вы судите о вещах совершенно односторонне и при этом полностью забываете о наших реальных трудностях, а во-вторых, все это не по адресу. Мы, которых вы здесь видите, как раз те генералы, которые не покинули своего войска, остальные же давно за океаном, в Совете! Некоторые так спешили туда, что вообще не остановились здесь. Пароход казался им недостаточно быстрым средством передвижения. Для надежности они полетели на самолете!
Треск пишущей машинки в соседней комнате давно затих. Только астматическое дыхание взволнованного профессора нарушало напряженную тишину.
Маркус с каким-то ужасом осознавал, что в нем все более и более разрушается вера в то, что деятельность и поведение интеллектуального и политического ядра народа должны базироваться на незыблемых моральных постулатах. Его объективизм в науке не допускал и мысли, что в таких сложных обстоятельствах ответственное лицо может поступиться моральными принципами, на которых с незапамятных времен зиждется свет, во имя ничтожных эгоистических интересов. Чешский народ в благополучные периоды своей истории всегда допускал раздробление сил, но потом снова и снова удивлял мир сплоченностью, когда его существование оказывалось в опасности. И, несмотря на внутреннюю разнородность интересов, внешне он вызывал восхищение, как остров порядка и демократии среди дезорганизации и беспорядка в Европе. Разве теперь, именно теперь народ не переживает один из тяжелейших кризисов, когда велением времени является единство, сплоченность, гуманизм и готовность к личным жертвам?
Нет, он сперва не верил тому, что узнал по приезде в Париж от французских друзей; о лавине партий, групп, союзов, наперебой организуемых бывшими чехословацкими политиками в погоне за тем, чтобы снискать расположение и поддержку иностранных официальных учреждений, а прежде всего, чтобы обеспечить себя лично.
Перед глазами Маркуса возникло широкое лицо Капитана. Вспомнил он и его слова: «Пятьдесят прутьев Сватоплука».
Профессор сидел удрученный. Образы Валки чередой проносились у него в голове. До сегодняшнего дня он рассматривал лагерь как тяжелую переходную ступень на пути к нормальной, достойной жизни, и только теперь к нему в душу закралось ужасное подозрение. Лагеря — это не временное пристанище для большинства — это конец.
Гнев нарастал в нем. Нет, нельзя молчать, иначе он потеряет всякое уважение к себе. Будь что будет, он скажет все!
— Нет, друзья, — произнес он без обиняков, — никто из вас и единого дня не прожил в лагере, не ел лагерного ужина, не сидел и получаса в харчевне, не интересовался, в чьих руках сосредоточено управление лагерями. В противном случае вы не сидели бы здесь так спокойно, умиротворенные, улыбающиеся! — Лицо его покраснело, а голос в первый раз сорвался. — Можете назвать меня идеалистическим фантазером, смутьяном, бунтарем или идиотом, можете замкнуться в роскоши интимной жизни, закрыть глаза, залепить воском уши, но вы не уничтожите этим ту непреложную истину, что мы, эмигранты, хотим мы этого или нет, взаимно связаны: то, что постигло одного, рано или поздно постигнет и всех остальных. Полководцы, которых не знает собственная армия или, еще хуже, относится к ним с издевкой либо пренебрежением, такие полководцы недолго остаются во главе армии. Недолго! — воскликнул профессор; запустив руку под пиджак, он прижал ее к левой стороне груди и тяжело оперся на подлокотники кресла. — «Высокая принципиальная политика»! — закончил он свое обвинение, придав голосу максимум иронии. — Надеюсь, что она принесла успех хотя бы тем, кто уже второй раз за короткий исторический период воображает себя призванным руководить народом…
Присутствующие в глубоком смущении невольно обратили свои взоры на министра, но на его лице промелькнула скорее снисходительность к этому старому фантазеру. Министр не спешил с ответом. Сегодня неудачный день. С утра у него было скверное настроение. Нет, нельзя считать удачным его пост в Париже. Глубокоуважаемые коллеги в Совете находятся у золотой жилы, они там близко к могущественным владыкам мира, а он должен прозябать здесь и радоваться пятнадцатиминутному приему у американского посла! К тому же вообще его положение непрочно. Глубокоуважаемые коллеги за его спиной могут принять любое решение. У него имеются там, правда, свои люди, но кто может гарантировать их надежность?
Изложница, в которой бушует кипящий металл. То на поверхности оказывается группа, к которой принадлежит он, то берет верх оппозиционная группа. И где гарантия, что в один прекрасный день его друзья и он сам не полетят ко всем чертям? И в чем вообще можно быть уверенным сегодня? Где найдешь безопасное место в этом долларовом маскараде, на котором танцующие то и дело наступают друг другу на глотку?
Ну его к черту, этот Париж! Министру всегда хотелось быть в самом центре, в главном штабе, а отнюдь не в передовом дозоре! И ему тоже хотелось бы, наконец, отдохнуть после бурного плавания последнего года, а затем уже формировать резервы, не спеша устанавливать орудия на позициях! «Ведь я не сопливый школьник, дорогие коллеги, и в случае, если вы потеряете чувство меры, в одну из ночей здесь, в Париже, может образоваться новый Совет!»
Но тут же министр с горечью вспомнил о «верных» соратниках, на которых пришлось бы опереться в таком мятежном деле. Приверженцы эти оказались мнимыми друзьями. Они отдали предпочтение Нью-Йорку. Ну и черт с ними! На них свет не сошелся клином. Приходят новые кадры. Все еще приходят новые люди, на которых можно ставить солидную ставку. Вот и этот человек в кресле напротив мог бы быть одним из них. Однако его идеалистический бред не внушает надежды на то, что его можно будет использовать как тяжелую артиллерию в случае войны с Нью-Йорком. Ученый муж, должно быть, жил не в грешном мире, а витал где-то между небом и землей.
Задумчиво и брезгливо глядел министр на то, как его гость достал две пилюльки и запил их глотком воды. Он едва воспринимал слова Маркуса. А профессор продолжал:
— Беседовал я здесь с разными людьми. Коллега из Сорбонны мне сказал: «Вы, чешские эмигранты, имеете необычайную способность очень быстро воспринимать специфические недостатки страны, в которой получили убежище. К арсеналу своего политического оружия вы проворно присоединяете и заляпанные грязью, ржавые гаубицы чужой страны». Понимаете, — продолжал Маркус, — коллега сказал мне, что люди, которые прокламируют восстановление свободы в порабощенной Чехословакии и при этом грызутся между собой, как стая волков, возбуждают во французских политических кругах и в глазах общественности в наилучшем случае недоумение… «Ваши люди вконец ослабляют свои позиции совершенно напрасными мелкими проступками: они не держат данного слова, допускают неточности и тому подобное».
Министр немного выпрямился в кресле и спросил:
— Это что, личный выпад, профессор?
Старый господин не спеша протер очки.
— Я лишь передал слова своего французского коллеги, — сказал он вполголоса.
Министр усилием воли принуждал себя к спокойствию. Он налил себе чашечку кофе, пригладил свои седеющие, курчавившиеся на висках волосы.
— Вы ученый, профессор. Политика, я прошу меня понять, руководствуется несколько иными законами, чем точные науки…
Маркус посмотрел на часы.
— Я опасаюсь, друзья, что вы зря тратите со мной драгоценное время. Меня всегда считали человеком с тяжелым характером. Прямолинейность и откровенность не особенно приветствовались и во времена первой республики, а в период оккупации я за это угодил в концлагерь. У меня нет иллюзорных надежд на то, что сегодня я привлек вас на свою сторону и вызвал к себе симпатии. Но я не мог поступиться уважением к себе, не мог молчать, чего бы мне это ни стоило. Я не разделяю мнения, что «живая собака лучше мертвого льва». Вы меня назвали судьей! Нет, я пришел к вам с призывом: «Опомнитесь, друзья, вылезайте из своих роскошных квартир и выполняйте свой долг!»
Когда читаешь в «Свободном зитршке», что на содержание каждого чешского беженца мировая благотворительность уже затратила три тысячи семьсот долларов, — это звучит как ужасное обвинение по адресу руководителей эмиграции. Огромная сумма! Но этому факту, к сожалению, сопутствует другое: не менее полсотни беженцев должны голодать для того, чтобы один руководящий деятель эмиграции мог жить в роскоши! Хотя, конечно, и ведущие лица имеют право пользоваться материальными благами мировой благотворительности.
Руководитель секции Крибих перестал метаться по комнате, его пухлые щеки пылали; он уставился на министра, полный священного ужаса: когда же тот намерен, наконец, покончить с этой пыткой? Но министр с невозмутимым спокойствием только поглубже уселся в кресле.
— Вы ошибаетесь, господин профессор, если думаете, что мы считаем вас судьей. Мы находимся здесь для того, чтобы выслушать голос каждого нашего человека, будь он в мантии ученого или в рабочей куртке. Но, конечно, от степени индивидуального восприятия каждого из нас зависит, как реагировать на несправедливость. Толстой говорил: «Никогда не оправдывайся!» И мы тоже не намерены этого делать: для человека, к счастью, решающим является не обвинение, а его собственная совесть. Тем не менее было бы хорошо услышать мнение и остальных присутствующих — брата Крибиха, сестры Мразовой, брата секретаря…
Мразова встрепенулась, тонкие ноздри прямого узкого носа нетерпеливо вздрогнули.
— Профессор во многом прав, друзья, — отозвалась она. — Будем искренни, и, несмотря на то, что от опошленного коммунистами слова «самокритика» у меня разливается желчь, я попытаюсь кое-что сказать именно в порядке этого понятия: не всегда мы играем наидостойнейшую роль в глазах наших братьев в лагерях! Они шли в эмиграцию с надеждой, что обретут тут не только свободу, но и свое правительство, испытанных руководителей, сплоченных единой пламенной идеей, новый отряд гуситских божьих воинов. А что нашли? Восемь политических партий, не говоря о крыльях, группах и фракциях. Нашли тут двадцать восемь различных союзов, увидели перед собой без малого сто пятьдесят различнейших организаций. Я не могу быть спокойной, зная, что на Западе прозябают чехи, чувствующие себя забытыми, пропащими, смятенными и беспомощными! — Близорукие глаза Мразовой под толстыми стеклами очков пылали воодушевлением, ее аскетические губы еще более сузились; она нервно напудрила нос.
Профессор, в недоумении поглядел на сестру Мразову, потом глубоко вздохнул и встал. Некоторое время он простоял в смешной, склоненной позе, с искаженным лицом, превозмогая боль в пояснице.
— Жаль, что вы уже уходите, пан профессор, наши дебаты, вопреки несколько странной форме, были во многом полезными, — и министр застегнул пиджак, из нагрудного карманчика которого выглядывал кончик шелкового платочка.
Мразова восприняла уход профессора как оскорбление.
— Мы должны действительно работать так, чтобы ни один из наших сынов не впадал в депрессию, не жил в нужде! — снова начала она, усиливая значение своих слов размеренными жестами тонкой холеной руки. — Я сама готовлюсь в поездку по некоторым лагерям и могу сказать, что радуюсь этой поездке! Чувствую где-то тут, внутри, — и она потрясла судорожно сжатыми розовыми кулаками над плоской грудью, — что нужно в полную меру зажечь свет, который осветит все темные закоулки их сердец, что в некоторых вещах необходимо будет отложить в сторону розовые очки и заменить их обычными, что просто…
— Да нет, милая пани! — грубо прервал ее профессор, потеряв терпение. Боль в позвоночнике прошла, и старик выпрямился. — Тому, кто не желает видеть действительности, не помогут ни свет, ни очки. Прощайте, друзья!
Он попрощался с Мразовой и с Крибихом, с неохотой стиснул руку обиженного секретаря. Министр, провожая. Маркуса до самого вестибюля, доверительно положил ему руку на плечо.
— Я рад, что мы поговорили, профессор. Но все же под конец дозвольте один вопрос: почему вы, собственно, эмигрировали? Ваши — не знаю, как в остальном, — но ваши социальные воззрения наверняка бы, в общем, удовлетворили теперешнюю власть в республике!
Старый господин в старомодном сюртуке шел медленно, немного тяжеловесно, выставив вперед объемистый живот. Затем остановился. Он стоял перед министром. На подбородке у него светились островки седой щетины: во второразрядной гостинице, где он остановился, было плохое освещение, и, бреясь, профессор не мог хорошо себя видеть.
— Социология — невыгодная специальность в эпоху, когда рушатся миры, — ответил он медленно, выпуклыми, немного покрасневшими глазами глядя в окно, за которым в туманной розоватой дали торчал лес характерных жестяных колпаков на парижских трубах. — От моего понимания исторического процесса не осталось бы камня на камне, если бы я должен был принять марксистскую доктрину. Возьмите наугад что угодно, ну хотя бы чрезмерное значение, придаваемое классовой борьбе! Не говорю, что классовой борьбы нет, но утверждаю, что на организацию общества влияют и мирные средства — взаимные соглашения, идеи гуманизма и так далее. Разве можно так однобоко истолковывать историю? Как бы мы выглядели, если бы, например, свели развитие и гибель римской империи или переселение народов только к классовой борьбе?
Десятки таких примеров я бы мог привести вам. Нет, я не хотел учить тому, в чем сам не был убежден. Я не проститутка. Я не могу отречься от мировоззрения, из которого исходил всю жизнь. Я поражен поведением своих коллег, которые остались на своих местах, как будто ничего не случилось. И мой лучший друг профессор Гюнтер среди них!
Гримаса боли исказила вдруг его лицо.
— Ну, мне необходимо идти. Если я долго не двигаюсь, то иногда эти чертовы позвонки в крестце начинают меня донимать. — Он посмотрел министру в глаза. — Конечно, люди могут невольно ошибаться в своих утверждениях, так как обязаны считать свои убеждения непоколебимой твердыней, иначе они обманщики. Я, вероятно, повеселился бы в той толпе лжецов, которые, не краснея, ринулись в коммунистическую партию не для укрепления ее рядов, а только лишь затем, чтобы сохранить самих себя. Я ненавижу насилие. Человек так же не создан для того, чтобы принуждать, как и для того, чтобы повиноваться. Люди взаимно терзают друг друга этими двумя навыками. Здесь — оглупление, там — бесстыдство, но нигде ни крошки человеческого достоинства. Я мог бы до бесконечности выкладывать доводы, приведшие меня сюда. И все же я без радости и энтузиазма эмигрировал: родина — это не рубашка, которую человек может с себя снять и заменить ее другой.
Министр внимательно рассматривал золотой перстень на руке.
— А чем вы думаете теперь заняться?
— Есть у меня знакомые в университетах в Кливленде, в Чикаго и в Кембридже. Я убежден, что буду преподавать и дальше в согласии с той правдой, какую чувствовал всю жизнь.
— А до того, пока будут выполнены необходимые формальности — виза и так далее?
Профессор, пыхтя, с трудом надевал пальто; министр попытался ему помочь, но хватился поздно.
— Буду работать в ИРО[79], но даже и она не выполняет своих обязанностей. — Маркус без всякой сердечности пожал мягкую руку министра и; сгорбившись, зашаркал ногами к выходу. Воздух свистел у него в бронхах, воротник зимнего пальто был, как всегда, завернут внутрь.
Министр вернулся в свой кабинет, выразительно посмотрел на обоих гостей, молча подошел к секретеру, достал коньяк и рюмки. Секретарь тут же исправил его забывчивость, услужливо принеся бутылку шартреза, и сам налил Мразовой.
— Ну-с, что скажете о нашем новом подкреплении? — Министр поднял рюмку, минутку ее подержал, а затем наполовину отпил.
— Расстроил он меня, искренне признаюсь. — И сестра Мразова так плотно сжала губы, что рот ее превратился в узенькую полоску. — Хотя он бестактный, законченный грубиян.
Руководитель секции подошел по мягкому ковру к окну и схватился обеими руками за латунные ручки створок. Два черных лимузина с бело-сине-красными флажками ждали у подъезда. Профессор, смешно наклонившись, как будто ему трудно было сохранять равновесие, загибал за угол, разбрызгивая в стороны мокрый снег парижского января.
— Боюсь, что этот человек всего за три недели узнал больше, чем мы хотели бы узнать за год… — Крибих пригладил реденькие волосы на темени.
— Так или иначе, — отозвался министр, и на его лице отразилась досада, — мы далеко не в таком положении, при котором нам было бы безразлично, ослабляет ли кто-нибудь наши позиции или нет. А имя Маркуса знают на Западе…
Крибих задумчиво допил коньяк и сел на ручку кресла.
— Относительно лагерей он, к сожалению, очень близок к истине.
Министр поставил рюмку более резким жестом, чем хотел.
— Речь идет о вашем благополучии, господин доктор, будьте добры принять это к сведению. Пардон, — извинился министр холодно и направился через пустой кабинет первого секретаря в следующую комнату.
Молодой человек с узенькими усиками вскочил с кресла, как на пружинах. Министр в расстроенных чувствах пристально посмотрел на пестрый галстук своего племянника.
— Добудешь о нем исчерпывающий материал — все, что возможно достать!
— Откуда? — побледнел секретарь, на ощупь отыскивая позади себя спинку кресла.
— С Марса! — крикнул министр.
Секретарь, заикаясь, что-то пробормотал. Сердце его замерло от страха. Боже праведный, если он потеряет благосклонность дядюшки, то и пес о нем, секретаре, не протявкает! Будет он тогда прозябать где-нибудь без средств к существованию, а то и на работу наймется. От подобного предположения кровь бросилась ему в голову. Министр махнул на него рукой и энергичным шагом направился обратно к своим соратникам.
— Пан доктор, — сказал он Крибиху, — придется вам заняться этим делом, — и, оглянувшись на дверь секретаря, добавил: — К чему только господь бог сотворил родню?..
12
— Vater[80] Кодл! Вот это желанный гость, добро пожаловать!
Хозяин пригородного трактира «Zur Tafelrunde»[81] Иозеф Хаусэггер провел гостя в толстой овчинной шубе через зал в заднюю комнату с большим круглым столом посредине. В этом отдельном кабинете временами устраивались собрания разных обществ и союзов; заканчивалась здесь и короткая любовь, начинавшаяся в переднем зале, а шестнадцать лет тому назад это изолированное помещение давало приют одной из первых нацистских ячеек, возникших в Нюрнберге — старом «городе движения». На одной из запыленных фотографий, которыми были украшены потемневшие стены, посетитель при более или менее тщательном осмотре мог найти суровое воинственное лицо СА шарфюрера Хаусэггера, с большой кружкой пива в руках, среди своих друзей, также облаченных в фашистские униформы.
Папаша Кодл взглянул на свои золотые часы.
— Берберийский король еще не пришел? — спросил он по-немецки.
— Гельмут! — заорал хозяин заведения вместо ответа так, что папаша Кодл невольно прижал ладонь к уху.
Вмиг, как из-под земли, вырос испуганный, бледный пикколо — мальчик-официант.
— Чего-нибудь согревающего, на улице чертовский холод, — сказал папаша Кодл.
— Две чашки черного кофе с двойной порцией рома, живо! Одна нога здесь, другая — там! — гаркнул Хаусэггер.
Подросток вылетел как ветер.
— Господин Кроне придет с минуты на минуту.
Папаша Кодл снял шубу, а широкополую шляпу бросил на стол.
— С инжиром все в порядке? — Папаша Кодл сел на диван. Видавшие виды пружины жалобно заскрипели под ним.
— Инжир-то в порядке, а вот девка, которую ты мне послал, в порядке не была. Это такую-то ты называешь восемнадцатилетней? Ей можно дать все двадцать восемь, просила ужин и еще, бесстыжая, заговаривала о двадцати марках! Я ей, конечно, ничего не дал. Думал я, что на тебя можно вполне поло… — он остановился на полуслове, минутку, не двигаясь, прислушивался, сморщив лоб и нервно почесывая усики под носом, затем на цыпочках подкрался к дверям и рывком распахнул их. Там никого не было. Посетители мирно сидели в зале — несколько шоферов, грузчиков, какие-то монтеры в комбинезонах и светловолосая женщина с сигаретой в зубах. — Моя старуха откалывает иногда дурацкие номера. Ты ее еще не знаешь, — тихо сказал приятель Кодла.
Мальчик поставил кофе и ром на стол и исчез.
— С этим делом тяжело стало, друг. — Папаша Кодл вылил в себя полстопки рома, а остаток — в кофе. — Солдаты последнее время страшно портят курс, денег у них полно, и что им стоит дать девке двадцать марок? Но хуже всего эти негры, что недавно приехали. В Америке бы их за белую бабу вздернули на дерево и поджарили на медленном огне, а здесь за плитку шоколада они могут с чешской девкой делать все что угодно, — папаша Кодл с аппетитом пил кофе и удовлетворенно причмокивал. — Да, об инжире, — вспомнил он. — Сколько ты его, собственно, получил?
Хаусэггер засунул пальцы за край белого фартука.
— Десять ящиков.
Папаша Кодл ударил сжатым кулаком по коленке.
— Медвидек клялся, что увез двенадцать.
— Твоему Медвидеку, если он здесь появится, я разобью морду. Свинство! Какими глазами мне после этого смотреть на тебя? Я такими делами не занимаюсь, камрад, — и трактирщик положил руку на сердце. — Иозеф Хаусэггер из-за двух дурацких ящиков инжира не станет марать свою совесть!
Постучали. Пикколо просунул в приоткрытую дверь испуганное личико и доложил о приходе господина Кроне. Вошел невзрачный, замызганный, преждевременно состарившийся, но подвижной человечек. При взгляде на его курчавую голову папаша Кодл, как всегда, развеселился, нисколько не смущаясь тем, что его собственная голова имела поразительное сходство с головой Кроне.
— Grüss Gott, — произнес запыхавшийся Кроне. Его толстые щеки зарумянились на морозе, на конце выразительного носа висела капелька. — Я очень спешу: через пятнадцать минут мне необходимо быть у церкви святого Лаврентия, я не буду даже садиться, — скороговоркой произнес он простуженным голосом.
Черный зрачок Кроне с жадностью уставился на кофе с ромом. Хаусэггер распорядился принести новому гостю стопку водки.
— Могу продать партию готового платья: двадцать пять костюмов, тридцать мужских и восемь женских пальто. Больше взять не удалось, — деловым гоном произнес папаша Кодл. — Собственно, можно было бы наскрести и больше, если бы папаша Кодл не был старым олухом. Когда приедете за товаром?
— В пятницу вечером, в девять часов. Будем здравы. — Кроне поднял стопку и единым духом вылил содержимое себе в горло, даже не глотнув.
— На случай если в Валке кто-нибудь спросит, куда увозите одежду, скажите, что для лагеря в Ландау, понятно? И распорядилось об этом американское командование.
Кроне вытащил часы величиною с детскую ладонь.
— Ну, я уже должен бежать. Сколько?
— Две тысячи пятьсот, — твердо сказал Кодл.
— Sie sind ja verruckt[82] — Кроне вырвал свою пухлую ручку из ладони папаши Кодла. — Разве я ворую?
— Уважаемый герр Кроне, — откашлялся папаша Кодл, — если для вас это дорого, то не обременяйте себя. Я найду еще пятьдесят покупателей, и они будут мне руки целовать.
— В тюках, которые я в последний раз купил у вас, не распечатывая, оказалось такое тряпье, милостивый государь, что его не будет носить даже тот столетний слепой нищий, который стоит на паперти храма святого Себальда, — огрызнулся Кроне.
В свете розовой лампочки были видны мелкие капельки слюны, брызгавшие у него из рта; от волнения Кроне закрывал глаза.
— Не кричите, ради Христа, — напомнил Хаусэггер и, приоткрыв дверь, беспокойно выглянул в распивочный зал.
— Не грешите перед богом, господин Кроне, — старался его успокоить папаша Кодл. — Мои земляки в Чикаго не какие-нибудь тряпичники, и если они посылают что-нибудь братьям из Чехословакии, то эти вещи высшего качества — прима! Мы, милостивый государь, не какой-нибудь захудалый народишко, в нашей истории имеются такие имена, как Коменский, Ян Гус, Жижка и Масарик, если вы о них когда-нибудь слышали! Две тысячи пятьсот — и делу конец. По моему разумению, сто пятьдесят процентов барыша вам вполне хватит. Если вы с этим не согласны — в пятницу не приезжайте.
Взволнованный и покрасневший Кроне снова вытащил свою серебряную луковицу.
— То, что вы меня грабите, отбирая, как у нищего, последний посох, черт с вами, я только лишь грешный слуга божий. Ладно, так мне и надо, раз я дурак. Но вы таким же способом как липку обдираете и Католическую хариту[83] и тех убогих, лишенных работы, жилья, хлеба, которые жизненно нуждаются в этих тряпках! За это вам когда-нибудь ваш «гойский» бог предъявит счетец, господин папаша Кодл! Узнаете тогда, как грабить нищих… Мой бог, в наше время так трудно жить! — Кроне стер пот с лица. — В пятницу в девять я там буду с автомашиной, и если в тюках снова будет неходовое на рынке тряпье, то это последняя Kuhhandel[84], вот господин Хаусэггер свидетель. Auf Wiedersehen, meine Herrschaften[85]. — Он сунул хозяину и Кодлу мясистую дряблую руку и, глядя куда-то в сторону, выбежал вон.
Папаша Кодл засунул палец за воротник, растянув его, а другой рукой минуту шарил под пиджаком, в том месте, где сердце.
— Мне вредно волноваться. Моя супруга постоянно твердит мне: «Береги здоровье, Карл, люди хуже, нежели скотина, не подпускай их близко к сердцу!» А оно вот опять колотится, как одержимое… «Гойский» бог! — снова взволновался Кодл. — Во время протектората я лупил еврейскую сволочь вот этими руками, в этом смысле наша гарда[86] была на высоте. А теперь приходится им кланяться. Эх, вот что делает с порядочным человеком эмиграция! Иногда прямо реветь охота!
— Пройдоха он, в последний раз обштопал меня с тем твоим стрептомицином на целых двести марок, и с маслом тоже было не лучше, — медленно лепил фразу к фразе хозяин дома, как будто это составляло для него большой труд. — Ничего не поделаешь, имей я подходящий холодильник, я бы с этим Кроне разделался по-свойски! — Трактирщик встал, подтянул брюки и начал возбужденно прохаживаться по кабинету. — Гельмут! — ни с того ни с сего рявкнул он так, что у самого покраснели уши.
В тот же миг как из-под земли вырос пикколо. От быстрого бега и от страху он дрожал и рассы;´пал мелочь.
— Не сори деньгами, балда! Принеси контушовку!
Хозяин остановился перед фотографией на стене, отыскал на ней собственную персону в форменной фуражке со спущенным под подбородок ремешком.
— Да, фюрер, — широким жестом трактирщик провел по своему бычьему затылку, — с этими евреями хватил через край, что правда, то правда. Из пятнадцати тысяч вернулось их в Нюрнберг только восемьдесят. Но полюбуйся на этого клопа Кроне: разве можно после этого удивляться Адольфу? Выпьем, — стукнул он своей рюмкой о рюмку Кодла. Потом снова вернулся к фотографии, задумчиво стер рукавом пыль со стекла и долго глядел в оцепеневшие, торжественно тупые физиономии. Многие из них были разукрашены глубокими шрамами.
Хаусэггер заложил руки за спину, едва заметно кивнул головой и погладил усики под угреватым широким носом. Папаша Кодл только теперь обратил внимание, что усики его приятеля подстрижены, как у Гитлера.
Затем господин Хаусэггер, извинившись, вышел распорядиться насчет пива и показаться гостям в распивочной. С наступлением вечера в зале становилось все люднее. Грозовое освещение создавало в комнате обстановку покоя, газовая печка приятно обогревала, и мышиные глазки папаши Кодла все более затуманивались по мере того, как убывала прозрачная жидкость в бутылке.
— Ты единственный приличный и честный камрад, который у меня есть на свете, — нашептывал Кодл через полчаса радушному хозяину. — Дружба — это священный союз.
Хаусэггер насторожился. Задумчиво почесав затылок, он спросил:
— А что тебе от меня нужно?
— Совсем немного, — папаша Кодл допил рюмку и стал платочком протирать стекло часов. — И тебе связь с начальником лагеря принесла бы большие выгоды, — добавил он.
— Но я Зиберта почти не знаю, — простодушно заявил Хаусэггер.
Папаша Кодл смерил его презрительным взглядом.
— А Зиберта ты и не должен знать, — сказал Кодл мягко. — Достаточно, что ты меня знаешь. Думаю, что до сих пор ты на меня жаловаться не мог, — стекло все еще не было достаточно чистым, и Кодл, подышав на него, старательно и долго тер, а затем посмотрел на свет. — In medias res дела, к тебе ходят разные гости, выпивают, ведут разговоры, ну, например, что американцы нужны здесь, как блоха в шубе, что они, как саранча, обжирают Германию, что было бы лучше их отсюда выпроводить. И Зиберт у тебя пару раз был и выпивал по двести граммов…
Хаусэггер некоторое время пучил большие глаза, пока наконец понял, куда гнет его гость. Потом притянул к себе стул, сел на него верхом так, что спинка оказалась у него между колен.
— А почему ты сам не напишешь?
— Не могу, понимаешь… — Папаша Кодл начал снова тянуть из рюмки. Тонкие синие прожилки выделялись на натянутой покрасневшей коже лица. Выпив, Кодл встал, взволнованно положил руку на широкую ладонь Хаусэггера. — Пойми, дружище, один из заместителей — это нуль, ничтожество, в любой момент ему могут дать под зад коленом, а начальник лагеря — это все, фигура. Его назначают американские официальные учреждения.
Ресторатор хмуро глядел вверх на физиономию своего гостя и, наконец, отрицательно покачал головой.
— Не пойдет. Письмо! Американцев не проведешь, письмо без доказательств они выбросят в корзину. Может, за полсотни марок кто-нибудь из моих клиентов такое письмо и подпишет, а потом поразмыслит да еще, чего доброго, и откажется. Представляешь, как я влипну? Никто не решится ссориться с американцами. У Зиберта твердые позиции, он на хорошем счету, честный немец.
— Не немец он, а судетец! — взорвался папаша Кодл. Он выловил соринку из настойки и вытер палец о кушетку. — Дружба — редкостная монета, — горестно покачал он головой. — Даже вернейшие друзья покидают человека. Цезарь не напрасно сказал: «И ты, Брут!»
Хаусэггер встал, прошелся по комнате, заложив руки за спину, опять подошел к фотографии, как будто искал поддержки у собственного изображения, спрятанного за стеклом, и, повернувшись к гостю, выпрямился и немного выпятил живот.
— Нет, парень, эти дела не для меня. Торговля — милости просим, а больше — ни-ни… — И он налил сначала одну, а затем другую рюмку.
Папаша Кодл на время сдался. Проклятый баран этот Хаусэггер! Столько надежд он, Кодл возлагал именно на этот ход! И вот тебе — кукиш! Тоска и уныние овладели его душой, ноги стали какими-то чужими и тяжелыми, как будто их налили свинцом. Он полулежал на диване, подперев голову ладонью, на него нашло элегическое, мечтательно-грустное настроение, сердце его размякло от жалости к самому себе.
— Ты, конечно, думаешь, — говорил Кодл, и пузырьки слюны надувались в уголках его рта, — что я живу как в раю, что в моих руках только масло, инжир, тряпки, деньги. Но ведь и у папаши Кодла сердце не камень, оно так же, как у других, переживает муки неразделенной любви, но кого это занимает, кто этому поверит? — Он трагически потряс головой. — А девушка-то прекрасна, как утренняя заря. Мужа, видишь ли, разыскивает в Германии, был он нацистом, и кто знает, в какую щель сейчас запрятался. А я, друг мой Иозеф, никак не могу ее заарканить, хоть плачь! Девок у меня в лагере видимо-невидимо, каждый вечер брал бы новую, если бы мог и если бы моя крокодилица не следила бы за мной, а то у нее глаза даже на заднице. Но меня эти девки не волнуют именно потому, что их взять проще простого. Тебе не понять всю сложность человеческой души, того, что могут почувствовать только лишь некоторые из людей: маленькое становится порой огромным. Мне нужна она — единственная, но она не отдается ни за деньги, ни за доброе слово. Пока я ее не возьму, я буду бродить по Валке, как Агасфер. Эх, если бы ты видел ее, Иозеф. Куда вашим крикливым Гретхен против прелестной стройной чешки с печальными глазами! То, что она уже целый год в Валке и до сих пор не стала девкой, этого я не могу перенести, на меня это действует, как красная шаль на быка. — Дрожащей рукой Кодл наполнил рюмку, немного перелив через край. Когда он пил, водка капала ему на брюки. — Девчонка думает, я не знаю, что она работает по найму. Считает меня за идиота. А мне известно даже, сколько ей платят. Папаша Кодл все знает! — Он толстыми пальцами взлохматил свою шевелюру, голова его стала походить на аистово гнездо. — Ты не хочешь помочь мне против Зиберта, но в этом дельце ты не отказывайся помочь. — И он ткнул пальцем в сторону хозяина. — Пойдешь к фрау Гаусман и предупредишь ее: «Руководство лагеря дозналось, что вы нелегально принимаете на работу беженцев. Если не хотите заработать неприятности от официальных учреждений да еще штраф, немедленно увольте этих людей». — Он написал на листке блокнота адрес, затем вырвал бумажку и всунул ее в руку Хаусэггеру. — Не думай, что я это делаю из мести, девушке нисколько не будет хуже, даже наоборот. Короче говоря, необходимо, чтобы ты это сделал для меня. Не прогадаешь, не беспокойся, я пришлю тебе девку любой национальности. У каждого своя слабость, и ни с кого за это не взыщется. Мой братец, например, в годы первой республики однажды отправился в Танжер, чтобы попробовать негритянку. Как видишь, вкусы бывают разные…
— Это ты верно говоришь, каждому свое, я согласен, — ресторатор схватился за затылок. — Я тоже, камрад ты мой, не имею покоя ни днем, ни ночью. Твоя, говоришь, имеет глаза на заднице, а моя видит даже сквозь стены, как будто они для нее стеклянные. Любопытно, как ты обставишь дело с поездкой во Франкфурт.
— Через три недели буду там. Эх, парень, друг любезный, зададим же там жару! Гульнем! — Кодл стукнул себя в грудь кулаком.
Он неуверенно встал. Ему показалось, что циферблат на часах расплывается туманными кругами. Папаша Кодл протянул хозяину руку.
— Слушай, — задержал его Хаусэггер. — Скажи на милость, какой национальности была та, что ты мне прислал вчера?
Папаша Кодл напялил себе на голову шляпу и ответил:
— Словачка, а что?
— Я сразу понял, девчонка экстра класс! — победоносно осклабился Хаусэггер и подтянул штаны. — Мы все время как-то не могли сговориться, чешек-то я уже знаю, запомнил даже несколько слов: котик, сволочь, этого мало, фу, хам… Так, стало быть, словачка?
Ресторатор помог Кодлу облачиться в шубу и проводил гостя через черную лестницу. Папаша Кодл то и дело вытирал плечом стену и выбелил рукава своей новой шубы.
— Auf Wiedersehen, так через три недели во Франкфурт, не забудь, — Хаусэггер щелкнул языком и еще минутку глядел, как широкая спина Кодла, раскачиваясь из стороны в сторону, удалялась в направлении к автобусной остановке.
13
Кашель Марии уже давно стал неотъемлемой принадлежностью одиннадцатой комнаты. Обитатели к этому привыкли и не обращали на него внимания. Только один Капитан сегодня заметил, что кашель девушки в последнее время стал особенно назойливым, удушливым и затяжным.
— Мария, одевайся, пойдем в амбулаторию, — тоном, не допускающим возражений, сказал он.
Штефанский сгружал уголь в составе лагерной команды, маленький Бронек играл в углу со своим паровозиком. Мать Штефанская испуганными глазами смотрела, как Капитан настойчиво ожидает ее дочь. Другому бы она, может, и возразила, но Капитану не смела: его авторитет в ее глазах был непоколебимым! Ведь это он принес в сочельник Бронеку паровозик и другие подарки.
В приемной Капитан сидел возле Марии неразговорчивый и мрачный. Грузный, небритый чешский доктор сидел за рабочим столом. Тяжелые веки лениво опускались на его мутные сонные глаза. Крупными, крепкими зубами он откусывал от ломтя хлеба, намазанного маслом. Ассистентка в грязном белом свитере, плотно облегавшем ее вызывающе вздернутые груди, на соседнем столике резала для доктора тонкими кружочками колбасу.
— Вот если бы был рентген, — сказал доктор, не переставая жевать. — Папаша Кодл, этот легкомысленный человек, ни о чем не заботится. — Доктор многозначительно приподнял брови. — Если бы на этом месте сидел молокосос, — доктор шлепнул мягкой ладонью по столу, — черта лысого он бы поставил диагноз. Нынешние врачи без рентгена понимают в легких, как свинья в апельсине. Выстукивать, выслушивать? Куда там! Это все годится лишь для дряхлого То-майе-ра. — Доктор повысил голос и иронически махнул рукой с растопыренными пальцами, в его тоне было безмерное презрение к молодому поколению врачей. Затем с какой-то торжественной церемонностью он разложил кружочки колбасы на остатки краюшки, старательно вытер жирные пальцы носовым платком, вооружился фонендоскопом и начал выслушивать больную.
— Штефанская? — произнес доктор про себя. — Она понимает по-немецки? — повернул он голову в сторону Капитана, показав глазами на девушку.
— Едва ли.
— Туберкулез. Каверны, — сказал доктор по-немецки и, перейдя затем на чешский, закончил: — Лежать, свежий воздух, много спать, усиленно питаться. Вот если б достать стрептомицин… Но с лекарствами у нас происходят финтили-минтили, — и доктор сделал какой-то двусмысленный жест указательным пальцем правой руки. — Да, с лекарствами происходят непонятные истории. Мы получаем аспирин, животный уголь, а слабительного у нас запасы лет на пятьдесят. Вся Бавария, если бы она вдруг начала страдать запором, могла бы припожаловать в Валку, и мы бы всем прочистили кишечник. Девушке я дам бумажку на получение от норвежского Красного Креста пакетика для туберкулезных. Написать-то я напишу, а вот получит ли она пакетик — это другое дело: присылают их мало, а управление лагеря разрослось. — И доктор пожал плечами, как бы говоря: «Что поделаешь…» — Ты, камрад, обязан кормить дочку усиленно. Сестра, зовите следующего борца за свободу!
Капитан посмотрел на ломоть намазанного маслом хлеба с кружочком ветчинно-рубленой колбасы, который доктор держал в руке, и сглотнул слюну.
— Это не моя дочь, — ворчливо сказал он и вышел из кабинета.
Когда Штефанский вернулся с работы, Капитан не спеша, терпеливо, чередуя чешские и польские слова, объяснил отцу состояние здоровья дочери. Он говорил поляку все, ничего не утаивая. Только одного он никак не решался сказать ему, а именно того, что Марию нужно хорошо, усиленно кормить. Но под конец сказал и это.
— Попытаемся достать этот заветный пакет Красного Креста. Сходи к папаше Кодлу, — посоветовал Капитан.
Штефанский упавшим голосом объяснил все жене. Оба они теперь печально смотрели в сторону дочери Мария радовалась, что врачебный осмотр позади, и, лежа на нарах, пыталась даже накрутить волосы надо лбом на обрывки газет.
Перед обедом Штефанский вернулся из конторы лагеря и стал раздраженно шептаться с женой. Затем подошел к нарам, сухую ладонь непроизвольно сжал в кулак и с безысходной тоской в голосе спросил:
— Почему… ты не сказала об этом раньше?
Мамаша Штефанская втиснула свою тонкую, высохшую фигуру в узкую щель между нарами и деревянной стеной.
— Полтора года, святая богородица! — Она заломила руки.
Все уже бесполезно. В ее совиных глазах была ярость. Мария испуганно смотрела своими блестящими глазами то на отца, то на мать и постепенно начала постигать весь трагизм своего положения. Ее посиневшие губы передернулись, вся она как-то уменьшилась, съежилась, одеяло натянула до подбородка, отвернулась к стене и тихо заплакала. Комочек ее немощного тела беспомощно сотрясался от неизъяснимого горя и тоски по угасающей жизни. На нижние нары посыпалась соломенная труха.
С этого дня Штефанский неузнаваемо переменился. Он начал бегать по лагерю, все время что-то искал и вынюхивал.
Однажды вечером в комнату заглянула желтая рожа с сильно выпученными глазами.
— Штефанский здесь живет?
Поляк соскочил с нар. Невзрачный худой человечек с узкими плечами и ввалившейся грудью прижимал к телу новый хороший портфель. Пришелец подозрительно, с опаской оглянулся по сторонам, но поляк успокоил его. Тогда пришедший взял Штефанского за рукав и потянул к окну. Там он открыл портфель и вытянул из него большой рентгеновский снимок.
— Легкое, камрад, что надо, — затараторил он немного сипло. — Стопроцентное здоровье! Вот видишь, груша — это сердце, как огурчик!
Поляк смотрел на загадочную решетку ребер, на светлые и темные пятна. Его тонкие, просвечивающие ноздри взволнованно раздувались, глаза блестели.
— Сколько? — спросил он.
— Восемьдесят марок, — сказал человечек и быстро заморгал глазами.
«Базедка. Откуда я его знаю?» — ломал голову Вацлав. Он помнил, что где-то с ним встречался, но никак не мог сообразить, где именно. В Чехословакии или уже в Баварии?
— У меня только тридцать шесть марок, где мне взять столько денег? — Одна рука Штефанского судорожно сжимала край рентгеновского снимка, не желая с ним расстаться.
Капитан подошел к окну, без церемоний взял снимок из рук Штефанского и минутку глядел на него.
— Убирайся отсюда, прохвост! — рявкнул вдруг Капитан. — А то я вызову лагерную полицию. Ведь это легкие мужчины, причем атлета. Боже тебя сохрани купить что-нибудь, не посоветовавшись, — прикрикнул он на оторопевшего поляка.
— Чего ты суешься, куда тебя не просят? Не ты покупаешь! Я ведь не лезу в твои дела, — покраснев, завизжал человечек.
— Я комендант этой комнаты и говорю тебе в последний раз: вон отсюда!
Штефанский опомнился.
— Не порть нам сделки! Этот снимок мне позарез нужен! — закричал он с отчаянием.
— Болван! — на висках у Капитана вздулись синие прожилки. — Разве доктор в консульстве такой же безмозглый, как ты, и не сумеет отличить мужские легкие от женских? Я о нем забочусь, стараюсь предостеречь от глупости, а он… И правда, надо бы на тебя наплевать! Ну, покупай, покупай, может, это снимок рекордсмена Фриштенского, выбрось на ветер восемьдесят марок и докажи потом доктору, что это легкие твоей дочери!
Капитан сердитым шагом прошел к своим нарам, набросил на себя старенькое пальто, напялил шапку до самых глаз и бухнул дверью. После его ухода в комнате воцарилась на некоторое время мертвая тишина.
Баронесса через стол взглянула на Вацлава.
— Скоро год, как он здесь, — сказала она сочувственно и снова склонилась над книгой.
— Не христианин ты, — выпрямился Штефанский. — Нет на тебе креста, иначе ты бы не стал обкрадывать ближнего, попавшего в беду!
— Ошибся я, — заморгал глазами человечек и трясущейся рукой стал вкладывать снимок обратно в портфель. — Это ведь может случиться с каждым. Я достану тебе женские легкие, только собери денежки, — и он почти незаметно исчез из комнаты.
«Колчава! — вспомнил в этот момент Вацлав. — Всего лишь три месяца прошло, как я его встретил, и уже забыл! Неужели человек, кроме веры, теряет здесь и память?»
Польский угол привлекал внимание Вацлава. Он давно понял смысл затеи с рентгеновским снимком, но все же подошел к Штефанскому.
— Зачем… вы его покупаете?
— Со дня на день я жду визу на выезд в Канаду. Прошло уже полтора года! Но ведь больных туда не впускают, — прохрипел Штефанский и как-то затравленно взглянул на Вацлава.
— А почему… вы, собственно, убежали из Польши?
— Ясек, дьявольское отродье! — развел руками Штефанский. — Это он уговорил: в Польше, мол, ты до смерти будешь надрываться. Был ты навозным батраком у помещика, будешь хамом и для господ социалистов, а Канада — это рай на земле. Так говорил Ясек, я и поверил.
Вацлав с трудом постигал незнакомый язык.
— Какой Ясек?
— Ясек Бахледа, приказчик из нашего имения, человек ученый, даже в Германии бывал, в Битоми школу окончил В Канаде, говорил, каждый имеет дом и веранду, застекленную цветными стеклами!
Вацлаву стало не по себе. Он схватил свой дождевик и вышел из барака, однако скоро вынужден был вернуться: его игелитовый плащ на морозе застыл и хрустел, как бумага. Молодой человек подумал, что если плащ разломается, весной ему нечего будет надеть.
Юноша улегся на нарах, закинув руки под голову. Он вынужден был превозмочь горячее желание по примеру Капитана, которому сегодня впервые отказали нервы, уйти из лагеря, проветрить легкие, а главное — душу, идти куда глаза глядят, через Мерцфельд к городу, блуждать по его старинным улочкам, любоваться их каменной красотой, постоять перед домами Альбрехта Дюрера и Ганса Сакса, прикоснуться рукой к каменному чуду, убеждая самого себя, что на свете были когда-то великие, не похожие на других люди. Наверное, такие люди и сейчас живут где-нибудь, мир велик, он не ограничивается четырехугольником, обнесенным старым забором, с табличкой над воротами: «Camp Valka». Вацлав крепко зажмурил глаза: целую зиму он будет пленником своего барака, не пойдет дальше клуба, кабака и лагерного кинотеатра. Разве что Капитан когда-нибудь одолжит пальто, чтобы он смог сходить в город.
Вацлав почувствовал, как у него застучала в висках кровь. Нет, так нельзя, надо преодолеть мрачные настроения! Он в лагере всего лишь три месяца и не имеет права на истерию, подобно тем людям, которые торчат здесь год. Ему захотелось услышать хорошее человеческое слово, голос того, кто хоть немного приподнимается над страшным скотством окружающих людей. Но Катки нет теперь дома, она вернется лишь к вечеру.
В последний раз, когда Вацлав вот так же поддался глубокой депрессии, здесь еще был профессор. Юноша до сих нор, как будто это было всего лишь час тому назад, видит Маркуса, сидящего за столом на обычном месте. Вацлав видит и себя, подсевшего на лавку к старому ученому.
— Профессор, — шептал он, и горло его пересохло тогда, как и сейчас, — скажите мне, что вы думаете обо всем этом, о Капитане, о папаше Кодле, о лагере в целом, о нашем положении? Ведь это невозможно, чтобы навсегда…
Профессор высоко поднял колючие, клочковатые брови, медленно, всем телом повернулся к Вацлаву, пристально посмотрел на него и снова повернулся к книге, однако немного погодя произнес:
— Если тебе достаточно примитивного, варварского ободрения, то скажу тебе так: не в комфорте и благополучии, а только в тяжелых испытаниях закаляется душа. Именно страдания ведут к росту и совершенствованию человека. Не опирайся, пожалуйста, локтями на мою книгу, загнешь углы.
Вспомнив все это, Вацлав слез с нар, медленно подошел к замерзшему окну и прижался лбом к покрытому льдом стеклу. Это охладило голову, как ледяной компресс. Теперь было легче размышлять над словами профессора: было ли это сказано серьезно, как твердое мнение, или было просто насмешкой?
Через три дня Колчава снова появился в комнате. На этот раз он вытянул из роскошного министерского портфеля рентгеновский снимок женских легких. На матовом фоне отчетливо был виден контур груди.
— Раздобыл деньги? — спросил Колчава сиплым голосом.
— Пятьдесят пять марок кое-как нахватал в долг в счет будущих доходов, больше не имею, — ответил Штефанский.
Колчава, ни слова не говоря, стал укладывать снимок обратно в портфель.
— Мне без него зарез, — поляк приблизился на шаг, в его голосе было что-то угрожающее.
Спекулянт покачал головой, как бы укоряя себя, что затеял невыгодную коммерческую сделку, задумчиво уставился мутными глазами в лицо покупателя.
— Нет ли у тебя дамских ботинок, примерно тридцать девятого размера? — спросил Колчава.
Измученные глаза поляка невольно обратились к дочери.
— Она все равно лежит, — глухо шепнул ему владелец снимка.
Штефанский отрицательно покачал головой.
— Нет, не годится, она больная… — Он впился глазами в лицо жены, которая с нар напряженно наблюдала за ними. — Снимай башмаки, — мрачно сказал он ей после минутного раздумья.
Штефанская без единого слова возражения развязала шнурки. Капитана в комнате не было, а из присутствующих никто не отважился вмешаться. Не их это было дело, к тому же обезображенный человечек наводил какой-то мертвящий ужас.
— Немногого же они стоят, — проронил Колчава и отрицательно замотал головой. Он вдел руку в один из башмаков, еще сохранивших чужое тепло, повертел его в разные стороны, осмотрел подметки. — Если бы у тебя дочь не была больна, не взял бы я этих ботинок! Посмотри, каблуки стоптаны.
Но Штефанский уже вцепился в снимок обеими руками. Тот, кто вздумал бы отнять у него эту драгоценность, должен был бы прежде убить поляка. Спекулянт засунул башмаки в портфель. Они распирали его. Такая убогая поклажа явно не годилась для столь роскошного, сшитого из прекрасной свиной кожи портфеля. Колчава на прощание протянул руку покупателю.
— Ну-с, пусть ваша дочка скорее поправится.
Но Штефанский все еще крепко сжимал обеими руками бесценный для него снимок и потому не смог пожать протянутую руку. Колчава удалился, так и не попрощавшись.
Наступило воскресенье. Сильный южный ветер нагнал в открытый коридор барака массу холодного воздуха, подхваченного где-то на альпийских ледниках. Вместе с холодом ветер принес сюда из лагерной церкви молитвенные звуки фисгармонии.
Мамаша Штефанская забеспокоилась. Она подбежала к окну и стала с тоской смотреть в сторону часовни. Тонкий слой снега прикрыл дорогу, пожелтевшие стебли травы перед бараком, как щетина, торчали из под белого покрова. Штефанская неслышно вернулась обратно к нарам и подобрала ноги с грязными голыми лодыжками: пол был холодным. Женщина почувствовала укор совести: за все время пребывания в лагере она еще ни разу не пропускала обедни. Только сегодня…
Приметный чуб Ярды, который наперекор всем трудностям лагерного быта сохранял свою затейливую красу, появился в приоткрытых дверях.
— Ребята, сегодня после обедни будут раздавать масло, по полкилограммовой банке на брата!
— Беги, Гонзик, ты ведь аккуратно ходил в костел, — сказал Вацлав. — И ты, Бронек, дуй скорее, раз нет папы. Твоей сестре масло необходимо.
— Не пори горячку, Вашек, — сказал Ярда и поправил складку на своих узеньких брюках. — Не зря же мы живем в одной комнате с патером? Сегодня обедню служит Флориан, и масло нам обеспечено как пить дать!
Интерес к маслу оказался сильнее чувства гордости, и Вацлав пошел в костел. Звуки фисгармонии то становились сильнее с порывом ветра, то снова затихали, когда ветер ослабевал. Около храма скопилась толпа зевак. Намерение властей раздать масло узкому кругу людей возбудило слишком сильный интерес голодных людей.
— Идите домой, братья, служба уже началась, и входить нельзя, — размахивал руками перед входом в костел молодой священник в каракулевой шапке. От бокового входа приблизился другой, в роговых очках, сытое его лицо зарумянилось на морозе.
— Вернитесь в бараки, — призывал он по-немецки.
Все это еще больше возбуждало интерес, усиливало подозрения зевак.
— Вы, надеюсь, не будете препятствовать посещению костела? — возразил попам человек в жокейской кепке и в длиннющем пальто, рукава которого были подвернуты.
— Масло для всех, а не только для святош! — крикнул кто-то из толпы.
Из лагерных улочек подходили все новые люди. Но с противоположной стороны, от полицейского участка, подошел здоровенный детина — лагерный полицейский, обутый в огромные сапоги.
— Расходитесь, расходитесь! — стал он распоряжаться и размахивать широкими, как лопаты, руками. — Делать вам тут нечего, — добавил он на саксонском наречии с глуповатой служебной важностью.
— Я иду к божьей службе, не мешай, верзила! — завопил подросток перед входом в храм и выплюнул в снег окурок.
Немецкий полицейский не понял его. Попы переглянулись и невольно смерили взглядом расстояние до черного «мерседеса», стоявшего возле входа в сакристию[87]. Тот капеллан, который был в каракулевой шапке, попытался преградить парню дорогу, но юноша оттолкнул его и вошел в костел. За ним ринулись остальные. Ксендз в роговых очках покраснел до ушей и закричал в толпу:
— Все это напрасно. На масло имеют право лишь те, которые аккуратно ходят в храм!
Волна возмущения прокатилась по толпе. Послышались ропот, брань, выкрики. Некоторые лагерники стояли поодаль, засунув руки в карманы, и весело зубоскалили. Они, вероятно, ценили возможность позабавиться в этой серой жизни выше, чем кусок масла. Из толпы послышались забористые фразы:
— Убирайся с дороги, черный козел! Сам небось маслом башмаки мажешь, а христиан, пришедших за крохой масла, хочешь выгнать из костела!
Кто-то пронзительно свистнул.
— Сами они уже обожрались маслом, вот и решили теперь раздавать! — кричала женщина.
— Братья! Будьте благоразумны, не толкайтесь, — вопил священник. Но людской поток заставил его попятиться через порог костела. Священник быстро сорвал с головы каракулевую шапку и перекрестился. От огорчения у него затрясся подбородок. — Если вы не хотите, чтобы в дело вмешалась лагерная полиция, то соблюдайте порядок и дисциплину, как подобает верующим христианам! — снова угрожающе крикнул он.
К месту происшествия приближались еще трое полицейских. Один из них вел на поводке немецкую овчарку.
— Идут травить христиан собаками! — полувозмущенно, полуиздевательски заорал человек в длинном пальто.
— Будь доволен, дурень, что ты не в Древнем Риме, там на тебя льва спустили бы! — захихикал кто-то из толпы.
Полицейские начали разгонять толпу, пес присоединил свой яростный лай к всеобщему шуму, крику, брани, смеху, свисту и гиканью. В те короткие мгновения, когда устремившимся в костел лагерникам удавалось немного оттеснить себе подобных, которые изнутри храма упорно отстаивали свое право на порцию масла, из приоткрытых дверей вырывались торжественные звуки фисгармонии и истовое пение хора.
Вацлав промерз до костей. Потертый свитерок под плащом не смог компенсировать отсутствие пальто. Однако еще холоднее было у него на душе. Со стыдом, низко опустив голову, смотрел он на свои ботинки, оставлявшие на снегу четкие следы. Позади него затихал смех, лай собаки и церковное песнопение «Те Deum…»[88]
Некоторое время спустя после возвращения Вацлава в комнате объявился Гонзик. У него был надорван рукав, ботинки в грязи. Через минуту с синяком на виске пришел заплаканный Бронек, а вскоре обитатели комнаты увидели в окно, как заполнилась людьми главная магистраль лагеря: обедня окончилась. Через четверть часа прибежала Баронесса. Павлиний хвост на ее халате высовывался внизу из-под пальто. Глаза женщины сияли от восторга, в руках она сжимала блестящую жестянку с маслом.
— Бог раскрыл свое милосердное сердце, да и патер Флориан держался образцово. Только не унывать, друзья: и тогда, если даже человек на дне, ему когда-нибудь может улыбнуться счастье. — Она присела к столу, банку с маслом торжественно поставила перед собой. — Если бы здесь был профессор! Я, как сейчас, слышу его слова: «Какая бесхитростная философия, Баронесса! Как будто ваше счастье или несчастье зависят от того, как к вам относятся другие, а не от того, как относитесь к себе вы сами». — Она сняла пальто и глубоко вздохнула. — А все же я о нем грущу. Он ведь наобещал нам. Хотя каждый, кто уходит из Валки, обещает, но еще никто не выполнил своего обещания.
Баронесса зашуршала бумажным кульком, в котором было немного муки, потом начала чистить картошку.
— Картофельный суп, заправленный маслом, — восторженно произнесла она. — Человек никогда не должен падать духом. Я, например, сохраняла бодрость, даже когда глядела в глаза смерти. В одном километре от границы, — начала она долгий рассказ, заметив интерес Гонзика, — мы ждали в лачуге дровосека, когда вернется из разведки наш проводник. Было нас четверо: два фабриканта, один торговец и я. Чувствовали мы себя в безопасности, ведь нас должен был переправить за кордон чехословацкий пограничник. И вот, наконец, он пришел! Ближайшие триста метров были свободны для перехода, и нужно было двигаться. Выходить следовало поодиночке. Вперед он повел мужчин — первого, второго — и, наконец, пришел за третьим. Их шаги затихли снаружи. С трепетом жду своей очереди. Вдруг слышу крик. Выбегаю: в двухстах метрах от халупы барахтается торговец, на нем — наш проводник, в руках у него окровавленный топор. Я мгновенно сообразила, что вся история с организацией нашего перехода через границу — страшное предательство, этот бандит где-то украл форму пограничника! Я как стояла с пустыми руками, так и кинулась в ужасе наутек; сначала я бежала назад, а потом, сделав огромный крюк, направилась к границе. Перед моими глазами стояли окровавленные трупы моих зарубленных спутников, а в голове была одна-единственная мысль: «Ты должна перебежать на другую сторону границы!» Вот я и перебралась, без гроша в кармане, без своих драгоценностей, почти помешанная от пережитого кошмара. Одна дама, которую на другой день после моего прихода сюда забрали родственники, подарила мне этот халат…
В дверях появилась черная ряса.
— Здравствуйте, друзья! — кивнул всем патер. Он направился прямо к парам девушек и подал Ирене банку с маслом.
Вацлав от возмущения почувствовал горячий прилив крови к вискам. Его ладони покрылись липким потом. Этот симптом расстройства нервной системы все чаще и чаще повторялся в последнее время, и это сильно беспокоило студента-медика. «Стоит ли так расстраиваться из-за куска масла?» — упрекал он сам себя в душе. Но смолчать он не сумел:
— Разве девушки были на обедне? Что-то я их в костеле не видел!
Патер Флориан передернул бровями, привычным движением нащупал крест на груди и смиренно улыбнулся.
— Зависть ослепляет тебя, брат мой. Разве ты потерпишь какой-нибудь ущерб от того, что ближнему твоему будет немного лучше? Мы забываем, что миг, отданный зависти или гневу, лишает нас вечной любви. Девушки сегодня действительно не были на святой обедне, однако иногда они в костел ходят и молятся господу богу. До свидания.
Баронесса перемешивала свою душистую заправку. Гонзик с порванным пиджаком на коленях, не мигая, глядел на нее. В его расширенных глазах, казалось, застыла разыгравшаяся на границе и нарисованная Баронессой картина. Вацлав, уставший от волнения, прилег на нары. В душе у него бушевала неистовая ярость, сознание беспомощности и стыда за все пережитое.
14
На доске объявлений возле канцелярии в конце февраля появился плакат, извещавший на четырех языках о главном событии сезона — большом танцевальном вечере, организуемом «Свободной Европой». В объявлении на немецком языке красовалось даже пышное обозначение «Valka-Ball».
Для Гонзика и Вацлава это событие означало, что они должны снова постирать сорочки. В тот же день, когда они на это решились, локоть Гонзика окончательно порвал рукав хлопчатобумажного пуловера. Перед такой катастрофой портновский талант Гонзика явно пасовал. Однако мысль о том, что он пойдет на бал с большой дырой под пиджаком, не давала ему покоя.
Внезапная идея взволновала его. Он отогнал ее, но она вернулась снова. Юноша искоса посмотрел на Вацлава. Закутавшись в одеяло, студент сидел за столом над книгой, в холодном воздухе комнаты из его губ ритмично вылетал пар. Гонзик вступил в молниеносную схватку с собственной совестью и победил ее; он надел пиджак и вышел.
Катка сидела в комнате, опершись спиной о стол. Когда Гонзик вошел, она от удивления опустила на колени чулок, натянутый на деревянный грибок для штопки. Остальные женщины в комнате вопросительно оглядели юношу. Поняв, что он пришел к Катке, они потеряли к нему интерес.
Гонзик прикоснулся к оправе очков, снял пиджак и выразительно указал на дырявый локоть.
— Снимите, — улыбнулась Катка.
— Дело в том… у меня под ним ничего не надето. Мы стирали…
Катка приготовила нитку.
— Так-то у нас пойдет хуже. Но уж если я вас уколю, не смейте кричать.
— Буду тише воды, ниже травы. Стерплю все, как Швейк, когда ему прикалывали медаль прямо к телу.
Катка рассмеялась и начала штопать. Ее смех звенел в его ушах, как колокольчик, — это было такой драгоценной редкостью в Валке! Если кто и смеялся здесь, так смех его чаще всего был издевкой над кем-то. Где остался настоящий смех, неподдельный, сердечный, смех взахлеб, от которого уставали щеки, а все вокруг становилось светлее? Гонзик знал где, но в этот момент не хотел об этом думать.
Локон ее темных волос свесился на глаза, красивым пластичным движением она отбросила его.
— Вы ведь завтра идете на бал, — полуутвердительно сказал Гонзик.
Она подняла длинные ресницы.
— Мне нечего надеть, — согласно традиционной женской логике ответила она.
Он стал уверять ее, что другие девушки располагают не лучшими нарядами.
Каткины волосы источали едва уловимый аромат. Сквозь тонкую ткань свитера Гонзик чувствовал быстрые мягкие прикосновения ее пальцев, придерживавших его локоть. Ему представилось: его рука — на Каткиной талии, ритм медленного фокстрота, и ее лицо еще ближе, чем сейчас.
Тепло женских рук грело ему локоть, но он чувствовал жар в груди.
— Ну и неспокойный же вы пациент! Так шить мне неудобно. — И Катка на момент подняла голову.
Молодой человек в замешательстве снял очки, не зная, что ответить.
Вблизи он хорошенько разглядел веснушки на ее лице: у основания носа и немножко на скулах. Она сидела наклонившись, и вырез ее платья чуть расширился, тень ее подбородка — от лампы на потолочной балке — двигалась по белой шее вверх и вниз, иногда соединяясь с мягкой тенью между грудями.
От ее рук, легко сжимавших локоть Гонзика, исходили какие-то токи, отчего у Гонзика по коже пробегал легкий морозец.
Пять месяцев уже минуло с тех пор, когда он в последний раз обнимал девушку!
Гонзик грезил наяву: ритм танго, ее нежная рука в его ладони. Он прямо физически чувствовал прикосновение ее упругой груди. А тень, овальная, нежная, двигалась по шее — вверх-вниз, вверх-вниз.
Он стоял, не мигая, не двигаясь, отчего глаза начало жечь, но не шелохнулся.
Вокруг Каткиной головы поплыли какие-то дымчатые круги, круги густели и золотились, вся комната вдруг утонула в искрящемся сумраке, голоса людей куда-то отдалились, осталось только учащенное дыхание. И вот от прикосновения ее пальцев Гонзика начала пробирать дрожь. Свободной рукой он беспомощно схватился за край лавки, на которой сидел. Его возбуждала и страшила близость Катки, в нем поднималась бессильная злоба на самого себя и желание, чтобы время остановилось.
Пять месяцев!
Он вздрогнул, нитка выскользнула из ушка иголки.
— Далеко вам до Швейка! — весело сказала Катка.
Этого он уже не мог перенести.
Голоса в комнате в мгновение ока заговорили о конкретных реальных вещах, кто-то шуршал бумагой, чья-то рука выскребала кастрюльку, чьи-то шлепанцы зашаркали.
Конец.
Плечи юноши расслабленно опустились, буря в груди понемногу улеглась. Катка преспокойно нагнула голову к его локтю и перекусила остаток нитки. Он что-то пробормотал в знак благодарности, вскочил, споткнулся о лавку. Катка ему что-то кричала вслед, он не слышал, бухнул дверью.
Морозный вечер положил свою холодную ладонь на его разгоряченный лоб. Шаги юноши глухо шуршали по мерзлому песку, а в душе росло ощущение вялой, не имеющей конца и края пустоты, — она растекалась всюду, во все стороны, за самый горизонт.
Несчастный, сделав один неверный шаг через горную тропинку на чужую сторону, ты добровольно отрекся от всего — от матери, родины, тепла девичьих объятий, за которые не надо платить наличными.
Его начала охватывать смертельная ненависть к Вацлаву.
Гонзик нагнулся, набрал в руку снега, погрузил в него губы, лицо; от холода заломило зубы — стало чуть легче.
К утру рубаха еще не просохла; не оставалось ничего другого, как досушить ее на себе. Преодолев неприятное чувство, Гонзик надел сорочку, напялив поверх нее на себя все, что имел, потом закутался еще в одеяло, отчего стал похожим на бедуина. В комнате, где жил Ярда, было заметно теплее, и Гонзик перебрался туда со своими записями немецких слов, однако память отказывалась ему служить, учение его не занимало. Отвращение к работе находило на него еще дома, а в последнее время, когда он застрял здесь, оно проявлялось все чаще и чаще. Исподволь, незаметно он пропитывался им, как губка.
Обитатели седьмой разошлись куда-то. Гонзик уселся у радиоприемника. Редкая минута — он был один в комнате. Только где-то на верхних нарах похрапывал седовласый дед. Гонзик начал механически двигать рычажками настройки. Вдруг чешская речь зазвенела и отозвалась в самом сердце. Он моментально узнал голос родины. Странно, совсем-совсем иначе звучит чешское слово, сказанное родиной, чем тот же язык, звучащий в радиопередаче из Мюнхена или из-за океана. Кто знает, может быть, злоба и ненависть искажают и тон родной речи. Но сейчас какая-то артистка Национального театра читала сказку о Длинном, Толстом и Быстроглазом, читала мелодичным, выразительным голосом, и этот живой голос дышал уверенностью, душевным спокойствием и лаской.
Дома бы Гонзик с пренебрежительной усмешкой переключил такую болтовню на джаз, транслируемый «Рот-Вайсс-Рот», но теперь он сидел, внимая этим мягким, нежным словам родной речи, открывая в ней такую красоту, которую никогда ранее не замечал. Привычная, давно знакомая сказка, но Гонзику виделись сотни напряженных детских лиц, широко открытые глаза, разинутые от внимания рты ребят. После школы дети побегут домой, щебеча, как стайка воробьев, подерутся из-за свистульки, слепят снеговика, затем рассядутся по стульям с высокими сиденьями и склонятся над тарелками, утомленные утренними впечатлениями, успокоившиеся, как и каждый, у кого есть свое дело, родина и чья-то любовь.
Родина и чья-то любовь!
Гонзик закрыл глаза. И сразу — рука Катки, придерживающая его локоть, веснушки на ее скулах, запах ее волос…
Внезапно Гонзик почувствовал, что за ним кто-то стоит. Обернулся: Пепек!
Женский голос в радиоприемнике умолк.
Застигнутый врасплох, Гонзик даже не попытался выключить радиоприемник.
Пепек огляделся. В углу на верхних нарах он отчетливо увидел темные брюки, фуфайку патера Флориана. Пепек побледнел. Один раз он уже попал под подозрение в политической неблагонадежности, и это стоило ему лишнего года пребывания в лагере, а теперь, может быть и двух лет…
— Так ты ходишь слушать Прагу в мою комнату!.. — заорал Пепек, и глаза его зловеще блеснули.
— Прага и все другие радиостанции…
— Выключи эту идиотскую болтовню! — заревел Пепек так, что даже голос сорвался.
Гонзик с ужасом глядел на его отвратительную физиономию. Ему на минуту показалось, что Пепек рехнулся, потом в Гонзике что-то возмутилось. Он встал.
— Может быть, в этой болтовне куда меньше идиотизма, чем в той, которой нас кормит радио в клубе.
— Гад! — Правая рука Пепека обрушилась на лицо Гонзика одновременно с брызгами слюны.
Гонзик покачнулся, побледнел как мел и случайно коснулся рукой рычажка переключения. Речь диктора моментально сменилась разноголосицей ревущих и писклявых звуков. Дед на верхних нарах проснулся и надсадно закашлялся.
Кровь стремительно хлынула обратно к щекам Гонзика, в глазах заплясали радужные пятна. Он замахнулся для ответного удара, но в этот миг кто-то в противоположном углу на верхних нарах приподнялся и сел. Рука Гонзика упала: патер Флориан. Как он мог его не заметить?!
— Если еще вот так поймаю — официально донесу, — услышал Гонзик истерическую угрозу Пепека.
Мгновение мертвой тишины. Гонзик слышит лишь, как бьется его сердце.
— Запрещаю тебе прикасаться к нашему радиоприемнику, — прибавил Пепек.
Священник слез, подошел и выключил приемник.
— Не изменяй нашему делу и самому себе, брат, — тихо сказал патер. Его спокойный голос выразительно контрастировал с криком Пепека. — Раз ты ищешь моральной поддержки у пражского радио, значит, ты заколебался. Существует только один подлинный источник силы — бог, — и патер молча указал вверх. — Верить — значит дать жизни вечный смысл, среди конечного постигнуть и обрести бесконечность.
Гонзик не помнил, как вылетел из комнаты. Он побрел куда глаза глядят и очутился на краю футбольного поля. Лицо его пылало, слезы подкатывались к горлу. Он плелся, как был — с одеялом, наброшенным на плечи, от влажного тепла у него чесалась спина. Он физически ощущал, как в его груди снова сжимался какой-то кулак. Гонзик стиснул зубы, чтобы хоть как-то помочь себе. «Ты должен выдержать, должен, должен! Ты должен становиться тверже с каждым новым ударом судьбы. Ты должен стать бесчувственным, окаменеть — только так можно перенести все разочарования, которые ждут тебя здесь, только так можно научиться воспринимать их спокойно».
В ушах Гонзика, к его удивлению, звучал не крик Пепека — злобный и в то же время трусливый, не елейный голос патера, а мелодический, наполненный лаской и миром альт, рассказывающий сказку о Длинном, Толстом и Быстроглазом.
* * *
Вечером Вацлав постучал в дверь Каткиной комнаты и оцепенел, не успев снять ладонь с дверной ручки: Катка сидела на своем сеннике, ее руки бессильно лежали на коленях, а глаза покраснели от слез.
— Катка! Ведь мы не найдем свободного столика!
— Никуда я не пойду! — всхлипнула она.
— Что произошло?
Она огляделась и понизила голос до шепота:
— Выгнали с работы.
Он участливо взял ее за руку. В его глазах — недоуменный вопрос. У Катки еще сильнее задрожал подбородок.
— Хозяйка мне сказала, чтобы с понедельника я уже не ходила. Кто-то донес, что она противозаконно наняла меня.
Вацлав побледнел.
— Вы, может быть, думаете…
— Нет, нет, она сказала, что это не из лагеря. Кто-то приходил предупредить, ее знакомый, немец. — Катка поникла головой, но вдруг поднялась и быстро вышла.
Вацлав догнал ее в коридоре.
— Катка…
Она прислонилась к дверному косяку, прижавшись лбом к руке. Целый поток слез омывал тяжесть обрушившегося на нее несчастья. Вацлав тщетно пытался ее утешить.
— Если останетесь дома, лучше не станет. Потом что-нибудь придумаем, — бормотал он, сам плохо веря своим словам. Уж очень ему не хотелось отступиться, он так надеялся на сегодняшний вечер.
Катка в конце концов дала себя уговорить. Они протискались в переполненный зал в тот момент, когда умолкли торжественные фанфары, возвестившие начало бала, и главный редактор «Свободной Европы», облаченный в смокинг, обратился с эстрады с приветственной речью к присутствующим.
Гонзик влачился за ними как тень. Вацлав сегодня впервые почувствовал, что его тяготит присутствие друга. Они безрезультатно искали места: все было занято.
— Тут стол для словаков, — предупредил Вацлава молодой человек, раскинувший руки на спинках трех стульев, и, увидев, что Вацлав его не понял, для наглядности наклонил стулья спинками к столу.
— У нас словацкая компания, — с досадливой интонацией в голосе сказала некрасивая женщина в весеннем цветастом платье, сидевшая за другим столиком. — Объясни этому дураку, — обратилась она к соседу.
Наконец им удалось найти два места. Гонзику пришлось оставить Вацлава и Катку. Еще одно зернышко обиды и несправедливости пустило в нем свои ростки.
Оратора, выступавшего с эстрады, было плохо слышно. Шум в зале возрастал. Большинство присутствующих давно уже отвыкли соблюдать общественные приличия, они хотели веселиться и недвусмысленно давали об этом знать.
Но вот грянул лагерный оркестр, и по полу зашаркали танцующие пары. Сегодня молодежь лагеря постаралась принарядиться. Здесь не было небритых лиц, типичных для лагерных будней. Не видно было и людей, надевших из-за холода на себя все, что только возможно.
И все же общипанный, истасканный вид, провинциальная неряшливость и понурость — неизгладимая печать Валки — особенно бросались в глаза именно сегодня. Даже торжественная атмосфера вечера не могла снять со многих лиц следы долгих месяцев тщетного ожидания, постепенной утраты веры в лучшее будущее. У многих молодых людей за вымученными улыбками скрывалась беспросветная тоска. А несколько смокингов, принадлежавших редакторам «Свободной Европы» либо иным «аристократам», только подчеркивали разницу между горсткой тех счастливцев, которые получали каждое первое число жалованье, и серой массой тех, которым совали жалкое пособие: одиннадцать марок в месяц.
Вацлав и Катка тоже пытались танцевать в переполненном зале, ведь только это было здесь иллюзией лучшего мира. Юноша чувствовал на теле чисто выстиранную сорочку, на столике благоухала чашка натурального кофе, джаз из профессиональных музыкантов — эмигрантов половины Европы — превзошел все ожидания. Катка была отлично причесана: парикмахерша — соседка по комнате — за полчаса сотворила из ее волос маленькое чудо. В первый раз Вацлав увидел, что она накрасила губы.
Мимо них проплыла буйная шевелюра Ярды; он едва кивнул им и, пробравшись среди столиков, уселся в дальнем углу. Около него мелькнула маленькая кучерявая голова Пепека.
— Что с Ярдой? — спросила Катка.
— Не знаю. С некоторых пор он идет своим путем. А прогнать Гонзика у меня не хватает духу.
— Не делайте этого, — полушепотом сказала она. — Ведь он в вас видит остров спасения, маяк, который освещает ему путь На кого ему еще опереться?
Последние ее слова поразили юношу, он взволнованно схватил ее за руку; ему подумалось, что не следовало бы так раскрывать перед ней карты, но неожиданно нахлынувшее желание довериться, исповедоваться превозмогло.
— Ведь мне самому нужна опора, Катка, а от кого мне ждать теплого слова поддержки, когда здесь даже лучшие среди немногих хороших людей думают прежде всего о себе! Ведь и мнимая дружба нашей троицы рассыпалась, не вынесла тягот Валки. Объединяла нас опасность, которую мы вместе пережили в пограничных лесах; мы еще держались вместе, пока у нас были какие-то иллюзии относительно будущего, а теперь с каждым днем крепнет убеждение, что мы проиграли, и это разъединяет нас все больше.
Катка едва слушала его слова; перед глазами у нее снова был Ганс, их первый бал, она в длинном вечернем платье, он в смокинге, широкоплечий, привлекавший взоры девиц… Нет, никто на свете не сможет заменить ей Ганса. Катка застыдилась своей внезапной физической тоски о нем, но тут же с новой силой поняла: она должна, должна найти его — что бы ни случилось, она будет драться за него, как дикая кошка. Ведь она захлопнула за собой дверь, ей ничего, ничего не остается, как только снова найти Ганса.
А в это время оставленный всеми Гонзик уныло и упорно помешивал ложечкой остывший кофе. Тебе нет дела до танцующих, они вовсе не интересуют тебя. Ненадолго же хватило твоей доброй воли и упрямого стремления стать тверже, воспринимать жизнь такой, как она есть, никому и ничему не позволять вывести себя из равновесия. Ты не сумел превозмочь себя и поплелся за этими двумя, ты, отверженный, третий лишний в игре! Гонзик сидел, покусывая временами ноготь указательного пальца, и червь недовольства безжалостно точил его обиженное сердце. Теперь он поверил, что беда в одиночку не приходит. Танцующие пары слегка расступились, и Гонзик вдруг увидел лицо Вацлава совсем близко от лица Катки. Губы Вацлава шевелились — он что-то говорил ей. Катка откинула голову, посмотрела Вацлаву в глаза и чуть улыбнулась. Гонзик поник головой. Если жизнь уподобить синусоиде, как однажды изобразил это Вацлав на обрывке газеты, то он, Гонзик, несомненно, сейчас оказался на самом дне одной из житейских волн.
Откуда-то внезапно вынырнул Пепек, без всяких церемоний отобрал Катку у Вацлава и увел ее танцевать. Перед Гонзиком мелькнуло его широкое лицо с тупым сплюснутым носом, со сросшимися бровями насильника. О, Гонзик всегда будет ненавидеть эту жестокую физиономию! И все же один господь бог ведает, что это с ним происходит. Гонзик со злорадством наблюдал, как расстроенный Вацлав присел к своему столу.
Музыка смолкла. Пепек даже не попытался проводить свою даму. Катка одна пробиралась к столу, села возле Вацлава, нервно напудрилась и сказала:
— Лучше бы он ко мне не подходил. Я почему-то боюсь его, хотя и жалею. Ведь он более двух лет здесь. — И на вопросительный взгляд Вацлава добавила: — Однажды у него уже был билет на пароход, но в последний момент его зазвали в контору, выманили и не возвратили обратно выездную визу. Кто-то на него донес, что в республике он будто бы якшался с коммунистами. И двери США навсегда захлопнулись перед его носом.
— Но ведь он мог податься в другую страну.
— Он, кажется, так и поступил, но это значит ждать еще год или два.
Папаша Кодл пробирался между столиками. Новенький смокинг плохо сидел на его бесформенной фигуре. Незаметно для себя Кодл причмокивал губами. Это означало, что он в хорошем настроении. Слева, повиснув на руке мужа, рассыпая на все стороны обворожительные улыбки, переваливаясь как утка, шла пани Ирма в розовом вечернем платье. Папаша Кодл, увидев Катку возле Вацлава, дружески подмигнул ей. Но рука его нащупала в кармане спичку и сломала ее пополам.
Пепек и Ярда с пренебрежительным видом уселись на высоких стульях у стойки бара. Первую дозу виски разгоряченный Пепек выпил одним махом. Он собрался было заказать вторую порцию, но заколебался, вытащил бумажник и без всякого стеснения сосчитал его скромное содержимое.
Ярда молча, выжидательно посматривал.
— У меня есть кое-что на примете, — решился наконец Ярда. — На днях присмотрел.
Уже три дня подряд Ярда подумывал об этом содружестве. Но соседство по нарам весьма немного сблизило его с этим человеком. Пепек не был ему симпатичен, но он здесь старожил. А новичку, пусть хоть на первое время, лучше опереться на бывалого человека, который в таких делах имеет уже некоторый опыт.
Пепек сразу догадался, о чем речь.
Он сумрачно посмотрел на Ярду. Тяжелые мысли одолевали Пепека. Если он попадется за каким-либо неблаговидным делом, совершенным здесь, на немецкой земле, это погубит всякие надежды на выезд из страны. Эмиграция куда-нибудь дальше зависит не только от доброй воли заморского государства, тут необходимо еще и согласие местных инстанций. Пока что западногерманские учреждения оберегали его, не выдали органам Чехословацкой республики. Но кто может поручиться, что немцы будут отстаивать человека, который и им насолит?
Проклятое положение: он вынужден иногда что-то предпринимать просто для того, чтобы жить, но не должен, любой ценой не должен ни в чем таком попасться.
Исчезнуть, затеряться за океаном — вот его первая, единственная, стихийная, животная тоска, веление инстинкта самосохранения. Ведь нельзя же постоянно жить в неуверенности, страхе, что тебя вот-вот выдадут. От этого можно сойти с ума!
Но на лагерное пособие не проживешь.
Пепек хмуро поднял на Ярду свои рыбьи глаза.
— Если дело стоящее, то надо позвать Капитана. Этого парня оберегают все святые. Ну, давай выкладывай…
Немного поодаль, за одним из столиков, Ганка приподняла блеклые глаза от бокала вина, которым ее старательно угощал партнер. Опустив руки на колени, она смотрела на Пепека, на его толстый продавленный нос.
Не пришел он к ней в сочельник и даже сегодня не подошел, чтобы хотя бы потанцевать.
Брат и сестра! Она вспоминает, как однажды повел он ее в предместье на шумный базар, в день храмового праздника. Ему тогда было лет тринадцать, а ей — семь. Он казался ей большим и сильным. Мама дала им деньги. Кто знает, может быть, ей нужно было выпроводить детей из дому на некоторое время. Ганка теперь уже разбирается в таких делах… С тех пор как Ганка помнит себя, Пепек никогда не проявлял любви к сестре, но в тот раз произошло что-то особенное. Пепек превратился в ангела-хранителя, благородного рыцаря. Он покатал младшую сестру на карусели, купил ей на крону мороженого, наконец, угостил сосиской с булочкой. Они сидели за столиком в буфете, как взрослые. В тот день Ганка ощутила какое-то новое, ранее неведомое волнение, она как бы в первый раз выглянула в настоящий мир из убогого, прокопченного двора, затерянного между домишками остравской окраины. Бог весть почему у нее всплыло перед глазами это давнее переживание, забытое и затерявшееся в закоулках ее памяти среди многих других событий последнего времени.
Ганке не хочется вспоминать ни о щедрых, хвастливых обещаниях ее партнера, с которым она убежала за границу в погоне за легкой жизнью, ни о радостном удивлении, когда она встретила здесь, в Валке, своего брата. Хотя чуда в этом не было: большинство беженцев проходит через Валку. Ганка тогда быстро забыла о преступлении, которое на родине совершил ее брат и которое, впрочем лишь на первое время, поставило в ее сознании странную преграду между ними: в здешней среде его злодеяние потеряло свою остроту и значение. Но что дала ей эта встреча? Ничего! Пепек уже давно избавился от припадков рыцарства.
Джазовая певица, появившаяся на эстраде, привлекла к себе внимание вычурным серебристым туалетом и пышными русыми волосами. Когда она допела куплет, высмеивающий коммунистов, публика наградила ее аплодисментами, но они относились скорее к ее обольстительным бедрам и чересчур глубокому декольте. Певица спела модную американскую песенку, и в зале поднялась целая буря: неистовые аплодисменты, топанье, выкрики. Певица профессионально улыбнулась и повторила шлягер.
Гонзик сорвался со своего места, едва в зале снова зазвучала танцевальная мелодия. Ему удалось взять Катку за руку и повести ее в круг танцующих. Он вел ее, а сам дрожал от страха, что кто-нибудь у него ее отнимет. Они начали танцевать. Гонзик крепко обнял ее талию, словно хотел этим вознаградить себя за все свое самоотречение; его лицо коснулось на мгновение ее щечки, словно электрическая искра пробежала по всему его телу.
— Вчера я вел себя, как дурак, Катка…
Она наклонила голову, ее влажные губы чуть приоткрылись, и Гонзик болезненно ощутил ее привлекательность.
— Почему? Хотя здесь это иногда бывает… с молодыми людьми… — Она слегка пожала ему руку, улыбнулась и внезапно сказала совсем другим голосом: — Выше голову, Гонзик! Вы… вы хороший парень. Если бы здесь было побольше таких… У каждого здесь свои огорчения.
Он покраснел, в мгновение ока утратил нить разговора. А ведь он собирался высказать ей так много, мечтал коснуться ее, а бесконечными ночами грезил о чем-то гораздо большем, о том, что он целует ее, закрыв глаза, целует до боли — за всю свою тоску, за свое, напрасное стремление искупить то, что нельзя искупить, за тот удар по лицу, который он получил сегодня утром от руки чеха. И вот вместо всего этого…
Ах, безумец, истукан ты этакий, идиот! Ну, чего ты, собственно говоря, ожидал?
Теперь Гонзик ждал только одного — чтобы, наконец, музыка умолкла и чтобы ему никогда больше с Каткой не танцевать. Он даже едва не пропустил мимо ушей ее приглашение к столику. Они, дескать, там как-нибудь усядутся.
Вацлав и Катка снова идут танцевать. Глаза Гонзика и Катки на миг встречаются. Юноша в упрямой, неотступной надежде в последний раз ищет в ее глазах то, что ему нужно, как умирающему от жажды капля воды. Но в ее глазах лишь нечто такое, что его раздражает и унижает: «Выше голову, Гонзик!..»
Пальцы Гонзика механически складывают бумажную салфетку в разные удивительные фигурки, из чашки с недопитым остывшим кофе пахнет цикорием. Безразличие охватило Гонзика: ему все равно, как-нибудь он досидит здесь до конца, в логове ведь тебя жрали бы блохи. И Катку жрут… Катку… Какая шкодливая мыслишка — ведь и эту стройную девушку с бархатными губами жрут блохи, так же как и патера Флориана, как и самого главного врага Гонзика — Пепека. Проклятое место эта Валка, где даже танцевальный вечер может ввергнуть человека в бесконечные муки и бездонную пустоту.
Папаша Кодл наклонил кудрявую голову к розовому лицу своей супруги.
— Видишь вон того бледного парня на танцевальной площадке? — спросил он глухо. — Его зовут Вацлав Юрен. Запомни это имя. Завтра изымешь его просьбу о выезде на Запад и сделаешь пометку: «Политически неблагонадежен, к оформлению не рекомендуется».
Пани Ирма озадаченно посмотрела на мужа и кивнула. Кто-то наклонился над их столиком и попросил у папаши Кодла позволения пригласить его супругу танцевать.
Фокстроты и буги-вуги, серебристый туалет и бездушная голливудская улыбка на эстраде, духота и дым. Редактор «Свободной Европы» с пафосом, выразительно оттеняя рифмы, пародирует стихи Маяковского — коверкает их так, что они осмеивают Советский Союз.
Катка снова сидит напротив Гонзика. Ее задумчивый, невидящий взгляд устремлен куда-то в пустоту. Она теперь не отвечает даже на вопросы Вацлава. Гонзик заметил, что ее глаза стали вдруг влажными, она застыдилась, низко наклонила голову и, не сказав ни слова, поспешно ушла.
— Что случилось? — ужаснулся Гонзик.
Вацлав, помедлив, ответил:
— Кто-то ее выдал, и она потеряла работу, — он помрачнел, набрал немного кофейного осадка и стал жевать, беспокойно оглядываясь, не возвращается ли Катка.
Гонзику хотелось бы утаить от Вацлава свое замешательство.
«Выше голову, Гонзик!»
Куда смотрит бог из своих заоблачных сфер высшей справедливости, если он не видит это заброшенное, всеми забытое место, обнесенное обветшалым забором, где за всем: за улыбкой, громкой шуткой, пронзительным звуком джазовой музыки — скрывается чья-нибудь трагедия!
— Вчера ко мне обратился какой-то чужой мужчина, — начал Гонзик, помешивая ложечкой остатки кофе, — и без обиняков сказал: «Иностранный легион — деньги, униформа, положение — и увидишь полмира».
Глаза Вацлава сузились, пальцы начали нервно барабанить по скатерти.
— С ума сошел? — Вацлав метнул пронизывающий взгляд в удивленное лицо Гонзика и побледнел. Вопреки своим привычкам Вацлав крепко, с силой схватил приятеля за руку повыше локтя. — Гонза, пусть тебе даже во сне… Ты вообще, балда этакая, имеешь понятие, куда ты мог попасть? Продаться за гроши, чтобы убивать людей? Худшего пути из Валки нет! Почему ты не сообщил о нем властям? Разве ты не знаешь, что такая вербовка в лагерях запрещена?
Гонзик с трудом понимал, почему так взволновался Вацлав. Когда-то Гонзик читал роман об Иностранном легионе: красочные иллюстрации играли блеском униформ Легионеры покрывали себя славой и проявляли геройство в боях с дикарями… И вдруг Вацлав реагирует так бурно…
И Гонза ответил:
— Само собой, мне даже и в голову не пришло…
Гонзик поднялся и начал пробираться по залу, наступая на обрывки бумажных гирлянд, едва внимая ритму музыки, которая была под стать танцам дервишей.
У распивочной стойки Гонзик увидел знакомое пестрое платье. Глаза Ирены красноречиво говорили о том, что она уже выпила сверх своей меры. Гонзик, не рассуждая, с жестом азартного игрока уселся рядом с ней. Что ему еще можно потерять в конце испорченного вечера? Он попытался быть циничным, стреляным воробьем, но, еще не договорив, почувствовал, что краснеет.
— Пять месяцев у меня никого не было. Ты мне нужна, пойми.
Ирена от удивления подняла тонкие брови.
— Гон-зик! — протянула она нетвердым голосом, сбила пепел сигареты на пол, красивым жестом допила свою рюмку, затем поставила локоть на стойку и положила подбородок на ладони. — Я всегда думала, что ты совершенная шляпа, рохля, каких свет не видел, — сказала она весело, — а ты, оказывается, не лишен чувства юмора!
Парень побледнел. Все накопившиеся за сегодняшний день разочарования и гнев вскипели в нем.
— С черным за банку консервов можешь спать, а земляк для тебя меньше, чем… чем… — слово застряло у него в горле.
Краткая вспышка гнева передернула ее лицо. Юноша уже ожидал хлесткой пощечины — второй за сегодняшний день. У него даже пронеслось в голове: «Как мне тогда поступить?» Однако по лицу Ирены вдруг расплылась снисходительная, почти примирительная улыбка.
— Ты, может быть, в общем был бы не так уж плох, если бы снял очки, — и она игриво дунула ему в лицо дымком от сигареты. — Но рассуди сам: что я с тебя могу взять? Так уж сейчас, Гонзичек, повелось на свете: прежде всего полный желудок, а потом патриотизм…
В противоположном конце зала Пепек присел к свободному столику. Но тут же около него остановилась разгоряченная пара.
— Здесь наши места, — заявили они по-словацки.
Пепек поднял на них холодные рыбьи глаза.
— Места уже полчаса никем не заняты. Садитесь рядом.
Девушка взяла своего партнера за рукав.
— Что он себе позволяет, этот…
— Наглец, как все чехи.
Пепек вскочил, как пружина.
— Еще слово, и ты будешь собирать зубы в оркестре, проволочник проклятый!
— Ну, ну, полегче на поворотах! Это тебе не республика, чтобы зазнаваться!
Хлесткая пощечина, стук упавшего стула.
— Чехов вон, бей их!
— Полиция!
Оглушительный крик, звон разбиваемой посуды, грохот перевернутого столика на миг заглушили все.
— Играйте! — приказал музыкантам побледневший редактор, его руки нервно дернули, надорвав листы с пародиями на стихи Маяковского.
— Бездельники, бандиты, негодяи, мерзавцы! Прикажу всех арестовать, будете все сидеть одной кучей! — Грозный голос папаши Кодла потонул в шуме новой схватки и визгливом фортиссимо джаза. Только правая рука Кодла мелькала над головами дерущихся и щедро раздавала тумаки.
Первые удары полицейских дубинок упали на спины разъяренных драчунов, однако результат был прямо противоположным. Многие из тех, которые до сих пор развлекались, наблюдая за дракой со стороны, теперь засучили рукава праздничных костюмов. Зазвенело разбитое стекло, девушки, придерживая юбки, опираясь на плечи своих кавалеров, вылезали из клуба через открытые окна.
Схватка подкатилась ближе к эстраде, буги-вуги оборвалось на середине какой-то визгливой ноты, и музыканты в панике стали укладывать свои инструменты. Папаша Кодл стоял на эстраде с надорванным рукавом своего нового смокинга, с белой бабочкой, сбившейся к самому уху, багровый, взмокший, и беспомощно разводил руками. Свое жабье лицо он скорчил в жалобную скорбную гримасу и сильным баритоном отставного оперного хориста взывал:
— Братья, опомнитесь! Ведь все мы на одном корабле!
15
Ледяной ветер дул из всех щелей деревянного барака. Озябшие обитатели седьмой комнаты один за другим забирались на свои нары. Пепек за нарами в потемках подвязывал под пиджаком рюкзак, а Ярда, уже одетый, нетерпеливо наблюдал за ним Патер Флориан, сидя за столом с книгой, приподнял очки в золотой оправе и вперил неподвижный взгляд в беспокойные, нервные руки Ярды. Затем снова подпер ладонью широкий лоб.
— Да пошевеливайся же! — не удержался Ярда.
— До полуночи еще наиграешься в бильярд, — процедил Пепек и не спеша закурил.
Рука священника, переворачивавшая страницу, застыла. Флориан мельком взглянул на Пепека.
Наконец Пепек надел шапку на свои неподатливые вихры и двумя пальцами отдал честь.
— С богом! Желаю хорошо позабавиться! — сказал им священник.
Ярде показалось, что в его голосе прозвучала нотка иронии.
За воротами лагеря из густой тени к ним подошел Капитан.
— Где вы пропадали, черт подери! Кому охота мерзнуть тут на ветру? — Он поднял воротник.
Молча вошли они в автобус и остались на задней площадке. В уголочке устроилась девушка в пестрой шерстяной шапочке, возле нее широкая мужская спина с рюкзаком; две пары лыж погромыхивали, когда автобус подскакивал на ухабах. Ярда искоса поглядывал на девичье лицо. На нем видно было нетерпеливое ожидание, радостная взволнованность человека, которому предстоит провести несколько беззаботных дней. Эти двое молодых людей шутили, девушка иногда заливалась звонким смехом. Они, вероятно, ехали на Шумаву, будут там носиться по белым просторам, вечером в туристской хате потанцуют в домашних туфлях, а потом вместе пойдут спать.
Два года назад, незадолго до того, как Ярда отказался от места в большой авторемонтной мастерской и завел собственное дело, он получил путевку на турбазу «Белый крест». Здесь за четырнадцать дней он научился неплохо ходить на лыжах. На заключительных состязаниях отдыхающих он пришел к финишу третьим. И вот теперь ему померещилось, что за дрожащим окном автобуса во мраке ночи промелькнули круглые вершины Бескид, понурый Полом, завьюженные стежки на скатах Харбулака. Однажды вечером в лунном сиянии они отправились на прогулку целой компанией, и та черноглазая девушка в голубом свитере вывихнула щиколотку. Ярда нес ее часть пути на закорках и получил за это поцелуй в коридоре валашского трактирчика «У красотки Ганки», как гласила вычурная надпись над входом.
Наверное, с тех пор минуло не два года, а целых двадцать лет!
За замерзшим окном замелькали огни Нюрнберга. Пассажиров в автобусе прибывало.
Внезапно Ярду охватила разъедающая сердце зависть к тем двум, в углу. Есть люди, которые ездят на лыжные прогулки, но есть и иные, которые трескают турнепс и подумают, прежде чем позволят себе роскошь — поездку в автобусе. Ярда повернулся спиной к молодой парочке: его раздражало нетерпение, горящее в глазах девушки, ее счастье вызывало в нем ярость. «Погодите, дайте выкарабкаться из этого вшивого лагеря, и я снова стану человеком! Может быть, уже скоро я буду ездить не на какую-то дурацкую Шумаву, а в Альпы и возьму с собой самую красивую девушку Нюрнберга, тогда эти недотепы только глаза вывалят.
От горьких воспоминаний у Ярды опустились уголки рта. Ведь как превосходно складывалась его карьера! Тонда, его старый товарищ, сразу же после войны урвал автомастерскую какого-то немца. А он, Ярда, в сорок седьмом году всего лишь за несколько крон приобрел обломки старого автомобиля «оппель». По разрешению начальника мастерской, где тогда работал Ярда, он не спеша в неурочные часы восстанавливал автомобиль. Но вот в один прекрасный день Тонда говорит: «Мне как воздух необходим прибор для шлифовки цилиндров. Понимаешь, человече, какие потекут деньжата, когда я его заимею? Я было сторговал в одном месте, да там требуют наличными. Деньги нужны позарез. И надежного парня я бы взял в дело, такого, который в автоделе кумекает…»
В Ярде сейчас же заговорил врожденный коммерческий талант. Он решил вытянуть эту занозу из пятки у Тонды только при одном условии, если он поделится «фирмой». А о том, что Ярда в ремесле разбирается, Тонда превосходно знал. Слово за слово, и они договорились. Ярда взял расчет, забрал свой отремонтированный «оппель» и одновременно со шлифовальным прибором водворился в мастерской Тонды.
Сердце Ярды сжималось от боли, когда теперь он думал о том, как бы сегодня он процветал, если бы не проклятый февраль!
Пепек стоял, держась за поручень и опустив голову. Вдруг он тихонько свистнул и вывел Ярду из задумчивости.
— Э, смотри-ка, черт побери, Капитан-то как разбогател!
Широкое лицо Капитана расплылось в довольной улыбке.
— Я богатею в плановом порядке, мальчики. Придет время, и я снова заимею часы. — На ногах у Капитана красовались грубые рабочие, из некрашеной кожи, но зато новые ботинки.
Они вышли на остановке около трактира «У Максима». Знакомый рев оркестриона, все та же вонь непроветриваемого питейного заведения.
— Три порции, генерал. — Капитан добродушно хлопнул трактирщика по согнутой спине.
Грубое, неприязненное лицо старика потемнело. Он что-то невразумительно проворчал, сжал тонкие синие губы и два раза оправил свой белый передник.
— Допек ты его, — заметил Пепек и расстегнул воротник пальто.
— Бунт униженных, — сказал Капитан. — Я всегда имел над собой кучу начальства, а он только одного Деникина. — Капитан скомкал в шарик автобусный билет и уселся на стул. — Но я не думал ничего такого… — Капитан дернул шеей, словно его укусила блоха. — У него, впрочем, нет оснований стыдиться. В честь кого, как ты думаешь, названа сия корчма? — Капитан положил на стул шапку.
Официант трясущимися руками поставил на стол три стаканчика, глядя куда-то поверх голов гостей. Капитан заплатил, а когда официант хотел сдать мелочь, молча пожал ему локоть. Чаевые были непривычно щедрыми для этого заведения. Старик сначала не понял, а потом торжественно выпрямился, прикрыл запавшие тусклые глаза и прошептал:
— Мерси!
Они вышли в ветреную ночь. Подмораживало очень крепко. После недавней оттепели на тротуарах остался грязный гололед. Долго шагали они по окраинным улицам. Из предместья Нейгаузен незаметно перешли в предместье Гимпфельсгоф. Ярда вел их по дороге, которую хорошо запомнил во время дневной разведки. Он нервно втягивал воздух, принюхивался и прислушивался: ведь сегодняшний набег был его «делом». Группа умышленно двигалась медленно, лучше было прийти попозже; пешеходов на улицах становилось все меньше, до полуночи уже оставалось несколько минут. Ярда пылал от негодования; он не чувствовал мороза, хотя резиновый плащ совсем не грел его.
— Вот мы и на месте, — прошептал он наконец.
Перпендикулярно к безлюдной улице тянулся какой-то тупик с еще не замощенной мостовой. Кругом кучи песка, булыжника. По обе стороны начатые стройки жилых домов. Стрела башенного крана застыла высоко в небе, устремившись к мерцающим звездам. Уличные фонари раскачивались от порывов ледяного ветра, тень резинового шланга от бетономешалки вытанцовывала, забавно двигаясь по бугристой земле. Дымовая труба сторожевой будки холодно, безжизненно вздымалась над крышей. В такую собачью погоду сторож, если бы он был на месте, наверняка бы затопил.
Капитан осмотрел место и удовлетворенно кивнул. Без долгих размышлений он открыл дверцу в тумбе ближайшего фонаря и вывинтил пробки. Тупик в мгновение ока потонул в темноте. Им показалось, что в одном шаге от них ничего не видно. У Ярды мороз пробежал по спине. Все на некоторое время замерли. Наконец глаза понемногу привыкли к темноте. Тишина, кирпичные фасады новостроек с черными провалами окон мертво торчали в вышине.
— Останешься здесь, Пепек, на всякий случай. А ты за мной, — прошептал Капитан.
Вдоль последних корпусов тянулась открытая траншея с уложенной на дне водопроводной трубой. Перпендикулярно к ней тянулись ответвления к домам.
— Не пущена ли по трубам вода? — сказал Ярда.
— Где там, трубы замерзли бы.
Но Капитан на всякий случай слез по ступенькам в ближайшую шахту и попробовал повернуть вентиль. Он был закрыт. Капитан отвязал свой мешок, обернутый вокруг тела, положил на землю ножовку, гаечный и французский ключи.
— Оставайся пока наверху. — Его голос был спокоен, движения точны, экономны.
«Мировой парень, — подумал Ярда с облегчением. — Без него бы человеку прозябать в Валке до бесконечности».
Ярда помог Капитану спуститься в траншею. Тот начал орудовать быстро и споро. Временами в траншее вспыхивал прикрытый ладонью огонек карманного фонаря, слышался звук металла, тяжелое пыхтение, когда Капитан напрягался чтобы снять ту или иную фасонную деталь. Капитан продвигался по траншее, выдавая на-гора все больше и больше арматуры.
— Сволочь, не идет! Подай ножовку!
Скрежещущий звук распиливаемого железа неприятно смешивался с завыванием ветра. Ярда напряженно поглядел вдаль на освещенный перекресток, потом в другую сторону, в поле. Ему казалось, что трубки перепиливаются бесконечно долго. Вдруг он затаил дыхание: через перекресток двигалась фигура, даже отсюда виден был огонек папиросы.
— Стой, — тревожно сказал Ярда и опустился на колени у кромки траншеи. — Кто-то идет по главной улице.
Скрип пилы прекратился. Капитан ладонью вытер пот с лица и прислонился спиной к дощатой обшивке траншеи.
— Герой, — сплюнул он в сердцах. — Если бы кто-то шел сюда, Пепек уже давно бы примчался. При таком ветре пилку не слышно и в тридцати шагах. Наше сегодняшнее дело — забава для школьников. Никакого спортивного интереса!
Наконец последняя деталь была отмонтирована. Над краем траншеи появилась правая рука Капитана. Ярда вытащил его наверх. Капитан разделил добычу. Часть положил себе в рюкзак, а остаток — в сумку Ярды.
— Этот кабель обмотай вокруг тела, я иду к Пепеку, — прошипел Капитан.
Ярда сбросил плащ и снял кабель с деревянных козел. Постепенно проходило напряжение, и на сердце становилось легче. Когда Ярда остался один в темном тупике, он, к удивлению своему, начал чувствовать романтическое волнение. Не страх, а глубокая благодарность Капитану наполнила его душу. Когда они вернутся на родину, в новую республику, они до гробовой доски будут друзьями. Ветер приятно овевал его пылавшее лицо. Ярда даже не подумал о том, что ветер нарушает его заботливо уложенную прическу. Наконец кабель был обмотан вокруг тела, Ярда отправился было на перекресток, но споткнулся, ударился коленкой о замерзшую груду глины и, зашипев от боли, вынужден был присесть. Дьявол его побери! Он всегда считал себя ловким, а вот, поди ж, поворачивается, как увалень. К нему приближались приглушенные голоса.
— Так, теперь ты действуй, я свое дело сделал, — сказал Капитан и вытянул из мешка «кошки».
Пепек молча прикрепил их.
— А ты топай на перекресток. — Капитан в шутку ткнул Ярду.
Уходя, Ярда видел, как Пепек, сняв пальто, полез на ближайший столб; через минуту перерезанный провод, падая, просвистел в темноте. Ярда шел к перекрестку, но кабель сдавливал его, как кобра: в спешке он обмотал себя слишком туго и теперь еле дышал. Однако снимать плащ и перематывать кабель ему не хотелось.
Минут через пятнадцать его нагнали соучастники. Капитан, повернувшись спиной к ветру и устроив из воротника щит, закурил. Все трое направились по пустынной в этот час улице в город.
— На следующем перекрестке рассредоточимся. Встреча «У Максима», — пробормотал Капитан, не вынимая изо рта сигареты.
Но вдруг в десяти шагах от угла из боковой улицы вышли две фигуры. Ярда замер: длинные зимние шинели, форменные фуражки, на плечах карабины — полиция! Как слепой, Ярда вытянул вперед руку, колени у него вдруг ослабли, а язык, казалось, стал огромным, мешал дышать, кобра, обвившая грудь, теперь стала сжимать его в смертельном объятии. Конец.
Капитан выплюнул сигарету и направился к патрулю.
— Будьте добры, далеко ли до вокзала?
Старший полицейский, обутый в высокие сапоги, переступил с ноги на ногу.
— Да так, с полчаса пути.
Капитан приподнял рукав над запястьем, на котором не было часов.
— Иисус-Мария, ведь мы опоздаем! Говорил я вам, черти, заведите будильник! Ты когда-нибудь проспишь второе пришествие! — прикрикнул он на Пепека. — Danke bestens[89] — обратился он на ходу к полицейскому и, ускорив шаг, начал громко по-немецки ругать своих спутников. — Болваны, — кричал Капитан, махая руками, — с вами только свяжись! А ну, веселей двигай ногами, а не то курьерского поминай как звали!
Они чувствовали на своих спинах пронизывающие взгляды, ожидали свистка, требования остановиться. Каждый из них лихорадочно думал, что он в таком случае будет делать. Секунды казались бесконечно долгими. Сердце Ярды готово было выскочить из груди. Еще двадцать шагов — и он свалится наземь, кобра его задушит. Но в этот момент он услышал чешские слова Капитана:
— Только ты, сопляк, не вздумай обернуться!
Наконец они вышли из поля зрения полицейских. Капитан с облегчением закурил новую сигарету.
— Ну, сегодняшняя затея приобрела наконец некоторый спортивный интерес. — Капитан сильно затягивался, но сигарета не разгоралась. — Тьфу ты, проклятая! — Он вытер платком вспотевший лоб и так и оставил шапку сдвинутой на макушку.
— Теперь нам уже ни к чему расходиться. В крайнем случае, если встретим другой патруль, повторим тот же прием, — осклабился Пепек и поправил под пальто обмотанный кругами провод.
Ярда только теперь почувствовал некоторое облегчение. Крепко прижатая к телу обмотанным кабелем, мокрая от пота рубаха начала холодить спину. Где-то далеко два раза пробили башенные часы, и сразу же откуда-то донесся протяжный гудок электровоза.
Но, наконец, они оказались в шумных, прокуренных, теплых стенах трактира «У Максима». Здесь они себя почувствовали, как в родной гавани после бурного, полного приключений плавания. Генерал в белом фартуке уже спал. После полуночи посетителей было немного, и с ними управлялась одна официантка. Приятели жадно отхлебывали из чашек горячий кофе с большой дозой рома, чувствуя приятную усталость и удовлетворение. Один за другим они поднимались и уходили в чулан за баром. Там сгружали добычу. Капитан зашел туда последним.
— До утра, — шепнул он официантке и в завиток ее прически всунул скатанную пятимарочную кредитку.
Она согласно кивнула, зашла в угол чулана, подняла деревянную крышку люка и, зевая во весь рот, ногою сбросила все в погреб. Раздался страшный лязг железа, скатывавшегося по ступенькам деревянной лестницы, но никто из гостей не обратил на это никакого внимания.
— Будем закрывать, друзья! — сказала она через четверть часа, опершись локтями об их стол. При этом длинный нос Ярды чуть не очутился в вырезе ее платья.
На улице их пробрала дрожь. Шаги гулко раздавались в тишине, мороз щипал лица. Было очень неприятно оттого, что они снова очутились на улице. «Затравленные мы, — осенило Ярду. — Гонят нас, как бездомных псов, и даже несколько марок в кармане не помогают!» Домой в лагерь идти было нельзя: у ворот их наверняка заметят, а завтра может явиться полиция на розыски.
— Пойдем к «Гитлеру», — предложил Пепек и напялил шапку поглубже на уши. — Там открыто до четырех.
Вскоре они остановились перед аркадой средневекового дома, над центральным сводом которого висел поблекший транспарант, освещенный изнутри одной лампочкой. Конец надписи был нечетким: «У круглого стола». У противоположного тротуара стояла мусороуборочная машина. В распивочном зале горизонтальными слоями висел густой дым. В углу группа картежников хлестала картами по столу. Некоторые игроки были в кожаных фартуках мусорщиков. Напротив над рюмкой зеленого абсента сидела некрасивая женщина с невыразительными глазами и нечистой кожей. Ее партнер, на полголовы ниже, чем она, напряженно тянулся к ее уху и что-то настойчиво шептал. На распивочную стойку облокотились двое мужчин. Один был в короткой кожаной куртке и тирольской шляпе.
Трое вошедших сели возле печки. Хаусэггер за стойкой, могучий и мрачный, пошевелил черными усиками.
— Три чая с ромом, — забывшись, сказал по-чешски Ярда.
Мужчины у стойки обернулись и устремили на него удивленные взгляды.
— Tee mit Rum[90], — поправил его Пепек.
Капитан снял пальто и стер с него остатки желтой глины, налипшей в траншее. Чай распространял приятный запах, дрова в печке потрескивали, морозные узоры на широком окне усиливали ощущение тепла и уюта. У Ярды от усталости слипались глаза, и он начал клевать носом. Задремывая, он все же заметил, что один из мужчин, стоявших у стойки, придвинул стул и подсел к их столу.
— Ну вот видите, ребята, — в полусне услыхал Ярда немецкие слова, — земляки в конце концов всегда встретятся. То-то радости у вас было, что вы скинули нас со своей шеи, но вот и вы тоже здесь.
Говоривший был сильно навеселе, он с трудом ворочал заплетающимся языком, растягивая каждое слово, и морщил лоб, чтобы приподнять отяжелевшие веки. Пьяный обнял Пепека за шею.
— Придет время, мы снова будем смотреть на Снежку[91] и крутить шашни с девчонками «У шести бедер» в Траутэнау. Будьте спокойны, ребята, мы не хотим всей вашей республики, нам на нее начхать. Венцель Якш[92] не Гитлер. У него здесь кое-что имеется, — говоривший согнутым пальцем стукнул себя по лбу. — Мы возьмем Судеты, нам чужого не надо, мы ведь не какие-нибудь воры. — Судетец взмахнул правой рукой и нечаянно дал Пепеку подзатыльник. Пепек резко отбросил его руку.
— Не трогай его, — по-чешски скороговоркой пробормотал Капитан, потягивая из чашки.
— Извольте в Нюрнберге говорить по-немецки, — сказал мужчина, одетый в кожанку, и резко стукнул рюмкой по стойке.
— Буду говорить, как меня мать учила! — вспыхнул Пепек.
Мужчина в кожанке сощурил глаза и скрестил руки на груди.
— Восемнадцать лет я хожу в этот кабачок, и всегда тут говорили по-немецки. В свое время здесь зародилась лучшая эпоха немецкой истории. Жаль тех времен, понимаешь ты, bohmischer Schuft![93]
— Lass das[94], — Хаусэггер протянул руку, стараясь успокоить давнего клиента, а другой погладил свой здоровенный затылок. — За чай — три шестьдесят, — сказал Хаусэггер чехам и подтянул штаны.
Дремоту с Ярды как рукой сняло. Игроки в углу оставили карты.
— Мы не можем ввязаться в драку по многим причинам, — приглушенно сказал Капитан и тронул Пепека за плечо.
— Разговаривайте по-немецки или убирайтесь отсюда! — закричал мужчина в кожанке и порывисто сдвинул свою охотничью шляпу со лба на затылок.
— Тебе вожжа под хвост попала? — спросил один из игроков, седой, подстриженный под ежик человек. — Чего ты к ним привязался? Может быть, хочешь, чтобы они тебе «Хорст Вессель»[95] спели?
— Лучшая эпоха немецкой истории. Х-хе! — иронически усмехнулся его сосед, маленького роста человечек с лицом, усеянным рябинками от оспы. — Эта эпоха действительно началась в Нюрнберге, но здесь же, к счастью, она и кончилась. — Он закатил желтоватые глаза, жестом изобразил петлю на шее, подтянул воображаемую веревку, высунул язык и поник головой.
— Большевик! — Слюна так и брызнула изо рта мужчины в кожанке.
Рябой человечек вскочил, но сосед с ежиком удержал его.
— Господа, бросьте все это к чертовой матери! — Хаусэггер ерошил пальцем свои усики. — Платите три шестьдесят и сматывайтесь, ребята.
Трактирщик вышел из-за стойки и нетерпеливо протянул ладонь.
Они расплатились. Заступившийся за них мужчина, припадая на одну ногу, сделал в их сторону три неуверенных шажка и прислонился широкой спиной к стене. Некоторое время он испытующе глядел на трех беженцев. Лицо его было напряженным.
— Этого вы искали? — спросил он, покусывая сигарету. Взгляд у него был по-мужски прямой, но усталый, вблизи была заметна пыль, засевшая в глубоких складках вокруг строгого рта.
Он отдувался, желваки перекатывались под кожей лица.
— Вам хорошей взбучки не хватает.
Они не понимали, куда он метит.
Мусорщик затоптал окурок грубым ботинком. Черным ногтем соскреб с брюк засохшую грязь.
— Что вы можете возразить, если я скажу, что знаю многих немцев, причем они вовсе не судетцы, которые хоть сейчас переселились бы из Нюрнберга в Чехословакию, если б это было возможно.
— Это зависит от политических убеждений. Нам милее свобода, — подумав, сказал Капитан хриплым голосом.
Мусорщик резко оттолкнулся от стены, прошел к своему столу, накинул на шею шарф и начал надевать запыленное, заплатанное пальто и поверх него кожаный фартук.
— Говорил я, чтобы мы не ходили в этот бордель, — бросил он своим друзьям. Мусорщик провел пятерней по своему ежику и снова метнул возбужденный взгляд на чехов. — Такой уж я старый болван, — ворчал он себе под нос. — Всегда во все впутываюсь, а потом мне это боком выходит! — Он нахлобучил круглую кожаную шапку без козырька и уже больше не обращал внимания на чехов, выходивших из заведения.
В дверях Капитан и его товарищи нос к носу столкнулись с поздним посетителем — запыхавшимся человечком в шубе, с круглой головой и седой шевелюрой. Его покрасневшие на морозе щеки были пронизаны сетью фиолетовых жилок.
— Герр Кроне! — просиял Капитан. — Поистине, на ловца и зверь бежит! На минутку! — Капитан за рукав оттащил его к столику у самой двери. — Десять вентилей двухдюймовых, несколько фитингов, трехфазовый кабель высшего сорта! И еще этак метров двести провода. Сколько? — скороговоркой, но приглушенно высказал Капитан.
Кроне вытащил из жилетки свою серебряную луковицу-часы, но не посмотрел, сколько времени.
— Мой бог, что значит — сколько? Дайте хотя бы взглянуть.
— Кабель новый. Сами убедитесь в этом. В одиннадцать «У Максима», идет?
Мужчина в расстегнутой кожанке потянул трактирщика за рукав.
— Слышишь, как шпарят по-немецки? — И он прищурил глаза с победной улыбкой. — Да только с еврейчиком. — Он снова нахмурился. — Надо было истребить и тех и других. Эх, назначили бы меня на месячишко министром! Donnerwetter!..[96] — Он влил себе в глотку остаток спиртного из рюмки.
Три приятеля вышли.
— Прощелыга! — процедил сквозь зубы Капитан. В морозном воздухе был отчетливо виден парок, слетавший с его губ. — За все чохом Кроне предлагает двести сорок марок, и то еще при условии, если провод будет медным! — Он на ходу поднял воротник, засунул руки в карманы.
У него перед глазами возник ежик седых волос, обветренное, пропыленное лицо. Самый обыкновенный мусорщик и тот сказал ему: «Вы заслужили…»
Капитан, ссутулившись, шагает навстречу резкому ветру. Чего ради впутался этот человек? Покрытый пылью рабочий, ну да, ведь на улице у дверей стояла мусороуборочная машина. Он видел в них только беженцев и не мог знать, что они к тому же и воры.
Впервые за долгое время какая-то непонятная тоска сдавила его грудь. Он взглянул на своих спутников. Ярда — новичок в лагере, но даже по лицу можно представить себе его дальнейший путь в Валке. За ним топает Пепек. Убийца.
Капитан вдруг зябко передернул плечами. Он глубже втянул голову в воротник пальто, ладони в карманах сжал в кулаки — не помогло. Сильно зажмурился — опять напрасно; перед его глазами возникло милое личико девочки с большими доверчивыми глазами, и столько в них светилось безграничного восторга! Отец — это все: самый большой, самый лучший человек на свете. Образец, недостижимый пример, бог… Бесси, твой отец сегодня…
Конец мая тысяча девятьсот сорок пятого. Летна[97], нескончаемый поток автомашин, танков, мотоциклов. На одном из грузовиков — он сам, капитан, с остатками своего поредевшего подразделения. Цветы, флажки, приветствия, поднятые руки, восторженные лица — Прага встречает Чехословацкую западную армию.
Рузыньский[98] аэродром два месяца спустя, молодая жена с ребенком на руках. Ее немного неуверенные, боязливые глаза, в которых видно душевное облегчение оттого, что Прага по сравнению с Лондоном не оказалась каким-то непостижимым «Востоком».
Начало новой жизни, молодая семья, впереди — будущее, большое, ясное, мир во всем мире и самые прекрасные надежды.
Ледяной ветер, захватывая дух, заставляет прищуривать глаза, так что моментами Капитан идет, не видя пути, по памяти. Но страшнее внутренний холод. Нет, нет, надо преодолеть эту внезапную, непонятную слабость. Он думал, что уже давно завершился в нем процесс морального разложения бывалого воина, героя и превращения его в законченного циника. Должно быть, заговорили какие-то остатки совести. Ведь и в сгнившем, трухлявом дереве иногда остается кусок здоровой древесины, но все равно из него уже нельзя построить ничего надежного, основательного.
Над небольшой долиной забрезжила узкая желтоватая полоска зари, над ней висело затянутое тучами небо.
Валка.
Они разошлись. Ярда возвращался первым. Усталость от бессонной ночи и пережитые волнения валили его с ног, резиновый плащик не грел, уши замерзли, и он всей душой стремился к своим нарам. «Восемьдесят марок, — устало думал он, — за целую ночь тряски. Не так уж много, но и не мало. Те — рядовые лагерники — за восемьдесят марок должны торчать в Валке семь месяцев! Подожди: пять марок официантке за то, что спрятала краденое, плюс расходы «У Максима» и у «Гитлера», да еще неизвестно, насколько завтра сбавит цену еврей, ведь провод-то определенно алюминиевый. Но во всем придется положиться на Капитана, он лучше всех говорит по-немецки».
Ярда незамеченным прошел через проходную: дежурный пропускал автомашину с хлебом. Теперь он брел по лагерной улице. Перед стоявшим на отшибе бараком на невысоком флагштоке трепыхался словацкий флаг. Внимание Ярды привлекла свежая надпись на фасаде, сделанная большими неровными буквами по-словацки: «Чехам и собакам вход запрещен!»
16
Все в комнате уже давно улеглись спать, только у окна беспокойно скрипели нары Баронессы и временами оттуда доносился слабый дребезжащий звук.
— Капитан, — проскрипел во тьме ее несмелый шепот.
Никакого ответа.
Она затаила дыхание, загадочный звук над ее головой повторился снова, умолк и повторился опять. Баронесса на ощупь нашла шлепанцы, халат, прошлепала к нарам Капитана и начала теребить его.
— Капитан! — шептала она плаксиво. — Я не могу спать, что-то позванивает над моей головой, как нечистая сила.
— О господи, черт вас дери! Мне снился сон о девушках. — Он так сердито повернулся, что нары едва не развалились.
Как раз в этот момент вернулась Ирена. Она пришла сегодня раньше обычного и, как всегда, не зажигая света, стала пробираться к своим нарам, но в середине комнаты за что-то запнулась и выругалась. Потом включила свет. Поперек комнаты, невысоко над полом, был натянут шнур, привязанный к вязальной спице, воткнутой в оконную раму за изголовьем Баронессы. Другой конец шнура тянулся к нарам Бронека.
Поднялся переполох, Баронесса громко возмущалась. Штефанские проснулись и, узнав, в чем дело, устроили ночную экзекуцию. Бронек неистово визжал под карающей рукой отца. Сама Баронесса в конце концов заступилась за мальчика.
Утром мамаша Штефанская долго теребила кучу тряпья на верхних нарах.
— Бронек, в школу! Вставай, кофе остынет.
Но вихор рыжеватых волос был неподвижен. Штефанская решительно поднялась на ступеньку лесенки и резким движением сорвала одеяло с сына. Мальчик лежал, скорчившись на боку, веснушчатое лицо было заплаканным, одной рукой он крепко держал свой паровозик, другую руку прижал к паху.
— А ну, выползай из логова, хулиганить умеешь…
Бронек хныкал, что у него болит живот.
В голосе мамаши Штефанской была жалоба, адресованная всем присутствующим.
— Помрет он когда-нибудь от обжорства. Набивает себе живот свежим хлебом, хотя знает, что от него пучит.
Капитан добавил в кофе свой сахар.
— Бессмыслица, — сказал он. — От вчерашнего хлеба живот не может болеть утром. Надо, наконец, его обследовать. Кто знает, что с парнем. — Капитан встал, поднялся на нары, положил ладонь мальчику на лоб. — Да он горячее нашей печки. Гонзик, беги в здравпункт за доктором.
Гонзик помчался, не сказав ни слова и не допив кофе. Вскоре он вернулся.
— Доктор в Нюрнберге, наверное, придет сестра.
Часа через два соизволила явиться сестра, толстая, хмурая. Под мясистым носом у нее чернел густой пушок.
— Так что тут у вас стряслось, рыцари? Кто из вас поднял панику, словно мальчишка вот-вот отдаст богу душу? А у меня там народу полная приемная. Ах да, вот он и был у меня, этот очкастый! — И она победно протянула руку в сторону Гонзика. — Так чем ты объелся? — Она сунула Бронеку под мышку термометр и оттянула веко. — Покажи язык! Да у него высокая температура, господа. Живот болит? Где болит?
Бронек стыдливо зарделся, когда эта чужая тетя без всяких церемоний задрала ему рубашку: он отвернулся и крепко сжал губы.
Капитан брезгливо глядел на толстые, как столбы, ноги сестры, стоявшие на боковине нижних нар; от ее подметок отпал кусок грязи величиною с ладонь.
— Скорее всего это аппендицит, — нетерпеливо заметил Капитан.
— Вы доктор? — резко повернулась она.
Капитан молча начал править бритву.
— Занимайтесь своим делом и не впутывайтесь в чужие! Тут болит?
Мальчик вскрикнул.
Она опустилась на пол, стряхнула термометр и задумчиво поправила белую шапочку на голове.
— Это, может, и аппендицит, но санитарную машину вызвать я не имею права, это может сделать только сам врач. Он вернется, вероятно, к обеду.
Родители Бронека, услыхав разговор о санитарной машине, начали метаться по комнате. Поляк схватил ремень для правки бритвы, который держал Капитан.
— Его в самом деле надо положить в больницу? О святая троица, а что будет, если именно теперь придет разрешение на выезд, а что, если… — Он мотался возле нар, бесцельно перекладывая вещи, переругиваясь с раздраженной женой.
— Вам теперь нужно думать не о выезде, а о том, как отправить ребенка в больницу!
Но поляк растерянно топтался на месте и дергал себя за волоски в носу. Капитан, наконец, махнул на него рукой, положил бритву на нары и вышел из барака. Вскоре он прибежал запыхавшись.
— Быстрее одевайте Бронека, попутный грузовик подвезет вас до города!
В углу у дверей возникла паника. Мамаша Штефанская прежде всего занялась собой. Она намотала на голову шерстяную шаль, закрыв ею рот, а концы туго завязала под подбородком. Только после этого она начала одевать Бронека. И Мария, ослабевшая и пожелтевшая от долгого лежания, спустилась с нар и стала натягивать чулки.
— У меня прорвался чулок. Не могу я ехать с дыркой на пятке, — хныкала она, покашливая и возясь с иголкой и ниткой.
— Пошевеливайся, гусыня! — крикнула Штефанская на дочь и трясущимися руками завязывала в узелок пару белья для Бронека, а заодно и жестяную банку из-под консервов.
— Это уж ни к чему, оставьте банку, в больнице ему дадут тарелку, — посоветовал Гонзик.
От главного склада к бараку подъехал грузовик.
— Паровоз мой! — канючил Бронек, глаза его блестели от высокой температуры. Паровозик тоже завернули в узелок.
Грузовик у крыльца, не переставая, гудел.
Папаша Штефанский напялил шляпу с полинявшей, засаленной лентой, вокруг шеи намотал тоненький красный шарфик и еще в комнате поднял воротник черного пиджака.
— Нате, наденьте, вы скоро вернетесь, а я подожду! — Капитан подал Штефанскому свое пальто.
Длинному поляку оно достигало только до колен, а рукава доходили до локтей, но все же в нем было теплее, чем в одном пиджачке. Штефанский в суматохе забыл даже поблагодарить. Он схватил закутанного в одеяло Бронека в охапку, но мальчик что-то настойчиво просил, указывая рукой на свою постель. Штефанский заворчал, но все же понес ребенка обратно к нарам. Бронек пошарил в дыре сенника и вытащил оттуда блестящий стальной шарик.
Наконец все выбрались наружу. От административного барака приближался папаша Кодл. Семья, не обращая на него внимания, возбужденно устраивалась в кабине грузовика; вдруг мамаша Штефанская вытаращила глаза на свои ноги: она стояла на мерзлой земле в одних чулках. Она была не в состоянии произнести хотя бы слово, и только подбородок ее мелко дрожал. Ее охватило такое чувство, будто все несчастья этого мира обрушились на нее.
— А почему вы едете всем скопом? — бодро спросил папаша Кодл, одетый в большую овчинную шубу. Он сдержал себя, чтобы не покатиться со смеху. — Мамаша, вы забыли обуться! — попытался он заговорить по-польски.
Штефанская заморгала веками воспаленных глаз и, переступая с ноги на ногу, так как стоять на мерзлой земле было холодно, указала озябшими руками на мужа.
— Он продал ее ботинки, — вполголоса сказал Гонзик, стоявший около барака.
Папаша Кодл был ошарашен. Его рука два раза подряд потянулась к серьге в ухе и оба раза как-то неловко возвращалась с полпути. Кодл нерешительно топтался на месте, как медведь. Он приподнял свою бесформенную широкую шляпу, потом снова нахлобучил ее.
— Подождите здесь! — крикнул он и необычно быстрым шагом пошел к складу. — Не стойте на земле, зайдите в барак, черт возьми! — обернувшись, крикнул он Штефанской.
Шофер ворчал и ругался, но в шуме и гаме его никто не слышал. Появился запыхавшийся папаша Кодл, в руках он нес пару новеньких грубых башмаков. Штефанская бросилась к ним, как ласка. Усевшись на ступеньки, она обулась и со счастливой улыбкой следом за Марией забралась в кабину, усадив Бронека к себе на колени. Мужа, которому в кабине уже не было места, выгнала в кузов. Грузовик наконец поехал; сначала он трясся на ухабах проселка, затем свернул на главную улицу лагеря, ведущую к воротам. Половина населения одиннадцатой комнаты стояла перед бараком, молча провожая глазами грузовик, пока он не скрылся из виду. Папаша Кодл робко покосился на кучку невеселых людей, засунул руки в карманы шубы, внезапно и непонятно чего застыдился и ушел.
Плохие рессоры грузовика не смягчали тряски, от этого боль в животе у Бронека усилилась. Мальчик расплакался, прижимая одной рукой пах, а другой судорожно вцепился под одеялом в свои игрушки. Затем, вспомнив, он нащупал брючный карман и проверил, там ли ножик с жестяной ручкой в виде чешуйчатой рыбки. Ножик лежал в кармане. Боли в животе опять ослабли.
— Куда везти? — прокричал шофер Штефанской и стремительно закрыл окно.
Она что-то затараторила по-польски, но немец не понял ни единого слова.
— Санаториум, — пришло наконец Марии в голову международное слово. Девушка с облегчением вздохнула, когда шофер кивнул головой.
Путь казался ей бесконечным. На мостовой разбитого старого города машину швыряло во все стороны, потом они долго ехали по гладкому асфальту широкой улицы, в конце которой были каменная башня и старинные ворота. Наконец заскрежетали тормоза, и машина остановилась. Штефанская с детьми вышла из кабины. Продрогший Штефанский неуклюже выкарабкался из кузова. Он усердно тер свои посиневшие уши и притопывал рваными суконными ботинками. Шофер двумя пальцами отдал честь и уехал.
Польская семья вошла в вестибюль белого дома, стоявшего за садовой оградой, здесь было тихо и тепло, красные ковровые дорожки тянулись куда-то вверх по лестнице, слабый запах карболки щекотал ноздри. Из-за большой стеклянной двери вышла монахиня в очень широком накрахмаленном белом чепце сестры милосердия. Она удивленно посмотрела на пальто поляка, на его небритую физиономию, обратила внимание на новые грубые ботинки мамаши Штефанской.
— Вас напрасно сюда прислали, — как можно ласковее сказала она. — Здесь Privatsanatorium[99], тут за лечение платят деньги.
Штефанский понял. Он вытянул из кармана бумажник и начал на ладони раскладывать свои ничтожные сбережения.
— Нет, нет, — завертела головой монахиня, — поезжайте в городскую больницу, за ваше лечение там заплатит отдел социального обеспечения. Allgemeines Krankenhaus; запомните хорошенько.
Они отправились в путь. Штефанский быстро вспотел. Бронек был тяжелый. Мать шла как во сне, каждую минуту поглядывая на свои прекрасные новые ботинки. Сердце ее наполнялось тихой благодарностью.
— Swieta Panno nad Pannami, matko laski Boiej[100] — тихо бормотала она, — ты удостоила свою покорную рабу великим счастьем, которое я не знаю чем и заслужила… Сотвори еще благодеяние, пусть Бронек выздоровеет раньше, чем придут бумаги на выезд в Канаду. Rozo duchowna, matko najczystsza[101].
Они доплелись до третьего угла. Штефанский, тяжело отдуваясь, посадил мальчика на выступавший край фундамента, чтобы перевести дух.
— Jak mowila ta abatysza?[102] — Штефанский тыльной частью ладони вытер лоб. — Больница, но какая?
Его спутницы не могли вспомнить. Марию на морозном воздухе терзал кашель, лицо ее стало серовато-желтым. Девушка терялась в городском шуме. Трамваи, бесшумно проплывающие автомобили, незнакомые униформы — все это было новое, ранее неведомое, волнующее.
— Больница, а не санаторий! — Штефанский схватил случайного прохожего за рукав. Тот посылал его обратно, в сторону санатория. Поляк вертел головой, чертыхался на непонятном силезском наречии, доказывая, что он уже там был, размахивал руками. Наконец тот понял и показал дорогу в больницу.
Но в больнице был неприемный день. Штефанские отказались уходить. Мать с Бронеком на руках решительно уселась на лестнице. Сам поляк тем временем ругался с дежурным вахтером. Тот, в свою очередь, не оставался в долгу.
— Вам нужно идти к францисканцам. Там сегодня принимают, поймите, наконец, не готтентот же вы. Это за храмом святого Себальда, и не задерживайте меня, идите себе, милейший!
Бронек тихо стонал, щеки его пылали от жара, мальчик стучал зубами и облизывал пересохшие губы. Штефанскому и в голову не пришло поймать за рукав кого-нибудь в белом халате и заставить его хотя бы посмотреть, в каком положении мальчик.
Вместо этого они снова побрели по городу. Штефанская вдруг почувствовала, что новые ботинки сжимают ей ноги. Такие прекрасные ботинки из прочной кожи! Но именно эта их особенность никак не соответствовала ее изуродованным щиколоткам. Штефанский от усталости не мог идти дальше. Вся семья уселась отдохнуть на кромку тротуара. Мамаша Штефанская наполовину вынула ноги из ботинок. Ох, какое это было облегчение!
— Если бы вот теперь здесь шел Казимир, — сказала Мария мечтательно и закашлялась.
— Ты глупая гусыня! — сказала мамаша, почувствовав ненависть к своим собственным ногам.
Светло-голубые глаза Марии начали всматриваться в лица молодых мужчин, проходивших по тротуару. Но они, едва на нее взглянув, равнодушно отворачивались. В этой больной девице не было ничего, что хоть в какой-либо степени могло вызвать к ней интерес.
Родители сидели на тротуаре, как цыгане. Мария стыдилась их. Она с тихим восхищением стала рассматривать выставленные в витрине нейлоновые сумочки. Потом, глядя в стекло большой витрины, как в зеркало, поправила голубой берет на голове, кокетливо взбила белокурые локоны, повертела головой туда-сюда, осталась не особенно довольна собой и, наконец, повернулась спиной к своему собственному отражению в стекле. Мамаша вытащила из кармана кусок сухого хлеба и попыталась покормить Бронека. Он отказывался, отмахивался и чуть не выбил хлеб из ее рук. Тогда мать стала сама жевать, глядя отсутствующими глазами на уличное движение, но потом опомнилась и остаток хлеба отдала Марии.
И опять уныло потащились они по городу, останавливая прохожих и расспрашивая. Теперь они шли по правильной дороге, но их остановки для отдыха становились все чаще и чаще. У Штефанского от усталости начало колоть в боку, моментами он терял надежду, что они вообще дойдут когда-нибудь до этих самых францисканцев. Отец передал ребенка жене.
Мальчик слабым, чужим голосом попросил воды. Мамаша осмотрелась вокруг и шагах в ста увидела фонтан. Около дома, где они в этот момент находились, стояли заполненные мусором железные урны. В одной из них блестела банка из-под консервов. Штефанская передала свою ношу на руки Марии, а сама, взяв консервную банку, поплелась к фонтану. Она мыла банку долго, ругая себя за то, что послушала Гонзика: ведь банка Бронека была чистенькая, а на стенках этой налипли противные остатки сала, которые никак не удавалось смыть ледяной водой.
На углу появилась мусороуборочная машина. С нее соскочили запорошенные пылью рабочие. Они подошли к стоявшим у дома железным урнам и гулко покатили их к автомашине. Подъемный механизм, скрипя, подхватывал одну урну за другой и опрокидывал их содержимое в утробу специальной цистерны. Затем машина медленно двинулась к соседнему дому, и операция повторилась.
Мария держала брата на руках, но ей было тяжело, и она в конце концов положила Бронека на тротуар. Отец отошел и опять начал выяснять у прохожего, как им лучше идти. Закутанный в одеяло Бронек свернулся в клубочек, присмирел и тихо стонал.
Наконец мусороуборочная машина подошла к дому, у которого лежал на тротуаре Бронек.
— Отойдите в сторону с вашим свертком! — сказал пожилой рабочий с седыми волосами, подстриженными ежиком, и выжидательно свесил руки в суконных рукавицах. Штефанский поднял сына с земли. Рабочий увидел в одеяле рыжеватую голову ребенка. Озадаченный мусорщик снял рукавицу и поскреб свой ежик на голове.
— Что с ним?
— Госпиталь! — выкрикнул Штефанский. — К францисканцам, мальчик krank[103]. — Поляк помогал себе жестами свободной руки, его выступающий кадык резко двигался вверх и вниз.
В это время приблизилась мамаша, и пораженный мусорщик посмотрел на жестяную банку с водой, которую женщина держала в смуглых руках.
— Aus Valka, was?[104] Да, да, так оно и есть! — На его конопатом лице отразилась глубокая взволнованность. — Подожди здесь, Зепп, присмотри пока за ними, — обратился он к одному из помощников, а сам в своих тяжелых ботинках, прихрамывая, поспешил к ближайшему автомату. Он быстро вернулся. — Немедленно будут здесь, потерпите. — И он положил свою тяжелую руку на плечо Бронека. В этом его дружеском, слегка неуклюжем жесте видно было сочувствие и жалость к мальчику. — А разве в лагере нет врача, черт бы их побрал? — вскинулся он на Штефанского. Но безнадежно махнул рукой, услышав в ответ поток совершенно непонятных слов. Немец достал сигарету, но забыл зажечь ее и рассеянно положил за ухо.
Желтая санитарная машина резко затормозила у тротуара.
— К францисканцам! — вскрикнул Штефанский с огромным облегчением.
— Это бессмыслица! В детскую больницу!
Санитары уложили мальчика на носилки, около открытых дверей машины образовалась молчаливая толпа зевак. Вся семья Штефанских попыталась было влезть в санитарный автомобиль.
— Только один, — преградил им дорогу санитар. С помощью мусорщика он попридержал мамашу и дочь, и машина тронулась.
Штефанская осталась стоять на тротуаре. В ее глазах отражались испуг и растерянность. Санитарная машина быстро удалялась, ее двухголосый клаксон смешался с уличными шумами. Мамашу охватило гнетущее чувство одиночества, заброшенности, вероятно такое же, какое испытывает наказанный матрос, высаженный на пустынном острове, в тот момент, когда привезший его корабль скрывается за горизонтом. Она напрасно искала глазами какой-нибудь помощи от толпы зевак, но те равнодушно расходились, спеша по своим делам. Женщина догнала мусорщика.
— Где я их теперь найду? Святая богородица! Зачем вы впутались в это дело? — Кровь бросилась ей в лицо, ее маленькие смуглые кулаки ни с того ни с сего начали колотить по кожаному фартуку на его груди.
Мусорщик не обратил на это никакого внимания и с трудом сдерживал улыбку.
— Возвращайтесь в лагерь. Ваш муж как-нибудь управится с мальчиком. Садитесь на автобус и езжайте в лагерь! — Но вдруг мусорщик задумался. — А деньги у вас есть? Geld, деньги, понимаете? — И он потер палец о палец.
Женщина отрицательно покачала головой.
Мусорщик вытащил горсть монет, бумажную марку, сунул все это в руку Штефанской и нахмурился.
— И чего вы удирали, черт возьми, за каким счастьем здесь гоняетесь? — ворчал он, снова надевая рукавицы. — Посмотрите на себя, взгляните на дочь, разве в Польше вы бы так выглядели? Когда убегает фабрикант — это понятно, ну, а вы? Недавно я видел фотографию новой Варшавы, новых металлургических заводов у Кракова или где-то в другом месте… И как все это можно связать с вами?
Он знал, что от этой женщины ответа не дождется, и плюнул с досады. Его товарищи уже забирали мусор у следующего дома, и мусорщик пошел туда, припадая на ногу, стуча подковками. Отойдя на некоторое расстояние, он оглянулся на бедных женщин — мать и дочь, стоявших на тротуаре, и в его темных беспокойных глазах было больше сострадания, чем гнева.
Штефанская пересчитала наличность в ладони. Деньги придали ей уверенности. В ней проснулся дух хозяйки. Она подхватила под руку дочь, поволокла ее в ближайший магазин, купила буханочку хлеба и две селедки, прикинув, что оставшихся денег хватит на проезд в автобусе. Потом потащила Марию на улицу, крепко прижимая к груди хлеб. Лицо у нее исказилось: ботинки жали нестерпимо. Она присела на выступ фундамента и наполовину высвободила ступни из башмаков. Ей стало легче; она отломила горбушку хлеба. Мария сначала поморщилась, но в конце концов тоже начала есть селедку. Она, покашливая, стояла, прислонившись спиной к стене, ела свежий, еще теплый хлеб с селедкой и наблюдала уличное движение. В ее душе теплилась неясная надежда, что когда-нибудь нежданный случай снова сведет ее с Казимиром.
Штефанский вернулся в лагерь вечером, молчаливый, пришибленный, измученный.
— Слепая кишка, говорят. Почему мы, дескать, не обратились к ним раньше. Сказали… у него что-то там прорвалось, сам черт в этом разберется! Человек никак не может выкарабкаться из забот и несчастий, не жизнь, а тяжкий крест… Нет, ходить туда нельзя. Они нас известят. К детям будто не пускают посетителей, а то дети потом плачут. Папаша Кодл обещал завтра утром позвонить в больницу по телефону. Не дай бог, чтобы разрешение на выезд пришло именно теперь. Вот было бы несчастье!
Через три дня под вечер в одиннадцатую комнату вошел папаша Кодл. Он забыл поздороваться и протопал на середину комнаты; не расстегивая тулупа, присел к столу, взял в руки деревянную солонку, повертел ее и снова поставил. Он упорно смотрел куда-то в сторону и водил мягкой ладонью вдоль края стола, потом, ни слова не говоря, вытащил паровозик с красными колесиками, осторожно поставил его на стол и, наконец решившись, направился в угол.
— Был я сегодня утром в больнице, по дороге купил Бронеку апельсин, встал пораньше, чтобы… чтобы… Кого бог возлюбит, того и осенит крестом, — на его низком лбу выступил пот, он взял Штефанского за руку повыше локтя. — Наша судьба, друг мой, в руках всевышнего. Ваш мальчик, ваш милый Бронек сегодня утром умер. Примите соболезнование от меня лично и от имени руководства лагеря. Если это может послужить вам утешением, то поверьте, что моя боль нисколько не меньше вашей, ведь все, все в Валке будто мои родные дети, и я…
— Когда мы можем его навестить? — прервал Штефанский непонятную для него речь.
На вспотевшем лице Кодла отразился ужас.
— Ваш мальчик умер… — сказал он хрипло.
— Ведь он вчера еще был жив! — Штефанский сбросил руку Кодла и встал. Его тонкие ноздри часто вздувались в такт учащенному дыханию.
— Как мог он умереть, если был в больнице? — глухо сказала мамаша Штефанская. Ее ноги как-то неуклюже подкосились, она прилегла на нары, прижала ладони к вискам и в такой позе глядела широко раскрытыми глазами на заместителя коменданта лагеря. — Когда мы несли его в больницу, он ел хлеб и пил воду. Капитан говорил, что, когда мы будем в Канаде, Бронек будет гонять по озеру лодку, — речь ее все время убыстрялась. — В понедельник он играл шариком на столе, и пан Вацлав прогнал его оттуда, правда, пан Вацлав? Серебряным шариком! — повысила она голос до крика.
— Тот мусорщик, отродье дьявола! — Она вдруг вскочила и схватила папашу Кодла за лацканы шубы. — Что они там с ним сделали, отчего он умер? — истерически кричала она.
Папаша Кодл отвернулся. Он тихонько снял ее руки со своей шубы. Штефанская, вытянув перед собой руки, как лунатик, начала на ощупь пробираться к нарам, наткнулась на край нар коленями, упала лицом вниз и в такой неестественной позе начала голосить гнусавым дискантом, который моментами скорее походил на истерический смех.
Папаша Кодл случайно наткнулся взглядом на пару новых женских башмаков, стоявших под нарами.
— Против воли божьей мы бессильны, — сказал он в пространство, не обращаясь ни к кому конкретно.
Мария все время неподвижно стояла, прижавшись спиной к нарам, бледная как мел, вперив сумрачный взгляд в розовое лицо Кодла. Ее синие губы были плотно сжаты. Потом вдруг она отодвинулась от нар, какой-то необыкновенно ровной походкой направилась к столу, села на скамейку, притянула к себе паровозик, положила голову на руки и горько, неудержимо расплакалась.
— А вы… еще ему напоследок… так всы-па-ли!.. — сквозь рыдания сказала она отцу.
— Расходы на погребение оплатит отдел социального обеспечения, — папаша Кодл прервал душераздирающие вопли. — У вас не будет никаких хлопот, вы не потратите ни одной марки. — И он заторопился уходить. Женские ботинки так же, как и раньше, стояли под нарами, крепкие, новые. Папаша Кодл переступил с ноги на ногу и платочком вытер лоб.
Мария, сидя у стола, руками зажимала рот, чтобы заглушить рыдания. В руке она все время держала паровозик с красными колесами.
Папаша Кодл напоследок опять посмотрел на ботинки, еще раз глубоко и смиренно вздохнул и вышел.
17
Страстно ожидаемая весна наконец дала о себе знать набухшими почками кленов, росших вдоль дороги, и морем грязи между бараками. Влажный свежий ветер подернул зыбью широкие лужи и принес в лагерь сладковатый запах последнего снега с северной стороны Хохвальда. В садиках Мерцфельда внезапно, за одну ночь, засветились желтые цветы форзиции.
Какими скромными стали мечты Вацлава за пять бесконечных зимних месяцев! Теперь ему хотелось только лечь под весенним солнцем в тихом уголке за бараком, раскинуть руки и спать, спать, спать — проспать теперешнюю ненавистную жизнь и проснуться, когда… Когда что? Ну, ясно — в тот день, когда они торжественно и радостно усядутся в увенчанные гирляндами автобусы и поедут на восток, обратно на родину, герои, борцы, освободители. Горькая усмешка сама собой скривила его губы. Как все это бессмысленно, этот сумасбродный, казенный политический восторг папаши Кодла и напыщенные, высокопарные обещания мюнхенской радиостанции!
Начинается весна. В Мерцфельде уже цветут форзиции, затем придет лето, а у тебя нет даже плавок, чтобы выкупаться в Пегнице или Дутцентайхе… А что дальше? Осень, вторая осень в Валке? Снова пять или шесть месяцев зимы среди вони темной берлоги, у проржавевших печурок? Как можно жить, не имея крохи реальной надежды, ничего, за что можно было бы ухватиться и вылезти из этого омута повседневного скепсиса?
Только одно существо могло бы оказать ему огромную помощь, озарить жизнь, если бы он сумел взорвать зачарованный круг ее непонятной верности, фанатической веры во что-то такое, что, может быть, давно уже не существует. Были минуты между ними, когда казалось, что ему удалось зажечь в ней искру любви. И вдруг этот несчастный вечер, убитая горем Катка над своим взломанным чемоданом: пока она была в городе, кто-то украл все ее сбережения.
Столько месяцев гнула она спину в темной мастерской над швейной машиной или с иглой в руках, видя воспаленными от работы глазами дорогу к мужу, и все пошло прахом! Этот второй, после увольнения, удар, во сто крат усугубляющийся условиями Валки, по-видимому, сломил ее на долгое время.
Она не оценила ни его сочувствия в постигшем ее несчастье, ни тихого постоянства в течение долгих пяти месяцев. Ведь большинство мужчин в Валке не стало бы ждать благосклонности женщины даже в течение недели, есть и такие, которые не станут ждать и часа! Правда, он изредка ходит с Каткой на прогулку, иногда посидит с ней в читальне или в кабачке. Но от этого только усугубляется его одиночество.
Вацлав входит в дверь, над которой висит выразительная табличка: «Чешский комитет». И золотистые волосы пани Ирмы сегодня особенно блестят в сияющих лучах солнца. «Будем вдвоем с моим добиваться для вас визы на выезд, как для родного сына!»
Сегодня этот голос звучит более официально, из него улетучилась прежняя восторженность и сладость.
— Всего шесть месяцев? Вы должны быть более терпеливым, есть люди, которые ждут по два года! — Она приподняла крышку кофейника, в нем кипела вода.
Тут же у прилавка стояли два молодых человека и восторженными глазами новичков рассматривали открытки с фотографиями голливудских красоток на пляже под пальмами.
Пани Ирма нашла в книге учета имя Вацлава, удивилась, как-то испуганно посмотрела на обтрепанные рукава Вацлава, на ее низком круглом лбу пролегла узенькая складка нерешительности, но, подумав, она энергично захлопнула книгу.
— Правда, есть и такие, чьи просьбы о выезде были удовлетворены в течение восьми месяцев. Имеет значение и то, насколько кому необходим выезд.
Ирма достала жестяную коробку и всыпала из нее солидную дозу кофе в кипящую воду. Комната наполнилась чудесным ароматом. Вацлав вдохнул его. Как давно он не пил густого натурального кофе! Юноша обеими руками сжал край канцелярского барьера, будучи не в силах оторвать взгляд от кофейника. Мысленно он отгадывал, сколько там кофе — пол-литра или больше.
— Замолвите за меня словечко, пани Ирма, прошу вас, — шепотом умолял Вацлав и сам поражался смиренности своего голоса. — У меня нет денег на подкуп людей в консульстве, но я должен закончить свое медицинское образование или… — Он побледнел и рассеянно посмотрел на молодых людей, потом отвернулся и закрыл глаза; если он сейчас не уйдет, то не удержится и начнет клянчить глоток натурального кофе!
— Ну-с, так что, братья? Аризонские каньоны или гейзеры Новой Зеландии? — услыхал Вацлав выходя. В голосе пани Ирмы снова была сердечность и теплота.
Он шел куда глаза глядят, вон из лагеря, вдоль насыпи, по которой пронесся скорый поезд с темно-красным вагоном-рестораном в середине. Лица в широких окнах промелькнули быстрее, чем Вацлав смог запечатлеть их выражение.
Вот ведь есть же свободные люди с паспортами и деньгами в карманах, которых даже не волнует то, что они едут через добрую половину Европы. Вот и он погнался за свободой. Но как это, собственно, случилось, что его свобода уподобилась свободе собаки, сидящей на цепи? Когда-то мальчиком он ездил с родителями на каникулы и видел в окно деревенских мальчишек, босоногих, пасших гусей и с глубоким почтением смотревших вслед поезду. Ему бывало их жаль: он через несколько часов будет за сотни километров отсюда — в Альпах или даже на берегу моря, а их жизненное пространство оканчивается соседней деревней. Что же такое свершилось в жизни, что он сам теперь стоит здесь под насыпью и с тихой завистью смотрит на счастливчиков за окнами вагонов?
Он шел наобум, озираясь по сторонам, минутами следил взглядом за самолетами, садившимися на недалеком аэродроме, без интереса смотрел на дымящие трубы фабрики «Фюрт», а затем на характерный силуэт королевского замка на холме в самом центре старого Нюрнберга.
Вацлав подумал, что, собственно говоря, он и сам не знает, куда бредет. Он упорно старался припомнить, бывали ли у него подобные прогулки дома, на родине. Нет, там он всегда куда-нибудь шел: на лекции, на урок английского языка, в гости к кому-нибудь, на свиданье с девушкой. Как экономил он время, каждую минуту, особенно в первый год студенчества; он жалел даже о пятнадцати непроизводительных минутах, которые тратил на проезд в трамвае с факультета до своей холостяцкой комнаты. Таким педантом он тогда был!
А теперь? Его даже мороз прохватил при этой мысли. Да, надо честно признать, единственный смысл, который имеет эта прогулка, — убить время до обеда. Господи, неужели он уже вступил на скользкую стезю — вслед за теми, которые здесь слонялись без дела, без какой бы то ни было работы, не задумываясь даже над тем, что незаметно теряют интерес ко всякой активной деятельности? Неужели и у него начался этот постепенный распад души, это неудержимое падение вниз, на самое дно?
Юноша вспомнил слова профессора, сказанные им однажды вечером, когда Вацлав и Гонзик повстречались с ним на дороге, ведущей к городу: «Люди располагают только двумя возможностями в этой несчастной эмиграции: либо морально вырасти и закалиться, либо потерять имя, индивидуальность, нравственность».
И вдруг Вацлав подумал: «Вот ты до сих пор ревностно оберегаешь свое человеческое достоинство, а, собственно, на что оно тебе?..»
Корпус медицинского факультета там, дома, амфитеатр анатомической аудитории, волнующая, немного гнетущая обстановка анатомического театра, страх перед экзаменами и победное, легкое настроение после. Коллеги! Собственно говоря, друзей в высшей школе у тебя не было. Как будто огромное состояние и былая мощь отца отделили тебя от них, и ты сам эту отчужденность только усиливал, в особенности после февраля. Подстегиваемый каким-то безрассудным желанием отомстить за своего отца, ты научился смотреть с настоящим высокомерием на тех «неприкосновенных» с хорошими анкетами. А как им пригодилось то, что ты вдруг заколебался, стал плохо учиться из-за переживаний в связи с крахом отца! Несчастная анатомия и неважный балл по физиологии!
А те, которых ты презирал, сегодня уже заканчивают шестой семестр, большая часть университетского курса у них уже за плечами. Эти люди идут в гору, приближаясь к решающей экзаменационной сессии третьего курса, и уж, конечно, даже и не вспоминают о «демократизованном» коллеге-изменнике!
Вацлава мучила одна недобрая мысль: если бы он сам не изолировал себя от своих коллег и побольше старался завоевать их доверие и дружбу, дело могло бы обернуться иначе! Ведь в конце концов он не получил поддержки и сочувствия даже у студентов, когда-то принадлежавших к его социальной категории! Где же, в чем именно кроется ошибка — незаметное начало этой истории, из-за которой он в один несчастный день с чувством горечи покинул свою уютную студенческую комнату, расстался с удобствами большого города, вернулся в захолустье, затерянное в горах? Где первопричина того, что он теперь стоит здесь под железнодорожной насыпью, вырванный из родной почвы, потерпевший полный крах студент, в мире, которому он в тягость или, в лучшем случае, совершенно безразличен?
Вацлав приблизился к большой мусорной свалке. У ее края наклонилась набок покинутая хибарка. Он заглянул в нее — пусто, только дверь поскрипывала петлями от порывов ветра. Он выбрался на свалку. К ней как раз приближалась со стороны города, подскакивая на ухабистой дороге, грузовая машина. Подъехав, самосвал медленно наклонил кузов и высыпал содержимое. Облако пыли взвилось вверх, но тут же было отнесено в сторону. Рабочие в грязных фартуках сели на грузовик, и он, урча, уехал прочь; ему на смену приблизилась другая машина.
А люди с опущенными головами медленно бродят по обширной свалке между курящимися кучками. Глаза агасферов Валки жадно высматривают что-нибудь подходящее: то тут, то там раскопают кучу мусора, ковырнут палкой свежие отбросы большого города. Нюрнбергская свалка.
Вацлав машинально шагает по пестрой поверхности мусора, податливой, как мох. Только вместо душистых запахов леса здесь смердит гнилой картошкой, тухлыми потрохами, десятками видов плесени.
Иссиня-серая туча затянула западный горизонт и слилась вдали с дымом фюртских фабрик. Плащ Вацлава счастливо пережил зиму, поэтому юноша не особенно боялся дождя. Вацлав продолжал бродить по свалке, оглядываясь по сторонам, и вдруг остолбенел: одинокая девичья фигура, знакомый берет, знакомая манера держать тело. Молодой человек протер глаза — может быть, он ошибается? Но нет, это не ошибка: склоненная, как и у всех остальных роющихся в мусоре, голова, типичный медленный шаг искателей поживы на свалке.
Кровь бросилась ему в голову, глубокий стыд заполнил душу. В смятении он хотел повернуться к ней спиной и убежать, но было поздно: Катка подняла голову, и он даже издали увидел, как она окаменела. Вацлав приблизился к ней нерешительным шагом и, пытаясь завуалировать свое собственное смущение, хрипло спросил, почему она его не взяла с собой на прогулку. Но Катка без единого слова глядела на него широко раскрытыми от ужаса глазами. Тогда он взял ее за локоть. Рука Катки была вялая, безжизненная.
Первые капли холодного весеннего дождя зашипели в кучах тлеющего пепла. Издали приближалась зловещая темно-серая завеса, затянувшая весь горизонт. Молодой человек накинул полу своего плаща на Каткины плечи, обхватил ее талию и принудил вместе с ним бежать. Густая полоса ливня накрыла их на полпути к избушке. Они сбежали с мусорного холма и, запыхавшиеся, ввалились в хибарку. Струйки воды стекали с промокшего Каткиного берета по ее слипшимся волосам.
— Чего это мне вздумалось идти именно сюда, как вы думаете? — судорожно засмеялась она, избегая глядеть ему в лицо. — Я хотела попасть к новому стадиону. — Она снова и снова выжимала берет, хотя в нем уже не осталось ни капли воды. — Его будто бы начали строить во время войны и теперь доделывают… — Она еще никогда так обильно не сыпала фразы, как сегодня.
Вацлав едва улавливал их смысл. Он стоял, опустив руки, не обращая внимания на то, что ливень нашел свою дорожку сквозь дырявую крышу и струйка воды льется ему прямо на плечо. Вацлав стоял, не двигаясь, и как завороженный смотрел на сумку Катки, которую она держала на локте согнутой руки. Два-три найденных ею на свалке латунных крана выдавали свое присутствие в сумке тихим позвякиванием. Порыв жалости к ней охватил его. Он закусил губы, но напрасно: слезы навернулись у него на глаза.
Ее уставшее лицо покраснело, руки беспомощно опустились, она потупила глаза, как девочка, изобличенная во лжи.
Он без раздумья обнял ее. Она задрожала в его объятиях, замкнувшись в какой-то безнадежной самообороне, словно листок мимозы от прикосновения руки. Попятилась на шаг и прислонилась спиной к стене. Он обнял ее еще крепче и прижал к себе, его губы были теперь совсем близко от ее лица. В ее голове молнией сверкнула мысль о Гансе, возникло чувство вины за то, что она не сопротивляется, но этот человек, прижавшийся к ней, совсем другой, он не принадлежит к лагерному сброду, он честно мечтал о ней столько месяцев. Ее силы были надломлены стыдом, что он застиг ее на свалке — ее, такую до сих пор гордую и неприступную, а теперь оказавшуюся почти на самом дне, а Ганса, возможно, она уже никогда не найдет. От этой мысли в ней что-то оборвалось, напряжение в руках ослабло, и она, крепко зажмурив глаза, прижалась губами к его губам.
У Вацлава закружилась голова. Огромное счастье переполнило грудь. Исчезла жалкая, дырявая хибара, заливаемая потоками дождя, перестала существовать Валка с ее нищетой; сейчас он унесся куда-то за облака, и все оставленное на земле казалось ему ничтожным, не имеющим смысла. В то же время каким-то краешком сознания он страшился высоты, на которую вознесся, он, быть может, даже вскрикнул бы от испуга, но у него захватило дух. Только губы его жадно впивались в губы Катки, он жаждал, чтобы этот миг никогда не кончился, словно стремясь вознаградить себя за долгое самоотречение.
Потом Катка сидела в уголке на лавочке. Вялым жестом она отбросила со лба мокрый локон волос. Потоки воды по-прежнему устремлялись сквозь дырявую крышу внутрь избушки. Когда молодые люди бежали по свалке, мусор набрался в туфли Катки. Теперь она их сняла и стала вытряхивать. Вацлав опустился на колени и своими руками стал отогревать ее окоченевшие ступни. В порыве тихой радости он положил голову на Каткины колени и закрыл глаза. Если бы теперь остановилось время, если бы не нужно было пробуждаться, если бы ливень превратился в поток и поглотил эту проклятую Валку! Он почувствовал нежное движение ее пальцев в своих волосах, но вдруг ее мягкая рука замерла: раздались чьи-то хлюпающие шаги, дверь скрипнула, и в избушку с проклятиями ввалился человек, промокший до нитки.
— О, пардон, господа!
Грубая, небритая физиономия, столь характерная для обитателей лагеря.
— Продолжайте в том же духе! — сказал вошедший цинично и, повернувшись спиной, чертыхаясь, начал стаскивать с себя промокший пиджак: словно грубая лапа стерла очарование прошедших минут — тоненький узор на покрытом капельками влаги стекле.
На следующий день Капитан догнал Вацлава и Гонзика по дороге к лагерю. Он бодро хлопнул их по спине, обнял обоих за плечи.
— Как бы вы отнеслись к тому, чтобы для разнообразия часок потрудиться, а, ребята?
— Разыгрывай кого-нибудь другого, — Вацлав согнулся под тяжестью его объятий.
Капитан торжественно выпрямился и молитвенно воздел ладони кверху.
— Сегодня с шести утра. Словно я впервые в сезоне играл в теннис. Спины будто и нет, не чувствую.
Они с удивлением посмотрели на свежие розовые мозоли на его руках.
— Работал у Зеппа Рюккерта в селе Гостенгоф, четыре километра отсюда. «Шельма мужик, который не пашет на святого Ржегоржа…» Сначала я вел борозду, будто бежала испуганная корова, но к полудню я так разошелся, что сам Пршемысл Пахарь спасовал бы передо мной! Жаль, что наши главари не имели такой тренировки, глядишь, они тогда бы не прошляпили в феврале…
Восторг в глазах Гонзика сменился удивлением.
— Хорошо, работу нашел ты, чего же нам-то радоваться?
— Болваны! Поле у мужика как прерия, взглядом не окинешь. По терминологии, принятой теперь на нашей отчизне, хозяин «ein westdeutscher Kullak»[105]. И вид у него словно с картинки «Дикобраза»:[106] пузо, зеленая шляпа, рыжие патлы, асоциальное поведение. Договорился я, что завтра мы придем вчетвером. Дайте срок, пообживемся, а потом возьмем да и заложим у него колхоз.
Бурная радость охватила Гонзика и Вацлава, но, посмотрев на измазанные грязью ботинки Капитана, Вацлав забеспокоился.
— Где же я возьму крепкие ботинки для работы? — Радостные надежды завладели вдруг его воображением.
Продержаться бы на работе до жатвы, а тут — зимний семестр в университете. К этому времени, наверное, закончится проверка, и он наконец получит заграничный паспорт и разрешение на выезд в Канаду… Вдруг он испугался такой возможности: а Катка? Но тут же упрекнул себя: балда, твоя работа — это еще журавль в небе, а ты уже терзаешь себя разными рассуждениями.
Но он не мог остановиться и мечтал: он поднимается по мраморной лестнице факультета с портфелем под мышкой, в белом халате со скальпелем в руках склоняется над прозекторским столом, сидит, сжав голову ладонями, над мудреной книгой по терапии в студенческой комнате где-нибудь под нюрнбергской готической крышей, и в конце всего этого — маленькая эмалированная вывеска на дверях:
MUDR. VACLAV JUREN,
FACHARZT FUR GYNAEKOLOGIE[107]
Может быть, даже не Вацлав, а Венцель…
Он поднял голову. Белые облака плыли по небу, причудливые, свободные, в них новая весна. Где-то близко в вышине повис жаворонок. Почему это он раньше не слышал его трелей? Катка, девушка, стройная весенняя березка, упругий шаг и нежные, мягкие губы. Она своей любовью окрыляла его. Чего только он не сделает ради нее! Он выпрямился и глубоко вздохнул.
— Синусоиду помнишь, Гонзик? Нижнюю волну мы пережили. Теперь пойдем вверх!
— А кто будет четвертым? — спросил Гонзик, опасаясь, как бы четвертым не оказался Пепек.
— Выберите кого хотите, — ответил Капитан.
На следующий день, чуть забрезжило, все четверо, вместе с Ярдой, пустились по полевой дороге. Вокруг лежал сырой, холодный туман, но они не чувствовали холода: их подгоняло и согревало опасение, как бы кто-нибудь их не опередил.
Хозяин, Зепп Рюккерт, встретил их во дворе своего обширного хозяйства. Он без всякого восторга посмотрел на тощую, слабую фигуру Вацлава, спортивная выправка Ярды его слегка смягчила; он прикрикнул на барбоса, яростно кидавшегося на обтрепанных чужаков, и спросил:
— Что умеете?
— Они всему научатся за полдня, как я, — ответил за всех Капитан.
— Если работа будет спориться, заплачу по шесть марок за день, в полдень — обед. И старайтесь, хлопцы, такая удача выпадает одному из тысячи.
— Мерзавец! — отвел душу Капитан после ухода Рюккерта. — Немцу он заплатил бы пятнадцать — двадцать марок в день да еще застраховал бы его. Но нам все равно повезло.
В тот день пахал только Капитан. Остальные сажали картофель. В полдень три новоявленных работника не могли разогнуть спин. Долго ждали они в сарае, сидя на охапках соломы, обещанного обеда. В смежной половине за деревянной перегородкой нетерпеливо били копытами и изредка ржали лошади. Наконец девушка принесла большую кастрюлю картошки с подливкой и кормовую репу.
— Это посылает нам герр Рюккерт со своего стола? — помрачнел Капитан.
Девушка смущенно почесывала бедро. На ее грязные босые ноги были надеты стоптанные ботинки без шнурков, прядь жирных волос свисала на лоб. Она оценила кудри Ярды и его крепкое тело, слегка приоткрыла мясистые губы и провела грубой ладонью по своей груди.
— Вас тоже этим кормят? — спросил Капитан и посмотрел на ее губы, обметанные лихорадкой.
Поколебавшись, она утвердительно кивнула.
— А сколько вам платят?
Загрубелая рука перестала наконец чесать бедро.
— Деньги забирает Иохем.
Они не успели спросить, кто такой Иохем: вошел хозяин.
— В лагере мы едим за столом, — сказал Капитан.
Рюккерт посмотрел на батрачку, как будто заподозрил ее в том, что она подстрекала этих перебежчиков, но тут же отбросил эту абсурдную мысль. Он широко расставил ноги и не спеша стал набивать коротенькую трубку.
— А кем вы были раньше? — гнусаво спросил хозяин, попыхивая трубкой, потом кивнул квадратной головой батрачке и произнес одно лишь слово:
— Geh![108]
Девушка немедленно исчезла.
Капитан достал помятую сигарету, но, подумав, что сидит на соломе, спрятал ее обратно.
— Солдатом, летчиком, — ответил он.
Рюккерт тихонько присвистнул.
— Во время войны?
Капитан кивнул.
Хозяин схватил его за рукав и вывел из сарая.
— Schau[109], — и сильной красной рукой, поросшей рыжеватыми волосами, указал в сторону города. — Полюбуйся на эти разбитые дома. В старый город тоже попала бомба, и костел девы Марии не пощадили. Может, это твоя работа? — Хозяин отпустил рукав Капитана и вернулся в сарай.
В те времена немцы ели не за столами, а в траншеях, в ямах, вырытых в земле, а шесть миллионов из них перестали есть вообще. — Он выпрямился и вынул трубочку изо рта, его короткие, вверху расстегнутые башмаки очень напоминали ботинки пехотинцев вермахта. На розовом лице фермера появилась усмешка.
— Я не могу, господа, — он особенно подчеркнул последнее слово, — предложить вам место у обеденного стола. Как изволите знать, нанимать на работу беженцев запрещено. Если кто-нибудь увидел бы вас у меня в доме, я бы имел неприятности, а вас посадили бы. — Он посмотрел на ручные часы. — Вы обедаете уже три четверти часа. Мне на обед хватает полчаса. — Хозяин повернулся и вышел.
— Свинья! — по-чешски сказал ему вслед Капитан. Однако на лице его не было особого возмущения.
Они опять сажали картофель, а Капитан пахал. На противоположном конце поля эту же работу делали машины. Но или их было недостаточно, или труд беженцев обходился дешевле. В последующие дни бороновали, очищали выгребную яму на дворе имения, потом опять сеяли, а после вывозили навоз. Вацлав стал похож на привидение и еле передвигал ноги от усталости. Он никогда не занимался физическим трудом, а шесть месяцев жизни в лагере ему отнюдь не прибавили сил. Гонзик тоже сжимал в кулаки покрытые кровоточащими мозолями ладони. Иной раз у парня навертывались слезы на глаза. Вечером Вацлав и Гонзик еле живыми добирались до своего барака, их глаза смыкались уже над немудреным ужином, а свалившись на нары, они засыпали мертвым сном.
В первой половине дня в субботу на поле пришел приказчик Иохем и увел Вацлава во двор фермы. Они подошли к прицепу, нагруженному каменным углем.
— Перетаскаешь в сарай, там вот возьмешь ушат, — сказал Иохем, чавкая жевательной резинкой. Он минутку с интересом рассматривал Вацлава, а потом ушел.
И Вацлав таскал. Куски угля были большими, тяжелыми, их приходилось брать голыми руками. Студент механически, бездумно двигался от прицепа к сараю, туда с ношей было идти тяжело, а обратно — легко, как будто он сам был невесомым. Юноша тупо смотрел на свои черные от угля руки, на сине-черную грязь, набившуюся под ногти. А ведь было время, когда эти руки играли на рояле в гостиной их помещичьего дома. В этом салоне издавна стоял какой-то особенно приятный запах яблок, которые — это Вацлав хорошо помнил — всегда лежали ровными рядами на полках.
Вацлав остановился, вытянул вперед руки, и, как ни старался, ему не удалось удержать пальцы на одном уровне. Они дрожали. Потом он снова носил уголь. Наконец пришел Иохем, прислонился плечом к двери хлева и прочавкал:
— Через три часа прицеп понадобится, чтобы к этому времени он был очищен.
Вацлав представил себе форменную нацистскую фуражку на молодом жестоком лбу Иохема, поясок от фуражки под его квадратным подбородком — и кинжал на крепком бедре — настоящий Hitlerjugend[110], только жевательную резинку он позаимствовал у своих бывших врагов. Господи боже мой, взять бы да и сбросить этот проклятый железный ушат с плеча, выпрямиться и дать в эту тупую, наглую рожу!
Вацлав носит и носит уголь то на левом, то на правом плече. Его походка делается все медленнее, и он сосредоточивается на мысли о том, как бы не упасть и не остаться лежать распластанным на земле. Ему начинает казаться, что уголь в прицепе не убывает, а сил у него не осталось даже на то, чтобы расплакаться. «Катка, девочка моя, ради тебя я все перенесу, все выдержу. Я мог бы им в лицо сказать: «Да пропадите вы пропадом, что вам надо от изголодавшегося беженца? Я ведь не лошадь». Но это испытание, Катка. Не им, а самому себе надо доказать, что я способен буду заработать деньги на учебу к тому времени, когда меня наконец проверят».
Но вот он опять остановился и снова смотрит на свои трясущиеся руки. Еще за неделю до того, как сбежал из дому, он попытался сыграть Гершвина[111], получилось довольно сносно, даже весьма недурно. А вот теперь его руки накладывают и носят каменный уголь, и есть в этом злая-презлая ирония: он, сын помещика, с детства чувствовавший отвращение к хлеву и полное равнодушие к полям, поменялся ролями с самым последним поденщиком-батраком, которых нанимали на скотный двор в их имении.
Но вот постепенно он теряет логическую последовательность мышления, острота контрастов, причиняющая мучительную боль, притупляется. Юноша слизывает с губ едкую каплю пота и кисловатую угольную пыль, в голове шумит, а на зубах хрустит уголь, его сознание словно застилается пеленой, как в театре, когда по ходу действия спускаются полупрозрачные завесы.
Белая клавиатура и его черные от угля руки, душистые яблоки на полках и чавкающий нацистский молодчик, прислонившийся плечом к дверному косяку; его, Вацлава, голова на коленях у Катки в той жалкой лачуге, но все это лишенное всякой связи мелькание картин и образов начинает походить на бред, только плечи вполне реально и ощутимо горят как в огне… Все равно он должен выгрузить этот проклятый уголь, привыкнуть к физическому труду! Когда кончит, он отмоет руки, свои тонкие, нежные, чувствительные пальцы прирожденного акушера.
Неодолимая сонливость все же доконала его. Руки, грудь, голову Вацлава охватил озноб, холодный пот выступил на лбу, он стал часто и хрипло дышать — ему казалось, будто рядом забивают сваи и этот звук болезненно отдается в его ушах. Земля закачалась у него под ногами, густая тьма в один миг заволокла все вокруг. Из неведомой дали до Вацлава донесся металлический удар чего-то о камень. Тьма и долгая мертвая тишина, только чей-то кулак стучит в его грудь и — «гу-гу-гу» — отдается в ушах. Нет, это его собственное сердце.
Вацлав не может понять, почему он так долго стоит на четвереньках и острые песчинки врезаются ему в ладони.
Приказчик Иохем равнодушно смотрит на него, потом отталкивается плечом от косяка, выплевывает жевательную резинку и медленно идет, чтобы поднять ушат.
Вдруг появляется Гонзик и волочит Вацлава в сарай, бормоча какие-то бессвязные слова, от него сильно пахнет навозом; потом оказалось, что Вацлав лежит на соломе, широко раскинув руки, веки его нервно подергиваются. Чувство огромного облегчения, хотя наплывы далекого прибоя все еще шумят в его ушах и стены сарая тянутся в немыслимую даль, но вот уже снова это обычный, темный сарай, однако убаюкивающие волны по-прежнему омывают его больную голову. Ему все еще кажется, что ноги его продолжают совершать путь от прицепа к сараю, от сарая к прицепу, только он не чувствует никакой тяжести.
— Болван! — слышит Вацлав над собой голос Ярды. — Надо быть идиотом, чтобы надрываться ради немчуры до упаду… Где твоя голова?
Капитан пошел к хозяину за расчетом. Рюккерт, не говоря ни слова, выложил на стол одну стомарковую бумажку.
— Нам причитается сто двадцать шесть марок.
— Ого, герр майор уже наперед все сосчитал, — кулак приподнял брови. — В яме осталась половина дерьма. Пробороновали кое-как, а уж засеяли — об этом даже и говорить не хочу. Даже уголь из прицепа не выгрузили до конца. Я, чтобы вам было ясно, плачу по работе. Сто беженцев зацелуют мне руки до самых плеч, пожелай я им только дать работу! Я вас и вашу компанию не принуждаю, Herr Sturzkampfflieger[112], — усмехнулся хозяин и развел руками, держа в правой трубку.
Капитан быстро оценил обстановку. Нет такой власти, которая принудила бы хозяина выполнить уговор. Они были бы беззащитными, даже имея письменный договор в кармане. Они ничего не смогли бы сделать, даже если бы он отказался платить вообще. Самое большее, что они могли бы сделать, — это набить ему морду, но тогда они потеряли бы не только эти сто марок, но надолго лишились бы свободы, не говоря уже о надежде на разрешение на выезд. Капитан только сжал челюсти так, что у него заныл испорченный зуб. Ладя уже давно привык владеть собой, даже и в тех случаях, когда это, казалось, превышало человеческие возможности. Он посмотрел в спокойную, выжидающую физиономию Рюккерта. В руках Капитана был стомарковый билет, и он собирался сказать хотя бы ради формы: «Свинья! Скотина! Мерзавец!» Но не сказал и этого: у него мелькнула иная мысль, он круто повернулся на каблуках и вышел.
Капитан вернулся в сарай, сел между друзьями, щелкнул по банкноту и произнес одно слово:
— Шакал!
Вацлав по-прежнему лежал расслабленный, с пепельным лицом. В нем росло чувство какой-то неосознанной радости, что все так кончилось, но присутствие друзей, их жесты и слова будто не касались его; он не чувствовал ни голода, ни усталости, ничего, даже воспоминание о Катке стало каким-то безразличным. Она дала ему крылья, но у него не было сил пошевелить ими.
Он приходил в себя. «Работать, зарабатывать на учебу!» Этот воздушный замок рухнул без грохота — смешное строеньице рассыпалось без звука, словно за стеклянной стеной. «Доктор медицины Венцель Юрен».
— Идиот! — вполголоса выругал сам себя Вацлав.
Приятели переглянулись. На мгновение наступила недоуменная тишина. Капитан подогнул под себя ногу, достал измятую сигарету и снова положил ее обратно, не закуривая. Чтобы как-то сгладить неловкость после выходки Вацлава, он сказал:
— Гроши наши мироед прикарманил, и мы должны их получить с него. Только я еще не придумал как.
— А я придумал! — осклабился Ярда и с видом самолюбивого превосходства стал разглядывать свои растертые ладони.
Хозяйские кони позвякивали уздечками, фыркали. Ярда с минуту наслаждался недоумением своих приятелей и наконец не выдержал.
— Конские хвосты! — выложил он с видом победителя.
— Ну и парень! — Капитан шумно шлепнул себя по бедру. — Вот уж поистине — ученик превзошел учителя. — Его голубые глаза заблестели одобрением: конский волос — ходовой дефицитный товар. Надо же, целую неделю ходили рядом, а додумался до всего новичок.
Гонзик только сейчас понял, о чем речь. Что-то в нем воспротивилось, но не особенно сильно. В самом деле, чего иного заслужил этот мерзавец Рюккерт? Только Вацлав лежал безучастно. Он как будто ничего не слышал, словно оглох или был парализован. Но в действительности он все слышал и прекрасно понимал. У него мелькнула парадоксальная мысль: «Ты руководитель троицы — действуй, сделай что-нибудь!» Но он ничего не сделал.
— Нет, — возбужденно говорил Капитан. — Ночью нельзя. Рольф поднимет отчаянный лай.
«Facharzt für Gynaekologie», — звенит в ушах у Вацлава.
— Если играть, так ва-банк! — вклинивается в сознание Вацлава немного скрипучий голос Капитана.
«Спать, спать, спать», — пульсирует в висках Вацлава. Однако он приподнимается на локтях, чтобы заявить о своем несогласии с намеченной операцией.
— Ты лежи себе и помалкивай, — слышит он скрипучий шепот около своего уха. — Гонзик будет караулить у дверей. Ярда, пошли!
Он остался один. Внезапно из соседних стойл донеслось частое и тревожное позвякивание уздечек, потом кто-то тихо, успокаивающим полушепотом окликнул лошадь, донесся приглушенный настланной соломой звук переступающих копыт. Затем в сарае появился Ярда, необычайно толстый в поясе. За ним вошел Капитан с полным рюкзаком за плечами и, наконец, Гонзик.
— Идем, идем!
У Вацлава не было сил подняться. Ему помогли, но ноги у него подгибались, как у марионетки. Он бормотал что-то о коллапсе, о том, что у него рябит в глазах.
— Иди ты куда подальше со своим коллапсом, — гудел ему в ухо Капитан. — Надо уносить ноги, или мы пропали.
Они обошли сарай. Вацлав увидел запущенный сад, низкий ветхий забор, грязный полевой проселок. Вацлав кусал губы, рубашка его стала мокрой от пота, но он все равно отставал, и товарищи вынуждены были поддерживать его. Некоторое время он еще как-то плелся, но потом повис на Гонзике, как пьяный.
Они торопились уйти. Ощущение опасности переплелось у них со злорадным чувством удовлетворения; конечно, еще рано было кричать «ура», но рисовавшаяся перед их глазами картина была уж очень занятной: физиономия рыжего Рюккерта, когда он увидит своих кобыл, которыми он так гордился, с огрызками вместо длинных пышных хвостов! Приятели оглянулись: ферма скрылась за бугром.
— Ты похож на беременную бабу, отдай один хвост Гонзику, — сказал Капитан.
Ярда захохотал. Это было сигналом: опасность миновала, напряжение ослабло! Все весело и громко рассмеялись, заржали, как лошади. Капитан, смеясь, вертелся на одном месте и наконец, хохоча, уселся на межу, шлепая себя по ляжкам. У Гонзика от смеха на глаза навернулись слезы.
Ярда расстегнул пиджак; от превосходного черного конского волоса, лежавшего у него за пазухой, исходил теплый, специфический запах лошади.
— Сто марок! Ну, мы отплатили этой свинье, — произнес Капитан сквозь смех. Потом взял Вацлава за грязную руку и посмотрел на часы. — Идем, идем, ребята!
Они снова двинулись по грязному проселку. Наконец показались первые дома предместья.
Лицо Вацлава начало розоветь.
— А что, если Рюккерт заявит на нас? — вяло спросил он.
Капитан приложил свою ладонь к его лбу…
— Фантазирует парень, — обратился он к остальным.
— Как он это сделает, а? Во-первых, он не имел права нанимать нас, а во-вторых, у него нет никаких доказательств.
В чуланчике «У Максима» друзья наконец избавились от необычной ноши, вышли в питейный зал и уселись за столик. Для Вацлава заказали двойную порцию натурального черного кофе. Капитан увидел Колчаву с кием в руках. Без всяких церемоний он уволок его в угол и предложил товар.
— Сто двадцать марок, — сказал человечек, даже не видя хвостов, и выжидательно выпучил глазищи.
— Убирайся, пока я тобой не вышиб двери, мерзавец, — сказал Капитан спокойным, шутливым тоном.
Базедик развел руки, встал и отошел к бильярду, подергивая плечами и кием, но его вылезшие из орбит больные глаза все время возвращались к четверке парней, сидящих за столом. Через некоторое время он подошел к ним.
— Сто пятьдесят!
Капитан допил свою рюмку.
— Двести пятьдесят, иначе не трать на нас время.
Через четверть часа они уходили, унося в кармане двести марок.
— Вы вдвоем возвращайтесь отдельно, — кивнул Капитан Гонзику и Ярде, — а мы с Вацлавом поедем на автобусе.
Автобус был полупустым. Они сели на задних местах.
— Не хочу этих денег, — нарушил Вацлав молчание, — дашь мне тридцать марок, которые заработал, остальные делите между собой.
Капитан вздохнул, как над упрямым ребенком.
— Дам тебе полную четверть, ты ее заработал. Пойми, ведь Рюккерт нас немилосердно эксплуатировал.
— Я эмигрировал не затем, чтобы красть. Не делал этого я на родине, не буду заниматься этим и здесь. — Вацлав вялым движением положил ладонь себе на лоб. Он был влажным. Голова тупо болела. — Мы тебе кое за что благодарны, Ладя, — продолжал юноша с усилием. — Но у меня просто не укладывается в голове: ты, офицер чехословацкой армии…
Летчика всего передернуло, шея у него побагровела. Он посмотрел сбоку на Вацлава. Уже давно с Капитаном не случалось, чтобы он растерялся, не смог ничего ответить собеседнику. Бывший офицер глубоко вздохнул и опустил голову. Один винт на ручке автобусного кресла ослаб, и Ладя принялся подкручивать его ногтем.
— Я уже не офицер, — произнес он необычно тихо. — И я давно отказался от иллюзии, что стану им вновь. — Капитан немного подумал, продолжать ему или по своему обыкновению обратить все в шутку.
Профиль исхудалого лица Вацлава дышал неуступчивостью, обвинял. Этот человек был явно выше уровня лагеря. Сегодня работал так, что остался лежать на земле. Неслыханное для Валки дело!
«Я эмигрировал не затем, чтобы красть».
Отмалчиваться нельзя.
— Ты должен кое-что знать обо мне, хотя это здесь не в обычае, — произнес Капитан хриплым голосом. — Я не считаю себя ни вором, ни негодяем. Эти качества не были свойственны людям, которые в тридцать девятом году рисковали жизнью, чтобы отстоять республику от Гитлера. Я прошел через Карпаты, Румынию, тернистый путь через Турцию и Египет, потом в Марсель и Париж. Я был свидетелем рождения нашей первой войсковой части на Западе; так я очутился в Лондоне. Я начал все с самого начала, ведь до этого времени вместо руля я держал в руках только самописку над бухгалтерскими счетами.
Сто раз я лез в пасть смерти, тысячу раз смерть проходила мимо меня. Я ведь в самом деле был над Нюрнбергом. Один дьявол знает, по какому наитию отгадал это Рюккерт. Было нас пятеро товарищей летчиков: четверо были сбиты… А в это время ведь многие из кадровых военных сидели смирно в растоптанной республике. Они затыкали уши от залпов в Кобылисах и в Коуничках[113], призывали бога в свидетели фашистских злодеяний. Нет, мы, рядовые воины чехословацких войск на Западе, послужили республике не хуже, чем наши соотечественники на советско-германском фронте — под Киевом и на Дукле.
Женился я на английской девушке. К нам на родину мы повезли годовалого ребенка — девочку. Эта женитьба была ошибкой. В то время, когда в Лондоне горели дома от нацистских бомб, а двадцать процентов самолетов не возвращалось, человек долго не раздумывал, он хотел поскорее урвать свою долю любви, мечтал хотя бы почувствовать, что такое семейный очаг, прежде чем уйти на задание и не вернуться. Моя жена не прижилась в Чехии — в мирное время все вдруг стало выглядеть иначе. Развод, она вернулась к себе на родину и увезла с собой дочку. Вот все, что осталось мне. — Капитан подал Вацлаву потрепанную фотографию. На ней была снята смеющаяся девочка, возле, на детском столике, — торт с тремя тоненькими свечками.
Капитан бережно взял фотографию из рук Вацлава и долго смотрел на нее, низко опустив голову. На висках у него серебрились первые нити седых волос, а морщинки, тянувшиеся от глаз к вискам, показались Вацлаву более густыми и резкими, чем когда-либо раньше.
— Ну-с, потом февраль, — вздохнул Капитан, пряча фотографию в свою английскую военную книжку. — Я не смирюсь ни с какой диктатурой, будь то фашистская или пролетарская. Эвфемизм, ничего иного. Может быть, когда-нибудь я приду к выводу, что ошибался, но пока еще меня никто не переубедил. Ну вот я и пошел во второй раз воевать. Бороться, а не красть!
Ноготь Капитана то закручивал винт на кресле, то снова откручивал его.
— Я себе представлял это так, — продолжал Капитан. — Горстка людей наперекор всем бедам, голодная, безоружная, пробирается со всех концов страны на Запад, чтобы самоотверженно противостоять насилию и, если нужно, умереть за свободу. Вместо всего этого я нашел Валку. Это и есть трагедия нашей второй эмиграции.
Забыли мы, воины, о бездонной пропасти между войной и миром, упустили из виду, что все на свете изменилось; мы, которые знали войну как огонь и дым, проглядели, что существует еще и иная война, ее методы не так опасны, но они пачкают честь солдата.
И еще кое-что. Там, на Западе, мы что-то значили. Мы были «элитой» — цветом молодежи, иностранцами, борющимися за Англию, так многие себе это представляли. Нами восторгались, звали в семьи, угощали, девушки по отношению к нам были более щедрыми, чем к английским парням. Вообще мы были баловнями судьбы, пока, разумеется, были живы.
А потом, дома, вдруг все это исчезло. Мы стали или обычными штатскими, или обычными военнослужащими. Никакого особого почета, работай, трудись изо всех сил, как и всякий другой. Все мы были разочарованы. Большинство из нас, «западников», инстинктивно тянулись обратно. Хотя сегодня в нашу честь в Англии и пес не пролает. Странное дело, осознал я это только здесь…
Иногда мне вспоминается мой родной край. Мое Ралско: водные просторы, крутые конусы чешских сопок, этот мирный уютный покой на склонах Бездеза, тихие виды с Милешовки…
Я уже начинаю понемногу забывать лица земляков, но мой край стоит передо мной как живой, во всей своей красе, год от году я вижу его все яснее, так, что кажется, протяни руку — и ты сорвешь красный мак под Тросками. Эх, Вацлав!..
Капитан выпрямился, глубоко вздохнул, голос его немного окреп и стал более равнодушным.
— Мне кажется, — продолжал он, — что я здесь уже лет десять. Я искал работу настойчиво, упорно, каждый день. Тщетно. Все наниматели так или иначе были зеппами рюккертами. Люди в сущности своей рабовладельцы: если за тобой не стоит закон, ты значишь меньше, чем скотина. А лагеря? Это, брат, система. Беженцы могли бы жить и лучше, добавить доллар-другой на их содержание можно было бы без ущерба для миллиардного бюджета, но зачем? Голодная девица переспит с тобой за кусок мяса или плитку шоколада, да и мужчину, который ходит полуголодный и в лохмотьях, легче завербовать в лагерные доносчики, в Си-Ай-Си или в Иностранный легион. Я не пойду ни туда, ни сюда, я ворую, чтобы как-нибудь продержаться. Я человек маленький, у меня нет никакой власти, закон меня не охраняет. Пока идет «холодная война», я не нужен и как Kanonenfutter[114] для немецкой армии, да если ее и возродят, для этого найдутся сотни тысяч немецких кандидатов. То, что я краду, — это единственно доступный мне способ протеста.
Думал я и о том, чтобы податься в Англию, — продолжал Ладя. — Я хорошо говорю по-английски, да и кое-какие знакомые бы там не отвернулись от меня, но я не смог бы там жить вблизи от своего ребенка, не вынес бы я этого. Что же остается? Перетерпеть, удержать свои нервы, ведь когда-нибудь в Германии не будет такой безработицы, тогда найдется, я думаю, работа и для беженцев.
— Валка, — объявил кондуктор.
Вацлав вышел с опущенной головой. Он даже не заметил Ганки с Иреной, которые ожидали автобуса, чтобы ехать в город. Девицы с двух сторон держались под ручку с редактором лагерного отделения «Свободной Европы». Капитан кивнул в ответ на их приветствие. Он обратил внимание на то, что на Ирене была новая весенняя шляпка. Обе девушки были обуты в новые модные туфельки на тонких каблучках. Когда они проходили мимо, на него повеяло густым запахом ландыша.
«Весна, — подумал Капитан. — Еще одна весна в эмиграции».
— Девчата идут в гору, — сказал он лишь затем, чтобы сказать что-нибудь.
Молчание Вацлава ему не нравилось. Он тащился рядом, опустив глаза в землю, с грязными ладонями, в мятом пиджаке, черном от грязи на плечах.
Вацлав так и не ответил ему.
18
В репродукторе кабачка смолкла джазовая музыка. Ярда первым отодвинул прибор.
— Есть кое-что на примете, кабальеро, — небрежно сказал он.
Все машинально сдвинули головы в тесный кружок.
— Свинец, — шепнул Ярда.
— Свинец! — Капитан вытер коркой тарелку. — Где?
— Нейгаузен, — Ярда с опаской оглянулся вокруг, немного ослабил галстук. — Кладбище, — добавил он и из хлебного мякиша скатал шарик.
Капитан плотно сжал губы.
— Знаешь, парень, я понимаю, что аппетит приходит во время еды, но говорю тебе чешским языком: брось, Ярда! — Капитан побарабанил пальцами по столу. — Существует последняя граница, минуя которую человек, как говорит наш патер Флориан, утрачивает подобие образу божьему и становится отпетым негодяем. На меня в этом деле не рассчитывай!
«Trink Coca Cola eiskalt!» — призывал большой плакат прямо перед глазами Гонзика. Но вместо красотки с розовой кожей Гонзик увидел кучу свежеразрытой глины, до желтизны высохшую тую у кладбищенской стены, толпу молчаливых людей в форме железнодорожников под тихо моросящим дождиком. Золотые тромбоны в руках музыкантов. Священник трижды окропил серебряной кропильницей и без того мокрый гроб, в котором лежал отец…
Гонзик встрепенулся. Назойливые краски на противоположной стене опять навязывали освежающий напиток.
— На меня тоже не рассчитывай, Ярда! — решительно произнес он.
Однако видения не исчезали. Юноша увидел сутуловатую спину отца, прядь седых волос, которую он привез с первой мировой войны, короткий палец без одной фаланги — результат взрыва итальянской гранаты, которую отец перехватил и попытался швырнуть обратно, и ту отвратительную щель между платформой и вагонами, слишком узкую для человеческого тела…
— Ярда, не сходи с ума, — взмолился Гонзик.
— Это разница, — помрачнел Ярда, как будто прочитав мысли Гонзика, — наш человек или немчура. Мало они нас убивали, вешали, стреляли?
У Гонзика опустились руки.
— Нет, Ярда, между мертвыми уже нет разницы.
«Я не должен, не должен поддаваться соблазну. Та история у Рюккерта — совсем другое дело, это был непосредственный ответ на его шкурничество, но и об этом случае сейчас противно вспоминать. А тут речь идет о хладнокровно рассчитанном грабеже… Я обязан проявить твердость характера и не вступать на скользкий путь авантюр. Это как трясина: сначала хлюпает под ногами, потом провалишься по колено и не успеешь оглянуться, тебя уже засосало». Гонзик резко встал и, близоруко щурясь, стал вылавливать из тощего кошелька марку и двадцать пфеннигов за обед. Потом, не сказав ни слова, ушел. За ним поднялся и Капитан.
— Тоже мне моралисты нашлись, — сплюнул Ярда. — Трусы вы, и больше ничего. — Но он немного заколебался: ведь и Пепек не захотел. Однако предостерегающий голос, заговоривший было в нем, тут же ослаб и затих.
Ярде казалось, что он не может отказаться от подготовленной операции. Он чувствовал себя в положении пловца, очутившегося на середине быстрой реки: нужно было отдаться течению, всякая попытка плыть против была бы безумием.
Минуло три дня. Однажды, вскоре после завтрака, не успели еще обитатели комнаты разойтись на «работу» и начать «торговые» дела, у ворот лагеря раздался долгий пронзительный свисток, громыхание автомобилей, грозный лай собак-ищеек, гудки клаксонов. Кто-то бежал от барака к бараку. Раздалась команда:
— Из лагеря не уходить, всем оставаться в своих комнатах!
Пепек выглянул из окна седьмой комнаты. Три инспектора уголовного розыска быстрым шагом шли вдоль барака. За ними рысцой поспешал сотрудник лагерной полиции. Позади них вынырнул еще один полицейский с немецкой овчаркой на поводке. Медленно приближалась легковая машина. Мегафон на ее крыше поворачивался во все стороны и беспрерывно повторял уже отданную команду всем оставаться на своих местах.
Ярда стоял у своих нар ни жив ни мертв. Пальцы одной руки машинально колупали суставы другой. На один миг он встретился с глазами патера Флориана. Ярда отвернулся от пронизывающего взгляда святого отца. Усилием воли Ярда наконец шагнул от своих нар и, кивнув головой в сторону окна, спросил у Пепека:
— Что там такое?
— Не знаю. Шарят. Дело серьезное, раз у них собаки.
В комнату влетел сотрудник приемного отделения лагеря.
— Пусть никто не вздумает удирать через забор. Весь лагерь оцеплен. Они будут стрелять, — сказал он по-немецки. — Кто здесь староста? Переведите это и объявите во всех остальных комнатах барака.
Патер выступил вперед. После той злополучной драки на вечере, зачинщиком которой был Пепек, папаша Кодл назначил старостой патера Флориана. Священник переводил объявление, устремив острый взгляд на указательный палец Ярды, которым парень нервно соскребал налипшую глину с ногтей левой руки. Снаружи у окна появился Капитан.
— Мне устроили от ворот поворот, — сказал он в открытое окно. — Понаехали на четырех грузовиках, а собак, как мух. Кто-то, должно быть, отколол номер! — Он многозначительно посмотрел на Ярду, поиграл яблоком, вскинул его в воздух и, поймав одной рукой, отошел от окна.
Патер возвратился после обхода комнат барака. В седьмой царила нервная зловещая тишина. То здесь, то там кто-нибудь скажет слово, но никто не поддерживал разговора. Время тянулось мучительно долго. Тревожное ожидание овладело всеми бараками — не слишком много было в них людей с совершенно чистой совестью. Неуверенность немилосердно терзала потрепанные нервы лагерников — черт знает что при расследовании может вылезти наружу. Только Баронесса из одиннадцатой была в своей стихии. Она шаркала шлепанцами от окна к столу и сообщала Капитану о каждом шорохе снаружи. Она даже описала, как выглядит полицейский, карауливший вход в их барак. Баронесса размахивала руками, все время хотела разбудить девчат, спокойно похрапывающих после минувшей ночи, поправляла волосы и украдкой посматривала в зеркало. И Штефанский нервно вытягивал аистовую шею из рубахи без воротника; он ничего плохого не сделал, но разве обездоленные люди не выходили из каждой неурядицы еще более убогими? Только его полусумасшедшая жена сидела безучастно со сложенными на груди руками. После смерти Бронека она часто так просиживала долгие часы, окаменелая, глядя воспаленными глазами в одну точку, и все ждала и ждала разрешения на выезд в Канаду.
В седьмой комнате Ярда демонстративно забрался на нары и закурил. Священник, сидевший за столом, временами поднимал глаза от газеты и внимательно смотрел в его сторону. Рука Ярды с зажатой сигаретой свисала с нар и мелко дрожала.
Шло уже к полудню, когда в коридоре наконец раздалось топанье нескольких пар сапог. Вошли двое полицейских, за ними незнакомый человек в штатском, папаша Кодл с потным, тревожным лицом и Медвидек со списками личного состава.
— Станьте все в ряд, ребята, — пролепетал папаша Кодл. Глаза его беспокойно блуждали по побледневшим лицам, а рука с длинным ногтем непроизвольно тянулась к уху с серьгой. — Господа вам зададут вопрос, и дело с концом…
Когда обитатели седьмой комнаты построились, папаша Кодл по кивку господина в штатском начал как заведенный повторять охрипшим голосом уже, наверное, пятидесятый раз. Иногда он закрывал глаза и брызгал слюной.
— Позавчера ночью было варварски обворовано несколько могил на кладбище Нейгаузен, среди них могила его милости епископа Нюрнбергского. Следы ведут в Валку. Пусть выступит вперед тот, кто принимал участие в этом преступлении либо что-нибудь о нем знает. Всякое сокрытие будет строжайше покарано.
«Спокойствие, спокойствие, болван, идиот!» Ярда вонзил ногти в край стола позади себя. «Опомнись, возьми себя в руки, ты заслуживаешь, чтобы тебя посадили в тюрьму на десять лет за одну только эту трясучку перед мундиром полицейского. Тебе только свечки продавать у костела, а не делать настоящие дела…»
В комнате гробовое молчание. Только тяжелое астматическое дыхание шумно вырывалось из груди старца, соседа Пепека. Кто-то из коридора втолкнул в комнату человека с удивительно заостренным черепом и растрепанными волосами, в очках с очень толстыми стеклами. Плюшевый воротник на его черном пальто был сильно потерт. Что-то болезненно дрогнуло глубоко под желудком у Ярды, и он судорожно икнул.
— Который из них продавал вам перстни? — прикрикнул на остроголового полицейский в штатском.
Бесконечная, напряженная тишина. Только ногти Ярды судорожно скребут крышку стола. Испуганные глаза за толстыми стеклами скользят по ряду выстроившихся людей. Вдруг на середине ряда они останавливаются, в них мелькает ужас. Близорукие глаза внимательно ощупывают лицо Ярды, потом перебегают дальше, но вот снова возвращаются к лицу Ярды. Измученные глаза поднимаются немного кверху, на этот злополучный, из ряда вон выходящий зачес — в Германии не носят таких причесок. Человек протягивает руку, она дрожит, как осиновый лист на ветру:
— Этот!
Штатский протяжно свистнул, полицейские переступили с ноги на ногу, крайний из них потянулся к кобуре с револьвером.
— Verfluchte Sauschwein[115], — отвел душу его напарник, затем отвернулся и плюнул на пол.
Ярда замер на месте. Губы его посинели, глаза вылезли из орбит. Парень устоял на ногах лишь в силу инерции, он хотел вскрикнуть, чувствуя, что должен немедленно заговорить, иначе будет поздно, но что-то непонятное сдавило ему горло, и он не мог произнести ни слова.
— Wie heisst du![116] — заорал агент в штатском.
Душившая Ярду рука сразу ослабла.
— Это ложь! — закричал он. — Нигде я не был, ничего не знаю, этот человек лжет, лжет! — Он истерически потрясал руками, голос его дрожал и подымался до смешной фистулы. Капельки слюны фонтанами вылетали изо рта.
Папаша Кодл с ничего не выражающим видом переводил. Инспектор послал ближайшего полицейского в коридор. Как в жутком сне увидел Ярда лица двух своих сообщников. «Конец!» — мелькнуло у него в голове. Один из сообщников был уже так избит, что у него опухло все лицо, а у другого под затекшим глазом зловеще темнел огромный синяк, ворот рубахи у парня был разорван, в уголках рта — засохшая кровь.
— Был он с вами? — рявкнул штатский и указал на Ярду.
Но сбитые с толку парни растерянно смотрели на выстроившийся перед ними ряд людей и, казалось, не могли сосредоточиться на конкретной мысли и сообразить, чего от них хотят.
В этот момент из шеренги выступил патер Флориан.
— Здесь какая-то очевидная ошибка, господа, — сказал он на прекрасном немецком языке твердым, звучным голосом. — В качестве старосты барака, но прежде всего как католический священник я заявляю, что этот человек спал всю позавчерашнюю ночь около меня и не покидал комнаты. Остальные обитатели также засвидетельствуют это. Я утверждаю это как совершенную истину: у меня бессонница, и я почти всю ночь бодрствовал.
Наступила мертвая, напряженная тишина. Слышалось лишь сиплое, частое дыхание Ярды. Следователь вылупил глаза на священника. Патер спокойно выдержал этот испытующий взгляд.
— Был он с вами или нет? — снова обратился следователь к избитым дружкам Ярды.
Парни с разинутыми ртами изумленно смотрели на священника, который стоял, торжественно выпрямившись, впереди остальных; потом взглянули на Ярду и снова уставились на патера. Тот, что стоял ближе, повернул голову к напарнику, и затем оба вместе с выражением полного замешательства отрицательно покачали головами.
Лица полицейских обратились к скупщику.
— Не знаю, — затрясся он. — Мне показалось… Я, возможно, ошибся, господа, у меня плохое зрение, ради бога, я честный ремесленник, прошу вас меня извинить… — Капелька пота медленно катилась по его серому лбу и затерялась в седой брови.
— А кто из вас видел и подтвердит, что постель этого человека той ночью была пустой? — следователь испытующе посмотрел на лица выстроившихся и указал на Ярду.
— Спал целую ночь в комнате, — прохрипел Пепек. — Я лежу прямо против него.
— Как это так, что священник… Что вы тут вообще делаете? — довольно круто спросил следователь.
— Я мог бы, конечно, квартировать в прицерковном доме или в семинарии, — скромно ответил патер Флориан и прикоснулся к нагрудному кресту. — Но, по моему разумению, место священника среди верующих. Поэтому я здесь, и по этой причине меня, к сожалению, — патер иронически усмехнулся, — каждую ночь жрут блохи.
Инспектор переступил с ноги на ногу. Его злое лицо выражало теперь неуверенность и недовольство.
— Вы знаете, что преступники надругались над могилой Нюрнбергского епископа… вашего… вашего… Ihrer Vorstands[117].
Патер утвердительно наклонил голову.
— Сердце кровью обливается, когда думаешь об этом мерзком преступлении! Я утешаюсь лишь тем, что если виновники злодеяния сумеют как-нибудь уклониться от строжайшего уголовного наказания, то от карающего перста всевышнего им не уйти. Бог был свидетелем их гнусного деяния, — патетически закончил патер, возводя очи горе.
Инспектор оглянулся вокруг и платочком вытер вспотевший затылок.
— Вы будете вызваны к присяге, — пригрозил он.
Патер слегка поклонился.
— Verfluchte Sautschechen![118] Все они в сговоре, одна банда! — облегчил себе душу кто-то из полицейских, выходя из комнаты.
В комнате после ухода полицейских остались куски засыхающей грязи на полу. Атмосфера была напряженной. Ярда тяжело опустился на скамью возле стола и зажал голову в ладонях.
— Невинного человека засадили бы в кутузку, сволочи, свиньи этакие, — всхлипнул он и уронил голову на руки, сложенные крест-накрест на столе.
Патер посмотрел на него долгим, серьезным взглядом, но не сказал ни слова. Ярда встал, вяло вскарабкался на нары, улегся на спину и замер.
— Оденься, я хочу поговорить с тобой, — шепнул ему святой отец после обеда. — Я подожду за воротами.
Он поджидал его на остановке автобуса. Они сели, патер купил билеты. Ярда неуверенно посматривал в его сосредоточенное здоровое лицо и никак не мог найти объяснения загадочному молчанию спутника. Молодого человека осенило, что, пожалуй, следовало бы поблагодарить священника, но сейчас, здесь, это показалось ему неудобным, и он молча принялся отковыривать потрескавшуюся эмаль на поручне. Проехали трактир «У Максима», пересели в трамвай. Потом шли пешком по старому городу. Широкие улицы сменялись все более узкими и глубокими, на дне их густел сумрак. Средневековая красота фасадов сегодня не находила отзвука в душе Ярды, охваченной смятением.
Пережитое потрясение еще не отпустило его, оно было слишком сильным, чтобы Ярда мог сосредоточиться. Что может означать эта загадочная экскурсия под руководством его молчаливого спасителя? Деньги, голубые марки лежат у него в кармане, их было много; по сравнению с большинством обитателей Валки Ярда стал богачом. Он на миг закрыл глаза. Под сгнившей крышкой гроба оказалась не только свинцовая жесть.
«Существует последняя граница, минуя которую человек утрачивает подобие образу божьему…»
Нет, они не повинны в этом, они шли только за свинцом. Свинцу — цена несколько марок. Перстни и золотая цепь были для них случайной находкой.
Мороз пробежал по спине у Ярды. До чего он докатился! Если бы не было того дня, вскоре после их прибытия в Валку, осенью прошлого года! Авторемонтная мастерская, мотор, сильно стучавший, клещи с желтыми ручками. Начало его карьеры. Но его друзья — они удержались и не переступили грани.
Деньги. Он ощущал их у себя в кармане. Впервые в жизни они ему так мешают. Если бы он мог выбросить их, а вместе с ними и те деньги, которые были получены за хвосты лошадей Рюккерта, и этим вычеркнуть из памяти позавчерашнюю ночь, глухой хруст тоненьких, совсем невесомых косточек, которые когда-то были человеческой рукой… Освободить сознание от той проклятой ночи и уже никогда о ней не вспоминать и не слышать! Если бы можно было уснуть, проспать всю эту паршивую Валку и проснуться в каком-нибудь ином мире… Где? Дома? На пороге тюрьмы, куда тебя посадят за украденные полуоси? Эх, в каком же заколдованном кругу ты очутился, Ярда!
Он механически шагает рядом с патером. Стекла витрин отражают его рослую, спортивную фигуру и привлекающую внимание прическу. То здесь, то там девушки заглядываются на него, но Ярда не смотрит на них. Этот человек в черной сутане, идущий по правую руку, сегодня спас его. Но Ярда чувствует, что сейчас он стоит перед чем-то неведомым. В наше время чудес не бывает. Его не посадят, нет, теперь уже его определенно не посадят. Кто отважится усомниться в клятве священника здесь, в стране, где господь бог до сих пор так высоко котируется? Вот если бы патер Флориан еще сумел своим святым словом заглушить в нем голос, существование которого он, Ярда, всегда высмеивал. Совесть — понятие, которое было для Ярды просто пустым звуком, — сегодня впервые и в полную меру дала о себе знать.
Ярда почти не заметил, как они очутились за мраморным столиком кафе. Здесь не громыхал оркестрион, не бродили девицы с сигаретами в зубах, официант кланялся учтиво, и вот патер уже что-то заказал, не спросив Ярду. Через два стола от них села элегантная дама в фиолетовой шляпке. Женщина была лет на десять старше Ярды. Она непринужденно закинула ногу на ногу, беззастенчиво уставилась в лицо Ярды и закурила.
Патер размешивал кофе, потом поднял глаза; непосредственность его слов была как удар молнии.
— За твой позавчерашний трюк полагается от шести до восьми лет тюрьмы. За сан епископа тебе набавят не менее двух лет. Год-другой накинут как бесправному беженцу и что-нибудь сверх того — для острастки беженцам во всей Германии. Года не пройдет, как у нас дома будет государственный переворот, а ты на десять лет сядешь в нюрнбергскую тюрьму размышлять о том, как выглядит жизнь в освобожденной Чехословакии.
Ярда отодвинул чашку и два раза глотнул воздух.
— Вы же говорили, что готовы присягнуть…
Патер отрицательно покачал головой.
— Католический священник не может давать ложной клятвы.
Ярда побледнел. Фиолетовая шляпка напротив расплылась в какой-то неопределенной серой дымке.
— А… что же теперь?..
Патер Флориан усмехнулся.
— Только один путь. Попытайся загладить свой грех службой во имя того, перед кем ты тяжко провинился.
Ярда понял, и ему стало чуть легче.
— Но я не верю в бога, — начал он довольно уверенно, в его глазах мелькнула искорка дерзости, которая входила в его душу через ту же дверь, через которую улетучивался страх.
Женщина напротив время от времени подымала глаза от журнала мод и гадала, чего она может ожидать от двадцатитрехлетнего визави, однако ей, к удивлению, никак не удавалось установить с ним контакт. Мальчишка смотрел мимо, как будто сквозь нее.
— Я сижу с тобой не для того, чтобы дискутировать, — патер резко звякнул чашкой по блюдцу. — Пойми. Полиция держит в руках двух преступников. Этим двоим уже не выкарабкаться. У них нет причин быть рыцарями по отношению к тебе, да они и не знают этого чувства. Не пройдет и нескольких часов, как за тобой придут снова. На этот раз тебя не спасет ничто!
Ярда облизнул сухие губы. Тон, которым патер говорил, не оставлял никаких надежд.
Святой отец посмотрел на свои ручные часы.
— Выбирай побыстрее: Ватикан или Си-Ай-Си.
Ярда несколько мгновений тому назад начал догадываться, о чем речь, но категоричность, с которой были произнесены последние слова, ошарашила его. У него даже дух захватило. Он лихорадочно старался сосредоточиться и злился, что в такой решающий момент его отвлекает фиолетовая шляпка. «Вы тут меня соблазняете, милостивая государыня, вам только и забот, что о постели, а дело идет о моей голове». Это наверняка вдова какого-нибудь эсэсовца. Теперешняя Германия кишит такими жадными до жизни отцветающими бабами.
Нет, ничего другого не придумаешь. Он загнан в угол, дурак. Из него могут сделать мальчика для битья. Руки на решетке тюремного оконца, как у обезьяны в клетке зоопарка, круглый каравайчик хлеба на полке, неутихающий рык воды в унитазах — отвратительный звук, во много раз усиливающийся резонансом огромной коробки здания. Опухший глаз в центре огромного синего кровоподтека, прикушенный при ударе в челюсть язык. Вот и весь выбор. Правда, патер немного хватил через край: столько лет, может, и не дали бы, но лет восемь закатят как пить дать. Ведь епископ — это не какой-нибудь тряпичник. Чертовское невезение! Сколько было на кладбище могил обыкновенных покойников и только одна епископа! Но с другой стороны… Шестьсот марок в месяц, два костюма на год, из них один — сшитый на заказ. Только сумасшедший мог бы еще раздумывать.
Фиолетовая шляпка откинулась назад, пунцовые губы выпустили длинную струю дыма, порочные глаза долго, вприщур, с вызовом смотрят в глаза Ярды. Такие многообещающие взгляды женщин совратят с пути истинного даже святого! И вдруг Ярда поистине с юмором висельника ухмыльнулся — что же, в конце концов в такой жуткой ситуации разве это не счастье? Еще несколько дней тому назад он был тягловой скотиной у Рюккерта, еще два часа тому назад он был на краю пропасти, а сейчас он стоит перед началом новой, неожиданной карьеры!
Разве можно позабыть две беззаботные недели в Мюнхене, деньги, роскошную жратву, девок и самое настоящее виски?
Только на секунду у него сверкнула мысль: почему, собственно говоря, в тот раз они две недели подряд отвергали предложения их симпатичного друга? Тогда было что-то, запрещавшее ему согласиться, что-то, дававшее ему чувство моральной победы, когда наконец он садился в поезд, повезший их в Нюрнберг. Где сегодня это «что-то»?
Ярда погасил окурок сигареты и пожал плечами в ответ на свои собственные мысли. Изменилось положение, изменилась и оценка тогдашней победы. Кто может отнять у него право на чувство самосохранения? Жить нужно, вот и все.
Он глубоко вздохнул, посмотрел в пронизывающие глаза соседа и с каким-то чувством облегчения прошептал:
— Лучше второе.
Ни один мускул не дрогнул на лице патера. Он молча расплатился, и они встали. Уходя, Ярда посмотрел на фиолетовую шляпку и ободряюще улыбнулся: не унывай, дескать, милая дама, возможно, вскоре я объявлюсь здесь снова и буду одет получше. Тогда мы сговоримся. Гуд бай!
Его озадачило то, что они пошли обратно не в сторону Мерцфельда. Шли недолго. Патер остановился перед входом в дом современной архитектуры, похожий на бывший банк. Знакомая, не слишком бросающаяся табличка возле двери: «Counter Intelligence Corps».
Ярда взял патера за рукав.
— Не сразу же, ведь…
Патер снисходительно посмотрел на него.
— Хочешь вернуться в лагерь? Так лучше уж иди с повинной в уголовный розыск, сэкономишь по крайней мере расход на автобус.
19
Майские сумерки опустились на лагерные бараки. С футбольного ноля были слышны заглушаемые расстоянием выкрики и удары по мячу. Какой-то глупый майский жук, заблудившись, с шумом влетел в открытое окно Каткиной комнаты и вдруг замер на чьих-то нарах. Унылый звук губной гармошки смешивался с потрескиванием горящих дров — кто-то варил на костре раннюю брюкву, украденную в соседнем парнике.
Появился курьер из канцелярии. Катку вызывал к себе папаша Кодл.
Она брела по главной улице. Почему ее вызывают теперь, под вечер? Она привычно насторожилась, еще издали стала смотреть, опущены или нет шторы на окнах конторы. Нет, не опущены. Где-то в траве громко стрекотал сверчок. Майский вечер благоухал ароматом цветов. Некоторым молодым людям такой вечер, вероятно, навевал тоску… Кодл все же не посмел бы так открыто вызвать ее, если бы…
— Садись, дочь моя, — сказал Кодл, едва подняв глаза от бумаг на столе.
Возле него его правая рука — Медвидек недовольно ерзал по стулу своим широким задом, тонким женским пальцем водил по столбцу цифр, а другой рукой в задумчивости мял кончик своего носа. Папаша Кодл между делом попивал кофе; из чашки торчала ложечка, она мешала ему, но он ее не вынимал. Кодл широко зевнул, но тут же спохватился и с опозданием прикрыл рот ладонью.
— Есть для тебя новость, девушка, — Кодл заложил руки за спинку кресла и вытянул под столом ноги. Его лягушачья физиономия расплылась в добродушной, немного нетерпеливой улыбочке. Он помолчал минутку, наслаждаясь ее волнением. — Я разыскал адрес этого… твоего…
Катка встала и, покачнувшись, схватилась за спинку стула. Прядь волос упала ей на висок, она убрала ее, но волосы снова упали на лоб — она уже не замечала этого, она улыбалась, сжимая спинку стула. Тысяча вопросов вертелась у нее в голове, но она не знала, с чего начать. Наконец она с трудом выговорила:
— Где?
Кодл просунул руку в расстегнутый ворот рубашки, из которого торчал клок седых волос, и почесал грудь.
— Франкфурт-на-Майне, — произнес он громко, сгреб бумаги и прихлопнул их пухлой ладонью.
— Дайте адрес, я поеду туда.
Папаша Кодл выловил из ящика бумажку, старательно переписал адрес на другой листок и под словом «Франкфурт» сделал эффектный росчерк. Катка с волнением читала фамилию мужа, название улицы и зажала бумажку в кулаке, точно боясь ее потерять.
— Вы так добры, как вам удалось узнать?
— Не верь тому, что я добр, — несколько театрально развел он руками и наклонил кудрявую голову набок. — Иногда человек чувствует потребность доставить кому-нибудь радость — даже здесь, в этом паршивом лагере. Это необходимо для самого себя… — Он отмахнулся от ночной бабочки, кружившей над абажуром зажженной лампы. — Послезавтра я еду в командировку во Франкфурт. Можешь поехать вместе со мной.
— Я хотела бы ехать завтра.
— Поступай как знаешь, девонька. Думаю, что я мог бы тебе кое в чем помочь. Может быть, тебе что-нибудь понадобится в официальных учреждениях. Неизвестно, будет ли у тебя возможность заночевать у мужа. Всякое может случиться…
— Я остановлюсь в гостинице.
— Душечка! — всплеснул руками папаша Кодл. — Посмотришь, что осталось от Франкфурта. Гостиница под открытым небом «На зеленой травке» — мест, наверно, там достаточно! В уцелевших отелях живут американцы, — заключил он повеселев.
У Катки опустились руки. А он встал и начал надевать пиджак. И Медвидек сгреб свои бумаги, готовясь уходить.
— Пардон, чтобы голубка не имела никаких опасений, — тут папаша Кодл просунул одну руку в рукав, тогда как другая зацепилась запонкой манжета за подкладку, и на некоторое время он беспомощно замер, растопырив руки, как огородное чучело, — сообщу тебе, что еду я не один. Иозеф Хаусэггер, ресторатор из Мерцфельда, поедет со мной по своим торговым делам, так что охрана тебе обеспечена, и какая, — сто двадцать кило. О, черт! — выругался он, когда подкладка рукава наконец с треском разорвалась.
Катка в нерешительности глядела в окно, за которым медленно густели сумерки. Этот человек вызывал в ней отвращение, но он разыскал адрес ее мужа, да и зовет ее в присутствии Медвидека совершенно открыто. В лагере есть множество людей похуже его.
— Ну что ж, поеду с вами, — решилась наконец Катка.
Мысли ее были уже далеко отсюда.
Утомившаяся бабочка на секунду присела на стол. В глазах папаши Кодла блеснула зловещая искорка. Он подкрался и метким ударом ладони прихлопнул ее.
* * *
Катка проснулась. «Ашаффенбург», — прочла она на транспаранте, медленно уплывавшем назад в сумраке перрона. Поезд ускорял ход. Сигнальные фонари на стрелках вздрагивали, справа открылась местность, покрытая редким леском.
— Тут граница Шпессарта. Скоро начнутся холмы Веттерау, — важно оповестил Хаусэггер, довольный тем, что Катка наконец выбралась из своего убежища в углу у окна.
Слева близко к железнодорожному полотну подходила излучина серо-зеленой реки.
— Майн! — вскричал Хаусэггер и встал. — Сколько рыбы ловили мы здесь мальчишками! Да, прошли те времена! — произнес он растроганно и потряс двойным подбородком. — А там, — ресторатор взволнованно поддернул штаны и протянул огромную лапу. — Эта башня за рекой — Зелингенштадт. Через несколько минут будет Ганау, господи боже ты мой! Ведь я, милая девушка, родился в Оффенбахе, а оттуда до Франкфурта рукой подать.
Катка подогнула ноги под скамейку. Хаусэггер, топтавшийся у окна, все время задевал ее колени. Он то и дело приходил в восторг и умиление, размахивая руками, теребил свои выразительные усики, — казалось, будто он первый раз в жизни ехал поездом.
Папаша Кодл, словно извиняясь за своего приятеля, взглянул на Катку. Потом извлек из кармана ножик и стал глубокомысленно чистить ногти, начав с мизинца.
Катка смотрела на грязные, покрытые рябью воды Майна. Провода за окном бежали вверх, затем переметнулись через телеграфный столб, плавно опустились вниз и снова побежали вверх, и так без конца. С запада надвигалась рваная, растрепанная после дождя туча. Катку всегда тревожили незнакомые, новые места, но теперь она едва замечала их. Пестрый калейдоскоп воспоминаний превратил виды за окном в нечто похожее скорее на декорации.
Ганс, ее светловолосый, голубоглазый Ганс кричит ей что-то, она улавливает лишь обрывки фраз — остальное уносит с его губ ледяной вихрь: «Еще пятьдесят метров, Катка, и мы на вершине!» В жизни у него было только две страсти, так утверждал он вскоре после знакомства: Катка и фотоаппарат. И вот захотелось ему фотографировать с горы Радгошть, хотя в тот день на вершине бушевал такой вихрь, будто нечистая сила устроила там шабаш. Они не могли устоять на ногах и карабкались на четвереньках. Неистовый порыв ветра подхватил Ганса. Пятясь, он влетел прямо в дверь туристского домика. Катка вползла следом. Как же весело смеялись они, сидя у жаркой печки в комнатке с занесенным снегом окном! Быстро смеркалось. Катка, усталая и счастливая, лежала на кровати, и весь остальной мир перестал для нее существовать. Только приглушенный страстный шепот и нежные руки Ганса… Впервые в жизни она падала куда-то, закрыв глаза, охваченная неведомой ранее истомой…
— Ганау! — прокричал Хаусэггер, заглянув из коридора в купе. — Вы только взгляните, что эти мерзавцы сделали из нашего Ганау! Пустыню! Спросите трактир, а вам укажут дыру в земле. Чем им не понравился этот город? Идиоты, могли бы теперь поджаривать свои сытые морды на нашем горном солнышке!
— Замолчи, Иозеф! — прикрикнул на него папаша Кодл, хотя в коридоре не было видно ни одной американской униформы.
Колеса вагонов выстукивали свою однообразную мелодию.
…Однажды утром Ганс крикнул ей наверх, в окно, затемненное ветвями цветущего абрикоса: «Еще полчасика — и мы едем!» Она взглянула вниз: на его круглом подбородке — грязная полоса, голубые, как незабудки, глаза совсем не подходят к его круглой физиономии и стройной, мускулистой фигуре атлета.
Знала она эти «полчасика», когда он начинал возиться в изношенном моторишке престарелого «адлера», раздобытого им где-то во время послевоенного хаоса. В полдень Ганс снова крикнул в окно: «Еще четверть часа!» Потом они обедали у гаража, извлекая из рюкзака продукты, уложенные туда утром для прогулки. В четыре часа дня Катка сварила черный кофе, а в пять они наконец торжественно выехали. Ганс, измазанный, уставший, чувствовал себя именинником. Но, едва одолев десяток километров, мотор начал чихать, силы явно покидали его. «Если бы это была не твоя машина, я бы утащил эту гадину в горы и собственными руками столкнул в Мацоху!» Это действительно был ее автомобиль. Однажды, еще до свадьбы, они играли в шахматы. Он проиграл и потребовал реванша и, войдя в раж, поставил на кон свой «адлер», но скоро проиграл, и Катка завладела автомашиной. С тех пор когда ей приходила охота подразнить Ганса, она напоминала о своих правах на его собственность.
— Ни в одной реке на свете нет таких усачей, как в Майне. Э, да вы меня вообще не слушаете, черт возьми! Что же я зря треплю здесь языком? — Хаусэггер широкой ладонью крепко шлепнул ее по колену.
Катка встрепенулась и, улыбаясь, сказала:
— Да, да, я, конечно, слушаю вас.
Поезд замедлил ход: Оффенбах, а через минуту и Франкфурт.
Они обошли жалкие остатки прежнего вокзала. Возле краснели низкие кирпичные стены строящегося нового вокзала. Катка нервно сжимала ручку своего старенького, видавшего виды чемоданчика. Ведь каждый встречный мог быть Гансом. Она никак не могла себе представить, что бы стала делать, если бы действительно встретилась с ним. Какая, однако, бессмыслица — думать, что встретишь его среди сотен тысяч людей!
Умываясь с дороги в маленьком номере второсортной гостиницы, Катка по достоинству оценила присутствие папаши Кодла. Этот человек и здесь был как дома.
После завтрака внизу, в ресторане, он сказал ей:
— Ну, душечка, ни пуха ни пера! — А когда она ушла, тихонько добавил: — Мне ее искренне жаль.
— Почему? — выпучил лошадиные глаза Хаусэггер. — Ты что-нибудь знаешь?
— Ничего я не знаю, друг мой. Но иногда все случается именно так, как мы это себе представляем. Люди получше нас называют это интуицией или как-то еще. Ты вообще когда-нибудь слыхал о такой премудрости, Иозеф?
Катка шла по городу: вновь отремонтированные дома, магазины с хорошими товарами и хорошо одетыми покупателями. Улицы кишат людьми и бешено мчащимися «джипами», визжащими от резкого торможения. Стройные деревья цветут белоснежными и розовыми цветами. Город как будто не пострадал от войны. Трудно понять стратегию войны. Катке вспомнился маленький Ганау, стертый с лица земли, и вот этот большой город, на первый взгляд абсолютно не пострадавший.
Но это только на первый взгляд. Вот кончились торговые кварталы, и перед Каткой развернулась обычная для немецких городов картина: высокие фасады с мертвыми окнами, а за ними — ничто, пустота, покачивающаяся походка мужчин на протезах и выцветшие воинские фуражки, нескончаемые заборы, украшенные афишами и обольстительным лицом Риты Хейворт. Зеленые газоны на месте жилых домов, квадратные заплаты на мостовой — следы воронок. Франкфурт — город контрастов, бесшумных «крейслеров» и деревянных тележек для безногих, город элегантных жен американских офицеров и обносившихся немецких вдов, высококачественного сукна новых мундиров и обтрепанных пустых рукавов, заткнутых за ремни. Короче, Франкфурт — символ сытой жизни западных победителей и бедственного положения западных побежденных.
Катка идет, стараясь превозмочь возрастающее волнение. Она давно уже знает адрес наизусть и все же сжимает бумажку в руке, как будто в этой бумажке гарантия, что она найдет Ганса. Она остановилась перед пустырем. Здесь, по-видимому, некогда была площадь, на выровненной земле можно еще заметить следы бывших улиц, то тут, то там уцелевшие дома. Посреди площади — огромное, высотой с четырехэтажный дом, сооружение из бетона без окон, местами почерневшее от копоти. Катка безуспешно искала нужный ей номер дома. Она даже заподозрила, что над ней насмеялись, но тут же отбросила эту мысль. Таких негодяев земля не носит! Катка в смущении протянула бумажку с адресом оказавшейся поблизости женщине и с ужасом заметила, что у немки правая рука кончается запястьем.
— Здесь, — женщина указала культяпкой на чудовищную массу бетона. — Вход с другой стороны.
Катка обошла бомбоубежище. Маленький вход, подобный летку в огромном улье… Катку встретила женщина в форме Армии спасения[119].
— Слава всевышнему. Койка стоит десять марок в неделю… Ах, так… Господин Тиц? Посмотрим. — Она повела посетительницу коридором в канцелярию. По дороге Катка краем глаза заглянула в одну из дверей — походная американская койка, голубоватый свет от электролампы, непрерывное мурлыканье вентиляторов, уборщицы в чепчиках, чистота.
— Тиц… Тиц… — Сухой палец ползет по странице книги учета жильцов. — Тиц Вольфганг — второй этаж, номер сто двадцать восемь.
Катка отрицательно покачала головой.
— Тиц Ганс.
Сухой палец с грязноватым ногтем снова пополз по столбцам имен и споткнулся у одного перечеркнутого имени.
— Тиц Ганс переехал отсюда три месяца назад.
Книга учета поплыла перед глазами Катки и растаяла в серой дымке.
— Куда? — Она отступила на полшага и прислонилась к стене.
— Не знаю, оставил ли он адрес. Сейчас посмотрю.
Уже давно Катка не молилась, но сейчас ее пересохшие губы зашептали молитву, она так сильно сцепила пальцы обеих рук, что побелели суставы. Боже, если ты вообще существуешь, то не допустишь, чтобы на голову одного человека обрушилось столько зла!
В железных трубах под низким потолком тихонько журчит вода, вентиляторы едва слышно мурлычут в канцелярии, в коридорах, в спальнях. Бесконечно долго перебирает сухая рука карточки в ящике, наконец она берет перо и пишет два слова на листочке.
— Ваше счастье. Бог к вам милостив.
Катка снова шагает. Иногда даже бежит. Наконец надпись на эмалированной табличке совпала с той, которая была у нее на записке. Улица напоминает старушечью челюсть, уже утратившую большую часть зубов. Нескончаемо длинный забор, на нем гигантская реклама: «Курите сигареты Атос», за забором — скелет разрушенного здания, заржавевшие траверсы, остатки машин. У Катки дух захватило: неужели тот дом, который она ищет, тоже разрушен? Нет, что за чепуха! Ведь он переехал сюда всего лишь три месяца тому назад. Она с облегчением вздохнула. Вот наконец понурый, облупившийся одинокий дом. На штукатурке между окон следы пулеметных очередей.
Катка вошла. Затоптанные ступени, детские каракули на тусклых стенах лестничной клетки, длинная галерея, выходящая во двор, вся завешана бельем. Катка обращается к женщине, склонившейся над лоханью с грязной водой. Та испытующе посмотрела на красивое лицо Катки.
— На самом верху, у фрау Хогаус, барышня.
Катка взбирается наверх, сначала быстро, потом все медленнее и медленнее, на последней площадке она прижимает руку к сердцу и не может отдышаться: сердце бьется, как птичка в западне! Сейчас Катка увидит его…
Через полминуты, через двадцать секунд, через десять… Два года разлуки. Уже год — ни строчки. Ведь это же будет настоящим чудом, если он еще… У нее недостает сил додумать мысль до конца. Волна мертвящего страха захватила ее, она на минуту прислонилась к стене. Почему она так боится предстоящего мгновения, которого уже нельзя избежать?
В глубине двора одинокая черешня — вся в белом цвету. Под ней возится целый выводок детишек.
Латунный щиток на дверях: «Гизелла Хогаус».
Катка нажала кнопку звонка, а ладонью держится за горло — ей кажется, что оно распухает. Тихо. Только кухонные ходики громко тикают за дверью. Она снова прикоснулась к звонку. Спазма отпустила: дышать стало легче. Катка заглянула в грязноватое окно: кухонный беспорядок, таз с немытой посудой на скамье, неубранный после еды стол.
Из соседней квартиры выглянула седовласая женщина со строгими глазами, платок у нее съехал с головы на плечи.
— Фрау Хогаус придет после обеда.
— А господин Тиц?
— Он уехал утром, вернется ночью. Он оставил у меня письмо на тот случай, если его спросят. — Она исчезла, но вскоре вернулась с голубым конвертом. — Но письмо для господина Вольфа. Вы от господина Вольфа?
Катка душит в себе вопрос, тысячу вопросов: как выглядит Ганс, чем занимается, здоров ли, кто эта Гизелла Хогаус, сколько ей лет — тридцать или шестьдесят? Но у нее не хватает решимости.
— Я приду завтра утром, — только и смогла она прошептать.
Медленно спускаясь по лестнице, она почувствовала страшную усталость. Разочарована? Еще и сама не знает. Ждала два года! Что по сравнению с ними один день? Ганс жив. Сегодня утром он ступал по этой же лестнице. Ганс живет здесь, его знают, он существует!
В конце последней лестничной площадки, перед общей уборной переминается с ноги на ногу старец в комнатных туфлях, потом, не выдержав, стучит кулаком в запертую дверь и бранится. Катка идет мимо, медленно спускаясь вниз. Женщина, склонившаяся над лоханью, провожает ее сверлящим взглядом. Тысячи мыслей, сменяя одна другую, теснятся в Каткиной голове. Почему Ганс не прибил к дверям табличку со своим именем? Выйдя, Катка оглянулась вокруг: залатанное, пожелтевшее белье болталось на шнурах, перепачканные дети оглушительно кричали во дворе, из какого-то окна пронзительно визжало радио.
Катка вспомнила свою квартиру в тихом домике в предместье: гараж с их знаменитым «адлером», садик. Человек мог там полежать на травке, сорвать абрикос, выпить стакан чаю, сидя в шезлонге. Избалованный, шумливый Ганс! Она смеялась над его чрезмерным Seifenkultur[120], как он говорил. Да, не сладко, должно быть, жить здесь! Но кто в Германии, кроме иностранцев и горстки имущих, живет лучше?
Катка бродит по улицам Франкфурта. Готический храм — собор святого Варфоломея, сказали ей прохожие, широкие проспекты, женщины, еле выговаривающие английские слова. Какая странная мысль — этот город станет ее городом, она будет жить в нем! Но… возможно ли это? Ганс — ее муж, сегодня утром он уехал, а ночью вернется, и завтра…
Нет, в жизни все не так просто. Тут что-то не то. Кто знает, сколько времени живет Ганс во Франкфурте. И не написал ей ни строчки, не разыскивал ее. А может быть, писал, но мама утаила его письма. Бессмыслица. Чего ради она стала бы так делать? Сама-то она посылала дочери письма окольными путями. Сколько печали и тоски на четырех страничках, и ни единого стона по поводу своего здоровья! Не стала бы она так жестоко мстить. Она ведь знает, что Катка убежала из дому только из-за тоски по Гансу.
Ее компаньоны пытались за ужином поддерживать разговор, но Катка быстро поднялась, чтобы идти спать.
Хаусэггер, не понимая, подмигнул своему приятелю. Папаша Кодл по-отцовски положил ладонь на Каткину руку.
— Иди, голубка, приятных сновидений. До утра немного осталось ждать — выдержишь. — Он извлек из кармана и подал ей апельсин. — Фрукты на сон грядущий — это полезно. — В ответ на ее удивленный взгляд Кодл спокойно добавил: — Пришла посылка от чикагских братьев для туберкулезных больных.
В номере Катка положила апельсин на столик. Проговорился папаша Кодл или он ее совершенно не стесняется? Катка вдохнула запах апельсина. Уже два года, как она не пробовала апельсинов. Не ела их и мать двоих детей, умиравшая в ее комнате в Валке от рака, не доставались они чахоточной Марии Штефанской. Катка не стала есть апельсин. Она решила взять его завтра с собой и угостить Ганса. Он, наверное, не покупает себе апельсинов.
Перед сном она подошла к двери и повернула ключ на два оборота.
— Ничего не понимаю! — Хаусэггер шлепнул себя ладонью по лбу.
Папаша Кодл глубокомысленно прочищал зубочисткой щербинки между широкими зубами и щурил мышиные глазки.
— Еще не то бывает на свете. Один нацист, которого звали фон Паулюс, славно начал свой поход на Восток. Он уже считал венок победителя своим и хлестал по этому поводу шампанское в подвале сталинградского универмага, и вдруг Паулюс полетел вверх тормашками, а заодно с ним триста тысяч вояк… Теперь ты ломаешь свою дубовую башку, какое все это имеет отношение к Катке, да? Возможно, вся история действительно притянута тут за волосы. Ладно, Иозеф, вот посмотри.
Папаша Кодл положил на стол бумажник из блестящей крокодиловой кожи.
— Отобрал у одного еврея в сорок первом году, — папаша Кодл постучал по бумажнику пальцем, — а все еще как новый. Эти люди правильно говорили: дорого, да мило. — Кодл раскрыл бумажник. Первое отделение было набито марками. — От братьев из Чикаго и от братьев, которые хотели бы попасть в Чикаго. So ist das Leben![121] — Кодл хлопнул Хаусэггера по спине и поднял недопитую рюмку коньяку. — Да здравствует твоя старуха, а заодно и моя — пока они далеко! О сегодняшней ночи, Иозеф, девки во Франкфурте долго будут вспоминать!
* * *
Катка шла по уже знакомым ей улицам. Сегодня под безоблачным небом весна ликовала еще больше. Как быстро человек привыкает к хорошему и забывает дурное! Катке казалось, что она здесь почти как дома. Она уже хорошо знала название улицы вот за тем угрюмым углом. По скверику с шумом бегали дети, однорукий продавец раскладывал на лотке, который висел у него на ремне, разные сорта сигарет и табака. Полицейский с ехидной усмешкой взимал штраф с расстроенного пешехода за нарушение правил уличного движения. Жизнь такая же, как и была! А лагерь Валка теперь казался ей бесконечно далеким, его словно никогда и не было в действительности.
Но вот снова испещренные каракулями стены и затоптанная лестница. Ее рука дрожит, нажимая кнопку звонка у знакомой двери. Но на звонок никакого ответа. Только ходики в кухне громко тикают, и ее бедное сердце готово выскочить из груди. Наконец где-то в глубине квартиры кто-то зашевелился, громко зевнул, послышалось шарканье шлепанцев. Ключ в замке повернулся, и дверь распахнулась. Заспанные глаза широко раскрылись и замерли от изумления, лицо с чужими светлыми усиками вытянулось и застыло, словно парализованное, губы в мгновение ока посинели, как при тяжелом сердечном припадке, рука механически поднялась и, трясясь еще сильнее, чем у Катки, легла на непроизвольно раскрывшийся рот.
— Кэтэ…
— Ганс. — Голос ее внезапно охрип, Катку сильно знобило.
Какая-то внутренняя сила влекла ее броситься Гансу на шею, но разум воспротивился этому. Однако она чувствовала, что вот-вот не устоит и прижмется к его груди. Но руки Ганса равнодушно повисли вдоль тела. Они только тряслись, как в лихорадке.
— Заходи, — произнес он по-немецки. Ганс хотел сказать еще что-то, но слово застряло у него в горле, и он только смешно пискнул.
Катка вошла. Ганс, повернувшись к ней спиной, начал шарить по остывшей плите — там были сигареты, он никак не мог их нащупать, точно потерял способность видеть. Ганс уронил коробок, и спички рассыпались по полу. Ошеломленный, стоял он, позволив Катке подобрать и подать ему спички. Потом он ломал их одну за другой, наконец зажег и, закурив, бросил горящую спичку на пол.
— Проходи, садись, — пролепетал он, неуклюже пропуская ее в комнату.
На нее пахнуло спертым воздухом непроветренной комнаты, в которой спали люди. Катка в оцепенении, будто лунатик, присела на краешек плюшевого кресла. Ганс, расслабленный и безвольный, сел на измятую постель.
— Почему… ты не писал? — еле вымолвила она по-чешски. Ее пальцы, нервно терзавшие плюшевую обивку, начали успокаиваться. Самое горькое уже миновало, самое горькое…
Человек на кровати смотрел на сигарету, дымившуюся в его пальцах, пожелтевших от никотина, пепел падал на его вылинявший халат, надетый поверх пижамы; лицо Ганса казалось опухшим и каким-то пористым, волос на голове стало явно меньше, под глазами мешки. Чужие, неприятные усики торчали под носом, но форма рта была прежней. Лицо постарело лет на десять. Это, может быть, не ее Ганс?
— Я хотел… сначала закрепиться, — с трудом выговорил он по-чешски, но с немецким акцентом. Это больно ударило Катку в сердце.
— Ну и что — закрепился?
По-прежнему голубеют его глаза, только теперь они подернулись дымкой. Может быть, это дым от сигареты?
Катка несмело огляделась. Большая комната, переполненная старомодной износившейся мебелью, на окнах темно-красные занавески, на столе путаница вещей: книга с готическими буквами на обложке, какое-то шитье, кастрюлька; между окнами — зеркало в золоченой раме, но облезлая амальгама образовала на многих местах фантастические рисунки. Катку передернуло: у противоположной стены еще одна неубранная постель. Катка боязливо поискала глазами дверь в другую комнату, но нет, другой комнаты не было. На второй кровати валялась женская ночная рубашка.
Ганс заметил ее встревоженный взгляд.
— Арендую угол, — сказал он раздраженно. — Негде жить. Ты не знаешь, что собой представляет Германия…
В соседней квартире громко говорило радио, к его назойливому звуку примешивался детский плач. Это действовало Катке на нервы. Почему никто не успокоит ребенка?
— Знаю, что собой представляет Германия, — прошептала она. — Я здесь уж год с четвертью.
Казалось, он не слышал ее последних слов. Ганс растер окурок в переполненной пепельнице и встал.
— Пойдем, — голос его окреп и звучал сухо.
Ганс начал одеваться прямо при ней; сначала это ее покоробило, но тут же она подумала: «Ведь он мой муж»; однако другая мысль обожгла ее: возможно, что так же он одевается и перед той. В кухне Ганс надел шляпу, как-то по-новому, сдвинув на затылок, не так, как всегда; с лестничной площадки он вернулся, сгреб с плиты сигареты и втиснул их в карман, потом еще раз возвратился — забыл запереть квартиру. Только на улице он повернул к Катке небритое лицо и спросил в первый раз:
— Откуда ты приехала?
— Из Валки.
— Лагерь?
Она кивнула. Они шагали друг подле друга, и Катка подумала, что это все сон. Эмигрантам нередко снятся страшные сны. Вот сейчас она проснется, увидит перед собой темные доски верхних нар, и это будет лучше.
Но напротив, за забором, светился на солнце бетонный скелет бывшей фабрики, на улице боярышник цвел розовыми цветами и одуряюще пах весной. Что-то в ней нарастало, грозило вылиться через край. Это была долго подавляемая тоска по взаимности, сердечности, былому теплу…
— Больше года я ищу тебя по всей Германии, Ганс. Дома я бросила больную маму и побежала за тобой, иначе не было смысла жить…
В ответ он совершил нечто неожиданное: на ходу крепко взял ее за руку, из глаз его впервые исчезло холодное отчужденное смятение, он сжал ее руку в своей, и Катка терпеливо переносила боль. В ней вспыхнула трепетная надежда.
Потом они уселись за столик в окраинном кафе. Катка собралась с силами и улыбнулась ему.
— Опять мы вместе, Ганс, как в тот раз, впервые, когда ты подсел… И это тоже было весной, помнишь?
Он посмотрел в окно.
— Весна. Ты права, весна, — сказал Ганс с удивлением.
Он заметил апельсин, который она положила на стол, взял его в руку и осмотрел, как будто видел впервые в жизни, и наконец обратился к ней с немым вопросом.
— Это тебе. Я его получила в подарок.
Ничего — ни улыбки, ни слова. Апельсин желтеет на столе — диковинка.
Катка старалась мобилизовать все свое мужество. Ей очень хотелось расспросить Ганса, но она боялась его ответов, вдруг зашла в тупик со своей женской тактикой. Она сидит беспомощная, пусть будет что будет, она бессильна как-то влиять на ход событий. Их взаимное молчание продолжалось. Но ведь это он должен рассказать что-нибудь о себе ей, своей жене. Но Ганс молчал и лишь пристально рассматривал ее, как мужчина, который в первый раз встретился с интересной девушкой: оценивал ее лицо, глаза, цвет волос, фигуру.
— Ты все это время жил… здесь, во Франкфурте?
Он отрицательно покачал головой.
— С прошлого лета.
— А перед этим?
Рука его, зажавшая сигарету, снова затряслась.
Катка крепко сжала сумочку на коленях.
— Смотри, Ганс, — пересилила она себя опять. — Я… я не изменилась. Минуло два года. Я могла бы сегодня жить, в общем, хорошо, иметь дом, работу, родину. Но я всем этим пожертвовала… Теперь ты сидишь напротив меня, но это кто-то другой, не ты. Возможно, тебе нужно привыкнуть, может быть… Только одно ты должен уяснить: все хорошее, сильное, что пережили мы с тобой, обязывает и тебя, Ганс…
Его ногти тихонько и ритмично отстукивали какой-то ритм на мраморной доске столика.
— Ты говоришь, минуло два года. Как быстро течет время, Катка… — Пролитая лужица коньяка на столе привлекла его внимание. — Но и сегодня Германия еще полупустыня. А ты знаешь, как она выглядела два года тому назад? Вавилонское столпотворение, хаос, миллионы людей на пепелищах. Деятельность, работа, возрождение? Гиссен — бывший концлагерь, выбирай, пришелец, барак, в котором в сорок пятом люди умирали от сыпного тифа, либо дыру в земле, прикрытую гофрированным железом. Бери лопату, убирай обломки. Сегодня, завтра, послезавтра, до бесконечности. Дадут тебе за это ночлег и ужин, а что дальше? Битый кирпич, мусор разрушенных зданий, ржавые лужи в воронках, руины и руины без конца и края. Смотришь на них, ковыряешься в них лопатой день за днем. Пыль слепит глаза, проникает в кровь, в мозг… И начинаешь думать, что ты сам прах и тлен, развалина. Кирпичная крошка и известковая пудра… Роешься в них и все находишь и находишь вещи, которые служили живым. Никто уже их не спросит — хозяева мертвы.
Рука Ганса отяжелела, удары пальцев по столику усилились.
— Разве нет здесь более светлой воды, чем ржавые лужи между развалинами?
— Нет, Катка. Суть нашей действительности — это разрушение. Что мы, молодые? Живем с постоянным ощущением смерти в душе. Никогда из нас не выветрится этот жуткий запах крови и глины, гари пепелищ. До победы был один шажок, но вместо этого перед нами разверзлась пропасть. Погибшее поколение…
— Но ведь я… приехала к тебе…
— Ты что думаешь? — оборвал он грубо. — По-твоему, мы возьмемся за руки и поедем вместе в Чехословакию? Нет, нет, эта огромная пустыня, этот лагерь оборванцев, мертвецкая под вывеской «Германия» — все это теперь и твоя родина… Что ты вообразила?
— Прежде ответь мне… — глухо сказала она, наперед зная ответ, — та вторая кровать в твоей комнате…
Он криво усмехнулся.
— На кухне плохо закрывался газовый кран.
Катка покраснела, не зная, что сказать дальше. Ганс отпил коньяку, облизнул губы; волосы его падали на лоб.
— Зелла. Нет смысла скрывать — я живу с ней. У меня не было ни работы, ни денег, а она служит…
С того момента, когда Катка увидела вторую незастланную кровать в его комнате, она спрашивала себя, как ей быть, когда… Теперь к леденящему кровь замешательству, вызванному его признанием, припуталась еще внезапно возникшая перед глазами картина: раскаленная печка, завьюженное окно, она, Катка, на койке с руками, безвольно закинутыми за голову, и его руки — руки любовника. Головокружение и вой метели снаружи…
Внезапная физическая страсть захватила ее. Два года тоски по нем, и это прозябание в Валке…
Катка сжала руками край столика.
— А что ты думаешь о будущем?
Ганс глубоко вздохнул, его глаза стали блуждать по Каткиному лицу, оглядев ее всю: лоб, рот, плечи, грудь. Одно мгновение это были снова его прежние глаза, ей показалось, что в них промелькнула надежда, ожившее желание, но тут же эти глаза помутнели, какая-то тревога отразилась в них. Так, наверно, бывает с потерпевшим кораблекрушение. Вот он уже у берега, почувствовал дно под ногами, но отхлынувшая волна вновь безжалостно уносит его прочь.
Какой-то толстяк в дальнем углу зала встал, едва не стянув большим животом скатерть со стола, и направился прямо к Гансу.
— Господин Тиц! Так что ж, старый ловелас? — загудел он по-немецки. Толстяк оперся обеими руками о мраморную крышку стола с таким видом, будто Катки здесь вовсе и не было. Его локоть чуть не касался ее лица.
Ганс нервно завертел головой.
— Мне сейчас некогда… понимаете…
— Ах, вам некогда, еще бы, — с усмешкой произнес толстяк, выпятив живот и заложив назад руки. — Вам так же было некогда добросовестно отремонтировать мою машину. Наговорили вы мне: новые, мол, подшипники поставил, отшлифовал, то да се! Так я вам скажу: коробку скоростей я разобрал, да! Приходите, посмотрите на ваши «новые» подшипники! Надувать чужих людей — это я еще понимаю, это право каждого коммерсанта, но обман хороших знакомых называется жульничеством, да!.. — И, не обращая больше внимания ни на Ганса, ни на Катку, толстяк отошел и скрылся за портьерой, висевшей перед дверью уборной.
Катка сидела как в воду опущенная. Только через некоторое время она отважилась поднять глаза.
— Что это значит?
— Что? Я теперь самостоятельный хозяин. Иногда удается заполучить какую-нибудь старую автомашину и реставрировать ее.
— И «адлер» случается?
Ганс передернул плечами, пристально посмотрел ей в лицо и без тени улыбки ответил:
— И «адлер», почему бы и нет…
Кромка его манжета, торчавшего из-под обтрепанного рукава, была желта, воротничок пропитался потом. Ах, как раньше заботился Ганс, чтобы белье было безукоризненно чистым! А теперь и лицо небритое, хотя, конечно, она подняла его с постели и у него не было времени для бритья. На отвороте его пиджака был приколот значок. Ганс раньше смеялся над всякими значками. Впал в детство, что ли?
Внезапно Катке стало его жаль: этот затравленный взгляд, усталое постаревшее лицо, значок на лацкане — она стала упрекать себя за сумасбродство. Этот человек живет здесь с чужой женщиной. Что же еще, собственно говоря, совершил он, кроме того, что покинул Катку?
— А… как твое увлечение естественными науками? — сказала она, превозмогая себя.
— Бывших офицеров запрещено принимать в высшие учебные заведения. Только теперь решается вопрос о нашей реабилитации. Нас обвиняют во всем, только нас. О тех, кто устроил путч в сорок четвертом, уже забыли. Но это изменится, иначе быть не может. Нельзя мстить за старые несправедливости новыми!
— А музыка? — прошептала она.
— О фортепьяно я не имел возможности даже думать. Дома у меня есть труба — на случай, если бы я стал пожарником. Но в армии я с ней не хочу иметь ничего общего.
— В какой армии?
Он допил коньяк и вытер губы тыльной стороной ладони.
— В германской, разумеется.
Она, как от удара, откинулась на спинку стула, а дрожащие руки положила на стол.
— Идет разговор, что Германия обязательно воссоздаст свою армию, — не обращая внимания на ее волнение, пояснил Ганс.
— Но какое ты к ней имеешь отношение?
— Я, Катка, вступлю в нее.
Она побледнела.
— Ты говоришь это серьезно?
— Самым серьезным образом. Так продолжаться не может. У нас отобрали восточные земли. Смотри на демаркационную линию: шестьдесят миллионов сардинок втиснули в измятую, ржавую жестянку и назвали ее «Германия». На самом деле это пустыня, пепелище, тут негде ни повернуться, ни вздохнуть… Все было почти в наших руках, только эти руки не должны были принадлежать Гитлеру. Не понимал я когда-то нашего полковника, когда он говорил: «Мы должны вовремя выйти из этой войны, чтобы успеть подготовиться к новой». Потом я его понял. Мы не вышли из войны вовремя… А эти идиоты, — Ганс стиснул зубы, — вместо того чтобы быть с нами заодно, наоборот, воевали против нас. Сегодня они хватаются за голову, поделом им, дуракам!
Ложечка в руке Катки вздрогнула и звякнула о тарелку.
— К кому… к кому… собственно, ты присоединился, Ганс? — Катка откинула волосы со лба. — Что случилось с тобой за эти два года?
Он посмотрел на нее с удивлением. Ему, видно, было очень неприятно, что она упрямо говорила только по-чешски. Он хотел что-то сказать, но удержался.
Вдруг у нее мелькнула нелепая мысль: это не Ганс! Ганс подослал кого-то вместо себя, сыграл с ней злую шутку. Вот-вот откроется дверь, и войдет молодой, улыбающийся, тот, ее настоящий Ганс.
«Схожу с ума, — подумала Катка. — Должно быть, я уже рехнулась, но не знаю об этом».
Нет, это не шутка. Этот человек напротив — ее муж! Что случилось с ним и с ней? Кто из них так изменился? Возможно ли, что этому человеку она когда-то посвятила всю свою жизнь, будущее, свою гордость, все? Как могла она так ошибиться в нем? Или он так низко пал в этой ужасной обстановке и потерял свою собственную душу?
— Что это у тебя за значок? — тихо спросила она.
— Союза фронтовиков.
Катка вся съежилась на стуле и повернула голову к окну. Пчела летала вокруг расцветшего боярышника, с усыпанной цветами веточки неслышно отделился розовый лепесток и упал на землю. Катка вдруг поймала себя на том, что она ни о чем не думает, что она сидит здесь чужая самой себе, и только чувствовала, что ее душа дала трещину. «Титаник» вздрогнул, наскочив на айсберг. Корабль получил смертельный удар, но он еще держался на воде, на палубе танцевали, играли в покер, хотя всего уже коснулась рука смерти.
— А что остается такому человеку, как я, Катка? Пути назад я не вижу, а жить без будущего нельзя. Человек должен иметь какую-то опору. А я немец!
Пчела за окном спикировала на цветущее изобилие и глубоко вонзила свой хоботок в медоносный цветок. Тонкая веточка упруго прогнулась, покачивая пчелку.
— Твоя мать, Ганс, была чешкой, она даже не умела говорить по-немецки…
— От матери я мало что унаследовал, к счастью…
У Катки потемнело в глазах. Перед ней возникла пустыня с бесцветным, расплывчатым горизонтом.
— Но ведь есть немцы, которые не хотят больше идти в армию и не допускают мысли о третьей проигранной войне…
— В третью войну Германия вступит не одна. Слабые союзники всегда были несчастьем Германии. Теперь наши союзники не слабы. — Он обратил внимание на то, как дрожат руки Катки, но беспощадно продолжал излагать свое кредо. — Пойми, — сказал он агрессивно, закуривая новую сигарету. — Я не могу болтаться в безвоздушном пространстве. Какие у меня перспективы, на кого мне ориентироваться? На кого? На тех, которые кое-как выжили и чувствуют себя зверьем, загнанным в огромный зверинец? Вместо того чтобы скрыть свою душевную боль, они выставляют свой гнев и свой позор на всеобщее обозрение и удивление. Бесконечные стенания. Однако стены, которые их окружают, глухи и безмолвны, и люди теряют головы от своего собственного вытья… Другие указывают пальцем на нас: вы, бывшие офицеры, повинны в нашей катастрофе! Вот и посуди сама, что, кроме армии, может изменить это немыслимое положение и снова вернуть немцам их достоинство, человеческий облик! Теперь я, как видишь, хожу оборванцем, я нуль, плевок на земле. Только получив возможность надеть на себя военный мундир, я стану полноценным человеком!
Его слова возмутили ее.
— И ты пошел бы воевать против родины?
Он отвел глаза и некоторое время молча учащенно дышал.
— Какой родины? Против той, которая выгнала нас, как ненужных скотов? Тридцать килограммов барахла — и убирайся вон!
— Тебя никто не выгонял, Ганс! — В глазах Катки отражался охватывающий ее ужас.
— Меня — нет, но миллионы других, таких, как я. Что ж это за родина?! — прохрипел он.
Катка приложила ладони к щекам.
— Я знаю только одну родину, — тихо сказала она. — Ту, где я играла в куклы, где учитель рассказывал о том, как сожгли Яна Гуса, где бабушка пекла хлеб. Ох, как этот хлеб пах анисом и тмином! Я мечтала о нем в Валке и до сих пор ощущаю его тепло и мягкость, помню, как таял он на языке… Я знаю только ту родину, где я впервые пошла на танцы и на первое свидание, где я обливалась горькими слезами, когда мимо меня проехал первый мотоцикл оккупантов и гитлеровский солдат с автоматом в руках, стоя в коляске, орал: «Rechts fahren!»[122] Я не знаю родины, кроме той, где я с тобой шла под фатой к алтарю, где теперь осталась моя смертельно больная мать и где, Ганс, осталась и твоя мама…
В дальнем углу зала раздвинулась портьера — внезапное смятение отразилось на лице Ганса.
Долговязая женщина с выдающимися скулами и накрашенными губами остановилась у их столика. Она тяжело дышала, и в голосе ее прозвучал упрек:
— Всюду ищу тебя, Гансерле…
Ганс вертел в руках карандаш, челюсти его плотно сжались.
— Это фрау Хогаус… — пробормотал он.
Пришедшая села на краешек стула.
— Мне сказали, что к тебе кто-то приехал… Eine Dame[123]. — Фрау Хогаус скользнула испытующим взглядом по Катке, инстинктивно угадала опасность, брови ее сдвинулись.
— Оставь нас одних, иди домой, Зелла! — сказал Ганс хмуро.
Катка оглядела женщину. Нельзя сказать, что лицо ее было некрасиво, но фигура какая-то бесформенная, пояс полупальто посажен слишком низко, а шляпка с вуалеткой не подходит к ее костюму, к тому же она слишком сдвинута на затылок. Почему это немки не умеют одеваться?
Катку покоробило слово «дама». И фрау Хогаус тоже взволновалась. На скулах у нее появились багровые пятна, она провела носовым платочком по вспотевшему лбу, а испуганные глаза ее все тянулись к Катке. «Нет, это не обыкновенная встреча, здесь дело идет о гораздо большем, это, вероятно… Um Gotteswillen»[124].
— Ну, пойдем же, Ганс, ты ведь болен, тебе нельзя волноваться…
— Иди домой! — резко крикнул Ганс и сбросил ее руку со своего локтя.
Перевернувшаяся рюмка звонко стукнула по подносу, немногочисленные посетители удивленно обернулись. Лицо его стало серым, губы посинели. Вдруг хрустнуло — в его руках сломался карандаш.
— Господин Тиц, — раздалось из противоположного угла, — вас вызывают к телефону!
Отойдя шага четыре, Ганс обернулся, беспомощно оглянулся на двух женщин у столика, потом покорно развел руками и, ссутулившись, пошел, тяжело наступая на пятки. Не дойдя до телефона, он еще раз оглянулся. Гизелла Хогаус подняла вуалетку. В этом неуклюжем жесте было что-то смешное.
— Вы…
— Жена Ганса.
Гизелла Хогаус судорожным движением прижала руку к виску.
— Мой бог… — она на миг замерла с открытым ртом. — Что… а что… что вам тут нужно?
Ее длинные пальцы водили по тонким губам — туда и сюда, туда и сюда, слегка размазывая помаду. Она не хотела так сказать, но дикий страх лишил ее способности соображать.
— Это я должна спросить, что вам тут нужно? — резко ответила Катка. — Это мой муж. Я пришла за ним, я здесь, чего вы путаетесь между нами, чего…
— У меня была трехлетняя доченька Аннинхен, ангелочек… Вся моя семья — ребенок, родители, тетя, брат-инвалид…
Внимание Катки вдруг привлекли странные пятна, выступившие у женщины на лбу и скулах. Пятна то бледнели, то вновь выделялись резче.
— Все, — выкрикнула женщина, — все сразу!.. В Берлине… когда Гитлер приказал затопить метро… Да разве вы вообще можете понять, что значит потерять Аннинхен и всех родных в одну минуту!
Катка отвернулась, но перед ее глазами стояли сжатые бледные руки и глаза этого существа, жизнь которого была поставлена на карту.
Фрау Хогаус трясущейся рукой смахнула соринку с рукава Катки.
— Мой муж погиб под Харьковом, от нашей берлинской квартиры осталась лишь одна стена с куском пола, а на нем — рояль, два месяца его поливал дождь, потом рояль рухнул на первый этаж. У меня на свете нет ничего и никого, единственный смысл моей жизни — Ганс. Я сначала не знала о вас, а когда он мне рассказал, было уже поздно, я полюбила его больше, чем себя, и люблю теперь. Если вы потребуете, я убью себя и ребенка… — Она боязливо оглянулась в сторону телефона, понизила голос и опустила голову. — Если бы он знал, что я вам обо всем этом рассказываю, он бы избил меня до крови, но…
— Какого ребенка? — громко спросила Катка.
— От Ганса. — Женщина встала. Отчаяние лишило ее стыда. Она распахнула свой широкий жакет на заметно выпуклом животе.
Катка смотрит на сломанный Гансом карандаш. Странное дело — обломки то приближаются друг к другу, то расходятся. Стол потерял четкие контуры, как бы расплылся во все стороны. Весь мир — круг без конца и края, все потонуло в каком-то тумане, только желтое пятно апельсина да обломки карандаша — единственно реальные предметы…
Катка бредет по улице предместья, шмель бешено кружится над густо-розовым боярышником, визг детей возник откуда-то из-за утла и пронесся мимо нее как вихрь. Медовый аромат аллеи, мороженщик тянет за собой свою тележку и звонит в колокольчик, молоденькая девушка, просунув обнаженную руку под руку своего парня, идет, постукивая каблучками по тротуару.
Катка остановилась перед опущенным шлагбаумом; мимо нее медленно движется товарный поезд, под одним из вагонов громко стучит тормозная колодка; вскоре этот ритмичный звук удаляется. Катка как завороженная смотрит на стык рельсов, упруго прогибающийся под колесами. И вдруг ей захотелось пройти под шлагбаумом и, встав на колени, положить голову на блестящую сталь. Она невольно коснулась шеи — как холодит сталь! В этот миг последний вагон прогремел по стыкам рельсов. Молодой кондуктор оскалил зубы, беззастенчиво улыбаясь девушке за шлагбаумом, которую он никогда больше не встретит; он поднес замусоленный флажок к фуражке и измазанной рукой послал Катке поцелуй… «Ведь я не заплатила в кафе, — встревожилась вдруг Катка. — Ничего, заплатит Ганс, — успокоила она себя. — Это будет его последний расход на жену».
«Титаник». Паника уже улеглась. Борьба за жизнь прекратилась. Все стало ясно. Те, кто урвал место в спасательных шлюпках, уже отплыли. Больше лодок нет. Те, которые остались на корабле, еще облачены в смокинги, у них есть деньги, титулы, а в сердцах — страсти последних, самых драгоценных мгновений жизни — сознание того, что это конец!
* * *
Нет, Катка никуда не может спрятаться от пронизывающих мышиных глазок; у папаши Кодла и его напарника лица измученные, лимонного цвета, глаза опухли, их одежда еще пропитана запахами минувшей ночи.
— Я вернусь ближайшим поездом, — сказала Катка.
— Мы тоже едем, голубушка. Все дела мы справили, братья в лагере будут довольны. Отныне по воскресеньям всегда будет кофе с молоком и мясо… — Он замолчал, увидев, что она не слушает.
— Не было у меня добрых предчувствий, милая, не было… Вспоминал вот тебя и думал, что мои хорошие пожелания тебе не помогут. — Искра вдруг пробежала по его ладони. Кодл прищурил глаза. «Ох, куда обыкновенным девкам до нее. Добьюсь ее, даже если придется совершить невозможное, если…»
— Выше голову, доченька! В падениях человеческих есть та польза, что после них взлеты кажутся выше.
Поезд мчится сквозь ночь, вагоны мягко покачиваются, порой огонек фонаря на стрелке, как искра, промелькнет мимо окна, и загрохочут колеса. Душный вечер. Катку мучит жажда, папаша Кодл на какой-то станции отправился за лимонадом, но вернулся с пустыми руками — слишком много народу.
— Скоро будем дома, девонька, там выпьем целый пруд из Дутцентайха.
Спать, спать, уснуть беспробудным сном либо разбежаться навстречу поезду, чтобы больше не думать, не чувствовать, не желать.
Все бессмысленно. Можно ли усыпить мозг, который в течение двух долгих лет обдумывал в тысячах вариантов одну-единственную мысль, подчинившую себе все остальные? Как убедить сердце, что никакого Ганса не было на свете? Как изгладить из души все, чем она до сих пор жила, — так вот, вдруг, за несколько мгновений? Как перевернуть в книге жизни страницу, если в этой книге был лишь один-единственный листок? Жизнь имела для нее только один смысл, вращалась вокруг одного, но все это кануло теперь в вечность. Все в прошлом, и она сама тоже. Впереди пустота!
За что, собственно говоря, она заплатила сегодня такую непомерную цену, что до сих пор не может прийти в себя?
Мысли летят — светящиеся фонари стрелок, грохот колес звучит у нее в мозгу… Говорят, люди сами повинны в своих несчастьях. В чем ее вина? Имела она вообще право совершить то, что допустила тогда, когда они с Гансом стали любовниками? В то страшное время, когда из всех репродукторов назойливо визжали торжественные фанфары в честь гитлеровских побед, а тысячи чехов умирали в концлагерях! Но ведь в нем тогда дремала немецкая кровь, тогда он осуждал насилия нацистов, пытался избежать службы в немецкой армии, использовал смерть отца для того, чтобы скрыть от официальных учреждений свое происхождение!
Потом наступил тот день, когда она встретила Власту — свою лучшую подругу, бледную, с заплаканными глазами, в черном платье, под тенью черных флагов, вывешенных в знак траура по палачу чешского народа. Они остановились друг против друга — в глазах подруги светилась страшная, непонятная злоба. Власта, как прокаженную, обошла подругу и пошла своей дорогой. Катка догнала ее:
— Ты должна объяснить мне, что я тебе сделала…
— Вчера казнили моего брата, он будто бы одобрительно отозвался об убийстве Гейдриха[125]. Теперь беги к своему немцу, а ко мне больше не приставай.
Это потрясло Катку. Она проплакала всю ночь, у нее не хватило духу пойти к Гансу. Несчастную Власту она не обвиняла — ведь это было порывом горя.
Но все же Власта была к ней несправедлива. Ведь Катка ничего не скрывала от нее. В самый первый день ее сближения с Гансом она поведала подруге о своих колебаниях, вызванных тем, что отец Ганса — немец. Потом эти раздумья сгорели в огне вспыхнувшей любви. Однако в представлении Власты Ганс навсегда остался немцем.
Потом Катка снова искала подтверждений, что взгляды Ганса не расходятся с ее собственными убеждениями, и снова в его объятиях забывала обо всем на свете, оставались только он и она, хотя вокруг рушились миры.
Нет, она не совершила тогда измены, за которую сегодня должна себя казнить. Она бы не пошла на первое свидание, если бы могла предугадать, до чего в будущем докатится этот несчастный Ганс.
Где она очутилась, в каком заколдованном кругу?
Ганс от нее отрекся. Мама, наверное, умирает, а ведь Катка, будь она возле больной, подняла бы на ноги всех врачей. И Вацлава она обижает — этого слабого телом, но честного парня. А ее собственное положение?
…Поезд грохочет в ночи — куда он везет ее? Навстречу чему?
Внезапно этот человек стал для нее единственным светлым пятнышком, трепещущим огоньком в безбрежной пустыне. Чего только он не пережил из-за нее! Каким даром были для него недавно крохи ее благосклонности! Он один из горстки серьезных приличных людей в лагере, которые еще сохранили какие-то идеалы. Имеет ли она право использовать его тихую и преданную дружбу как пластырь на свои раны? Хотя рана от этого все равно не будет меньше жечь и не станет менее глубокой. Нет, это нечестные мысли. Вацлав не заслужил нового проявления эгоизма с ее стороны, да и невозможно так просто наполнить пустоту человеческого сердца, это не термос.
Мысли ее путаются. Больная мать там, дома, мгновенно вспыхнувшая надежда тут же погасла, и жестокая реальность сегодняшнего дня снова выступила из тумана — и образ ее — пожарище.
Безысходная пустота, глухое оцепенение, жажда и жар, ощущение пота и сажи на волосах.
Зигельсдорф. Фюрт. Нюрнберг. Приехали.
— Хочу пить.
— Дома мы выпьем чего-нибудь получше, чем подкрашенная бурда в буфете. Потерпи четверть часика.
Она даже не заметила, как исчез Иозеф Хаусэггер. Катка сидела возле папаши Кодла в последнем ночном автобусе, уставившись в одну точку.
Последние триста метров от шоссе до ворот Валки. Катка вдруг останавливается против папаши Кодла:
— Люди в лагере говорят о вас плохо. Но ведь и вы когда-нибудь кого-то любили, из-за чего-то страдали, к чему-то стремились — как человек. Вы начальник нашего сектора и можете выдать меня за то, что я вам сейчас скажу: ради всего на свете помогите мне вернуться в Чехословакию! Посоветуйте, раздобудьте какие-нибудь бумаги, познакомьте с кем-нибудь, кто переправил бы меня через границу. Я… я должна вернуться или покончить с собой.
Он замахал руками, будто отгонял призрак. Потом взял Катку за руку, повернул ее лицом к свету и пристально посмотрел в ее безумные глаза.
— Нет, ты как будто не бредишь. — Кодл взял себя за обросший щетиной подбородок. — Пойдем, — решил он наконец, — а то я на самом деле издохну от жажды… У меня голова кругом идет — это ты перевернула там все вверх тормашками… Пойдем, пойдем, расскажешь мне, чего же ты от меня хочешь.
Она поплелась за ним в административный барак. Кодл прошел через две комнаты и включил свет только в третьей. Он качнулся своей медвежьей походкой к окну и опустил штору, затем зажег настольную лампочку над курительным столиком, а верхний свет погасил. Кодл, как был в макинтоше из английского материала, в бесформенной черной шляпе, начал хозяйничать: вынул из шкафа стаканчики, наполнил их. Только после этого он снял плащ и вместе со шляпой швырнул его в одно кресло, а сам плюхнулся в другое.
— Хорошенькие вещи ты сказала мне там, на дороге. — Он подпер кулаком широкое лицо. — Наверное, никому из начальников лагерей во всей Германии не пришлось выслушивать подобной просьбы! — Кодл провел указательным пальцем по мясистым губам. — Ты понимаешь, в чем заключается мой долг?
— Донесите на меня, — безразлично ответила Катка; она, как неживая, сидела на диване.
— Пей. — Папаша Кодл придвинул ей стаканчик.
Катка с жадностью выпила.
— Что вы тут намешали?
— Кока-колу и немного коньяку. — Папаша Кодл покачал головой и внезапно развеселился. — Ну и ну, переправьте меня через границу! Только и всего, ха-ха! Вот отколола номер, нечего сказать! — Кодл встал и снова стал возиться в шкафу, наполняя стаканчики.
— Коньяку мне не надо.
— Я уже налил, не выливать же обратно. Капля коньяку еще никого не убила.
Катка выпила сразу полстаканчика.
— Донесите на меня, — передразнил он ее и, усмехнувшись, покачал головой. — Конечно, папаша Кодл подлец. Разве не так о нем говорят в лагере? Ведь вот он, например, взял и формально выполнил свою служебную обязанность, содрав с пани Катерины Тиц квартплату за проживание в лагере, когда дознался, что она незаконно нанялась на работу!
— Вы об этом знали? — вяло спросила она.
— С первого дня, голубка. Ты что, в самом деле считаешь папашу Кодла олухом? Погоди, я еще докопаюсь, какая скотина донесла на тебя.
Папаша Кодл медленно наклонился, уперся локтями в колени, а подбородок положил на ладони. Катка по-прежнему сидела с отсутствующим видом. Она была обессилена, как туча, уже исторгнувшая грозу.
Папаша Кодл выпрямился. Лицо его изменилось.
— Перебросьте меня через границу, я хочу домой, как все просто. — Он откинулся на спинку кресла. — Но старый болван попытается это сделать!..
Плечи Катки вздрогнули, она прижала руку к сердцу. Папаша Кодл придвинул ей стаканчик. Катка допила. Безразличие сменилось окрыляющей надеждой. После пятнадцати месяцев пребывания в Валке человек готов от одной крайности перейти к другой, от депрессии к наивной, безграничной вере.
— Плохой я человек, Катка, уже давно я не делал ничего путного, но зато строго соблюдал законы. Странно устроен этот мир: если человеку придет на ум сделать доброе дело — приходится нарушать законы!
Слова папаши Кодла долетели до нее откуда-то издалека. Ее клонило ко сну, ноги казались чужими, неуклюжими, разбухшими, как бревна. Катка прикоснулась к икрам: нет, они не отекли.
Человек напротив нее глубже уходил в мягкое кресло, воротник его поднялся кверху. Кодл показался ей вдруг горбатым и убогим, а лицо его пожелтевшим.
— Если эта затея удастся, девушка, буду тебе завидовать. Страшно завидовать… Если бы в один прекрасный день папаша Кодл мог произнести: «Адью, паршивый лагерь, черт вас возьми, воры, доносчики, подлая сволочь, да и вас, благородные, заодно с ними!» Если бы папаша Кодл посмел однажды проснуться в своей пражской квартире, купить кулечек леденцов соседскому мальчику — сам он тщетно мечтал всю жизнь о детях, — если бы он мог пройтись вокруг Национального театра, по набережной, только пройтись, глядя во все глаза, полюбоваться на Градчаны, положить ладонь на каменный парапет Карлова моста и опять глядеть на воды нашей Влтавы, наверх, туда, в сторону Летной, и назад, на Вышеград… Ох, если бы папаша Кодл смог возвратиться домой и снова обрести родину!
Он говорил устало, прикрыв глаза. Катка сидела смятенная, непонимающая, какая-то липкая вялость лишала ее энергии, но ей было легко, только ноги тяжелые — как из свинца. В сердце ее уже горела искорка надежды, и было даже какое-то мимолетное сочувствие к этому человеку, сидящему напротив, в глубоком кресле. Он, кажется, не такой уж отпетый прохвост, он все сделает, раздобудет ей документы, избавит ее от страха, что на границе ее задержат и посадят в тюрьму… Нет, пить больше она не будет, она ведь с утра ничего не ела, и кто знает, сколько коньяку этот человек намешал в питье: почему столик вдруг так смешно уплывает куда-то в сторону, унося стаканчик, когда она хочет взять его!
— В одно прекрасное утро ты проснешься и скажешь маме: «Ой, какой мне приснился страшный сон: будто я жила в Валке! Слава богу, что уже утро». А папаша Кодл в это утро будет составлять ведомость: наличный состав лагеря — четыре тысячи пятьсот, вновь прибыло в истекшем месяце — семьсот двадцать, выбыло — сто восемьдесят, за месяц — три смерти, два самоубийства, два покушения на убийство, двадцать три легких ранения, тридцать четыре дела переданы уголовной полиции…
Он широко раскрыл глаза, поднял стаканчик, просмотрел содержимое на свет и залпом выпил.
— Странные вещи выделывает судьба с людьми после этой войны. Папаша Кодл — незначительный человек, вечный студент, актеришка, комиссионер, содержатель кабаре, майор гарды, и вот, наконец, живой труп — агасфер Валки… Это, вероятно, все за то, что в свое время он был грозой евреев, если тебе угодно это знать! Допивай, девушка, и да здравствует чешская эмиграция — цвет и краса нации, лучшие сыны и дочери народа Жижки!
Катка звонко рассмеялась и с недоумением посмотрела на упавший стаканчик — оранжевая лужица расплывалась по столику. Чудно! Стаканчик сам собой опрокинулся! Комната стала терять очертания, все смешалось — жажда, духота, это уже не комната, а каюта корабля, плывущего бурным морем, ведь и на диване она едва ли сохранит равновесие; нет, ей нельзя лечь, она не хочет уснуть здесь.
— Прощайте, папаша Кодл, а кока-кола была…
Ослепляющая тьма, от того места, где горела лампа, плывут золотые круги…
— Папаша!..
Она почувствовала тяжелые руки на своих плечах, вырваться из этих медвежьих лап у нее не хватило силы. Катка успела вскрикнуть, но пухлая ладонь мгновенно закрыла ей рот, у самого уха она услышала сиплый взволнованный шепот, почувствовала запах винного перегара.
— Завтра уже будет неправдой то, что ты была здесь, а через неделю ты вернешься домой. Если в жизни мне хотелось чего-нибудь, так это тебя. Легче умереть, чем отказаться от тебя!
Она сопротивлялась из последних сил. В затуманенной голове ее блеснула четко осознанная мысль о беспредельной, нечеловеческой гнусности этого негодяя. Она кусалась, била ногами по столику и куда-то мимо, услышала глухой удар слетевшей с ноги туфли, из глаз ее брызнули слезы ужаса и бессилия, она задыхалась от отвращения…
— Не кричи, — хрипел Кодл. — Это бессмысленно, сюда никто не посмеет войти. Ты ничего не достигнешь, кроме того, что все испортишь и никогда не вернешься к маме…
* * *
Вацлав проснулся. Спертый воздух даже теперь, перед утром, не желал уходить в открытое окно. По мере того как приближалась весна, паразиты становились все более агрессивными. За окном рассветало. В комнате переливался здоровый храп Капитана и тонкое пискливое похрапывание Баронессы. Вацлав оделся, голова его побаливала из-за почти бессонной ночи.
Он брел наобум по улицам спящего лагеря в сторону ворот. Его легкие с облегчением вдыхали влажный утренний воздух.
Вдруг в последнем окне административного барака загорелся свет. «Так и должно быть, — иронически подумал Вацлав, — исправный начальник — первый на ногах». Но вот кто-то вышел из дверей, невидимая рука повернула изнутри ключ. Женская тень качнулась, схватилась за перила и опустилась на ступеньки перед входом. «Она пьяна, — подумал Вацлав. — Выходит, я ошибся, начальник не начинает, а только заканчивает свой день».
Фигура поднялась и побрела навстречу Вацлаву, вероятно не замечая его. Казалось, если он не свернет в сторону, она наткнется прямо на него. Облака на востоке уплывали куда-то вдаль, тусклая полоса света упала на крыши бараков.
Вдруг ноги Вацлава приросли к земле, будто попали в капкан.
Он стоял на шаг от нее и трясся, как в лихорадке, кровь ударила ему в голову и болезненно запульсировала в висках. Юноша не замечал, что ногтями он судорожно рвет карман своих брюк.
— Катка! — хрипло крикнул Вацлав. Не помня себя от ярости, он размахнулся и ударил ее.
Катка в ужасе схватилась за щеку и взглянула на него потухшими, непонимающими глазами.
Потом закрыла лицо ладонями и, сгорбившись, поплелась прочь, сильно прихрамывая, — она не замечала, что одна туфля у нее надета кое-как.
20
Солнце поднимается по безоблачному небу. Вацлав, лежа на траве, перевернулся на спину. На противоположном конце стадиона горстка молодежи тренировалась, сильно ударяя ногами по мячу. Лишь когда вратарь слишком далеко отбивал мяч, оттуда долетала брань. В двадцати шагах от Вацлава пререкаются двое мужчин. Тот, что погрузнее, с редкой взъерошенной бородкой, снял рубашку. Его молочно-белое тело резко контрастировало с густой зеленой травой.
— Ну вот, эти негодяи дождались, — хихикнул толстяк. — Россия принуждает республику принять обратно четыреста тысяч судетских немцев. Чешская промышленность, дескать, не может без них существовать!
Его сосед повернулся на живот, бросил скептически:
— Вранье!
— Ого! — Толстяк ударяет ребром ладони по развернутой газете. — «Ньюс кроникл» — это тебе не эмигрантская газетенка!
— Само собой, но врет не хуже!
— Болван!
Вацлав закрыл ладонями глаза — солнце ослепляло и сквозь закрытые веки. Весна плохо действовала на его нервы, как, впрочем, и на нервы многих других людей в Валке. Сколько раз кляли они зимнее прозябание! Теперь наконец душистые белые цветы сменили морозные узоры на окнах, но неудовлетворенность — несчастный удел беженцев — не исчезла вместе с зимой. Исполнившиеся желания рождают новые, и ты идешь, проклятый путник, в землю обетованную, усталость все растет, а горизонт, словно насмехаясь над тобой, все удаляется.
В каком-то зачарованном кругу жил Вацлав с того памятного утра. Когда-то, будучи маленьким мальчиком, он бросил муравья в ванну, муравей упорно полз вверх, но, добираясь до отвесной стенки, скатывался вниз и снова начинал свои настойчивые восхождения. Долго Вацлав забавлялся этой «игрой», пока его не прогнали спать. Утром, когда он прибежал в ванную, муравей все еще полз кверху и неизменно падал на дно. Это продолжалось до тех пор, пока мальчику не надоело. Он открыл воду и с детской жестокостью избавил муравья от мучений.
Он ясно увидел эту сцену, лежа здесь с закрытыми глазами под обжигающими лучами солнца. «Сам ты теперь уподобился этому муравью. С большим трудом ты карабкаешься куда-то наверх, но как только тебе начинает казаться, что ты миновал роковую черту и добрался до края, ты снова оказываешься на дне».
Дно — это деревянный барачный городок. Если хочешь — можешь уйти на все четыре стороны, но исхода нет. Куда бы ты ни пошел, все равно вернешься обратно. Серая паутина мучительных представлений все равно опутает тебя. Последнее из них — окно, засветившееся на рассвете, тень пьяной женщины на пустынной улице.
Гнусная, слюнявая рожа папаши Кодла! Вацлав сжал виски, ему хотелось скулить, выть от боли. Ради всего святого на свете, как это могло случиться? Если бы было насилие, то она обязана была сопротивляться, прибежать за Вацлавом, поднять тревогу, звать полицию — немецкие правовые нормы, предусматривая ряд суровых наказаний для эмигрантов, все же гарантируют хотя бы минимальную охрану… Ох, за что, за что продалась эта девушка, белая березка на весеннем ветру, упругие плечи, бархатные губы…
Сумасшедший Икар Валки! С вершины — глубже падение. Эта девушка дала тебе крылья и одним жестоким ударом отняла их.
Единственное лекарство, которое может излечить, — время.
И дома бывали душевные невзгоды, бывали потрясения, но что значили обманутые чувства дома? Немного боли, немного злости, слегка уязвленное самолюбие, в общем трамплин для новой любви. «Король умер! Да здравствует король!»
Только здешняя рана гноится бесконечно. Как сосланный на галеры, тащишь железное ядро умершей любви.
Кормчий, перед которым во время шторма внезапно погас маяк. Смертельно уставший пловец, на глазах которого пошла ко дну спасательная шлюпка.
Впереди новые разочарования, новые удары. Сколько еще можно вынести? От каждого удара ты склоняешься все ниже и ниже, и тебе иногда начинает казаться, что ты уже не можешь идти прямо, а ползешь на четвереньках. Выпрямишься ли ты еще раз или в один прекрасный день ляжешь навсегда? Должно быть, и в самом деле над тобой нависло проклятие за то, что ты не выдержал. Имел ты право бросить отчизну или должен был пройти через все постигшие тебя испытания? Ты не хотел вынести их — теперь тебе выпало их во много раз больше, и ты принял их с распростертыми объятиями. Прошли месяцы, первая вспышка обиды погасла. Год тому назад ты считал, что тебя предали, а сегодня ты все более и более понимаешь, что изменил сам!
Родина вечна, только человеческая, подлость погибает на ней. Он покинул, отчизну, задушив в себе предостерегающий голос. Теперь снова и скова в душе его звучат слова любимого поэта юности. Настойчивые стихи, он хотел забыть их, но они незабываемы. Они как неутомимый жучок-точильщик в мозгу — помолчит, наберется сил и снова примется за свою разрушительную работу.
Помни, сынок, что родину-мать Можно утратить, нельзя обменять. Если покинешь меня — не погибну, Сам пропадешь…[126]Знакомый голос прервал его раздумья. Гонзик, сложив ладони рупором, звал Вацлава с другого конца футбольного поля. По его жестикуляции видно было, что дело важное. Вацлав, не торопясь, направился на зов. В Валке все было не к спеху. Необходимость спешить — качество старого мира. Стремительная горная река волнуется, кипит, и вода в ней чище, нежели в ленивом потоке равнины.
Гонзик бежал ему навстречу, на лице его отражалась безумная радость. Еще издали он помахивал тоненькой книжицей. Запыхавшийся, он подбежал к другу и подал ему книжечку.
Вацлав побледнел: «Fremdenpaß. Jan Pasek»[127].
— Представь себе, мы уже проверены! И на Ярду тоже получен паспорт. Его пока оставили в канцелярии, на тот случай, если он вернется…
— А мне?..
— Прислали только два паспорта, — прошептал он. — Сам не понимаю.
Гонзик опустил, глаза.
Вацлав шагает рядом с Гонзиком, почти физически чувствуя его счастье. Студент старается задушить в себе зависть, но ему плохо удается утихомирить ее. Паспорт в руке Гонзика снова отдалил Вацлава от этого человека.
Вацлав идет рядом с другом и чувствует себя бесконечно одиноким.
Ярда исчез со сцены. Один бог знает, что с ним стряслось. Вероятно, и в самом деле у него рыльце было в пушку и его посадили. Его хвастливые планы — мыльные пузыри, которые очень быстро лопнули.
Вацлав оглядывает футбольное поле. Вот на таком стадионе они познакомились. Изменилось бы что-нибудь в судьбе Вацлава и в жизни этих двух парней, если бы не то роковое футбольное поле?
Вацлав нащупал в кармане камешек, который захватил на чешской стороне Шумавы, и стиснул его в ладони.
Все вместе пришли они в лагерь, совместно проходили проверку. И вот двое из них… Их не признали политическими эмигрантами, это верно, но Fremdenpaß дает им законное право раз и навсегда выехать из Германии, было бы лишь желание. Бездонная пропасть иронии!
Гонзик что-то возбужденно говорил, но Вацлав не слышал его.
Ты хотел вырвать Катку из сердца, изгнать ее из души, но после нее осталась там рана, глубокая, мучительная, незаживающая.
Под каждым ударом ты только все более сгибаешься.
Мысль о том, что все на свете когда-нибудь да кончается, принесла облегчение. Какой-нибудь удар окажется и для него последним…
Вацлав и Гонзик медленно шли мимо кухни. Мусороуборочная автомашина уже приняла в свою утробу мусор из жестяных баков лагеря, шофер отлучился в кабачок выпить пива, а второй член бригады исчез в канцелярии.
— Ах, черт его возьми! Еще один бак! — воскликнул с досадой третий мужчина в дешевеньких очках, поднятых на лоб. — Вы мне не поможете, ребята? — и мусорщик почесал свой седеющий ежик.
Прихрамывая, он подкатил ближе наполненный отбросами бак, и ребята помогли ему приподнять и поставить бак на подъемник. Мусорщик взялся за рычаг, бак опрокинулся, отдав свое содержимое машине. Гонзик, наблюдая эту операцию, как-то неловко взмахнул рукой, чтобы почесать за ухом, и невзначай сбил свои очки.
— Осторожно!
Поздно: тяжелый ботинок рабочего наступил на очки Гонзика.
— Ах, боже мой, — огорченный мусорщик нагнулся и с виноватым видом поднял поломанную оправу. — Хорошо, что стекла целы, — сказал рабочий и задумчиво провел рукой по кожаному фартуку. — Вот тебе и досталось. «За доброту получай нищету», — говорит старая пословица. Да ты не огорчайся, парень, я отдам твои очки в починку. Вот выгрузим на свалке это дерьмо и поедем прямо в город. Послезавтра будут готовы. Можешь ко мне прийти? Ведь все равно околачиваешься тут без дела.
Гонзик с трудом понимал немецкую речь; щурясь близорукими глазами, он уставился в лицо рабочего. В глубокие и резкие складки около губ мусорщика въелась черная пыль.
— Меня зовут Франц Губер. Адрес: Гостенхоф, Насзауэргассе, 73. Запомни хорошенько, а лучше запиши. И мне напиши свою фамилию. — Он положил сломанные очки в нагрудный карман, отряхнул руки и, припадая на ногу, медленно пошел в кабачок.
Молодые люди поплелись дальше. Между бараками они увидели американскую автомашину в окружении толпы зевак. Шофер раздавал сигареты, а последнюю закурил сам. Гонзик вернулся от толпы с новостью.
— Какая-то докторша, делегатка Совета, ходит по баракам и знакомится с их санитарным состоянием. Может быть, из этого что-нибудь выйдет…
Вацлав сунул в карманы руки и усмехнулся уголками рта. Как, однако, легковерны люди в эмиграции. Такому вот Гонзику достаточно слабой искорки, чтобы у него снова воспламенился огонек веры!
И у Вацлава, впервые за все время пребывания в эмиграции, возникло ощущение: Гонзик, этот простачок, который всюду следовал за ним как тень, видя в нем единственное спасение, этот Гонзик теперь перерастает его, Вацлава.
Его прирожденный оптимизм, вера в лучшие времена, большая физическая и душевная сопротивляемость — драгоценные качества, рука об руку с которыми идет и его счастье.
Они вернулись в комнату. Не хочется читать, не хочется говорить, не хочется думать — он ждет. «Эмиграция — это ожидание», — сказал однажды папаша Кодл. Это единственное из всего, что он говорил, оказалось правдой.
— Гонза, я поеду в Париж.
Гонзик даже рот приоткрыл.
— У тебя же нет паспорта.
— Ты одолжишь мне свой… Колчава вделает в него мою фотографию и поставит печать. Колчава за деньги сделает все, что угодно. Ты обязан пойти на это, Гонза. В Париже — резиденция Областного Совета. Я не уйду там из канцелярии, пока они для нас чего-нибудь не сделают Я убежден, что во Франции скорее найдется работа… и для тебя и для Капитана. Не бойся, я не убегу с паспортом — вернусь при всех обстоятельствах, я сумею возвратиться через границу, будь уверен.
Гонзик, не дыша, широко раскрытыми глазами смотрел на Вацлава.
— Ты думаешь: «А почему бы не поехать мне самому?» Но ты не знаешь французского языка, а я знаю. Речь идет о моем дальнейшем образовании, этого ты для меня добиться не сможешь. Это мой последний шанс, Гонза, на карту поставлено все наше будущее. Если ничего не даст и этот шаг, то…
Докторша вошла в полупустую одиннадцатую комнату. Папаша Кодл с Медвидеком — за ней. Только Вацлав и Гонзик были здесь, да покашливающая под одеялом Мария с любовным романом в руке и ее мамаша, сидевшая, как изваяние, и смотревшая в одну точку. Летнее солнышко, как магнит, вытянуло из барака всех остальных обитателей.
— Как ваше здоровье, ребята? — спросила врач. У нее были гладкие черные волосы, выразительный орлиный нос, смуглая загоревшая кожа. Июнь в этом году теплый, Вацлав еще в начале мая видел первых купальщиков на озерах Дутцентайх.
— Вон там лежит пациентка, — кивнул Вацлав в угол у дверей. — У этой девушки tbc ulcero cavernosa, — он почувствовал легкое удовлетворение от ее удивленного жеста.
— Вы врач?
— Студент-медик. Меня исключили из университета. Сделайте что-нибудь для меня.
Она спрятала холеные руки в карманы куртки из желтой замши, а глаза вопросительно уставились на кудрявую голову папаши Кодла.
— Моя задача, брат, заключается лишь в том, чтобы составить для господина министра общий обзор о санитарном состоянии лагеря… Вы обращались со своей просьбой через руководство?
Вацлав упорно старался даже мельком не взглянуть в слюнявую рожу папаши Кодла. Однако не выдержал, и в тот единый миг, когда их взгляды скрестились, Вацлав сумел увидеть в этой мерзкой физиономии торжество победы; дескать, право первой ночи, паренек, ничего не поделаешь! А теперь начальник может и бросить ее тебе, как собаке бросают кость. Пожалуйста, бери, папаша Кодл еще никогда долго не валандался с одним и тем же объектом.
— Брат Юрен подал заявление о желании работать в Канаде. Все меры приняты. Дело в стадии рассмотрения… — услужливо доложил Кодл.
— Неврастения, — врач нерешительно протянула руку и приподняла веко Вацлава. — Вытяните вперед руки и растопырьте пальцы!
Пальцы Вацлава тряслись, как осиновые листья на ветру. Врач достала тонометр.
— Так, так, низкое давление, истощение, друг мой, вам необходимо поправиться, прибавить в весе. Гуляйте больше на свежем воздухе, соблюдайте режим, делайте холодные обтирания, хорошо питайтесь, старайтесь сохранять душевный покой.
— Вы надо мной смеетесь? — Вацлав сжал зубы.
Женщина смяла в ладони платочек. Ее загорелое лицо немного покраснело.
— Вам необходимо много спать, — добавила она смущенно.
— Сплю я много, — Вацлав сморщился. — Каждый четный день.
— Не понимаю.
— Каждый нечетный меня жрут клопы.
— Дезинфицируем каждые три месяца, но разве управишься тут, — развел руками папаша Кодл. — Если бы братья соблюдали чистоту, все бы выглядело иначе.
Вацлав медленно сжал кулаки и на мгновение закрыл глаза.
В комнату влетел запыхавшийся розовощекий молодой человек с пестрым галстуком.
— Пани доктор, дайте на минутку машину! Только здесь, на дворе, одну сценку, у нас тут кинооператор с закрытой машиной, ваша открытая подходит лучше. — Он с трудом сдерживал свой энтузиазм.
Она критически посмотрела на его лазурно-синий пиджак с покатыми плечами.
— Редактор Тондл из «Свободной Европы», простите. — Он зарделся, как девочка.
— Только не дальше лагерной ограды, — она хмуро посмотрела на Вацлава. — Я включу вас в список больных на получение пакета голландского Красного Креста… — Врач вынула из сумочки записную книжку.
Привычная сдержанность покинула Вацлава. Все равно она ему до сих пор еще не принесла никакой пользы, да и терять ему было нечего.
— Не затрудняйтесь, — сказал он грубо. — Там вот посмотрите, — он указал в угол, — Мария Штефанская. Ей тоже доктор прописал пакеты Красного Креста. Один раз его получала, во второй раз он был пустой, а в третий раз ей и вовсе ничего не выдали. Не сердитесь, пани доктор, мы в лагере не любим, когда приезжающие начинают за писывать свои обещания в блокноты.
— Скоро обед, — вмешался папаша Кодл, поднеся к глазам запястье с золотыми часами, — а вас еще ждет много пациентов.
Доктор испуганно взглянула на Вацлава, повернулась и решительно подошла к Марии Штефанской.
— На что жалуетесь, милая?
— Я немного кашляю, — ответила Мария по-польски и села. Доктор достала из чемоданчика фонендоскоп.
— Оставьте нас, пожалуйста, одних, — сказала она мужчинам и расстегнула Марии пижаму.
Вацлав зажмурил глаза, но все же успел увидеть впалую, белую, как творог, плоскую, мальчишескую грудь.
Врач скоро вышла в коридор и пригласила мужчин.
— Она давно должна была быть в больнице. Сегодня же я приму меры. Как мог коллега оставить ее в комнате в таком состоянии? А где вообще находится этот коллега из медпункта? Почему я его не вижу?
— Он достает медикаменты для больных, бегает где-то по Нюрнбергу, ему обещали пенициллин в американской военно-санитарной службе, — сообщил папаша Кодл.
— Я переговорю с ним. Нельзя рисковать здоровьем наших людей! Мы армия, и армия, которая находится здесь, чтобы воевать. В эмиграции мы единый организм, судьба единицы затрагивает всех. И должна признаться, брат начальник, что я потрясена… Вы ее мать? — обратилась она к Штефанской. — Девушку отправим в больницу, там будет хорошее питание.
Штефанская смотрела на нее ничего не выражающим взглядом.
Папаша Кодл перевел слова врача.
— Никуда! Не дам я ее, одна она у меня осталась! Загубят ее там, два дня будут кормить, а на третий — убьют!
Доктор беспомощно смотрела на папашу Кодла.
— У нее недавно в больнице от аппендицита умер мальчик. С тех пор у нее не все дома.
На площадке перед церковью столпился народ. Вацлав и Гонзик увидели в гуще людей машину с кинокамерой на крыше. Оператор с защитным козырьком на лбу, стоя за штативом, что-то кричал, откуда-то доносился дружный смех. Юноши поднажали и пробрались поближе. Гонзик увидел лицо Ирены — все еще красивое лицо, несмотря на синие тени под глазами и постаревшую кожу. Катка давно вытеснила Ирену из сердца Гонзика, но все же теперь, когда юноша увидел Ирену, сердце его дрогнуло: рана, оставшаяся от тогдашнего разочарования, до сих пор окончательно не зарубцевалась, а след от нее останется навсегда.
Гонзик поднялся на цыпочки и вытянул шею: кто-то помогал Ирене одеться в эффектное тигровое манто. Затем Ирена стала торопливо подкрашиваться. Девушка взволнованно и сердито покрикивала на кого-то, совершенно не обращая внимания на смешки и колкие реплики толпы.
С другой стороны машины стоял «жених» — бледный юнец с чистым лицом. Редактор «Свободной Европы» одолжил ему свой лазорево-синий пиджак и суетился вокруг парня, прихорашивая его.
— У вас никакого понятия о съемке, сержант, — с издевкой окликнул его режиссер инсценировки с крыши автомашины, — синий цвет получится на пленке совершенно белым! Найдите темный пиджак.
Не так-то просто было раздобыть сносный пиджак, который к тому же не болтался бы на узеньких плечах жениха. Но вот приготовлениям пришел конец. Режиссер велел толпе раздаться, расставив лагерников шпалерами по обе стороны церковных дверей, подал Ирене букет сирени и увел ее внутрь.
— Приветствуйте, поздравляйте их, хорошо, если кто-нибудь выйдет из рядов и скажет им несколько добрых пожеланий!
Кинокамера заработала. Ирена с букетом цветов в руке, опираясь на руку юноши, вышла из церкви с сияющим, счастливым лицом. Строгая линия шпалер нарушилась, люди хохотали, отпускали колкие словечки, но никто не приветствовал «молодоженов» и не высказывал никаких пожеланий.
— Стоп! Давайте сначала! Черт побери! Ведь я же просил вас приветствовать их, а вы что делаете? А ну, вот вы там, двое, преградите им дорогу, и пусть один из вас обнимет жениха.
Выход «новобрачных» из церкви повторили.
— Поздравляйте, — прошипел режиссер.
— Дайте нам жрать! — отозвался громкий голос из толпы.
— Дайте нам хлеба!
— Эй, невеста, у тебя нижняя юбка торчит!
— Пей охлажденную кока-колу!
— Меня сейчас хватит апоплексический удар, — развел руками редактор.
— Спокойно, — утешал его режиссер, — звук мы запишем потом. — Кинокамера замолкла. Непослушная толпа продолжала кричать, но отказывалась выражать восторги по поводу свадьбы в Валке.
— По две марки каждому, кто будет приветствовать молодых и махать руками, — объявил редактор.
Толпа моментально сгрудилась около машины. К ней потянулись десятки рук, глотки алчущих кричали на все лады. Поднялась суматоха. Лагерная полиция едва-едва удерживала порядок. Под полуденным солнцем Ирена обливалась потом в шубке, она сердилась и нетерпеливо топала туфелькой, то и дело взглядывая с беспокойством в зеркало: не пострадал ли грим? Между тем снова выбирали статистов, изгоняя небритых и слишком уж оборванных, уговаривали какую-то девушку поцеловать невесту, когда та будет садиться в машину. Наконец все утряслось, «новобрачные» в четвертый раз вышли из церкви. «Артисты» за две марки орали, как на стадионе: «Давай, давай, поднажми», — и вообще что кому взбредет в голову. Девушка выбежала из толпы, вскочила на подножку открытой автомашины и поцеловала невесту. Ярко светило солнце; Ирена замахала белой перчаткой и по собственной инициативе послала всем воздушный поцелуй. Выпрошенная у докторши машина тронулась и, отъехав двадцать шагов, остановилась.
«Артисты» ринулись за вознаграждением. За ними потянулись и кое-кто из тех лагерников, которые не играли никакой роли. Снова поднялась кутерьма, послышались брань, смех, галдеж. Ирена со вздохом рассталась с тигровой шубкой, с жениха сняли темный пиджак, сунули ему в руку десять марок и пачку сигарет.
Редактор в шелковом галстуке, на котором в желтом овале была изображена статуя Свободы, уже думал о содержании своего комментария в недельном выпуске кинохроники; толпа медленно расходилась, удовлетворенная, повеселевшая и благодарная за редкое развлечение. В лимузине уезжал и редактор: «обмыть» в Нюрнберге с работниками кино удачную съемку. Они пригласили и Ирену. Девушка сидела в машине с букетом белой сирени на коленях, бледная и взволнованная, на пороге новой карьеры в кино, как ей казалось. Не было такой жертвы, которой бы она в тот момент не принесла «своему» редактору. Во всяком случае, она была полна решимости превзойти самое себя, — сегодняшнюю ночь этот золотой парень не забудет до самой смерти.
Через два часа врач отъезжала на запоздалый обед. Валка была вторым проинспектированным ею лагерем. Первый она считала несчастным исключением, а третьего она просто боялась. Здесь, в Валке, она почувствовала, что ее кусает блоха. Женщина с ужасом думала, что если хорошенько поискать, то, может быть, попадутся и вши… Перед нею мелькали лица виденных ею немощных старцев и истощенных чесоточных детей, молодых людей с запущенными венерическими болезнями. В лагере свирепствовал туберкулез, тяжелые формы неврастении. «Армия борцов за свободу, за светлые права человека, за настоящий гуманизм!» — горько усмехнулась доктор. Перед ее глазами возник отделанный травертином роскошный фасад фешенебельной больницы для американцев в городе Эссене, где она служит, блеск хромированного металла и стекла, микроклимат и телевизоры в палатах. Она не так давно убежала из Чехословакии и жизнь на Западе видела главным образом из окон этой американской здравницы. Но сегодня она поняла, что Германия — это не только руины, жилищная нужда и выздоровление народа после ужасной болезни. Эмиграция — это тоже часть германской действительности. Сегодня она постигла ту простую истину, что есть эмигранты, которые имеют по три секретаря, и другие эмигранты, у которых есть лишь вши и пропасть, более глубокая, чем океан. Как она теперь сможет ежедневно садиться за роскошный обед в столовой врачей, после того как сегодня видела детей, роющихся в отбросах за кухней? Как она станет посещать семью бывшего генерального директора чешского промышленного концерна и лечить его сыночка от ангины, когда эта польская девушка с разрушенными легкими сказала только: «Я немного кашляю»?
В последние минуты перед выездом из Валки доктор обратила внимание на молодого человека, на его необычайно широкую спину, длинное туловище на коротких ногах. Глаз врача сразу заметил эту горилью, непропорциональную фигуру. Молодой человек наблюдал за полетом ласточек над крышами и, приближаясь к машине, временами бросал недоверчивый взгляд на врача.
Женщина кивнула ему:
— У вас болит что-нибудь?
Он вытолкнул языком сигарету, затоптал ее ногой, хотя окурок давно уже погас, положил руки на дверцу автомашины и вместо ответа спросил:
— Откуда вы приехали?
— Из Эссена.
— Помогите мне выбраться отсюда за море, иначе я сойду с ума! — Его холодные круглые глаза, не мигая, застыли под сросшимися бровями.
— Я ведь только врач, понимаете, — она погладила хромированную планку дверцы. — Но я попытаюсь… Как вас зовут?
— Пепек! — ответил он, но потом, запинаясь, назвал полное имя и фамилию.
Женщина не могла спокойно выдержать его сверлящего взгляда. «Эти рыбьи глаза мне будут мерещиться», — подумала она, подогнула ноги и натянула юбку на колени.
— Двадцать месяцев я жду разрешения на выезд. Виза в Соединенные Штаты у меня была уже в кармане, но кто-то меня очернил… Если бы эта свинья попалась мне в руки… — Он произнес эти слова, не повышая голоса, но смертельный холод, который повеял от них, она почувствовала между лопатками. — Возьмите меня с собой, — продолжал Пепек. — Эссен — это ближе к морю, такая докторша, как вы, может себе кое-что позволить. Довезите меня до Гамбурга, до какого-нибудь порта, у меня ведь нет денег на билет в поезде, а там меня, может, примут кочегаром на пароход… Мне необходимо уехать за море, — выкрикнул он. Она видела теперь только его широко раскрытые, немигающие глаза маньяка.
— Я… ведь не могу, это… совершенно исключено… — Голос ее задрожал.
Пепек минуту все так же, не мигая, смотрел на нее, его плотно сжатые челюсти двигались, как тяжелые жернова, безотчетным движением он взлохматил волосы, спустил их на лоб, глубокое дыхание свистело в широких ноздрях. Потом внезапно отвернулся от врача и, не сказав ни слова, пошел прочь от машины.
Его ботинки были стоптаны на сторону, полусогнутые руки повисли вдоль тела, маленькую голову Пепек хищно выдвинул вперед, рыжеватые щетинистые волосы закрывали воротник пиджака.
Женщина в машине перевела дух. Она в замешательстве смотрела Пепеку вслед, раздумывая, должна ли она его окликнуть.
— Поезжайте! — крикнула она шоферу.
21
Серый малозаметный дом в гостенгофском предместье — один из немногих пощаженных войной. Гонзик вступил в сумрак коридора, окна которого были заделаны досками и картоном. Молодому человеку пришлось чиркнуть спичкой, чтобы разглядеть табличку: «Франц Губер». Когда дверь раскрылась, о пол брякнулась какая-то кастрюлька.
Маленькая, лет пятидесяти, женщина, увидев Гонзика, схватилась трясущимися руками за голову. Широко раскрытыми глазами она осмотрела парня с ног до головы и лишь потом в глубокой задумчивости наклонилась над кастрюлькой.
— Я думала… вы мне напомнили, — пролепетала она, держа кастрюльку в руке; другой рукой она поглаживала свой сатиновый передник. — Франц еще спит, но вы проходите, он хоть поднимется с постели.
Франц Губер уже сидел на кровати в куртке от пижамы. Сильные волосатые его ноги были голы. Из-под куртки виднелись ярко-красные трусы.
— Ага, рыцарь Валки; садись, садись, парень. — Губер зевнул и всей пятерней почесал свой воинственный ежик, затем выдвинул ящичек старомодного ночного столика и положил перед Гонзиком бумажный кулечек с очками. — Не скатился ты из-за меня с какой-нибудь лестницы?
Гонзик невольно отклонился от выдохнутого хозяином винного перегара. Тот это заметил.
— Не думай, что я с похмелья. Мне на работе приходится дышать всякой мерзостью. Думаю, человек имеет право иногда выжечь в горле эти бациллы, да и ночная смена — не отдых. Полюбуйся, как исправили! Теперь ты будешь видеть вдвое дальше! — Франц в шлепанцах хромал по комнате, собирая одежду.
Гонзик взял очки. Его глаза некоторое время привыкали к ним. Юноше казалось, что ему следовало бы поблагодарить Губера, он с большим трудом даже подыскивал немецкие слова, но ничего подходящего в своем скудном лексиконе не нашел.
— Вы это получили на войне? — сказал он наконец, указывая глазами на укороченную ногу Губера. Но сразу же этот вопрос показался ему глупым и бестактным.
Мусорщик открыл шкаф и искоса, подозрительно посмотрел на Гонзика.
— Я на войне не был.
— Почему, разве вы не немец?
Губер вытянул из шкафа брюки и задумчиво просунул указательный палец в дырку на коленке. Затем выпрямился.
— Немец, и еще какой!
Гонзик был озадачен.
— Ведь все немцы воевали. У нас в сорок пятом брали и старых дедов, заставляя их хотя бы рыть траншеи.
Губер уселся на подоконник и громко, почти весело шлепнул себя по ляжкам.
— Видишь, а меня не взяли. — Мусорщик наслаждался недогадливостью Гонзика, а потом насмешливо сказал: — Мне привалило счастье, всю войну я пропарился в тюрьме.
Гонзик был сбит с толку. В этот момент за его спиной скрипнула дверь, жена Губера внесла на подносике чашку с отбитым ушком, хлеб и кусочек маргарина. Женщина внимательно посмотрела на Гонзика и увидела бумажный футлярчик.
— Ага! Очки. Удивительная вещь, что Губер хоть раз в жизни сделал неприятность кому-то другому, а не себе самому. Ну, одевайся же, срамник ты эдакий, — прикрикнула она на мужа, все еще сидевшего на подоконнике.
— У меня колено вылезает из штанов, не хочу тебя позорить, Марихен! Принеси и ему этой бурды, чтобы он не смотрел мне в рот. — Губер присел к столу и заговорщически нагнулся к Гонзику: — А ты не знаешь еще, как женщины командуют мужьями? Погоди, женишься — узнаешь…
Гонзик старался уловить смысл немецких слов, разглядывая кряжистую фигуру хозяина, его изуродованные мышцы на бедре.
— Так вы целых пять лет… — едва выговорил он.
— Семь — меня посадили еще до войны. Но я снова управился раньше срока: бомба угодила прямехонько в тюрьму в Бреслау, ну, мы, конечно, не зевали, а потом меня уже не поймали. Все же память о нацистах у меня осталась. — Губер указал на ногу. — Вывихнутые руки доктор мне вправил, но с ногой у него дело не вышло.
По приглашению Губера Гонзик, колеблясь, отрезал кусок хлеба.
— А… что вы, собственно, сделали такого?
Губер намазал кусок хлеба маргарином и еще накрошил кусочки хлеба в кофе.
— Ты что, хочешь зашибить несколько марок? Сколько там в лагере платят за информацию?
Гонзик покраснел, встал. От возмущения он не находил слов.
— Что вы… Что вы обо мне думаете? Я в жизни никого… никогда бы я такой подлости не сделал!
Мусорщик, прищурившись, смотрел ему в лицо.
— Ну ладно, не сердись, я ведь не хотел… Так ты спрашиваешь, что я сделал? — забурчал Губер примирительно. — Ничего! Работал в профсоюзе. Разве это предосудительно? Сын мой, тот хотя бы что-то сделал. Он должен был пойти в армию, я тогда сидел и всего еще не знаю… Но он не осрамил отца — отказался под Смоленском стрелять в еврейских женщин и детей. — Губер сделал глоток, отодвинул чашку и нахмурился. — Его уложили в ту же яму, — добавил он глухим голосом.
Гонзик пришел в полное замешательство.
— А как вас могли… так, ни за что, на семь лет?.. — пролепетал он через минуту.
Мусорщик уже откусывал большие куски хлеба.
— Вероятно, у вас в Чехословакии нацисты посылали нежелательных им людей в санатории или к морю? — проговорил он с набитым ртом.
— Нет, конечно, но это же были чехи.
Губер подпер заросший подбородок широкой, как лопата, ладонью, перестал жевать и внимательно посмотрел Гонзику в глаза.
— Громы небесные! Да ты совсем безграмотный!
Снова скрипнули двери, старая женщина принесла вторую чашку кофейного эрзаца. Чашка была целая.
— Мажьте гуще, — она придвинула Гонзику маргарин и ласково положила руку ему на плечо. Гонзик заметил глубокие, скорбные складки около ее тонких бледных губ. — Губер, — нахмурилась она. — Ты все еще сидишь без штанов? Никогда не слушает! Так он ведет себя уже целых двадцать пять лет. Только здоровье мое портит, — пожаловалась она Гонзику.
— Не сердись, Марихен, я больше не буду. — И Губер отрезал себе еще кусок хлеба.
Дверь на кухню захлопнулась.
— Ешь, ешь, — потчевал Гонзика хозяин.
Но Гонзик не ел; ему в лагере постоянно твердили о «красном терроре». А теперь вот он сидит и мирно завтракает с одним из «красных». Профсоюзный работник — это почти коммунист! Гонзик вообразил, что он совершает измену. Как это можно, что и здесь, в Германии… Как это могут здесь таких людей вообще терпеть? Гонзик поплотнее прижался к спинке кресла, выпуклая декоративная резьба впилась ему в спину. Юноша мрачно посмотрел на соседа и сморщил лоб.
— Вы такие… — начал Гонзик зло, но ему недоставало слов. — Сектанты! — закончил он по-чешски.
— Что?.. Ага, Sektierer, — догадался мусорщик. — Так, так, — добавил он неопределенно. — Мажь хлеб маргарином.
— Вы все роетесь в своих книжках и вынуждаете других читать эти брошюрки, ловите людей, как на удочки, запутывая в свои делишки. Вы… такие бирюки. Никогда не смеетесь!
— Да нет, смеемся, — Губер набил свою трубку с обкусанным чубуком. Запахло дешевым табаком. — Только причин для смеха что-то маловато. Тут не смеяться, а плакать впору.
— А чем вы можете быть недовольны, раз вы живете на Западе? — Гонзик заколебался, раздумывая, следует ли ему завтракать у этого… «почти» большевика, но не выдержал и откусил от ломтя — хлеб был хороший, лучше лагерного.
Мусорщик бесцеремонно пустил дым в лицо Гонзику.
— Надеюсь, что и ты не ропщешь на судьбу. Ведь ты тоже живешь на Западе. — Губер откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу. — Послушай, Ганс, — сказал вдруг немец, подумав, — ты ведь убежал не от коммунистов. Почему ты здесь?
У Гонзика немного вспотели ладони. Он посмотрел на дверь, опасаясь, как бы не зашла старушка за посудой, и молча начал катать из мякиша шарик. После паузы Гонзик сказал:
— Я ничего плохого там не совершил, не думайте.
Мусорщик удовлетворенно кивнул головой.
— Тебе хочется в Африку, да? Ты, может, мечтаешь об Иностранном легионе, из-за денег хочешь превратиться в головореза и убивать где-нибудь безоружных туземцев?
У Гонзика покраснели уши. Вот тебе раз! Недавно Вацлав, а теперь этот мелет все то же самое. Должно быть, и в самом деле страшная вещь — этот Иностранный легион…
Мусорщик глубоко вздохнул и скрестил руки на груди.
— Олух ты эдакий! — снисходительно пожурил его Губер. — Был бы ты моим сыном, отделал бы я тебя как следует. Мечтал о львах, а получил клопов. За этой дрянью никуда не надо было бегать, ее и дома хватает. От вас тут никакого толка. Да еще как у кого что пропадет, только и слышно: «Это дело рук лагерников». Как правило, чехов. Замечательно вы дополняете наших хулиганов.
Гонзик уже знал, с какой шпаной их здесь сравнивают.
— Но в лагере есть и порядочные люди, — запротестовал он.
— Только о них никто не знает, а о мерзавцах слава гремит. Наша полиция переживает золотое время — чего там разыскивать преступников: дуй прямо в лагерь — и дело в шляпе! Что бы тебе сказала мать, знай она, в какую ты затесался компанию? Есть ведь у тебя мать?
— Есть, — дрогнувшим голосом ответил Гонзик и опустил глаза.
— Что она делает?
— Вдова, шьет белье.
Губер потерял хладнокровие. Он встал и начал ходить по комнате.
— Мне все же кажется, что я не удержусь и влеплю тебе оплеуху. Лучше уходи… Доешь и убирайся. — Губер гневно взъерошил всей пятерней свой ежик.
Гонзик опешил. Он сидел с низко опущенной головой.
Парень машинально отрезал себе еще кусок хлеба. Ломоть был мягкий, душистый, еще немного теплый.
— Намажь хлеб, дьявол ты эдакий! — прикрикнул на него мусорщик.
Гонзик послушно намазал маргарин на хлеб, тихо положил нож, и вдруг с ним произошло непостижимое: слезы подступили к горлу. Он поспешно отпил кофе, надеясь запить подступивший комок. Напрасно. А из угла комнаты на него строго смотрело изборожденное морщинами лицо, покрытое седой щетиной, мужественное, обветренное лицо с черными морщинами, из которых, вероятно, уже никогда не удастся вымыть въевшуюся пыль. Гонзик ожесточенно жевал, стараясь отогнать назойливые мысли. Его до глубины души поразил тот факт, что после семи месяцев прозябания в эмиграции сегодня в первый раз кто-то в Германии проявил к нему неподдельный интерес, по-настоящему заговорил с ним о его судьбе. Рукой, в которой был зажат ломоть хлеба, парень незаметно смахнул слезу, потом вытер руку о штаны.
Брови у Губера вздыбились, мусорщик искоса посматривал на парня. Старик плохо переносил мужскую чувствительность. Он без всякой надобности начал рыться в ящичке, хотя ровным счетом ничего не искал.
— Ну ладно уж, ешь! — примирительно проворчал Губер. — Хочешь еще кофе?
Гонзик глотал хлеб. Очки его запотели, и он стал протирать их платком. Он старался превозмочь себя, но это ему плохо удавалось: от старомодной мебели, от этого ершистого человека, от всей обстановки комнаты и даже от душистого хлеба повеяло на него устойчивым, обжитым покоем родного дома, Гонзик прекрасно понял сумятицу в душе старой женщины там, в дверях; и его мама тоже, наверное, роняет на пол посуду, когда неожиданно к ним входит кто-нибудь, похожий на него.
— Возможно… я попытаюсь… но ничего твердо не могу обещать, — отрывочно говорил Губер, шаркая шлепанцами по полу, а потом распахнул окно, — я поищу для тебя работу! — выкрикнул мусорщик в ответ на вопросительный взгляд Гонзика. — Чтобы ты зря не болтался!
— Но… я очень плохо знаю немецкий…
— А я и не собираюсь добиваться для тебя места профессора в университете, — и Губер развел руками. — А почему ты, парень, не говоришь по-немецки? Разве мы этого не стоим, мы ведь соседи ваши, великий народ?
— Расстреливали вы нас, вешали… что же, еще учиться благодарить вас по-немецки за это?
Мусорщик облегченно вздохнул и опять подсел к столу.
— Rechts hast du[128], но ведь по-немецки говорил не только Гитлер. Он, кстати, говорил очень скверно. Один профессор в тюрьме рассказывал, что у него волосы вставали дыбом от немецкой речи Гитлера. По-немецки, Ганс, говорил Гете, и Шиллер, и Бетховен тоже, если ты о них что-нибудь слышал. Нельзя поносить наш язык за то, что на нем иногда говорят скверные люди.
Гонзик побоялся вступать в спор на рискованную для него тему — его познания в немецкой истории были убийственно ничтожными.
— А… когда вы найдете мне какую-нибудь работу, то я должен буду посещать ваши собрания, да?
Губер поначалу рассмеялся от чистого сердца, затем встал, отыскал помазок и мыло, все еще продолжая посмеиваться, поставил на стол зеркало, сел напротив Гонзика и вдруг посерьезнел:
— Нет, камрад, ты не будешь посещать наших собраний. Может, это тебя обидит, но мы превосходно обойдемся и без тебя.
— У меня щетина, как дратва. — Губер начал намыливать бороду. — Три раза приходится править бритву, пока побреюсь. Эх, брат, забыл! — Он встал с намыленным лицом и принес брюки. — Мы с Марихен повздорили сегодня. — Мусорщик указал пальцем на себя, подмигнул Гонзику одним глазом и понизил голос. — Она сердится на меня за то, что я вчера… выпил. Пыль жрет внутренности человека, и иногда просто необходимо бывает эту пыль изгнать горючим. Врагу не пожелаешь такой работы. — Он разложил брюки на коленях, но забыл о них и начал с торжественной церемонностью бриться.
Гость встал.
— Благодарю вас за очки и за все.
— Всего хорошего. — Мусорщик пожал ему руку и посмотрел ему в лицо. — «Ну, очки у меня на носу, — думаешь ты, — а теперь мне на вас начхать, господин Губер, больше я к вам носа не покажу, большевик!» Так, что ли? Ну, ну, не сердись, заходи иногда, коль охота будет. А если мне удастся найти тебе какую-нибудь работу, дам знать. Grüss Gott[129].
В темной кухне фрау Губер подала Гонзику сухую, жесткую руку и внимательно посмотрела на ямочку на его подбородке.
— Ну что? Пошумел он на вас, да? И когда только он угомонится? Двадцать пять лет нас преследуют несчастья, тюрьма стала его вторым домом. Чего только мог бы достичь он с его-то головой!..
Она оглянулась на дверь и понизила голос.
— Неделю тому назад его допрашивали, мучили двадцать четыре часа! Он, видите ли, призывал мусорщиков к забастовке протеста против создания новой армии.
Она вышла вслед за Гонзиком в коридор. Сгорбленная, с редкими седыми волосами, между которыми на темени просвечивала белая кожа. Старушка прикоснулась к руке юноши повыше локтя.
— Мой сын тоже носил очки. Вы очень похожи на него. Он был в отца. Теперь мы осиротели, остались одни. Его звали Франц. Прошло уже пять лет, как мы с ним расстались, а он все еще стоит перед моими глазами как живой. Я вижу, как он от порога бросает шапку прямо на крюк вешалки, слышу, как он насвистывает песенку, — у него совсем не было слуха, и он всегда фальшивил… Когда Губера не бывает дома, здесь так тихо, словно в могиле… Я гляжу на дверь и говорю себе: «Вот сейчас она распахнется, и на пороге встанет Франц…»
Глаза у нее были сухие. Они глядели куда-то вдаль.
— Ну, идите и, знаете, лучше не ходите сюда больше. Мы под наблюдением, и вы того и гляди можете оказаться впутанным в какую-нибудь историю, мне жаль вас. Прощайте.
Она провожала взглядом Гонзика, пока он не вышел на улицу.
22
Этот день отличался от других тем, что начинался он заутреней. И все же воскресная скука казалась Гонзику особенно несносной. Он бесцельно шатался по лагерю и глазел на небо. Стая белых кудрявых облаков медленно двигалась на восток. Хорошо им! Они со своих высот видят бескрайний мир, новые неведомые страны и бесконечно свободны в бездонной синеве. Только он, Гонзик, вынужден прозябать на земле, в этих серых осточертелых бараках, на этой бесцветной, плоской, огороженной площадке. Все здесь придавлено, приземисто, противно, как его собственные развалившиеся и грязные ботинки.
Гонзик присел в траву, но вскоре встал — надоело. Отправился бродить по лагерю, не зная, куда себя деть, заглянул в клуб — там было пусто и безжизненно. От нечего делать Гонзик взял в руки захватанные, зачитанные до дыр журнальчики, начал читать какую-то статейку, но смысл не доходил до него.
Принялся писать письмо матери. Это было уже второе письмо. К первому он долго не мог приступить, надеясь написать тогда, когда найдет какую-нибудь работу. Но работы нет как нет, и ему было очень тяжело решиться наконец написать маме. Ответа он не получил. Дошло ли письмо? Или мама так рассердилась? Или она ответила, но ему не передали? Старожилы в лагере утверждают, что много писем с родины теряется именно таким образом. Неуверенность, вечная каждодневная неопределенность!
Тоска и сетования льются из-под его пера, хотя он всячески старается скрыть истинное положение вещей. Написав, Гонзик перечитывает свое письмо. Между строчками, помимо его воли, сквозит скорбь и разочарование.
Гонзик скомкал письмо и бросил в урну для мусора. С испорченным вконец настроением он отправился к себе в комнату. По дороге Гонзик подобрал брошенную кем-то палочку и, шагая, начал ею сбивать головки чертополоха, росшего вдоль дороги, потом стал чертить линию на песке, стараясь, чтобы она была ровной.
В бараке ему навстречу ринулась Баронесса с конвертом в руках.
— Моя карта выигрывает, Гонзик! А вы надо мной смеялись, сумасшедшие. В конце концов, это было моей верой, которая меня морально поддерживала! Пусть девяносто девять писем останутся без ответа, зато ответ на одно, сотое письмо, может перевернуть все вверх дном!
Он стоял перед ней с опущенными руками. Вот что значит власть и сила, заключенные в одном-единственном белом конверте! Нет, ему никакой конверт не принесет избавления, но помочь и ободрить весточка могла бы и его!
Баронесса схватилась за голову.
— Чуть не забыла вам передать поручение какого-то незнакомого человека, чтобы вы и Вацлав вышли за ворота лагеря. Он вас ждет.
Вацлав отыскался в чешском кабачке. Юноши вдвоем вышли из ворот лагеря — никого. Только на перекрестке у остановки автобуса чья-то спина в светлом спортивном костюме, ботинки на толстой резиновой подошве, густая черная шевелюра, отливающая синеватым блеском.
— Ярда!
— Где вы пропадаете, черти? Я уже собрался уехать!
— Разве ты не в тюрьме? — выпалил Гонзик.
Ребята стояли пораженные, смотрели на его светло-голубую сорочку, на «фильмовые» тона шелкового галстука. Гонзик непроизвольно осмотрел и свой костюм и застегнул воротничок рубашки.
— Ну, ну, говори со мной поинтеллигентнее, рыжий пистолет. Влезайте в этот ковчег, я уже два автобуса из-за вас пропустил, подпирая этот фонарный столб.
Они стояли в автобусе, идущем в город, все еще изумленные. Дорогой костюм с покатыми плечами, высокий, как у Гарри Гранта[130], крахмальный воротничок рубашки, манжеты на перламутровых запонках… От Ярды пахло дорогими сигаретами. Гонзику даже казалось, что от приятеля пахнет и какими-то женскими духами. Бог мой, конечно, женщины льнут к такому франту!
— Покажи! — Гонзик схватил Ярду за руку: на указательном пальце его левой руки сиял новый перстень с большим лазоревым аквамарином.
Ярда, к удивлению друзей, покраснел и смущенно произнес:
— Да брось ты, какое тебе дело! — и затем поднял левую руку и схватился ею за поручень.
— Смотрите, ребята, «Максим»! — крикнул Ярда и повеселел. Автобус проезжал мимо знакомой зеленой вывески со скрещенными киями. Точно так же снисходительно кричал, вероятно, Генри Форд в кругу своих ближайших друзей, предаваясь воспоминаниям о своей первоначальной нужде и лишениях.
Перстень с большим голубым камнем сверкал на поручне над головой Ярды, и, глядя на него, Гонзик вдруг ощутил глубину той бездонной пропасти, которая теперь отделяет его. Гонзика, рядового из лагерных социальных низов, от Ярды — человека, который окончательно от них оторвался.
Потом Вацлав и Гонзик в хорошем ресторане проглотили каждый по два обеда, запивая его мюнхенским пивом, и совсем вылупили глаза, когда им подали шоколадный торт. А Ярда все приговаривал:
— Жмите, убогие, поднатужьтесь.
Тоска по хорошей пище заглушила в молодых людях чувство обиды и собственного достоинства. Однако за черным кофе в благоухании американских сигарет «Кэмел» у ребят постепенно начали пробуждаться тревожные мысли. Как все же тесно между собой связаны мораль и полный желудок!
— Так, рассказывай, Ярда, чем ты заплатил за этот костюм и роскошные обеды? — попросил Вацлав.
Ярда потушил недокуренную сигарету, низкий его лоб нахмурился. «Что, собственно говоря, этот Вашек — дохлятина, студентишка в грязной рубашке — позволяет себе? За кровные денежки Ярды набил себе брюхо, чтобы потом критиковать того, кто его угостил?» Ярда барабанил вычищенными ногтями по белой скатерти и молчал, обдумывая самый ядовитый ответ. Он смотрел на пожелтевший от пота, застиранный воротничок приятеля, на золотой перстенек — подарок матери, свободно снимающийся с его тонкого пальца, на провалившиеся щеки и прозрачные веки с синими жилками, на впалую грудь своего товарища и пиджак, болтающийся, как на чучеле, и сердце Ярды смягчилось: нет, дать сдачи этому бедняге — это было неравной борьбой.
— Здесь не место для объяснений, — произнес Ярда, не отвечая на прямой вопрос, и беспокойно посмотрел по сторонам, — let’s go[131], — ошеломил он приятелей своим произношением.
И вот они опять едут в автобусе, на этот раз по маршруту «Герсбрук» — вверх по течению реки Пегницы. Заросшие лесом холмы Райхсвальда возвышаются слева. В голубой реке плывут облака, а за рекой весело мчится вдаль поезд. Немецкие папаши везут на задних сиденьях своих велосипедов детишек на воскресную прогулку на лоне природы, иногда их обгоняет «мерседес» или «крейслер» с американским флажком на радиаторе. В машинах — чисто выбритые, сытые физиономии под военными пилотками, а возле — бесконечно счастливые избранницы — Гретхен, Лизы, Труды, Анны, Марии.
Юноши вошли в тенистый сад загородного ресторана. Невдалеке от реки люди в трусах играли в волейбол, на зеленой травке расположились семьи, а на воде какой-то молодой человек сидел за веслами рядом с розовой, как ягодка, девушкой. В общем ничего особенного, обыкновенная воскресная картина, но Вацлав и Гонзик смотрели вокруг широко раскрытыми глазами, как люди, поднявшиеся после тяжелой болезни и вернувшиеся к жизни, к солнцу, как заключенные, которые отсидели много лет в тюрьме и впервые вышли в мир, не огражденный железными решетками.
— Попозже сюда придет моя приятельница.
Господи, несколько километров от Валки — и такая жизнь! И они могли бы каждое воскресенье бродить по лесистым холмам, кататься с девушкой на лодке, выпить стаканчик рейнского в загородном кабачке, жить по-человечески. Но все люди вокруг завоевали право на такое воскресенье шестидневной работой, а они, Вацлав и Гонзик, не имеют права на воскресный отдых. Но, что горше всего, они не имеют права и на труд.
Вацлав задумчиво наблюдал за полетом пары белых чаек над водой. Они на лету притормаживали крыльями, выпускали вперед тонкие стройные ноги и грудью рассекали опаловую ширь воды. Потом мощными ударами крыльев снова возносились в солнечную высь.
Вацлав казался себе здесь безучастным зрителем, незваным гостем, который но недосмотру попал на чужой интимный праздник.
Боже милостивый, ниспошли нам хоть какую-нибудь работу!
Дарованный обед камнем лежал в желудке Вацлава.
— Так рассказывай, Ярда!
Три бокала тоненько звякнули, превосходное мозельское вино наполнило рот приятным горьковатым вкусом. Ярда пристально посмотрел в лица своих приятелей, тронул свой воротничок.
— Неужели вы думаете, что я сам… — Он быстро сорвал зажим, придерживающий скатерть, и насадил его на несколько сантиметров дальше. — Я бы сам никогда ничего подобного… Мне бы и в голову не пришло.
Вацлав вздохнул. В продолжение всей этой встречи в душе Вацлава жила искорка надежды на то, что Ярда повстречался с чудом. Теперь она погасла, от нее осталась только струйка дыма. Нет, уже два тысячелетия на земле не творится чудес!
— Кто же тогда? — прошептал Вацлав.
Ярда облизнул губы.
— Вы не трепачи, надеюсь… Патер Флориан.
У Гонзика волосы встали дыбом.
— Как можно… Священник?! — пробормотал юноша, отодвигаясь на самый краешек стула.
Ярда пожал плечами, мизинцем выловил мушку из вина, криво усмехнулся.
— Контролер из кинотеатра, который у моей сестры обманом вытянул половину приданого, выдавал себя за инженера, — Ярда собирал со скатерти крошки, вдавливая их себе под ноготь. — Я не хочу быть несправедливым к Флориану, но он припер меня к стене совсем не по-христиански…
В противоположном конце сада шумно заиграл оркестр.
— И натерпелся же я страха, ребята, а оказалось — все зря. В общем ни о чем существенном речи не идет. От меня потребовали немного. Они люди великодушные, широкого размаха. Куда нам до них! Я получил деньги, одежду, живу на вилле.
Вацлав и Гонзик молчали. Они не знали, что ответить на все это. Оркестр умолк. Лысый толстяк в брюках на подтяжках, сидевший за соседним столиком, поставил кружку с пивом на стол и долго аплодировал музыкантам, а потом ладонью стер пену с усов. Вацлав протянул белую руку, взял Ярду за рукав, пощупал материю и спросил:
— И это тебе дали за то, что… в общем ничего существенного?
— Дурак! — Ярда вырвал рукав пиджака, пригладил обеими ладонями волосы на висках, затем схватил бокал и жадно выпил все вино. После этого он подтянул брюки на коленях, удовлетворенно коснувшись заглаженной складки. — С вами нельзя разговаривать. — Ярда откашлялся. — Ну, что они от меня потребовали? Достать телефонный справочник, проездной билет на поезд, какую-то пустяковину о нашей фабрике, которую знает каждый ученик. — Он остановился и перевел дух. О самом последнем задании — раздобыть в Чехословакии чей-нибудь паспорт — Ярда умолчал. — Вот и все, чтобы вы не думали черт знает о чем!
Гонзик откинулся на спинку стула, а руки положил на край стола, как послушный школьник. Юноша упорно смотрел на пятнышко солнца на рукаве Ярды. «Этот человек, — думал Гонзик, — через несколько дней, возможно, уже будет на другой стороне Шумавы. Почему от него потребовали такую чепуховину? Может быть, он врет? Нет, он не способен так быстро и ловко сочинять…» Возможно, Ярда окажется в Чехословакии на Высочине и, может быть, даже в его, Гонзика, родном городе! Господи… а что, если он там встретит маму? Хотя бы парочку слов он принес от нее, ведь он, Гонзик, не знает, что с ней, здорова ли она, вспоминает ли или возненавидела своего сына. Восемь месяцев он ничего не знает о ней и не узнает, даже если она… Боже, не допусти такого несчастья…
А Ярда настороженно поглядывал на своих приятелей. Упорное молчание, воцарившееся за столом, раздражало его, пробуждало беспокойство. Его комфортабельная квартира, несмотря на то что сами немцы живут еще в подвалах, превосходная жратва и костюмы из дорогого материала. Ведь все это не дают просто из сочувствия к перебежчикам! Этот проклятый голос, который всегда умеет отравить минуты хорошего настроения, снова начал свою разрушительную работу вдруг, неожиданно, когда Ярда меньше всего мог ожидать этого.
Однажды, когда Ярда еще учился ремеслу, учеников повели в театр. Ярду это не особенно заинтересовало. Он думал, что там будут танцевать полуголые балерины, а увидел какого-то доктора Фауста, который отдавал душу черту. Чепуховина! Но теперь в памяти Ярды всплыла эта сцена. Этот человек хорошо жил, был счастлив, богат, любил, а в конце концов докатился до…
Ярда видит свою фешенебельную холостяцкую квартиру с передней, ванной. В жизни ему никогда не снилось такой квартиры. А к ней еще всякое другое… Нет, стоимость всего этого ему придется возместить с большими процентами. Американцы — дьявольские торгаши! Голос на дне его души, голос совести и страха… Как все удивительно устроено в этом мире: одно зло рождает другое, поддашься один раз — и вот уже тянешь целую цепь.
Есть, правда, один выход, так сказать, задняя калитка. Ярда уже много раз об этом думал. Ведь настанет же тот тяжкий день, когда он очутится на родине. При одной мысли об этом Ярда обливается холодным потом, в коленях появляется дрожь, американская сигарета становится противной на вкус. А что, если… Разве не бывает, что такой вот человек, как он, по тем или иным мотивам возвращается с повинной? Строгое наказание — это ясно, хотя Ярда не имеет понятия, сколько лет отсидки полагается за то, что он натворил. К этому еще надо прибавить и те полуоси. Правда, он мог бы кое-чем добиться смягчения приговора. Он немало знает о своих здешних «благодетелях». А все-таки какое из двух зол меньше?
Ярда почти враждебно оглядывает своих компаньонов. Им что? Они теперь сверху вниз смотрят на своего приятеля. Ведь никто из них не попал в такое положение, как он!
Вацлав отодвинул бокал с недопитым вином. Он прижал руки к животу, сгорбился и низко наклонил голову.
— Не следовало есть двух обедов. Мне плохо… — Вацлав попросил дремавшую официантку принести черного кофе.
— Для тебя лучше, если ты по два раза в день будешь насыщаться высокой моралью. — И Ярда криво усмехнулся. — Я не убийца и не грабитель какой-нибудь, не знаю, что вы от меня хотите! — вскрикнул он и резким движением стряхнул с рукава божью коровку.
— Не кричи, кто тебе это говорит? — отозвался Гонзик и с опаской оглянулся на соседний столик, но толстяк в подтяжках обнимал за шею упитанную женщину с лоснящимся носом и, блаженно зажмурив глаза, что-то шептал ей на ухо.
— А в конце концов, — тихо сказал Ярда, сосредоточенно катя по скатерти крошку к краю стола, — где написано, что эти хитрецы, — Ярда щелкнул по дорогому материалу своего костюма, — не напоролись на того, кто хитрее их самих?
Гонзик не успел вдуматься в смысл этих слов. Лицо Ярды вдруг просияло, он неуклюже встал из-за стола. В песке заскрипели быстрые, упругие шаги женщины. Соломенная шляпка, лиловое сердечко губ, приятный низкий голос.
Ярда представил своих приятелей на корявом немецком языке. Ребята смутились. Гонзик хрустнул пальцами, опустил глаза. Потом одной рукой подбоченился, а другой начал обмахиваться, наконец, явно не зная, что делать дальше, вперил взгляд в Вацлава: он вожак, пусть что-нибудь предпримет. Гонзик вдруг вспомнил жену Франца Губера, кто знает, как и почему, но с тем запасом немецких слов, который у него есть, он без особых затруднений с ней объяснялся. Дама вложила в накрашенный рот сигарету, Ярда услужливо зажег спичку, сигарета зажглась с одного боку.
— Я тебе неверна, — игриво напомнила она примету курильщиков.
Ярда удивленно посмотрел на нее. Он с тихой гордостью вспомнил тот момент, когда в первый раз увидел ее. Уже тогда он почувствовал, что она будет принадлежать ему. Счастье всегда на стороне отважных.
Анна, прищурившись, осмотрела гостей за соседними столиками.
— Что поделывает моя старая Прага? — обратилась она к Вацлаву и непринужденно закинула ногу на ногу. — Я была в ней по пути из Карлсбада в сорок первом, когда у мужа был отпуск, oh, eine entzückende Stadt![132] Когда я представляю себе, что он теперь в руках коммунистов, я прихожу в ужас. Столько в Праге исторических памятников! Наш Нюрнберг тоже кое-что из себя представлял до того, как его разбили. Он снова будет таким же, когда его возродят, но Прага… Ничего не поделаешь, это надо признать, Прага даст Нюрнбергу несколько очков вперед. Но это не заслуга красных, — рассмеялась она, при этом в уголках ее рта появились ямочки.
Гонзик ловил каждый звук ее баварского говора, он даже наконец отважился взглянуть на нее. Она, несомненно, была намного старше Ярды. На шее уже обозначились первые складки. Верхняя губа немного закрывала нижнюю, что придавало ее лицу раздраженное выражение. Гонзик скользнул взглядом по серебряной брошке на кофточке и, схватившись за очки, побледнел: в центре броши, в граненом орнаменте был вычеканен знак эсэсовцев.
Разговор не клеился. Вацлав временами прижимал локти к животу, лоб у него покрылся потом, — его желудок, давно уже отвыкший от жирной и обильной пищи, теперь причинял ему мучительную боль. К радости Гонзика, Вацлав вскоре поднялся. Он по-чешски поблагодарил Ярду за угощение и по-немецки распрощался с его приятельницей. Ярда встал вместе с ними. Молодой человек был неприятно удивлен внезапным уходом товарищей. Он проводил их до самого выхода.
— Если… если я вам понадоблюсь или вы на что-нибудь решитесь, — он повертел аквамарин на пальце, потом нацарапал свой адрес на автобусном билете.
Парни пожали ему руку и ушли.
Всю обратную дорогу Вацлав молчал. Одно веко у него временами нервно вздрагивало. Только когда они въехали в Нюрнберг, он протянул бумажку с адресом Ярды.
— Хочешь? — спросил он Гонзика.
Гонзик отрицательно покачал головой.
Вацлав без дальних слов разорвал адрес Ярды на мелкие кусочки и, высунув руку в приоткрытое окно, разжал кулак. Клочки бумаги секунду летели вслед за автобусом, затем стали опускаться на мостовую.
Юноши брели по вечерним улицам. Вацлав все еще был бледен, он беспомощно прислонился плечом к фасаду здания и прижал руки к животу. Когда боль чуть утихла и Вацлав отдышался, приятели побрели дальше.
Не успели они сделать и нескольких шагов, как Гонзик схватил друга за рукав — перед широкой витриной стояла Катка. Вацлав споткнулся от неожиданности и остановился. В этот миг Катка повернула лицо в их сторону. Уклониться от встречи было невозможно. Катка подошла к ним, робко посмотрела в лица парней, не зная, что сказать.
— Оставь нас на минуту одних, Гонзик, — шепнул Вацлав. У него мгновенно поднялась мучительная изжога.
Гонзик покраснел и, засунув руки в карманы, медленно побрел к витрине туристской конторы и бессмысленно уставился на большую карту Европы. В его душе бушевало чувство обиды за унижение и гнев против Вацлава.
— Знаю, ты ждешь объяснения, — прошептала Катка так тихо, что он едва услышал ее.
— Какие объяснения? — прохрипел Вацлав. Ладони его вспотели, веко дергалось сильнее. — Не станешь же ты утверждать, что приходила к папаше Кодлу по служебному делу? — закончил он грубо.
Она стояла перед ним бледная, полуоткрытые губы ее дрожали.
— Ты пошла к нему добровольно?! — выкрикнул он.
— Да.
— Ночью?!
Катка хотела что-то сказать, но не смогла и только в ужасе смотрела на его дергающееся веко.
Вацлав глотнул воздух, тошнота подступила к горлу; боль в желудке смешалась с отвращением, в его уме мгновенно мелькнула мысль, что папаша Кодл, это животное, эта слюнявая морда, обладал ею. В глазах у Вацлава потемнело, на лбу выступил холодный пот. Боль и стыд, страшная ненависть и отчаяние ослепили его.
— Ступай туда, где тебе место!.. Иди к таким же, как ты!
Гонзик, оторвавшись на миг от витрины, вдруг увидел, как Вацлав, спотыкаясь, пробирается на другую сторону улицы между мчащимися автомашинами. Вот наконец он достиг противоположного тротуара и, как пьяный, прижался к столбу на автобусной остановке. Вацлава, по-видимому, тошнило, он прижимал носовой платок ко рту.
Катка, ошеломленная, стояла посреди тротуара, мешая прохожим, но ее безжизненные глаза не видели этого. Гонзик взял ее за руку, и она, словно ребенок, послушно пошла за ним. Рука у нее была холодная, бессильная. Низкое вечернее солнце озарило ее посеревшее лицо, и Катка зажмурила глаза; на ее правой щеке видна была знакомая Гонзику ямочка, но теперь она не украшала ее; лицо было поразительно безжизненным.
У Гонзика шумело в голове, ноги его отяжелели, как будто на них надели ботинки водолаза, ему захотелось присесть где-нибудь. Мысли в беспорядке роились в его голове, ему было ясно одно: Вацлав уходил от Катки, спотыкаясь. Гонзик недавно кое-что слышал от него о Катке, но не мог этому поверить, нет, никогда он этому не поверит!
Они брели, куда глаза глядят, мимо развалин старых улочек, сбегавших к реке. Катка безропотно шла рядом с Гонзиком. Вскоре на них повеяло освежающей прохладой. Но от грязной поверхности Пегницы, блеснувшей в просвете между домами, потянуло слабым запахом нефти. Они присели на скамейку в садике на мысе между рекой и фабрикой. Плакучая ива повисла над ними влажным занавесом. Здесь было приятно после знойного дня, а к запахам фабричных отходов они скоро привыкли. Невдалеке перекинулся через реку старый деревянный мост с крутой крышей. На противоположном крутом берегу террасами стояли дома с резными балконами, стройными готическими башенками на углах и множеством чердачных окон. Пощаженные войной дома — все здесь дышало глубоким покоем минувших столетий.
Катка неподвижным взором смотрела на хлопья белой пены, тихо подвигавшейся по грязной глади реки. Гонзик инстинктивно почувствовал, что Катке необходимо помолчать, что между нею и Вацлавом разыгралось что-то важное. Может быть, ему следовало бы радоваться, но лицо Катки беспокоило его. Он с огорчением подумал об утраченной ею спокойной уверенности, которой она так резко отличалась от других обитательниц лагеря. Она, как все в лагере, несла в себе тяжкую ношу, но теперь казалось, что тяжесть ее стала непосильной. За последние несколько дней черты ее лица как-то стерлись, весеннее солнышко слегка опалило его, но это не был здоровый загар, а только крупные темные веснушки, усыпавшие ее щеки и лоб.
И все же ее близость волновала. Голова у него чуть кружилась, а в ногах чувствовалась усталость. Это мозельское вино было отличным! Гонзик до сих пор чувствовал удовлетворение от превосходного обеда. Нет, как ни говори, а сегодняшний день — удачный. И вот он теперь сидит возле Катки, касаясь своим плечом ее плеча.
В отрочестве Гонзик в строжайшей тайне от всех любил представлять себе: во время кораблекрушения на обломках шлюпки спаслись только он и девушка, прекрасная, как богиня. Море выбросило их на пустынный тихоокеанский остров, которого даже нет на картах. На острове растут бананы и апельсины, в первобытных лесах прыгают обезьяны, на лугах пасутся антилопы, И они — спасшиеся от крушения — живут, страстно, безумно любя друг друга, забытые людьми, в полном одиночестве, здесь обрели они свой рай, как новоявленные «первые» люди.
Эта старая, волнующая картина вновь возникла теперь в его памяти. Извилина Пегницы в лучах заходящего солнца — это далекий океан, мыс с печальной ивой — часть девственного леса. Ведь и они вдвоем покинуты и забыты всем светом, неважно, что с настила старинного моста сюда доносятся шаги прохожих. Гонзик с Каткой отрешены от всего окружающего, родина для них еще более недосягаема, чем для тех, кто потерпел кораблекрушение посреди открытого океана.
Детские мечты. Какая наивность! Гонзик горько усмехается своему безрассудству. Со снисходительностью взрослого вспоминает он о долгих часах, проведенных где-нибудь в уединении над захватывающими книгами. Совсем в ином свете увидел он реальные приключения, в которых завяз! Они предстали перед ним без позолоты фальшивой романтики, в виде самой обыденной суровой жизни, в которой никто не скачет на конях, не стреляет из кольтов, но в которой жизнь человека на каждом шагу подвергается опасности! Прожитый здесь год навсегда излечил его от глупых мечтаний, и теперь перед ним стоит навязчивый вопрос: к чему, боже милостивый, приведет в конце концов эта трагическая ошибка?
Но возле Катки он лишался уверенности в себе, приобретенной в тяжелых испытаниях прошедшего года.
Он несмело положил руку на спинку скамейки за Каткиным плечом. До него донесся слабый, чуть пряный запах ее волос. Над безмолвной гладью реки, в лучах заходящего солнца толклись стайки мошек, в их пляске было столько жизни, а он, Гонзик, какой-то вялый, утомленный, от мозельского у него все еще чуть кружится голова. Уединение и остров в океане…
— Катка…
Она, наверное, не расслышала. Ее глаза в последнее время привыкли смотреть в пустоту, а сейчас она вдруг увидела картину: она входит в канцелярию управления лагеря, стучится в дверь кабинета папаши Кодла. Какую внутреннюю борьбу пережила она, прежде чем решилась вновь переступить порог этой комнаты, какое отвращение должна была подавить в себе, прежде чем отважилась взглянуть в лицо этому чудовищу.
— Вы обещали достать мне бумаги.
Электрическая бритва визжала возле его уха. Кодл даже не выключил ее, вынудив Катку повторять просьбу, кричать, чтобы заглушить машинку.
— Делаю, что могу, это не так просто!
Он не учел, что она-то слышит отлично, и тоже кричал во весь голос. Двумя пальцами он натягивал кожу на двойном подбородке и, наклонив кудрявую голову набок, брился. Катка, стиснув кулаки, упорно старалась не взглянуть на курительный столик, на диван, покрытый изношенным покрывалом.
— В таких серьезных делах, девонька, нельзя переть на рожон. Сейчас я не располагаю временем, с минуту на минуту жду приезда инспекции, ты заходи вечером, побеседуем о деталях…
Катка не дослушала и вышла, задыхаясь от страшной обиды и гнева. Она-то воображала, что цинизм имеет какие-то границы! В ее памяти запечатлелось выражение облегчения, отразившееся на его физиономии в момент, когда она взялась за ручку двери.
Катка повернула голову к Гонзику и отсутствующим взглядом посмотрела в его умиленное, как будто бы покорное лицо.
Все потеряла она в этой азартной игре: Ганса, мать, родину, право на труд и, наконец, Вацлава — единственного человека, чей духовный мир внушал ей уважение, единственного, кто теперь мог бы помочь ей выкарабкаться из этой трясины.
Гонзик — славный малый, он, по всей вероятности, поделился бы с нею последним куском хлеба и сердце отдал бы ей целиком, но Гонзик не тот человек, чье превосходство она могла бы признать, а любовь женщины к мужчине должна питаться восхищением, в противном случае она постепенно угаснет, едва лишь минует первое физическое упоение.
— В нашу комнату поселили девушку, — ни с того ни с сего сказала Катка, — ее поймали на границе, она хотела вернуться в Чехословакию. Шесть месяцев она томилась в тюрьме: подозревали, что она была заброшена сюда как шпионка. Теперь, вероятно, тоже смотрят за каждым ее шагом.
Две ласточки-касатки, как стрелы, промелькнули под аркой старинного моста. Белая накипь пены вперемежку с городскими отбросами тихо плыла вдаль.
Катку вдруг передернуло, как от озноба. Она съежилась, будто провинившееся дитя, уткнулась лбом ему в плечо и заплакала громко, неудержимо. Гонзик прижал Катку к себе и коснулся губами ее волос. Пряный запах стал явственнее, Гонзик закрыл глаза, ее округлое плечо вздрагивало под его ладонью. В смятении он целовал ее волосы… Рядом с ним была не созданная мечтами обольстительная женщина, а слабый, несчастный человек. Где вся ее уверенность и сила? Она вся согнулась, и Гонзик не знал, как ее утешить. Рукав его выгоревшего пиджака впитывал все новые и новые слезы. Дикий рой мошек плясал над самой гладью реки.
Две женщины прошли мимо по тропке и с недоумением оглядели сидящую пару, по мосту протопала группа молодых людей, судя по одежде — Halbstarke[133], как говорил мусорщик Губер, донеслись выкрики и громкий девичий смех, в окне высокого дома напротив ярко сверкнуло отражение последнего луча заходящего солнца.
Катка слегка вздрогнула и встала.
— Пойдем, Гонзик, — сказала она, пряча от него заплаканные глаза.
Они пошли по булыжной мостовой старого города. Гонзик был немного разочарован, но вместе с тем и взволнован. Он взял Катку под руку и чуть-чуть огорчился, что она как будто даже не заметила этого. Они остановились на перекрестке: здесь кончалось средневековье и жизнь делала скачок сразу через четыре столетия: «форды» и «паккарды» катили по асфальту, визжали клаксоны бешено мчавшихся «джипов» американской военной полиции, а на тротуарах околачивались жующие резинку солдаты в гимнастерках цвета хаки.
— Почему решилась вернуться домой та девушка, о которой вы рассказывали?
В феврале она убежала со своим другом, но их любовь не выдержала здешних невзгод. Он бросил ее и завербовался во французский Иностранный легион. А потом девушка получила весть, что он там застрелился.
23
Папаша Кодл, уединившись в своем кабинете, вынул из ящика письменного стола электрическую бритву — вечером придут гости, да и надо же чем-то заполнить служебное время. Но едва лишь машинка зажужжала около его уха, в комнату вошел Капитан.
— Шеф, из нашей комнаты исчезла Ганка.
Папаша Кодл приподнял правую бровь.
— И давно вы пользуетесь ее продовольственной карточкой?
— Она удрала всего два дня назад и захватила с собой чемодан. У нее не хватило благородства оставить свои карточки соседям по комнате.
— А Ирена?
— Ничего не знает или знает, но не говорит.
— Подождем до завтра, генерал-лейтенант, — Кодл обнял Капитана за плечи, — а потом исключим ее из личного состава. Такова жизнь! Овечки приходят и уходят, только старый пастырь дожидается своей последней весны. Пренебрегла, голубка, теплом отцовского очага. С неделю тому назад я снова заметил нейлоновые чулки на ее толстых ножках. Вспорхнула к солнцу, только как бы ей не войти в хронику Валки в роли Икара! — Кодл отсалютовал Капитану двумя пальцами, дав понять, что аудиенция окончена, и снова включил бритву.
После того как в Валке был роздан ужин, в частную квартиру заместителя начальника лагеря пожаловал лагерный врач с женой. Она удостаивала своим вниманием ужины у папаши Кодла всего лишь раз в месяц, да и то без особой охоты. Доктору посчастливилось нанять квартиру в городе, а потому супруга его смотрела на лагерь сверху вниз: там водились клопы! Хотя квартира папаши Кодла была в этом отношении вне подозрений, госпожа докторша никогда не чувствовала себя здесь хорошо. На своем обычном месте под торшером докторша сидела с опаской, в напряженной позе, брезгливо избегая прислоняться к спинке мягкого кресла.
В своей обширной квартире, устланной хорошими коврами и увешанной безобразными картинами, папаша Кодл был щедрым хозяином. Апельсины, ветчина или коробочка сардинок были в то время роскошью для коренных жителей Нюрнберга, а у папаши Кодла всего этого было вдоволь. Поэтому докторша прощала радушному хозяину фарфоровые статуэтки голых женщин во всевозможных позах, которые были наставлены в изобилии по всей квартире. И всякий раз во время визитов папаша Кодл брал докторшу под руку и, хрюкая от восторга, с глазами, влажными от смеха, уводил ее в спальню: на столике для цветов, среди петуний, примул и аспарагусов, на спине коричневого оленя с позолоченными рогами мчалась розовая танцовщица; к ее бедрам были прилеплены панталончики из лилового бархата, полоска такого же бархата целомудренно покрывала ее грудь.
— Эту скульптурку, госпожа докторша, я приобрел лишь затем, чтобы показывать ее вам, — захлебываясь от восторга, говорил всегда папаша Кодл. — Вы теперь, надеюсь, не будете говорить, что я бесстыдник!
И докторша каждый раз немного принужденно смеялась.
Поздно вечером, после того как были рассказаны десятки скользких анекдотов (папаша Кодл был особенно мастак рассказывать еврейские анекдоты), слушая которые пани Ирма неизменно захлебывалась от смеха, докторша, пресыщенная венгерской колбасой, лососиной в майонезе, натуральным кофе со сбитыми сливками, сладостями и дамскими ликерами, наперекор своей привычке развалилась в кресле, забыв о клопах, с тихим сожалением глядела на угощенье, которое еще оставалось на столе.
А хозяин дома, усевшись с доктором в соседней комнате у курительного столика, неуверенной рукой отрезал кончик гаванской сигары. Щуря, как сытый кот, маленькие затуманенные глазки, папаша Кодл стал горько сетовать на судьбу, забыв, что доктор является его подчиненным.
— Трагический удел тыршовского[134] «вечно в изменении, вечно в движении», друг мой. Я несу в себе вечное беспокойство, неотвязное, как тень, любая девка, как только я ею овладеваю, тут же перестает меня занимать! — Единым глотком Кодл выпил очередной стаканчик, склонил потный лоб на ладонь согнутой руки, а другую откинул в сторону трагическим жестом отставного актера. — Нет, не вознесусь я больше в заоблачные высоты. Я влачусь по жизненному пути с разбитым сердцем. Уподобляюсь затравленному кобелю, рыскающему от одной сучки к другой в напрасных поисках очарования чистой любви. Ваш друг — несчастный человек! — Папаша Кодл широко развел руками и даже прослезился. — Но ведь вы, черт возьми, врач, разве нельзя меня вылечить каким-нибудь впрыскиваньем, что-нибудь вколоть мне.
— Самое лучшее было бы просто заколоть вас, — сказал доктор со свойственной ему прямотой. Он развязал галстук на вспотевшей шее, вытянул толстые, как столбы, ноги и уставился на хозяина скучающим ленивым взглядом.
Папаша Кодл как будто оскорбился.
— Послушайте, раджа из Эшнапура, — Кодл круто изменил тон, — был я позавчера у Зиберта. Как вы, собственно говоря, его лечите? Он цветет и великолепно себя чувствует! Вы, должно быть, решили мне нагадить. Тогда скажите прямо, по-чешски. Вы не поверите, сколько найдется покупателей на стрептомицин и стрептоцид.
— Уважаемый, — доктор выпрямился в кресле и положил руки на подлокотники, тонкая ткань серых брюк натянулась на толстых коленях. Между густыми зарослями волос на запястьях блестели крупные капли пота. — Извольте принять во внимание, что я не идиот. Да и герр Зиберт не дурак. Пациенту проще простого повернуться спиной к доктору, к которому он потерял доверие.
— Никогда он этого не сделает, — рявкнул папаша Кодл. — Зиберт слишком скуп, чтобы платить чужому врачу. Так вы, стало быть, вознамерились добиваться доверия до полного его выздоровления?
— Дайте сюда сифон с газированной водой, иначе я издохну от жажды, — доктор сбавил тон, заерзал в кресле и взволнованно начал теребить бородавку под носом. — Учтите, что призвание врача — гуманизм. Не лезьте в дела медицины, я же не впутываюсь в ваши торговые проделки. Gentleman’s agreement[135], придет час — вы снимете свою шляпу и поклонитесь мне в пояс!
Папаша Кодл копошился в баре, брезгливо отер о брюки испачканные ликером пальцы и повернулся к доктору:
— Я был бы очень огорчен, если бы этот час пробил через десять лет. Мне также хотелось бы, чтобы вы, милейший, не забывали о том, что должность лекаря в Валке не вполне законна, да и вообще чудом является то, что мне на этом месте удается держать чеха — своего человека…
24
Фасад Восточного вокзала в Париже удалялся и становился меньше за спиной Вацлава. Он почти не замечал усталости после бессонной ночи в поезде. Шутка ли, первая встреча с этим городом городов!
Маленькие кафе с мраморными столиками, выставленными прямо на тротуар, длинные цепочки такси, легковых автомашин «пежо», черные мужские береты, мягкие носовые звуки речи. Сквозь решетку под ногами на Вацлава мгновенно повеяло сладковатой духотой метрополитена; над плетенкой с цветами вызывающе блеснули девичьи глаза; обносившийся человек с усиками д’Артаньяна ловким движением фокусника развернул перед Вацлавом веер порнографических фотографий. Boulevard de Sebastopol[136].
Тяжелый, душный запах асфальта, бензина и выхлопных газов отступил под дуновением влажного ветерка. Сена. В стекловидную, не подернутую рябью поверхность воды весело смотрится утреннее солнце, а вдали повисли над рекой белые парижские мосты. Куда смотреть, чем любоваться раньше? У Вацлава такое чувство, будто грудь его вздымается выше и дышит он чаще от какого-то торжественного чувства: знакомый крутой взлет готической крыши и массивные дымоходы — ратуша! Он знает это здание по открытке. Родители послали ее ему из своего последнего заграничного путешествия перед войной. Чуть не весь Париж запечатлен на поздравительных открытках, которые в изобилии им присылали друзья и знакомые. Вон там, за рекой, — усеченные башни Нотр-Дама, а в противоположной стороне, окутанный вуалью опаловой дымки, устремился к небу серовато-голубой изящный силуэт Эйфелевой башни.
Сердце билось учащенно. Родители и родственники говорили ему, что в Париже человек начинает чувствовать себя как дома еще на вокзале. И Вацлав теперь переживал радостные мгновения от сознания того, что этот великий город ему уже давно по-дружески близок.
Вацлав, охваченный экстазом, долго бродил по набережной. Наконец в тихую торжественную мелодию, звучавшую в его душе, начал вкрадываться первый фальшивый, скрипучий тон: в кармане точно отсчитаны деньги на обратную дорогу, и ни единого лишнего гроша, даже на ночлег. Один бог знает, чем он будет питаться. Вацлав не хотел об этом думать, когда в Нюрнбергском бюро путешествий ему продали билет и он заплатил шестьдесят марок за четырнадцатидневную визу, выданную по подделанному паспорту Гонзика.
Он по уши залез в долги из-за этого путешествия — задолжал Капитану, забрал все деньги у Гонзика…
Вдруг в шуме улицы ухо Вацлава уловило чешскую речь. Мимо прошли двое мужчин, у одного выбивались из-под берета седые волосы, второй, в кепке и засаленной спецовке, был ненамного моложе. Вацлав быстро догнал их и обратился к землякам с вопросом, где можно найти какую-нибудь работу.
Удивленные мужчины осмотрели Вацлава с головы до ног, обратили внимание на его желтое, измятое после бессонной ночи лицо, на потрепанный галстук.
— Откуда вы явились? — спросил мужчина в спецовке и стал против ветра, чтобы прикурить.
Вацлав увидел на его спине большое масляное пятно. Второй мужчина все смотрел в лицо юноши, уловив в нем явные следы неуверенности.
— Еду… из Германии.
Мужчина в берете скривил губы. Еще раз взглянув на измятый костюм и жалкие полуботинки Вацлава, он спросил:
— Эмигрант?
Молчание Вацлава чуть затянулось. Соотечественники, а не нашлось у них для него и приветливого слова.
— Нацисты — нерадушные хозяева, так вы, значит, пробуете в другом месте?
«Уходи», — подсказывал Вацлаву внутренний голос. Но он стоял как прикованный и нервно теребил шапку.
Мужчина в берете скрестил руки на груди.
— Вы, молодой человек, обратились не по адресу. Оба мы живем здесь двадцать лет. В те годы, когда нам пришлось эмигрировать, буржуазная республика не могла дать нам работы. Мы покинули родину с котомками за спиной, как нищие. Но, слава богу, мы нашли пристанище здесь и уже давно все простили республике. — Мужчина нетерпеливо посмотрел на часы. — В прошлом году мы наконец съездили в Чехословакию в гости и сказали друг другу, что сегодня мы бы ни за что не стали эмигрировать. Гитлеровцы в годы войны казнили моего брата и сожгли родную деревню вот этого моего товарища. Коль скоро вы искали у нацистов защиты от родины, пусть они о вас и заботятся.
Большое масляное пятно на спине у земляка, удаляясь, становится все меньше, вот в солнечном луче заблестели седые волосы на голове у второго соотечественника, потом оба мужчины исчезли в толпе на тротуаре.
Вацлав бредет дальше, задевая плечом прохожих. Монументальный фасад Лувра справа сменила весенняя зелень Тюильри, веселые голоса детей возле прудов с лебедями и белыми моделями парусников. Панорама Парижа постепенно отодвинулась назад, расступилась, и перед взором Вацлава распластался ошеломляющий простор площади Согласия. Юноша поначалу даже глаза зажмурил. Однако сердце Вацлава было холодно. Каиново клеймо беженца пылало у него на лбу; единокровные братья, чешские люди, вдали от родины отвернулись от него! Опасаются меченых…
Совесть. Беги от нее хоть на край света, твоя душа все равно потянется за тобой, как верный пес, не избавишься от нее строгим окриком или тем, что закроешь глаза. Чем же иным можно объяснить, что и поражающая воображение картина Парижа покрылась туманом, что серая паутина тоски повисла на стройном шпиле великолепного обелиска, прикрыла радужное сияние знаменитых фонтанов, заволокла далекую перспективу Елисейских полей. А от всего очарования осталось лишь тупое постыдное сознание собственного бессилия.
Долго Вацлав плутал по парижскому асфальту, наконец он у цели: звонок у двери с вывеской «Областной комитет Совета свободной Чехословакии».
Девушка с русыми волосами и в очках на носу приветствовала его по-чешски и указала на стул в приемной. Приятный целительный покой. Вацлав даже не ропщет, что ждать приходится долго. В соседней комнате приглушенно звучит музыка, в нее вплетаются пулеметные очереди пишущей машинки; ноги горят, временами по ступням пробегают мурашки, а веки отяжелели, как налитые свинцом. Возле кто-то смеется, потом снова строчит пишущая машинка, музыку еще более заслонил плотный занавес усталости, и она долетала до утомленного сознания Вацлава из дальней дали. Незаметно для себя он задремал.
Чья-то рука ласково его потрепала. Вацлав с удивлением смотрел на красные ногти на своем локте, золотые ободочки очков склонились над ним, накрашенные губы улыбались.
— Вас просит господин секретарь.
Молодой человек за письменным столом поднял голову. Вацлав увидел знакомое скуластое лицо, близко посаженные глаза, заботливо причесанные иссиня-черные волосы — бывший правый край спортивного клуба «Метеор».
Вацлав обомлел. В его памяти воскресла сцена у входа в барак. «Но, возможно, этот человек не вспомнит…» — утешал себя он.
— Приветствую, брат! Что мы можем сделать для вас? Ах, Валка, знаю, знаю, со многими лагерями я ознакомился лично и искренне скажу, брат, что о переживаниях своих я вспоминаю без всякой радости. Судьба многих наилучших сынов народа не такова, чтобы…
— Семь месяцев тому назад вы обещали мне помочь продолжить учебу и прислать мне письмо.
Секретаря осенило. Да ведь это тот неотесанный болван, что тогда в Валке так нахально себя вел и из-за которого он задержался; девка, вылитая Ингрид Бергман, упорхнула из отеля, и свидание сорвалось. «Черт тебя возьми, мамелюк, дурак ты этакий! Только тебя тут и ждали, как же! И без тебя голова трещит от забот. Недавно пошли какие-то слухи, что якобы необходимо ограничить расходы нашего комитета и жить поскромнее. Голову даю на отсечение, что на этот раз дядя не будет церемониться с троюродным племянником…» При этих мыслях секретарем вдруг овладела апатия; у него даже не было настроения как-то отделаться от нежелательного посетителя, и ругаться с ним не хотелось. Ведь сегодня ты пан, а этот перед тобой — нищий. А завтра, быть может, они вместе окажутся на одной дорожке в поисках работы…
И вот из уст третьего секретаря сыплются заученные, гладкие, как истертые пятаки, слова, которые в тех или иных видоизменениях слышали все посетители: брат должен понять, что наша эмиграция — целая армия и почти у каждого беженца свои несчастья. Это в большинстве случаев личные нужды. Мы иногда от всего этого теряем голову…
Заученные фразы журчат, словно лесной ручеек. У Вацлава снова тяжелеют веки, и он слышит слова издалека.
— Могу я поговорить с паном министром?
— Вам не повезло, дорогой брат! Пана министра здесь нет.
— А где?..
— В данный момент он в Лондоне. Как жаль! Если бы брат известил письмом…
Вацлав откинулся на спинку кожаного кресла.
«Оставь надежду всяк сюда входящий». Вацлаву несчетное количество раз казалось, что эти огненные слова пылали над воротами лагеря Валка. Просто уму непостижимо, почему каждое его действие, любая его попытка заранее обречена на неудачу. Внезапно им овладело зловещее, ледяное спокойствие. Терять больше нечего.
— Я всю ночь трясся в поезде и занял деньги на билет не затем, чтобы услышать от вас несколько ничего не значащих слов утешения. Я хочу закончить медицинское образование, помогите мне!
Секретарь присел и подался вперед, как бы желая уверить посетителя, что он хорошо понял его слова.
— Насколько мне известно, некоторые возможности есть, впрочем, точно не знаю…
— Зачем тогда вы здесь сидите? — Вацлав потерял терпение. — Что вы вообще знаете, кроме дюжины ничего не значащих фраз?
Секретарь переставил пресс-папье и одернул пиджак.
Из-за кретонового занавеса появилось гладкое лицо — золотые очки, маленький женский рот.
— Коллега первый секретарь подтвердит вам, какова ситуация. Поговорите с ним, доктор!
У Вацлава затеплилась искорка надежды.
Кругленький человечек с маленьким женским ртом живо уселся в кресло, закинул ногу на ногу, распространяя тонкий аромат дорогого одеколона. В манерах первого секретаря сквозило чувство превосходства адвоката над футболистом. Рука доктора протянула Вацлаву сафьяновый портсигар. Американские сигареты слегка пахли медом. Первый секретарь не говорил пустых фраз. У него каждое слово было на вес золота.
— Мы делаем для вас все, что в наших силах. Политически, морально и материально. Но лагерное начальство в большинстве случаев вас обворовывает. Наведите там порядок, дайте хорошего пинка этим гиенам. Можно в конце концов в ужас прийти от того, как вы могли выбирать в правление лагерей таких подлецов.
— Мы никого не выбирали!
— Но ведь у вас полное самоуправление. Каких дальнейших поблажек вы еще ждете от американцев?
В соседней комнате стрекотала пишущая машинка. Она выпускала очередную пулеметную очередь всякий раз, когда в разговоре возникала пауза.
— Впрочем… девушка, соедините меня с Сорбонной! — Левая рука первого секретаря держит трубку, правая приглаживает реденькие волосы на голове, продуманно расчесанные по лысоватому черепу, затем эта рука подает Вацлаву параллельную трубку телефона. Розовый рот доктора правильно выговаривает французские слова, в энергичном голосе слышна настойчивость.
— …Да, действительно примечательный случай, студент-медик, четыре семестра, коммунистическая власть жестоко лишила его права на дальнейшую учебу, типичная деталь истребительной борьбы против чешской интеллигенции. Это очень способный человек, и я был бы вам лично обязан… — сосредоточенность в круглом лице погасла, плечи резко опустились. Доктор повесил трубку.
— Вы хоть немного поняли?
Вацлав молча кивнул.
— Все стипендии на этот учебный год уже распределены. Места предоставлены иностранцам из всех стран, и западных, конечно… Западу даже дается преимущество. Возможно, в будущем году…
— То есть?
— В октябре, через шестнадцать месяцев, и то при непременном условии, что будут представлены документы о том, что проситель был признан политическим эмигрантом.
В прихожей затрещал звонок, послышались два новых женских голоса. Слова секретарши смешались с разговором пришедших.
Вацлав встал. У него пересохло во рту. Вацлав хорошо знал этот кисловатый ржавый привкус неудач.
— Когда вернется пан министр?
На лице доктора отразилось замешательство.
— Так что-нибудь… дней через десять. Я надеюсь…
Две девицы в приемной поднялись со стульев, смиренное и покорное выражение их лиц быстро уступило место многообещающим, вызывающим улыбкам, едва они увидели секретарей комитета. И хмурые лица секретарей немного прояснились. Комитетчики быстро классифицировали новых пришелиц: их чулки во многих местах были заштопаны, прически хотя и сделаны старательно, но явно без вмешательства парикмахера. Одна девушка была в расстегнутом плаще, другая лихо перебросила плащ через руку, оставшись в голубом облегающем свитере. Вопреки очевидному старанию девушек выглядеть лучше и казаться привлекательнее, у них под узкими дужками бровей залегли желтовато-лиловые тени, а в глазах было знакомое угасшее выражение — неотвязное следствие усталости, чрезмерного курения, частых голодовок и много раз обманутых ожиданий.
Разговор в приемной еще не успел завязаться, как в кабинете секретаря снова раздвинулся кретоновый занавес. Из-за него упругим шагом вышел солидный мужчина, направляясь через приемную к выходу. На нем был дорогой английский реглан, серая итальянская шляпа с приподнятыми полями, из-под которых светились седеющие виски. Оба секретаря растерялись и почтительно расступились. Вацлава как молнией поразило. Он узнал этого человека, его фотографии печатались в иллюстрированных журналах еще перед февральскими событиями. Возмущение захлестнуло Вацлава, но он сдержался.
— Господин министр!
Министр неохотно снял руку с ручки двери. Вацлав почти загородил ему выход. Единым духом он высказал все свои печали. Господин со шляпой в руке с упреком посмотрел на секретарей, рука футболиста растерянно шарила по пестрому галстуку, и золотые очки кругленького доктора поблескивали как-то виновато.
Голос министра тихий, терпеливый, с оттенком благосклонного понимания, а глаза смиренно смотрят вниз на яркий рисунок ковра.
— Можете не сомневаться, господа секретари сделают для вас все, что в их силах.
— Я приехал к вам, господин министр, а не к секретарям. Они от меня утаили, что вы здесь! Сделайте для меня что-нибудь. Вы ведь наверняка знали моего отца, депутата парламента Юрена. Вы же наивысшая и последняя инстанция, куда мы можем обратиться — мы, лагерники…
Голос Вацлава сорвался. Он стоял, широко расставив ноги, и часто дышал в наступившей тягостной тишине. Что еще он мог потерять в такой ситуации?
— Поймите, приятель, если бы я лично мог…
— Дайте мне хотя бы немного денег, чтобы поесть, нанять жилье, подыскать работу, — выпалил Вацлав. От напряжения у него неудержимо затряслись руки.
Министр поднял глаза и впервые за время разговора прямо посмотрел в лицо стоявшего перед ним человека. Боже милостивый, как утомляют толпы этих навязчивых и бестактных просителей. Трагедия в том, что вместе с энергичными людьми, сумевшими выкарабкаться собственными силами, среди беженцев очутились орды никчемных людей, которые только и могут, что обременять своими просьбами. Ничего больше не остается, как прорубить дверь из кабинета прямо в холл, в обход приемной, чтобы впредь не сталкиваться с этой надоедливой публикой.
Рука министра отыскала какую-то соринку с ленты шляпы. Взгляд его обратился к безопасному рисунку на ковре. Голос был неизменно тихим.
— Мы принципиально поддерживаем наших людей только официальным путем, через руководство лагерей. Получаем мы, правда, в ответ на наше доброхотство чаще неблагодарность, чем признательность, но все же мы не можем вносить анархию в продуманный и оправданный практикой порядок. Что же касается работы, то понятно, что в аппарате нашего маленького представительства все места заняты. Можно, конечно, поискать работу через французские организации.
— Почему тогда…
— Речь идет об общих, коренных задачах, — прервал Вацлава министр, повысив голос. — Логическое умозаключение поможет вам понять, что на поддержку отдельных лиц мы в самом деле не имеем ни времени, ни средств! До свидания, брат! Желаю вам и вашим компаньонам успеха. Но прежде всего, — он поднял наконец глаза, — не теряйте бодрости духа и твердости веры, мои дорогие. Колесо истории крутится медленно, но верно: наше окончательное освобождение — это дело времени. Для победоносной борьбы, однако, нужны крепкие нервы. — Он подал мягкую, теплую руку Вацлаву, девушкам и вышел. Казалось, его ласковый голос еще миг звучал в комнате, а по лестнице уже удалялись его легкие, быстрые шаги, затем внизу хлопнула дверца автомашины и зарокотал мотор.
Вацлав прижал ладонь к горячему лбу.
— Мне посчастливилось, — осипшим от волнения голосом сказал Вацлав и с трудом преодолел сильное желание изо всей силы ударить между глаз кругленького доктора, — лицезреть господина министра, так внезапно возвратившегося из Лондона. Вам должно быть стыдно!
— Пожалуйста, входите! — почти в один голос выкрикнули секретари.
Из радиоприемника в комнате секретарши лились звуки джаза, девица в голубом свитере, прежде чем войти в кабинет, кокетливо качнула бедрами в такт музыке. В этом наигранном движении было какое-то удручающее и назойливое убожество. Вацлав уходил с чувством глубокого презрения ко всему, с чем он тут столкнулся. Но вдруг он услышал торопливый стук каблучков. Вацлав обернулся: секретарша. Она минутку шарила в своей сумочке, вытянула банкнот, быстро втиснула его юноше в руку и нервно затянулась сигаретой.
— Этого мало, я знаю, — сказала она, и на щеках ее вспыхнули красные пятна.
Девушка откинула локон, повисший над лбом, и боязливо посмотрела на дверь кабинета.
— Работу найти вам будет нелегко, разве только на шахтах, — сказала она быстро. — Во Франции и Бельгии наши люди могут рассчитывать только на шахты, там всех берут, но платят меньше, чем французам. Сомневаюсь, чтобы такая работа была вам по силам. — Она скользнула взглядом по его слабым плечам и впалым щекам.
Он попросил воды. Секретарша быстро принесла, и он жадными глотками припал к стакану. Девушка с жалостью смотрела, как двигался у него кадык. Пепел с ее сигареты упал на пол, секретарша застыдилась своей неловкости и быстро подала студенту руку.
Вацлав задержал ее и внимательно посмотрел девушке в лицо. У нее был туповатый носик с большими выразительными ноздрями и белый выпуклый лоб.
— Вы каждому… кто приходит, даете деньги? — с трудом произнес он.
Девушка опустила накрашенные ресницы.
— У меня в Праге был друг медик до того, как я… эмигрировала. Вы мне напомнили его. Не поверите, как горько каждый день видеть подобные сцены! — Последние слова она произнесла полушепотом. — До свидания! — Девушка отошла мелкими шажками, узкая юбка плотно облегала ее бедра. Через минуту из-за дубовой двери забарабанила пишущая машинка.
Он снова очутился на улице. Тени удлинились. Асфальт выдыхал тепло. Вацлав разжал ладонь с банкнотом: пятьсот франков. Он механически сунул бумажку в карман и побрел, повесив голову, куда глаза глядят. Внезапно его одолела тяжелая, гнетущая усталость. Все сразу сказалось: бессонная ночь в переполненном поезде, ни единой крошки пищи со вчерашнего вечера, длинная прогулка по парижским улицам, но в особенности — трагический исход его путешествия.
Все его эмигрантское паломничество — это непрерывная цепь ударов, от легких пощечин до оглушительных оплеух; сегодня его ошеломили кувалдой.
Из всего этого можно сделать один вывод — он, как ни странно, думает об этом спокойно. Еще один такой удар — и с ним будет покончено. А пока хорошо бы уснуть и спать, спать. Ему кажется, что если бы он прислонился спиной к фасаду дома, то, вероятно, уснул бы стоя.
Вацлав без цели скитался по улицам Парижа. Он не задумывался, куда идет, — какое это имело значение? Но что такое? Опять та же знакомая патрицианская вилла, обросшая плющом, и железные ворота, через которые он проходил полчаса назад. Что же это? Он начинает уподобляться африканскому путешественнику, который перед погибелью блуждает по кругу?
Те самые две девицы, которые были на приеме у секретарей, вышли из ворот. Они заговорили с ним самым обыденным тоном — беженцы из лагерей давно потеряли способность волноваться из-за таких мелочей, как встреча с земляком за тридевять земель от родины. Вацлав предложил девушкам поужинать вместе. Они переглянулись, старшая приподняла юбку и без всякого стеснения приспособила на подвязке мелкую монетку взамен утерянной пряжки.
Секретари придут к ним вечером сказать, можно ли что-нибудь для них сделать. Они назначили встречу в ресторане на бульваре Вольтера.
— А где вы будете ночевать?
— Будет видно.
— А что собираетесь делать завтра?
Девушка в плаще пожала плечами. Девушка в свитере закурила сигарету — вероятно, из секретарского портсигара — и ответила:
— Скарлет из романа «Юг против Севера»[137], когда не знала, куда ей деваться, говорила себе: «Сегодня я об этом не буду думать, поразмыслю завтра». Мы поступаем так же и всегда как-то выходим из положения. — Девушка пустила дым прямо в лицо Вацлаву. — А деньги есть? — спросила она деловито. Ее желтые глаза были тусклыми, без блеска.
— Только на два ужина.
Девица почти сочувственно кивнула и равнодушно стала разглядывать шикарный черный лимузин, который остановился перед виллой. Вацлав догадался, что он может им лишь повредить своим присутствием, а потому, попрощавшись, отстал. Он глядел им вслед. У обеих девушек были красивые икры. Только стоптанный каблук у той, которая была в свитере, портил стройную линию ног.
Почему он Катку ударил, а этим подал руку?.. Необходимо заглянуть в прошлое, все взвесить и оценить, чтобы постичь ту неприметную стезю, по которой постоянно опускаешься все ниже и ниже.
Он побрел дальше. Надо где-нибудь поесть, иначе с ним случится голодный обморок. Он прошел мимо нескольких ресторанов, догадываясь, что они ему не по карману: нужно экономить те жалкие гроши, которыми он располагал, тем более что он не имел понятия, сколько может стоить ночлег. Но внезапно все в нем возмутилось. К черту все! Он не какая-нибудь скотина! И уселся за столик первого попавшегося маленького уличного кафе. Вацлав проглотил две сосиски с несчетным количеством белого хлеба. Официант поставил перед ним графин с дешевым красным вином, и он выпил все до последней капли. После этого устало откинулся на спинку плетеного кресла и на минуту блаженно закрыл глаза.
Вацлав снова пошел бродить по городу. Теперь он чувствовал себя лучше, только вот ноги что-то отяжелели и плохо слушались.
Вацлав вышел на набережную. Свежий, влажный ветерок над Сеной. Бонны в белых чепчиках увозят коляски с детьми из Тюильри; величественный фасад Лувра засиял в последних лучах солнца. Когда сыт желудок, душа тоже требует пищи. Вацлав с азартом игрока купил билет. Широкая мраморная лестница, торжественная тишина обширных залов. Вацлав как завороженный медленно проходит: Ренуар, Фуке и Ватто, Боттичелли и Рафаэль Санти. Юношу охватил озноб — нечто подобное было с ним, когда он в первый раз очутился у моря и когда мальчиком увидел Градчаны с влтавской набережной. С благоговением проходит он залы Лувра, в немом восторге стоит перед «Монной Лизой». Сгорбленного смотрителя с волосами белыми как молоко не обескуражили заросшие щетиной щеки Вацлава и его грязный воротничок. Для него существовали лишь восторженные почитатели искусства. Сюда не ходят равнодушные посетители, а только люди с возвышенной душой или грабители.
— Ее дважды похищали, — указав на «Монну Лизу», дребезжащим голосом объяснил старик, не ожидая вопроса. Он мелкими шажками засеменил вокруг Вацлава. — Пятьдесят один год я служу искусству, но только теперь мне выпала честь охранять именно эту картину.
Вацлав переходил из зала в зал, останавливался около почитателей шедевров искусства, которые терпеливо и самоотверженно копировали недостижимое мастерство оригиналов. И снова перед Вацлавом засияли творения Делакруа, Домье, Коро… Какое наслаждение вытянуть ноги в кресле и смотреть, смотреть!.. Он нащупал в кармане несколько измятых франков. Милостыня. Он смотрел на картину Лоррена «Морская гавань», но в его памяти возникла контора в их имении. Божка, девушка за ремингтоном, с согнутой в дугу спиной, вечно выстукивала бухгалтеру ведомости сложного делопроизводства и учета поставок немецким властям в годы оккупации. Божка, без всякого сомнения, была влюблена в него, Вацлава, и из-за своей машинки с тайным восторгом посматривала на недоступного для нее сына помещика. Вацлав чувствовал ее взгляд на своей спине, когда, одетый в модную блузу из парашютного шелка, умышленно медленно проходил через канцелярию, ударяя хлыстиком по голенищу.
Однажды, катаясь верхом, он шутки ради галопом поскакал прямо на Божку, шедшую ему навстречу. Только в последний момент он придержал коня и свернул в сторону. Девушка страшно испугалась, а он даже не извинился. На другой день она сидела в канцелярии тихая и печальная, она не отважилась никому рассказать о случившемся, ведь над ней висела угроза тотальной мобилизации. Со стороны Вацлава это было глупо и подло. И вот странная мысль: Божка подает ему милостыню! А разве не это самое произошло сегодня за дверями, на которых висит вывеска Областного комитета?
Вацлав смотрел на картину Лоррена. Накипь пены на волнах, яростно бьющихся о мол. Картина полна жизни и правдива, как и все шедевры Лувра. Но сердце Вацлава уже остыло. Где он будет ночевать? Что будет есть утром? Где умоется? Вспомнил, как недавно еще его выводила из себя философия противников, квалифицировавших мышление всего лишь как высший продукт материи, выдававших духовную жизнь и искусство за надстройку, которую якобы обязательно должен подпирать материальный фундамент! Что же, выходит, в конце концов правы были проповедники этой чудовищной теории? Неужели человек в самом деле может одичать от голода и уподобиться животному?
И он равнодушно выслушал просьбу смотрителя закончить осмотр музея.
Вацлав облокотился на каменные перила. Внизу беззвучно плыла вечерняя Сена, угасавшее солнце развернуло на небе веер алых и золотых красок. Лиловая вуаль тумана, пара и выхлопных газов укрыла Эйфелеву башню, обволокла Дом инвалидов, Дворец правосудия, повисла на высоких флюгерах дымоходов парижских домов, уткнувшихся в небо, словно сталагмиты. Вацлав вдыхал тяжелый маслянистый запах реки, смешанный со слабым запахом рыбы и тлеющего дерева. В тихо опускавшихся сумерках дома за рекой теряли четкость очертаний. На фоне темнеющего неба обрисовались лишь силуэты зданий, тянущиеся ввысь, где уже растаяли все краски, за исключением кроваво-красной. Много раз в истории небо над этим городом восстаний было охвачено багровым заревом и мостовая под ним была в крови.
Вацлав воспроизвел в памяти гимназический учебник истории, старую литографию, на которой изображено, как рабочие, студенты и горожане в цилиндрах с ружьями в руках, под развернутыми знаменами штурмуют Бастилию. Ему нравился абзац о французской революции. Но щемящую боль вызывали слова учителя о страшном избиении тридцати тысяч человек, о потоках крови, в которых были потоплены результаты напрасной борьбы. Правда, тогдашняя боль была теперь заглушена давностью, но живые воспоминания об этом навеяли на него печаль.
Он восхищался теми фанатиками с кокардами и широкими перевязями. Почему же ты так люто и непримиримо ненавидишь свой собственный народ, который захватил власть без единого выстрела? Есть ли какая-нибудь коренная разница между духом этих двух революций? И разве только одни коммунисты согласны с новым государственным строем на родине?
Вацлав устало оперся о каменные перила; в струившейся глади Сены отражаются рассыпанные бусины огней, на противоположном берегу, над городом сияют цветные неоны реклам. Холодный стальной луч прожектора где-то вдали сосредоточенно обшаривал потухшие облака.
Коммунисты уничтожили благополучие его семьи, ее общественное и имущественное положение — все! И тем не менее каждый удар, обрушившийся на него в эмиграции, был в то же время ударом по его ненависти к коммунистам. Труднодоступный для понимания факт, и Вацлав не смог ни осмыслить его, ни разобраться в самом себе…
Не обратится ли в конце концов его ненависть против тех, кто бросил солдат, против полководцев, которые вместо бинтов и лекарств для раненых воинов припасли лишь лицемерные слова о «принципиальной политике» и «высшем призвании»? Боже мой, так ли уж неправы были его, Вацлава, заклятые враги, выгнав из страны людей, подобных этим «полководцам»? В каком же положении он очутился, приехав в Париж на последние гроши и с риском сесть в тюрьму, лишь для того, чтобы лучше понять, что его враги правы?
Уже много раз в последнее время он приходил к выводу, что теряет уверенность в самых основах своих убеждений.
Как, в сущности, обстояло дело с его семьей и с отцом? Перед февралем он часто упрекал себя в неблагодарности, страдал от сознания, что мучит отца своим нежеланием следовать путем, предназначенным ему. «Это благодарность, — кричал отец, когда Вацлав объявил о своем решении изучать медицину, — за то, что я лез из кожи вон, старался превратить твой жизненный путь в гладкое шоссе, без всяких препятствий и опасностей?» Вацлав тогда встал в какую-то оппозицию к семье, а подсознательное отвращение к хлевам и пашням в нем еще больше усилилось. Однако только здесь, в изгнании, перед лицом повседневной нищеты, его впервые взволновал вопрос о том, имела ли его тогдашняя строптивость глубокие корни.
А как обстояло дело с карьерой отца?
Когда-то отец Вацлава облюбовал находившееся в плохих руках имение с солидным массивом леса и решил его приобрести, хотя у самого никогда не было врожденной тяги к земле. В то время отец был небогат и всего-навсего служил на лесопильном заводе. Вацлав так никогда и не узнал, какими путями, с помощью каких связей добился отец своего — заполучил имение и лес. Он тут же продал две трети леса на корню и погасил долг в банке. Имение, можно сказать, свалилось отцу с неба, он стал его хозяином без особых усилий. Позднее мать в минуты откровенности шепотом рассказывала сыну историю их имения, сама удивляясь способностям отца.
Потом отец занимался не столько имением, сколько работой в партии аграриев[138]. Это обеспечило ему депутатский мандат, карьеру, влияние и, наконец, большую политическую власть. Но… С большой высоты — падение. Вацлав без всякой радости вспоминает безобразную сцену, которая разыгралась, когда он вернулся, потрясенный исключением с медицинского факультета, и в приступе истерики крикнул в лицо и без того уничтоженному отцу: «За твое честолюбие сегодня расплатился я. Понимаешь?»
И вот теперь, спустя год, глазами человека, который познал изнанку жизни, он видит проигрыш отца в ином свете. Три часа тому назад он вышел из дома Областного комитета. Отец тоже был политиком, хотя и в иной сфере. И сколько людей, несчастных и сокрушенных так же, как ты сегодня, ни с чем уходили из его кабинета?
Вацлаву вдруг показалась более обоснованной его оппозиция семье, начиная с того момента, когда он последовал голосу сердца, своему призванию, которое в перспективе не сулило власти и богатства и требовало больших усилий, но усилий более чистых с точки зрения морали. Но вот что странно: это обладание моральным превосходством не только не возвысило его здесь, а, напротив, вдвойне подавляет. «Сито» лагеря не различает благородства намерений эмигрантов, оно рассеивает их по «сортам» в зависимости лишь от наличия протекции и долларов. Только единицы с набитыми карманами не проваливаются сквозь отверстия этого «сита». Остальные — мелкая сошка из неимущих, будь у них душа темная, как ночь, или светлая, полная самых благородных идеалов, — немилосердно обречены прозябать на самом дне жизни…
Вацлав стоя ел котлету с жареной картошкой у мраморного пульта автомата. После ужина, подумав, он разрешил себе кусочек торта и, забывшись, поблагодарил девушку в белой наколке по-чешски.
Сосед Вацлава с правой стороны чуть ли не поперхнулся.
— Неужто земляк? — спросил он.
Вацлав ожил и быстро повернулся к соседу. У того был двойной затылок, а левое веко прикрыто ячменем. Мужчина оглядел юношу с головы до ног.
— Откуда?
Вацлав отпил из стакана, выигрывая время.
— Еду из Бельгии.
— Шахты? — спросил краснолицый тоном посвященного в такие дела человека.
— Да, мне там не понравилось, — Вацлав сложил прибор. — А вы?
Новый знакомый вытер коркой белого хлеба остаток майонеза на тарелке.
— О, мне тут привалило счастье, парень! — самодовольно ответил новый знакомый. — Живешь в гостинице?
Вацлав быстро взглянул на него, отрицательно покачал головой и сделал движение пальцами — дескать, нет денег.
Мужчина вытер мясистые губы бумажной салфеткой и с полочки под стойкой снял потрепанный портфель. Пальцы его правой руки были забинтованы грязным бинтом.
— Где-то, однако, тебе нужно ночевать. — Он почесал в затылке и задумался. Глаз с ячменем закрылся окончательно. — Взял бы я тебя к себе, да сам снимаю угол. Знаешь что? — оживился он. — Пойдем! — мужчина схватил Вацлава за локоть и вывел его из закусочной.
Он шел широкими шагами. Уставший Вацлав еле за ним поспевал. Пасть метрополитена поглотила их. Длинное тело поезда раскачивалось и гремело во тьме тоннелей, мелькали серые, похожие одна на другую станции с нескончаемой цепью надоевшей рекламы: «Дюбонне», «Дюбонне», «Дюбонне», на следующей линии метро замелькала реклама другого конкурирующего аперитива: «Бирх», «Бирх», «Бирх».
Потом они долго брели незнакомыми улицами, оживленный шум бульваров затихал где-то за их спинами. Наконец они оказались перед большим жилым домом и вошли в первый этаж с темными окнами: плохо освещенный холл, безусый молодой человек с кротким взглядом в синей форме Армии спасения.
— Тут не очень-то комфортабельно, зато выспишься почти даром, — сказал Вацлаву его новый знакомый.
Вдоль стен длинной комнаты выстроились два ряда чистых американских походных коек. Вацлав даже зажмурился от облегчения: умыться и спать, спать… Завтра он снова обратится в университет, пойдет на биржу труда. Пустил же тут корни его новый знакомый. Почему бы и ему не достичь того же самого? Ведь постоянные неудачи в конце концов противоречили бы теории вероятностей.
— У вас нет вшей, брат? — спросил молодой дежурный с ласковым лицом священника.
Вацлав возмутился. Он записал свое имя в замусоленной книжке постояльцев и тут же пришел в ужас: паспорт в его кармане ведь на имя Гонзика! Студент лихорадочно придумывал, что ему делать, если потребуют документ. Однако ничего не придумал. Если он заявит, что у него никаких документов нет, то его, возможно, не оставят на ночлег или позовут полицию! Через коридор Вацлав увидел широкую голубую шляпу в отделении для женщин. Воздух был здесь спертый; на некоторых постелях, завернувшись в одеяла, уже спали люди; в конце комнаты кто-то страшно храпел; сосед, опершись о койку, оголив волосатую грудь, безрезультатно ругал храпуна.
Дежурный получил от Вацлава плату за ночлег и указал ему койку. Документов он не спросил.
— Может быть, выпьешь со мной рюмочку? Угощаю, разумеется, я, — обратился к нему человек с портфелем в тот момент, когда Вацлав уже начал снимать пальто.
Вацлав принял приглашение неохотно. Веки у него смыкались от усталости, но отказаться было бы невежливо, ведь этот человек ради него проехал добрую половину Парижа.
Вацлав и понятия не имел, куда повел его земляк. Огней на улицах становилось все больше. Появилась карминная, фиолетовая и зеленая неоновая реклама, чмокали шины по мокрому асфальту, проносились запоздалые ездоки на мотороллерах, замелькали уже знакомые «Бирх» и «Дюбонне», повеяло женскими духами и выхлопным газом, повисшим низко над землей.
Черный лимузин мягко остановился перед изображением большой головы негра, играющего на саксофоне. Рядом большая, яркая, мигающая надпись: «Капулад». Глухо стукнули дверцы автомобиля: две дамы в мехах, улыбающиеся, кокетливые, с целой россыпью звучных французских слов, молодой человек в смокинге и с белой «бабочкой». Шествие замыкал солидного вида мужчина с седыми висками и застывшей любезной улыбкой. Вацлав остолбенел, сердце его учащенно забилось. За спиной одной дамы медленно опустился на землю газовый шарф. Вацлав поспешно нагнулся и поднял его.
— Мерси, месье. — Серые глаза солидного господина с благодарностью скользнули по его лицу. Левой рукой, одетой в замшевую перчатку, он принял шарф, а правой — приподнял шляпу. Компания прошла в кабаре, автомашина тихо отъехала. А Вацлав, ошеломленный, все еще не двигался с места и пристально глядел на стеклянную дверь под неоновым саксофоном.
— Кто это?
— Наш бывший министр.
Спутник Вацлава криво усмехнулся, рука с забинтованными пальцами сделала неопределенный жест.
Они свернули в боковую улицу. Вацлаву в уши ударил назойливый звук гармонии. Десять ступенек вниз, дым и многоголосый говор; руки, ударяющие по клавишам пианино, на крышке которого подскакивала пузатая рюмка с вином; певец с шелковым платком вокруг шеи и гармоникой на широкой груди.
Вацлав в силу необходимости заставлял себя поддерживать разговор, но едва улавливал то, что говорил угощавший его земляк. На минуту к их столу присела девица с тонкими, густо накрашенными губами, но потом она быстро упорхнула от иностранцев, от которых нечего ждать. Вместо нее появилось новое лицо, под черным беретом, загорелое, усеянное оспинками, с огромным носом Сирано де Бержерака. Опекун Вацлава налил пришельцу рюмку, рассказывая ему о Вацлаве — своем земляке, ищущем работу, — он свой парень, черт возьми, и для него следует что-нибудь сделать!
Сирано заказал бутылку вина. В ночном кабаке под низким потолком было душно и дымно. Трудно было разглядеть что-нибудь даже на недалеком расстоянии. Вацлав пил вино. Оно было лучше того вина, которым угощал его земляк в автомате-закусочной. Сирано задумчиво пощипывал длинные заросли бровей, его желтые глазки вприщур уставились на выступающий кадык Вацлава.
— Одно местечко у меня есть, но я придерживаю его для Жюльена. Он вот-вот вернется из Сайгона, уже давно пора ему бросать бродячую жизнь.
Вацлав встрепенулся, засуетился и его приятель.
Земляк Вацлава хлопнул Сирано по спине.
— Сколько раз уже Жюльен возвращался и снова уплывал! Сколько мест ты уже для него приберегал! Матрос, на твердой земле его будет мутить! Жюльен приедет, повернется и поедет на Мадагаскар, а место поминай как звали. Помилуй, друг, ведь это же редкий случай, что здесь сидит мой земляк, и он в нужде, я — то знаю, как туго приходилось мне, когда я бегал по Парижу, как одичавшая борзая, и докатился до того, что совал свой нос в баки с отбросами. Как-то раз меня чуть-чуть не искусала собака, так как я залез в ее владенья.
— Земляк! Qu’est-ce que с’est![139] — Сирано мрачно сжимал рюмку и неприязненно косился на Вацлава. — Это твой земляк, а Жюльен — мой!
Толстяк от возбуждения сполз на самый край стула, указательным пальцем еще больше ослабил воротничок сорочки.
— Я тебе скажу так, Луи: если в тебе есть хоть капля христианского человеколюбия, ты отдашь место этому бедняге. Это все равно, как если бы ты отдал мне.
— Ну и жизнь, черт возьми! — Сирано ладонью вытер губы, обеими руками сдвинул берет набекрень. — Как я потом взгляну в глаза Жюльену? Приедет, скажу ему: имел я превосходное место, но отдал его одному чеху. Ты хоть умеешь водить автомашину?
— А как же! — воскликнул Вацлав. Он чувствовал себя слегка пьяным. Вино, которое заказал Луи, быстро ударило в голову. Усталость и напряжение, целая цепь переживаний сегодняшнего дня, духота в кабаке, ужасная музыка и эта невероятная близость счастья — боже милостивый, новая жизнь, начать в конце концов зарабатывать на ученье!
Длинный Луи встал и отошел широкими шагами, руки его болтались вдоль тела.
— Я знал, зачем тащил тебя из ночлежки! — Толстяк хлопнул Вацлава по спине. — Этот Луи добряк, думаю, что мы его уже уломали. Ты только отвечай ему, что умеешь все на свете…
Сирано вернулся и снова уселся за стол. Он украдкой посмотрел в возбужденное лицо Вацлава, на пьяный блеск его глаз.
— Сумеешь водить автомашину «пежо»?
— Я умею править любой автомашиной.
— Но ты не ездил по Парижу, не водил такси Марсельской компании, — мрачно произнес длинноносый Луи.
Вацлав с пьяным смехом протянул руку к рюмке и не понял, почему она качнулась и опрокинулась.
— Раз уж я такой старый болван, — вздохнул Сирано и, двумя пальцами проведя по носу, вынул из нагрудного кармана сложенный лист, — так подпиши вот здесь. — Он прикрыл содержание вербовочного бланка своей огромной ладонью. Толстяк проворно выхватил свою авторучку.
У Вацлава от радости закружилась голова. Такой неожиданный оборот дела после стольких неудач! В этот момент его взгляд остановился на глубоком вырезе платья официантки, на ее ярко накрашенных лиловых губах — ужасная парижская мода — и подведенных глазах.
До него доносился нетерпеливый голос толстяка, обращавшегося к девушке.
— Вот тут, — показывал Сирано кривым пальцем на самую нижнюю черту отпечатанного текста.
— ére… — увидел Вацлав буквы договора из-под широкой лапы Луи.
— Я должен все же прочесть, что, собственно, подпис…
И вмиг, как молния, его ослепили два слова: «Legion etrangére»[140], которые он увидел, оттолкнув ладонь Сирано.
У Вацлава похолодели виски, кровь зашумела в ушах, кругом все померкло, мучительная судорога свела суставы, как у человека, заглянувшего в пропасть.
— Что это такое? — еле выговорил он.
— Да кооператив, нечто вроде артели шоферов. Подписывай, черт возьми, или я в самом деле отдам Жюль…
Стол резко скрипнул ножками по полу, рюмки зашатались, комната будто накренилась, мелькнул вырез платья официантки. Десять крутых ступенек вверх, пение и гармонь затихли за закрытой дверью.
Вацлав бежал как ошпаренный, но очень скоро вынужден был остановиться: сильно кололо в боку. По вискам катились крупные капли пота. Стекая по лицу, они застряли на небритом подбородке. Юноша прерывисто дышал: сердце разрывалось в груди. Едва переведя дух, он зашагал дальше. На перекрестке Вацлав увидел полицейского и направился было к нему, но в последнюю минуту передумал и прошел мимо, чувствуя его взгляд на своей спине.
Вацлав вышел на широкий бульвар. Мимо мчались автомобили, изредка сигналя. На каком-то углу маячил ночной продавец роз, мимо прошла шумная компания студентов с девушками. Над магазинами холодно светился голубой, розовый и ярко-зеленый неон. Тощий коняга зеленщика, впряженный в двуколку, спокойно и ритмично постукивал по асфальту подковами — один из последних могикан отмирающей традиции Парижа. Отцветающие ряды лип своим пьянящим ароматом состязались с душной атмосферой города. Высоко в красноватом ночном небе угасала и снова зажигалась гигантская надпись: «Дю… Дюбо… Дюбонне».
25
Поезд подземной железной дороги остановился на станции Хэмпстедского предместья. Профессор Маркус, страдая одышкой, поднялся по серой лестнице на улицу. Старик остановился, чтобы передохнуть и отдышаться. Он задумчиво глядел на море лондонских крыш, блестевших от дождя. Их монотонную равнину нарушали лишь две квадратные башни моста Тауэр, вонзившиеся в низко плывущие клубы тумана.
Маркус вошел в пансион, построенный в стиле модерн, с гордым названием «Трафальгар». Сухая, пожелтевшая дама в канцелярии не особенно приветливо осмотрела профессора, порез на его шее и остатки мыла в продолговатом старческом ухе.
— Доктор Бергер живет на втором этаже, в седьмом номере.
Маркус постоял немного в нерешительности, прежде чем постучаться. Из-за двери слышались раздраженные голоса.
— Заходите! Здравствуйте, профессор! — Небольшой кругленький мужчина с выпуклым лбом и почти голым черепом потряс руку Маркуса и представил гостя жене.
— Раздевайтесь, прошу вас, и извините: тут мальчишка наш только что надымил, а сам ушел на занятия по фехтованию, — необычно громко сказала госпожа Бергер и повернулась к зеркалу, чтобы поправить прическу.
Профессор неловко переминался с ноги на ногу и никак не мог высвободиться из рукавов пальто. Хозяйка любезно помогла ему. Комната была переполнена старой мебелью; камин, которым не пользовались, загораживала качалка, заваленная книгами; на мраморном карнизе над камином и на шкафах — банки с вареньем и снова книги; бельевой шкаф был наполовину закрыт стеклянным дистилляционным аппаратом, а в комнате стоял запах сероводорода.
— Ужин будет неважный, профессор. Оскар только час тому назад изволил сказать, что вы придете. Не знаю, из-за кого раньше я сойду с ума — из-за Оскара или мальчишки. Когда-нибудь выброшу в окно его противную алхимию, но боюсь, что мы взлетим на воздух раньше.
— Будьте довольны, мадам, что наш сын не будет адвокатом, как я, ваш покорный слуга. Адвокатура вышла из моды, — хозяин снял белую нитку с темного пиджака профессора. — А в прежней роскоши мы жить уже не сможем даже тогда, когда снова вернемся в Прагу. Что вы об этом думаете, профессор? Садитесь, пожалуйста! — Оскар освободил старомодное кресло от вещей и придвинул его Маркусу.
— Думаю, что ошибочно рисовать себе будущую республику дофевральскими красками, а меньше всего можно ожидать предвоенной идиллии. — Старый господин уселся. У кресла была слишком высокая спинка. Маркус сидел будто на троне. — Многого уже нельзя будет возродить в прежнем виде. Было бы наивностью стараться это сделать. Не знаю, почему большинство эмигрантов уверовало, что с того момента, когда они покинули родину, Чехословакия будто бы потеряла возможность социального прогресса.
— Excuse me[141], профессор, — сказала мадам Бергер, — но вы фантазер того же сорта, что и Оскар. Он убежден, что мы когда-нибудь вернемся на родину, — проговорила хозяйка, не поднимая глаз от доски, на которой она отбивала бифштексы. — Вы себе не представляете, как этот оптимизм портит мне нервы.
— Мадам Бергер пустила корни на чужбине; о Чехословакии она даже не любит слушать. — Адвокат теребил свой маленький нос, похожий на шарик. — Моя супруга — реально мыслящее создание, сухарь, женщина без фантазии, — хозяин наполнил рюмки.
Профессор извлек из жилетного кармана коробочку, достал две таблетки и проглотил их, запив вермутом.
Хозяйка положила мясо на сковородку. Потом она приблизилась к профессору и растопырила перед ним пальцы с облупившимся красным лаком на ногтях.
— Взгляните на эти руки. Варю, стираю, мою полы… и продаю свои перстни. В Праге у нас было четыре комнаты и прислуга. Я бы лишилась рассудка, если бы жила одной надеждой на возвращение, ведь каждый год приносит все новые разочарования. Раз мы не решились вернуться сразу же после войны, то теперь это ненужная иллюзия.
Жир потрескивал на сковородке. Приятный запах мяса постепенно заглушал вонь сероводорода.
— Да, я действительно не фантазерка, — госпожа Бергер нарезала лук на дощечке. — Думаю, что в прошлом году весной положение было в нашу пользу, но наши генералы упускали один шанс за другим. Прямо уму непостижимо! Февраль в Чехословакии переполнил через край чашу терпения Запада. Наши имели здесь все: популярность, материальную поддержку, неограниченную свободу публичных выступлений, агитации, но ничего не использовали, сидели сложа руки, как будто потеряли интерес ко всему. Слишком долго они лечили свои нервы после февральского шока. Потом они пришли в чувство, но начали не с того конца. У англичан в обычае то, что и оппозиция строго соблюдает правила «fair play»[142], и не прибегает к кулакам. Забияки — одиночки, нули, люди без какой-либо программы, без твердых принципов — таких британцы не переносят! Вы удивлены, профессор, что нам тут все меньше и меньше доверяют?
Она озабоченно посмотрела на потолок и сварливо сказала:
— Начинает осыпаться штукатурка. Целый год я спорю с мисс Спенсер. Она не хочет, чтобы мы готовили в комнате. Вчера наконец я уговорила ее, и она дала разрешение еще на три месяца. А Би-би-си не дает Оскару, как во время войны, такого заработка, чтобы мы могли питаться в ресторане. Что будет дальше, один бог знает.
— Мадам Бергер немного кричит, — Оскар наморщил высоченный несуразный лоб и заговорщически прищурил круглые глаза. — Теща была учительницей, и моя супруга не унаследовала от нее ничего, кроме сильного голоса. Но что касается наших здешних позиций, мадам права. Черт знает, в чем тут дело, но по сравнению с эмигрантами из других народно-демократических стран мы имеем здесь минимальный успех и, о чем особенно приходится сожалеть, наименьший кредит. И если кого-нибудь из эмиграции слушают в лондонских салонах, так это венгров или поляков, наконец румын и потом уже чехов. Нет у нас титулов и крайне мало голубой крови в жилах.
Ужин был готов. Хозяева и гость уселись за большой круглый стол, занимавший непомерно много места в комнате.
— Вообразите себе, здешнее представительство Совета отказало мне в выдаче дальнейшей материальной помощи, — сообщил профессор и мазнул горчицу на ломтик бифштекса.
Доктор озадаченно глядел, как гость, низко наклонившись над тарелкой, быстро поедал большие куски мяса.
— Это, возможно, является следствием той несчастной статьи…
— Какой статьи?
— Ну той, в «Свободне Ческословенско», вы разве не читали?
Профессор положил прибор.
— Не имею об этом ни малейшего понятия.
Мадам Бергер бросила на мужа укоризненный взгляд. Однако было уже поздно: доктор стал рыться в ворохе бумаг на письменном столе, громыхал ящиками, тихо что-то бурчал себе под нос, наконец нашел газету. Он было в нерешительности помялся — стоит ли ее показывать, наконец отдал статью профессору.
«Эмиграция и пятая колонна», — прочел профессор изумивший его заголовок. Он механически продолжал дожевывать кусок мяса, потом спустил очки на самый кончик носа, быстро пробежал глазами строчки, все еще не улавливая связи между статьей и своей особой, но на заключительных абзацах он остановился:
«…Чего, собственно, ищут в эмиграции люди, которые лояльно относятся к нынешнему режиму в Чехословакии? В нашем распоряжении имеются доказательства этому. Профессор Маркус, видимо, забыл, что в последние дни оккупации он говорил о том, что «после войны мы не будем исключать коммунистов из правительства»? Не вспомнит ли он о том, как отказался участвовать в сопротивлении коммунистическому наступлению, когда наша партия призывала к активной борьбе против национализации крупных акционерных компаний? Куда девалась его ответственность ученого, когда он доброжелательно писал о массовом отдыхе, организованном профсоюзами, и в вопиющем противоречии с объективностью замалчивал правду? И мы за максимальные социальные выгоды трудящихся, но мы, однако, не допустим смешения этого благородного устремления с изощренной ловлей наивных душ, с использованием отдыха широких слоев населения для беззастенчивой пропаганды и демагогического оглупления!
Необходимо открыто сказать людям типа Маркуса: «Вы не принадлежите к нам, ваше место в коммунистической республике, не дискредитируйте напрасно своим присутствием нашу грандиозную борьбу за священные права, к которым человечество стремилось веками: за свободу человека, гуманизм, истинную демократию…»
Профессор трясущимися руками отложил газету на край стола, не заметив даже, как она слетела на пол. Бергер нагнулся за ней.
— Это… это неслыханно! Так извратить действительность! Я их привлеку к ответственности! — прохрипел Маркус и резко поднялся, но поморщился от острой боли и снова вынужден был сесть.
— Кушайте, be so kind[143], они же прохвосты, — сказала подавленная мадам Бергер. Она принесла миску и пробормотала: — Пудинг еще не остыл как следует, Оскар ведь предупредил меня всего за час…
— Эту ложь надо разоблачить! — Маркус выпучил глаза. — Это же просто нелепо!.. — Старик сидел на своем «троне» окаменелый и шумно, астматически, дышал.
Он даже не доел мясо и, не обращая внимания на предложение расстроенной хозяйки попробовать пудинг, попросил только черного кофе.
Маркус то и дело протирал стекла своих очков. Доктор Бергер хватался за свой крутой лоб и упорно молчал. Вечер был испорчен.
— Вчера я встретил на Гендон-стрит депутата Кейзлара. — Маркус как бы с укором поднял глаза на госпожу Бергер. — Теперь я понимаю, почему он три раза посмотрел на часы, а потом вдруг вспомнил, что через четверть часа на другом конце города открывается собрание, на котором ему необходимо быть…
Маркус пил чашку за чашкой. Забытая салфетка торчала у него за жилеткой. Большим и указательным пальцами он время от времени взъерошивал и без того неаккуратные усы. Уже в третий раз закипала вода в медном кофейнике на электроплитке, мадам Бергер беспомощно взглянула на мужа: в банке осталось всего несколько зерен кофе.
— Вы же адвокат, так скажите, что могу я сделать с этими мерзавцами? — гневно произнес Маркус, правая рука у него до сих пор тряслась, и он вынужден был поддерживать чашку с кофе второй рукой.
— Боюсь, что ничего. — Доктор отставил кофейную мельницу. — Вы можете добиться того, что за вас заступится оппозиция, к примеру, здешние федералисты. С радостью это сделают и сепаратисты. Но вы сами к ним не пойдете. У «Свободне Ческословенско» что-то определенно есть в руках, и они размажут это на целую полосу. По совету старой мудрой пословицы, я бы лучше не связывался.
Разговор между гостем и хозяевами замирал. Профессор вскакивал, превозмогая боль, ковылял к окну и молча смотрел в опустившийся над городом сумрак. Бросался в глаза его залосненный пиджак и мятые брюки. Постояв так, Маркус возвращался к столу и, явно думая о другом, машинально скоблил скрюченным ревматическим пальцем старое пятно на лацкане пиджака. Отвечал он рассеянно, односложно, отсутствующим взглядом смотрел на хозяев и тихо кивал головой.
— Боги Олимпа! — бормотал профессор. — Не почитал я их на родине, не могу я им кланяться и здесь. Как сладостно править диктаторски и как тяжело служить демократически! Я всегда выговаривал «богам» еще дома за то, что они не переносят критики. Тем, дома… — добавил он с каким-то скорбным оттенком в голосе.
Вскоре профессор поднялся, собираясь уходить. Из-за сильного волнения он даже не поблагодарил за ужин. Минуту помедлив, Маркус дал понять Бергеру, что желает переговорить с ним с глазу на глаз. Доктор вышел за гостем в коридор.
— У меня совсем нет денег, доктор. Одолжите мне двадцать фунтов. — Маркус вперил немигающий взгляд в потемневшее лицо собеседника. — Ни из Кливленда, ни из Чикаго я не получил до сих пор ответа. Боюсь, что ответы могли поступить на парижский адрес. На будущей неделе я поеду в Кембридж и верну вам эти деньги из первого же жалованья.
Бергер ослабил высокий воротничок, как будто он душил его. Мягкой ладонью он провел по полированным перилам лестницы и еле слышно вздохнул:
— Ваше счастье. Вчера бы я не смог.
Профессор небрежно впихивал деньги в карман пальто.
— А об этой мерзостной статейке не думайте, профессор, — тихо посоветовал Бергер.
— Вы хотите сказать, что достоинство человека — не в людской молве, а в его совести. Сила этой истины, к сожалению, намного ослабевает, когда человек говорит это сам себе.
Бергер смотрел, как Маркус тяжело спускается по лестнице. Еще недавно это был знаменитый ученый, теперь — всего лишь обносившийся, еле живой старик.
На следующее утро Маркус, заложив руки за спину, долго вышагивал из угла в угол по залу ожидания телефонной станции, пока его наконец не соединили с Мюнхеном.
— Как вы посмели? — Голос его сорвался, едва лишь на другом конце провода отозвалась редакция газеты.
— Главного редактора нет в редакции, — ответили профессору, — а я не могу дать вам исчерпывающей информации, могу сказать только одно: к нам поступил материал из Чехословакии.
— Это фальсификация! Явная месть, стремление лишить меня возможности работать. Я могу с таким же успехом доказать, что любая ваша статья — это замаскированная коммунистическая пропаганда… — На верхней губе Маркуса выступил пот, в кабине было душно.
— Чего, собственно, вы хотите, господин доктор?
— Я требую незамедлительного опровержения в газете! Честью заверяю, что мои намерения были всегда… Алло, не прерывайте нас… Я говорю с Мюнхеном…
— Извините, разговор окончили, — проговорил в трубке женский голос.
На следующей неделе скорый поезд увозил Маркуса по зеленой английской равнине в Кембридж. Старые университетские здания, заросшие плющом, тонули в золотом сиянии предвечернего солнца, со стадиона в парке доносились веселые голоса студентов, игравших в бейсбол. Маркус медленно шел по широкой площадке, посыпанной красным песком. Шмель хлопотливо кружил около бледно-розовой гвоздики на клумбе.
Профессор присел на скамейку погреться на редком в Англии солнце. Кругом покой, патриархальная тишина и безмятежность, они чувствуются во всем: в старинных домах, в облике седовласого медлительного садовника, в его давно отслужившей свой век пестрой жилетке, в белых облаках, причудливо громоздящихся какими-то замками и с достоинством плывущих на север.
Маркус прикрыл глаза. Ему в этот момент так захотелось обрести наконец заслуженный покой, не ломать голову над тем, как расплатиться за гостиницу, где взять денег на новые ботинки, — освободиться от прозаических, повседневных забот, с которыми он раньше не встречался. Хорошо бы бросить якорь у этого острова серьезности, поднимающегося над океаном грязных интриг, найти приют на этой безопасной академической территории. Повернуться спиной ко всему свету и погрузиться в научную работу!
Ведь за его спиной — долгие месяцы мучительного томления, изнурительная борьба с людьми своего же лагеря, целая полоса безрезультатных усилий, страстных призывов к власть имущим помочь покинутым на произвол судьбы беженцам.
Две задачи начертаны на щите ИРО — работать в интересах возвращения эмигрантов на родину или позаботиться об их трудоустройстве. Первой своей задачей организация вообще не занималась, второй — еле-еле. Но зато она усердно выполняла третью функцию, которую никто на нее официально не возлагал, а именно: использование беженцев для подрывной политической деятельности против Востока. После трех месяцев службы в ИРО Маркус сбежал оттуда: у него не было больше сил притворяться и делать вид, будто он заботится о благе эмигрантов. Омерзительно было обманывать самого себя!
Профессор направился под готический портал. Конечно, глупо тешить себя иллюзиями, но Маркус не может отказаться от удовольствия представить себе, какое будет блаженство каждый день проходить в эти монументальные ворота, снова обрести положение, смысл жизни!
— Профессора Конвея уже нет, — ответили Маркусу в университете. — Он уехал домой вскоре после полудня.
Маркус едет в троллейбусе по улицам Кембриджа — солидного патрицианского городка, который импонирует вкусам профессора.
Коллегу он нашел в гараже виллы. Профессор Конвей без пиджака, в подтяжках, протирал куском фланели свою старенькую автомашину. Он поднял близорукие, за сильными стеклами, глаза на вошедшего и остолбенел. Поставив на капот масленку, он выбежал навстречу гостю, но в совершенной растерянности тут же вернулся и схватил тряпку.
— Приветствую вас, коллега! — закричал Конвей. — Триумф телепатии: сегодня утром я собирался написать вам письмо… Извините, что так долго отмалчивался, но… — Конвей все еще смущенно мял тряпку в руках и наконец бросил ее.
Профессор стал приглашать гостя в виллу, но Маркусу не хотелось уходить из солнечного садика, кажется, и Конвей этому обрадовался.
— Пчелы, коллега, мои знаменитые пчелы, — засуетился Конвей. — Пойдемте, посмотрите, двадцать ульев, но каких! Вы не найдете меда вкуснее во всем Кембридже, а возможно, и во всем Бедфорде. Когда вы были тут два месяца тому назад, мед еще не приобрел такого аромата, как теперь, когда все цветет…
Хозяин зажег смолянистое полено и надел на Маркуса сетку. Нагнетая воздуходувкой дым в улей, профессор выкурил пчел, охранявших соты, и стал бережно собирать мед. Маркус задумался, — почему его коллега вдруг занялся этим делом? Ведь Конвей чистил автомашину.
— А перед ужином, если вы пожелаете, мы отправимся за ельцом. Здесь попадаются порядочные рыбины. Неделю тому назад Фрэнсис привез мне из Лондона новую удочку. Вчера я хотел пойти на рыбалку, но не оказалось ни удочки, ни мальчика. Фрэнсис — мой сын, озорник, если вы его помните… — Рукава фланелевой рубахи профессора Конвея были засучены, галстук небрежно приспущен.
Конвей повел гостя в глубь сада. Там в зеленых берегах лениво текла река Кем. Яхта с безжизненно повисшим парусом; парочка влюбленных в весельной лодке; моторная лодка из полированного ореха — собственность профессора Конвея, — важно покачивающаяся на волнах…
— Прекрасная моторка! После чая я отвезу вас вверх по реке до Шелфорда. Там попадаются ельцы длиной с руку…
Маркусом вдруг овладело удручающее предчувствие: что означает этот водопад слов? Во время их последней встречи профессор Конвей не был так многословен. Маркус положил руку на белый руль моторки.
— Я хотел поговорить с вами о своем деле.
Восторженные глаза за толстыми стеклами очков сразу погасли. Тряпкой, какой до того он чистил автомашину, Конвей теперь стал стирать пятно с носа моторной лодки. Потом, помрачнев, уселся на каменные ступеньки, ведущие к воде, и молча, еле заметно стал покачивать головой. Его стала вдруг занимать парочка влюбленных. Студент в майке бросил яблоко сидевшей у руля подруге. Девушка в белом купальном костюме поймала яблоко, с аппетитом надкусила его.
— Буду с вами вполне откровенен, друг мой, — Конвей снял с пиджака Маркуса репейник и усадил старого профессора возле себя на ступени. — Ваше дело почти безнадежно. Вопрос был, собственно, решен положительно. Я нисколько не сомневался, что в зимнем семестре вы начнете читать лекции у нас в университете. Но неделю тому назад вопрос о вашем преподавании вновь был неожиданно поставлен на обсуждение ректората. Представитель министерства высказал ряд замечаний и сомнений…
Маркус смял пальцами головку репейника.
— Относительно моей научной компетенции?
— Что вы… Политической…
Профессор склонил голову, рассеянно щелкнул пальцами и бросил в воду головку репейника, отчего по воде пошли маленькие круги. Маркус выпрямился. Его голос звучал очень глухо и взволнованно:
— Но это, ведь это… неслыханно! Мое мировоззрение, моя научная ориентация, уже самый факт, что я эмигрировал… — Могучая шея профессора Маркуса побагровела, старик шумно дышал открытым ртом.
— Я говорил потом приватным образом с представителем министерства. Не сомневайтесь, как ваш старый друг я сделал все, что было возможно. Чиновник сказал мне, что в подобных случаях они запрашивают характеристику у лондонских представителей вашего Совета. Я не знаю почему, но отзыв был неблагоприятным…
Лодка пристала к противоположному берегу. Молодой человек вышел и подал руку девушке. Ее загорелое бедро блеснуло на солнце. Парочка уселась в траву. Девушка по-восточному скрестила ноги и чему-то засмеялась — будто пробежала молоточком по пластинкам ксилофона.
Профессор Маркус сгорбился, сцепил руки между коленями и сидел неподвижно в скорбной позе, вперив невидящие глаза в красиво выведенную белую надпись «Фрэнсис» на носу моторной лодки.
Где, собственно говоря, кроются корни этих катастрофических неудач?
Да, он выступал за идеи демократии, но его концепция отличалась от официальной! Плюралистическая система нескольких политических партий — такой он себе представлял подлинную демократию. Что же касается экономического устройства общества, то, по его, Маркуса, взглядам, в нем должно было справедливо сочетаться производство национализированных, частных и кооперированных предприятий с допуском свободной конкуренции этих трех секторов. Социализм? А почему бы нет! Но приспособленный к специфическим чехословацким условиям, то есть такой, который бы был прежде всего делом совести каждого отдельного индивидуума и служил бы всему обществу, а не одному классу.
Он, профессор Маркус, отвергал ложную театральность, демагогическое самовосхваление, ибо был убежден, что доброе дело не нуждается в рекламе, оно говорит само за себя. Был он неуступчивым в своих взглядах и не видел в том особой заслуги — человеческий дух не должен легко подчиняться насилию над собой, и, разумеется, общественный слой, который избран для того, чтобы пестовать дух, — уже этим самым предопределен к твердости. Он резко осуждал недостатки в характерах людей и преступления против морали, выступал против корыстолюбия, недисциплинированности, безделья. По зову совести он ополчался против всех этих пороков и здесь, в эмиграции. Он бичевал бы и сам себя за какой бы то ни было компромисс со своей совестью!
Что же, неужели был прав Капитан, сказав однажды, что он, Маркус, не жил настоящей жизнью, а лишь глядел на нее со стороны, будучи отгороженным стеклянной стеной?
Коллега Конвей сидел рядом с ним, но профессор прекрасно угадывал его огорчение, вызванное неожиданным визитом. Как он, Маркус, дошел до такой жизни, что стал в тягость людям? Кто он? Выбитый из колеи, затасканный, одинокий индивидуум, не нужный ничему и никому, кроме самого себя. А этого, кажется, маловато для джунглей волчьего мира, где даже целые стаи более слабых волков погибают!
— Моя жена умерла пятнадцать лет тому назад, — вдруг сказал Маркус без всякой связи с предыдущим. — С дочерью мы были большими друзьями, даже свои любовные тайны она поверяла мне. Она вышла замуж за инженера с задатками ученого. Этот человек после февраля вступил в коммунистическую партию. Образовалась страшная трещина в наших семейных отношениях: я перестал с ним разговаривать. Бланка, бедняжка, металась между мужем и мной. Думаю, что в конце концов она восприняла мой побег за границу как избавление. Но все же я знаю, что она временами плачет, глядя на мой пустой стул за столом. В день моего рождения Бланка делала бисквитный торт с кремом и ухитрялась доставать венгерское красное вино, хотя это было очень трудно. Знаю, что и теперь она тревожится, есть ли у меня теплое белье и не усилилась ли моя астма.
Конвей молча смотрел на его тяжелые веки и мешки под глазами.
— А внучке Бланка говорит: «Дедушка путешествует за границей, но скоро вернется».
Профессор следил за ласточками, стремительно опускавшимися к водной глади. Омочив белую грудку, они вновь возносились в небесную синь.
— Каждый человек в эмиграции, хочет он этого или нет, носит в себе свой родной край, свою покинутую любовь. Самые необычайные красоты чужбины, даже счастье, обретенное вдалеке, не могут выкорчевать корни, которыми ты навсегда привязан к родной земле. — Маркус посмотрел на соседа большими задумчивыми глазами. В них была глубокая печаль. — Методы, которыми меня здесь опорочили, — это позор для всей чехословацкой эмиграции, а также и для тех, кто ей помогает. Я уже, вероятно, слишком стар, чтобы оправиться от полученного удара.
Великие люди способны были постоять за свою правду при любых обстоятельствах, даже и на эшафоте. Я не великий человек, меня и не казнят, меня устранили без этой пышности. Но Бланка ждет напрасно; с таким проигрышем вернуться нельзя! Только бедное сердце отца возвратится тайно, против моей воли… Там, дома, оно тихо доживет свой век где-нибудь в укромном уголочке, ибо оно принадлежит только отчизне, и родина — сущность моего сердца, да, сердца, но не разума…
Вверх по течению пронеслась моторная лодка. Тянувшийся за ней треугольник волн растекался к берегам. Привязанная лодка профессора Конвея запрыгала, шлепая по воде то кормой, то носом.
— Пойдемте выпьем чаю. — Конвей положил руку на плечо профессора Маркуса.
26
Спираль лестницы, знакомый коридор. Гонзик нажал кнопку звонка. В дверях появилась фрау Губер.
Гонзик сразу почуял недоброе, что-то случилось: чужое, враждебное лицо, усталое и изнеможенное. Воспаленные глаза.
— Вы пришли убедиться, действительно ли он сидит?
Гонзик, не понимая, смотрит в строгое, холодное лицо.
— Вы о чем?..
— На той неделе его посадили.
Истертый порог качнулся у него под ногами. Гонзик схватился за наличник.
— Ради бога, вы думаете, что это я… Что я способен… За все хорошее, что он хотел для меня сделать!.. — Но вдруг ему открылся весь ужас его положения.
Он может иметь самые лучшие намерения, но на лбу у него выжжено клеймо лагеря Валка, и все честные люди смотрят на него, как на существо опасное, морально нечистоплотное. Ему хотелось кричать, оправдываться, обидное подозрение этой женщины жгло его раскаленным железом, но не менее мучительной была и другая мысль: ведь сотни мерзавцев в Валке, не колеблясь, совершат любую подлость, лишь бы заработать несколько марок. И Гонзик беспомощно сжал кулаки.
— Пани… Я никогда ничего плохого не сделал… Кроме того, что на родине оставил старушку мать…
Она заколебалась. Плохой человек редко произносит имя своей матери. Подозрительность постепенно исчезала с ее лица, женщина шире приоткрыла дверь. Он вошел, не дожидаясь приглашения, и сел на край табуретки.
Она села напротив. В усталом жесте, которым она сложила руки на коленях, проявилась вся сила ее горя.
Вспыльчивый Франц Губер был единственным настоящим другом Гонзика. В этот момент Гонзик ясно осознал, что весь интерес Губера к нему проистекал из моральных принципов этого человека, из его доброго отношения к людям, стремления помогать там, где нужна помощь.
Остывшая плита, кухня чисто убрана, приближается время обеда, но не видно никаких приготовлений к нему.
— Этого и следовало ожидать. — Глаза женщины устремлены куда-то в пространство. — Ведь он снова выступал на собрании и опять говорил, что не должно быть двух Германий, а лишь одна — единая демократическая Германия, уговаривал рабочих объединиться с теми, в Восточной зоне. Потом закусил удила и прошелся насчет самого канцлера. Подумайте, он — мусорщик в грязном фартуке…
Гонзик, сгорбившись на табуретке, смотрел на дверь в жилую комнату и почти физически ощущал, как там пусто.
— Что же теперь будет? — произнесла фрау Губер и развела руками. — Впрочем, я знаю, уже двадцать пять лет это знаю. Нищета. Потом, в один прекрасный день, он вернется и долго будет без места, пойдет разбирать городские руины, обивать цемент с кирпичей, будет копать каналы, сгружать уголь, надрываться на непосильной случайной поденщине… Либо упакуем свою рухлядь и уберемся отсюда бог весь куда… И хоть бы я видела по-прежнему, но мои глаза слабеют… Рубашки! — сказала она с раздражением, увидев, что Гонзик не сразу понял, и сердито хлопнула ладонью по горке белья, уложенной на стуле. — Всю жизнь перед моими глазами мелькает иголка. Не могли же мы быть сыты от его постоянного пребывания в тюрьме. Другие женщины танцевали, а я садилась шить мужские рубашки; другие ездили по воскресеньям из Мюнхена к Штарнбергскому озеру, а я все шила и шила рубахи. А Франц, если не сидел за решеткой, все выступал и выступал на рабочих собраниях. Мои подруги говорили, что я удачно вышла замуж. У Франца, дескать, хорошо варит голова. Когда я его узнала, ему было двадцать пять лет. В те времена он действительно кое-что значил: был редактором рабочей газеты! Но с тех пор мы катились все ниже и ниже. В лавке обо мне шушукались, пальцами указывали, называли анархисткой. В войну я получала только половину карточек… И сына мы могли бы сохранить, если б иначе воспитали его. Я… я эти его профсоюзы проклинаю! — Она вдруг погрозила кулаком в сторону двери.
Но тут же рука ее опустилась. Женщина виновато посмотрела на Гонзика. А он сидел, до боли сжав руки коленями, и часто моргал. Фрау Губер встала, взяла со стола ящичек со швейными принадлежностями и поставила его на ободранный старенький буфет. Затем она поправила шпильку, которая плохо держалась в ее редких волосах, подошла к окну и стала упорно смотреть в галерею, где решительно ничего не было, кроме наполовину зашитого досками окна, выходящего во двор. Долго стояла она так. На ее шее учащенно пульсировала жилка.
— Вообще он стойкий человек, но у него сильный ревматизм, а в каждой тюрьме сыро и холодно. Не знаю, позволят ли мне передать ему мазь… — Она говорила как бы сама с собой, стоя лицом к слепому окну, и без всякой надобности расправляла складки на занавеске. — И опять он вернется исхудавший и измученный, ох-хо-хо!.. А что, собственно, вам от него нужно? — Она устало повернулась к Гонзику. Правой ладонью она все время разглаживала фартук на колене.
— Он обещал устроить меня на работу, — еле слышно произнес Гонзик. — Прислал мне записку, чтобы я сегодня пришел, что дело это почти решенное.
Она схватила кастрюльку, налила воды и бросила туда несколько картошек так, что вода брызнула во все стороны.
— Похоже на него: всегда заботится о других. Для себя, для семьи у него не хватает времени…
Гонзик брел по шумной улице Нюрнберга. Он был взволнован. За стеклом широкой витрины экскурсионной конторы — большая географическая карта; голубой демаркационной линией отделена Восточная Германия, граница на Одере и Нейсе очерчена толстой красной полосой. Маленькие модели самолетов «люфтганз», подвешенные на алых ленточках, сторонятся отчетливого ромба Чехии. Вон там, немного западнее пограничного кружочка с надписью «Брюнн», находится исходный пункт проклятого паломничества Гонзика, начало его погони за приключениями, за свободой. Ну и как, обрел он эту свободу?
«Теперь наконец мы получим возможность говорить то, что думаем, и действовать так, как велит нам совесть», — сказал после перехода границы Вацлав, когда полиция везла их в «мерседесе» в Регенсбург.
Мусорщика Губера посадили в тюрьму именно за это: он говорил то, что думал. Правда, в Чехословацкой республике тоже, вероятно, посадили бы человека, который публично выступил бы против главы правительства. Но ведь это страна насилия, от которого они убежали.
«Франц Губер не хотел, чтобы вновь возродилась германская армия. Я тоже этого не желаю: неужели можно забыть ужасные события в наших краях — зверское истребление всех граждан Велке-Мезиржичи? Их убила не шайка бандитов, а люди, одетые в форму вермахта, за несколько дней перед своей капитуляцией. И вот Франца Губера посадили за решетку, потому что он не хотел, чтобы такой вермахт снова существовал».
За спиной у Гонзика остановилась автомашина, стукнула дверца, водитель вошел в дверь экскурсионной конторы. Гонзик обернулся, и у него дрогнуло сердце — салатового цвета чехословацкий «тудор»! Сегодня его преследуют образы родины! Сотни таких машин, как этот «тудор», год назад проносились мимо Гонзика. Самое большое, что он раньше делал — с некоторой завистью глядел им вслед, но на этот раз он близко подошел к машине, заглянул через окно в надежде увидеть что-то, напоминавшее родину. Эти шины оставили первый свой оттиск на чешской земле. Гонзик невольно погладил капот машины.
В этот момент он почувствовал чей-то пристальный взгляд на своей спине. Молодой человек, причесанный на прямой пробор, в новой кожаной спортивной куртке с усмешкой смотрел на Гонзика.
— Земляк?
— Вы едете из Чехии? — воскликнул Гонзик вместо ответа. — Хотя что я говорю, на машине ведь баварский помер!
Молодой человек отпер дверь и швырнул на заднее сиденье портфель. Он скользнул взглядом по бесформенным брюкам Гонзика, взглянул на его истрепанные полуботинки.
— Я приехал из Франции поездом. В Ансбахе мне дал машину друг, чтобы я мог сделать кое-какие дела в округе Нюрнберга и сегодня же вернуться во Францию.
Чешская речь мягко звучала в ушах Гонзика — свободный человек говорит с совсем иной интонацией, нежели несчастный лагерник! Итак, во Францию…
— Вацлав ездил туда недавно, — выпалил Гонзик и смутился. — Товарищ из лагеря, понимаете… Он ездил в Париж к нашему правительству просить работы…
Человек, открыв дверцу, внимательно рассматривал дешевенькие очки Гонзика, его непослушные жесткие волосы, свисавшие на лоб. Потом быстро взглянул на часы. Этот нервный, торопливый жест вызвал в голове Гонзика молниеносный поток мыслей: Франция, земляк, новая спортивная куртка, золотые часы…
— Как во Франции с работой? Я квалифицированный наборщик, но взялся бы за любую работу — хоть на складе, хоть на строительстве, только бы иметь постоянное место…
Человек захлопнул дверцу автомобиля, вынул из кармана портсигар и предложил Гонзику сигарету.
— Инженер Бернат, — представился он.
Гонзик поспешно назвал себя. Только теперь он осознал, в чем заключается своеобразие взгляда инженера: веки его глаз были как подведенные.
— Найти место рабочего нетрудно! Ну, хотя бы на нашем строительстве. Канал Допзер — Мондрагон…
Гонзик нетерпеливо поправил очки. Каким не вызывающим сомнения тоном сказал эти слова Бернат! Должно быть, счастье все же где-то бродит по свету. Гонзик внезапно схватил инженера за рукав, как будто испугался, что он вдруг захлопнет дверцу перед его носом и исчезнет навсегда. Но снисходительное спокойствие этого человека успокоило юношу.
— У вас есть паспорт? — спросил инженер.
— Паспорт-то есть, но где взять денег на визу?
Инженер вперил пронизывающий взгляд в веснушчатый лоб Гонзика.
— Вы это серьезно, насчет работы?
— Восемь месяцев гоняюсь за ней!
Рука инженера снова сжала ручку дверцы.
— Дирекция нашей фирмы оплачивает вновь поступающим рабочим дорожные расходы. Если вы действительно хотите, то садитесь в машину, и поехали.
Тротуар закачался у Гонзика под ногами. Нет, это сон. Парень боялся, что вот-вот проснется. На какое-то время у Гонзика возникло сомнение.
— Неужели во Франции нет безработных?
Инженер пожал плечами.
— Имеются, но… Хочу быть с вами искренним: каждая фирма ищет, что подешевле. Рабочим-иностранцам платят меньше. — Инженер рассмеялся несколько смущенно и сел за руль.
— У меня мало времени, надо ехать. Решайте быстрее. Завтра в полдень вы уже могли бы быть на строительстве.
У Гонзика дрожали колени. Он пронизывающим взглядом всматривался в спокойное лицо перед собой. Жулик? Но он, Гонзик, не брошенная одинокая девчонка. Какая от Гонзика корысть? Ловец агентов для Си-Ай-Си? Но ведь он предлагает ему работу во Франции!
Инженер поставил ногу на педаль.
— Большего, чем должность рядового рабочего, я вам обещать не могу. Заработки у нас хорошие. Бывают и сверхурочные. — Бернат нажал на стартер. Гонзик беспомощно огляделся. Господи, так вот, в одну минуту и решится вся его судьба! Утром он ушел из лагеря навестить Губера, а завтра… Работа, постоянное место, регулярная зарплата, возвращение в ряды порядочных людей… Но Вацлав? Катка? Мысли о них лавиной обрушились на него. Оставить ее здесь и не проститься с приятелем!
Но мотор уже был заведен, голубой дымок щекотал ноздри. Кровь авантюриста снова заиграла в жилах Гонзика. С безрассудной решимостью азартного игрока, поставившего на карту всю свою наличность, Гонзик, стукнувшись головой, неуклюже влез в машину и плюхнулся на заднее сиденье. Машина понеслась по лабиринту узких улиц. Потирая ушибленное место, Гонзик смотрел во все глаза на мелькавшую панораму, словно хотел напоследок врезать в свою память вид старинной, наполовину разрушенной площади, руины фонтана, башни собора святого Лаврентия, образ всего города, который причинил ему одни лишь мучения.
На смену узким улицам старого города появилась широкая магистраль, они миновали разбитый Фюрт, и машина понеслась по асфальтированному шоссе на запад. Зеленые ландшафты, освещенные солнцем, два реактивных истребителя на большой высоте вычерчивали на синеве неба белые изогнутые полосы. Гонзик украдкой ущипнул себя. Так делал сказочный чешский Гонза, когда хотел убедиться, что клад, открывшийся перед его глазами, не мираж. И сквозь хаос мыслей и впечатлений до Гонзика все ощутимее доходило, что это и есть та настоящая романтика, во имя которой он расстался с родиной. Жестокая действительность посмеялась над ним, но вот сейчас все чудесно изменилось, и он наконец мчится во весь опор навстречу туманному и тревожному будущему.
Перед его глазами возникло бледное лицо Катки. Вацлав сошел со сцены, а тому, что говорят злые языки, он не верит, не верит… Ногти Гонзика впились в сиденье. Катка! Господи, что он наделал!
Вдвоем им бы легче было тянуть эмигрантскую лямку. Хотя возможно, что он себя переоценивает. Такая прекрасная девушка, и он, Гонзик… Да стоит ей только кивнуть, и она будет иметь столько мужчин! Он тайком взглянул на себя, из выпуклого зеркальца над передним ветровым стеклом на Гонзика глянула странная физиономия с круглыми щеками и вытаращенными, широко расставленными глазами. Тем не менее Гонзик снова ощутил пряный запах Каткиных волос, дразнящую теплоту ее рук, почувствовал так же явственно, как в то время, когда они брели от потемневшей Пегницы к городу. Конечно, он ей напишет, немедленно напишет, как только устроится на новом месте, и она сможет приехать к нему!
Водитель посмотрел на показатель температуры и остался недоволен, остановив машину, он поднял капот.
— Перегревается, пусть остынет немного. — Он перепрыгнул через кювет, сел на траву, прислонился спиной к штабелю щитов, закурил сигарету и немного погодя предложил соседу. Цветные сигареты всегда нравились Гонзику.
Они разговорились. Инженер уже два с половиной года во Франции. В сорок седьмом году он получил студенческую стипендию и был послан на учебу в лабораторию гидростроительства в Гренобль, но обратно в Чехословакию не поехал. Получил место в строительной фирме, лагеря он не пробовал, о страданиях послефевральских эмигрантов он узнал лишь от них самих и многим помог устроиться на строительстве.
— А кто такая Катка? — вдруг спросил он.
Гонзик стал рассказывать, а инженер, удобнее устраиваясь, перекинул ногу на ногу и не спеша записал имя Катки, ее фамилию и номер барака, в котором она живет.
— На случай, если освободится место служащей, — пояснил он.
Из его блокнота торчало несколько фотографий. Поймав взгляд Гонзика, он подал ему снимки. Экскаватор, широкий канал тянется вдаль; какие-то дома, подъемные краны, подвесная дорога. Наконец, совсем внизу фотокарточка молодой девушки в купальном костюме, морской пейзаж, на горизонте — белый парус.
— Жаннет, моя невеста, — сказал Бернат с оттенком гордости, и глаза его потеплели. — Она на Ривьере, недалеко от Канн. У ее родителей там вилла.
Море. У Гонзика загорелись глаза.
Покуривая, он искоса рассматривал соседа, его белые руки, превосходную кожаную куртку. Уравновешенность инженера, его самоуверенность очень нравились Гонзику, и зависть острым коготочком начала царапать его сердце. Да и как не позавидуешь: хорошая работа, симпатичная девушка, вилла у моря, безоблачная будущность, а ведь Бернат тоже один из эмигрантов!
Они снова поехали. Шелест шин становился стремительнее и наконец слился в свистящий гул. Гонзик безотрывно смотрел сквозь стекло. Тополя мелькали с такой быстротой, что казалось, будто вдоль дороги стоит сплошной серо-зеленый забор Юноша поудобнее расположился на сиденье, он уже успокоился и наслаждался очарованием момента; волнующей, полной романтической таинственности дорогой к новым берегам, в неведомое будущее…
Ансбах. «Тудор» остановился. Инженер ушел, забрав у Гонзика паспорт. Ключ Бернат оставил в машине. Гонзику было лестно такое доверие. Ведь теперь достаточно было бы только пересесть налево. Хозяин не может ведь знать, что Гонзик наверняка напоролся бы на первую же тумбу… Гонзик вышел из машины размять одеревеневшие ноги. Мимо проехал открытый «джип», в нем — три американские пилотки. Рядом с шофером — развевающиеся на ветру девичьи кудри. Гонзик ахнул: Ганка! Она обернулась к заднему сиденью и, весело смеясь, хлопнула по руке одного солдата. Ветер буйно трепал ее гриву, и в этот момент Ганка увидела Гонзика. Улыбка, игравшая на ее лице, от неожиданной встречи застыла, как приклеенная, но «джип» умчался, и Гонзик не видел больше лица Ганки. Он долго не мог прийти в себя. Нет, он не ошибался, это была Ганка. И она его узнала! Так-то вот. Гонзик вспомнил, что возле ветрового стекла «джипа» поблескивал хромированный прут антенны! Это была машина военной разведки. А он еще думал, что первой сделает карьеру Ирена. Перед его глазами возникла такая картина: немигающие глаза Ганки вперились в огоньки рождественских свечей на елке… Будет ли Ганка плакать и в следующий сочельник?
Инженер вернулся в хорошем настроении. Рядом с ним шагал огромный угловатый детина с остриженной на прусский манер маленькой головой.
— Мой друг повесил мне на шею еще двух строителей. Я теперь совсем как агент по найму.
Они подъехали к широким окнам кафе. Немец вывел оттуда двоих.
— Вам будет веселей, по крайней мере, — улыбнулся Бернат Гонзику.
Запах пропотевших, давно не стиранных рубах, табачного дыма и кислого вина. Гонзик сразу узнал обитателей эмигрантского лагеря. Их вид и поведение были типичны для видавших виды «тертых» молодых людей, не имеющих никаких иллюзий и живущих сегодняшним днем.
— Откуда топаешь, сержант? — осведомились они у Гонзика.
Казалось, что меньшему ростом и старшему из них по возрасту, с короткой золотушной шеей и жесткой гривой над низким лбом, было трудно говорить по-чешски: он коверкал слова, запинаясь, будто челюсти ему сводила судорога. Его друг выглядел как изголодавшийся студент: длинное желтое лицо, волосы, расчесанные на пробор.
— My name is Charles[144], но ты зови меня «Жаждущий Билл», — сказал «студент» неожиданно тонким голосом. — А он — Хомбре. — Чарльз указал на своего коренастого приятеля. — Ну и задница у него, будто у роженицы, — добавил «студент», когда он и Хомбре зажали между собой тощую фигуру Гонзика.
Знакомство состоялось быстро. Парни полтора года назад прошли через лагерь Валка, попробовали потом и другие лагеря, побывали и в трудовом и в караульном отделении в Кайзерслаутерн. Почему оттуда ушли?
— Сам посуди, девять часов в день надрываешься за несчастные восемьдесят марок в месяц. Мы еще не настолько пустомозглые. К тому же терпи окрики надзирателя-румына!
Гонзик был рад, что «тудор» наконец остановился перед разбитым вокзалом: его ногу свела судорога. Немец, сидевший на переднем сиденье, отдал инженеру какие-то документы, сухо с ним распрощался и сел за руль. Сизый дымок быстро растаял в воздухе: машина скрылась из виду.
Послеполуденное солнце жгло прямыми лучами, с недалекой громады руин ветер время от времени поднимал белесое облако известковой пыли и гнал ее прямо на путешественников. Гонзик прикрывал глаза и сплевывал, но песок все равно хрустел у него на зубах. Инженер вернулся от кассы с билетами.
— Есть хотите? — вдруг вспомнил он.
— Закинул бы удочку, да нету грузила. — Чарльз вывернул напоказ карманы.
Гонзик, сам не зная почему, в эту минуту застыдился перед своим новым другом в кожаной куртке.
Инженер молча купил в киоске бутерброды, прокисший овощной салат и два пакетика печенья. Гонзик выловил из кармана мелочь. Бернат махнул рукой, а попутчики посмотрели на Гонзика так, будто сомневались, в порядке ли у него мозги. У студентика от усердия двигались просвечивающие восковые уши. При этом он нахально глазел на молодую красивую крестьянку, сидевшую рядом на скамейке и кормившую грудью ребенка. Когда доели, Хомбре громко рыгнул. Гонзик, чтобы скрыть смущение, торопливо заговорил о чем-то с инженером, но не расслышал ответа. Юноша украдкой сжал в кармане кулак и прикрыл глаза: «Я постараюсь не уподобляться этим двум… постараюсь и докажу!»
Скорый поезд шумно подошел к вокзалу. Вслед за ним примчалась туча пыли и заволокла все вокруг. Пассажиры брали поезд штурмом. Локтями и пинками Чарльз и Хомбре отвоевали для своей группы сидячие места.
Перестук колес, послеполуденная жара, усталость, беспокойные думы о Катке, Вацлаве, Франце Губере, мысли о неведомом будущем — все это глубоко тревожило душу Гонзика. Он завидовал тем двоим напротив. Билл-Чарльз, откинув голову назад и открыв рот, тихо храпел, у наклонившего голову и также спавшего Хомбре изо рта вытекала тонкая струйка слюны. Оба молодых человека ничуть не тревожились за свою дальнейшую судьбу.
Гонзик решил, что, как только приедет на место, он напишет Катке большое письмо, будет искать для нее место. Ох, если бы она приехала во Францию! Гонзик даже в мыслях не может представить себе, как бы он ждал ее! И вот они оба на чужбине, предоставлены самим себе. Он на руках носил бы ее.
Пограничный городок Кел. Поезд тихо прогрохотал по мосту через Рейн и въехал на территорию Франции; фонари далеких улиц трепетным удлиненным пунктиром отражались в черной как сажа водной глади; буксирный пароход, надрываясь, тянул на стальных тросах две груженые баржи. Хвост искр, вылетая из трубы, бросал на ободранные бока парохода розовый отсвет.
Гонзик забился в уголок купе у окна и от волнения кусал ногти. Неуверенным взглядом он искал сочувствия у проснувшихся товарищей, их тоже взволновал переезд через границу. Лицо флегматичного Хомбре застыло от напряжения, а бледный Билл сидел, вытянув тонкую шею из грязного воротничка. Их сопровождающий, стоя в коридоре, довольно бегло и свободно разговаривал с кем-то по-французски. Таможенный чиновник в фуражке иной формы, чем у немецких пограничников, только мельком взглянул в купе и тут же отвернулся. Из-за его плеча возбужденно улыбалось лицо инженера. Гонзик глубоко вздохнул. Германия — проклинаемая, негостеприимный приют — после восьми долгих месяцев осталась позади.
— Выходите, братцы, — сказал инженер. Его глаза блестели, но лицо было утомленным. — В дальнейший путь мы тронемся утром, а пока переночуем здесь. Думаю, что и вы мечтаете о постели не меньше, чем я!
И вот они идут по вечернему Страсбургу. Кинотеатры уже закончили работу, на улицах мало прохожих, американских униформ не видно, иногда попадаются французские мундиры. Даже обломков домов — следов войны — почти нет: Германия в самом деле осталась за Рейном.
— Ты видел эту черную шлюху, Хомбре? — Билл на ходу потуже затянул ремешок.
— Да, черт возьми, уже пахнет колониями! Надо привыкать к африканским ласкам! Я начинаю верить, что все-таки исполнится мечта всей моей жизни: приголубить негритянку и монашку.
— Гостиницы переполнены. Мы переночуем в казарме. Наша фирма имеет там арендованные комнаты для служащих, прибывающих из Германии. — Инженер сказал это скучным ровным голосом, как само собой разумеющееся, и в довершение даже зевнул. Затем он повернулся спиной к ветру и закурил.
Вскоре в темноте перед ними выросла высокая хмурая коробка казармы: несколько освещенных окон были в беспорядке разбросаны среди многих других темных квадратов, симметрично расположенных на огромном фасаде. Из одного освещенного окна слышались звуки гармоники. Инженер предъявил часовому пропуск и кивнул парням, предложив им следовать за ним. Они пошли через калитку и очутились под мрачной каменной аркой.
— Подождите здесь, я скоро приду. — Быстрые шаги инженера вскоре затихли где-то на боковой лестнице.
Из караульного помещения вышел солдат в белой пилотке с непривычными красными нашивками на плечах. Он внимательно оглядел новичков и что-то сказал по-французски.
— Nem tudom[145], филистимлянин, — развел руками Жаждущий Билл и уселся на свой обшарпанный чемоданчик. Высокий резкий голос его неприятно прозвучал под сводом арки.
— Eh, bien[146], — солдат выплюнул окурок, — следуйте за мной.
Гонзик сделал шаг вперед.
— Ждем… инженер… спать здесь, — попытался он объясниться.
— Какой там еще инженер, следуйте за мной, говорю!
— Мне это начинает не нравиться, — медленно проговорил Хомбре.
Он поднял свой рюкзак на плечи, направился к воротам и взялся за ручку. Калитка оказалась запертой. Часовой с автоматом на груди знаком приказал Хомбре оставить эту затею Со двора донеслись голоса. Гонзик расслышал чешские слова. Два парня приблизились из темноты. На палке, продетой в ушки посудин, они несли три тяжелых бидона. Палка прогибалась, и бидоны с лязгом ударялись друг о друга.
— Вы тоже завербовались на работу во Францию? — спросил Гонзик, и голос его внезапно осекся.
Носильщики вступили в тусклый конус света. На головах у них были замусоленные пилотки. Парни поставили бидоны, посмотрели на Гонзика и поначалу не поняли его, а потом один из них осклабился, открыв редкие мелкие зубы, и постучал себя пальцем по лбу:
— Соображаешь, где находишься?
Наступила глубокая тишина, только из одного окна доносились звуки гармоники. Жаждущий Билл встал со своего чемоданчика. Гонзик проглотил слюну. Мрачное предчувствие железным обручем сдавило грудь, и вот прозвучали два страшных слова: «Иностранный легион!»
У Гонзика ослабли колени, нижняя челюсть отвисла, и он не способен был совладать с нею. Гонзик замахал перед собой руками, потом схватился за горло похолодевшей рукой. Носильщики бидонов маячили перед ним как призраки. Смертельная тоска, какой он еще никогда в жизни не испытывал, придавила Гонзика к земле. Три долгие секунды протянулись. Напрасно он пытался вскрикнуть. Чьи-то невидимые грубые лапы душили его. Но вдруг какая-то сила бросила его к воротам. В три прыжка очутился он у калитки, схватился за щеколду и стал судорожно дергать ее. Лишь теперь спазма в горле ослабла.
— Пустите меня, я не хочу!..
Дикий, отчаянный крик Гонзика разнесся по темному двору казармы, заглушил гармонику, проник в сердца его спутников. Их циничные физиономии вытянулись и посерели. Гонзик в невменяемом состоянии, со слезами на глазах ринулся к часовому и, не соображая, что делает, бросился перед ним на колени, обеими руками обхватил его ноги. Резкий пинок коленом в грудь отбросил его к противоположной стене, и он остался сидеть на земле, бормоча что-то и размазывая левой рукой грязь и слезы по лицу, а правой шарил около себя в пыли, отыскивая упавшие очки.
— Встань, идиот, — услыхал над собой Гонзик, — и марш наверх!
Гонзик не знал, как очутился в канцелярии за письменным столом; он судорожно водил рукой по краю залитой чернилами доски. Он слышал голоса, шаги, видел людей, но все это плохо воспринималось его сознанием, было как бы нематериальным. Подобное с ним однажды уже было, когда ослабло действие наркоза и он пришел в себя после операции аппендицита.
Чья-то рука придвинула ему бумагу, перо и чернильницу. Гонзик порывисто оттолкнул все это, разбрызгав чернила.
— Нет, нет, нет! — без конца повторял несчастный Гонзик, бланк перед его испуганными глазами терял свои очертания, и Гонзик вдруг заметил, что за ногтями у него чернила, но в тот же миг мысль об этом исчезла, уступив место одному-единственному, четко осознанному решению: «Не подпишу!»
За столом перед ним появилось новое лицо. Гонзик услыхал чешскую речь.
— Ну, не валяй дурака, подпиши. — Гонзик увидел ободряющую улыбку, широкие пожелтевшие зубы, коротко остриженные волосы.
— Я хочу говорить с инженером Бернатом!
Круглая физиономия перед ним повеселела.
— С инженером? Ага, так-так! Хорошо еще, что он не отрекомендовался председателем парламента.
Гонзик стиснул виски руками.
— Я хочу говорить с инженером Бернатом, — повторил он с безрассудным упрямством.
— Хватит разыгрывать комедию! — в голосе переводчика послышались твердые нотки. — Мы не знаем ни инженера, ни Берната. Послушай, болван ты эдакий, — переводчик перегнулся через стол, опершись на него локтями, — подпишешь — немедленно получишь превосходный ужин, флягу вина, сигареты, кофе — все и, кроме того, еще пять тысяч франков. Ты меня слышишь? Пять тысяч! Деньжищи-то какие, а?
— Не подпишу, — сказал Гонзик.
Переводчик забарабанил короткими пальцами по столу. Его тупой указательный палец был коричневым от никотина.
— Почему ты эмигрировал? Только не сочиняй сказок, будто ты политический, — замахал он руками, хотя Гонзик и рта не открывал. — Ты хотел романтики, приключений, да? Ну так вот, теперь ты получишь возможность увидеть море, Африку, пустыню, джунгли. Денег у тебя будет сколько угодно, а баб — каких только сам захочешь. После года службы начнешь получать по две тысячи в месяц и станешь настоящим барином. А через пять лет, если не захочешь служить, скажешь: «Адью, Иностранный легион!»
Гонзик упрямо, не мигая, смотрел в холодные глаза своего искусителя. «Наступила минута, когда ты обязан проявить все свои душевные силы», — лихорадочно думал он. В этот момент ему трудно было уяснить себе последствия того единственного, чего от него требовали, — росчерка пера на вербовочном бланке, но всеми фибрами души он понимал, что не смеет, ни в коем случае не смеет сделать этот росчерк, — от этого его сознание вины только многократно усилилось бы.
— Не подпишу, — непреклонным шепотом произнес Гонзик и зажмурил глаза.
Переводчик откинулся на стул, равнодушно пожал плечами и закурил. Уголки его мясистых губ скривились.
— Как хочешь. Тебе же хуже. Я здесь не со вчерашнего дня, до сих пор все подписывали. Кто раньше, кто позже, но в конце концов все ставили свою подпись. Те, у кого котелок варил, подписывались немедля и этим избавляли себя от многих неприятностей. От многих, понимаешь? — И по-французски заговорил с часовым, равнодушно прислонившимся к двери: ведь эта драма была для него привычной.
— Документы положи на стол, — снова обратился к Гонзику переводчик и потянулся до хруста в костях.
Юноша понял, что сопротивление бесполезно. И все же у парня мороз пробежал по коже, когда он выкладывал свой паспорт. В этот миг Гонзик с глубокой тоской впервые понял, что он перестал быть свободным человеком.
Солдат в белой пилотке кивнул на дверь и молча повел Гонзика вниз по лестнице, через темный двор, затем по коридору, потом еще через один двор, наконец вниз по лестнице, и они — у цели. Новый стражник встал со стула, мрачно отпер железную решетку, и тут Гонзику стало все ясно: его привели в камеру. У тюремного надзирателя, стоявшего перед ним, была огромная, словно вспухшая голова, плоское бледное лицо, обтянутое корявой кожей, и заячья губа. Он обратился к Гонзику по-польски. В глазах его было что-то звериное. На Гонзика сразу повеяло знакомой атмосферой регенсбургской тюрьмы: смесь вони тюремной похлебки, подвальной сырости, прокисшего хлеба с едким, острым запахом мочи. Дверь одной из темниц отворилась перед Гонзиком.
— Выверни карманы!
Гонзик, поколебавшись, положил в огромную шершавую ладонь тюремщика потрепанный кошелек, расческу, грязный носовой платок. После этого надзиратель сам общупал его карманы и обнаружил складной ножик. Не говоря ни слова, он отступил на шаг, его верхняя раздвоенная губа угрожающе задвигалась. Молниеносный тяжелый удар в лицо. Гонзик ударился головой об стену, в глазах поплыли разноцветные круги, будто волны на воде, показалось, что в коридоре посветлело, в левом ухе возник звенящий тон, который оглушил его, и тут же Гонзик с леденящим душу трепетом снова увидел занесенный огромный кулак и в мгновение ока получил новый удар. Бульдожьи глаза истязателя сверкали дикой яростью. Гонзик уже не чувствовал боли, он лишь ощущал глухие удары, слышал какой-то пискливый звук и видел разъяренную рожу над собой. Гонзик съехал на пол, но в тот же миг получил пинок в пах. Он инстинктивно закрыл живот руками, оберегая его от ударов могучих башмаков из грубой кожи.
Вслед за этим железная лапа схватила Гонзика за воротник, напоследок пинок в зад, и дубовая дверь камеры захлопнулась.
Сразу наступила облегчающая тишина. Сердце Гонзика, казалось, стучало где-то под полом. Он почувствовал тупую, щемящую боль в низу живота и с трудом превозмог внезапный приступ рвоты. Гонзик свернулся на полу калачиком, ладони крепко прижал к паху, так его меньше мучила боль. Шаги снаружи затихли. Вероятно, все уже кончено: больше бить не будут. Все хорошо, все хорошо…
Ему казалось, что голова начинает увеличиваться, набухать. Высокий звук в ней свистел без перерыва, все более и более наполняя голову, как насос наполняет воздухом мяч. Гонзик сплюнул солоноватую кровь, которая бог весть откуда снова и снова просачивалась в рот, прижал залитое слезами лицо к холодному кирпичному полу и взмолился: «Будьте со мной, мама, помогите мне выдержать…»
27
В тот вечер Вацлав долго ворочался на своих нарах и никак не мог уснуть. Несколько дней тому назад он, голодный и измученный, вернулся из Парижа и нашел нары Баронессы пустыми. Ему рассказали, что какой-то мюнхенский коммерсант внял наконец ее мольбе: однажды к воротам лагеря подкатила легковая машина. Баронесса побросала свои вещички в чемоданчик, халат с павлинами великодушно отнесла Штефанской, наспех обняла уцелевших ветеранов одиннадцатой комнаты — на радостях облобызала и Ирену — и пустилась бежать так быстро, словно земля горела у нее под ногами.
А теперь Гонзик…
Вацлав то и дело поглядывал на опустевшее место возле себя. Миска Гонзика на полочке сиротливо и тускло поблескивала, отражая свет фонаря перед бараком. Тут же лежал ободранный портфельчик друга с остатками имущества. Все было на месте и напоминало о юноше, не было лишь старенького дождевика с надорванным карманом: плащ кто-то уже украл.
Вацлав еще раз перевернулся с боку на бок. Тишина и пустота рядом действовали ему на нервы. Куда мог подеваться Гонзик? Убежал? Нет, это не побег. Зачем бы он оставил здесь свои вещи? С ним определенно что-то случилось! Но что именно? Нельзя себе даже представить, чтобы он последовал примеру Ярды и совершил какой-либо важный шаг, не посоветовавшись с Вацлавом. Не стал ли подслеповатый Гонзик жертвой какого-нибудь несчастья?
Одиннадцатая комната постепенно обезлюдела, новичков сюда больше не присылали. Лагерь собирались расширять, а их старый барак был назначен на слом. Какая теперь будет жизнь без последнего друга? Вацлав, конечно, не мог ждать от Гонзика прямой помощи, но сама зависимость Гонзика создавала у Вацлава иллюзию еще сохранившегося авторитета, рождала какую-то уверенность в себе. Теперь Вацлав остался один-одинешенек в этом волчьем мире. Пробивайся сам, как умеешь!
К физическому труду Вацлав был явно не пригоден. В Париже он наконец нашел место чернорабочего в предместье. Нужно было работать с киркой в руках. Один день он кое-как отмучился, на второй — не вышел на работу, не хотел пережить второго обморока. Твои высокие интеллектуальные качества и благородство духа никого не интересуют. Никому не нужны даже твои достоинства борца против насилия на родине: ведь никакой борьбы нет. Отсутствуют не только орудия и самолеты у чешской западной армии; отсутствует нечто более важное и самое главное: моральная сила, мобилизующая идея, перед которой затрепетали бы захватчики власти на родине. Ядовитая слюна, которой переполнены страницы никем не читаемой эмигрантской газетенки, до родины не долетает. Даже самые пламенные слова, бросаемые в эфир, не могут никого потрясти дома. Ты понял, что подавляющее большинство народа идет своей дорогой, отреклось от беглецов, а с ними и от тебя, перестало принимать их во внимание. Армия? Орда скотов, воров и воришек, эгоистов и отчаявшихся. Порядочные люди, затерявшиеся между ними, словно зернышко в мешке мякины, сами понемногу утрачивают свое лицо и свои идеалы, опускаются все ниже и ниже и превратятся со временем в плевел. У человека только две возможности в этой несчастной эмиграции, сказал однажды профессор Маркус: «Или ты вырастешь, или превратишься в мерзавца».
Покуда Вацлав был дома, понятие «эмигрант» связывалось у него с определенными представлениями, с конкретными именами: Коменский, Шопен, Эйнштейн, Томас Манн… Люди, которых он теперь видит около себя, тоже эмигранты, но эмигранты совсем другого сорта. В чем же причина такой катастрофической разницы? Те — люди великих имен — отвергали подлинное зло, а потому находили истинную свободу. В который уже раз в последнее время перед Вацлавом вставал жестокий вопрос: от чего ты пожелал освободиться?
Совесть! От нее не спрячешься, ее не заставишь молчать!
Нет, не произошло ничего, что вынуждало бы тебя покинуть родную землю, на которой ты вырос, как молодой весенний тополь, и с которой ты был связан всем: сердцем, разумом и языком, на котором говорила твоя мать. Сам, своими руками ты подрезал под собой ветвь родимого ствола. В сто крат увеличил свои невзгоды, сам бросился в пекло. А правду — величайшую силу в мире — ты не перекричал: под бумажной песьей головой, которую ты пытался напялить на лик родины, осталось ее человеческое гордое лицо. Ты наивно болтал о второй родине; нет, две родины иметь нельзя, как невозможно иметь двух матерей.
Время — неутомимый путник, не знающий усталости. Уже минуло более половины того двухлетнего срока, на который ты был исключен из университета. Часто, очень часто к тебе возвращается потрясающая мысль: через год ты бы опять начал учиться, опять сидел бы за рабочим столом в уютной холостяцкой комнате. В соседнем кафе, за чашкой натурального кофе, читал бы «Терапию» Демаруса. Солидно-спокойная обстановка факультета, которая всегда вызывала в тебе непостижимое торжественное напряжение. Этот факультет и теперь живет своей серьезной и спокойной академической жизнью, воспитывая десятки и сотни врачей… А ты? Ты не только потерял и еще потеряешь время, но навсегда и окончательно захлопнул за собой дверь, а ключ бросил в пропасть.
Вацлав напрасно закрывает воспаленные глаза. Что с тобой будет завтра, через месяц, через год? Впереди нет ничего, за чем бы следовало идти. Это не жизнь, это только существование. Сила инерции велика, но и она иссякает. Твое настоящее положение — это именно инерция.
Когда Вацлав был мальчиком, ремонтный слесарь в имении отца выточил ему игрушку — железный волчок. Волчок мог подолгу кружиться на стеклянной доске папиного письменного стола, потом начинал ковылять и падал. И человеческая жизнь кончается так же, как вращение волчка: в одно мгновение, прыжком в небытие. Нет, perpetuum mobile[147] — нереальная идея, несбыточная мечта: если отсутствует источник силы, то не может быть никакого ее проявления.
Мысль Вацлава начинает тускнеть, как замерзающее окно. Сквозь дремоту, без всякой логической связи, всплывают обрывки роковых фраз, сыгравших трагическую роль в его судьбе.
«На поддержку единиц мы не имеем ни времени, ни средств. Наша задача — осуществление высокой политики.
…Учиться? Пожалуйста. Нужно лишь достать документы и получить стипендию».
Вращающийся волчок. Странная мысль возникает в затуманенной бессонницей голове Вацлава: сегодня ты живешь, перевариваешь свои тысячу восемьсот калорий, ночью ты проиграешь сражение с клопами, а завтра вдруг перестанешь существовать. Сосед с чувством благодарности будет три дня поглощать твои тысячу восемьсот калорий…
* * *
После полудня Штефанского вызвали в канцелярию. Через четверть часа он ввалился в комнату с пылающими от счастья глазами и конвертом в руках.
— Едем в Канаду!
Штефанская поначалу ничего не поняла. Она дважды, как рыба, широко разинула рот, запустила свои темные искривленные пальцы в редкие волосы и наконец опомнилась и дрожа перекрестилась.
— В Канаду, понимаешь? — еще раз выкрикнул Штефанский и потряс жену, взяв ее за острые плечи.
Она рассмеялась мелким хихикающим смешком, но вдруг стала серьезной, подскочила к нарам и лихорадочно начала складывать грязное белье, всевозможную ветошь. Ей попался в руки паровозик с красными колесиками. Она бережно положила его на сенник и замерла.
Штефанский помрачнел.
— Не сходи с ума, погоди, сперва надо пройти медицинскую проверку. Погоди, еще будет беготни… — Он запнулся и побледнел.
Штефанская сразу же все поняла и зажала маленькой ладонью приоткрытый рот.
Штефанский взял в руки дырявую рубаху, бесцельно сложил ее, но тут же опять развернул, глубоко вздохнул и печальным взглядом посмотрел в окно.
— Да, ей нельзя с нами! — выкрикнул он раздраженно. — Как только заработаю, пошлю ей на дорогу, она и приедет. Да, да, Мария приедет к нам после…
Из совиных неморгающих глаз с воспаленными веками тихо покатились крупные тяжелые слезы.
— Имею разрешение! — зашумел Штефанский на всю комнату.
Он протопал к нарам Капитана и победным жестом показал казенную бумагу. Поляк восхищенным взглядом впился в губы Капитана, когда тот по-английски, с хорошим произношением читал текст разрешения на выезд. Потом Штефанский приступил к Вацлаву, а затем растолкал и спящую Ирену, но не стал ожидать, пока она заинтересуется, и убежал в соседнюю комнату. Всюду, где побывал поляк, после его ухода воцарялось сумрачное молчание. В Валке было законом — радость одного немедленно вызывала лютую зависть у других.
Пепек в своей комнате стоял у окна, заложив руки в карманы. Он сосредоточенно наблюдал за осой, медленно ползавшей по парапету. Прибежавший Штефанский отвлек Пепека. Он долго не выпускал из рук выездное разрешение Штефанского, читал слово за словом. Бумага еле заметно тряслась у Пепека в руке. Но поляк выхватил ее и шумно выбежал, чтобы рассказать о своем счастье остальным лагерникам. Пепек долго вприщур глядел на дверь, оставшуюся открытой, а затем снова повернулся к окну. Резким рывком расстегнул он воротничок, который стал вдруг тесным и начал душить его, оторвавшаяся пуговичка покатилась по полу, но Пепек не заметил этого. Оса по-прежнему ползала по раме. Пепек нашел в кармане использованный автобусный билет, раздавил осу и брезгливо вытер руку о штаны. Все это, однако, не отвлекло и не успокоило его. Он включил радиоприемник и с хмурым видом стал вертеть рычажок. Слова на незнакомых ему языках перемежались с музыкой. Пепек, не выслушав передачи одной станции, машинально переключался на другую. Его брови сошлись над переносицей, толстые губы на плоском лице нервно подергивались. Он курил, не вынимая сигареты изо рта, пепел падал ему на брюки.
Два с половиной года…
Кто поймет его муки: два с половиной года ждать в лагере, подобно цепному псу, пока расстегнут ошейник и отпустят его? Будучи за океаном, Пепек давно бы устроился — работать на шахте или каким-нибудь торговым агентом. Но вместо этого он вынужден торчать здесь и ждать, ждать без конца, без просвета! Не будет он устраиваться на время в этой паршивой Европе, где все неустойчиво. Нет, он добьется своего. Его карьера только за океаном, и, пока он не очутится там, он не сможет жить спокойно. Да и как сохранить самообладание в этой обстановке вечной тревоги и ненадежности? К тому же этот постоянный недостаток денег. Приходится пускаться во все тяжкие, чтобы раздобыть деньжат, но при каждом, даже маленьком шаге на него, как каменная глыба, наваливается опасность разоблачения — из-за любого провала пришлось бы расстаться с надеждой исчезнуть из Европы! Мыслимо ли выдерживать такое вот уже два с половиной года!
Иногда он начинает сомневаться: в здравом ли он уме или рехнулся? Одно ясно: что-то в нем последнее время нарастает, какая-то дикая неодолимая тяга к отъезду за море, это всепоглощающее стремление гложет его, как раковая опухоль. Пепек — человек необыкновенной физической силы, но всепожирающий пламень, бушующий в нем самом, парализует его, лишает воли, превращает в марионетку.
Прочь отсюда, прочь, прочь!
Трясущейся рукой Пепек выключил радиоприемник и снял с полочки шапку.
Штефанский на своих журавлиных ногах почти бежал по направлению к городу. То и дело он хватался за нагрудный карман, чтобы убедиться, цела ли чудодейственная бумага. В трехстах метрах за Штефанским как тень следовал Пепек. Его длинные руки висели вдоль тела, маленькая курчавая голова склонена набок, могучее туловище на несоразмерно коротких ногах. Пепек сам не понимал, что за непреодолимая сила тянет его вслед за поляком, возможно, что это была болезненная страсть — терзать себя видом чужого счастья. Автобусы обгоняли Штефанского, но ему было жаль потратить несколько грошей на билет — деньги очень нужны, особенно теперь, когда распахнулись двери в новый мир.
— Я получил бумагу на выезд в Канаду! — с сияющими от счастья глазами крикнул на ходу Штефанский двум знакомым, которые брели к лагерю. Ответа поляк не ждал и побежал дальше. Пепек не отставал.
Штефанский вбежал в железные ворота с вывеской «Canadian Immigration Service»[148], а Пепек стал прохаживаться по тротуару на противоположной стороне улицы. Ожидание было недолгим: Штефанский скоро вышел, передернул плечами, пощупал бумагу в нагрудном кармане, нерешительно переступил с ноги на ногу, прижав палец к ноздре, высморкался на мостовую и не спеша побрел к центру города. Ноги Пепека механически, сами собой, понесли его в том же направлении. Моментами трамвай мешал ему видеть Штефанского. Пепек нетерпеливо про себя торопил вагон, опасаясь, что поляк затеряется в уличной сутолоке. Так дошли они до городской больницы. Остановившись на некотором отдалении, Пепек начал прохаживаться. Взгляд его был прикован к входу в больницу.
Непостижимы пути, по которым в Валке ковыляет справедливость. Да и где она, справедливость? Бронека этот мужик похоронил, а теперь и девицу с собой не возьмет. Какую же ценность имеет Канада, если семья будет растеряна в разных частях света? Пепек впился ногтями в собственную ладонь; на него вдруг нахлынули горестные воспоминания, он снова мысленно переживал те ужасные минуты. Такая же бумага лежала и у него в кармане. Все было готово: из лагеря он был отчислен, вещевой мешок был увязан и даже продовольственная карточка сдана. С бьющимся сердцем Пепек отправился поставить последний штамп. И вдруг гром с ясного неба: ледяное лицо начальника лагеря Зиберта, задержавшего бумаги, и его слова: «Вернуть не могу; консульство Соединенных Штатов только что по телефону аннулировало визу». Пепек, пожираемый жаждой мести, целый год, как следопыт, выискивал виновника катастрофы. Попадись он, Пепек, вероятно, убил бы его на месте, но доносчик не отыскался! Правда, перед этим Пепек подрался в лагере: вышиб одному словаку два передних зуба и мощным пинком сломал ему ключицу. Возможно, что именно этот шелудивый хам донес американским учреждениям: «Знал я его в республике, он симпатизировал коммунистам». Одной этой фразы было достаточно…
Пепек приподнял голову, перед ним стоял Штефанский.
— Я получил визу на выезд!
— Ты мне уже говорил.
Огромное счастье как рукой сняло со Штефанского замкнутость и сделало его необычайно общительным и словоохотливым.
— К дочери меня не пустили — сегодня неприемный день. И в канадском представительстве прием только до трех. Пойду туда завтра с утра. — Он царапнул рукав Пепека. — Старуха моя тут же начала паковать вещи, сумасшедшая. Я сказал ей: «Это так быстро не делается, гусыня глупая!» — Он оскалил желтые зубы и засмеялся мелким смешком, похожим на кудахтанье курицы.
Они неторопливо возвращались в Мерцфельд. Трамвай пронзительно скрипел на кругу последней остановки. Люди пересаживались на автобус, чтобы ехать дальше за город.
— Да, привалило тебе счастье, — сказал Пепек на силезском диалекте, так что поляк его понял без труда. — Через неделю уже поедешь по морю, как пан. — Он остановился, дав Штефанскому пройти вперед на два шага, вприщур, оценивающе посмотрел ему в спину своими зелеными глазами и, подождав, когда тот обернется, сказал: — Пойдем обмоем это дело.
Поляк отрицательно завертел головой.
— Не бойся, тебе это ничего не будет стоить; у меня есть немного денег, я батрачил у кулака.
Они сидели за мраморным столиком «У Максима» и пили водку.
Штефанский, бог весть в какой раз, вытащил из кармана уже изрядно помятый конверт, старательно смел со стола крошки, рукавом черного пиджака вытер лужицу кофе с мраморной доски и, щурясь от счастья, торжественно развернул сложенный лист. Водка приятно пощипывала язык. Давненько он, убогий человек, не ощущал этого острого вкуса во рту, так давно, что почти забыл, что на свете существуют такие благие напитки… Так уж все творится на свете: бог долго испытывает тяжким крестом своих негодных сынов, а потом вдруг одарит их счастьем и небесными дарами!
Пепек сидел за столом, согнув спину, свесив руки между колен. Лист казенной бумаги перед глазами дразнил его, как быка дразнит красный цвет. Два с половиной года! Несколько лживых, ненавистных слов, и ворота в США — землю обетованную — оказались навсегда закрытыми на десять замков! Он прошел новую регистрацию — в Австралию, но вот минул уже год, а Пепек все ждет заграничного паспорта, ждет и ждет… Надумает ли прежний доносчик или тот сопляк, которому Пепек на танцульке сломал ребро, и напишет в отместку — что ему стоит: так, мол, и так, человек он подозрительный, в республике одобрял национализацию… Этого окажется достаточным, и Пепек будет ждать еще год, чтобы попасть в Аргентину, в Новую Зеландию или на другой конец света!
— Как только в Канаде немного пообживемся, купим, парень, домик с верандой. В окнах красные, желтые и фиолетовые стеклышки, посмотришь — и тебе покажется, что расцвели деревья, поглядишь в следующее оконце — и почудится, будто все снегом покрылось, это в июле-то, хе-хе-хе! Все это будет иметь Януш Штефанский. И свинью, друг ты мой, собственную свинью забью. Мария налопается сала, и болезнь как рукой снимет!
Пепек курил и курил, зажигая одну сигарету от другой. К полупустой рюмке, стоявшей перед ним, он больше не прикасался. Безучастным, остекленевшим взглядом Пепек уставился на бархотку, красовавшуюся на шее Маргит, стоявшей за буфетной стойкой. Вдруг рука Пепека нащупала в кармане складной нож и начала играть с ним. Он сжимал ручку ножа, затем разжимал и выпускал нож, а потом вновь нащупывал его. Страшная зависть охватила Пепека, растравляя внутренности, словно едкая щелочь, парализовала мозг. Этот длинноносый дылда перед ним, имеющий жену, похожую на цыганку, и туберкулезную дочь, этот вечный батрак всегда останется огородным чучелом, если бы даже на него надели смокинг, а на голову напялили цилиндр. Он, поди-ка, и расписаться грамотно не умеет, а поедет в Канаду. Через пять лет того и гляди будет ездить на работу в собственном автомобиле. А он, Пепек, хваткий, молодой, оборотистый, заболел бессонницей, и руки у него трясутся из-за житья в этом распроклятом лагере. Пепек уже давно не чувствует себя здесь в безопасности. Где-то, не очень далеко, на востоке, за поясом лесов, есть страна, в которой он совершил преступление, и требование этой страны о его выдаче лежит в управлении лагеря. Его повесили бы, чего иного он может ждать за то, что совершил? Два с половиной года он крепился, но теперь быстро катится с горки, чувствует, что, если в скором времени не произойдет чуда, он взбесится и окончит свои дела в смирительной рубашке, в чужой стране, не имея здесь ни единого друга.
— …Приедет Мария в Канаду и скажет: «Отец, а зачем в кухне два крана?» — «Этот второй, — отвечу я ей, — подает горячую воду, овца ты глупая. Твой отец теперь через день бреется с горячей водой! А ты, Мария, беги-ка, дочка, посиди на веранде, мать подаст тебе туда гуляш из свинины. Только осторожно, не разбей цветное стеклышко в окне…» — Штефанский бережно складывает лист казенной бумаги; прозрачная капля водки, словно слеза, застряла и блестит в его усах, глаза его пылают от безграничного блаженства.
Пепек заплатил, они вышли.
А Колчава тут как тут: поднялся из-за соседнего столика и выловил из пепельницы наполовину выкуренную сигарету, оставленную Пепеком.
Свежий вечерний воздух как будто унес последние силы Штефанского. Он совсем размяк и мотался по тротуару из стороны в сторону, ноги его, обутые в наглухо застегнутые теплые ботинки «дипломатки», подгибались. Пепек снял было свою кепку, но тут же снова надел ее.
— Хотел бы ты заиметь кусок копченого мяса на дорогу? Мне причитается кое-что от хозяина — это тут, недалеко, батрачил я у него две недели на поле.
У поляка засияли глаза.
— А сколько запросишь?
Пепек махнул рукой.
— Ладно уж, дам тебе половину даром, черт тебя возьми вместе с твоим заграничным паспортом. А то еще в дороге околеете с голоду, а у меня мясо все равно протухнет. Только уговор: напишешь мне из Канады, как только туда доберешься, что у тебя есть для меня место, мне это поможет… Тут нужно свернуть в сторону, через полчасика мы уже будем у рыжего Рюккерта.
Сумрак быстро окутывал местность. Сильный утренний дождь не остудил землю, теплый воздух был перенасыщен влагой, как в оранжерее. На ржаном поле назойливо стрекотали сверчки. Дорогу прорезали две заполненные грязью глубокие колеи, а между ними тянулась полоса зеленой травы. На эту живую зелень Пепек злобно выплюнул окурок сигареты.
— Иди! — Пепек уступил своему спутнику дорогу. Мышцы на щеках у Пепека двигались без остановки, правой рукой глубоко в кармане брюк он сжал ручку ножа. Пепек тяжело дышал и почти физически чувствовал могучую клетку своих собственных ребер, а сердце как бешеное стучалось в эту клетку, и эхо звоном отдавалось в ушах. Невидимые клещи все безжалостнее сжимали голову Пепека: «Если ничего не изменится, я издохну в сумасшедшем доме, околею там как собака…»
А Штефанский, ничего об этом не ведая, брел себе нетвердым шагом по зеленой полоске между глубокими колеями и что-то говорил в пространство перед собой. Поляк норовил ступать посуху, чтобы не попортить единственную пару ботинок накануне путешествия.
— …Говорили мне: подожди, будешь еще блевать над океаном! И вот я молю бога, чтобы он и над океаном не лишал меня, своего покорного слугу, щедрот своих! Море — трудная дорога, но с помощью всевышнего мы его пересечем, но потом, подумать только! Три раза в неделю гуляш из свинины!..
Пепек идет, тяжело дыша широко открытым ртом. Глаза застилает какая-то пелена. Он усиленно мигает, но фигура поляка вырисовывается нечетко, расплывчато. Пепек механически облизывает пересохшие губы, зубы его стучат, как в лихорадке. Его охватило постыдное чувство, будто всему конец, и в тот же миг он обрел вдруг желаемое зловещее спокойствие. Ледяной холод пронзил его всего от головы до пят. Он на ходу раскрыл нож, лицо его побагровело, рука с ножом поднялась, и Пепек со всей своей страшной силой ринулся на идущего впереди человека…
28
Стая скворцов, шумя и ссорясь между собой, усердно клевала дозревающую черешню в саду ведомства по делам переселенцев в Канаду. Пальцы Пепека, ждавшего своей очереди в канцелярии, уже в десятый раз пересчитывали головки декоративных гвоздиков на краю обшивки дивана. Время ползло мучительно медленно. Тень оконной рамы постепенно переместилась по рисунку ковра. Какой-то посетитель подсел к Пепеку и обратился к нему по-немецки. Пепек отрицательно покачал головой: дескать, не понимаю. Пепек сидел, не двигаясь, преодолевая усталость после бессонной ночи; он страдал от жажды и от отвращения к воде. В горле все еще чувствовался острый вкус виски, выпитого утром вместо завтрака. Расстроенные нервы сосредоточились на одном желании: получить последнюю недостающую печать и уйти отсюда, унести ноги как можно быстрее.
— Пан Штефанский!
Чиновник пожал Пепеку руку и вписал имя Штефанского в какой-то бланк. Из дальнего угла комнаты подошел лысый человек в пенсне. Он внимательно оглядел фигуру Пепека и сказал по-немецки:
— Откройте рот!
Пепек понял, но отрицательно покачал головой: «не понимаю». Вызвали секретаршу.
— Понимаете хотя бы по-чешски? — спросила она по-чешски. У нее было типичное для англосаксов произношение.
Пепек кивнул. Лысый доктор как бы нехотя вертел его голову, чтобы лучше увидеть всю полость рта.
— Ладони! — секретарша перевела, и Пепек перевернул руки ладонями кверху.
На лице доктора отразилось явное разочарование. Сквозь рукав пиджака нащупал он бицепс Пепека.
— При такой фигуре вы могли бы иметь мускулы покрепче. Мозолей на руках у вас нет вообще!
— Два с половиной года я без работы. Откуда же быть мозолям? — Пепек напряженно следил за тем, чтобы в силезский диалект, на котором он старался говорить, вплетать поменьше чешских слов.
— Раздевайтесь.
Пепек без тени смущения снял рубаху, доктор вооружился фонендоскопом.
— Имели легочные заболевания?
Пепек ответил отрицательно. Секретарша зевнула и прикрыла ладонью рот.
— Рентгеновского снимка с вами нет?
Пепеку еле-еле удалось сосредоточиться, чтобы не попасть впросак.
— Разве человек, когда убегает, имеет время думать о такой чепухе? — Медосмотр раздражал Пепека. «Того и гляди скажут, что у меня нервы ни к черту, и не возьмут». Это еще больше встревожило его.
Доктор взглянул на его вздрагивающие веки.
— Это у вас быстро пройдет, когда поработаете лесорубом. — Доктор в первый раз попытался улыбнуться.
Пепеку кивнули на кресло у курительного столика. Он сел с чувством облегчения: теперь необходимо сосредоточиться, чтобы не растеряться при неожиданном вопросе. Однажды приятель взял его с собою в каноэ, и они поплыли вниз по Вагу, от самых Карпат. Переживание очень острое для оборванного питомца окраинной улицы Остравы. Он и сегодня подобен пловцу в каноэ — этой крайне ненадежной лодке, несущейся по бурному потоку между скалами.
Служащая за столом шуршит бумагами, снаружи кричат скворцы, через открытое окно откуда-то с нижнего этажа доносились звуки пассадобля, но Пепек не слушал, он пристально смотрел на светлую блузку секретарши, сидящей за столом. Бумаги в ее руках — это для него или счастливое будущее, или гибель. Время остановилось, пассадобль сменился тягучим блюзом, удары сердца у Пепека все время обгоняли ритм блюза; вот это будет здорово — отдышаться в канадских лесах, сбросить, как вонючее грязное тряпье, всю свою прошлую жизнь и начать новую; глядеть со скалы куда-нибудь в сторону Юкона. На рекламных открытках Чешского комитета природа Канады выглядела именно так.
— Почему вы не привели свою семью?
Пепек вздрогнул, выпрямился и судорожно сжал пальцами край стола, за которым сидел.
— Пока оформлялось разрешение, умер мой сынок, а жена заболела туберкулезом. Ни она, ни дочь не могут сейчас ехать со мной. Как только… начну зарабатывать в Канаде, вышлю ей деньги, авось к тому времени она выздоровеет. — Он поднял глаза, ему показалось, что на лице секретарши промелькнуло участие.
— Сколько же вас в таком случае поедет?
— Я один!
Холеная рука перечеркнула какую-то графу в бумагах. Еще одна стремнина осталась за кормой лодки Пепека.
— Год рождения?
Конечно. Этот вопрос должны были задать. Острая скала, торчащая в самой середине потока. Если он не сумеет обойти ее — раздастся треск, и вспененный водоворот проглотит пловца. Пепек не имел возможности научиться плавать: в грязной речушке Остравице воды по колено.
— Тысяча девятьсот двадцать пятый.
Изогнутые брови девушки чуть сдвинулись.
— А у меня записано: тысяча девятьсот пятый.
Пепек равнодушно пожал плечами. Но в мелодии блюза, внезапно заполнившей всю комнату, зазвучала смертельная тоска.
— И на регистрационном листе тоже тысяча девятьсот пятый. Странно. Почему при регистрации вы прибавили себе целых двадцать лет?
— Не знаю. Это ошибка, может, меня не поняли.
У Пепека потемнело в глазах; красивые пальчики с красными ногтями подняли документ и подержали против света. Секретарша поднялась, положила документы перед сослуживцем и стала что-то тихо говорить ему, повернувшись спиной к Пепеку. В иное время Пепек не отвел бы глаз от ее стройной фигуры, но теперь все потеряло смысл, бурный поток кончался высоким водопадом, туда стремглав летела его лодка. Пепек неудержимо мчался к своей Ниагаре.
— Ваше имя? — властно спросил по-немецки громкий мужской голос.
— Штефанский Януш.
— Откуда?
— Из Бильфельда.
Пальцы чиновника, украшенные большим золотым перстнем, забарабанили по столу.
— Вы только что не понимали по-немецки.
— Я и сейчас не понимаю, только самую малость… — пробормотал Пепек на силезском диалекте и вонзил ногти в обшивку кресла. Он похолодел. «Идиот!» — мысленно выругал он себя.
— Идите сюда!
Пепек не двинулся с места.
Девушка перевела приказ. Пепек подошел к столу. Чиновник смерил его взглядом. «В этих ручищах таится какая-то жестокость», — решил служащий про себя. Он выпрямился и вдруг спросил без обиняков:
— С какой целью подделали дату рождения?
Пепек пытался что-то придумать; секретарша перевела вопрос — он не слушал, напряженно думал, но ничего придумать не смог. Как машина, которая буксует и никак не может сдвинуться с места.
— У кого вы взяли эти бумаги?
Пепеком овладело чувство полной опустошенности, все внутри пересохло. Секунды молчания тянулись бессмысленно долго, но, наконец, наступило какое-то облегчение, минутный паралич прошел.
— Рехнулись? Ни у кого я ничего не брал, я получил их по почте в Валке!
Дальнейшие события воспринимались Пепеком как кошмарный сон. Золотой перстень чиновника замелькал над диском телефона. Пепеку кажется, будто на шею ему набросили петлю. Чиновник смотрит твердым, холодным взглядом, а у девушки с высокой прической чуть заметно дрожат тонкие пальцы, она притворяется, будто работает за своим письменным столом, но Пепеку ясно, что она очень встревожена тем, что происходит. Пепек снова попытался взвесить свое положение, но почувствовал, что не способен сосредоточиться. Что с ним такое стряслось? То, что он совершил, требует ледяного спокойствия, а он стоит здесь с пересохшими губами. Соберись с духом, сделай что-нибудь, не жди, как глупая овца убоя. Пепек направился к двери.
— Пан Штефанский!
Пепек заколебался. Одна минута нерешительности, о которой ему тут же пришлось горько пожалеть. Чиновник обошел его, замок в дверях щелкнул, ключ исчез из скважины. Пепек сделал три больших шага и схватился за ручку двери.
— Я не преступник! Отоприте! — крикнул он.
Пепек стоял у порога, жалкий, втянув маленькую голову в плечи, широкая грудь его вздымалась, вспотевший лоб блестел в луче солнца.
— Спокойно, садитесь! — И чиновник сел за письменный стол, склонившись над бумагами.
Пудреница выпала из рук белокурой девушки и ударилась о стекло на ее столе.
— Выпустите, мне нужно… — сказал Пепек, но тут же уяснил себе наивность этого хода.
— Уборная в прихожей, милости просим, — чиновник указал в противоположную от двери сторону. — И советую, никаких глупостей, Young man[149].
Пепек брел по темному коридору, за одной из дверей, вероятно, была лестница, но дверь на замке. Он вернулся, сел в кожаное кресло закинул ногу на ногу, закурил сигарету из серебряного портсигара, лежавшего на столе, издали бросил спичку в пепельницу, но промахнулся: спичка упала на ковер.
— Это ограничение свободы, вы за это ответите!
Из радиоприемника зазвучал венский вальс, беззаботный, порхающий, а время остановилось, и в этом злая ирония: веселая музыка каждым своим тактом отсчитывала судьбу человека. Возьми себя в руки, Пепек. Тебе могут пришить только подделку документов, ничего больше, ничего больше, ничего больше. Еще не все проиграно. Только Канада для тебя провалилась в тартарары, но никакая сила на свете из тебя не вытянет признания в том, что случилось вчера.
Энергичный стук в дверь. Чиновник открывает сам. Входит человек в расстегнутом плаще, а за ним — знакомая униформа. Чиновник коротко информирует вошедшего, полицейский остановился у двери. Пепек потушил недокуренную сигарету. Удивительная вещь: именно теперь — абсолютное спокойствие. Пепек тяжело вздохнул. Он все же не дурак, не новичок. Все сегодняшние переживания — это нервы. Потрепанные нервы лагерника из Валки. После двух с половиной лет сыграли они с ним забавную шутку. Фальшивые документы. Никакая сила в мире…
— Wie heissen Sie?[150]
Еле заметная кривая усмешка на губах Пепека.
— Иозеф Главач[151].
Белокурая девушка, приложив ладонь к горлу, облегченно вздохнула, словно гора упала у нее с плеч.
— Каким образом вы достали документы? — Полицейский в штатском стукнул пальцем по бумагам.
— Сидели мы со Штефанским в трактире. Он нализался и забыл их на столе. — Пепек расстегнул воротник рубашки и затем горестно развел огромными руками. — Вы, наверное, не поймете, господа, что это такое, ждать разрешения на выезд. Полтора года ждал я бумаг на выезд в США, они были у меня, но кто-то донес, будто я неблагонадежный, а ведь я не как другие, я воевал с коммунистами не языком, а с оружием в руках! И вот целый год я жду.
Девушке не нужно было переводить — Пепек за три года работы в гитлеровском рейхе научился сносно изъясняться по-немецки. Он обратился прямо к чиновнику:
— Пустите меня в Канаду, ради бога! Посмотрите на меня, я мог скалы двигать, а теперь мускулы у меня стали дряблыми, сам доктор ваш это заметил. Он видел, как дрожат у меня веки, я извелся, как старый пес, я буду валить лес, работать на ферме, ворочать, как лошадь, только пустите меня в Канаду! Два с половиной года в Валке, я свое получил, больше мне не выдержать — спячу с ума.
В комнате смущенная тишина. Полицейский у дверей встал теперь «вольно», на лице у девушки, сидевшей у окна, видно было явное сочувствие, в комнате воцарилась атмосфера человечности и даже почти дружелюбия.
Инспектор уголовной полиции вложил документы в сумку, ладонью потер щеку и как бы невзначай сказал:
— Ja. Sie sind verhaftet[152].
* * *
Вацлав проснулся в испуге, чья-то рука трясла его. Нездоровое, зловонное дыхание пахнуло ему прямо в лицо.
— Янушки… Янушки нет, что мне делать? — Растерянные глаза Штефанской, не мигая, смотрели на него из темноты, колеблющийся луч света от раскачиваемого ветром уличного фонаря пробегал по искаженному тревогой лицу. Но босые ноги женщины зашлепали прочь, и Вацлав услышал скрип нар в польском углу.
— Да ну вас, — пробормотал Капитан сквозь сон, но тут же вскочил. — Что случилось?
— Янушка… — простонала Штефанская.
Ткань легкого сна быстро порвалась. Вацлав сел на своей постели. До сих пор Вацлав никогда не слыхал, чтобы эта женщина называла так мужа.
— Вероятно, обмывал, — зевнул Капитан и опять лег.
В этот миг вспыхнул яркий свет. В дверях стояла Ирена. Она с удивлением посмотрела на новенькие часики — они показывали три часа.
— Почему не спите? — спросила она.
— Не может он валяться пьяным два дня и две ночи, — всхлипнула полька и, заслонив рукой больные глаза от яркого света, ощупью нашла руку девушки. Ирена тут же высвободила руку.
— Возможно, что он от вас уехал. Я бы этому не удивилась. — Ирена приподняла бровки. — Советую вам иногда мыться. — И она отворотила носик.
Забыв о бедной женщине, Ирена легким упругим шагом пошла в свой угол, мурлыча какую-то песенку. Краска на ее губах была размазана, на лице отражались какие-то приятные переживания.
— Последнюю ночку я здесь, мои милые. — Она вдруг обернулась и сделала эффектный жест.
Капитан и Вацлав удивленно посмотрели на нее. Она рассмеялась.
— Пока буду недалеко, только у ворот. Не бойтесь, останемся друзьями. «Фри Юроп»[153] — буду служить там. — И она шутя отдала честь. Потом сняла платье и надела яркий новый халат. — Наконец-то у меня опять будет постель, пуховое одеяло и ни единого клопа! — Она зевнула, зажмурила красивые глаза и томно потянулась.
— Янушка от меня… уехал… в Канаду… — вдруг запричитала Штефанская. Слезы ручейком текли из ее глаз, она трясущимися руками схватилась за голову и заскулила, как побитая собака.
— Какая чепуха! Погасите свет, мы хотим спать! — прикрикнул Капитан.
Женщина тут же умолкла и погасила свет, однако долго еще в темноте металась по комнате, шлепая босыми ногами по полу, натыкаясь на скамейки.
— Мы хотим спать, говорю вам! — Капитан повысил голос.
Штефанская опустилась на колени у своих нар, судорожно сложила ладони и долго молилась. Ее шепот постепенно усиливался, наконец она стала молиться вполголоса.
— Бросьте, ради бога! — сказал измученный Капитан. Он яростно чиркнул спичкой и закурил. Тусклый огонек, осветивший комнату, вскоре погас, но в темноте резко замаячил красный кружочек горящей сигареты. — Праздновал он, напился на радостях, посадили его на день, вот и все.
— Янушка… оставил меня одну… — жалобно, надтреснутым голосом завыла женщина.
— А ты в другой раз не болтай глупостей, черт тебя дери! — накинулся Капитан на Ирену, но из ее угла уже слышалось спокойное сонное дыхание.
Сон так и не возвратился к Вацлаву. Что-то зловещее, но пока еще неясное чувствовалось в воздухе. В польском углу воцарилась мрачная тишина. В этом пропахшем кислятиной логове смерть уже нанесла удар своей костлявой рукой, а теперь как будто снова нацеливалась. Вацлав вдруг представил себе пустоту одиннадцатой комнаты. Поначалу он воспринимал чей-нибудь уход как облегчение, но теперь боялся одиночества. Баронесса, Гонзик, Мария. Завтра уйдет Ирена — девушка делает карьеру. А что со Штефанским? Один за другим исчезают обитатели комнаты, и никто уже не занимает их мест. Ряд новых бараков вырастает на лагерной территории, а старые, кишащие паразитами, обречены на ликвидацию, их уже не заселяют. Внезапно Вацлава обуял страх при мысли, что он может остаться совсем один в комнате. Нет, невозможно: рядом жизнь. Вот огонек сигареты напротив. Он то постоит на месте, то опишет кривую и разгорится сильнее при затяжке, за ним — живой человек.
— Обулись бы хоть, а то простудитесь, — шепнул Капитан в сторону Штефанской, неподвижно торчавшей у окна. Женщина не откликнулась. Возможно, не слышала.
Только под утро Вацлаву удалось снова задремать. Проснувшись, он увидел, что Штефанской нет в комнате. На нарах сиротливо лежал увязанный ранец. Капитан вернулся из канцелярии и принес удивительное известие: Пепека посадили. Эта новость лишь усилила тревожное напряжение. Не связан ли арест Пепека со Штефанским?
Штефанская вернулась в полдень, измученная, заплаканная. Новые, слишком тесные ботинки, связанные шнурками, висели у нее на руке. Напрасно искала она мужа в больницах, бегала по нюрнбергским кабакам, крепко сжимая четки в костлявых пальцах. Где ее не понимали, а где выбрасывали вон — того и гляди что-нибудь стянет.
После обеда у барака остановилась легковая машина. В комнату вошел папаша Кодл, а за ним трое незнакомых мужчин. Все они забыли поздороваться. Ирена относила последние вещи в каменный домик недалеко от ворот, но, увидев пришедших, она из любопытства остановилась посреди комнаты с чемоданом в руках.
— Пани Штефанская, — обратился к ней папаша Кодл, одновременно представляя ее полицейским.
Молодой комиссар тем временем украдкой посматривал на Ирену: она была куда привлекательнее, чем морщинистая босая старуха.
— Понимает по-немецки? — спросил один из чиновников.
Папаша Кодл покачал головой.
— Тогда скажите сами.
Папаша Кодл сделал неопределенное движение.
— Ваш муж…
— Что с ним? — вскрикнула Штефанская.
В комнате стало так тихо, что слышна была неутомимая работа жучка-точильщика.
— Умер, — ответил Кодл и неловко развел руками.
Костяные четки, которые держала Штефанская, упали на пол, рот ее в ужасе раскрылся, какая-то странная судорога скривила мучительно побелевшие губы, ноздри ее вздрогнули и раздулись. Вдруг выражение ее дико выпученных глаз изменилось. Штефанская смело шагнула вперед, растолкала полицейских, минуту суетливо металась и с лихорадочной поспешностью начала обуваться, но не смогла завязать шнурки.
— Знала же я, что Янушка… — затараторила Штефанская и вся затряслась от смеха. — Сейчас будет готово, сейчас, сейчас, одну минуточку… — Вдруг она подскочила к Ирене и обняла ее. — Ты извини, Янушка меня ждет, я должна бежать, приезжайте побыстрее вслед за нами!
Ее лицо помолодело, зарумянилось, оно сияло от счастья и возбуждения. Потом она побежала к нарам, споткнулась о четки. Раньше она не расставалась с ними, отсчитывая молитвы, прочитанные своему католическому богу. Теперь она посмотрела на четки с ненавистью и пнула их под стол. Штефанская развязала ранец, с нервной суетливостью начала швырять в него остатки скарба.
— Знала же я, что Янушка этого никогда бы не сделал… — приговаривала она.
Ирена поставила чемодан на пол, лицо ее посерело, будто пеплом подернулось. Полицейские недоуменно смотрели то на папашу Кодла, то на метавшуюся по комнате женщину, потом они смекнули, в чем дело. Младший из них тихо заговорил с Иреной.
— Поймите, пани, — прохрипел папаша Кодл, не соображая, что следует еще сказать.
Вацлава снова стала мучить изжога. Он не мог оторвать взгляда от бедной женщины. Папаша Кодл сегодня впервые назвал Штефанскую «пани».
— Ну и стерва Янушка! — хихикнула Штефанская, перебирая рухлядь в мешке. Вещи валились из ее рук, падали на пол. — Мужик непутевый, детина носатый, и вдруг — в Канаду. Ишь, куда махнул! На корабль собрался, словно пан. Домик с верандой и гуляш каждый день…
— Вашего мужа убили, — произнес полицейский. — Нам нужно о нем кое-что узнать.
— Штефанский… не вернется. Он умер. — Папаша Кодл взял женщину за руку.
— Умер? Ха-ха-ха, — рассмеялась Штефанская. Затем заговорщически кивнула Кодлу. — Так ведь это хорошо. Он говорил: «Если услышишь, что я умер, сейчас же пакуй ранец и дуй за мной!» Пустите, сумасшедший, — Штефанская вырвала руку из ладони Кодла, — не задерживайте, мы так договорились… — Она поднялась на цыпочки, дотянулась до обросшего волосами уха папаши Кодла: — Только этим парням, — кивнула она на полицейских, — ни звука, шшш… — И она прижала палец к губам.
Старший полицейский надул щеки, выпустил через сложенные в трубочку губы воздух и приказал помощнику:
— Вызовите санитарную машину.
Через четверть часа перед бараком остановилась машина с молочно-белыми стеклами в окнах.
— Пожалуйте, пани Штефанская, мы отвезем вас к мужу, — произнес папаша Кодл необычно мягко.
— Прощайте! — вскричала женщина, обращаясь к соседям по комнате. — Съешьте мой ужин, а я уже буду… на пароходе… гуляш… — Штефанская сильно и неуклюже потрясла руку Капитану и Вацлаву. Она не привыкла к рукопожатиям: в жизни ей никто не подавал руки. Снова обняла остолбеневшую, бледную как полотно Ирену и с ранцем в руках, громко топая своими новыми ботинками, направилась к двери.
Вдруг Штефанская остановилась, опустила ранец на пол и ладонью прикрыла рот. Потом бросилась назад к нарам, приподняла сенник и извлекла запыленный, исцарапанный рентгеновский снимок, маленькой ладонью смахнула с него соломинки.
— Марушку, девочку мою убогую, чуть не забыла… А вы — никто не напомнил, сучьи сыны! — погрозила Штефанская полицейским. — Мария, глупенькая, ты ведь не думала, что мы тебя тут бросим… — И мать спрятала снимок под изодранной вязаной кофтой.
Штефанская, согнувшись, поволокла ранец к машине, помахала рукой кучке людей, собравшихся у санитарной кареты, и, захлебываясь счастливым мелким смехом, попыталась забраться в полицейский автомобиль.
— Нет, нет, бабушка, вам нужно туда, в ту машину, а мы едем в другое место, — сказал шофер добродушно, не переставая жевать жевательную резинку.
Штефанская послушно отправилась ко второй машине. Костлявая смуглая рука несчастной мелькнула в последний раз, зрители расступились, санитарная карета медленно тронулась, ее колеса резко заскрипели на песке.
Ирена встряхнулась, словно пес, который только что вылез из воды. Румянец снова медленно заливал ее лицо.
— Очень мило я попрощалась с одиннадцатой комнатой! Дуреха, что не убралась отсюда на пять минут раньше. — Она схватила чемодан, многообещающе подмигнула молодому полицейскому и вдруг заметила под столом четки.
— Возьму на счастье. Это почти как веревка повешенного!
29
Дни, словно улитки, тянулись один за другим. Оконце подвала, выходившее во двор и почерневшее от толстого слоя грязи, даже в полдень еле-еле светилось, потому что на него падала тень высокого фасада старой казармы. Жизнь Гонзика протекала с жестокой последовательностью: свисток во дворе, поворот ключа в замке, и Гонзик выносит парашу, получает чашку утреннего горячего эрзац-кофе и круглую булку. Три метра до оконца, три метра обратно к двери: сотни раз изученный путь вдоль нацарапанных гвоздем, полустершихся рисунков, знаков, завещаний на самых различных языках, вплоть до загадочных знаков, оставленных арабскими обитателями камеры, не пожелавшими воевать против своих братьев.
Потом дорога через два двора, по лестнице наверх в канцелярию, в которой он сидел в первый вечер.
— Подпишешь?
— Нет.
Вслед за этим — яростный плевок, иногда брань, но всегда и неизменно — кивок конвоиру. Затем путь обратно, страстное желание, чтобы он растянулся не на два, а на двадцать два двора, только бы отдалить момент, когда, сопровождающий с таким же, как и в канцелярии, выразительным кивком передаст Гонзика в распоряжение тюремщика. Эти повторяющиеся каждый день муки вызывали все возрастающий ужас, от которого болезненно сжимался желудок, слабели икры. Наконец освобождение после первого удара. Инстинктивное стремление переждать, выдержать, пережить. А потом в сумраке каземата — слезы унижения, жгучие и тихие, без единого всхлипывания, скорчившееся тело на топчане, знакомый сладковатый привкус крови во рту и острая боль свежих кровоподтеков.
Но даже в подземелье казарм выпадали более светлые дни. Тюремщик-француз не пинал ногами, он бил Гонзика ладонью по лицу, молча, с мрачным видом. Иногда, если конвоир уходил сразу, француз просто вталкивал Гонзика в камеру. Надзиратель-поляк с первого же вечера колотил грубо, примитивно, не изобретательно. Но хуже всех был Царнке. Французская форма не смогла изменить его прусское обличье; он бил не спеша, с профессиональной техникой гестаповца. Убить нельзя, так Царнке по крайней мере смаковал каждый удар, точно зная, кого бьет:
— Du tschechischer Sweinehund! Dreckiger Tscheche! Bohmischer Scheisskerl![154]
Оконце в камере темнело, вечерняя болтушка остывала на столе нетронутая. Когда ослабевал порыв ненависти, дикой ярости и отчаянного сожаления, Гонзик, спрятав лицо в ладони, в полном смятении чувств думал о двух людях: Франце Губере — хромом нюрнбергском мусорщике, и о Царнке, который шесть лет подряд избивал Губера в концентрационном лагере. Оба — сыновья одного народа. И Гонзик впервые сумел противопоставить два мира: один — откуда он бежал, другой — куда он бежал.
Ночь опускалась в подвальную темницу. Гонзик сжимал зубы. «Не подпишу, убить меня они не могут, а возиться со мной им когда-нибудь надоест, и они выпустят меня». С жгучей тоской вспоминал он мать, приходил в ужас от мысли, что мерзавец, заманивший его в западню, знает имя и адрес Катки. Как бы упрямое поведение Гонзика не отразилось на ее судьбе. Гонзик забывался тревожным сном, но часто его преследовали и во сне дикие, изматывающие кошмары.
Минуло четырнадцать дней. Совершая свои путешествия по двум дворам, Гонзик постепенно запомнил лица молодых людей, многие из них говорили по-чешски. Иной раз стражник позволял Гонзику выкурить сигарету, которую кто-нибудь совал этому веснушчатому чудаку арестанту с запухшим, подбитым глазом, разбитой губой и ожесточившимся, упрямым взглядом.
— Ты болван, — сказал ему однажды после полудня своим пискливым голосом Жаждущий Билл. — Позволять молотить себя, как бы не так! Мы попросили день на размышление, обдумали все, не воображай, что мы дураки, и видишь — до сегодняшнего дня нас пальцем не тронули! И Хомбре подписал. Тут же нам выдали по пять тысяч франков, выпивона и закуски сколько влезет, обещали и девок, но только не сейчас. Подпиши, дурень! — Жаждущий Билл уже носил на голове замусоленную двурогую пилотку — отвратительную частицу униформы будущего вояки против низших рас.
— Не подпишу! — непреклонный огонек блеснул в глазах Гонзика, но тут же он с ужасом вспомнил: сегодня дежурит Царнке.
— А ну, давай обратно, — Билл отобрал одну из двух данных Гонзику сигарет, — тебе, идиоту, и одной хватит. — Билл близко подошел к Гонзику и пропищал ему прямо в ухо: — Надеюсь, ты не вообразил, что меня и Хомбре очень интересует Индокитай! Но упорхнуть отсюда — это трюк, достойный самого отчаянного рецидивиста.
Казарма постепенно наполнялась теми, кто в результате коварства вербовщиков или по собственной воле очутился на последней ступени эмигрантской лестницы. Неделю спустя во дворе был построен отряд, предназначенный к отправке. В него включили тех, кто подписал вербовочный контракт, и нескольких упрямцев, которые отказывались это сделать. И вот — специальный поезд с запертыми дверьми, равнодушные лица французских жандармов, не так, однако, мозолящие глаза, как белые пилотки легионеров.
Мюлуз, Безансон, бесчисленные озера с белыми чайками и берега, усеянные загорающими купальщиками, затем Лион.
Большой вокзал. В карманах шуршат тысячефранковые банкноты, легионеры скупают у перронных торговцев все вино до последней бутылки. К их поезду прицепляют новые вагоны. В них тоже легионеры. Высунувшись из окон, «страсбуржцы» криками и жестами приветствуют попутчиков. Через минуту «однополчане» затянули немецкую походную песню. Это озадачило чехов, им припомнились уже полузабытые отрывистые, жесткие мотивы, которые так действовали на нервы чешским людям в годы оккупации. Затем поезд, выпутавшись из паутины стальных путей, выехал к реке. Мало кто знал, что это Рона. С левой стороны, на востоке, вырисовывалась панорама Альп.
Быстрая езда, шум и песни подвыпившей молодежи, красота окружающей природы — все это постепенно и незаметно оживило на некоторое время удрученные сердца и вселило в них бодрость. Авантюризм и легкомыслие тесно переплетались в душе многих молодых людей.
Романтические дали, вино, быстро убывающее в бутылках, — все пока что в порядке, и стоит ли ломать голову над тем, что так или иначе должно прийти. Эмигранты на Западе уже давно привыкли жить сегодняшним днем, а пять тысяч франков в кармане придавали им чувство уверенности и в будущем.
— Еще два-три часа, и Прованс уступит место Средиземному морю, — сказал жандарм в расстегнутой гимнастерке.
Никто из едущих до сих пор никогда не видел моря! Послышалась чешская песенка, ее перекричала польская, а когда поезд остановился где-то на полустанке, из соседнего вагона долетела знакомая барабанная мелодия:
Heute gehort uns Deutschland, morgen die ganze Welt…[155]Чехи ответили на это модным пражским мотивом, а потом стали играть в карты, рассказывать анекдоты. Некоторые старались непристойными жестами смутить девушек, собиравших урожай на полях, а другие норовили попасть пустой бутылкой в фонарь на стрелке.
Гонзик подставил распухшее лицо ветру. Он не играл в карты, молчал, на остроты не реагировал. Перед глазами проплыли башни кафедрального собора, но Гонзик даже не знал, что это знаменитый Авиньон. Потом замелькали замки, обросшие плющом. Но сочная зелень края, напоминающего огромный сад, была только изменчивым фоном для других образов, болезненно неотступных, преследующих. Старый дом с галереей и большой передней, мать с усталыми добрыми глазами, которым никогда не удавалось принять строгое выражение, маленькие затененные лампы в их наборном цехе, сохраняющем кисловатый запах свинца, и тут же — гнетущие видения Валки и Катка, Катка! Думы о ней все больше жгли его с каждым километром пути в неизвестность. Но вот исчезал лагерь, и снова возникало родное Горацко: низкая полоса сосновых перелесков, камни, вывороченные с полей и сложенные в низкие оградки на межах, высокие облака, отраженные в голубой глади прудов. Как бы подкрепила сейчас чешская песенка его тоскующую по родине душу!
Он, правда, теперь слышит чешские песни — их орут охрипшие пьяные глотки. Вот зазвучала даже словацкая разбойничья, хотя певцы несколько дней тому назад, возможно, дрались со словаками, — впрочем, они ее толком и не знают. Они поют не от тоски по родной земле, а от потребности погорланить. Чешская народная песня на самом краю Европы, в устах людей, которые едут убивать! У Гонзика мороз пробежал по коже. Он даже сам не разобрался, какие чувства им вдруг овладели. Ему захотелось кричать, заставить молчать эти пьяные глотки, они не имеют права петь! В этот момент Гонзик в первый раз отчетливо уяснил себе все чудовищное значение своего побега за границу. Он весь съежился под бременем этого сознания, бессильное отчаяние овладело им: нет, тысячу раз нет! Никогда он не будет принадлежать к этим вот орущим пьяным рожам, он чужой среди них. Ничего общего у него нет и не может быть с теми людьми, которые отреклись от своих имен, довольствуясь кличками «Хомбре» и «Билл».
И вот длинная колонна обтрепанных парней молча движется по ночному городу. Они уже не поют. Голод и жажда, жара и усталость длинного пути — все сосредоточилось теперь в ногах. А дорога все в гору, выше и выше — к мрачному темному силуэту крепости — форт Никола.
Вместо моря большой прямоугольник воды, перекрытый высоким пролетом какого-то мудреного моста. Дремлющие рыбацкие лодки с безжизненно повисшими парусами. В воде колеблются отражения огней противоположного берега.
— Старая пристань, — говорит кто-то из бывалых. — Новая дальше, севернее.
Но смыкающиеся от усталости глаза легионеров не оживляются от этого сообщения: сейчас бы пожрать, вылить в себя кружки три пива и свалиться на топчан.
Гонзик молча шагает в колонне. Стражники с автоматами в руках еще на вокзале плотно оцепили вновь прибывших. На конвоирах — белые пилотки, и мелькают они в темноте справа и слева, их здесь, как мух. Так что, если бы Гонзик и попытался шмыгнуть в какой-нибудь переулок, то был бы настигнут через десять шагов. Вблизи форта с обеих сторон возвышаются каменные валы. Дорога стала походить на дно каменного корыта. На ее конце стояли огромные ворота, в свете фонаря над ними виднелись надпись и зеленый шар с красным пламенем — герб Иностранного легиона. Пасть ворот разверзлась и проглотила всю колонну без остатка. У многих парней замерло сердце.
Еще одни ворота захлопнулись за ними, еще на один шаг ближе к тому страшному, которое кто-то из более осведомленных еще в поезде назвал: «Зеленый ад, Вьетнам».
Полночь, а духота не ослабевает. Низко над крепостью проносятся с ревом истребители, их красные и зеленые огоньки прорезают темноту, как падающие звезды, и пропадают где-то за темными зубцами крепости. После команды «вольно» колонна вновь прибывших быстро превратилась в толпу истомленных людей, нетерпеливо и тупо, без единого слова ожидающих еды и питья. Наконец их впустили в просторную столовую. Повеяло хорошо знакомым запахом похлебки, сигаретного дыма, помоев и мыльной пены. Каждому дали хлеба и миску похлебки. Буфет был давно закрыт, мечты о пиве не сбылись. Пришлось довольствоваться водой из-под крана, которую набирали прямо в суповые миски и пили вместе с кружочками остывшего жира, плававшего на поверхности. Спать, спать…
Они улеглись на сенники, сваленные на полу, но раньше, чем кто-нибудь успел уснуть, зазвучали проклятия, ругательства, которые постепенно слились в единый громкий ропот. Завязалась ожесточенная борьба против невидимой армии паразитов. Силы были явно неравными, и легионеры начали отступать: многие из них вытащили тюфяки на террасу, под темное звездное небо.
Гонзик на некоторое время прислонился к каменному барьеру террасы. Юношу не посадили под замок немедленно по прибытии, а оставили среди других. Может статься, что здесь его ожидают лучшие времена. Его приятно взволновала мысль, что грубый поляк и садист Царнке остались за сотни километров отсюда. Какую страшную жизнь ведут эти два человека, называющие себя солдатами! Гонзик напряженно всматривается в темноту. Где-то внизу шумит прибой. Говорят, что эта бесконечная чернота впереди, сливающаяся на горизонте со звездным небом, — море. Несбыточные неясные сны над дешевыми книжками, при каких обстоятельствах они стали явью! Он чувствует себя графом Монте-Кристо, ночной ветерок холодит его лицо, море шумит у него под ногами, а где-то далеко-далеко за этим морем мерещатся два слова, от которых мороз пробегает по коже: «Зеленый ад».
Четыреста молодых людей со всех концов Европы, более похожие на беженцев в лагерях, нежели на солдат. Гонзик не может представить себе, что он и эти остальные ребята через несколько месяцев будут стрелять в людей с желтой кожей и раскосыми глазами. Пятьдесят процентов легионеров, по слухам, не возвращается. Гонзик, конечно, не будет стрелять, разве только, как говорят чехи, пану богу в окошко; какой-нибудь вьетнамец застрелит его, Гонзика, и не будет даже знать, что убил человека, который не хотел причинять ему зла. Гонзик положил голову на ладонь, а локтем уперся в барьер.
— Где ты очутился? — обратился он сам к себе. — Куда занесла тебя дурацкая мальчишеская страсть к романтике, легкомыслие, излишняя доверчивость и дурной пример плохого приятеля Ярды?
Он лег навзничь на сенник. Высоко над ним холодно мерцали голубовато-зеленые звезды. Каменная терраса все еще выдыхала жар минувшего дня, но в воздухе — облегчающая солоноватая влажность. На соседнем тюфяке, лицом вниз, с неестественно подогнутой ногой, тоненько посвистывал во сне Билл. Его грязная рука судорожно сжимает висящий на шее кожаный мешочек с пятью тысячами франков.
* * *
Утренняя свежесть разбудила Гонзика. Несколько парней уже стояли у барьера. Они громко обменивались радостными впечатлениями и взволнованно тормошили спящих легионеров: как может кто-то валяться под одеялом, когда рядом море.
Гонзик вскочил и побежал к барьеру. Море! Ошеломляющая, непостижимая высота горизонта. Почему эта гора воды не обрушится вниз, сюда, на крепость, и не затопит все на своем пути? У Гонзика дрогнул подбородок; он тщетно пытался скрыть слезы. Море! Лазурнее, чем цветы цикория на межах родного края, стократ синее, чем майское небо над Стеклым прудом.
Залитый солнцем огромный белый пароход шел к порту. За ним над самой водой — длинный шлейф черного дыма и искрящаяся лента рассеченной воды, все более расплывающаяся в треугольник; стеклянный купол маяка сияет в лучах раннего солнца. Дымок другого парохода был виден на самом горизонте — пароход уже скрылся из виду, взяв курс к незнакомым берегам. Недалеко отсюда отделенные проливом два скалистых острова; на одном какая-то древняя башня. Вчера ночью Гонзик пытался вообразить себя графом Монте-Кристо, а теперь и не знал, что глядит на самый настоящий Шато д’Иф, никто около него и не подозревал этого, вероятно, даже и скучающий у входа на террасу караульный в белой шапке, — этот вряд ли вообще знал имя Александра Дюма.
Сотни молодых людей взволнованно толкутся у каменного барьера; соленый запах манящих далей, первое ошеломляющее впечатление от новой, доселе неведомой природы.
Но сквозь шум восхищения прорвалась тревожная мысль, внезапная, жестокая, как злой кулак, разбивающий прозрачное стекло. «Что тебя ждет?» От этой мысли у Гонзика побежали по коже мурашки. Красота заполнила твое сердце, море — это же безграничная свобода. А сам ты связан, как скотина перед убоем, и перед тобой лишь одна неизвестная, угнетающая душу неопределенность. И где-то там, за этим голубым горизонтом, гибель…
Свистки прорезали застывшую тишину.
— Становись!
Все изменилось вокруг, как по мановению палочки злого волшебника. Люди забегали, затопали по лестницам куда-то вниз, послышались крики, брань, незнакомые резкие слова команды. Парни, путаясь, метались по двору: солдаты в гимнастерках цвета хаки, в шароварах, застегнутых у щиколоток, помогали им тычками в спину, устанавливая шеренги.
— Garde á vous![156] — раздалась команда.
Легионеры не поняли слов, но догадались по металлическому тону голоса и замерли на месте как кто стоял. Унтер-офицер с трудом расставил их в колонну по трое, а какой-то офицер в черной шапке с красным верхом, с четырьмя золотыми треугольниками на рукавах обратился к ним с кратким словом. Легионеры не поняли его французской речи. Офицер достал бумажку и, страшно искажая, прочитал несколько имен. Последним он назвал Гонзика. Два вооруженных солдата увели группку тех, кто до сих пор еще не подписал обязательства. Гонзик не успел как следует оглядеться, как уже снова очутился в тюремной камере под замком. Он горестно присел на нары, на минутку закрыл лицо ладонями, в душе его еще не поблек чарующий образ бескрайной свободы моря, перед его глазами до сих пор мелькали белые гребни волн и чайки вычерчивали свои грациозные кривые в туманной утренней дали. В его душу опять проникли слезы и страх. Не появится ли через мгновение другой поляк, другой Царнке? Сколько он вытерпит, прежде чем его убьют?
Он влез на нары и оттуда подтянулся на руках до окна под потолком, однако увидел только желоб водосточной трубы противостоящего дома; со двора сюда долетал голос командира. Его слова переводились на разные языки. Гонзик уловил немецкую, польскую, потом какую-то незнакомую речь и вдруг — чешские фразы:
— Отныне вы все солдаты отборного корпуса, и вам присвоено гордое, покрытое славой звание солдата Иностранного легиона!
Руки юноши ослабли, и он спустился обратно на нары, но через минуту опять подтянулся.
— …помните, что служба дает вам привилегии и права почетных воинов. Но нарушение дисциплины будет сурово караться, как того требуют законы легиона. Дезертирство влечет за собой строгое тюремное заключение на срок не менее трех лет, неподчинение — не менее пяти лет…
Гонзик устал и снова спустился на нары, но здесь было плохо слышно. Отдохнув, он еще раз подтянулся к окну и прислушался. Перечисление мер наказания за разные провинности все еще продолжалось.
В полдень в замке заскрежетал ключ. Опять начался скорбный путь под конвоем через двор, наверх по лестнице в большую канцелярию. Несколько столов, ряд окон. Гонзику приказали сесть на лавку. Перед ближайшим к нему столом — три бронзово-загорелых лица; у одного правая рука висела на перевязи, у его соседа от виска через всю щеку до подбородка тянулся отвратительный, покрытый струпьями рубец. Офицер за столом постучал пальцем по знакомому Гонзику бланку:
— Подпишите?
Они дружно завертели головами: нет! Гонзик заинтересованно встрепенулся: на всех троих были надеты пропотевшие, замусоленные гимнастерки цвета хаки. Белые форменные фуражки солдаты держали в руках. По тому, как самонадеянно вели себя легионеры, по их вызывающему тону можно было заключить, что они — люди бывалые.
— Ну, вот что, — мрачно сказал тот, у которого рука была на перевязи, в его голосе звучали нотки нетерпения, — выдайте нам наши документы, и до свидания! Вы, должно быть, считаете нас полными идиотами.
— Подойдите сюда, — усмехнулся офицер и кивнул головой в сторону окна.
Легионеры неохотно приблизились к окну. Офицер присел на подоконник, закурил и предложил сигареты солдатам. Тот, у которого был рубец на лице, отказался.
— Французская полиция, — сказал офицер, — имеет точные сведения о том, когда у того или иного легионера заканчивается срок службы. Правда, крепость закрыта для полиции. С другой стороны, у нас в Иностранном легионе не проявляют интереса к тому, что творится за воротами крепости. Марсель Монтилье, — офицер спрыгнул с подоконника, поправил складку на элегантных кавалерийских брюках, подшитых оленьей кожей, и с усмешкой медленно вернулся к столу. — Нужно ли мне напоминать вам ожидающее вас наказанье, или вы сами обладаете достаточно хорошей памятью?
Рубец на лице загорелого мужчины сильно покраснел.
— С какого времени Иностранный легион стал проявлять интерес к прошлому своих служащих?
— Разве вам случилось за пять лет службы услышать хотя бы малейший намек на свое прошлое? — Офицер сел за стол. — Пьер Аминьяк, — раскрыл он личное дело следующего легионера. — Гм, гм, темное дело около банка в Монпелье. Кассир умер в больнице. Так говорится в протоколе. Какого вы мнения об этом, солдат Аминьяк?
Солдат левой рукой поправил перевязь, вытянул морщинистую шею, из его горла вырвался хриплый звук.
Офицер прикоснулся средним пальцем к узкой полоске усов и внезапно понизил голос.
— Никогда я не считал вас идиотами, mes camarades[157]. Идиотами вы будете лишь в одном случае: если не подпишете. Разве пять лет не протекли незаметно?! А вам, Аминьяк, из-за руки все равно месяцев на шесть обеспечен покой. Чего еще?
Монтилье — легионер с рубцом на лице — вернулся к окну, стал задумчиво глядеть наружу, выстукивая на стекле какой-то ритм. От взволнованного дыхания ноздри его орлиного носа широко раздувались. У стола воцарилось долгое молчание, в прикрытых глазах офицера светился огонек превосходства. Аминьяк все больше мрачнел, в рассеянности он обжег себе пальцы об окурок сигареты, яростно бросил его на пол и растер ногой.
— Не могу я писать раненой рукой!
— Не беда. За вас подпишет товарищ, — офицер обмакнул перо.
Монтилье подписал за Аминьяка. Потом, покусав некоторое время кончик рыжеватого уса, решительно присовокупил свою подпись и гневно швырнул перо на чернильный прибор.
Третий легионер, задумчиво погладив светлую, выцветшую на солнце бровь, оттолкнул бланк:
— Не подпишу!
— Дайте документы этому идиоту! — крикнул офицер писарю, а сам склонился над другими делами, лежавшими на столе.
Три легионера, с которыми он только что разговаривал, перестали для него существовать.
После их ухода Гонзик передвинулся на самый край скамьи и склонился к окну: за воротами, перед входом в крепость, застыли в ожидании две зеленые полицейские машины без окон. Около них расхаживал полицейский.
— Ян Пашек! — раздалось в глубине комнаты.
Гонзик подошел к столу, около которого нервозно вышагивал офицер со странно сплюснутой головой. На запястье правой руки у него висела плеть, которой он похлестывал по голенищу. Челюсти офицера были плотно сжаты, а желваки под натянутой кожей без устали прыгали.
— Ну, а ты?
Гонзик вздохнул. Чех! Если бы не разделял стол, юноша с восторгом пожал бы ему руку. Гонзик скороговоркой начал выкладывать свою историю. Рассказывал нескладно, заикался, забегал вперед, потом возвращался назад. У ослепленного внезапной надеждой юноши даже не возникал вопрос: какую же роль исполняет в этом штабе чешский офицер? Гонзик выложил ему все, что накипело у него в душе, выругал вербовщика, заманившего его в легион, мерзавцем, негодяем, прохвостом.
— Так ты, стало быть, не хочешь остаться в легионе? — безразличным тоном спросил человек по другую сторону стола.
— Ни за что на свете! — горячо воскликнул Гонзик. Только глаза офицера беспокоили его: они были почти бесцветными, неподвижными, пустыми. Юноша напрасно искал в них отражения душевной теплоты.
— Напиши, что не хочешь служить в легионе…
Гонзик сел и нетвердой рукой начал строчить заявление. Вдруг неожиданный, страшный удар в лицо ослепил его, дикая боль пронзила его до самого мозга. Гонзик взвыл и закрыл лицо руками. Сквозь пальцы он заметил перевернутую чернильницу, черная лужица залила стол и бумагу. Крупные капли крови из рассеченной щеки смешались с чернилами, образовав нелепый орнамент. Гонзик скорчился на стуле, боль душила его, лишала способности владеть собой, он скулил, словно собака.
— Свинья! — прорычал над ним угрожающий, прерывающийся голос. — Мы тебя отучим оскорблять наших агентов…
Гонзик оглох от этого крика. На его ладонях алела кровь, кровью были залиты брюки, а около него — искривленная зверская рожа и плеть, висящая на запястье. Но вот голос над ним сделался немного спокойнее, теперь вместо свирепого рыка в нем можно было уловить отчетливые нотки презрения.
— А что остается делать нашим агентам, когда вы, скоты и идиоты, не вступаете добровольно? Настоящий мужчина сам завоюет себе свободу на фронте, а не в лагере, лежа с девкой на нарах! А если думаешь, что мы тебя три недели кормили, чтобы потом отпустить к своим, так ошибаешься! Да перестань выть, ты солдат, а не старая потаскуха!
Кто-то приказал Гонзику идти. Уходя, он взглянул на французского офицера с усиками, сидевшего за столом у окна. На лице того было ярко выражено отвращение к поступку чешского коллеги.
В полубессознательном состоянии Гонзик свалился на стул, который ему вовремя подставили: сухонький человечек в белом халате, говоря «mon Dieu, mon Dieu»[158], наложил повязку, забинтовал лицо Гонзика, написал на бумажке: «Десять дней не подвергать телесному наказанию», — и отпустил его вместе с сопровождавшим его охранником.
В тот вечер Гонзик снова долго прислушивался к мерному звуку морского прибоя. Волны ритмичными ударами разбивались о скалы форта Никола. Стая галок перестала, наконец, галдеть и носиться вокруг башни, увенчанной наблюдательной вышкой. Только несчастный узник в подвальном каземате вертелся с боку на бок на голых досках топчана, напрасно ожидая успокоительного сна. Вечерний суп унесли нетронутым. Иногда Гонзик трясущимися руками подносил глиняную чашку к запекшимся губам и пил жадными глотками воду.
Снова потянулась ночь, в ране болезненно пульсировала кровь, между каждым ударом прибоя пульс успевал биться семь раз, только иногда торопливая волна разбивалась о стену вместе с шестым ударом сердца Гонзика.
Он лежал лицом книзу, прижавшись лбом к доске, — так боль казалась менее мучительной. Ему не удавалось сосредоточить мысль на чем-нибудь одном, временами его тряс озноб, слез у него уже не было, а только удивительная горькая пустота внутри и желание выйти из камеры тихим шагом, чтоб не разбередить рану на лице, встать на террасе, посмотреть кверху на холодные звезды и прыгнуть… Какое освобождающее представление — слиться с прибоем, избавиться от всего, от боязни, что заставят убивать людей, от страха, что убьют тебя самого, от бремени собственной совести, нести которое уже нет сил.
Но вот появляется бледное сострадательное лицо Катки. Оно стало ближе, четче, потом снова расплылось. Гонзик крепко сжимал край топчана, воображая, что стискивает тонкую руку Катки; он старался подольше удержать в воображении ее черты. К нему снова вернулось желание жить, выдержать во что бы то ни стало. Правда, пятьдесят процентов легионеров гибнут в зеленых джунглях Вьетнама, но он, Гонзик, должен, просто обязан вернуться! Он приедет, обнимет Катку за плечи, зажмурит глаза и поцелует ее в губы…
Гонзик снова жадно пил. Вода текла под рубашку, испачканную твердыми, как от крахмала, пятнами засохшей крови. Потом жар снова охватывал его.
Ах, какое море видел он сегодня утром! Мощь водных пустынь, в которых человек теряется как пылинка, ужас и восторг, и все-таки этот вид с террасы крепости подымал голову человека! Он всегда думал, что море бесконечно, и вдруг этот высокий горизонт был таким близким, что казалось, если поплыть на лодке, доплывешь к нему за какой-нибудь час. Гонзик еще увидит море, но никогда уже не переживет того первого, ошеломляющего впечатления.
Мир беспредельно прекрасен, только человек в нем творит подчас страшное зло.
До сегодняшнего дня он, Гонзик, сопротивлялся, но больше нет сил. Его убили, уничтожили, растоптали его душу. Мера унижений тоже имеет предел. Его, вероятно, можно преступить, но в этом случае человек потеряет рассудок.
Нет. Все бесполезно: говорили же старые, обстрелянные легионеры, что и тех, которые отказываются подписать, все равно отправляют в Оран, а оттуда могут преспокойно увезти и в Индокитай — от мертвых подписи не требуется…
Утром Гонзик подписал бланк. Инстинкт самосохранения оказался сильнее, чем осознанное лишь в лагере туманное понятие чести. Офицера-чеха в канцелярии не было. Бланк ему дал какой-то человек в неряшливой расстегнутой гимнастерке и с заспанной физиономией. Говорил он по-французски, но мог быть и немцем, и болгарином, и даже русским белогвардейцем. Тут же после подписания перед Гонзиком положили на стол пять тысяч франков и дали бумажку на получение в кабачке бутылки вина, обеда по заказу и натурального кофе. Гонзик механически всунул деньги в карман и поплелся вон. Его донимала лихорадка. В кабаке вместо обеда он попросил вина и черного кофе. Ему принесли две бутылки, но оно оказалось кислым, и Гонзик подарил бутылку первому знакомому человеку. Хомбре сначала не понял, с опаской попробовал, но, убедившись, что тут нет подвоха, расплылся в улыбке. Он сдвинул замусоленную пилотку на затылок и в благодарность стал задушевным тоном разъяснять Гонзику, что даже на вопрос генерала легионер не обязан рассказывать что-нибудь о своем прошлом и называть свою национальность.
Гонзик возвращался в казарму вместе со всеми, щурясь от яркого солнечного света, заливавшего белый коридор. Вдруг он замер: навстречу ему шел человек со знакомыми пустыми глазами и сплюснутым черепом, только на этот раз у офицера не было плетки. Гонзик побледнел. Он никуда не мог скрыться и лишь наклонил голову, но тут же в ужасе заметил, как сандалии из белой кожи преградили ему дорогу.
— Ну видишь, молокосос, ты уже на свободе! Стоило ли упрямиться? — чешская речь звучала как-то неправдоподобно в этом чужом коридоре. Водянистые глаза были подернуты пьяной дымкой. Лицо под сплюснутым лбом осклабилось. — Мне везет, приятель. — Он сделал попытку по-свойски положить собеседнику огромную лапу на плечо, но Гонзик в ужасе увернулся. Офицер покачнулся, выпятил живот, ребром ладони вытер влажные губы и с каким-то садистским наслаждением залюбовался белой повязкой на лице юноши. — А… а ветераны потом говорят мне: «Поручик, дал ты нам, черт возьми, хороший урок в самом начале службы…» Некоторые легионеры даже письма шлют… хе-хе-хе…
В тот вечер Гонзик, как и другие легионеры, опять вынес свой тюфяк на террасу под звездное небо. Соленый ветерок холодил горячий лоб, как компресс. Гонзик долго глядел на сияющий серп луны, скользивший над крепостью, прислушивался к неумолчному говору моря. Но там, где должна была быть башня с наблюдательной вышкой, там, странное дело, торчало круглое, как всегда немного заспанное лицо законоучителя из приходской школы. Напряженная тишина в классе усиливала какой-то непонятный страх школьников, когда учитель рассказывал о тайной вечере Христа и измене его дурного ученика.
Гонзик теперь тоже сжимал в кармане свои тридцать сребреников.
Когда вернешься — если ты вообще когда-нибудь вернешься, — то как посмотришь ты в глаза матери, товарищам в наборном цехе, соседям? Ведь весь городок моментально узнает, где и что произошло! Как ты будешь доказывать Катке, что ты должен был решиться на это? Разве убийство перестанет быть убийством, если ты убьешь по приказу? Гонзик сквозь бинт прижимает ладонь к бешено пульсирующему виску. «Нет, никогда, ни при каких обстоятельствах я не выстрелю в тех, на противоположной стороне. Сделали вы меня иудой, но убийцей не сделаете!»
Затем пришла минута, которой все они очень боялись. Колонна солдат в отслужившем срок обмундировании, продырявленном подозрительными круглыми дырочками, выстроилась во дворе. Через ворота крепости колонна выползла только поздно вечером: Иностранный легион давно утратил популярность во Франции. Молодые люди в широких брюках погибших зуавов, неся свои немудрые пожитки, молча брели боковыми улочками под конвоем таких же безмолвных патрульных. На молу легионерам пришлось перебираться через разобранную мостовую, спотыкаясь о вывороченную брусчатку. Над молом, куда-то высоко в звездное небо, вознеслась огромная черная тень грузового корабля «Д’Артаньян». Какое благородное имя! Но на корабль грузили скот. Племенные провансальские коровы, отправляемые в Алжир, беспокойно мычали, когда кнутами и окриками их гнали в ненасытную утробу, трюма. От коров тянуло теплым запахом навоза и молока.
На молу, освещенном лучами низких рефлекторов, французские рабочие меняли рельсы. Путейцы насвистывали во время работы, надвинув черные береты на лоб. Некоторые рабочие были в полосатых тельняшках, другие обнажены до пояса, в зубах сигареты. Как только рабочие увидели длинную колонну в двурогих пилотках, остановившуюся перед пароходом, они замолчали и выпрямились. Страшная, тяжелая тишина повисла над прожектором, над выстроившимися в ряд высоченными кранами, легла на маслянистую грязную гладь воды. Грубые рабочие ботинки то здесь, то там затаптывали недокуренные сигареты. В них, должно быть, был специальный слюногонный сорт табака: брусчатка перед легионерами в мгновение ока была покрыта обильными плевками.
Долго стояла колонна будущих вояк, нюхая вонь трюма, набитого скотом. Гнетущая тишина томила слух, тревожного ощущения не могло заглушить даже мычание и фырканье скота. Ритм работы французов стал явно нервозным, беспокойным. Сухощавый каменщик в белой полотняной панаме, надвинутой на лоб, вдруг перешагнул через рельсы и приблизился к колонне.
— Грузят вас как подобает: вместе со скотом! — Он махнул мозолистой рукой в сторону дымящей трубы корабля.
Охранник с автоматом приблизился к нему, однако рабочий даже не взглянул на него и продолжал что-то говорить, кадык быстро двигался на его жилистой шее. Стражник повысил голос, каменщик презрительно посмотрел на него, сделал выразительный жест и как-то неуклюже стал пробираться обратно. Но тут же его товарищ встал позади автоматчика во весь свой огромный рост.
— Слышал ты когда-нибудь имя Маршана? — крикнул рабочий осипшим голосом ближайшему в колонне легионеру. — Он получил пять лет за то, что не захотел ехать в Африку. Хотя ты, продажная душа, недостоин слышать это благородное имя! — Великан ладонью отер свое потное черное лицо.
Белые шапки охранников заметались на молу, конвоиры вскинули винтовки на плечо, рабочие тоже прервали работу; кирки, ломы брякнули о рельсы. Рабочие выпрямили спины, затянули пояса потуже, но вдруг с конца участка донесся повелительный голос:
— Спокойно! Принимайтесь за работу!
Маршевый отряд стоял ошеломленный и подавленный. Вряд ли кто из легионеров понимал по-французски, однако достаточно было видеть лица людей, их плотно сжатые челюсти, чтобы уяснить смысл происходящего. То тут, то там легионер стыдливо повернет голову в другую сторону, опустит глаза, попятится назад за чужие спины.
Скот погрузили и наконец начали по тем же мосткам в соседний трюм загонять будущих завоевателей. Легионеры вздохнули с облегчением. Но как только головная часть колонны двинулась, стоявшие стеной рабочие снова заволновались. Раздались возмущенные выкрики, послышалась брань, над строем рабочих взметнулись сжатые кулаки. Начали отругиваться и конвоиры. Кто-то впереди громко засвистел. Полуголый человек с плоской грудью и вытатуированной на руке голой женщиной, проткнутой якорем, подошел к Гонзику.
— Огреб пять тысяч, да? — француз показал почерневшую пятерню. — Скольких ты убьешь за пять тысяч?
Гонзик потрогал шрам на своем лице, с которого сегодня утром сняли бинт, он не понимал слов, но уловил их страшный смысл и отрицательно затряс головой. И тут же получил плевок.
— En avant, en avarit![159] — орали охранники, прикладами автоматов и кулаками подталкивая легионеров в спины.
У Гонзика потемнело в глазах, рубец на лице его стал кроваво-красным. Он механически отер рукавом плевок француза с нагрудного кармана гимнастерки и поплелся по трапу, спотыкаясь и скользя на навозе. В плохо освещенном трюме, куда он добрался шатаясь, Гонзик еле разглядел уложенные в ряды набитые соломой мешки и тяжело опустился на один из них. Стальные бока судна после дневной жары были еще горячими, а котельная под трюмом пылала, как огнедышащий вулкан. В трюме было нечем дышать. К тому же тут стоял невообразимый гвалт, беготня. Кто-то споткнулся о вытянутую ногу Гонзика и полетел на пол, потом встал, наклонился над Гонзиком и по-чешски язвительно-любезно спросил, не желает ли он получить по физиономии. За деревянной стенкой мычали коровы. От этого соседства в трюме легионеров воняло коровьей мочой и навозом. Наконец корабельный гудок протяжно завыл где-то высоко-высоко, раздался стук втягиваемого на пароход трапа, духота в трюме стала еще более невыносимой. Какой-то моряк с крутой лестницы раздавал бутылки с водой; легионеры вмиг его окружили, в воздухе повисла отборная брань, крик, послышались глухие удары кулаками, звон разбитого стекла. Дрались из-за воды свирепо и дико.
Гонзику как-то удалось проникнуть к круглому окошечку и открыть его. Дышать стало немного легче, но вдруг пол под ним завибрировал и затрясся. Корабельные громкоговорители объявили что-то непонятное, освещенный мол покачнулся и начал удаляться, где-то далеко-далеко над зыбью порта появились багровые, зеленые и синие неоны реклам. Красные сигнальные лампы на конце мола быстро уплывали назад, узкий, холодный, как клинок, луч прожектора, методично заглядывая во все закоулки порта, пронзал темноту и замирал на далеких волнах открытого моря.
Гонзик все еще был под впечатлением проводов, устроенных им французскими рабочими. Он все думал и думал.
Ты убежал искать свободу. Но какие блага, какие высоты «свободы» ты обрел? Теперь ты можешь вычеркнуть из своей памяти и свой народ; кто бы ты ни был — ты уже не чех, не болгарин, не немец и не румын. В самом деле, на каком языке говорила мать того человека, который, вытянув руки по швам, с гордостью выкрикивает своему командиру: «Я не имею нации, господин капитан!»
Эти люди — подонки Европы, и среди них очутился ты, Гонзик! Легионеры — это стадо, собранное из отбросов десятков народов. Бывшие эсэсовцы спят рядом с чехами и поляками. Здесь самое дно жизни, и большего несчастья, чем находиться в такой компании, уже не может быть. Но, оказывается, может. Есть вещи более горькие и обидные, чем оплеухи тюремщиков, чем надетое на тебя простреленное, окровавленное обмундирование убитого легионера, чем общество убийцы, с которым ты теперь делишь паек хлеба, чем удар в лицо собачьей плеткой…
Гонзик дрожащей рукой схватился за нагрудный карман гимнастерки, где высыхало мокрое пятно от плевка. Вдруг юноша отступил на шаг. Широко открытыми глазами измерил он иллюминатор, горькие слезы потекли ручьем по лицу. Нет, не пролезть ему через это маленькое отверстие: оно слишком узко для мужских плеч.
Гонзик вытер лицо рукавом. Желтые пятнышки корабельных огней, отражаясь в воде, бежали следом, перекатывались через гребни волн. В соседстве со светлыми точками морская вода казалась еще более черной. Гонзик ужаснулся. Как живуч в человеке скотский инстинкт самосохранения, когда даже в таких условиях он цепляется за жизнь!
Он отошел от окна, свалился на сенник и закрыл глаза. Его заполонила тупая подавленность, уныние и стыд. Долго лежал он без движения, не обращая внимания ни на разговоры, ни на выкрики. Под тусклой лампочкой легионеры начали картежную игру. Гонзик понемногу приходил в себя, сердце успокаивалось, только голова сильно болела, однако покой все же облегчил его.
Завтра, может быть завтра утром, море опять будет таким же синим. Может быть, ему удастся убежать, может быть, случится чудо, может быть, он когда-нибудь снова увидит Катку…
30
Ярда открыл глаза, минуту с недоумением смотрел на косые балки над самой головой, потом вспомнил, где он находится. Зевнув, он откинул одеяло; солнце, должно быть, уже давно обогревало крышу. На чердаке, под черепичной кровлей, становилось душно. Он оглянулся: короткий, сплюснутый, как у боксера, нос Пепека торчал кверху, глаза плотно закрыты, дыхание спокойное.
Ярда окончательно пришел в себя. Мороз прошел у него по спине. Итак, теперь речь идет о вещах нешуточных. Приятный сон улетучился, осталась неумолимая, суровая действительность: сегодня, здесь…
Он приподнялся на локте, стер с уха сенную пыль.
Да, факт, Пепек около него!
Страх и подавленность снова загнали Ярду под истертую попону, служившую ему одеялом. Ох, этот позавчерашний разговор между ними!
При переходе через границу нервы отказали Ярде. Пепек, этот орангутанг, всегда был ему неприятен. Только по необходимости связался он с ним. Однако позавчера Ярда был рад, что рядом с ним Пепек. Спокойный, уверенный, с железными нервами.
Потом, когда поезд от пограничной станции повез их в глубь Чехословакии, Ярда в результате страха, пережитого при переходе границы, а может быть, в порыве радости, что все это обошлось благополучно, допустил ужасную оплошность. Ярда уже точно не помнил, что именно он говорил, только общий смысл разговора крепко засел у него в голове.
— Что говорить, сюда попасть — дело несложное. Хуже будет возвращаться назад, — сказал Пепек, — никто нас не поведет за руку до самой границы и не скажет: «Теперь вот сюда!»
— Возможно, назад мы торопиться не станем… — начал Ярда.
Лицо Пепека окаменело. Глаза зло сузились.
Ярда опомнился и стал горячо объяснять, что именно он хотел сказать: они-де будут уже стреляными воробьями, привыкшими к опасности, ведь только в первый раз у нарушителей границы коленки трясутся. Но плоское лицо Пепека по-прежнему было бледным. Ярда отводил глаза, боясь смотреть на Пепека, но все же успел заметить, что его желтые зрачки странно расширились, как будто он заподозрил Ярду в чем-то страшном. Лицо Пепека еще больше побелело.
А затем — это тягостное напряжение долгого путешествия без малого через всю Чехию. Ничего не значащие разговоры, безрезультатные старания Ярды рассеять подозрение, зародившееся в тупой башке Пепека в самом начале их предприятия.
«Ничего особенно не произошло, — утешал себя Ярда. — Сболтнул лишнее. Пепек не ясновидец, а чужая душа — потемки…»
Немного успокоив себя этим, Ярда поднялся с сенника. Он сделал несколько мягких шагов. Потом достал маленькое зеркальце, приспособил его поудобнее и старательно расчесал и взбил свою великолепную шевелюру; с чуба, залихватски ниспадающего на лоб, снял сухую травинку. Вплотную приблизив лицо к зеркальцу, Ярда увидел щетину на подбородке и с досадой поморщился. Он обогнул три старых шкафа, отделявших их «спальню» от остального чердака, и осмотрелся: там, за балкой, стоял кофейник, лежало полкаравая хлеба и в бумаге — граммов сто масла. Ярда вернулся с довольной ухмылкой, предвкушая завтрак. Пепек уже сидел на своей попоне. Лицо его было напряженным, руку он держал в кармане брюк.
— Почему не сказал, что уходишь? — спросил он раздраженно и снова лег.
— Ты же спал. Я не хотел тебя будить.
Этот тон снова расстроил Ярду. Почему, по какому, собственно говоря, праву он должен подчиняться Пепеку? Он не ребенок, ему надзиратель не нужен. Поручение, которое ему дали, он и без Пепека запросто выполнит.
Ярда принялся за завтрак. Масло почти растаяло. Забеленный молоком эрзац-кофе остыл — хозяин из трусости принес завтрак, когда едва забрезжило. Ярда сидел, поджав ноги, и жевал свежий хлеб.
«Достать паспорт — это не просто, но в конце концов мне же было сказано: «Если представится случай».
Ярда изредка косился на выразительные скулы Пепека, на его широкие ноздри.
Нет, с самого начала все шло как-то не так. Еще неделю тому назад Ярду собрали в дорогу, проинструктировали во всех подробностях, у него в кармане лежали чехословацкие деньги, потрепанное удостоверение личности на имя некоего Йозефа Котрбы — и вдруг все забрали обратно, а через три дня к нему привели напарника с прямым приказом: во всем и при всех обстоятельствах подчиняться ему. Ярду удивил Пепек: бледное, словно после тяжелой болезни лицо, синие круги под глазами, около рта легли морщинки усталости. Только глаза леденящие, такие же, как прежде в Валке.
— У меня были неприятности в лагере, that’s all[160], — выдавил из себя Пепек в ответ на настойчивые расспросы Ярды, когда они остались вдвоем. Больше он не сказал ни слова.
Пепек наконец вылез из-под попоны. Он отворотил нос от остывшей бурды, сунул в карман два куска хлеба, намазанных маслом, старательно очистил костюм от сена.
— Выходи не раньше обеда и возвращайся до темноты, да не вздумай встретить старых знакомых. — Размашистые густые брови Пепека грозно сошлись над переносицей, взгляд его впился в лицо Ярды. — С фабрики или не с фабрики — все равно…
Ярда, когда Пепек повернулся к нему спиной, чуть усмехнулся. Пепек прошел к чердачному окну. Его могучие полусогнутые руки были плотно прижаты к телу, маленькая курчавая голова втянута в плечи. Верхний конец лестницы вздрагивал под его тяжестью. Потом шаги Пепека послышались во дворе, потом все затихло.
Ярда посмотрел на часы. До обеда тут от тоски с ума сойдешь. Он отправился на экскурсию: облазил весь чердак, подтянулся на руках к пустому гнезду, прилепившемуся за балкой, наконец опять улегся на попоне. Тихо и тепло, во дворе сонно клохчут куры, из хлева слышится звон цепи, черные ласточки, словно стрелы, мелькают мимо слухового окна, заставляя Ярду вздрагивать.
С того момента, как он завербовался на двухлетнюю службу, он все время пытался представить себе, к чему это может привести, что ждет его впереди: постоянная скрытность, беспрерывная перемена мест, осторожность, нервы, напряженные до предела дни и часы смертельной опасности. А между тем, после того как они сошли с поезда, он только и делает, что валяется на сене и выслушивает приказы. Проклятие, он не смеет даже закурить. А Пепек тем временем где-нибудь чадит вовсю.
Пепек. Он ведь появился позже, чем Ярда, а его назначили главным. Почему? Ведь они оба новички.
Червь сомнения снова сверлит мозг Ярды. Что означает эта замкнутость Пепека? Держался бы он так, не будь той несчастной минуты в поезде? Ни одного искреннего слова не сказал он Ярде. Правда, и в Валке он держался бирюком, даже в те минуты, когда, казалось, между ними могли наладиться добрые отношения.
Ярда даже не знает, куда сейчас ушел Пепек. Что это с его стороны: осторожность или недоверие?
Разве могли те, спокойные, румяные, хорошо настроенные ребята из мюнхенского бюро по его, Ярды, лицу угадать, какие мысли роятся иногда в его голове.
Да, верно, он стремился на Запад. Для него Запад — это роскошный лимузин с плавным ходом. Он, Ярда, за рулем, а рядом девица с кроваво-красными ногтями; негритянский джаз, небоскребы и театры, в которых «стодолларовые» девки на сцене будто бы раздеваются донага, а мужчины в зрительном зале жуют резинку и ржут от восхищения. Это называется жить с размахом! Да и втемяшившаяся ему в голову мысль о собственной бензиновой колонке, которую будут обслуживать девушки, окончательно еще не выветрилась из башки, даже после года жизни в лагере. Планы его, конечно, дали крен, и осуществление их отодвинулось, по крайней мере, на два года. А переживет ли Ярда эти два года?
С течением времени Ярда все более и более реально начал понимать свое положение. И внутренний голос стал постоянно говорить ему: «Уйди, беги! Ты танцуешь над пропастью. Один неверный шаг, злая случайность — и ты летишь в тартарары». Но кого удивит, что Ярда любит жизнь?
Ярда лежит на сеннике, запрокинув руки за голову, и думает. Запретная мысль жжет ему грудь. Районный город едва в пяти километрах отсюда. Домик на окраине. Сколько раз он провожал туда Анчу за те полгода, что прожил здесь!
Последний, самый отвратный день. «У меня… будет ребенок, Ярда…»
Устремив немигающий взгляд в сумрак, под самой кровлей, Ярда видит Анчины плечи, как беспомощно поникли они в тот момент, когда он смертельно обидел, унизил ее и с независимым видом ушел. Сколько раз в Валке перед его глазами всплывал ее скорбный образ; он возникал перед ним часто совершенно случайно, портил ему развлечения, а их и так бывало в лагере немного. Когда он ходил с какой-нибудь девкой, стоившей десять марок, чужой и безразличной, ему всегда казалось, что на него устремлены честные Анчины глаза; он тогда понял разницу между продажной и подлинной любовью. Валка научила его уважать хотя бы некоторые ценности родной страны, несмотря на то, что он противился этому, как умел.
Сегодня после полудня он пойдет на фабрику, где работал до побега. Нужно следить, чтобы его никто не узнал. Еще хорошо, что фабрика на самой окраине! Нет, он не смеет входить в город, ибо достаточно пройти две улицы…
«И не вздумай встретить…» Перед Ярдой возникли холодные рыбьи глаза Пепека.
Ярду передернуло. Ласточка, устремившись через слуховое окно к гнезду, проделала замысловатую кривую. Проклятая Валка: у Ярды были раньше железные нервы, а теперь его пугает всякая ерунда! А эта Анча с ума его сведет! Почему она не дает ему покоя? Ведь еще год тому назад они порвали друг с другом, что же ей еще от него нужно?
Ярда решил побриться. Он достал свой карманный бритвенный прибор с американскими лезвиями и не спеша стал намыливать щеки. Побрившись, он провел рукой по гладким щекам и с удовольствием погляделся в зеркальце. Удивительно ли, что девушки всегда к нему льнули?
Вдруг снизу со двора донеслись чьи-то шаги, к чердачному окну прислонили лестницу. Ярда спрятался за средний шкаф и схватился за карман с револьвером, но опомнился. Чепуха, в случае опасности кто-нибудь из хозяйской семьи бросил бы камень на крышу. Кто-то ловко поднимался по лестнице. У Ярды сердце застучало, как шестицилиндровый мотор. Грубая рука поставила на обычное место пирамидку голубых кастрюлек. Затем снова послышались шаги, скрип песка и оживленное гоготание гусей.
Ярда облегченно вздохнул и провел ладонью по влажному лбу.
На другом конце села лениво прозвонили полдень. Ложка дрожала в руке Ярды.
— Нет, так не годится, необходимо привыкать. Вот Пепек не испугался бы…
Ярда жует жесткую говядину и радуется, что ему не пришлось столкнуться лицом к лицу с тем, кому принадлежала рука, принесшая обед. Он не мог себе представить, как бы смотрел в глаза человеку, который точно знает, кто такой Ярда и зачем сюда пожаловал.
На площади села громко заговорил репродуктор. Ярда напряженно прислушался: не коснется ли передача его персоны? Нет, к искусственным удобрениям он никакого отношения не имеет. Под звуки бойкого марша Ярда спустился во двор и шмыгнул в калитку запущенного сада, из которого выбрался на полевую дорогу. Здесь он с наслаждением закурил. Недалеко дымили трубы города; вон та высокая — это труба его фабрики. Знакомая картина: белая водонапорная башня на горке, железнодорожный мост через долину. Ярда залюбовался красотой этой холмистой местности. По правде говоря, господа товарищи не так уж сурово обошлись с ним тогда, направив его работать на здешнюю фабрику!
Ярда шагает по проселочной дороге. Хлеба уже давно убраны. То здесь, то там мелькают фигуры одиноких пахарей, вдалеке у леса на широком поле работают женщины в пестрых платьях. Ярда уловил принесенный дуновением ветерка пряный запах горящей ботвы и сухой травы; над костром, разложенным мальчишками, в вышине реял бумажный змей.
Город медленно двигался ему навстречу. Знакомая панорама улиц, на холме — стройный ряд больших новых жилых домов. Господи боже, ведь в прошлом году их здесь не было! А это что? Новая фабричная труба, а под ней — новые корпуса! Только холмы вокруг стоят по-прежнему, ничего на них на первый взгляд не изменилось — ничего, только он, Ярда, уже здесь не свой. Вон там стадион, где он вместе с Гонзиком и Вацлавом играл в футбол. Где-то они теперь? В Валке? А где же им быть? Эти маменькины сынки до самой смерти не выкарабкаются оттуда. Сейчас на стадионе играли в футбол одни мальчишки; какой-то паренек тренировался в беге. По темпу было видно, что он бежит на три тысячи метров. А на той улице, где костел, есть старый дом с галереей, в первом этаже этого дома в белой кухне — мать Гонзика. Ярда частенько пил у них кофе с булками. Он и теперь улыбнулся, вспомнив висевшее у них старомодное отполированное распятие и стертые четки, заткнутые за изображение какого-то святого. Господи, эту согнутую жизнью старушку хватил бы удар, если бы Ярда неожиданно ввалился к ней и рассказал о Гонзике, а Гонзик, в свою очередь, ревел бы в три ручья, если бы Ярда контрабандой приволок ему пару строчек из дому!
Ярда представляет, какие лица были бы у его знакомых, если бы он вдруг встретился с ними. А что было бы, если бы теперь он пошел к ребятишкам и стал бы вместе с ними играть в мяч? Он хорошо понимал, что ничего такого не сделает, но страшно соблазнительно было хотя бы представить себе это.
Ярда стоял на окраине городка и думал, что, наверное, все-таки здесь его настоящий дом, очень уж все здесь близкое, и он не может не признать, что все здесь трогает сердце. Он прищурился: однорукий сторож стадиона Габа вылез из своей лачуги с ведерком, в котором была разведена известка, он, по-видимому, собирается подновить белые полосы на площадке, Ярда вдруг растерялся, попятился за кусты, слыша за своей спиной шаги старого Габы, который всегда уверял, что каждую перемену погоды он чувствует в отсутствующей руке.
Внезапно Ярда понял, что он тут более чужой, чем иностранец из самой дальней страны. Он оторвался от этих мест, перестал существовать, утратил свое прошлое и даже свое имя; в нагрудном кармане он носит красную книжечку, где под его фотографией написано «Иозеф Котрба». Может, все это только кажется? Нет, рука сквозь сукно брюк нащупала оружие, оно там, твердое, холодное доказательство того, что все это явь!
Ярда зашагал прочь. Скоро два часа, конец утренней смены; надо выполнить данное ему пустяковое задание и — дело с концом! Он преспокойно мог бы сам придумать требуемую от него информацию, однако они, возможно, наладили контроль и сами заранее все знают. Еще, чего доброго, уличат его на первом же задании и засадят за решетку.
Прогудел фабричный гудок. Рабочие группками расходились по домам. Ярда дождался последнего — старика с трубкой и потрепанным портфельчиком под мышкой. Только далеко за городом Ярда, шедший следом, настиг рабочего и заговорил с ним. Он осведомился, правильно ли он держит путь в знакомую деревню. Старик трубкой показал дорогу впереди себя. Они попутчики, пойдут вместе. Речь, конечно, вскоре зашла о фабрике, Ярда, мол, тоже рабочий. Оказалось, что старик работает на фабрике уже около тридцати лет. Ярда в ужас пришел. Он не видел, не помнил этого старика, а что будет, если тот его узнает? Ярда украдкой, опасливо стал посматривать на соседа, но из дальнейшей беседы узнал, что старик работает не в том цехе, где работал Ярда, а на противоположном конце фабричного двора. Ну, теперь все в порядке! Фабрика большая, рабочих много, а на общие собрания, демонстрации и всякую такую муру Ярда не ходил! Старик помнил прежнего хозяина фабрики — еврея, работал и при нацистах, был здесь во время национализации — в общем знал о делах фабрики все досконально. Через несколько минут Ярда получил нужные ему сведения.
Вдруг он сделал вид, что ботинок трет ему ногу, начал хромать, отставать. Нет, нет, он не смеет задерживать попутчика, он сам доберется, дорогу он теперь уже знает. Ярда уселся на межу, но когда старик исчез за поворотом, парень направился назад к городу. Он остановился на углу улицы, которая кончалась в поле. Ярда не хотел идти сюда, ноги сами привели его. Он только издали посмотрит на знакомый домик, в этом ведь нет ничего плохого! Как будто сам черт подсунул ему Пепека — этого сторожевого пса. А все ведь могло быть так просто!
В домике тишина, на противоположной стороне улицы в пыли играют ребятишки. Временами, как в стайке воробьев, у них вспыхивает ссора. Двумя домиками ниже женщина в грязном фартуке вынесла тяжелую лохань с мусором. Раза два или три он бывал у Анчи в этом приземистом домике, когда ее родителей не было. Он всегда пробирался крадучись, чтобы соседи не заметили его. Вспомнив об этом, он снова ощутил дразнящий вкус запретного плода. Они целовались и миловались в парадной комнате, прямо под фотографиями ее бабушек и дедушек с напряженными, покрытыми слоем пыли лицами.
А теперь он стоит тут, словно голодный волк, которого только страх удерживает на почтительном расстоянии от человеческого жилья. Целый год таились в нем эти воспоминания, борьба за существование отвлекала его от них. Тогда, после удачного перехода через границу, среди радостных мыслей была думка об Анче: он, наконец, почувствовал тогда, что порвал нить, которая связывала их. Но это был самообман! Все плохое забылось, и в памяти всплыло только хорошее, все, что когда-то притягивало его к Анче. И теперь при мысли, что в ста шагах от него, там, за этими окнами… А что, если у нее родился ребенок? Или она вышла замуж и теперь здесь не живет?
Да и что ему до всего этого? Раз все порвано, значит конец, баста! Ярда засунул руки в карманы и повел плечами, словно у него зачесалось между лопатками. Воспоминания, чувства — все это вздор, чепуха! Это все проклятая Валка, она превращает мужчину в слюнтяя…
Внезапно Ярда остолбенел: девушка с сумкой в руках захлопнула дверь и пошла по тротуару. Знакомая фигура, плечи, крепкие стройные ноги… Анча! Ярда как подстегнутый, позабыв всякую осторожность, бросился за ней. Девушка завернула за угол первого переулка и пошла по шоссе в сторону от города. Ярда догонял ее, не в силах согнать с губ растерянную улыбку. Рука его, опущенная в карман, крошила там кусок хлеба, сердце бешено билось. Теперь он уже шагал рядом с ней. Анча обернулась, вскрикнула, уронила сумку. Потом как-то неловко нагнулась, чтобы поднять ее. В широко раскрытых глазах ее мелькнул ужас.
— Анча!
Испуг, радость, смятение молниеносно сменялись на ее вспыхнувшем лице. Она машинально отряхнула свою сумку от пыли.
— Ты вернулся!
Ярда оглянулся.
— Как видишь…
— А что… А что… — Она не находила слов.
Ярда закурил и разломал спичку, чтобы скрыть дрожание пальцев.
— Ты здесь… останешься?
Он передвинул языком сигарету из одного уголка рта в другой.
— Что же, по-твоему, я не могу совершить экскурсию? Посмотреть, как вам здесь дышится?
Минуту она не понимала, но вот что-то дрогнуло в ее лице, румянец на щеках погас, резким движением она отбросила со лба волосы. Чему-то ужаснулась.
Анча медленно шла по шоссе. Ярда шагал рядом. Тяжелое, мучительное молчание. Он вдруг понял, несмотря на всю свою напускную самонадеянность, что допустил непростительную ошибку, что испуг Анчи перешел во враждебность.
Анча выпрямилась и напряженно смотрела вперед.
— Что же ты намерен делать здесь? Кого-нибудь… — произнесла она чужим, ледяным голосом.
— Анча, как у тебя язык повернулся?
— Зачем ты ко мне пришел? — прервала она его шепотом, хотя кругом никого не было. Резкая, суровая складка над ее переносицей заметно углубилась. — Разве тебе недостаточно того, что ты со мной сделал? — В этом страстном шепоте одновременно было и обвинение и приговор.
— Я хотел только… — Голос Ярды дрогнул, его фанфаронство лопнуло, как мыльный пузырь. — Не выдай меня, Анча… — сказал он скороговоркой и облизнул пересохшие губы. — Я хотел знать, есть ли у тебя ребенок.
— Хватился!
На губах у нее появилась недобрая усмешка.
Ярда машинально поправил свой чуб.
— Ты замужем?
— Нет.
— А есть у тебя кто-нибудь?
Она на миг закрыла глаза, как бы преодолевая внезапный приступ боли, и остановилась.
— Зачем этот допрос? Мне до тебя нет дела. Так-то на белом свете бывает: любовь мелькнет, а ненависть останется надолго.
Кто-то шел им навстречу.
— Уходи, прошу тебя, — тихо потребовала она.
Ярда испугался и хотел уйти.
— Останься, — нервно шепнула Анча.
Они ускорили шаг. Незнакомец едва скользнул по ним взглядом.
Ярда ломал голову над смыслом ее последнего слова. Что это — осторожность, или ее снова потянуло к нему? «Любовь мелькнет…» Она всегда любила этакие фразы, и Ярда подтрунивал над ней.
Он сбоку смотрел на Анчу: то же открытое, здоровое лицо с глубоким вертикальным желобком над верхней губой, короткий прямой нос, высокие брови. Та же легкая походка. Она только чуть пополнела, но это ей идет. Вдруг Ярду захватила давняя физическая тоска по ней, будто между ними лежал не год разлуки, а неделя. Какие бывали у них минуты! Он забывал обо всем. Ярда почувствовал в своих руках ее юное тело — оно было другим, совсем другим, чем у девок из Валки или у той плотоядной, истеричной вдовы с красным педикюром.
И Анча тоже, против воли, ощутила присутствие Ярды. Он ушел от нее, когда она его любила сильнее всего, когда он ей был больше всего нужен, он поступил подло, да и теперь появился при таких обстоятельствах, что его нужно бояться И этот бегающий, затравленный взгляд… Странное чувство, бог знает отчего все это: от страха, ненависти, или это отголосок старой любви? Но если сердце даже и дрогнуло, разум предостерегает ее от этого человека.
— Уходи, — с трудом сказала она.
Анча остановилась, только сейчас она поняла всю горечь этой встречи. Страх сдавил ей грудь, ноги отяжелели, темные глаза встревоженно расширились.
— Почему ты не оставишь меня в покое?
Трагическое выражение ее лица потрясло Ярду — оно было таким же, как и в отвратительную минуту их расставания, год назад.
Теперь ему было все равно, он видел перед собой лишь один выход. Ярда попробовал взять Анчу за руку, но она отдернула руку. И вот, заранее чувствуя безрассудство того, что он собирается сказать, он выговорил:
— А что, если я действительно останусь? Нас пугали там, что если кто-нибудь вернется домой, он получит не менее двадцати лет, а то и навсегда сядет за решетку… Но я не верю этому, они нам врали. Наши здесь могли бы договориться со мной по-хорошему. Думаешь, я мало узнал там — о тех?..
В трехстах шагах от дороги, по которой шли Ярда и Анча, тянулся лес, клином подступавший к самому городу. За первым рядом деревьев, в зеленой чаще прислонилась плечом к сосне мужская фигура. Дым сигареты поднимался над маленькой кудрявой головой, сидевшей прямо на могучих плечах. Пальцы человека вцепились в ствол дерева так, что кусочки коры вонзились в кожу под ногтями.
Так. Решено.
Хриплый вздох вырвался из могучей груди, ладонь коснулась лба — спазма сжала мозг.
Почему эта проклятая жизнь неумолимо снова и снова ставит его в такое положение, что он вынужден убивать? Каким будет конец этой цепи преступлений?
Теперь он уже не спустит глаз с этого проходимца, такой способен на все, даже на самое худшее…
А Анча растерянно подняла на Ярду измученные глаза. Этот человек тогда тяжко оскорбил ее, и вот теперь он снова стоит перед ней, и в ее мозгу мелькают страшные представленья: агент, шпион! Она слышала эти слова по радио, читала в газетах, они стали символами самого злого, ужасного.
«Глупости», — Анча стиснула зубы. Все в ней умерло, он уже не принадлежит ей, у них нет ничего общего… Она еще продолжала идти рядом с ним. И вот словно кто-то вместо нее произнес:
— Не иди за мной, Ярда… Не доведи меня до несчастья… Ты и без того принес мне много горя…
К ним навстречу двигалась группа людей, со стороны города по дороге грохотала подвода. Анча забеспокоилась, взглянула ему в лицо, что-то подавила в себе усилием воли и, не подав руки, не сказав «прощай», быстро пошла вперед. Встречные были близко, Ярда поплелся назад. Только перед первыми домами он понял, что идет не тем путем. Свернул в поле, но снова пошел куда глаза глядят и через полчаса очнулся, остановившись на опушке. Он снова видел перед собою Анчу, ее круглый подбородок, молодую высокую грудь. Что же ты, болван, наделал? За те несколько несчастных запчастей с тебя бы на фабрике удержали из зарплаты, а теперь ты уже уплатил во сто крат больше, а конца не видно.
Внезапно Ярда испугался. Вдруг Анча… Чепуха! Она ничего подобного не сделает, он знает ее!
Ярда посмотрел на часы. Пора возвращаться, но он теперь не может туда идти, надо все обдумать. Закурил, сигарета немного успокоила, однако, разболелась голова. С чего начать?
Ярда бездумно следил за блестящей с синим отливом жужелицей, пробирающейся куда-то в джунглях трав.
Что же теперь? Нет. Он неспособен ни на что решиться. Как будто в голове у него труха вместо мозга. Он втоптал в землю окурок, сморщил лоб, опустил голову на руки и долго сидел неподвижно, потом, охваченный растерянностью, долго тер себе глаза.
А что… взять да с этого самого места и смотаться обратно в город, постучаться в дверь и положить на стол револьвер.
— Вот, он заряжен, но, честное слово, я бы никогда не стал стрелять! Торопитесь, в пяти километрах отсюда на окраине села…
Но зеленые мундиры, сапоги… Если бы эти парни не носили проклятой формы! И если бы знать, что они не будут его бить. Перед глазами Ярды возникла регенсбургская тюрьма, отхожее место, где заключенные должны были набирать из унитаза воду для умывания. Ярду всего передернуло от этого воспоминания. Ну и положение! Он, как глупая мышь, влез в мышеловку, и удастся ли ему вылезти обратно? В любом случае без царапин не обойтись!
Он встал, прислонился спиной к дереву, закурил новую сигарету, посмотрел кверху. Он никогда не любил природу, никогда не смотрел на закат, разве что увидит летящий реактивный самолет. Лес для него был только укромным приютом любви, а река — для купания. Но сегодня вечерняя тишина благотворно подействовала на него: где-то за полем слышался звон колоколов, все тут в округе было ему знакомо, куда ни посмотришь, что-нибудь напоминало Анчу. Хорошие места здесь, красивее, чем в окрестностях Нюрнберга. Черт знает какая чепуха лезет в голову! Все одно к одному: багряное солнце над горизонтом, вечерний звон, душистый лес и Анча. Ярда поднял с земли кусок легкой, наполовину сгнившей коры и в задумчивости стал мастерить лодочку.
Если он явится с повинной, они должны будут арестовать Пепека. Однако тот — тертый калач. Если Ярда не вернется, Пепек не станет ждать, безмятежно лежа на сене. Может получиться и так: за Пепеком придут, а он смоется. Правда, в этом случае Ярда не смог бы найти на земле более безопасного места, чем тюрьма. Но настанет же время, и он выберется на свободу. Хороша будет жизнь, если со дня на день ждать, когда тебя… Ярда готов дать голову на отсечение, что Пепек отомстит. У него ведь за душой немалый грех, если Чехословацкая республика потребовала его выдачи. И в Валке он что-то натворил серьезное, раз у него не осталось другого выхода и он возвратился на родину, рискуя попасть в петлю.
«Останься», — шепнула она, когда кто-то подходил к ним. Могла ведь сказать: «Беги», — и сама уйти… Поселиться бы там, в приземистом домике! В комнате с фотографиями в полированных рамках — все равно там никто не живет. Стоит только застланная постель с перинами Анчи. По крайней мере они сослужили бы службу.
Один выход: сдаться, но надо бросить им при этом Пепека. Влипнет, конечно, и хозяин со всей семьей. Он укрывал их у себя, давал им пищу. Это будет подлость со стороны Ярды, но что делать? Так уж устроена жизнь! Другого пожалеешь — себя угробишь! От проклятой нерешительности только нервы изматываются.
Ярда встал, продрогший от вечерней прохлады. Страшно было возвращаться на чердак к Пепеку, но мысль о койке в тюремной камере была еще ужаснее. Как все в жизни перепутано! Позавчера они проехали половину республики. Ярда наконец снова слышал одну только милую сердцу чешскую речь, а не эту чертовскую баварскую тарабарщину, и он не мог ничего с собой поделать, в голову лезли только светлые воспоминания о хороших днях, которые он тут прожил, — о детстве, о футбольных сражениях в Жижковом тупичке, о проделках в школе, а потом в интернате ремесленного училища, о лыжных вылазках в Бескидах и в Татрах, о первом свидании на Петршине, о чешских девчатах… А теперь он прячется на чердаке у мужика, так ненавидящего республику, что о нем знают даже в Мюнхене.
Ярда идет по окутанной вечерним туманом местности. Веер багряных облаков развернулся, словно растопыренные пальцы гигантской руки. Дым костра так по-домашнему щекочет нос! Иволга промелькнула в сумраке леса, а в бесконечных фиолетовых далях на востоке засияла первая звезда. Какой простор вокруг, а он стоит, как на распутье двух дорог, и обе они ведут в ад!
Из двух зол должно же одно быть меньшим. С какой стороны ни взгляни, меньшее зло — принести повинную, возвратиться домой. Он же не болван, он стреляный воробей, в каких только переплетах не побывал и всегда выходил сухим из воды! И теперь спасение в полном признании, в сообщении ценнейшей информации и, наконец, в выдаче этого матерого волка — Пепека. К тому же искреннее сожаление о содеянном, раскаяние, примерное поведение, тяга к труду. Пусть его черт возьмет, если он не сумеет выиграть эту игру, хотя бы на худой конец с ничейным результатом.
Было уже совсем темно, когда он прошел через заднюю калитку сада. Нетопырь неслышно промелькнул над его головой. Ярде стало не по себе. На половине лестницы его остановила мысль: а не продал ли Пепек его, Ярду? На мгновение все вокруг потонуло в кромешной тьме, и Ярде показалось, что лестница падает набок. Он судорожно вцепился в верхнюю перекладину. Ерунда, во всем виновата эта паршивая Валка. Это из-за нее нервы у него расстроены, и он стал мнительным.
Ярда на ощупь пробрался за перегородку. Пепека не было. Ясно, этот шакал рыскает где-то. Нелегко будет с ним справиться. Однако в слуховом окне, на подставке, ужин только на одного: стало быть, Пепек возвращался и снова ушел.
Ярда еще не доел остывший суп, как заскрипела лестница — Пепек! Он вошел, сел на свою постель и вытянул вперед ноги.
— Где ты пропадал?
Опять этот прокурорский тон. Ярда перестал есть.
— Я ведь должен был, кажется, кое-что сделать?
— Да, после смены, — ответил Пепек. — Смена кончается в четыре. — Пепек стебельком сена стал сосредоточенно чистить под ногтями. — А теперь восемь. Что же ты делал эти четыре часа?
— Не блажи. Я ни с кем не говорил, — резко прозвучал раздраженный выкрик Ярды.
Воцарилось неловкое молчание. Ярда не может оторвать взгляда от неподвижных рыбьих глаз Пепека, уставившихся на него из сумрака. «Опять глупости напорол», — с тоской подумал Ярда.
Пепек повалился навзничь, заложив руки под голову.
— А я думал, ты навестил ту девушку.
— Вот еще! — вспылил Ярда. — По-твоему, я дурак, да? Знаешь, не морочь мне голову, я спать хочу! — Ярда покраснел и не лег, а упал на одеяло, но вскоре приподнялся на колени и лихорадочно нагреб побольше сена под голову.
Тихо. В курятнике время от времени закудахчет спросонья курица, в хлеву приглушенно звякнет цепь. «Ерунда, нужно просто покрепче закрыть глаза, и все будет в порядке!» — говорит себе Ярда, однако что-то недоброе осталось от его безрассудной вспышки.
— Ты так и не доел ужин? Всегда ведь заглатывал втрое больше.
— Не хочу.
Луна плыла по ясному ночному небосводу, через оконце проник холодный луч, полоснул Пепека по ноге и стал медленно двигаться вверх к его колену. Тишина, слышно только ровное дыхание Пепека.
Хоть бы этот мерзавец что-нибудь сказал! А то сам дьявол знает, какие мысли копошатся в его рыжеватой обезьяньей башке.
Где-то в селе дребезжащим жестяным голосом запел старомодный граммофон и вскоре умолк на половине пластинки. Вслед за этим послышался дружный смех девушек и гул мужских голосов, что-то им отвечавших.
Время ползет медленно-медленно, тянется, как густой сироп варенья; по сельской площади с грохотом проехал трактор, прицеп бренчит за ним, подпрыгивая на неровной дороге; тусклый луч отраженного света мелькнул в чердачном окне, и шум мотора стал быстро отдаляться. На чердаке пахло сеном.
— Эх, дружище, и покурил бы я, если б можно было, — внезапно как ни в чем не бывало сказал Пепек.
— И я бы затянулся.
Где-то на другом конце села пес завыл на луну.
Другая собака ответила упорным, настойчивым лаем. Казалось, этому концерту не будет конца.
— Когда я сегодня вечером возвращался, солнце уже заходило и небо было как кровь. — Пепек заворочался на своем сеннике, а Ярда затаил дыхание. — Вспомнил я об Остраве — над Остравой зарево стоит каждый вечер и без солнца…
Порыв ветра донес перестук колес далекого поезда, звук этот так же внезапно смолк, как и возник. Ночную тишину прорезал паровозный гудок.
— Вот я и подумал, дружище, что все на свете — трын-трава, — продолжал Пепек. — Вот заходит солнце, парни пробираются в лес с девками, а мы с тобой валяемся на сене, и этот рябой кулак, наш благодетель, был бы рад увидеть нас в гробу.
Ярда провел языком по пересохшим губам. Пепек тяжело ронял слова в темноту, словно у него парализовало челюсти.
— Вот я и подумал, глядя на это солнце… что… что с нами не поменялся бы местом даже шелудивый пес… Сейчас нам для пробы дали легкое задание, в следующий раз дадут посерьезнее, а там — велят кого-нибудь пристукнуть… Сегодня в первый раз я проклял покойника отца. Пять лет мне было, когда он спился. — Слышно было, как Пепек зевнул. — Нету справедливости в этом вшивом мире. Родился богатым — девки к тебе льнут, как черные тараканы к пиву. А если отец у тебя сдох под забором — что хочешь делай, все равно сгниешь в каталажке.
Ярда лежал в каком-то оцепенении, он потерял понятие о времени, не знал даже, секунды или минуты протекали в промежутках между фразами Пепека.
Пепек приподнялся на локте.
— А что, если нам не возвращаться?
Словно бомба взорвалась возле Ярды. Он как ужаленный в мгновение ока сел и всем туловищем повернулся к Пепеку. Месяц, проникнув сквозь дыру в крыше, осветил половину лица Пепека, один его глаз светился зловещим зеленым огнем, как у кота, и, не мигая, испытующе глядел на Ярду.
— А… Но… Разве можно? — выкрикнул Ярда и как будто окаменел. Ему показалось, что он не может пошевелить головой. — Это ведь… ерунда!
Слова вдруг застряли у него в горле, его охватил ужас. Почему он сразу же решительно не отказался, почему не возмутился, не стал угрожать, ведь это западня! Во второй раз, и теперь уже окончательно, он попал в капкан Ярда, как кролик перед удавом, не мог оторваться от парализовавшего его круглого, немигающего зеленого глаза. Этот взгляд убил в нем все: способность думать, говорить, действовать. Как ловко заарканил его этот кретин, дьявол в образе человека!..
— Ты спятил, Пепек? — Ярда наконец сумел хоть что-то выдавить из себя, но это были не те слова, к тому же все равно было поздно. Глупо, ужасно глупо!..
Он бормотал что-то не то, и жесты его были тоже не те, он вконец запутался в сети, растянутой во мраке. А этот проклятый, выхваченный лунным светом, немигающий глаз сведет его с ума! Он торчит в темноте, как острие шпаги, направленной ему прямо в сердце.
— Отстранись от света! — истерически закричал Ярда, как ребенок, испугавшийся пугала.
Пепек медленно лег навзничь. В какой-то миг, когда его лицо целиком осветила луна, Ярда заметил в уголках его губ довольную усмешку.
Ярда как будто избавился от оцепенения, он начал быстро плести всякую чушь. «Заткнись, идиот», — подсказывает ему рассудок, но тщетно! Ярда был не в состоянии замолчать. Как смертельно больной начинает иногда говорить о будущем, так и Ярда строил планы вслух: телефонный справочник он срежет с цепочки в будке автомата, проездной билет он уже раздобыл. А Пепек, если он не способен на иные шутки, пусть замолчит и вообще пора закругляться. Пора думать о возвращении. Тут делать больше нечего.
Но Пепек молчал. Только сено пахло медом.
Наконец Ярда перестал говорить.
Он не знал, сколько времени пролежал с открытыми глазами, мучаясь от бессонницы. Голубовато-зеленый свет луны погас, в курятнике пропел петух. Что было потом, Ярда уже не помнил: опустошенный, он уснул под утро свинцовым сном.
Но долго спать ему не пришлось. Он проснулся как от толчка. По крыше как будто бегали голуби: дождь! Ярда отыскал глазами Пепека. Тот стоял и отряхивал попону от сена. Ярда мельком взглянул на часы: половина пятого.
— Ты что, с ума сошел — ведь еще рано!
Пепек аккуратно складывал попону и даже не взглянул на своего напарника.
Ярда встал. Что-то тут не так — это он почувствовал сразу же. Вдруг он схватился за карман и побледнел.
— Где мой револьвер?
Пепек спокойно бросил сложенную попону в ящик.
— Верну, когда перестанешь дурака валять. — Он подошел ближе. Лицо его сморщилось, голос стал хриплым. — Пора тебе понять, что в случае провала мы оба будем висеть на одной осине. И еще кое-что: я отвечаю за успех нашей операции и за тебя лично.
— Не имеешь права… — Ярда осекся: во дворе под чьими-то ногами заскрипел песок. Порывисто нарастал глухой шум насоса, жестяное ведро забренчало под напором хлынувшей воды. Ярда провел рукой по волосам. Проклятый вчерашний разговор, проклятая минута, когда к нему подсунули в качестве партнера эту гориллу. Ярду охватили ярость, бессилие и, наконец, растерянность. Пепек лишил его козырей и добился перевеса.
Человек, набиравший воду, ушел, шаги его затихли вдалеке. Пепек отряхнул от сена пиджак.
— Хотел я остаться здесь еще на день, да лучше убраться сейчас. Слезай!
Они прошли садом, задворками обошли село и мокрым полевым проселком направились в лес. Капли мелкого дождя, как слезы, стекали с прозрачного плаща Ярды. Этот плащ ему выдали перед отъездом в Мюнхене, но он чешского производства. Разведка учитывала все мелочи.
Пасмурный день только начинался, заплаканное небо низко нависло над полями, кругом ни души. Они шагали молча. Поди узнай, что творится в курчавой голове Пепека.
А в голове этой медленно ворочались тяжелые мысли. Нет, и он не хотел вступить на эту скользкую дорожку.
Когда-то к нему в лагерь приходил агент, но Пепек не согласился. И вот они заарканили его. Так или иначе, они всегда заполучат того, кого выследили. «Ярда — свинья», — думал Пепек. Он сразу почувствовал, что тут что-то неладно. По глазам парня было видно, что он способен на любой подвох и готов поживиться за чужой счет!
Мелкий дождик поливал пашни. Вода струйками стекала с чугунного креста, стоявшего у дороги.
Пепек широкой ладонью отер мокрое лицо. На какой-то момент он почувствовал усталость и отвращение к тому, чем ему приходится заниматься. Не хотел он этого, не его вина, что все так сложилось. Он рвался за океан, хотел жить хорошо и спокойно, затеряться там и загладить свой старый грех. Ведь в первый раз это было печальной случайностью: он не собирался убивать той женщины; видно, уж такая его судьба, что о бок с ним ходит смерть. Пепек огляделся. Ярда шагал мрачный, с выражением оскорбленной невинности. Вот сволочь! Нет, шалишь! Ты еще не дорос, сопляк. Не ты один такой хитрый, что захотел вернуться домой и заплатить за это чужой шкурой!
Лес, безмолвный и тихий, поглотил их. Клочья тумана повисли на кронах елей. Мертвый лес. В такую собачью погоду и птицы где-то спрятались. Только кукушка печально куковала, прощаясь с летом. Ее одинокий печальный голос еще больше подчеркивал гнетущую безлюдность этих мест.
— Ты знаешь эти места, Ярда?
— Само собой. Вон там, за лесом, Геральтице.
— Далеко?
— Часа полтора пути. Может, даже меньше.
— Веди.
Ярда неохотно свернул на узкую стежку: это недоброе чувство — иметь за спиной Пепека. Пепека тоже охватил озноб, но он подумал: «Парень сам подставляет себя, сам будто торопится. Теперь уж либо я, либо он».
Инструкция была ясной: если этот парень попытается предать — не колебаться…
Узкая заросшая тропа, все время приходилось наклоняться. Капли с мокрых ветвей противно холодили затылок, стекали за шиворот.
Ярда обернулся. Пепек шел за ним с наклоненной головой. Знакомая дорожка: однажды он забрел сюда вместе с Анчей. Их тогда вспугнул грибник. Такой бесстыжий — корзинку поставил на траву, а сам стал подползать к ним на брюхе. Ярде пришлось, другого ничего не оставалось, бросить в него камнем.
Эх, чего бы он не дал, чтобы теперь идти здесь не с Пепеком, а с Анчей! Ярда не знал, как выпутается, но одно он уяснил себе: он будет теперь чертовски осторожен, чтобы в другой раз так глупо не испортить жизнь…
Мгновенно ослепивший удар пришелся ему прямо между лопатками. Ярда свалился лицом в мокрую хвою, не успев даже почувствовать страха. Только порыв страшной ненависти… Ошеломляющий холод мгновенно сковал ноги. Почему он ничего не видит? В глазах — черным-черно. Он еще почувствовал терпкий вкус хвои на зубах, какое-то гудение поднялось в груди, душит его, отдается высоким звуком в ушах. Это не его тело, это глыба льда — еще минута, и конец. Анча, девочка…
31
Бесконечная колонна — по трое в ряд, — извиваясь змеей, ползет по городу. Полдень, палящий зной. Наверное, именно здесь и проходит экватор. Пышут жаром белые каменные дома, раскалены опущенные жалюзи на окнах французских магазинов, в просвете узкой вонючей улочки — стройный минарет, вонзившийся шпилем в высокое синее небо. Горячие белые скалы за городом обрамлены островками высохшей, порыжевшей зелени, от мягкого асфальта под ногами пышет душным, знойным жаром. Жарко пылающая печь — город Сиди-бель-Аббес.
В маленьком пятне тени, под оцепеневшей пальмой, рядком растянулись берберы, закутанные в грязные бурнусы. Головы — на тротуаре, тощие босые ноги — на мостовой. Туземец-мороженщик повернул голову к колонне легионеров, сверкнул молочно-белыми зубами, однако глаза его остались холодными, безразличными.
Отряд молодых солдат шагает молча. Мучительная жажда отвлекает от мысли, что там, где-то на юге, за выжженными солнцем горами, на тысячи километров тянутся знойные песчаные холмы, оазисы и белые кости подохших зверей; там дикие туареги, нападающие на верблюжьи караваны. Романтическая Черная Африка.
Чем объяснить, что обаяние романтических далей бледнеет, едва лишь мы к ним приблизимся? А ведь большинство из шагающих в строю молодых людей раньше отдало бы многое за то, чтобы увидеть Сахару. Теперь, изнывая под палящими лучами, обливаясь соленым потом, они бредут по самому ее краю: пальмы, раскаленный песок, фиолетовые мухи, тошнотворная вонь от гниющих отбросов в извилистых улочках туземного квартала. Густой мертвый воздух без единого дуновения ветерка — и раскаленный добела неподвижный шар солнца. Смертельная тоска об отдыхе в холодке и о глотке обыкновенной воды. Черт бы побрал эту проклятую Сахару с ее романтикой!
Колонна подошла к воротам казарм. Над воротами загадочное лаконическое обозначение: «ЦП-3». Восемь месяцев муштры. Первая увольнительная — через тринадцать недель. Такова перспектива.
Гонзик шагает в первых рядах. Французские команды и немецкий говор. Куда ни повернись — всюду немецкий говор. Куда он попал? Грубая, лающая речь, такая, какую он слышал от эсэсовцев дивизии «Мертвая голова». И вот опять головорезы из «Мертвой головы» смотрят на него, только теперь они носят другой головной убор — черные офицерские фуражки с красным верхом, а на рукавах — зеленые или золотые нашивки. И звание у них другое, не «шарфюрер», а «капрал-шеф», «сержант» или «майор». Ты можешь не рассказывать им своей биографии и молчать словно пень. Они все равно знают, с кем имеют дело, это видно по их бледно-голубым «германским глазам».
Фабрика наемных убийц пущена в ход. Конвейер с сырьем движется через канцелярии, склады обмундирования и, наконец, забрасывает легионеров в белую мастерскую — парикмахерскую, устланную кучками коричневой, черной и светлой кудели. Гонзик сидит здесь на стуле в ряду с остальными беднягами. С машинками в руках, одетые в белое, подходят к своим жертвам палачи-цирюльники. На их физиономиях победные ухмылки. Единственная забава в их нудном ремесле — за один час сделать изумленных новичков похожими на стриженых баранов!
Голый череп мерзнет, но Гонзик как будто еще чувствует свои жесткие, неподатливые волосы. Широкая щетка наподобие той, что мела каток в его родном городке, делает разворот и уезжает за дверь. Вон та белокурая прядь на вершине темной кучки — это его волосы, единственное, что осталось от его человеческого достоинства. А теперь, когда он смотрится в мутное зеркало, в нем вскипает злость, он ненавидит самого себя.
Дни текли ровной, утомительной чередой, пылающие дни, политые потом на пыльном плацу, наполненные ревом непонятных команд, оплеухами, пинками, а часто и тайными слезами, пролитыми на койке. Головорезы в формах цвета хаки не упускают ни единой возможности для того, чтобы сделать своих питомцев пригодными для осуществления «почетной миссии легионера», «перековать их», как говорят они с ухмылкой. Но в этой кузнице не зазвенит чистый звук благородного металла; «перековка» рождает скрежещущий голос смертельной ненависти, мучительного стремления отомстить этим надсмотрщикам, бывшим убийцам, садистам, обжирающимся отборной жратвой в офицерской столовой!
Гонзик огрубел и высох как щепка, его загорелая кожа затвердела, на потрескавшихся губах выскочила лихорадка. Как бессловесное вьючное животное он марширует и заучивает упражнения, а проштрафившись, по приказу начальника ползает по раскаленному песку или бегает с полной боевой выкладкой вокруг учебного плаца — и ненавидит. Он ненавидит своих истязателей, ненавидит солнце, белое горящее небо — белое изо дня в день, хоть сойди с ума. Напрасно вспоминал он Вацлава, здесь не на кого опереться, слово «дружба» осталось где-то за крепостными стенами. Правда, в пятнадцати взводах были выделены три комнаты для чехов, но молодые чехи живут отчужденно, словно говорят на разных языках: каждый, как улитка, отгородился от своих земляков. Иудины сребреники — цена их совести — быстро исчезают в казарменной таверне, охота и курить, а при мысли о будущем хочется, хотя бы на время, утопить тоску в вине. Где взять денег, если жалованья не хватает даже на сигареты?
Сосед Гонзика однажды взволнованно обшарил карманы, нервно прощупал сенник. Его угреватое лицо сначала потемнело, потом побагровело.
— Кто-то украл у меня тысячу франков!
Ребята начали язвительно посмеиваться: пропил денежки, а теперь ищет!
— Я поставил на банкнотах крестики химическим карандашом!
Наступила мертвая тишина. Только из-за стен крепости долетел жалобный напев нищего бербера.
— Пусть твои соседи выложат свою наличность, — сказал старшина комнаты Хомбре и первый выложил свой последний банкнот.
Гонзик тоже смело ткнул в нос соседу остаток своих денег. Только Жаждущий Билл стал пробираться к дверям. Его не пустили.
— Пустите, — попытался прорваться Билл. — Мне надо!
— Шалишь! Сперва выверни карманы.
Минута — и он лежал лицом вниз со скрученными за спиной руками и вывернутыми карманами. В них оказались восемь голубых банкнот — каждая с маленьким крестиком в уголке. Миг — и голова Билла оказалась плотно закутанной в одеяло. Хомбре держал, а остальные били вора кулаками.
Крик Билла был заглушен одеялом. Вместе со всеми бил и Гонзик. Пот у него катился по лбу и по спине, но Гонзик, крепко сжав кулак, бил и бил, чувствуя, что не может остановиться. Рев Билла только сильнее распалял его, глаза Гонзика помутились от гнева, и вот он уже пинал ботинком метавшееся под одеялом тело, испытывая радость — он мстил за собственное унижение. Наконец он, покачиваясь, отошел к окну, оперся локтями о подоконник. Он хрипло дышал. Трясущейся рукой смахнул с лица пот и еще плюнул в сторону Билла.
Билл, избитый до полусмерти, приподнялся и, сплевывая кровь, на четвереньках пополз к своей койке, но залезть на нее у него не хватило сил, никто ему не помог, и он так и остался лежать на полу, лицом вниз, и скулил, как издыхающий пес.
В тот вечер Гонзик прохаживался по казарменному двору, заложив руки за спину и опустив голову. Он все еще не мог опомниться. Ему казалось, что ходил здесь не он, а кто-то другой, но с его, Гонзика, больным мозгом. Этому другому словно принадлежали тело и душа Гонзика. Только подкованные ботинки легионера Гонзик ощущал реально на своих ногах.
Однажды в родной город Гонзика незадолго до того, как он убежал за границу, приехал бродячий цирк. В его зверинце Гонзик увидел куницу. Она вскочила на гладкий пенек, потом кинулась на проволочное плетение клетки, затем обратно на срубленное деревцо и снова на клетку, и так без конца. «Взбесилась в неволе», — сказал надзиратель. Удручающим, невыразимо грустным было это зрелище. И вот теперь Гонзик испугался, не уподобляется ли он взбесившемуся зверьку, бегая взад и вперед по двору казармы ЦП-3?
Что стряслось с ним сегодня вечером? Он хотел думать о другом — о своем наборном цехе, о Катке, о нюрнбергском мусорщике, а вместо этого он все время ощущал под рукой, сжатой в кулак, голову Билла, укутанную в одеяло. Зверь, хищник, взбесившийся от запаха крови? Им овладели стыд и какая-то незнакомая доселе тоска, хотелось бежать от самого себя, но куда бы он ни подался, всюду ему слышался крик избиваемого Билла. Гонзик направился к водопроводной колонке в углу двора, стал жадно пить и, черпая ладонями воду, лил ее себе на шею, на грудь. «Бежать отсюда, бежать, пока я не уподобился эсэсовцу, пока из меня не сделали садиста, которого пьянит человеческая кровь!»
Время — медлительная, бесконечная река, и все же она принесла нетерпеливо ожидаемый день: легионеры получили увольнительные. Как туча саранчи, наполнили они город шумом, гиканьем, дикой жаждой разгула, пьянства и любви. Трахнуть кулаком по столу, обругать официанта, накричать на кого-нибудь, кого-то унизить — ведь сами они до сих пор перетерпели бесчисленное множество обид и оскорблений. Теперь наконец-то они смогут приказывать и издеваться над тем, кто выполняет приказ! Теперь наконец-то они познают и любовь черных женщин!
Любовь — какое влекущее слово!
Однако туземные женщины избегали их. Они смотрели как-то странно, когда к ним приближалась белая пилотка, напяленная на отрастающий ежик волос. Хомбре, шедший справа от Гонзика, облапил девушку-туземку. Та возмущенно зашипела и ударила его по рукам с такой силой, какую никто не предположил бы в ней. Резким рывком левой руки берберка закрыла лицо бурнусом и убежала. На противоположном тротуаре поднялся босой бербер, черное лицо мужчины сделалось серым, а светло-желтые ладони бессильно сжались в кулаки. Бербер стоял неподвижно, прижавшись к шероховатой штукатурке стены. Но в глазах его полыхало пламя такой ненависти, что у Гонзика даже мороз пробежал по коже.
Потом пили коньяк в арабском кафе. Визгливый оркестрион на минуту напомнил Гонзику Мерцфельд и «Максима». Черные официантки терпеливо сносили хамство гостей в военном обмундировании. Если бы девушки вздумали роптать, хозяин-француз завтра же выбросил бы их на улицу. Сегодня — день кутежа, торговый праздник Бельабес.
Потом охмелевший Гонзик играл на бильярде. Затем безуспешно совал в настенный шкаф-автомат монетки. Кто-то утверждал, что этот автомат продает предохранительные средства, но в конце концов из машинки выпала полурастаявшая швейцарская шоколадка.
Гонзик не помнил, как очутился в коридоре публичного дома. Сегодня день кутежа. Необходимо ублажить сто пятьдесят солдат! Это очень большая нагрузка для заведения. Толстая хозяйка с усиками под тупым носом вспотела от волнения: эта «операция» застигла ее врасплох — комендант крепости выпустил солдат на день раньше условленного срока. Было отчего вспотеть! Расстроенная, она посылала берберскую девчонку в город за подкреплением, а сама время от времени выбегала к легионерам и, скаля зубы в ободряющей улыбке, хриплым голосом успокаивала ожидающих.
Наконец пришел черед Гонзика. Но на пороге заветной комнаты им вдруг овладел стыд. В спальне стоял острый запах нечистого тела и дешевых духов. Гонзик смотрел на широкие розовые ноздри девицы, на ее увлажненные потом смолисто-черные волосы и пестрый шелковый халат, напоминавший халат Баронессы. Гонзику стало страшно. Девица показалась ему каким-то механизмом. А ведь она, вероятно, чему-то огорчается, смеется и радуется. Есть у нее душа или нет?
— Я — чех, Богемия, Прага, понимаешь? — сказал он смущенно. Ничего лучшего не пришло ему в голову.
Девица устало улыбнулась толстыми губами.
— Ах, Варшава, — девица начала что-то говорить о поляке-сержанте, который тоже был из Праги[161].
Ни о чем больше Гонзик не смог с ней поговорить: его возлюбленная без стеснения глянула на часы, положила сигарету на край пепельницы. Гонзик закрыл глаза, нахлынувшая волна подняла его на страшную высоту, и вот он уже упал в пропасть.
Гонзик стоял в душной комнатке, девица снова закурила. У нее была норма: по сигарете на посетителя. Поправив перед зеркалом волосы, она зевнула во весь рот; глаза у нее были усталые. И вдруг, тронутая полудетским лицом задумавшегося солдатика, она неожиданно улыбнулась, обнажив белоснежные зубы, и сделала нечто сверх своих обязанностей: погладила Гонзика по щеке.
Гонзик пошатывался, когда спускался вниз по скрипучей лестнице. Он старался не встречаться глазами с однополчанами, нетерпеливо ожидавшими своей очереди. Перед ним мелькнуло европейское лицо метрессы, покрытое крупными каплями пота. Но тут перед глазами Гонзика возникла другая картина: блестящие гневом глаза и бессильная ярость человека, прислонившегося к стене.
Первый свободный день кончился. Осталась головная боль, во рту — кисловатый привкус вина, тяжесть в желудке и на душе. И еще более жгучая тоска по маленькому кусочку земли далеко за морем. Южный ветер не приносит туда знойного дыхания пустыни, и одинокий гриф не кружит там в голубых высотах, и не увидишь в тех краях покрытого серой пылью двугорбого корабля пустыни, но девушки в минуты любви шепчут там чешские слова.
Ему не хотелось спать, и он зашел в трактир. Здесь Гонзик увидел новых людей. Он сразу догадался, кто они: заросшие, загорелые, словно высушенные лица, а в глазах какой-то особенный, еле уловимый отпечаток умиротворения и облегчения. Гонзик услышал чешскую речь и подсел к столу.
Человек средних лет пил марокканское вино большими размеренными глотками.
Гонзик поздоровался. Солдат в измятой замусоленной куртке удивленно повернул к нему узкий череп.
— Вы чех? — спросил Гонзик, смущаясь.
— Нет, бушмен, — прозвучал ответ. Этот однорукий человек с лицом, покрытым тонкими резкими морщинками, в которые въелась пыль, явно не проявлял склонности к разговору.
— Вы возвращаетесь, да? — настойчиво продолжал свои расспросы Гонзик.
— Чего тебе надо? — Солдат приподнял верхнюю губу, и только теперь Гонзик заметил, что она была сшита хирургом. — Презерватива у меня не найдется.
Гонзик смешался.
— Я хочу узнать, как там…
Легионер весело посмотрел на него. Левой рукой он выловил бумажку, жестяную коробку и виртуозно скрутил одной рукой козью ножку, подбородком прижал спички к груди и раньше, чем Гонзик успел ему помочь, чиркнул, уронил коробок на стол и с удовольствием затянулся.
— Как там, говоришь? Санаторий! — солдат сдвинул белую пилотку со лба на затылок и стал серьезным. — Но выдержать можно, Франтишек, — не торопясь, говорил он, — особенно если ты счастливчик. — Легионер без причины рассмеялся. Мелкий, неожиданно высокий смешок не вязался с его угловатой фигурой. — Только счастье разное бывает. Мне, к примеру, предстояло тянуть лямку еще два года, и вот привалило счастье. — Он кивнул на свое правое плечо. — День, когда мне отняли руку, был самым счастливым в моей жизни. — Легионер посмотрел куда-то вдаль, сквозь Гонзика, голос его окреп, на губах появилась мечтательная улыбка. — Теперь вот получу штатскую одежонку, и пусть хозяева поцелуют меня в зад! — Он стряхнул пепел на стол, допил вино и вытер мокрые губы.
Пальцы Гонзика непроизвольно царапали доску стола. Легионер-инвалид заказал новую бутылку вина. Вокруг его головы словно сиял ореол тихого счастья.
— Выпей, Франтишек, кто знает, что ждет тебя… Я иду на покой. — Его одолел короткий приступ ребяческого смеха.
Вино помогло. Солдат сказал наконец несколько толковых фраз.
Два года назад наш транспорт пристал в Сайгоне. Хороший город, роскошная жизнь: казино, бабы, словом — культура! У нас была даже футбольная команда. — Легионер левой рукой извлек из нагрудного кармана потертый бумажник и высыпал из него несколько потрепанных фотографий: волейбольная площадка, спортсмены — в трусиках, один гасит мяч. Если бы на заднем плане не торчали орудийные башни крейсера, можно было бы подумать, что фотография сделана дома, в Чехословакии. На другом снимке — бронеавтомобиль, разрисованный французскими надписями, по обе стороны — легионеры в шортах, в позе трубящих горнистов, только вместо горнов у них бутылки из-под вина. В центре — он сам, теперешний сосед Гонзика, еще не однорукий, а рядом — маленькая красивая вьетнамская девушка в длинном пестром одеянии. Гонзик украдкой посмотрел на пустой рукав соседа, засунутый за ремень гимнастерки. И еще снимок: офицерская столовая, за хорошо сервированными столами — упитанные лица, коротко остриженные белокурые головы, склонившиеся над обильной жратвой. Гонзик сразу же угадал по наглости в лицах бывших эсэсовцев. Около этой компании склонился туземец-официант в белом фартуке.
— У меня было больше таких снимков — сгорели, — равнодушно сказал сосед Гонзика и расстегнул ворот куртки. На груди у него между густыми черными волосами светлела плешина, затянутая сморщенной, неестественно розовой кожицей. — Шерсть на этом месте уже не растет, и загореть эта чертовщина тоже не хочет, — сказал легионер и опрокинул в рот очередной стаканчик вина.
Гонзик молчал, не зная, что еще спросить.
— Полтора месяца мы блаженствовали, — продолжал после минутного молчания легионер. — Потом приехала комиссия: адъютант, полковник, в общем, самая сволочь, и разобрали нас, как баранов, для пополнения стада вместо тех, которых волки сожрали. Офицеры так и говорили: les loups[162], и смеялись. Да, Франтишек, Донгой — это, брат, крепость где-то на самой сиамской границе, среди джунглей. Война! — Легионер посмотрел на часы и умолк.
Трактир был полон шума и табачного дыма. Под потолком, без всякой пользы, еле-еле вращался вентилятор. В дальнем углу кто-то стал наигрывать на гармонике тягучий, немного гнусавый французский мотив.
— А… на фронте как было? — упорно настаивал на своем Гонзик. Он и сам догадывался и не хотел об этом слышать, но все же должен был спросить. — Что у них за армия?
Однорукий приподнял бровь.
— Нам говорили, что это не армия, а партизаны, бандиты, которые не берут пленных. Вранье!
— А вы?
Собеседник Гонзика помрачнел и покачал головой. В его голосе послышалось раздражение.
— Да их все равно было немного… — Легионер глубоко вздохнул. — Пленных мы не брали.
— А… страшно вам было?
Человек шумно поставил свой стаканчик, некоторое время с беспокойством смотрел Гонзику в глаза, потом усмехнулся.
— Да ты, я вижу, не Франтишек вовсе, а Ярда[163]. — Легионер выпрямился на стуле и сладко потянулся.
Странное чувство возникло у Гонзика, когда его сосед широко расправил свою единственную руку, словно выбросил ее для удара.
— Погоди, парень, встретишься с женским полком, узнаешь, что такое страх, — инвалид хрипло засмеялся, на его лице появилось выражение превосходства старого вояки над молодым, необстрелянным юнцом. Но вскоре он близко наклонился к Гонзику, дохнув ему в лицо винным перегаром, и зашептал: — Человек всегда дурень, когда делает что-нибудь в первый раз. Теперь-то я знал бы, как поступить. Суэц, Франтишек! Это международная зона, там нельзя стрелять по убегающему ни с корабля, ни с берега, и пароход не имеет права останавливаться в канале… Жаль, что об этом я узнал лишь теперь. Это, конечно, нелегко, но на всем пути от Марселя до самого фронта ты уже не найдешь другой возможности. — Потом он швырнул на стол измятые деньги, указательным пальцем прикоснулся к пилотке и, покачиваясь, зашагал прочь.
Пальцы Гонзика все еще царапали край стола. Изумленный юноша смотрел на дверь, в которой исчезла широкая спина однорукого легионера.
Под потолком медленно и без всякой пользы вращался большой вентилятор.
32
Однажды вечером Капитан вернулся в полупустой барак; в обезлюдевшей комнате гулко отдавались его шаги. По его рассеянному взгляду Вацлав догадался: что-то стряслось. Капитан распахнул окно, возвращаясь к своим нарам, ни с того ни с сего положил руку на плечо Вацлава и искоса посмотрел на него, затем вернулся и закрыл окно. Тяжкое предчувствие вдруг стеснило грудь Вацлава. Он понял, что завтра останется один.
— Сегодня утром, дружище, в пятидесяти метрах от меня у автобуса лопнула передняя ось, и он въехал на тротуар, прижав кого-то к витрине. — Капитан говорил непривычной скороговоркой. — Еще до того, как приехала «скорая», человек отдал богу душу. Это был слесарь-водопроводчик: кто-то его узнал. Тут же я собрал разбросанный инструмент покойника и отнес хозяину. Благо предприятие было недалеко. — Капитан тянул застрявший ремень плечевого мешка, робким взглядом скользнул по Вацлаву и с виноватым видом снова принялся за работу. — Мне привалило счастье, дружище, правда, я буду получать на сто двадцать марок меньше покойника.
Страница книги, которую переворачивал Вацлав, задрожала.
— Ты знаешь это ремесло?
— Даже не нюхал. Но ведь любой чех может исправить водоспуск в клозете.
В пустой комнате воцарилась продолжительная тишина. Вацлав рассеянно блуждал взглядом по опустевшим нарам, избегая смотреть на нары Капитана. Он ни о чем не думал. У него начало дергаться веко, это его злило.
Капитан разбирал свои пожитки и перекладывал их из мешка в чемодан. Оба молчали. У Капитана вещи падали из рук, молчанию не было конца, но вдруг он покраснел и громко стукнул крышкой чемодана.
— После двух лет прозябания в лагере могу я поступить на работу и жить как человек? Думаешь, мне нравилось опорожнять пепельницы, бегать на свалку, красть? — Голос Капитана гулко звучал в пустой комнате.
Побледневший и изумленный Вацлав захлопнул книгу.
— Я… я же тебя ни в чем не упрекаю.
Капитан сломал несколько спичек, закурил. Затем швырнул чемоданчик на полку. Побагровевшее лицо его постепенно обрело нормальный цвет, он успокоился. Сел за стол на самый край лавки, голос его стал мягче.
— Я и впрямь не в ответе за то, что место было одно-единственное и что подвернулся под руку я.
Вацлав прикоснулся к его руке.
— Когда переезжаешь?
— Завтра. Я унаследовал от покойника все: каморку и обеды у хозяйки.
На следующее утро Капитан протянул Вацлаву широкую ладонь.
— Не прощаюсь, Вашек. Ведь я буду недалеко, почти за углом. — Его голубые глаза смотрели уже куда-то вдаль, им уже виделся другой мир, там, за воротами лагеря.
Все его существо светилось каким-то непостижимым обновлением, нетерпеливым энтузиазмом тех счастливцев, которые уже не должны больше переступать порог лагеря. И все же Капитан еще как-то неуклюже мотался по комнате, против своей воли оттягивая момент ухода. Почесал всей пятерней голову.
— Знаешь, — подмигнул Капитан, — как одна хозяйка ломала голову, почему это из буфета слышится скрежет? Оказывается, ржавчина жрала вилки!.. Плитку я тебе оставляю, а то ты с голоду помрешь, — добавил он быстро, стремясь заглушить внезапно возникшее сочувствие к Вацлаву. — А футбольный мяч хочешь? Скоро будет тепло…
Вацлав, вяло улыбнувшись, взял только плитку с поломанным шнуром, замотанным во многих местах изоляцией. Наконец за Капитаном захлопнулась дверь. Вацлав минуту смотрел на нее, потом с ледяным спокойствием подумал про себя:
«Я его больше не увижу».
Глухая пустота комнаты проникала ему в уши беспрерывным звоном стекла. Только размеренные удары сердца нарушали этот жуткий, назойливый тон.
Они с Капитаном могли бы давно переехать из этой комнаты, но пришли к выводу, что удобнее жить отдельно, словно в номере гостиницы. Здесь им не приходилось слышать храпа соседей, дышать спертым воздухом. Но где-то глубоко в подсознании Вацлава, как раковая опухоль, нарастал смертельный страх перед тем моментом, когда он окажется здесь последним обитателем. Больное воображение Вацлава смутно связывало этот момент с категорическим выводом: последние узы порваны, ты свободен, никого уже не интересует, что ты сделаешь с собой, никто об этом даже не узнает.
Он бродил по опустевшей комнате. Человечество вымерло, осталось лишь эхо от шагов самого Вацлава и за окнами барака безбрежная пустыня.
Веко непрерывно дергалось.
«Что-то должно произойти, или меня увезут вслед за мамашей Штефанской».
Вацлав выбежал из комнаты.
Он шел по весеннему лагерю, мимо церкви и школы. За домом священника — новые, выкрашенные желтым бараки. Вацлав вошел в один из них. Рука его два раза поднялась и снова опустилась, но наконец он все же постучал и нажал ручку двери.
На лице Катки — ужас. Она вскочила и оглянулась вокруг: к ней ли он? Потом села на американскую походную койку, погасила сигарету, сбросила домашние туфли и нащупала под койкой лодочки.
Они молча вышли. Вацлав остановился и в первый раз после долгих месяцев разлуки прямо посмотрел в ее лицо.
— Я, Катка… должен был прийти. — Он сорвал стебель прошлогодней травы и стал наматывать его на палец. — Я был бессмысленно груб в тот раз…
Она поглядела на его ввалившиеся щеки.
— Зачем извиняться? Ведь это не так уж важно.
Он глотнул воздух.
— Не сердись, тогда все это было так ужасно!
Она остановилась, еле заметно скривила губы, тонкая морщинка прорезала лоб.
— Я не хочу, чтобы ты об этом говорил. Мне это начинает казаться банальным…
Вацлав умолк, почувствовав, что зашел в тупик.
Они шли куда глаза глядят. Прилетевшие недавно скворцы бороздили небесную синь, лопались почки персиковых деревьев, в воздухе чувствовались первые запахи новой весны.
— Моя вторая весна здесь. Катка. Уже два года я не учусь. Вчера я силился припомнить, как называются нервы мозга. Fasciculus opticus., silla olfactoria, oculomotorius… а что потом, я так и не вспомнил. Как же из меня может получиться врач, если я постепенно все забываю?
Катка тревожно посмотрела ему в глаза, но ему показалось, что ее участие — просто жалость.
— Никак не могу понять, почему я не получил паспорта политического эмигранта, я, единственный из нашей троицы, у которого были политические причины для эмиграции. А пани Ирма, когда я ее спрашиваю, всегда отвечает уклончиво.
Катка со стороны смотрела на своего собеседника. Молодой человек, а спина его с прошлой весны согнулась, ноздри прямого носа стали словно восковыми.
Милосердное время — вечный ветер, сдувающий сгнившие листья людского гнева легче, чем весомые воспоминания о хорошем.
— Будет лучше, если я тебе объясню.
— Откуда ты знаешь?
— У меня есть знакомая девушка в Чешском комитете, я вязала ей свитер. Она мне сказала, что против твоего имени в учетной карточке написано: «Not eligible»[164]. Не знаю, что произошло между тобой и американскими органами либо папашей Кодлом.
— Почему ты мне раньше не сказала об этом?
— Тебе и без того несладко. К тому же ты не разговаривал со мной…
Веко снова задергалось. Сердце Вацлава давно чуяло неладное, и все же от рассказа Катки его начало знобить. Он шел в двух шагах от нее, и со стороны было видно, как под его пиджаком отчетливо выступали лопатки. Сердце Катки наполнило неожиданное сочувствие.
— До сих пор все дорого платили за разногласия с папашей Кодлом, — сказала она.
Резкий порыв сырого ветра полоснул вдоль главной улицы лагеря. Катка передернула плечами и зябко съежилась.
Вацлав пригласил Катку к себе на чашку чаю и в ответ на ее недоуменный вопрос, добавил, что остался в комнате один.
К его удивлению, она согласилась.
Вацлав кипятил чай на плитке, которую оставил ему Капитан. Лишь в благодетельном присутствии Катки он черпал силы, чтобы устоять перед полученным сегодня новым ударом судьбы. Он старался вытравить тяжелое воспоминание о том, что произошло между ними в начале прошлого лета, о мучительных месяцах, которые потянулись потом. Все было следствием чрезмерной раздражительности, обретенной в Валке. Но теперь возле него сидела новая женщина, которая была только похожа на ту, которую он когда-то любил. Ну и пусть, лишь бы как-нибудь уйти от холодного одиночества, в котором он мечется на краю погибели, на грани последних сил.
Они согревали окоченевшие в пустой холодной комнате ладони о чашки с чаем. Вацлав не выключил плитку и поставил ее у ног Катки.
— Сегодня в полдень уже во второй раз со мной происходит странная вещь. — Вацлав прикоснулся к руке Катки. — Думаю о маме и, представь, не могу вспомнить ее лица. Вижу ее перед собой, ее жесты, как она открывает буфет и берет сахарницу, расчесывает перед сном волосы — она постоянно беспокоилась, что они выпадают; а вот лицо ее забыл. Не помню — серые у нее глаза или зеленоватые. Это ужасно, Катка. Убийственно сознавать, что даже самые дорогие тебе существа уходят из твоей памяти…
Она испытующе и встревоженно смотрела ему в лицо.
— Я помню мать совершенно отчетливо, но не надо говорить о доме!
И опять тонкая морщинка пролегла поперек ее лба Катка встала. Им овладел страх.
— Не уходи, прошу, я… я тут сегодня не могу быть один…
Он выглянул в окно.
— Ведь льет, — радостно сказал Вацлав. — Ты промокнешь. — Он отошел от окна и схватил Катку за руки. — На улице дождь, как в тот раз, в хижине на свалке… Помнишь?
На Вацлава снова нахлынули чувства давних дней Потухшее было волнение ожило вновь от прикосновения ее тонких пальцев и нежного, пьянящего аромата волос. Страсть и тоска, пропасть одиночества и искра надежды…
— Останься, Катка… — молил он.
И в ее глазах тоже ожили следы чего-то прежнего, недосказанного. Она шевельнула рукой. Вацлав быстро повернул ключ в дверях…
Темнота и дождь, стучащий в окно, — как тогда, как тогда…
Тепло женского тела, безумное желание вознестись куда-то ввысь… Как ждал он этого, трудно даже поверить, что его мечта сбылась! Забыться, забыть обо всем.
Нет, забыться нельзя, его ослабевшие крылья не поднимут его над прахом.
Дождь равнодушно бьет в окно, черная темнота проникла в душу Вацлава — вокруг него безвоздушное пространство, пустыня…
Все еще прекрасное тело, и оба они — рожденные для синих высей под облаками… Никогда Вацлав не чувствовал с такой силой, что он словно налит свинцом, что он притиснут к земле. Никакие иллюзии, никакое притворство не помогут ему подняться.
— Катка, осталось в тебе что-нибудь от того, что было вначале?
Ее голос — бесцветный, голос бескрылого существа.
— Не знаю… Я… не вспоминаю.
Как вернуть силу ослабевшим рукам?
— Но ведь без любви нельзя дышать, Катка…
Чиркнула спичка, огонек сигареты движется в темноте.
— Любовь и Валка. Бессмыслица. Ты придаешь слишком большое значение вещам, которые не имеют значения.
Горячими ладонями он взял ее вялую руку.
— Что же имеет значение?
— Ничего.
А потом эта девушка ушла, улыбнулась, сказала: «Доброй ночи», — и не пожала даже руки. Полтора года ждали они этой минуты, и вот Катка спокойным шагом идет к двери, даже не поцеловав его на прощание.
Островок, единственный и последний, к которому ты стремился доплыть. Но едва ты прикоснулся к нему рукой, он неслышно ушел под воду.
На следующий день Вацлав собрал остатки своих вещей. Сегодня, стало быть, их комната совсем осиротеет.
Кто-то постучал. Он удивленно обернулся — здесь уже давно отвыкли от вежливости.
В дверях стоял профессор Маркус!
Вацлав уронил на стол сверток с бритвенным прибором. Словно лунатик, приблизился он к Маркусу. Они обнялись. Юноша на своей щеке почувствовал шершавую, колючую щетину старика.
— Профессор, вы все-таки за мной приехали! — Вацлав взял его под руку.
Маркус как-то странно, по-стариковски передвигал ноги. Под наплывом внезапной надежды с Вацлава свалился гнет страха за будущее. В первый раз после долгого времени его охватила радость.
— А я уже начал сомневаться, что вы когда-нибудь выполните свое обещание. Я думал, что вы такой же себялюбец, как и остальные.
Вацлав суетливо начал готовить чай и тут же бросился помогать профессору снять заношенное зимнее пальто. Чемодан профессора все еще стоял посреди комнаты. Маркус избегал взгляда Вацлава, его рука развязывала и завязывала кашне. Он даже забыл снять шапку. Маркус оглядывал опустевшую комнату, расспрашивал о судьбе прежних ее обитателей. Вацлав отвечал через пятое на десятое, наливая горячий чай. В конце концов это мучительно — рассказывать о человеческих трагедиях и улыбаться своему личному счастью.
— Но вы мне до сих пор ничего не сказали, профессор, о своих делах… и о моих.
Профессор допил чай, встал и прямо посмотрел в лицо Вацлаву. Потом поднял с пола чемодан и положил его на свои бывшие нары.
— Я, Вацлав… Я пришел не за вами. У меня кончились деньги, и мне придется жить здесь некоторое время, пока я не получу места.
Слабый шум в ушах резко усилился, что-то внутри Вацлава оборвалось, причинив острую боль. Лицо его посерело, явственное чувство холода где-то внутри головы, ощущение, что мозг вдруг обнажился.
— Какое место?
Маркус с каким-то неимоверным напряжением поглядел на дырявый сенник, на ржавые гвозди в брусьях верхних нар, на которые некогда он вешал одежду.
— Немецкие учреждения обещали мне место учителя в женской гимназии.
Вацлав онемел от изумления, в голове по-прежнему чувствовался холод.
— Вы, социолог?
Слова старика проникали в сознание Вацлава словно сквозь фильтр и превращались в монотонные звуки, смысл которых Вацлав улавливал лишь наполовину. Теперь ничто уже не волновало его.
— Мои политические характеристики оказались катастрофическими. Парадоксально: полная, плодотворная жизнь завершается пустотой. Это не совсем понятно, но оказалось, что я не связан ни с кем: от родины я сам отрекся, а эмиграция отреклась от меня.
Профессор, кряхтя, улегся на нары, отдышался, вперив выпуклые глаза в верхние нары. Его толстый указательный палец с докторским перстнем механически ощупал дыру от выпавшего сучка, зиявшую в подпорке. Старик ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу воротничка.
— Мне шестьдесят пять лет. Моя внучка в нынешнем году пойдет в школу. Она любила меня, может быть, даже больше, чем отца. Для нее было бы тяжело узнать, что дедушка полз домой через границу, словно контрабандист, и где-то в лесу его затравили собаки…
Все слабее и слабее, как будто из туманной дали, долетали до ушей Вацлава спокойные, монотонные слова.
— Удивительное ощущение, коллега. В один мир я не в силах вернуться, а этот, другой, от меня отрекся… Нет, я ушел на Запад не за большим заработком, не за славой, а потому, что я не мог изменить своему мировоззрению.
Вацлав едва улавливал смысл его слов, хотя профессор заключал не только свою, но и его, Вацлава, скорбную исповедь.
— Здесь, в Валке, на вопрос Капитана, чего я жду от Запада, — может, вы были свидетелем этого разговора? — я ответил: избавления от травли, которой меня, как я предполагал, подвергнут на родине. Я не желаю, сказал я тогда, быть свидетелем уловления душ и несправедливых обвинений. Я говорил тогда и об измене нашей интеллигенции, перешедшей на сторону нового строя… Понимаете, какой это был страшный фантом?
Профессор скрестил руки на груди. У Вацлава промелькнула чудовищная мысль: он словно мертвец в гробу.
Профессор продолжал:
— Материальное банкротство — тяжелый удар, вещь неприятная, но это можно перенести, если у человека есть твердая воля. Но если ты банкрот идейный, политический — это духовная смерть. Вацлав… — Маркус неторопливым жестом положил ладонь на глаза и надолго застыл в такой позе.
Вацлав не отдавал себе отчета, кто говорит эти слова: профессор Маркус или он сам.
— Мир, который я осудил на погибель, шагает вперед, живет и крепнет, тот же, к которому я простирал руки, рано или поздно погибнет, сгниет… Печальная судьба — стать зернышком между жерновами двух эпох. Если бы я нашел в себе силы преодолеть позор перед своей семьей, перед народом… Впрочем, я слишком стар и уже не гожусь для авантюр нелегального возвращения…
После этого разговора Вацлав жил в какой-то летаргии, словно смотрел на себя со стороны. И все-таки где-то в глубине души он подводил итоги, все пережитое приобретало формы, отчетливые контуры.
Каков результат твоей одиссеи в Западной Германии? Беспрерывный ряд проигрышей. Ты имеешь право выйти из игры!.. Not eligible, нежелательный или что-то в этом роде. До сих пор каждый тяжко расплачивался за недоразумения с папашей Кодлом. Отечески заботливый пастырь своих овечек, владыка их жизни. Зачем убивать овцу? Есть такие пути, на которых она погибнет сама.
Катка, его любовь. Двое измученных, опустошенных людей — погасшие глаза и погасшие сердца. Раньше или позднее, но горение угасает, ведь и для самого маленького огонька нужен кислород.
Вацлав часто думал о профессоре. Единственный выдающийся человек из тех, кого он здесь узнал. Словно гранитная скала, возвышался он над поверхностью этого моря стоячих вод. Вацлав часто представлял себе, как Маркус входит в университетскую аудиторию в Кембридже или в Чикаго, снова хорошо одетый, уверенный в себе. Индивидуальность. Студенты затихли, поднялись, приветствуя его.
Нет. Профессор-социолог Маркус снова лежит на своих нарах с вонючей гнилой соломой, в грязной рубашке с обтрепанным пожелтевшим воротничком. Он жарит на маргарине несколько картофелин, ест селедку и ждет места учителя истории в женской гимназии.
Not eligible, нежелательный или что-то в этом роде: никакое высшее учебное заведение не примет студента, у которого документы не в порядке. А твои руки слишком слабы, чтобы копать каналы, грузить уголь, носить мешки с пшеницей. Нет, он бежал сюда не за карьерой поденщика. Может быть, со временем тебе дадут Fremdenpass. Эта бумага откроет перед тобой двери для безвозвратного выезда из Германии. С этим паспортом ты сможешь поехать и за океан. Поначалу ты обязан представить подтверждение, что тебя там кто-то принимает на работу. Однако никто не пожелает принять на работу not eligible. Так замыкается круг, из которого нет выхода.
Хотя, впрочем, выход есть. Правда, всего один.
Вацлав шел в город. Навстречу двигались машины, люди… Он смотрит на молодую мать с детской коляской, на рабочего, несущего термос с кофе. Вот две девушки, обнявшись и громко смеясь, поверяют друг дружке свои любовные дела. У Вацлава такое чувство, что хотя он еще и ходит среди живых как живой, но уже мертв.
Острый запах весенних цветов отвлек его. Сады предместья уже пестрели желтыми звездочками форзиции.
Перед глазами Вацлава — плачущая мать. Она обливалась слезами все время перед его отъездом, когда уже и она и отец, не видя другого выхода, наполовину согласились с побегом Вацлава — оба непоколебимо верили, что он скоро вернется дипломированным врачом.
А Мерцфельд утопает в желтом половодье форзиций.
Вот и маятниковые двери «У Максима».
Вацлав оглядывается по сторонам: давно он тут не был. Ничто не изменилось с того момента, когда он впервые вошел сюда. Только сутулая спина генерала еще более сгорбилась, да шея буфетчицы Маргит требует теперь больше косметических средств, чтобы прикрыть новые морщины. Один только визгливый оркестрион противостоял воздействию времени. Он прожил уже полстолетия, проживет, вероятно, и еще больше и своим варварским ревом неутомимо будет приветствовать торговлю любовью и краденым товаром.
Свободных столиков не было, и Вацлав присел к столу, где уже сидели трое юношей. Изумленные лица, глаза, с ужасом скользящие по завсегдатаям кабачка, пестрому сброду из Валки. Вацлав невольно вспомнил о своих товарищах: Ярде, Гонзике. У них были точно такие же испуганные глаза и тоскливая мысль: что-то должно с ними произойти — прочь, прочь отсюда.
— Вы здесь уже давно?
— Два дня.
На губах Вацлава снисходительная улыбка.
Ребята, словно ожидая от него спасения, рассказали свою историю. Они ехали, чтобы работать в молодежной бригаде на Шумаве, в поезде познакомились с девушкой, та уговорила их остановиться в соседней деревне у ее дяди, там им будет лучше. В воскресенье они отправились на прогулку к истокам Влтавы. Шли, шли, и вдруг перед ними западногерманский пограничный патруль: «Halt!» Опомнились ребята уже в Пассау, а их приятельница как сквозь землю провалилась.
— Как она выглядела?
— Блондинка, пухлые губы, курносый носик, на щеках угри, водянистые глаза. Назвалась Мартой.
Вацлав устало прикрыл глаза.
— Она сказала вам неправду. Ее зовут Ганка.
Ребята открыли рты от изумления, но Вацлав встал: в дверях показалась знакомая личность: сдавленный череп, узкие плечи, отвратительные выпученные глаза. По знаку Вацлава Колчава молча последовал за ним в каморку позади распивочного зала. Маргит ногою захлопнула за ними дверь.
— Мне нужен бы пистолет.
— Сто тридцать марок.
— Не валяй дурака, где я тебе их возьму? Отдам тебе все, что имею. Оставлю только несколько пфеннигов, чтобы уплатить по счету.
Колчава пересчитал содержимое бумажника Вацлава и отрицательно замотал головой. Внезапно его глаза жадно заблестели, и он молча показал на запястье Вацлава.
Вацлав возмутился.
— Вымогатель! — Но, к изумлению Колчавы, покорно отстегнул часы и подал ему.
Человечек поднес часы к глазам и проверил фирму, затем для верности приложил их к уху.
— Сколько патронов?
— Один.
Колчава разинул рот, испытующе посмотрел на дергающееся веко Вацлава. Поскреб в затылке, грязным пальцем потер глаз.
— Спятил, камрад?
Вацлава одолело нетерпение, торг продолжался слишком долго.
— Как взвести курок?
Колчава как-то смешно наморщил лоб, глубоко вздохнул, помрачнел и с озабоченным видом протянул руку.
— Верни пистолет. С такими делами я не связываюсь.
Вацлав побледнел.
— Он мне нужен! Я уже купил. Давай патрон!
Колчава нерешительно подошел к окошку, выходящему во двор. Узкой ладонью сжал в кармане дорогие часы, рассеянно поглядел на потрескавшуюся стену противоположного дома. «Как это до сих пор штукатурка не отпала?» — подумал он, чувствуя на себе напряженный взгляд Вацлава. Рука Колчавы дважды как-то неуклюже и нерешительно протягивалась за патроном и дважды возвращалась с полпути. Наконец, скорбно склонив голову, опустив глаза, он выловил из кармана патрон и всунул его в обойму. Потянув вечно мокрым носом и изобразив на лице сочувствие, Колчава по доброте душевной прибавил в обойму еще один патрон.
— Курок взводится так, — показал он.
Колчава следил за Вацлавом. Парень еле добрел до своего столика, кликнул официанта.
Колчава мотался у распивочной стойки. Он незаметно надел часы и угостил себя коньячком за удачно проведенную операцию. Утирая ладонью мокрый нос, Колчава время от времени искоса поглядывал в сторону Вацлава. Бледное неподвижное лицо юноши, маячившее сквозь завесу табачного дыма, снова и снова привлекало его беспокойный взгляд. Наконец Колчава не выдержал. Он швырнул на стойку пять марок, хлопнул по бумажке рукой и пошел к выходу, подергивая острым плечом. На улице, недалеко от входа, понуро стояли три новичка. Колчава приблизился к ним и засучил рукав.
— Двести марок. Купите, их можно перепродать за триста на первом же углу. Докса, четырнадцать камней.
Выйдя из душной, тяжкой атмосферы «Максима» на улицу, Вацлав приободрился.
Карман его брюк оттянулся под тяжестью револьвера — этот предмет сосредоточивал в себе для Вацлава чувство уверенности и освобождения. Вацлав по привычке хотел взглянуть на часы, но увидел лишь голое запястье и усмехнулся уголками губ. Трамвай со скрежетом проезжал круг конечной остановки, оборванные мальчишки с отчаянным видом цеплялись за вагоны и объезжали вокруг площадки. Сгорбленная старушка в черной старомодной шляпке постукивала по тротуару клюкой.
Вацлав, не торопясь, шел к городу. Аромат весны все гуще смешивался с запахом выхлопного газа. Сигналы клаксонов, шуршанье шин по асфальту, шум большого города успокаивали, избавляли от чувства одиночества. Знакомая зеленая решетка, желтые флигели, больные в полосатых халатах на ясном весеннем солнце.
Вацлав поднялся по широкой белой лестнице, прошел мимо длинного ряда коек в большом общем зале третьего класса.
Мария удивленно раскрыла глаза, быстро села. Неуклюже отодвинула от кровати стул для него, тоненькой рукой начала шарить в тумбочке.
— Я даже не причесана, а вы так… неожиданно… вдруг… — От волнения язык ее заплетался. Она начала поспешно приглаживать перед маленьким зеркальцем волосы, румянец залил ее пожелтевшие щеки. — А папа и мама почему не дают знать о себе? Я не знаю их адреса, и куда им писать…
Вацлав думал, что бы ей сказать, но Мария уже переменила тему. Она нагнулась с койки, в нижнем ящике ее тумбочки в пакете желтели свежие апельсины.
— Кушайте! Папаша Кодл навестил меня позавчера и принес целый килограмм. Он очень мило со мной побеседовал, а маме — помните? — подарил ботинки. Папаша Кодл — золотой человек… Нет, нет, вы обязаны взять, иначе вы меня обидите! — И она заставила его взять апельсин; дышала Мария тяжело и прерывисто.
Вдруг девушка схватила Вацлава за руку, высунула из-под одеяла ногу и надавила его указательным пальцем на свою отекшую щиколотку. Образовавшееся углубление медленно и долго выравнивалось.
— Не проходит, нет улучшения, с сердцем плохо.
Вацлав сидел с апельсином в руке и оцепенело глядел в ее взволнованное лицо. У него мелькнула мысль: симптомы совпадают: кислородная недостаточность в легких, добавочная нагрузка на сердце… Еще три года, и ты, Вацлав, был бы врачом!
Мария опасливо оглянулась на соседок, приглушила голос, в ее лихорадочных глазах отразилась озабоченность.
— И Казимир все не идет и не идет. Иногда мне начинает казаться, что он уже вообще не придет… А папаша Кодл говорил, чтобы я не беспокоилась: за мое пребывание в больнице заплатит Füsorge. Я здесь как принцесса: на завтрак молоко, булочка с маслом, пан доктор приходит, справляется о здоровье, только есть мне не хочется. Ах, если бы Казимир…
Вацлав не старался понять ее польскую речь. Мария же решила воспользоваться редким случаем и наговориться досыта.
— Почему наши мне не пишут? Я не виновата, что заболела. Чего они на меня обозлились? — Она откинулась на подушки, неестественно вытянув шею, ей было трудно дышать. Обессиленная, она попыталась снова сесть.
— Подожди, я помогу. — Он взял ее под мышки, посадил и ужаснулся: она была легкая, как ребенок.
Вдруг ему стало стыдно за то, что она так катастрофически исхудала. Этот стыд был бессмысленным, и он разозлился сам на себя. Да и вообще, зачем он сюда пришел? Но тут же он нашел ответ: «Ведь мы с ней последние из одиннадцатой комнаты дотянули до самого своего конца…»
— Напишите им, что вы у меня были, вам они ответят, ведь я им ничего не напортила, они достаточно наказали меня уже тем, что не пришли проститься… Когда у меня перестанут отекать ноги, пусть вышлют билет, напишите им это!.. Столько у меня здесь еды, но все уносят обратно, я не могу есть, мне хочется только плакать, плакать каждый день!
«…Почему наши мне не пишут?» — звенело в ушах Вацлава.
Ведь и ему тоже никто не пишет. Он послал несколько писем домой, все они были лживыми, умалчивали о действительном положении вещей. Он не хотел своими неудачами усугублять их и без того безрадостную жизнь в тесной квартирке, до отказа набитой мебелью. Он был убежден, что родители отвечали, хотя их письма до него и не дошли. Заподозрив, что вокруг него замыкается какой-то проклятый круг, Вацлав попросил родителей посылать ему письма до востребования, но и после этого ничего! Теперь он уже перестал ждать.
Вацлав встал и пожал худую влажную ладонь Марии.
— Прошу вас… Бронеку послезавтра исполнилось бы десять лет. У меня нет денег, но если бы вы могли пойти на кладбище и помолиться на его могилке вместо меня, папы и мамы. «Modlitwa powszechna za dusze zmarlych»[165]. Знаете? Или хотя бы «Отче наш»… — Мария нащупала зеркальце. Едва взглянув в него, она в ужасе закрыла рот ладонью — И вы ничего не говорите! — Больная схватила помаду и нарисовала на губах яркое сердечко.
У Вацлава уже не было сил дольше оставаться здесь. Он бросился вон из палаты, но в дверях обернулся — большие блестящие глаза напрасно пытались вернуть его. Тридцать коек вдоль стен, тридцать больных, но в его памяти запечатлелись лишь эти умоляющие глаза, полные тоски и одиночества.
Вацлав пустился наутек, он бежал по лестнице с апельсином в руке. Только на улице юноша немного опомнился. Он машинально поплелся по направлению к лагерю, не воспринимая окружающее, видя перед собой только зовущие глаза больной.
Ворота в ветхом заборе «Camp Valka». Чуть не торжественное чувство — входишь в эти ворота в последний раз. Однако Вацлав заколебался. Его друг профессор! Нет, он не может пойти прощаться с Маркусом: все тогда примет другой оборот, а Вацлав этого не хочет. Он нащупал револьвер в кармане брюк. Это прикосновение придало ему решимости.
Катке он пожмет руку, скажет ей, что решил уйти из Валки, что жить здесь дальше он уже не может. Пожмет ей руку и, может быть, поцелует в губы, попросит, чтобы вспоминала его добром.
Но вдруг его передернуло. Из бокового переулка вышла парочка и повернула в ту же сторону, куда шел и он. Незнакомый плечистый человек с пышной прической, а рядом — серый плащ, берет, стройные ноги, новые туфли. Парочка шла медленно, мужчина посмотрел на Катку, чему-то рассмеялся, взял ее под руку. Она не противилась.
Вацлав подождал, пока парочка скроется из виду. Затем круто повернулся и пошел вон из лагеря.
Он идет и думает обо всем и ни о чем, в голове — хаос, но вот он почувствовал голод: с утра не ел, однако глупо есть перед…
Вацлав поднял голову: перед ним хилый лесок, отмеченный соседством большого города, лесок, из которого унесены все опавшие сучья и на земле которого тут и там желтеют прошлогодние бумаги. Полтора года тому назад они бродили здесь с Каткой. Нет, это не сентиментальность, что он очутился именно здесь.
Вацлава вдруг охватил страх, холодный, ошеломляющий. Юноша оперся о ствол дерева. Какая сырая земля под ногами! От нее все еще пахнет тлением прошлогодних листьев. Непостижимо, от всей сложности его душевных переживаний через несколько минут не останется ничего, только неживая материя, которая сольется с этой влажной, враждебной глиной…
Понемногу Вацлав стал успокаиваться. Катка тогда была в том же сером плаще и берете. Только чулки были заштопанные. Воспоминания… Все это ушло в бесконечную даль, и он сам уже старый-старый, равнодушный, обессиленный. Собственно, это даже хорошо, что она избавила его от минут прощанья.
Вон там, по насыпи, поезд идет в Регенсбург: где-то за спиной, на дороге, идущей через лес, тарахтит трактор; парочка тихо прошла мимо Вацлава по лесной тропинке, целиком поглощенная друг другом — мир живет, и люди влюбляются, но это все уже не относится к нему. Вацлав еще смотрит на это как посторонний свидетель жизни, но сам он уже перешагнул черту.
Тяжелая усталость одолела его. Вацлав присел на пень, но это показалось смешным: ведь человек отдыхает, чтобы набраться сил, чтобы жить. Что делать с жизнью, которая никому и ничему не служит, у которой нет цели, которая никому не принесет радости? Что делать с жизнью, если впереди нет ничего светлого, высокого, если в ней умер последний идеал? Как она пуста, если у человека нет ничего, за что бы он мог болеть душой, чему бы он мог верить.
Вацлав стал механически сдирать кожуру с апельсина, ноздри его втянули приятный освежающий запах. Дикость! Ты уже неживой и вдруг ешь апельсин!
— Я шел искать свободу, — сказал он вслух и, испугавшись своего громкого голоса, оглянулся вокруг. В уме ли он? Но нет, он еще ест апельсин, душистый и сладкий.
Мера найденной здесь свободы пропорциональна злу, от которого ты избавился.
«Ведь я же свободен, — подумал Вацлав. — Могу сделать все, что мне заблагорассудится, свободно уйти из этого «свободного» мира».
А что, может, Платон был прав, утверждая, что смерть наивысшее благо для человека?
Oculomotorius… Как называется следующий из мозговых нервов? Хотя глупо думать, все равно этого он уже никогда не узнает. Годы учения, экзамены, страх перед ними и облегчение после. Зачем?
Послезавтра он должен был пойти молиться на могилку Бронека. Нет, Мария, помолись сама. Modlitwa powszechna za dusze zmarlych.
Какое облегчение — избавиться от постоянного безденежья, ощущения пустых карманов, от чувства, что ты нищий!
Твердый граненый кусок стали в его руке. Внезапно Вацлаву стало досадно на себя: надо было сказать профессору, чтобы он взял себе плитку Капитана и вещи Вацлава. Профессор непрактичный, кто-нибудь придет и из-под носа все украдет. На чем же будет тогда этот старик жарить картошку? А как ему, должно быть, будет тоскливо одному в комнате!
«Смерти не боятся лишь те люди, жизнь которых имеет наибольшую ценность», — сказал Кант. Горбатый сумасброд! Моей жизни — грош цена, но я тоже не боюсь смерти! Не боюсь!
«Нет, я не хочу возвратиться домой с таким проигрышем. Меня арестовали бы, и я все равно никогда бы не окончил университета. Я вышиблен из колеи навсегда. Я только еще больше опозорю свою семью и сам буду всегда влачить свой позор как тень».
Горячие слезы потекли по его исхудалым щекам, губы почувствовали их солоноватое тепло. Он вытер ладонью глаза. «Это я о тебе, Эрночка, сестренка моя. Я тебя очень люблю и буду любить… еще сколько-то минут. Со временем, когда ты узнаешь обо всем, боль за брата не будет уже такой острой. И вы, мама и папа, простите — я страшно ошибся, все проиграл. И мои ошибки были из тех, за которые платят самой дорогой ценой. Я сам по своей воле забрел в тупик. Иные, возможно, нашли бы выход, я его не нашел».
Вацлав опустил руку в карман и нащупал камешек, принесенный им с чешской стороны. Веко задергалось сильнее, он зажмурился, но это не помогло.
Любимый поэт его юности…
Всегда у Вацлава замирало сердце над этими строками, может быть, он подсознательно угадывал в них свою судьбу.
Сын мой, свято оберегай Землю родную — отчий край! Если покинешь меня — не погибну. Сам пропадешь…Твердый граненый кусок стали в его руке. Сколько сейчас времени? Наверное, ему все-таки надо это знать.
Человечек с уродливым черепом показал, как взводится курок.
Как холодит это маленькое колечко ствола, нет, уже не холодит, оно греет, жжет…
Вацлав нажал на спусковой крючок…
33
Закончилось основное обучение. На вечерней поверке между иными зачитали и фамилию Гонзика, а в конце — ничего не говорящее название: «Уджда».
Моторы автомашин ревели на широком асфальтированном шоссе, идущем на запад, извилинами поднимающемся вверх, а потом спускающемся вниз, среди голых безводных скал. Белый город со стройными минаретами, проклятая крепость ЦП-3 с пыльным плацем и разносящими заразу черными девицами, кладбище иллюзий под вечно ясным небом — настоящее преддверие ада — все это осталось позади.
Наконец длинная колонна автомашин достигла нового места назначения — городка, расположенного в холмистой местности на самой границе Марокко. Чахлая, выгоревшая зелень, песок и невысокие горы на горизонте. В километре за городом — большой квадрат, обнесенный колючей проволокой. Белый кирпичный дом для господ офицеров, пятнадцать деревянных бараков для нижних чинов. На каждом углу — пулеметная сторожевая вышка; гаражи, выровненные в ряд танки с зачехленными пушками. Патрульный с автоматом на груди, в белой фуражке, с красными нашивками на рукавах размеренно вышагивает вдоль колючей проволоки. Слова нового командира на вечерней перекличке не оставляли никаких иллюзий:
— Дорога к морю идет через горы и пустыню. Каждый голубок, который захочет отсюда упорхнуть, должен в дороге пить и есть, понятно? За каждого пойманного дезертира две тысячи франков — солидная сумма для туземца. Не было случая, чтоб они отказались от такой возможности. Эти две тысячи удерживают потом из жалованья дезертира, разумеется, если он будет еще получать жалованье.
В тот вечер Гонзик сидел на краю бетонного колодца в углу лагеря и глядел на запад. Уджда — укрепленный пересыльный пункт. Еще на пятьсот километров удалился он от родины. Африканские сумерки быстро опускались на плоскую равнину. Угасала полоска золотых облаков на горизонте, в памяти Гонзика возникла совсем непохожая картина: мошкара вьется над засыпающим Стеклым прудом; там, в дальней дали родного Горацка, на туманных сырых лугах коростель начал свой трескучий вечерний концерт, ему ответили лягушки из камышей. В дружном лягушачьем хоре выделяется громкое кваканье их старого короля. Желтое брюшко карпа мелькнуло над водой и с плеском скрылось в глубине. По воде тихо растекаются круги, они становятся все шире, слабеют, не достигая тростника, растущего вдоль берегов. Голубая вечерняя прохлада стелется над прудом, сливаясь с серо-голубыми сумерками, опускающимися с геральтицких холмов. А за недалеким сосняком вдруг пронеслась дымящаяся ракета — девятичасовой пассажирский, мчась к Знойму, поднял обычный переполох: потревоженный поездом выводок диких уток суматошно понесся низко-низко над прудом, ударяя крыльями по воде, эхо повторяет перестук колес, с переезда доносится прощальный гудок, и все снова затихает.
Терзающие душу образы! Сердце Гонзика живет лишь видениями родной земли. Они чудятся ему во сне и наяву, он дышит ими, они стали частью его души, в них одно его счастье. Родина.
Гонзик очнулся: шаги по песку, французский говор. Сержант и три легионера шли от канцелярии прямо к нему. В руках у них короткие доски и инструменты. Гонзик убрался восвояси. За его спиной послышался стук, в дерево вбивали гвозди, колодец громко резонировал. Парни чему-то смеялись. По панибратскому отношению солдат к сержанту можно было заключить, что это тертые люди. Когда они ушли, Гонзик подошел к колодцу. Табличка на французском, немецком и польском языках угрожающе предупреждала: «Тиф. Не пользоваться!»
Однажды вечером в арабской кофейне под полотняной крышей к Гонзику подсел Жаждущий Билл. Он заказал содовой и вытянул из кармана помятую открытку. Хомбре писал из Феса, что он уже совершил первый парашютный прыжок.
Билл задумчиво гонял соломинкой кусочек льда в стакане с содовой водой.
— Хомбре влип крепко: он попал в глубь страны.
Гонзик посмотрел вопросительно. Билл пристально глядел щелками серых глаз.
— Отсюда до моря шестьдесят километров, — сказал он своим высоким пискливым голосом.
Гонзик нервно оглянулся: за его спиной зазвякали подковы, два полицейских-араба медленно проехали по улице. Гонзик с удивлением подумал, что более, чем содержание сказанного, его ошеломило доверие Билла — редкостное явление здесь, в обстановке предательства и подозрений. Разве этот парень с детским голосом уже забыл, что и Гонзик участвовал в избиении?
— Ты ведь слышал, что говорил полковник на перекличке…
Полицейские исчезли за углом. Гонзик кивнул им вслед.
— В пустыне их как мух.
— Ночью они меня не увидят, а днем я им на глаза не покажусь. Вдвоем все же лучше…
Погибшие караваны, белые кости верблюдов, одинокий тропический шлем, остатки груза, полузасыпанные песком. Какая разница между приятными переживаниями над приключенческой книгой в кухне возле матери и действительностью, к которой можно прикоснуться рукой! «Трус, — сердито подумал он, — ты ведь ушел бродить по свету в поисках приключений. Почему же у тебя теперь колени дрожат?» Но голос разума тут же настойчиво зашептал: «Не рискуй последним, что у тебя еще осталось, любой ценой надо выжить! Мама, Катка, друзья, мусорщик в Нюрнберге — со всеми еще необходимо свидеться. Нужно выкупаться в родной реке, сходить за грибами в лес, снова поработать на линотипе — все это должно произойти, но прежде всего надо уцелеть, пережить безвременье». «Если бы удалось снова попасть домой, — думает Гонзик, — я бы на коленях умолил мать простить блудного сына, руками бы гладил чешскую землю, безропотно принял бы такое наказание и снова вошел бы в жизнь чистым, примиренным, знающим цену всему».
Узкое вызывающее лицо Билла снова отчетливо выплыло перед Гонзиком.
— Туземцы нас ненавидят. Они выдадут нас, что им жалеть двух легионеров?
Билл помрачнел и нервно забарабанил по грязной жестяной крышке столика.
— Дерьмо ты, я так и думал. — Билл закинул ногу на ногу и допил свой стакан. — Околевай где-нибудь в Индокитае, позволь им снять с тебя заживо кожу либо пригвоздить к дереву, выколоть глаза или поджарить на медленном огне — ты можешь выбрать любое из этих удовольствий, а мне что-то не хочется…
— Глупости говоришь! — вскипел Гонзик. — Вранье все это! Те, на другой стороне, ведь тоже люди! Разве ты сделал бы что-нибудь подобное?
Но Билл бросил на стол скомканные франки и встал. Он всунул руки в карманы, сдвинул пилотку со лба на затылок, презрительно оттопырил губы.
— Мое несчастье в том, что Хомбре в Фесе гоняется за шлюхами, а вместо него здесь торчишь ты, сопляк! — Билл яростно сверкнул глазами и пошел прочь.
Гонзик в смятении смотрел на его мальчишескую фигуру. Белый рог пилотки, торчащий над обожженными солнцем оттопыренными ушами, как-то не подходил к узким плечам, слабым, кривоватым ногам в шортах. Скорее школьник, чем воин за «святое владычество белой расы»…
Ночью Гонзика разбудил вой сирены. Заспанный, он подошел к окну: белые длинные лучи протянулись с высоты пулеметных башен и, словно пальцы слепца, ощупывали далекую холмистую местность. В трепетном фосфорическом блеске песчаные дюны выглядели заснеженными. Откуда-то из тьмы, за кажущейся посеребренной вибрирующей колючей проволокой, неподвижно светились два красных огонька — глаза испуганной одичавшей собаки или гиены. У Гонзика пробежал мороз по коже.
— Тревога! Стройся!
Сигнальная труба пронзительно, фальшиво сыграла знакомую мелодию. Где-то у главных ворот застрекотали мотоциклы. Ярко освещенные со всех сторон рефлекторами, заспанные легионеры становились по трое в ряд. Сирена все выла и выла, посылая свои сигналы в темную даль. Так извещались полицейские патрули, состоящие из местных берберов-конников, что начинается охота на несчастного. Опережая беглеца, в сторону севера, к морю, по выжженному краю полетела весть: две тысячи франков!
Наконец звук сирены стал медленно ослабевать и вскоре замер. Теперь послышался громкий голос офицера:
— С кем из вас он говорил о побеге?
Тихо. Слышен лишь дальний лай собак. Легионеры молчат. Первый побег из Уджды свершился.
— Имейте в виду, что дня не пройдет, как беглеца изловят. Не сомневайтесь также, мы ему развяжем язык, и он скажет, кто знал о его замысле. А теперь, пока дезертир не пойман, всякие отлучки из лагеря запрещаются. Если случится еще один побег, весь лагерь будет на сутки оставлен без пищи. Разойдись!
На вечерней перекличке следующего дня прозвучало имя Гонзика: завтра в наряд, дежурным на тюремном дворе.
Утром Гонзик занял свой пост. Он стал механически расхаживать взад и вперед по бетонированной дорожке. Солнце быстро нагрело автомат в его руках. «Почему, — думал Гонзик, — именно сегодня досталось мне это дежурство? Биллу, вероятно, удалось скрыться — тертый малый, азартный, таким счастье».
Гонзик медленным шагом ходил вдоль тюремных стен, построенных в виде буквы «П» и образующих три стороны белого дворика. Четвертую сторону составлял фасад канцелярии. Ее окна были затянуты противомоскитными сетками, фиолетовые мухи с сердитым жужжанием безуспешно штурмовали их. Только бы сегодня не было в наряде Кобыльей Головы — тюремного надзирателя с обрюзгшей, флегматичной физиономией и выступающими зубами.
Тихо уплывало время. Час шел за часом. Слабый западный ветерок доносил глухой гул городского базара, где-то далеко на юге рычали танки на военных учениях. Из какой-то камеры доносились жалобные стенания арестанта. Его однообразные плаксивые молитвы действовали Гонзику на нервы. Наконец разносчики принесли тюремный обед. Но вот — широкие шаркающие шаги по песку… Кобылья Голова! Он прислонился спиной к стене канцелярии, снял пилотку, вытер пот. Кобылья Голова участливо и вроде даже со смущенной улыбкой посматривал на то, как заключенные глотали похлебку. Его голубые, как незабудки, глаза то и дело сонно закрывались.
Солнце медленно двигалось по безоблачному небосводу. Гонзик, проклиная все на свете, снова вернулся из караульного помещения для двухчасового дежурства в тюремном дворе. Молодой человек нетерпеливо поглядывал на часы — только бы скорее дождаться завтрашнего утра… Чу! Что такое? Гонзика передернуло. По шоссе, от города к лагерю, приближались два мотоцикла, а за ними оставляющий длинный шлейф пыли «джип». Тяжелое предчувствие взволновало Гонзика.
Машины проехали ворота, и моторы затихли. Потянулись долгие секунды тревожной тишины, потом все пришло в движение: снова послышались шаркающие шаги Кобыльей Головы, за ним шли два солдата с винтовками, к которым были примкнуты штыки, между солдатами брел, спотыкаясь, Жаждущий Билл: кровавый шрам через все лицо, запястья, связанные веревкой, ободраны до крови. Должно быть, парня волочили на веревке за конем верхового полицейского. Гонзик похолодел. Мальчишеское лицо Билла было измучено, волосы растрепаны и слиплись от пота и пыли, рукав рубахи оторван, ноги до самых колен покрыты толстым слоем пыли.
— Воды!
Кобылья Голова, по-видимому, понял. Он сам подошел к лохани с остатками остывшей похлебки, набрал полмиски, пальцем поманил Гонзика и, изобразив щепотку, заговорщически сказал:
— Принеси соли.
Гонзик, не понимая, в чем дело, послушался. Надзиратель высыпал содержимое солонки в миску и поручил Гонзику подать похлебку Биллу. Толстые щеки Кобыльей Головы горели от радости. «Не пей!» — отчаянно взывали глаза Гонзика. Он не удержался и прошептал по-чешски:
— Не пей!
Поздно: перевернутая миска лежала на земле.
Билл отплевывался, в глазу, обрамленном лиловым подтеком, мелькнула искра ненависти.
— Свинья! — прохрипел он Гонзику в лицо и в изнеможении зажмурился.
Изумленный Гонзик отступил на шаг. Ему хотелось потрясти Билла за плечи, крикнуть ему в ухо, что он, Гонзик, ни в чем не повинен, но Кобылья Голова торчал возле, сложив на груди могучие лапы, его синие глаза светились тихой радостью.
— Развяжи ему руки.
Гонзик трясущимися руками развязал покрытые ссадинами отекшие запястья Билла.
— Я тебя не предавал, — шепнул Гонзик.
— А соль приволок, скотина, — прошипел Билл и упрямо отвернулся от него.
— Вещевой мешок! — лениво процедил Кобылья Голова. — Он в канцелярии.
Гонзик выполнил приказание сержанта, споткнувшись при этом о порог канцелярии. Он сердился на Билла. «Болван, идиот, из-за него всем отменили увольнения. Того и гляди еще признается на допросе, что делился со мной планом побега…»
— Насыпай! — Кобылья Голова шомполом указал на песок.
Билл опустился на колени и израненными руками начал наполнять мешок горячим песком.
— Сыпь доверху! — с добродушной ухмылкой приговаривал сержант и, расставив ноги, похлестывал себя шомполом по голени.
Песок шелестел в грязных руках Билла. Гонзику было невыносимо тяжко, он то и дело поглядывал на часы: смена наступит только через тридцать минут.
Сержант отлучился в канцелярию. Слышно было, как захлопали там ящики: Кобылья Голова что-то заботливо отыскивал. Он быстро вернулся и подал Биллу два куска проволоки.
— Ремни с рюкзака сними, прицепи вместо них вот это.
Билл неловко снимал ремни, подбитым глазом он ничего не видел, а другой глаз заливало потом. Кобылья Голова присел на корточки возле Билла и стал помогать ему. Со стороны это выглядело довольно идиллически, словно двое детей забавлялись в песке. Брюки на могучей заднице сержанта натянулись так, что вот-вот лопнут. Кобылья Голова давал Биллу советы, как лучше продеть в петли проволоку, а Гонзик в это время должен был прислониться к двери камеры, чувствуя, что иначе он упадет в обморок.
Наконец сержант, пыхтя, поднялся.
— Сними рубаху, а то жарко будет, сосед! Мы все же соседи. Прага… эта ваша hunderttürmiges Prag[166] прекрасный город, только народ вы свинский. Европа — прекрасная, культурная часть света, одно плохо — сердце у нее скотское…[167] — Он скрестил могучие лапы на груди и стал покачиваться на носках, а затем снова опустился на пятки. — Удрать хотел, да? Теперь побегаешь здесь во дворе, чешская скотина! — Сержант вдруг побледнел, прищурился, выпятил толстую нижнюю губу и рявкнул: — Im Laufschritt![168]
Билл пошатнулся под тяжестью рюкзака и затрусил. Проволока врезалась ему в плечи, он на бегу старался передвинуть ее. Пот лил с него ручьем, песок подпрыгивал в мешке. Билл остановился, тяжело дыша открытым ртом.
— Im Laufschritt! — кричал сержант и угрожающе поднял руку с шомполом, он даже не командовал, как предписывалось, по-французски.
Билл снова вынужден был побежать. Гонзик стоял, судорожно сжимая скобу на дверях арестантской, из-под пилотки у него струился пот, стекая по виску и щеке за воротник гимнастерки. Он видел, как проволока рассекала кожу на худых плечах Билла и кровь длинной струйкой текла по тщедушной груди парня.
— Leb-haft, leb-haft![169] — орал Кобылья Голова в ритм бега.
Спина несчастного была прикрыта мешком, поэтому Кобылья Голова хлестнул его по шее. Словно огромный груз приковал Гонзика к порогу. Пораженный, он наблюдал за тем, как неправдоподобная, нечеловеческая инерция удерживала замученного, с искаженным судорогой лицом Билла на ногах. Гонзик опустил глаза на бетонированную дорожку, но кровавые следы на ней и здесь обозначали скорбный путь его земляка. Сержант хрипло ревел и хлестал Билла шомполом. Запах крови привел его в бешенство, и он потерял человеческий облик.
«Зверь, — подумал Гонзик, — нет, не зверь… Зверь убивает свою жертву, но эсэсовцу нужно не убивать, а только мучить, мучить. Этот садист здесь обрел возможность снова вспомнить ремесло, которому его когда-то обучили».
— Падай же, ради бога! — прошептал Гонзик.
В этот миг Билл свалился в песок, вещевой мешок перелетел через его голову. Минуту Билл извивался, затем сразу замер, и во дворе на мгновение наступила тишина.
Чья-то рука уже давно колотила кулаком в железную дверь. Только теперь Гонзик обратил на это внимание.
— Скажи этой свинье, — задыхаясь, кричал заключенный по-чешски, — что мы солдаты… а не собаки… Почему ты ему этого не скажешь? Почему не кинешься на него и не пробьешь ему башку, скотина?.. Ты такая же свинья, как и он!..
Сержант не понимал этих слов, он бил ногами лежавшего Билла; острый запах пота и крови возбуждал бешенство сержанта. Билл пришел в себя, он инстинктивно руками оберегал от ударов живот. Это было все, на что он еще был способен, ничто, никакие удары, никакое неистовство не смогли поднять его на ноги.
— Брось его в камеру, — прохрипел, наконец, Кобылья Голова. — В рапорте прибавь еще одного больного, если эта сволочь к утру не околеет.
Гонзик извлек проволоку из порезанной кожи. Билл заревел от боли.
— Добей меня, бога ради, доконай…
— Билл, не теряй голову, все снова будет хорошо, Билл…
— Застрели меня, не бойся, ты вправе… при самообороне… ты, паскуда… — Билл последним напряжением дотянулся до автомата Гонзика и стал дергать его.
Гонзик вырвал автомат, схватил Билла под мышки и поволок его по двору к камере, откуда слышался голос чеха. Билла уложили на нарах. Заключенный поднес кружку с водой к его посиневшим губам.
— Почему… ты меня не прикончил… — Билл в отчаянии расплакался, как ребенок.
Кровь из его израненного тела стекала на нары. В распахнутую дверь сюда залетели две фиолетовые мухи и настойчиво жужжали вокруг Билла.
Гонзик, еле передвигая ноги, выбрался из камеры. Он увидел, как Кобылья Голова пинал ногами вещевой мешок в сторону канцелярии. Не имея больше возможности топтать человека, он стремился хотя бы на мешке с песком выместить свою ярость. Но мешок был тяжелым, бить по нему ногами было больно, и сержант вскоре бросил это занятие.
— Свиньи эти чехи, — бормотал он, выпучив глаза, и, сняв пилотку, вытер пот. — Видит бог, когда-нибудь мы их уничтожим. — Он сомкнул свои толстые пальцы на животе и продолжал: — А если кто из них останется в живых — отправим nach Pa-ta-go-nien[170].
Кобылья Голова отворил раму окна вместе с прикрепленной к ней противомоскитной сеткой и, перегнувшись через подоконник, достал со стола бутылку с водкой. Опрокинув горлышко в стакан, он наполнил его до краев, но половину расплескал на брюки. С трудом уместившись на подоконнике, он жадно припал к стакану, вливая в себя обжигающую жидкость.
На следующую ночь Гонзик в башмаках на босу ногу крался по двору лагеря. Тишина, из открытых окон бараков доносился многоголосый храп. Порой кто-нибудь отрывисто вскрикивал во сне. На нижнем конце двора, у ворот, под ногами караульного поскрипывал песок. Железной скобой, подобранной на свалке, Гонзик потихонечку стал отрывать доски, которыми был заколочен колодец. Вдруг раздался скрип. Гонзик испуганно замер. Ничего, тихо. Из-под куртки, надетой на голое тело, извлек он пустую консервную банку, привязанную к длинному шнуру, лег животом на кромку колодца и спустил банку в колодец. Вытащив, он немного поколебался, но затем, решившись, стал долгими глотками пить воду. После этого аккуратно прижал доску на прежнее место и, удовлетворенный, прокрался обратно в казарму. Он улегся на свое место, сцепил пальцы в молитвенном жесте и крепко закрыл глаза.
— Боже, в Валке я мало ходил в церковь, однако молил тебя усердно, но ты не услышал моей молитвы и обрушил на меня горе. Так хотя бы теперь один-единственный и последний раз выполни мою просьбу — ниспошли мне тиф…
Дни проходили за днями. Почти каждую ночь таинственная тень неслышно брела к колодцу. На противоположном конце лагеря лежали больные, которые не пили зараженной воды и все же заболели. Их отвозили в больницу в город Оран, а потом, как говорят, пароходом отправляли даже в Марсель. В тифозном секторе лагеря был строжайший карантин, но Гонзику все же удалось пролезть к некоторым больным, когда их отправляли. В их глазах, затуманенных высокой температурой, была буйная радость. Они находились в полубессознательном состоянии, но их потрескавшиеся губы все же улыбались от несказанного счастья.
Сосед Гонзика по комнате насыпал себе в глаза измельченную в пыль штукатурку, наивно надеясь вызвать тяжелую болезнь глаз, но получил лишь слабенький конъюнктивит. Небритый и вечно грязный французский доктор, от которого постоянно разило водкой, осмотрел несчастного и выдал на расправу полковнику. Через месяц парень возвратился в комнату страшно исхудавший, с позеленевшим болезненным лицом и ввалившимися глазами. Никто не сумел выудить у него толкового слова о пережитом. Поначалу он казался помешанным. Но однажды он сам заговорил и поведал о том, что в тюрьме ему рассказывали, будто их лагерный врач, еще когда жил в Тулоне, в припадке ярости до смерти забил свою жену. Гонзик, слушая эту историю и рассеянно глядя в окно на белый перст минарета и мертвые горы на горизонте, подумал: «И в самом деле, какой это доктор, если он пошел на службу в Иностранный легион?»
Давно истек инкубационный период, а тиф упорно не забирал Гонзика. Счастье покинуло его. Бог не услышал его молитвы и оставил здоровым.
Однажды в ночной тиши глухо прозвучал выстрел, эхо его сухо отдалось среди бараков. Легионеры спросонок не могли понять, в чем дело. Потом сгрудились у места происшествия, пока дежурные не разогнали их. Гонзик успел все же увидеть остекленевшие глаза, белоснежные, ровные зубы светились в окаменевшей улыбке, струйка крови, вытекавшая изо рта, впитывалась в сенник. Говорили, что это был болгарин откуда-то из Бургаса; на грузовых пароходах «зайцем» добрался он до самого Марселя. Здесь его заарканили в легион. И вот наконец-то свершился его романтический сон, от которого он уже никогда не пробудится. Два хмурых солдата с нашивками на рукавах относили самоубийцу. Они шли в ногу, и труп на носилках, прикрытый одеялом, ритмично покачивался. Гонзика какой-то миг мучила тихая зависть.
Он опять улегся на своей койке, но уснуть уже не мог и закрыл глаза огрубевшими ладонями. В первый раз в жизни у него возникла кощунственная мысль: «Нет тебя, бог… Если бы ты, всевидящий и всемогущий, существовал, то не мог бы ты сидеть сложа руки, не заступиться за обиженных и спокойно взирать на такие несчастья».
Лежа с закрытыми глазами, Гонзик увидел лицо профессора в одиннадцатой комнате Валки таким, каким оно было вскоре после прихода их троицы, видел его могучую спину, согнувшуюся над книгой, мешки под глазами. Маркус сказал тогда: «У буддистов есть такая пословица: «Спать лучше, чем бодрствовать, умереть лучше, чем спать, но лучше всего — не родиться вовсе».
В голове у Гонзика был хаос. Он не привык слишком много думать, только последние месяцы жизни вынудили его к этому. Вспомнив теперь, что тогда говорил профессор, Гонзик подумал: «Маркус поддался в тот раз минутной депрессии, он был неправ. Жизнь — это великая, прекрасная штука, только человек обязан как следует управлять ею, он не имеет права легкомысленно и бездумно рисковать и совершать безответственные поступки так, как это сделал я. Нет, тот болгарский парень не имел права спускать курок, пока еще есть искра надежды. Мы тут, правда, на самом дне жизни, но все же каждое утро восходит солнце, завтра будет лучше, чем вчера, и чудо может еще свершиться, хотя пережитое избавило меня от всякой веры в то, что это чудо сотворит господь бог…»
34
Профессор Маркус возвращался с утренней прогулки. На площадке около конторы лагеря развернулась легковая машина, какая-то дама вышла из нее, и машина отъехала. Маркус от неожиданности остановился: тонкие ноги, плащ, прическа, которая вопреки всем стремлениям дамы идти в ногу со временем была все же безнадежно старомодной.
— Баронесса!
Дама подскочила к нему, бурно обняла и поцеловала в обе щеки.
— От вас пахнет, как от парфюмерной фабрики. О, да вы как будто растолстели, — он пытался говорить с ней в прежнем тоне, но растрогался и вынужден был отвернуться. «Эх, придет старость и приведет слабость, — подумал он. — Эта взбалмошная баба, того и гляди, доведет меня до слез!»
— Если бы я не держала вас за руку, я бы сказала — это дух вашей магнифиценции. — И тут же прибавила: — Отчего, скажите, ради бога, вы ввергаете в ужас людей? Вы так похудели, что от вас едва половина осталась.
Профессор нервно пошевелил моржовыми усами, радость его погасла. Наконец, хмурясь, он вынул из нагрудного кармана заботливо сложенную вырезку из газеты и подал ее Баронессе.
— Вполне достаточно прочесть последний абзац.
При чтении она молча шевелила тонкими накрашенными губами.
— Это что-то невероятное, — шепнула пораженная Баронесса и возвратила профессору статью, затем дружески положила ему руку на плечо и сочувственно произнесла, избегая смотреть ему в лицо. — Я не знала об этом, понимаете?.. А что поделывают остальные соседи? Мои ребятки? — Вдруг она изменила тему разговора. — А Штефанские уже в Канаде? А Капитан?.. Ну вот, вы опять измазались! Разве можно вас оставить без присмотра! — Она ногтем начала соскребать засохшее пятно на лацкане его пиджака.
Она торопила его; он семенил возле мелкими шажками, еле поспевая за ней. Старик действительно так сдал, что пиджак болтался на его исхудавшем теле. К тому же его мучила астма, и он вынужден был часто останавливаться, чтобы передохнуть. Баронесса растроганно одаривала встречных улыбками, но никто не отвечал ей.
Перед бараком, где они когда-то жили, он вдруг остановился.
— В одиннадцатой комнате никто, кроме меня, не живет.
До нее не дошел смысл сказанного, и она почти насильно втащила старика внутрь. Когда они вошли в комнату, серая тень мыши шарахнулась и исчезла под нарами. Перед Баронессой открылась унылая картина: шесть почерневших нар, одиннадцать пустых, ничем не прикрытых сенников; кто-то уже унес половину подголовников. На полу обрывки старых газет, засохшая грязь в углу, окно затянуто паутиной, на столе деревянная солонка, с потолка свисал знакомый зеленый шнур с патроном, но без лампочки.
— Где же все? Куда переехали?
— Капитан будто бы нашел место водопроводчика…
— А Вацлав, студент? У меня для него есть чудесное место домашнего учителя у господина Таугвица. Фриц такой добряк, он обязательно за него поручится и добьется, чтобы его приняли в университет.
Профессор выпрямился.
— Вацлав месяц тому назад застрелился.
Баронесса испуганно вытаращила глаза. Она попятилась и подняла обе руки.
— Это неправда! — вскричала она. — Ну, знаете, такие шутки неуместны!
Лицо Маркуса по-прежнему оставалось бледным, неподвижным.
— Нет, нет, нет, нет, — в ужасе лепетала женщина и пятилась назад мелкими шажками.
Растопырив пальцы и вытянув руки, она все еще взмахивала рукой, словно отгоняя от себя какой-то страшный призрак. В конце концов она наткнулась на нары, но не заметила этого.
— Не может быть. Ведь у меня для него есть место, я за ним приехала за сто пятьдесят километров. Через полгода он будет изучать медицину, так сказал Фриц…
Профессор глубоко втянул в себя воздух, его напряжение ослабло, он снова сгорбился.
Баронесса присела на нары, ее морщинистое лицо стало влажным, тонкие пальцы беспрерывно щелкали замком сумочки, лежавшей на коленях. Из глаз тихо катились слезы.
— Почему… он это сделал? — прерывающимся шепотом спросила она.
Профессор сел, сложил руки и, не отрываясь, не мигая, долго смотрел на кем-то забытую, истрепанную тапочку, валявшуюся под нарами.
— Он очутился на самом дне… и захотел, наконец, покоя…
— Почему я ему не написала, не послала немного денег, ведь это был человек нашего круга! Я думала о нем и все же не сделала этого.
Профессор скривил уголки рта, отрицательно покачал головой.
— Вацлав умер не из-за нужды и нищеты, а потому, что перестал понимать, зачем живет. Здесь, около нас, есть тысячи «героев», которые грызутся между собой из-за лишнего куска, из-за сигареты, и десятка два неразумных, которые гибнут, потеряв веру.
Баронесса невидящими глазами уставилась в окно. Муха с упрямым жужжанием билась о грязное стекло. Ее, должно быть, манили к себе едва распустившиеся цветы на каштанах в лагерной аллее.
— А во что в конце концов он должен был верить? — профессор вертел крышку от солонки и продолжал ослабевшим голосом: — В переворот, в победу нашего дела? А кто должен эту победу завоевать? Державы, лагеря, наш генералитет? Нет, Баронесса. Запад не так уж заинтересован ни с экономической, ни с политической точки зрения в реставрации старых порядков в Чехословакии. Он не станет из-за этого ломать копья, тем более что в результатах нельзя быть уверенным. У обитателей лагерей вместо энтузиазма пустые желудки и, кроме того, голые руки. А те, наверху? Это люди, оторванные от реальной обстановки у нас на родине, да и вообще от жизни они далеки. Они произносят чужие фразы, даже не задумываясь над этим. Они парят в мире фантазии и фальшивых представлений, которым в глубине души сами не верят. Политические трупы, стайка мух, которая вымрет, горстка банкротов старого, исчезнувшего мира.
Он посмотрел Баронессе в лицо.
— На вас неплохое платье, бусы. Свой знаменитый халат вы, вероятно, выбросили на свалку. Вот видите, отдельные индивидуумы могут достигнуть успеха и в эмиграции, но нельзя черное назвать белым. Только человек необычайно скромный, вроде нашего Капитана, может считать удачей должность помощника водопроводчика. Нет, здесь у нас не может быть счастья, потому что нельзя вытравить из сердца факт существования того куска земли, который именуется родиной. А свобода? Многие из нас понапрасну за ней погнались, в том числе и я, и Вацлав. Возможно, между нами двумя была только та разница, что я кое-что понял, а он, может быть, нет. Каждый свободен настолько, насколько он способен на это. Жить необходимо и тогда, когда человек проиграл все. Пока дышу, я все же чем-то обладаю: своим собственным достоинством.
Баронесса глядела на него, затаив дыхание. Наконец она сказала:
— По правде говоря, я восторгаюсь вами, профессор. Сила мне всегда импонировала…
Профессор печально усмехнулся.
— Если во мне еще и сохранилась какая-то сила, она в том, что я сумел сохранить некоторую долю своей внутренней свободы в здешних условиях и что я до сегодняшнего дня сумел сохранить в чистоте свою совесть.
Он встал. Минуту оставался в какой-то нелепой, неуклюжей позе, не в состоянии выпрямить поясницу, но потом превозмог острую боль и вышел с Баронессой из комнаты. На воздухе он остановился, тоскующим взглядом посмотрел на цветущую аллею и глубоко вздохнул в себя тяжелый медвяный запах новой весны.
— Сдается мне на старости лет, что правый реформист — я уже и не знаю, как меня еще честят, — в конце концов более сносен для коммунистов, чем для их противников.
— Дома при коммунистах вы бы все это время сидели за решеткой, профессор.
Маркус широким жестом расстегнул воротник с болтающимся на нем обтрепавшимся галстуком и вздохнул.
— Сегодня, находясь в бывшем лагере военнопленных, я в этом серьезно сомневаюсь. Недавно я читал информацию в парижском журнале «Science international». В ней сообщалось, что мой лучший друг, Гюнтер, достиг в Чехословакии значительных успехов в науке. Его последний труд в области естественных наук был весьма благосклонно оценен… коммунистической печатью. Бог свидетель, Гюнтер не был, да и теперь не является марксистом…
— Покинем, профессор, политическое поле. Здесь мы с вами, вероятно, не поладим. Вы уже обедали?
— Д-да… вообще… уже пообедал…
Она смерила его быстрым, понимающим взглядом.
— Зато я голодна, пошли.
Профессор нерешительно потоптался на месте.
— Но я действительно…
— Надеюсь, вы не такой грубиян, чтобы отвергнуть приглашение дамы, — без дальнейших церемоний Баронесса повела его в лагерную столовую. Она держалась здесь запросто, словно была дома.
Профессор рассказывал об остальных обитателях одиннадцатой все, что узнал от Вацлава. Баронесса сидела на краешке стула, высоко подняв острые коленки.
— Ну, а вы преуспеваете? — Профессор поднял глаза от тарелки с супом.
— Каждый день жду приезда дочери из Канады. Деньги на дорогу я ей уже выслала. Теперь у нас все снова наладится, — говорила Баронесса, а сама не сводила глаз со щетинистого лица старика, склоненного над едой.
Маркус большими кусками глотал мясо с макаронами, его тарелка через минуту опустела.
— Мой благодетель, господин Таугвиц, человек добрый, торговлю любит, однако чего-то ему все же недостает, какой-то изюминки, хватки! Еще один обед, официант!
— Что это вы выдумываете?
— Здесь очень маленькие порции, этого мало для настоящего мужчины!
Баронесса распрямила узенькие плечи, приподняла лицо с ярко накрашенными губами, костлявые руки скрестила на груди и начала скороговоркой сыпать слова, будто хотела отвлечься от чего-то.
— Вот ведь говорят, что мы, чехи, нация сапожников. Немцы всегда были неравнодушны к нашему Schuhkunst[171]. Я бы не хотела хвалить себя, но сдается мне, что именно я поставила на ноги фабричку Фрица. Правда, это не ахти какое предприятие, да и американская конкуренция очень сильна, но все же…
Профессор коркой хлеба вытер тарелку, выпил пиво, погрузив взъерошенные усы в пену. Баронесса сидела напротив, положив на стол руки со сплетенными костлявыми пальцами, она хотела бы смотреть куда-нибудь в сторону, но стариковские уши с торчащими клочьями волос, лоснящийся, покрытый пятнами пиджак, тяжелый золотой перстень Маркуса, особенно странно выглядевший на его руке, притягивали ее взгляд, точно магнитом.
— Когда здесь голодали маленькие люди, то это было каким-то неотъемлемым свойством их судьбы, но профессор Маркус, имя которого было широко известно далеко за границами Чехословакии!..
Баронесса почувствовала большое облегчение от сознания, что для нее лагерная жизнь теперь уже позади.
Это было логическим, само собой разумеющимся концом: она всегда твердо верила в свое счастье, всегда жила припеваючи, и ей казалось, что легче Земле вращаться в другую сторону, чем ей утратить везенье. Лагерь для нее был только неприятной переходной ступенью. Ее ощущения здесь были сходны с переживаниями богача, пострадавшего от пожара. Одновременно с ним погорел и сосед бедняк. У обоих в пламени погибло все имущество, оба остались с пустыми руками. Но между ними все же существенная разница: богач, несмотря ни на что, уверен, что он так или иначе, но непременно скоро будет жить в новом, еще лучшем доме.
Теперь она почувствовала слабость своей философии, ее начала тревожить неясная мысль о том, что «красные», распространив свое влияние на половину мира, впрямь изменили эклиптику. Родственная Баронессе социальная среда почувствовала это на своей шкуре. Вот почему стало очевидным, что и она лично выбралась из трясины только в силу случайности. Огромное счастье ей привалило. А какая неудача постигла этого одряхлевшего интеллигента, говорящего на пяти языках!
Маркус обратил внимание, что Баронесса ничего не ест.
— Полчаса назад вы говорили, что голодны.
— У меня почему-то пропал аппетит. Фриц! — вдруг крикнула она.
В дверях стоял господин со шляпой в руках: волосы с проседью, орлиный нос на розовом лице. Фриц, щуря глаза за сильными стеклами очков, осматривал зал. Увидев Баронессу, он помахал ей шляпой и приблизился к столу.
Баронесса познакомила мужчин.
— Выпьете кофе? — спросила она Таугвица.
Фабрикант нерешительно, со смущенной улыбкой огляделся вокруг и сел точно так же, как вначале села Баронесса: на краешек стула. Он провел мягкой ладонью по лицу и немного поморщился при виде плохо вымытой чашки поданного ему кофе, посмотрел на затоптанный пол, усеянный спичками и окурками, скользнул глазами по наполовину отклеившемуся плакату с рекламой кока-колы. В одном углу группа молодежи азартно хлестала картами по столу. В противоположном сидела девица, поджав ноги и печально положив на колени голову. Какой-то бледный парень с низким лбом и пестрым платком вокруг шеи что-то наигрывал на балалайке. Таугвиц попросил официанта принести кофе в чистой чашке.
— Недавно в нашем союзе промышленников собирали пожертвования на эмигрантские лагеря. Мы, надо сказать, не поскупились. Меня очень интересует, на что пошли деньги. Здесь, во всяком случае, этого не видно…
Баронесса посмотрела на профессора, как бы немного извиняясь.
Фабрикант вздохнул.
— Проклятый коммунизм, — сказал Таугвиц, — что он с нами делает! Разве все эти безобразия можно терпеть! Разбитые семьи, люди на грани гибели, как была Агнесса… — он кивнул на Баронессу.
Маркус помешивал ложечкой холодный кофе и сосредоточенно молчал. Баронесса встревоженно посмотрела на его потемневший лоб.
— Посмотрите на Германию! — продолжал фабрикант. — Более половины моих заказчиков остались в русской зоне. Нет, все это неестественно, эти преграды в мире… Ведь перед войной из Чехословакии мне доставляли первосортную хребтовую кожу. С того времени мы с Агнессой и знаем друг друга.
— Фриц, — сказала Баронесса, — тот студент, ради которого мы сюда приехали, покончил самоубийством.
Рука Таугвица с чашкой кофе опустилась на стол.
— Как он до этого дошел?
— Здесь, в Валке, подобные решения приходят в голову многим молодым людям, — отозвался профессор и с шумом поставил свою чашку на стол.
Таугвиц, соболезнуя, наклонил голову, но тут же с заметным нетерпением посмотрел на часы.
— Нам нужно торопиться. — Фриц коснулся руки Баронессы.
Она кивнула, потом долго, не мигая, смотрела на профессора и, как-то торжественно вздохнув, произнесла:
— Профессор Маркус — мой друг. Не могу я его здесь покинуть.
Маркус приоткрыл рот от удивления, а Таугвиц после такого заявления снял очки и начал их протирать.
— Ja, um Gotteswillen, что вы хотите сделать? — Фабрикант поднялся со своего места. Он озадаченно глядел на сгорбившегося профессора, на его лице промелькнула усмешка, казалось, что он приготовился пошутить, но передумал и стал серьезным.
Они направились к выходу. Девица оценила дорогой костюм и очки пожилого господина, явно не принадлежащего к обитателям лагеря. Она опустила руки, обнимавшие полные колени, при этом юбка ее высоко задралась, Таугвиц оглянулся, смущенно потрогал очки, стало видно полоску розовой ноги с чулком, в дверях не выдержал и снова посмотрел на девушку.
Все трое остановились под цветущим каштаном.
— Профессор Маркус мог бы обучать ваших сыновей вместо того студента, — сказала Баронесса.
Маркус выпучил глаза, хотел что-то сказать, но только взъерошил усы. Таугвица раздражала пчела, кружившаяся вокруг его головы, однако было видно, что затея Баронессы ему нравится. Он сдвинул новую серую шляпу со лба на затылок, его широкое лицо озарилось веселой улыбкой.
— Черт побери, немного староват будет обещанный детям студент.
Баронесса недовольно поджала губы.
Таугвиц осмотрел пальто профессора, болтавшееся на его исхудавшей фигуре, давно не чищенные ботинки, щетинистое некрасивое лицо.
— А не будут ли мальчики бояться его? Они лишились матери, бедняги. Понимаете? — обратился Фриц к Маркусу. — Успеваемость у озорников — ниже всякой критики, а я целый день на фабрике, и у меня для них не остается времени.
Маркус стоял глубоко изумленный. Он едва понимал, что здесь говорят о нем. «Они, вероятно, шутят, — подумал профессор. — Людям, не имеющим достаточно такта, может взбрести в голову все что угодно».
— Это исключительный человек, — услышал он надтреснутый голос Баронессы.
Профессор хотел сжать кулаки, но вдруг заметил, что в руке, приложенной к груди, он как-то особенно смиренно держит свою старую засаленную шляпу. Два чувства боролись в нем, два голоса говорили враз. Один хрипло язвил: «Стой, молчи и жди, не годится, чтобы лошадь, к которой приценяются, била задом и угрожала покупателю».
А Фриц тем временем продолжал:
— В конце концов уж вы наверняка знаете не меньше того несчастного покойника… Хотя, что я говорю? Ведь вы учитель и, конечно, знаете больше! А я кто? Я, собственно говоря, старый добряк, поэтому-то, вероятно, и не особенно преуспеваю.
Другой голос тихо уговаривал Маркуса: «Тарелка супа, два мясных блюда и черный кофе. Прощай, опротивевшая картошка, поджаренная на маргарине в почерневшей кастрюле. Конец ночам, во время которых ты не можешь сомкнуть глаз, потому что сосед за стеной возится с лагерной девкой».
Баронесса негодовала. Вокруг ее тонких губ резко обозначились глубокие складки, на увядших щеках выступили багровые пятна, руки женщины нервно теребили носовой платочек.
— Что вы, Фриц, ведь он профессор университета, а вы говорите «учитель»!
— Oh, Verzeihung[172]. — Таугвиц прикоснулся к плечу Маркуса. — Я не знал… — Фабрикант виновато посмотрел на Баронессу и в замешательстве начал левой рукой ерошить густые брови. — Но в таком случае вам, вероятно, не подойдет учить двух лоботрясов алгебре и географии…
Маркус чужим, равнодушным взглядом посмотрел вверх на расцветшие каштаны. Высоко в голубом небе над ними плыли весенние облака. А в нем самом насмешливый голос, все еще издеваясь, приговаривал: «Спокойствие, стой не шевелясь, коня торгуют тоже под открытым небом. Молчи и жди, они сами между собой поладят». Другой голос настойчиво и раздраженно жужжал в ухо: «Действуй, чего же ты ждешь? Неужели ты серьезно веришь, что тебе дадут место учителя гимназии, сумасшедший? Ты домолчишься до того, что и это предложение кто-нибудь выхватит у тебя из-под носа».
Кембридж, гимназия, домашний учитель…
— Выскажите все же ваше отношение к сделанному вам предложению, — застрекотал голос Баронессы.
«…Каждый человек свободен постольку, поскольку он сам способен на это…»
У Маркуса выскользнула из рук шляпа. Он попытался нагнуться за ней, но не смог, и опустился на колено. Таугвиц сразу даже не сообразил, что происходит. Баронесса нагнулась и подала Маркусу шляпу.
Профессор Маркус непроизвольно прижал обе руки к груди, поднял измученные глаза и хрипло сказал:
— Я согласен.
35
Белый корабль не спеша отчалил от Порт-Саида и, направляясь из Африки в Азию, вошел в Суэцкий канал. Сотни молодых людей в тропической форме легионеров, прогуливаясь по палубе, рассказывали сальные анекдоты, нещадно курили. То здесь, то там в сиянии белого солнца поблескивала линза, щелкал затвор фотоаппарата. На этот раз солдаты ехали не в трюме. Теперь они были «полноправными» наемниками, достойными преемниками славных боевых традиций Иностранного легиона. Командир полка в Оране, прежде чем вступить на борт корабля, обратился к сознательности легионеров, припомнил «героизм» их предшественников, которые сто двадцать лет тому назад в известной разбойничьей экспедиции поголовно, до единого человека, истребили арабское племя Эль Уфия.
Белый пароход и эффектная белая униформа, французский флаг на мачте, морские офицеры с золотыми галунами на рукавах. Все это словно экскурсия богатых туристов, которые едут к египетским пирамидам.
Гонзик обеими руками крепко сжимал перила. Безрассудство: пока плыли по голубому Средиземному морю, он все еще чувствовал себя в Европе, на родине. Но вот скоро — через десять — пятнадцать часов — они проплывут Суэцкий канал и окажутся всего лишь на сто шестьдесят километров дальше. Однако в душе Гонзика это максимально допустимый предел дальности, от ощущения которого леденеет душа. Там, где кончится Суэцкий канал, он не сможет думать, что позади них Европа — впереди будет Индокитай.
В последний день перед отправкой из Сиди-бель-Аббеса в Уджду Гонзик зашел в «Зал Побед» — музей кровавой истории Иностранного легиона. Там висели картины боев в тропиках, портреты погибших офицеров. Хранились там также и трофеи: связки ядовитых стрел, выложенные веерами, копья из Дагомеи и кривые кинжалы из Вьетнама. Каменные плиты с рельефными надписями запечатлели скорбный перечень павших. Но только имена офицеров удостоились чести быть высеченными на этих плитах. Нижние же чины должны были удовольствоваться цифрой. Каждая цифра — сумма солдатских жизней.
Гонзик стоит на корме и сжимает шероховатый, выбеленный солнцем поручень. На западном берегу канала — редкая порыжевшая зелень, асфальтированное шоссе, за ним низкая насыпь железной дороги, тянущейся параллельно каналу от Порт-Саида к городу Суэцу. Вдалеке за полотном железной дороги — зеркальная поверхность какого-то озера. На восточном же берегу канала — песок и песок без конца и края: пустыня. Нет, отсюда не видны пирамиды Они там, где-то недалеко за горизонтом, в том направлении, куда движется палящее солнце. Ну, вот и исполнилась давняя мечта Гонзика: перед ним Африка, впереди — Индийский океан, Сингапур. Даже через экватор поплывут они. В самых дерзновенных своих мечтах Гонзик не смел думать о том, что когда-нибудь увидит эти места.
А кривые вьетнамские кинжалы?
Еще остались свободные места для мемориальных плит на высоких стенах музея в Сиди-бель-Аббасе. Скоро там нарисуют новые портреты, выдолбят новые имена, припишут новые цифры. В одной из них будет и его жизнь.
Тот однорукий легионер, с которым он когда-то беседовал, сказал: «Теперь-то я знал бы, как поступить. Суэц, Франтишек! Это…»
Гонзик прохаживается по палубе, курит одну сигарету за другой, нервно затягивается. Вспомнился бедняга Билл. Он получил три года каторги за дезертирство. Если выживет, то после отбытия наказания поедет еще на пять лет во Вьетнам.
Гонзик смотрит на волну, бегущую вслед за кораблем. Волна сдвигает на берегу камни, заливает откосы, смывает в канал песок. Каких-нибудь пятьдесят метров воды отделяют этот берег от парохода…
Над асфальтовой лентой, вытянувшейся параллельно каналу, сияет, как стекло, струящийся горячий воздух: дорога вдаль выглядит так, словно только что ее полило дождем. Навстречу пароходу по шоссе мчится грузовик. Какой-то араб в бурнусе едет на велосипеде, а вот катит «джип» с англичанами-полицейскими в тропических шлемах. Босая девочка-египтянка толкает перед собой коляску, в которой во всю мочь орет взлохмаченный заплаканный ребенок. У противоположного берега канала работает землечерпалка.
Мысль Гонзика бьется как в тенетах.
Чем он рискует? Разве сохранилось у него хоть что-нибудь, что еще можно потерять? Свободу? Ее нет. Жизнь? Она потеряла всякую ценность.
Страх, мучительный, смертельный страх снова овладел его душой, парализовал ноги, вызвал дрожь во всем теле. Но вместе с этим в нем вспыхнула неодолимая, всепоглощающая, дикая тоска по родине, по воле; желание жить, любить девушек, обнять маму, валяться на берегу горного озера и смотреть, смотреть без устали на чешское небо! Гонзика неудержимо потянуло в наборный цех, к старому линотипу. Работать, набирать сто двадцать, сто пятьдесят знаков в минуту и по первым числам месяца приносить домой плату за честный труд, а не за убийство людей, о которых он даже не знает, за что они должны быть наказаны.
Катка! Влекущая, молодая, несчастная. Она тоже тянется к жизни, как и он, Гонзик!
Всего в пятидесяти метрах от того места, где ты сейчас стоишь, — надежда.
Гонзик исподволь, украдкой всматривается в окружающие его лица. Загорелые молодые люди околачиваются на палубе, играют в карты, курят, повторяют до бесконечности непристойные разговоры о девках, высчитывают, когда снова окажутся в публичном доме. Удивительно, разве никого из них не одолевают такие же мысли, как и Гонзика? Неужели никто не знает этой единственной возможности? Или знают, но считают, что такая попытка — чистое самоубийство?
Все зависит от того, к кому в руки попадешь. Если к английской полиции — дело табак: выдадут. Тогда жестокие побои, муки, такие, какие вынес Билл. Не менее трех лет тюрьмы, а потом все равно Индокитай.
Но Гонзик видел на шоссе египетскую полицию.
Перед ним были две опасности. Одна — зеленый сумрак джунглей, гнилые трясины, тучи москитов, малярийных комаров и в довершение всего — подстерегающая за деревом рука, сжимающая рукоять кривого кинжала. Другая — менее страшная, неопределенная опасность, но зато впереди — встреча с Каткой, родина, свобода!
Пальцы Гонзика стали белыми, как поручень, который они сжимали. В тот вечер, когда они отплывали из Марселя, если бы только иллюминатор был побольше, Гонзик непременно выскочил бы. В темноту, в бесконечность, навстречу смерти. Теперь же с веселого неба ярко светит солнце, впереди жизнь, надежда — и ты трясешься от страха?
Гонзик осмотрелся, в горле у него пересохло, сердце застучало быстро-быстро. Он не спеша снял очки, сунул их в карман и для сохранности закрыл носовым платком. Ближайшая группа легионеров стоит от него шагах в двадцати. Хорошо! Корабельное радио передавало какие-то распоряжения для тех, кто будет ужинать в первую смену. Гонзик взглянул на покрасневшее солнце над горизонтом и взмолился:
— Мамочка, помогите мне!
Почти ничего не видя от волнения, взобрался он на перила, оттолкнулся ногами и бросился вниз.
Глухой удар о воду, шум в ушах: Гонзик начал захлебываться. Пять секунд под водой показались ему вечностью. «Конец, задыхаюсь», — мелькнуло у него в голове, и именно в этот миг он вынырнул, глубоко втянув в себя воздух, поплыл изо всех сил к берегу, волны от пароходного винта временами накрывали его с головой, корма парохода качалась за ним, высокая, как гора. Выбившись из сил, он наконец достиг берега и на четвереньках, спотыкаясь о камни, пополз к дороге. Перебегая ее, он впервые оглянулся: огромная круглая корма корабля уплывала вдаль, на палубе для нижних чинов он увидел изумленных легионеров. Тут же позади маячила багровая физиономия сержанта. Он что-то орал, подняв руку, но из-за шума воды и расстояния ничего нельзя было понять; потом начал пинками и кулаками загонять солдат в трюм.
Гонзик свалился за низкую насыпь дороги: часто и глубоко дыша, он отдыхал, набираясь сил; только теперь юноша услыхал далекий хриплый звук корабельной сирены. Бежать? Но ему кажется безопаснее полежать еще несколько минут и не привлекать к себе внимания.
По шоссе быстро мчится в его сторону черный лимузин. Гонзику показалось — у страха глаза велики, — что водитель подозрительно смотрит на него, однако машина не остановилась. На шоссе стало тихо, и Гонзик отважился высунуть голову из-за насыпи: белый корабль удалился на полкилометра, серебряный веер за его кормой пенился, становился розоватым в свете заходящего солнца. В последний раз протяжно заскулила корабельная сирена, а волны по-прежнему равномерно ударяли в каменистые берега канала.
Гонзик встал и пустился бежать в противоположную от корабля сторону. Мокрая куртка прилипла к груди, вода хлюпала в ботинках. Пилотка! Куда подевалась пилотка? Он никак не мог припомнить, что сталось с его белой легионерской пилоткой, была ли она на голове, когда он бросился в воду? Какая глупость! О чем он думает? Какое ему дело до пилотки? Наоборот, даже хорошо, что он избавился от нее. Он многое бы дал, чтобы вообще не иметь на себе проклятой формы.
От бега у него закололо в боку. Гонзик остановился, перевел дух и через минуту снова двинулся вперед, на этот раз шагом. Ему показалось, что ботинки, полные воды, натрут ему ноги, носки на пятках, наверно, уже порвались. Он сел на край дороги и стал разуваться.
В том направлении, куда бежал Гонзик, двигалась грузовая машина. Старенький «форд» еле тащил доверху нагруженный кузов с овощами. Гонзик, движимый внезапным порывом, без раздумий выскочил из кювета и поднял руку. Грузовичок проскочил вперед, но тут же завизжали тормоза, из окошка кабины высунулись жующие челюсти, блеснули два ряда белоснежных зубов на коричневом лице Гонзик подбежал с ботинками в руках.
Водитель в замусоленной полотняной панамке с изумлением посмотрел на лужицы, образующиеся на асфальте под босыми ногами странного попутчика. Он прокричал что-то непонятное, в ужасе оглянулся на канал, на далекий белый корабль и вылез из кабины на дорогу.
— An accident?[173]
— Возьмите меня с собой, — произнес Гонзик, не раздумывая. — Порт-Саид, — указал он перед собой.
Шофер отрицательно покачал головой.
Потом спросил:
— Englishman?[174]
— Чехословакия, — сказал Гонзик. — Прага!
Водитель перестал жевать. Казалось, что он не понял.
— Затопек! — выпалил Гонзик.
Лицо бербера просияло широкой улыбкой, розовой ладонью он по-приятельски хлопнул Гонзика по плечу.
— Yes, ш-ш-ш-ш, very good. — Бербер прижал кулаки к груди и стал двигать локтями, подражая бегущему человеку. Затем указал на сиденье, сам сел в кабину, перегнулся через Гонзика и, захлопнув дверцу с его стороны, включил мотор.
Смрад выхлопного газа стал проникать откуда-то из щелей в полу кабины, машина дребезжала и шумела, как стадо диких слонов, а Гонзику казалось, что он слышит райское пение, его душу переполняла острая, захватывающая радость, он был вне себя от восторга. Все происшедшее казалось ему таким молниеносным и непостижимым, что с трудом укладывалось в голове. Однако дорога мелькала перед глазами, пустое шоссе убегало на север, и это было живой реальностью. Гонзик прижался спиной к углу кабины и рассмеялся громко, неудержимо. В порыве благодарности Гонзик вдруг сжал ладонями черную руку шофера — грузовик метнулся в сторону, шофер автоматически нажал на тормоз, остановил машину и повернул к Гонзику сердитое лицо. Согнутым пальцем постучал он себя по лбу и угрожающе пробормотал что-то.
Гонзик испугался.
— Не выдавайте меня полиции! — взмолился он.
Последнее слово шофер понял.
— Не хочу я там служить… Legion étrangére, Saigon, non, non, не хочу! Vous comprenez?[175]
Водитель, сжимая руль, всем телом повернулся к пассажиру и скользнул взглядом по его мокрому обмундированию. Жующая челюсть шофера замерла, он задумался.
— Я должен тебя выдать, — сказал он по-арабски. — Тебя поймают, ты на допросе проболтаешься, меня посадят.
Гонзик не понял ни единого слова, но по тону догадался. Он сложил руки и с дрожью в голосе произнес:
— Повесят меня, — он провел ладонью вокруг горла, изобразил петлю, поднял руку, сжал кулак и резко дернул вниз, словно за веревку. — Прошу вас, я хочу домой! Go home, mama!
Шофер вынул из-за уха сигарету, задумчиво закурил. Затем включил мотор, пустил машину тихим ходом и снова оглядел своего соседа.
— На пароходе, вероятно, переполох. У них там беспроволочный телеграф, французы наверняка уже ищут тебя. Проклятый мальчишка!
Гонзик не понимал его слов, не знал, что предпринять, на что решиться. Один миг ему казалось, что лучше будет вообще выйти из машины и остаться на дороге, но тут же он отбросил эту сумасбродную мысль: первая же полицейская машина заберег его.
Машина снова понеслась вперед. Огромный кровавый шар заходящего солнца исчез за плоским западным горизонтом, по железнодорожной колее, параллельной шоссе, громыхал товарный состав, окрашенные в белый цвет вагоны-холодильники громыхали на стыках рельсов.
По каналу навстречу им шел грузовой пароход. Гонзик испуганно вытаращил глаза: французский флаг на мачте! В мгновение ока он согнулся и спрятал голову между коленями. Шофер взял его за плечо и приподнял.
— Не думаешь ли ты, что из-за тебя пароход остановится в канале? А мне, понимаешь, — он ударил себя светлой ладонью в грудь и повысил голос, — мне ничего не сделают: я везу тебя в полицию. Если меня остановят, я скажу, что везу тебя в полицию… Понял?
Гонзик с напряжением вслушивался в каждое слово, но ничего не понял Куртка холодила спину, ветер, дувший в окно, казался ледяным, у Гонзика стучали зубы от холода и страха.
Слева показался обширный поселок, застроенный глинобитными хижинами. Это было какое-то жалкое прибежище бедняков: босые, оборванные ребятишки, крыши из кусков гофрированной жести, ослики под реденькими пальмами. Водитель гнал словно бешеный, хмурился, курил. Обеими руками он резко крутил баранку, машина скрипела и подпрыгивала. Ноги Гонзика все время скользили вперед по шаткому, вибрирующему полу. Изредка беглец с опаской скользил взглядом по невозмутимому лицу шофера с широким коротким носом. Юноша вдруг почувствовал острую жалость к самому себе: затравленный мальчишка в чужой стране, не понимающий ни слова, петля грозит ему на каждом шагу.
Снаружи быстро густели сумерки. Вдалеке на севере появился силуэт города, дорога свернула в сторону от канала.
Бербер выключил мотор, автомобиль еще пробежал чуть-чуть по инерции.
Водитель указал вперед:
— Порт-Саид. Выходи. Police. Not good[176].
Гонзик просиял. Вздох облегчения вырвался у него из груди. Он вытянул из кармана горсть скомканных размокших денег, но шофер помрачнел и обиженно отстранил его руку.
— Лучше купи себе тряпье, в этой cloth[177] тебя мигом сцапают. — Он подергал брюки легионера, сделал жест и указал на деньги в его руке.
Юноша порывисто и сердечно обеими ладонями сжал руку шофера, вышел из кабины, огляделся и сделал несколько неуверенных шагов по направлению в город.
— Туда нельзя, черт побери! — Шофер высунулся из окна кабины. — Сдурел, что ли? Иди туда! — он протянул руку в сторону низеньких хижин и бараков окраины.
Гонзик понял. Он сбежал с асфальтированного шоссе в сторону, на пыльную тропинку.
Черная добрая рука в полосатом дырявом рукаве свешивалась минутку из окна кабины, но вот лицо водителя совсем потемнело и расплылось в густеющих сумерках. Только крепкие здоровые зубы еще некоторое время отчетливо белели в темноте.
Машина загрохотала, резко взяла с места и исчезла в темноте. Только запах выхлопного газа еще некоторое время висел над теплым асфальтом.
36
Поток пассажиров вынес Гонзика на привокзальную улицу Нюрнберга. Как у него изменился критерий жизни!
После бурных переживаний последних месяцев даже убогая Валка представлялась ему тихой безопасной гаванью.
Гонзик шел по знакомым улицам и удивлялся переменам за год: ряд новостроек на месте зиявших прежде руин; вместо длинных молчаливых очередей — теперь небольшие группки перед магазином, да и люди, как показалось Гонзику, одеты лучше: уже не мозолило глаза донашиваемое, кое-как перешитое военное обмундирование. Германия, видимо, несколько опомнилась после худших, тяжелых послевоенных лет. Но, разумеется, безногие и безрукие молодые продавцы лезвий для бритья и художественных открыток остались. И перед храмом святого Лаврентия по-прежнему сидел тот же, что и в прошлом году, нищий с лицом индийского философа, в черном жестком котелке на белоснежных волосах.
Картина города, залечивающего свои раны, мелькала перед глазами Гонзика, однако всеми фибрами души он устремился к совсем другому образу, к единственному существу, при мысли о котором порывы радости и надежды сменялись в сердце Гонзика опасениями и ревностью. Катка! Бессчетное число раз видел он ее милое бледное лицо. Как страдал он в минуты, когда… А теперь он шагает по Нюрнбергу, и в нескольких километрах отсюда — Катка. Через три четверти часа, через полчаса — и все же он отдалял эту минуту, словно боялся. Кого? Ее? Вацлава? Самого себя? А что, если Вацлав с ней помирился? Или она влюбилась в кого-нибудь другого, или, не дай бог, ее уже вообще нет в Валке? Год в жизни обитателей лагеря — время долгое. Что с ними произошло за этот год?
Он хотел вскочить в первый же автобус, идущий к лагерю, но, как бы против своей воли, отправился к старому жилому дому в гостенгофском предместье.
На знакомых дверях чужое имя, но Гонзик все же позвонил.
— Губер? Он выехал.
Гонзик остолбенел.
— Куда, вы не можете сказать?
Старый человек в теплых домашних туфлях, с альбомом почтовых марок в руках пытливо оглядел Гонзика.
— Кажется, в Гамбург. Кому охота интересоваться завсегдатаем тюрьмы? Выбрался оттуда и пошел на поденщину. А впрочем, может быть, снова сидит. Таких не следовало бы выпускать вообще: пускай себе мудрствуют над этим их Марксом за решеткой. Прощайте! Grüss Gott.
Гонзик медленно спускался но лестнице. Он поднял голову и взглянул на верхнюю площадку; в тот раз там стояла удрученная старушка Губер, она держалась за барьер и тихо говорила: «Лучше сюда не ходите…»
Теперь никто не стоял. Лестница тиха, только из водопровода, проведенного не в квартиры, а на лестничные площадки, глухо капала вода.
«…Иначе он привьет вам свою веру…»
Сколько раз за прошедший год Гонзик думал о Губере, о том, что тот говорил ему. Из того, что Гонзик пережил и увидел своими собственными глазами, он понял, что факты говорят в пользу хромого Губера, а не его противников. И все же Губер в тюрьме, а те — у власти.
Бывший редактор, образованный человек, теперь где-нибудь в порту грузит ящики, а вот дома иной рабочий, глядишь, стал редактором.
«Дорогая мамаша Губер, не понял я еще всего, во что верил ваш муж, но со «свободой», ради которой мы бежали сюда, что-то явно не в порядке. И еще я узнал теперь, что лучших людей нужно искать именно между теми, кто осуждает здешние порядки!»
Гонзик медленно шагает по улице, не прячась, не боясь. Как странно! Всего несколько дней назад он был на пути в пекло, а теперь…
Отчизна, мама, прежняя жизнь. Ты, Гонзик, еще не выиграл боя за них, все это еще страшно далеко — за тридевять земель, но вместе с тем близко, рукой подать.
Господи, разве это так просто?
Как-то еще встретят там, на родине!
Вернулся беглец, государственный изменник.
«Почему вы убежали? Единственно лишь из-за страсти к приключениям? Не морочьте нам голову! С какой целью вы вернулись, Ян Пашек? Кто вас направил? Шпионаж, вредительство, убийство — что именно вам поручили совершить, после того, как вы добьетесь нашего доверия?»
В тот раз, в Регенсбурге, Гонзика допрашивали именно таким образом. И разве дома не имеют права на такие вопросы? Его посадят. Как он будет оправдываться, как докажет, что он не предатель?
«Почему мы должны верить вам? Уже два года прошло с тех пор, как мы перестали вам верить. Вы удивлены?»
Если даже он заполучит самого лучшего адвоката и если судьи будут добры, как ангелы, все равно факт останется фактом: он убежал!
«Что вы выдали врагу, Ян Пашек? Кто вам поверит, что вы ничего не сообщили неприятелю?»
Гонзик сидит в автобусе, зеленая вывеска со скрещенными киями промелькнула мимо окна. Как раз в этот момент кто-то вошел в трактир «У Максима». Гонзику показалось даже, что он услыхал назойливую музыку оркестриона.
Знакомые улицы, примелькавшиеся фасады. Недавние опасения относительно Катки уже снова волнуют его.
Через полчаса, через двадцать минут… Гонзик нетерпеливо смотрит в окно. Он даже не замечает, что улыбается. Какое чудо, что он сидит здесь, в автобусе, идущем к Валке! Какое счастье, что ему удался этот дерзкий план! Такое выпадает одному из тысячи отважившихся на побег. Он готов дать голову на отсечение, что теперь начальники военных транспортов, следующих на фронт, будут загонять несчастных легионеров в трюм, как только Порт-Саид покажется на горизонте.
Ему вспомнилось все, что он пережил за эти три недели. Семья египетского садовника, в которой ему дали поесть. Когда поняли, откуда он убежал, продали старую гражданскую одежду. Через три дня после наступления темноты хозяин привел своего приятеля — портового грузчика. На жестах и с помощью карандаша Гонзику объяснили: завтра отплывает норвежское грузовое судно в Бремерхавен. Ночью грузчик контрабандой провел его на пароход и уговорил кочегара — один бог знает, как они поладили, — чтобы тот сделал для Гонзика все, что сможет. Нелегальный пассажир на корабле был «обнаружен» только через пять часов по выходе из Порт-Саида. Но побег из Иностранного легиона, к удивлению Гонзика, вызвал сочувствие у команды: его не связали, оставили на свободе и разрешили помогать кочегару. Гонзик мыл палубу, а по вечерам, сидя на носу корабля, с тихой радостью в сердце обращал свой взор на Запад, на пламенеющий заход солнца. Затем — страшное потрясение: пароход взял курс на Марсель! Гонзик поймал за рукав ближайшего офицера и с дрожью в голосе объяснил ему, что он предпочтет броситься в море, чем быть выданным французской полиции. Человек с гладким лицом и узкой полоской усов отвел глаза от очков Гонзика, в которых отражалось солнце.
— Сколько у тебя диоптрий?
— Четыре.
— Высадить тебя в Марселе мы должны, но ты не бойся, потребуй там медицинского освидетельствования, с таким зрением тебя в легион не отправят!
Двадцать четыре часа плавания до Марселя, ужас при мысли о том, что свобода снова станет недостижимой, мучительные картины: удар плеткой по лицу, тюремная камера в форте Никола, новая отправка в Алжир, казармы ЦП-3 — нет, во второй раз он не выдержит.
Грузовой пароход медленно прошел мимо крепости на высокой скале. Гонзик широко раскрытыми глазами смотрел на галерею, с которой в прошлом году первый раз в жизни увидел море. Затем юноша, удрученный и подавленный, словно тень, тихо проскользнул в котельную, сел на ящик с инструментом и стал ждать конца. Друг-кочегар отводил от него глаза, но, наконец, не выдержал, развел черными от нефти руками и без надобности повысил голос:
— Я сделал все, что было в моих силах, черт побери!
Восемнадцать часов безотлучно просидел Гонзик в котельной: он был не в состоянии есть и только иногда припадал губами к кружке тепловатой воды. Наконец усталость одолела его. Проснулся Гонзик от грохота и тряски: машина работала! Гонзик сорвался с места и вихрем как обезумевший помчался по палубе. Вдали в лучах вечернего солнца светились знакомые очертания Шато д’Иф: судно покидало Марсель. Второй помощник капитана шел навстречу Гонзику.
— Ты все еще здесь? — Он сдвинул со лба белую форменную фуражку и потянул себя за ус. Его серые глаза хитро улыбались. — Как я мог о тебе забыть? Теперь мы должны тебя кормить до самой Германии!..
* * *
— Валка. Aussteigen[178].
Гонзик выскочил из автобуса, калейдоскоп минувших дней растаял.
Знакомая асфальтовая дорожка, вывеска на столбике возле ворот: «Camp Valka». Он озадаченно посмотрел наверх: над входом в канцелярию — черный флаг. Гонзик пожал плечами. Он зашагал дальше, мимо склада, барака полиции, почты.
Вдруг шаг его отяжелел, стал медленнее, словно ноги его налились свинцом: каждый из тех, кто двигался ему навстречу, мог быть Каткой, Вацлавом, старухой Штефанской, Иреной…
Гонзик подтянулся и заставил себя успокоиться. Вот и улочка. Но что это? Гонзик остолбенел: на том месте, где должен был быть их барак, — гора мусора, голый кирпичный прямоугольник фундамента, обрывки толя, заржавленное колено водопроводной трубы, оборванный шнур, патрон с разбитой лампочкой.
Команда лагерников разбирала соседний барак. Гонзик поймал за рукав одного из работающих:
— А где те, которые здесь жили?
Юнец вынул сигаретку изо рта.
— Ну и вопрос! Вероятно, квартируют в гренландском посольстве!
Гонзик с замиранием сердца постучал в дверь управления лагеря. Медвидек его совсем не узнал. Он повел его в заднюю комнату, как новичка, тискал его руки, наваливался плечом.
Папаша Кодл прищурил глаза, наклонил голову набок.
— Имя твое я забыл, но эти веснушки и очки знаю, приятель!
Гонзик назвал себя.
— Иди сюда, дитя мое, дай обнять тебя! Потерявшаяся овечка покорно вернулась к своему старому пастырю. Ну-с, как там на белом свете? Везде хорошо, а в Валке лучше?! Так-то вот! Да ты садись, рассказывай.
Он налил гостю рюмочку; ангорский кот плавно прошелся по комнате и вскочил к хозяину на колени.
— И что бы тебе приехать на день раньше! В Валке вчера был праздник, еще сегодня братья облизываются! Папаша Кодл, друг ты мой, с понедельника стал начальником Валки! Господин Зиберт умер, упокой, господи, его душу. Натерпелся он, бедняга, досыта.
Пузырьки слюны вздувались и лопались в уголках его мягких подвижных губ, рука с длинным ногтем на мизинце ласково почесывала сладко мурлыкавшего кота.
— Теперь старый папаша Кодл покажет, что может сделать чешский патриот для своих людей на чужбине. Ты увидишь, каким станет лагерь! Никаких блох и клопов. Старые хибары уничтожу! Изолированный участок для словаков. Пусть себе там сидят! Венгерскую сволочь — на дальний конец, за церковь! А евреи пускай убираются в Реклингхаузен, Регенсбург, Оффенбах или хоть в задницу. Но здесь я их не потерплю.
Он выпил вина, вытер ладонью рот, ударил себя в грудь.
— Я устрою тут наших ребят как дома! — Он повысил голос сразу на два тона и немного подался вперед. — Только ненадолго это все. Верь мне, Гонзик: божьи мельницы мелют медленно, но верно. Скоро мы все вместе будем любоваться на нашу стобашенную, сидя за рюмкой вельтлина в «Золотом колодце».
Он пошатнулся, грязными пальцами помял серьгу в ухе, а другой рукой ткнул Гонзика в грудь.
— Ты, я, мы все, целая наша западная армия возвратится со щитом победы, верь мне! Мы встанем у кормила, а те, что отсиживались дома и лишь скулили о терроре, пойдут ко всем чертям! Коллаборационистов — за решетку, а коммунистов вздернем на фонарные столбы!
Гонзик понял, что папаша Кодл пьян.
— Где теперь живет Катка Тиц?
— Кто, кто?
Гонзик побледнел.
— Жила в тридцать шестой.
— Катка… Ага, ты прав, о черт, что делается с моей памятью! — Папаша Кодл растопыренной пятерней стал взбивать свою шевелюру. — Где живет Катка, тебе точно скажет девица в приемной…
— А Вацлав Юрен?
Папаша Кодл оставил в покое свои волосы и как-то странно посмотрел Гонзику в лицо.
— Ну, этот… — Папаша Кодл приставил к виску указательный палец. — Пиф-паф… Бог знает что ему, дурню, в голову взбрело…
Гонзик вскочил.
Кот в ужасе шарахнулся прочь с колен папаши Кодла.
— Фуй, ты чего пугаешь моего Микки? Говорю тебе: бабахнулся, и все тут!
— Когда?..
— Что я, гимназистка, чтобы вести дневник? Так месяца четыре тому назад.
Гонзик не помнил, как выбежал из управления лагеря. Он шел по двору, слышал звук собственных шагов и вдруг поймал себя на том, что как-то странно волочит ноги по песку. «Куда я плетусь, — подумал он. — Ведь я забыл спросить, где живет Катка!» Он вернулся, но в канцелярию не вошел, а остался стоять посреди двора, бессознательно глядя на черный траурный флаг, реявший на слабом ветру.
Вацлав. Их главарь!
А Гонзик был полон решимости при любых обстоятельствах заставить Вацлава вернуться домой, категорически отвергнув все его возражения.
Перед глазами Гонзика встала мать Вацлава, отец и маленькая Эрна. Он раза три был у них, но чувствовал себя не в своей тарелке, они были другие люди. Тем не менее эта пани с холеными руками и сдержанными манерами была матерью Вацлава. Знает ли она, что натворил ее сын? Хотя, как могла она это узнать?..
Гонзик уточнил номер Каткиного барака и пошел в указанном ему направлении. И снова волнение предстоящей встречи овладело им. Но радость его была омрачена. «Смерть каждого человека уменьшает меня, ибо я часть всего человечества», — сказал однажды профессор. Гонзик тогда не понял, но зато теперь хорошо уяснил смысл этого. Нет, не такой он представлял себе встречу с Каткой. Он не успел додумать: Катка стояла перед ним!
Он быстро оглядел ее, подбородок у него задрожал, и в горле защипало.
Она от неожиданности широко раскрыла глаза и как-то беспомощно развела руками.
— Гонзик!
И он почувствовал прикосновение ее щеки к своей щеке, а в руках — ее плечи.
— Откуда ты свалился, мальчик?..
Что-то в этих словах задело его, но он был слишком смущен и краснел, не выпуская ее руки, должно быть, он крепко сжал ее, так как Катка немного скривила губы и высвободила руку.
Он пошел рядом с ней. Все самое плохое было уже теперь где-то позади. Гонзик молол какую-то чепуху, но потом вдруг смутился и предложил на минутку присесть на скамейку.
— Папаша Кодл мне сказал, что Вацлав…
Катку передернуло. Она с тревогой посмотрела ему в лицо.
Гонзик снова растроганно смотрел на нее. В мечтах он так часто видел ее лицо, виски, нежную линию шеи, волнующий румянец на скулах, знакомую, милую ямочку, которая появлялась при улыбке на правой щеке. Теперь кожа ее лица показалась ему не совсем чистой, увядшей, словно Катка постарела на десять лет.
— Его похоронили в Фишбахе. Если хочешь, мы можем вечером туда сходить, — сказала Катка.
На ней было клетчатое пальто, на коленях лежали перчатки. Что-то все же в ней переменилось, что-то появилось новое, чужое, он бессознательно ощущал это.
— На месте нашего двадцать седьмого барака я нашел груду обломков. Что сталось с остальными жильцами?
Катка достала из сумки портсигар, постучала по нему сигаретой и закурила. Гонзик вспомнил: прошлой весной Катка не курила.
— Капитан живет в городе, о Бронеке ты знаешь, Баронесса…
— Волосы, — громко прервал он ее. — Где твой пробор?
Она улыбнулась.
— Так уже никто не причесывается. Мне говорили, что я похожа на чопорную учительницу.
Она рассказывала, а он смотрел на нее. Он жаждал знать судьбу всех из одиннадцатой комнаты, однако слышал лишь ее голос… Нет, это не Каткин голос, возможно, из-за сигарет он стал более глубоким и резким, чем тот, который Гонзик сохранил в своей памяти. А может быть, у Гонзика плохая память? Или дальние путешествия и тяжкие переживания минувшего года окутали прошлое розовой дымкой?
«Говорили, что я похожа на учительницу», — а кто говорил?
— Мария, по словам доктора, едва ли протянет три-четыре недели, — продолжала Катка. Сигарета не курилась и гасла. Катка нервным жестом снова зажгла ее.
Гонзик увидел блестящий лак на ее ногтях. Еще новость: раньше она не красила ногтей.
В слабом дуновении ветерка Гонзик поймал запах дешевых духов. Он вдруг судорожно схватился за край скамейки, какое-то неосознанное беспокойство сдавило ему грудь.
«Какая бессмыслица! Ведь все девушки любят косметику». И все же он невольно вспомнил, что на вторую ночь в Валке, когда Ирена и Ганка уходили на свой «промысел», он впервые услышал запах этих духов.
— Катка…
Гонзик положил ладонь на ее руку. Сначала она хотела выдернуть руку и испуганно огляделась, но поблизости никого не было и она решила стерпеть.
— Ты даже не поинтересовалась моими злоключениями!
— Ведь ты же хотел узнать здешние новости…
Гонзик сидел рядом с Каткой, чувствовал запах ее волос, касался ее плеча, но все же как далека она была от него! Что-то разделяло их, глубокая пропасть, из которой веяло холодом.
«Почему, почему?» — спрашивал он сам себя, протягивая к чему-то руки, чувствуя, как нечто невидимое ускользает у него между пальцев. Что встало между ними? Враждебность? Какие для этого причины? Вероятно, нечто во сто крат более страшное: равнодушие! Подумав так, Гонзик особенно остро почувствовал отвратительный чад, исходивший от почерневших, обгорелых развалин. Пепелище — вот, что осталось от его иллюзий. Гора щебня, очерченная фундаментом их бывшего барака!
Катка высвободила руку из-под ладони Гонзика: две девушки шли мимо. Одна из них, приветствуя Катку, шутливо отдала честь, приложив палец к подбритой брови и удивленно посмотрела на невероятно потрепанные штаны Гонзика, на его веснушчатый нос и дешевенькие очки.
Катка повернула к нему голову.
— Ну, рассказывай, путешественник!
Ямочка на Каткиной щеке теперь стала глубже и скорее походила на морщину. Что же случилось, почему даже эта мелочь, которую он вспомнил с детской нежностью, окончательно утратила свою прелесть?
Оба они глядели друг на друга, а в ее глазах светилась улыбка и еще что-то. Что — он поначалу не смог разгадать: какой-то чужой, деловитый взгляд, словно его, Гонзика, прощупывали и оценивали.
Наконец Гонзик возмутился против самого себя: ты несправедлив к ней. Ведь это же она сидит тут возле тебя, Катка, дорогое тебе существо. Она всегда была лучше, чем сотни здешних девиц!
Кто-то свистнул. Катка еле заметно улыбнулась. Гонзик повернулся на свист: поодаль брели трое парней, руки — в карманах, смотрят в сторону их скамейки. Гонзик оглянулся: никого нет. Она, перехватив его взгляд, потупилась.
— Катка, тебе нельзя здесь больше жить!
Катка затянулась, выпустила дым и прищурила глаза. На ее веках чуть-чуть блестел вазелин.
— Куда же мне деваться? Ты думаешь, что я могла бы поехать, ну, скажем, в Голливуд?
— Я не шучу, Катка, — ему было тяжело говорить, он с трудом двигал непослушным языком. — Ты не можешь оставаться в Валке!
Она отбросила окурок и затоптала его как-то по-мужски.
— Сначала и я так думала, ведь все обернулось иначе, чем я это представляла, когда убегала из дому.
Он схватил ее за руку. Катка с удивлением заметила твердую решимость на его лице.
— Я вернусь домой, Катка. Пойдем со мной!
Словно гром ударил среди ясного неба. Катка остолбенела и с трудом выдавила:
— Ты с ума сошел.
— Я решил это твердо. Думаешь, я выбрался из пекла, чтобы бедствовать здесь или кончить, как Вацлав?
В ее душе поднялась дикая сумятица. Крушение всех ее надежд, долгие месяцы отчаяния и наконец полная апатия, покорность судьбе, утрата всякой веры в то, что она еще когда-нибудь вернется в мир порядочных людей.
— Из Валки — домой, в тюрьму! К этому счастью ты стремишься?
— Надолго ли нас посадят? Я убежал — это верно, но я не изменил! Не говорил я ничего, что могло бы повредить республике. Мой побег — это страшная ошибка. Ошибаться может каждый. Не засадят же нас пожизненно. Они не варвары.
Она удивленно подняла подбритые брови. Гонзик напряжением воли удержался, чтобы не вскрикнуть.
— Я бы мог тебе, Катка, рассказать, кто такие варвары!
Она сделала знак Гонзику говорить потише, а сама испуганно оглянулась вокруг.
— Но ведь немцы тебя поймают на границе и не только посадят, но и вовсе прикончат…
Гонзик усмехнулся.
— Я не такой простачок. Бывал я в переделках и похуже, чем переход через одну границу. — Лицо его стало суровым, в голосе зазвучали решительные нотки. — Я обязательно вернусь домой, Катка, и тебя возьму с собой. Ты снова будешь дома, у мамы…
Что-то дрогнуло в ее взгляде. Губы приняли серьезное выражение. Накрашенные губы, будто алый шрам. Что же, неужели он не перестанет подмечать все новые и новые перемены в ее облике? «Теперь лето, — уныло подумал Гонзик, — в Нюрнберге я встречал здоровых, загорелых, смеющихся девчат, а Катка бледна, кожа у нее прозрачная, какая бывает у девиц в барах». Тень от каштана передвинулась, луч солнца упал Катке на лицо, ослепил глаза. Катка отодвинулась. В ярком свете Гонзик заметил тонкие морщинки у ее глаз.
«Сколько ей лет? Двадцать пять?» Он испытующе смотрел на Катку: следы равнодушия, отупения, тяжкой усталости, измученный, опустошенный человек. У него сжалось сердце. За два года он возмужал, окреп, стал упорным, научился преодолевать физические муки. Но против душевной боли он был все так же беззащитен.
Катка поигрывала перчатками, лежавшими у нее на коленях.
— С твоей стороны это хорошо, Гонзик, но… чего, собственно говоря, ты ждешь от меня? Я… — Она замолчала, и Гонзик вдруг обрадовался. Его охватило мучительное предчувствие, что он, возможно, не перенес бы того, чего не договорила, и тогда он, наверно, зажав уши, бежал бы из лагеря, и на последние жалкие марки, которые выменял за франки наемника, купил бы билет и уехал на поезде прочь, прочь отсюда.
Гонзик молчал. Наконец его мысли вернулись к самому ужасному.
— Вацлав, Катка… Я не могу с этим примириться, не могу поверить, не могу понять, это не доходит до сознания. Я бы смог его сохранить, непременно сберег бы его. Теперь я это точно знаю. Что же… Разве он остался здесь совершенно одиноким, неужели никто не сумел отгадать, что творится в его душе, что он задумал? Неужто никто не нашел для него теплого человеческого слова в те минуты?
Она побледнела. Судорожно сжала сумочку, на лице ее отразилось смятение. Она подумала о своем последнем свидании с Вацлавом, о его пылающих каким-то неестественным огнем глазах. Это были глаза уже отрешившегося от жизни… Вспомнила она свое безразличие к нему. Он всегда относился к ней хорошо. Другие мужчины в Валке на первые заработанные деньги постарались бы скорее поесть, приобрести какую-нибудь вещь, напиться или заплатить за «любовь». Вацлав поступил иначе. Он купил Катке рождественский подарок — теплые перчатки. Преданно, терпеливо умел он ждать, переносить ее безразличие в то время, как все ее существо устремлялось еще к Гансу.
Странно. Катка думала, что она уже окончательно отупела и стала совсем равнодушной к людям, к порывам их души. Выходит, что нет. Суровый укор Гонзика казался для нее невыносимо тяжелым.
Возможно, несколько дружеских слов, немного тепла, любви — и Вацлав мог бы быть сохранен, была бы спасена человеческая жизнь!
От волнения, ей кажется, у нее будет обморок.
Лицо Вацлава было отмечено печатью смерти, его обессиленные руки были протянуты к ней, а она осталась цинично холодна, как камень. Как, должно быть, любил ее этот человек, если так реагировал на ее мнимую вину тогда, в ту ужасную ночь… Как могло произойти, что она все это поняла лишь теперь, когда уже поздно?
Катка закрыла лицо ладонями, из глаз ее хлынули слезы, потекли сквозь пальцы. Катка, склонясь почти до самых колен, рыдала, как ребенок, не чувствовала успокаивающей руки Гонзика на своих плечах, не слышала его смущенных, утешительных слов: она видела лишь осевшую желтую глину на одинокой могиле, вырытой вдали от могил набожных христиан, в заросшем травой углу погоста, там, где предают земле бренные останки преступников или самоубийц.
Наплакавшись, Катка встала, посмотрела на часы и, все еще всхлипывая, сказала:
— Все это слишком неожиданно. Мне нужно привести мысли в порядок… Я ничего не знаю о маме, жива ли она? Я страшно хочу домой, хочу вернуться, но я очень боюсь… Иногда я начинаю думать, что это судьба, и у меня нет сил что-либо изменить…
— Нет, Катка. Профессор Маркус однажды сказал Вацлаву, я запомнил эти слова: «Судьба — это не цепь случайностей, судьбу свою человек творит сам еще раньше, чем он с ней столкнется». Теперь и мне это ясно.
— Загляни ко мне завтра, Гонзик, я сама не знаю, что со мной. Может быть, от всего этого я стану умнее…
Он поплелся вон из лагеря без всякой цели, без мыслей, отчетливо ощущая в себе лишь отчаянную пустоту. Еще сегодня утром, увидев из окон вагона трубы фабрики «Фюрт» и нюрнбергский замок, он почувствовал прилив сил. А теперь он проходил воротами Валки с засунутыми в карманы руками, точно так же, как большинство здешних молодых людей, и сам себе казался страшно старым, разочарованным.
Гонзик прислонился спиной к развесистому каштану. Грустные воспоминания перенесли его на много месяцев назад, в тот вечер, когда он незаметной тенью прокрался за Ганкой и Иреной. Так же, как и теперь, стоял он, прислонившись к дереву, наблюдая за белыми и черными парнями в американской форме на остановке автобуса.
Нет, Германия уже опомнилась от войны. Вероятно, и банка мясных консервов потеряла теперь свою былую цену. Катка…
— Гонзик!
Он поднял голову, и у него дух захватило: Ирена!
Ее вел под руку человек со знакомой широкой челюстью. Ирена щеголяла в новеньких зеленых туфлях и дорогих нейлоновых чулках. На голове у нее была красивая шляпка из каких-то мудреных фетровых цветов. Гонзик еще не успел прийти в себя от только что пережитых неприятностей и на вопрос о том, откуда он появился, ответил лишь, что был в Африке.
— Замечательно, легионер! — обрадовался редактор. — Сделаем превосходный репортажик, приятель! Приходи завтра в пять часов к нам в контору. Расскажешь что-нибудь перед микрофоном, разумеется за гонорар.
Гонзик молча смотрел на его желтый галстук с мчащимся оленем.
— Он из моей бывшей комнаты, — сказала Ирена своему партнеру.
— Если будет настроение, приходи к нам потом на кофе. Мы там, в новом бараке «Свободной Европы», возле церкви. — Она кивнула Гонзику головой, игриво произнесла: — Бай-бай, — и помахала зеленой перчаткой.
Пройдя пятьдесят шагов, Гонзик оглянулся. Ирена, элегантная, самодовольная, шла бодрой эластичной походкой.
Гонзик усмехнулся. Он оторвал листок со свисавшей над головой ветки, размял его пальцами и произнес: «Моя первая здешняя любовь!»
Сумрак — неслышный вечерний гость — спускался на землю. Плоский блин дыма неподвижно висел над городом, на низких холмах желтела стерня. С земли, прямо напротив Гонзика, поднялась осенняя паутина и беззвучно поплыла вверх, к облакам. В воздухе, несмотря на отдаленный глухой шум фабрик, воцарилась тишина и какое-то особое умиротворение — первый, едва заметный признак осени.
«Домой, домой!» — это мучительное, всепоглощающее стремление щемило грудь, не давало Гонзику покоя. Все его существо было охвачено лишь одной мыслью — поскорее пройти этот последний этап. Гонзик представлял себе, как в один прекрасный день он вновь усядется в уютном уголке маминой кухни выпить кофе из старенькой кофейной чашки с цветным рисунком, съесть кусок домашнего чешского хлеба, услышать знакомое с детства гудение в печной трубе. Он будет благоговейно смотреть на спину матери, наклонившейся над плитой, потом снова ляжет на свою постель, которая два года оставалась нетронутой, закинет руки за голову, закроет глаза и с несказанным облегчением вздохнет: кошмар уже позади!
Капитана Гонзик не застал. Хозяйка послала его в соседний кабачок.
Еще стоя в дверях, Гонзик увидел широкую спину Капитана: облокотившись о стол, Ладя глубоко задумался над шахматной партией.
Капитан вскоре почувствовал, что кто-то за ним стоит, и поднял голову.
— Гонза! — На резкий вскрик Капитана обернулись люди даже в противоположном углу зала. — Мертвые встают из гроба! Я… я сдаюсь. — Капитан щелкнул по фигуре: король упал на доску.
Капитан встал и так сжал Гонзика в своих объятиях, что тот чуть не задохнулся. Потом он потащил нежданного гостя к свободному столику, усадил его напротив себя и положил локти на стол. Его голубые глаза сияли от радости.
— Ну, рассказывай, старый мошенник. — Капитан поймал за рукав проходившего мимо официанта. — Бутылочку красного.
Гонзик рассказывал, попивая вино. Наконец замолчал и уставился в широкое лицо Капитана.
— Я… вернусь домой… — произнес Гонзик изменившимся, приглушенным голосом.
Капитан замер от неожиданности, потом медленно прислонился к спинке стула и стал внимательно изучать веснушки у основания Гонзикова носа.
— …и рассчитываю, что ты пойдешь со мной.
Капитан молчал, потом начал выбивать пальцами замысловатую дробь. Наконец после долгого молчания покачал головой.
Высохшая кожа на лице Гонзика потемнела от сильного прилива крови.
— Раньше ты был смелее.
Капитан расстегнул пуговицу воротничка и положил широкую ладонь на горло.
— Не в смелости дело, парень.
Гонзик посмотрел на него вызывающе. Капитан потупился.
— Я… не могу возвратиться, Гонзик. Я свою родную страну окончательно проиграл. Что тут объяснять: я дезертировал за границу в военной форме. Это государственная измена.
Капитан ерзал на стуле, словно сидел на угольях.
— Да и чего ради мне возвращаться? — В его голосе зазвучала вдруг непонятная агрессивность. — Чего мне не хватает? Я здесь устроился, и совсем недурно. Может, со временем буду даже иметь свою мастерскую. — Голос его стал громче и резче, что совсем не вязалось с содержанием его слов. Он отпил вина.
— Ты, офицер, будешь исправлять краны?
— И все же мне будет лучше, чем тысячам других в лагере! — крикнул Капитан раздраженно.
Гонзик оглянулся.
Но внезапно Капитан как-то сжался, стал меньше ростом, плечи обвисли, спина согнулась. В глубокой задумчивости он стал водить указательным пальцем по краю стакана.
— Я не причисляю себя к тем, которые околачиваются в лагере. — Капитан неопределенно взмахнул рукой. — Я не могу, понимаешь, не могу вернуться! А многие в Валке уже не хотят вернуться, тебе это ясно? — Теперь это снова был нормальный голос Капитана, несколько режущий ухо, немного пискливый для такой плечистой фигуры. — Они привыкли лодырничать, и уже никогда из них ничего путного не выйдет. Воровство и девки стали смыслом их жизни. Дома им пришлось бы работать.
Наконец Капитан поднял голову и прямо посмотрел Гонзику в глаза.
— Ступай один, Гонзик, я останусь… Где-то живет моя дочка, ей не было и четырех, когда я ушел. Каждое утро она караулила момент, когда я проснусь, перелезала из своей кроватки ко мне, гарцевала на мне верхом, как на ретивом коне, умела делать стойку, словно заправский циркач. А теперь каждое утро я просыпаюсь в одиночестве.
Капитан выпил вино до дна и тут же снова налил. На губах у него остался багровый след. В спутанных щетинистых волосах Капитана прибавилось много серебряных нитей. Он продолжал:
— Мы должны состариться, чтобы поумнеть. Только в почтенном возрасте человек избегает тех ошибок, которые свойственны молодости. Сущность жизни заключается в познании истины. Я за нее заплатил страшной ценой. Однако не так-то просто начинать жизнь сначала. Может быть, прав был Сенека, говоря, что те, которые все время начинают снова, живут плохо.
Гонзик сидел сам не свой. Он механически сыпал соль на скатерть, где пролилась капля красного вина.
— Я уже никогда не буду счастлив. Это я знаю, — продолжал Капитан. — Содеянное зло, дорогой мой Гонзик, возвращается к человеку, как пыль, брошенная против ветра. Иногда оно появляется непосредственно вслед за тем, что ты сделал, а порой возвращается к тебе сложным и долгим путем. Однако зло не является свойством, присущим мирозданию, оно существует лишь в человеческих сердцах.
Капитан провел пальцем по своему орлиному носу и переменил тему:
— Слыхал о половодье на Влтаве?
У Гонзика не было сил ответить.
— Половодье. Под мостом Ирасека плавает иголка, а возле нее — пианино, волны играют на его струнах. «Вот это музыка!» — похваляется пианино. «Как я могу ее слышать, — отвечает игла, — если у меня полно ушко воды?»
Гонзик усмехнулся. Сегодня уже во второй раз ему хотелось горько плакать.
Капитан выпрямился, сидя за столом.
— Если это рискованное дело кончится благополучно, взгляни вместо меня от Национального театра на Градчаны, затем купи булку, накроши ее и от моего имени кинь влтавским чайкам. А теперь ступай.
Капитан встал, взял Гонзика за плечи, не обращая внимания на посетителей, расцеловал в обе щеки. Потом, шумно задевая стулья, пошел обратно к своим шахматам.
Гонзик поплелся вон. В дверях он обернулся. Капитан провожал его взглядом. В его голубых глазах была бесконечная тоска. Он поднял руку — послал последнее «прощай» Гонзику, затем склонился над столом и стал расставлять фигуры на шахматной доске.
37
Ночной пассажирский поезд резко качнулся на стрелках, справа приблизился транспарант с надписью: «Швандорф». Поезд сбавил ход и затормозил. Здесь пересадка: ждать два часа. Гонзик пересчитал жалкие остатки денег, купил в буфете кусок хлеба с дешевой колбасой и снова уселся возле Катки на лавке. Молчали, было не до разговоров: нервное напряжение давило грудь, отражалось в беспокойных глазах, чувствовалось в кончиках пальцев. Еще два часа езды до Фюрта, а потом… Затхлый воздух зала ожидания, заспанные физиономии пассажиров, какой-то пьяница в углу громко храпел, положив лоб на край стола и беспомощно свесив руки до самого пола.
Гонзик с нетерпением поглядывал на часы у входа. Как бесконечно долго длится время, пока стрелка перескочит на одну минуту вперед!
Каткина голова медленно склонилась на его плечо. Гонзик тихонько прикоснулся к ней щекой. Он закрыл глаза и блаженно ощущал близость Катки. В прошлом году они вот так же сидели на берегу Пегницы. Как постарели они с тех пор! Нет, минуло, должно быть, десять лет: разве могла судьба всего лишь за один год так жестоко расправиться с горсточкой людей из комнаты номер одиннадцать? И все же он не принадлежит к потерпевшим крах. Он еще окончательно не выкарабкался, опасность до сих пор подстерегает его, однако в глубине сердца таится уверенность, которой прежде никогда не было. Половина победы за ним. Он превозмог страх перед угрозой расплаты за свою ошибку, нашел силы посмотреть в глаза собственной совести.
Знакомая форма Landespolizei появилась в дверях зала ожидания. Квадратная шапка, автомат на ремне.
Гонзик остолбенел. Полицейский посмотрел вокруг и медленным шагом стал обходить помещение. Гонзик прищурил глаза Он слышал топот тяжелых ботинок, каждый нерв в нем звенел высоким тоном, словно натянутая стальная струна. Шаги замерли посреди зала. Гонзик чувствовал, что полицейский испытующе глядит на него и на Катку. Нет, теперь нельзя даже шелохнуться! Бесконечно долго продолжалась эта пытка зловещей тишиной, и только в висках Гонзика невыносимым звоном бьют колокола тревоги; наконец послышались удаляющиеся шаги. Гонзик приподнял веки: полицейский, облокотившись на стойку, болтал с буфетчицей, а через некоторое время вышел вон.
Катка крепко спала в продолжение обхода полицейского, теперь же без видимой причины ее передернуло, как от удара электрического тока: она встрепенулась от кошмарного сна. Переменив положение, она повернулась лицом к Гонзику, улеглась поудобнее и снова уснула.
В зале опять тишина, спертый воздух, сонные пассажиры. Стрелка на часах щелкает всякий раз после долгого раздумья. Каждый такой звук приближает Гонзика к заветной цели. Пьяный пассажир теперь прислонился к спинке лавки, голова его запрокинулась назад, рот открылся, и храпел он в самых высоких мажорных и сочных тонах.
Лицо Катки похорошело и смягчилось, полумрак зала ожидания поглотил морщинки около рта.
Полицейский давно вышел, а внутреннее напряжение Гонзика не ослабевало. Год, долгий год мечтал он о подобном блаженном мгновении. Избитый, лежа на тюремных нарах или в раскаленной утробе корабля, согбенный под тяжким бременем амуниции в бесконечных учебных походах под белым солнцем Африки, — каждый день и каждую ночь он простирал руки к ее далекому лицу, ее образ помогал ему жить.
Гонзик крепче прижал Катку к своей груди. Он готов все забыть, все простить.
Нет, Катка не стала плохим человеком. Вчера она так горевала о Вацлаве. А он сам теперь уподобляется метеору, который попал в гравитационное притяжение Земли и уже мчится к ней, все более накаляясь. Ничто, никакая сила не в состоянии приостановить его стремительный полет.
Гонзик закрыл глаза и поцеловал Катку в губы.
Она проснулась и открыла глаза, но тут же веки ее снова опустились. Однако вскоре Катка подняла голову. Теперь она окончательно проснулась и серьезно, долго смотрела ему в лицо. Гонзик положил локоть на спинку вокзальной скамьи за плечами Катки, а лбом прикоснулся к ее виску. В этом жесте была полная покорность и смирение.
Она пошевелила губами и беспомощно опустила руки на колени.
— Не могу я всего этого понять, Гонзик. Я даже не знаю, сумею ли я еще… Мне кажется порой, что во мне умерли все чувства. Я словно высохла, огрубела и, как мне кажется, уже слишком долго живу на свете…
Он сидел неподвижно, закрыв глаза и прижав лоб к ее лицу.
Она прикоснулась к его руке.
— Обманулся ты во мне, да?.. И я… старше тебя…
— …А у меня веснушки на носу, и рыжие волосы, и к тому же я придурковатый, — прервал он ее.
— Не говори глупостей. И прошу тебя: не требуй от меня сейчас ничего. Я сама на себя гляжу как на чужого человека, в котором никак не разберусь. Да и неизвестно, что будет завтра, не поймают ли нас. А если нет, так кто знает, как долго я буду в тюрьме и что будет потом… Ведь мы идем в темноту, Гонзик.
Он выпрямился.
— А у меня, наоборот, такое чувство, словно мы идем из тьмы к свету… Но теперь мы об этом спорить не будем. Одно я знаю твердо, что там, на другой стороне, я начну сначала и лучше… и ты тоже, Катка… Если бы даже нас ожидало невесть какое наказание, когда-нибудь оно ведь кончится, и мы все равно будем дома.
И снова трясся пассажирский поезд, взбираясь на гору по берегу какой-то речки. Всякий раз, когда открывалась дверь во второе отделение вагона, ночные пассажиры холодели от страха, словно сама смерть протягивала к ним свою костлявую руку. Катка все время курила и механически каждую минуту бросала взгляд на часы, а потом на Гонзика. Какое-то ноющее чувство страха вгрызлось в нее. Тусклое освещение вагона и бездонная тьма за окном только усиливали ледяную тоску, облекавшую их, как тяжелая мокрая пелена.
— Почему мы не поехали днем? — спросила Катка.
— Тогда мы попали бы в лес к ночи, и поди ищи дорогу в темноте.
Катка пристально смотрит на Гонзика. Перед ней уже не то круглое, почти детское, доверчивое и наивное лицо с пухлыми губами. Теперь оно возмужало, посуровело, обгорело на солнце. Пройденный Гонзиком путь закалил его, сделал настоящим мужчиной. Странно, Катка нервничает, боится, а этот человек — само спокойствие.
Перед ее глазами всплыл берег Пегницы в Нюрнберге.
Катка была уверена, что отношение женщины к мужчине должно основываться на восхищении. В противном случае даже самая большая любовь умрет. Тогда она не находила в Гонзике никаких достоинств, перед которыми могла бы преклоняться. Наоборот, она ясно чувствовала свое превосходство над ним. Но теперь ей пришлось признать, что кое в чем Гонзик ее перерос.
Но все это думалось ей так, между прочим. Главным же ее чувством в то время был смертельный страх, который заглушал всякую живую мысль.
Поезд остановился. Гонзик выловил из кармана бумажку с названием станции и посмотрел в окно.
— На следующем разъезде выйдем, до самого Фюрста ехать опасно.
В тамбуре вагона, где они ехали, мигнула лампочка, висевшая на груди у кондуктора. Поезд, пыхтя и отдуваясь на подъеме, снова пополз в гору. Но вот наконец круглые рефлекторы у сонных фонарей на стрелках и маленький безлюдный вокзальчик. Катка и Гонзик покинули поезд поодиночке. Пропустив мимо себя горстку пассажиров, шедших на огоньки недалекой деревни, Гонзик и Катка встретились и двинулись в обратном направлении.
На востоке, там, где выделялась светлая полоса, звезды уже побледнели. Сырой воздух приятно холодил пылавшие от возбуждения щеки. Оба вздохнули с облегчением, когда почувствовали под ногами усыпанную хвоей мягкую лесную дорогу.
— Хочешь есть?
— Я даже не думаю о еде. Мне только хочется пить, — ответила Катка.
— Когда посветлеет, найдем ручей.
Гонзик направился в гору по глухой, каменистой, извивающейся между деревьями дорожке. Катка еле поспевала за ним и вскоре начала отставать.
— Я буду тебе обузой. У меня ведь сердце не в порядке.
— И все же мы должны идти в гору, Катка. На дорогах в долине — много людей.
Они пошли по гребню каменного кряжика, господствующего над долиной, направляясь к полосе пограничных лесов. Катка остановилась — глубоко внизу, в просветах между кронами деревьев, по извилистой колее, как уж, полз поезд, выбрасывая вверх снопы ярких искр. Поезд двигался в ту же сторону, куда шли и они. Гонзик, перехватив тоскливый взгляд Катки, угадал ее мысли.
— Не могли же мы ехать поездом до самого пограничного пункта, Катка. Так мы бы наверняка попали в руки пограничной стражи. Нам придется обойти станцию лесом.
Катка согласилась с ним и молча двинулась в путь. Гонзик теперь пошел следом за ней. Ее стройная фигура в городской одежде странно выглядела здесь.
Они сделали большой крюк, далеко обошли Фюрст и опять спустились в долину. Здесь наконец нашли лесной ручеек с холодной прозрачной водой и напились. Гонзик принудил Катку поесть. Теперь им предстояло подняться еще на одну гору и выйти к самой границе. Они шли, карабкаясь между валунами, и вдруг молча остановились перед столбом, на котором красовалась жестяная вывеска с надписью: «Achtung! Verbotene Zone!»[179]
Пограничная зона. Ничем этот лес не отличается от того, по которому они сегодня утром уже прошли, — кое-где растет малина, а немного поодаль к ее аромату присоединяется приятный пряный запах грибов, около стены высоких сосен стремглав пролетела птица, густые заросли ельника перемежаются с прогалинами, и все же тут что-то новое. Теперь, сейчас, вот здесь решится все!
Гонзик остановился на вырубке и показал перед собой:
— Вон там, Катка, видишь? Гора Черхов. Я смотрел в Нюрнберге по карте, каких-нибудь пять километров — и мы дома!
Катка поразилась. Каким тоном он это сказал! Откуда только в нем берется эта уверенность? Их поймают, отведут на ближайшую заставу. Допрос, регенсбургская тюрьма с вонючим клозетом, водянистая бурда с прокисшим хлебом, враждебные взгляды и грубая брань надзирательниц, снова американцы — все это, однажды уже пережитое, вновь предстало перед ней. Неужели это опять повторится? «Пять километров — и мы дома!» Но что значит «дома»? Другая тюремная камера, допрос, уголовное наказание. И все же Катка теперь уяснила: когда-то это наказание окончится, и она получит возможность, как сказал Гонзик, начать жизнь сызнова.
Гонзик, а за ним и Катка направились к склону Черхова.
Они молчали — теперь не до разговоров, напряжение возрастало с каждой сотней метров.
Они миновали перекресток лесных дорог. Вдруг откуда-то слева — голоса. Катка побледнела. Гонзик затаил дыхание и предостерегающе приложил палец к губам. Трясущейся рукой он схватил Катку и потянул ее в низкий подлесок. Они улизнули вовремя: пограничный патруль был совсем близко. Стоило сухой веточке хрустнуть под ногами беглецов, и всему был бы конец… Гонзик и Катка притаились во мху возле тропки и с бьющимися сердцами ждали.
Голоса приближались. Катка закрыла лицо согнутым локтем, ее туфель уткнулся в его ботинок. Гонзик чувствовал, как она дрожит. На ощупь найдя его руку, Катка судорожно сжала ее.
В просвете между молодыми елочками Гонзик видел кусочек перекрестка. Шаги приближались, голоса слышались все отчетливее.
На перекресток вышли двое в зеленых униформах с синими кружочками на рукавах: западногерманская пограничная полиция. Один стражник остановился, вытащил из кармана пачку сигарет и, повернувшись лицом прямо к Гонзику, закурил.
— …Но я ее накрою, стерву: два раза ночью ее уже не было дома. — Сигарета погасла, полицейский выругался и снова зажег спичку.
Огонек ее засиял над веткой, словно свечка на рождественской елке. Гонзик разглядел продолговатое лицо под полевой шапкой. Пограничник сосредоточенно глядел на свою сигарету, а прямо перед ним, в каких-нибудь десяти метрах, лежали нарушители границы!
— Послезавтра, — продолжал полицейский, — я снова дежурю. Не я буду, если не подкараулю ее у дома, и если это окажется Зепп, разобью морды и ему и ей… — Сигарета разгорелась.
— Во второй половине дня, вероятно, будет дождь, — напарник ревнивого пограничника посмотрел на серое небо, и оба направились в гору, прошли мимо беглецов. Ревнивый перекинул автомат с груди на плечо.
Голоса заглохли на лесной тропинке, судорожно сжатые руки Катки ослабели. Гонзик немного подержал ее ладонь, потом прижал ее к своему вспотевшему лицу и тихонько поцеловал. С улыбкой облегчения он посмотрел на следы Каткиных ногтей на своей руке. Вдруг он подумал: «Как хорошо, что она со мной!» Удивительная вещь: он ее уговорил, и на нем будет лежать вся тяжесть вины, если переход не удастся. Тем не менее присутствие Катки, то, что он за нее в ответе, неожиданно придавало ему уверенности и решимости.
Ему пришлось поддержать Катку: она все еще дрожала и в первые минуты не могла держаться на ногах.
— Если бы у них была собака, нам бы конец, — прошептала она.
— Собаки не было, Катка, и мы наверняка перейдем!
Гонзик решительно направился по единственно возможной дороге — по той, которой прошли полицейские.
На измученном лице Катки отразилось недоумение.
— Не можем же мы все-таки следовать за ними, свернем немного в сторону, ничего иного не придумаешь, — сказала Катка и остановилась.
Вдруг ни с того ни с сего в ее глазах сверкнул сердитый огонек.
— Мне не следовало с тобой идти, ты во всем виноват…
Гонзик от неожиданности заколебался, но тут же взял себя в руки.
— Не бойся, Катка, нам все удастся. Когда человек чего-то страстно хочет… С того мгновения, когда за мной захлопнулись ворота казармы в Страсбурге, я страшно захотел домой. Ночью и днем, даже во сне, ни на секунду я не переставал желать этого. Три недели тому назад я был за две или сколько там, точно не знаю, тысяч километров от наших границ. Теперь мы от границы километрах в трех. Ты что же, думаешь, что мы теперь повернем и пойдем обратно в Валку стреляться, как Вацлав?
Она внимательно слушала и во все глаза смотрела на его бронзовое загорелое лицо. И как будто без всякой связи вдруг подумала: «Если бы не этот человек… То в конце длинного списка падших, таких, как Ирена, Ганка и многие десятки им подобных, прибавилось бы имя Катки…»
Она покорно и послушно последовала за ним. Дорога теперь тянулась по косогору. Наконец Гонзик решил подняться в гору, к гребню. Что поделывают те двое полицейских? Гонзик скрыл от Катки эту тревожную мысль. «Если от границы они повернули влево, то мы неизбежно снова столкнемся с ними… Но как узнать это наверняка? Не остается ничего иного, как попытаться где-то подняться вверх». Гонзик даже вспотел.
Гонзик шагал впереди, пытливо осматриваясь. У него даже глаза заболели от напряжения. За каждым деревом, за каждым пнем, поросшим мохом, могла притаиться зеленая форма полицейского. Но пока все было тихо, и они шли и шли к заветной цели. Гонзик, не отдавая себе отчета, все ускорял и ускорял темп движения. Катка же выбилась из сил и тяжело дышала открытым ртом. Дорога стала каменистой и очень крутой. Теперь уже оставалось совсем немного. В двухстах шагах перед ними ниспадающая линия гребня, на нем уже отчетливо светился белый пограничный камень.
Наконец го граница!
Откуда-то справа выползла новая дорожка. Гонзика внезапно без видимой причины охватило беспокойство. Ему все слышались отдаленные шаги, потрескивание веток под чьими-то ногами. Он остановился и невольно прижал руки к груди. Какой-то огромный молот колотил внутри, заглушая все звуки. Катка испуганными глазами беспомощно всматривалась в его лицо — звуки приближались. Гонзик впился взглядом в направлении шума: ничего, только шелест прошлогодних листьев. Гонзик схватил Катку за руку, и они побежали в гору, но их все равно преследовал невероятно быстро приближающийся непонятный треск. Гонзик и Катка остановились как вкопанные. Ветви молодой поросли неподалеку затрепетали, и через дорожку упругим, грациозным прыжком легко перемахнула серна, за ней другая, третья.
Беглецы вздохнули с облегчением. Ведь и Гонзик на этот раз испугался так, что у него зуб на зуб не попадал. Теперь он улыбнулся, глядя на Катку, но ее лицо испугало его: оно было белое как снег, губы посинели, глаза измученные.
«Хотя бы одного человека вытащу из проклятых джунглей Валки, хотя бы одного…» — вертелось у Гонзика в голове. И снова это бледное, измученное лицо придало ему ярости и силы.
В этот миг справа послышались голоса.
— Скорее, скорее, — зашептал Гонзик и вместе с Каткой кинулся прямо к гребню.
Шагов через тридцать у нее подогнулись колени.
— Катка, бога ради, наша жизнь на волоске!
Она тяжело дышала. Гонзик не стал ждать, пока она почувствует себя лучше, и поволок ее вперед: была дорога буквально каждая секунда. Раздался громкий треск, словно выстрел из пистолета, и Катка споткнулась. Это треснула сухая ветка под ее ногами: у страха глаза велики!
Но вскоре они ясно услыхали топот тяжелых сапог за собой. До гребня оставалось еще метров сто.
— Halt!
Гонзик бежал и так сильно тянул за собой Катку, что чуть не вырвал ей руку. Ручьи пота застилали ему глаза. Эти секунды и впрямь были решающими: жизнь или смерть!
— Halt, Verflüchte![180] — Топот примерно метрах в двухстах. Гонзик оглянулся: двое полицейских бежали за ними. На груди у них болтались автоматы. Юноша потянул Катку с дороги влево. Она снова споткнулась, и Гонзик увидел кровь на ее ладони: она, по-видимому, поранила руку об острый камень. Гонзика охватил ужас: вдруг Катка упадет в обморок — тогда всему конец! Он еще быстрее помчался в гору, хватаясь за деревья. Ему казалось, что вместо сердца у него камень, а ноги налились свинцом, казалось, что такую тяжесть никогда не удастся донести до гребня. Гонзик и Катка, цепляясь за нижние ветви деревьев, продирались лесом к цели, а те двое бежали по дороге — им легче, но что делать беглецам? На дороге их бы подстрелили, как зайцев на охоте.
Белый пограничный камень сияет на гребне и притягивает к себе, как мощный магнит. «Все добрые силы вселенной, стойте возле нас, не дайте нам погибнуть в тридцати шагах от родины, в двадцати, в де…»
«Ра-та-та-та!»
Катка упала как подкошенная. В диком ужасе он схватил ее на руки, споткнулся, больно уколол обо что-то колено, снова встал и, теряя последние силы, понес ее вперед. Белый камень промелькнул около него.
— Halt!
Смерть подстегивала Гонзика и гнала его вниз с гребня. Он бежал с дорогόй ношей на руках, ослепший от едкого пота, заливавшего глаза, задыхаясь, ничего не слыша. Боль и жалость разрывали ему сердце, а вместо легких у него — огненные мехи, которые жгли, нещадно жгли все в груди.
«Ра-та-та-та!»
Гонзик обессиленный рухнул на землю. «Господи, эти мерзавцы стреляют сюда, на нашу сторону!» Бежать дальше он уже не мог. Если те двое отважатся погнаться за ними через границу, то схватят его и Катку, как браконьеры ловят раненых зверей в чаще.
— Катка!
Кровь сочилась из царапины на ее щеке. Это она поранилась какой-нибудь веткой. Нет, нет, это не смертельно — несколько красных капель, и только!
— Катка, что с тобой?
Он ласково гладил ее бледные щеки, целовал глаза, полные слез, влажный от пота, похолодевший лоб, шею, грудь, губы. Он хотел оживить ее своими поцелуями.
— Ни… чего, ни… мне ничего… думаю, что…
Он снова поднял ее и, тяжело ступая, побежал лесом вниз с крутого гребня. Но вот боль в коленке начала все острее и острее ввинчиваться в кость. Гонзик стал все сильнее и сильнее припадать на ногу и наконец совсем захромал. Он бережно положил Катку на землю, а сам уткнулся лицом в мох.
— Что… что случилось?.. Где мы?
Гонзик потерял понятие о времени. Наконец он поднял голову и посмотрел в ее исстрадавшееся лицо.
— Мы… дома, Катка…
Но тут же в нем что-то молниеносно поднялось и подкатило к горлу, из глаз брызнули облегчающие душу слезы, смешно задрожал подбородок, губы непроизвольно скривились в гримасу блаженного, безграничного счастья. Гонзик зарыл лицо в холодный влажный мох, как дитя в материнские колени, под распластанными ладонями он почувствовал дорогую сердцу родную чешскую землю.
Снизу, с лесной просеки, послышался быстрый топот, чешские слова, нетерпеливый собачий лай.
От издательства
Зденек Плугарж — современный чешский писатель, родился (1913 г.) и вырос в г. Брно, по профессии инженер-строитель. Во время войны был узником гитлеровского концлагеря.
В 1948 году Зд. Плугарж возглавлял строительство Вирской плотины (Чехия), в пятидесятые годы занимался проектированием плотин.
Перед войной Плугарж выступал в печати с научно-популярными очерками. Свои первые романы он издал уже в народно-демократической Чехословакии С шестидесятых годов Плугарж занимается исключительно литературной деятельностью.
Плугарж по преимуществу романист, наиболее значительные его романы пятидесятых годов — «Бронзовая спираль» (1953) — о чешском ученом-изобретателе Йозефе Ресселе (1793–1857), «Голубая долина» (1954) — о строителях Вирской плотины, и «Если покинешь меня» (1957).
Роман «Если покинешь меня» был удостоен Государственной премии ЧССР, он переведен на многие языки, на родине писателя выдержал большое количество изданий.
Зд. Плугарж продолжает плодотворно работать. После романов о проблеме воспитания молодежи, преступившей закон («Пусть бросит камень…», 1962), и других писатель успешно выступил в последние годы с новыми романами, наиболее интересные из которых — «Минута тишины за мою любовь» (1969), действие которого происходит в годы первой мировой войны, «Последняя остановка» (1971) — о доме для престарелых, и «Один серебряник» (1974) — о борьбе против фашистов в годы оккупации Чехословакии.
В 1974 году Зденеку Плугаржу присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств.
Роман «Если покинешь меня» неоднократно издавался на русском языке.
Примечания
1
Имеются в виду события 20–25 февраля 1948 года, когда трудящиеся Чехословакии одержали историческую победу над реакцией, пытавшейся осуществить контрреволюционный путч. (Здесь и далее прим. переводчика.)
(обратно)2
Стой! (нем.)
(обратно)3
Ах, так! (нем.).
(обратно)4
Господин комендант (нем.).
(обратно)5
Эти чехи (нем.).
(обратно)6
Ну, давайте быстрее! (нем.)
(обратно)7
Куда? (нем.)
(обратно)8
Боже мой! (нем.)
(обратно)9
земской полиции (нем.).
(обратно)10
перебежчиков (нем).
(обратно)11
Второй этаж (англ.).
(обратно)12
мальчики (англ.).
(обратно)13
Коширже, Нусле — районы Праги.
(обратно)14
военной полиции (англ.).
(обратно)15
Второй завтрак! (англ.).
(обратно)16
Есть, понимаете? (нем. и англ.).
(обратно)17
«Нестле. Изготовлено в Швейцарии» (англ.).
(обратно)18
Машиностроительный комбинат «Шкода».
(обратно)19
Черт побери! (англ.).
(обратно)20
До свидания (англ.).
(обратно)21
Лагерь Валка (англ.).
(обратно)22
Вновь прибывшие? Добро пожаловать (нем.).
(обратно)23
понятно? (нем.).
(обратно)24
комната для семейных (нем.).
(обратно)25
Привет! (чешск.).
(обратно)26
Марка американского трубочного табака.
(обратно)27
Отче наш, иже еси на небесех… (польск.).
(обратно)28
Боже мой! (франц.).
(обратно)29
То есть земли, частично конфискованные после первой мировой войны.
(обратно)30
Игра слов: vedeni — по-чешски — линия электропередачи, а также и центр политического руководства.
(обратно)31
Бромфилд Луис (1896–1956) — американский писатель, автор бульварных романов.
(обратно)32
То есть радиостанция «Свободная Европа».
(обратно)33
Имеется в виду контрреволюционное эмигрантское «правительство».
(обратно)34
Тушеное мясо (англ.).
(обратно)35
Путевой лист, виза на въезд (искаж. англ.).
(обратно)36
к сути дела (лат.).
(обратно)37
А что касается вас (франц.).
(обратно)38
Франк — гитлеровский наместник в «Протекторате Чехии и Моравии».
(обратно)39
Моравец — один из министров марионеточного правительства «Протектората Чехии и Моравии».
(обратно)40
«Рот-Вайсс-Рот» («Rot-Weiss-Rot») — в то время радиостанция американской военной администрации в Австрии.
(обратно)41
Работы нет (нем.).
(обратно)42
Чехи, да (нем.).
(обратно)43
Милостивые государи, кампанию зимней помощи (нем.).
(обратно)44
Ты глупый (англ).
(обратно)45
Проверку (англ).
(обратно)46
«У Максима» (нем.).
(обратно)47
«Якобинец» — опера чешского композитора Антонина Дворжака (1841–1904).
(обратно)48
начальников лагерей (нем).
(обратно)49
уроженец Смихова — района города Праги.
(обратно)50
Гитлеровской армии (нем.).
(обратно)51
Светлейший (лат).
(обратно)52
Имеются в виду главари чехословацкой реакционной эмиграции.
(обратно)53
Отдел социального обеспечения (нем.).
(обратно)54
Си-Ай-Си — американская военная контрразведка (Counter Intelligence Corps).
(обратно)55
Чех? (нем.)
(обратно)56
Вон, вон, вон (нем.).
(обратно)57
Слушайте, вы, молодой человек (нем.).
(обратно)58
Вздор (нем.).
(обратно)59
понимаете (нем.).
(обратно)60
Вацлавская площадь — центральная площадь в Праге.
(обратно)61
Пейте охлажденную кока-колу (нем.).
(обратно)62
Тисо — президент марионеточного словацкого государства в годы второй мировой войны.
(обратно)63
Разрешение на выезд (нем.).
(обратно)64
Магнификус (лат.) — обращение к ректору.
(обратно)65
желаю удачи (англ.).
(обратно)66
То есть Чехословакии с момента образования в 1918 году и до 1938 года.
(обратно)67
Совет свободной Чехословакии — реакционное эмигрантское «правительство».
(обратно)68
«Богемия», «Ческе слово», как и «Свободный зитршек» — чешские эмигрантские газеты.
(обратно)69
Отче наш, иже еси на небесах! Да святится имя твое, да приидет царствие твое… (польск.)
(обратно)70
Святая Мария, матерь божия, молись за нас, грешных (польск.).
(обратно)71
Иду на посадку, господин полковник (англ.).
(обратно)72
Вот и все (англ.).
(обратно)73
коммерческой жилки (нем.).
(обратно)74
боже мой! (нем.).
(обратно)75
Христос родился. Счастливого рождества! (польск.).
(обратно)76
«Старый Сэм» (англ.).
(обратно)77
мозговой трест (англ.).
(обратно)78
Черный Петр — карточная игра, где проигравший называется «Черным Петром».
(обратно)79
Международная организация беженцев.
(обратно)80
Отец, папаша (нем.).
(обратно)81
«У круглого стола» (нем.).
(обратно)82
Вы рехнулись (нем.).
(обратно)83
Католическая харита — благотворительное общество.
(обратно)84
сделка (нем.).
(обратно)85
До свидания, господа (нем.).
(обратно)86
Имеются в виду вооруженные отряды чешских фашистов.
(обратно)87
Сакристия — ризница в католических храмах.
(обратно)88
«Тебя, бога, славим…» (лат.).
(обратно)89
Большое спасибо (нем.).
(обратно)90
Чай с ромом (нем.).
(обратно)91
Снежка — самая высокая гора на севере Чехословакии.
(обратно)92
Венцель Якш — вожак судетских реваншистов.
(обратно)93
чешский негодяй (нем.).
(обратно)94
Оставь его (нем.).
(обратно)95
«Хорст Вессель» — фашистская песня.
(обратно)96
Гром и молния (нем.).
(обратно)97
Летна — обширная площадь в Праге, где происходят демонстрации и военные парады.
(обратно)98
Аэродром под Прагой.
(обратно)99
Частный санаторий (нем.).
(обратно)100
Пресвятая дева, мать, угодная богу (польск.).
(обратно)101
Розан души моей, пречистая дева (польск.).
(обратно)102
Как говорила та монахиня? (польск.).
(обратно)103
болен (нем.).
(обратно)104
Вы из лагеря Валка, да? (нем.).
(обратно)105
западногерманский кулак (нем.).
(обратно)106
«Дикобраз» — чешский юмористический журнал.
(обратно)107
Доктор медицины Вацлав Юрен, специалист-гинеколог (нем.).
(обратно)108
Ступай! (нем.).
(обратно)109
Смотри (нем.).
(обратно)110
член союза гитлеровской молодежи (нем.).
(обратно)111
Гершвин Джордж (1898–1937) — американский композитор, автор оперной и джазовой музыки.
(обратно)112
Господин военный летчик (нем.).
(обратно)113
Кобылисы — пригород Праги, Коунички — пригород Брно, где гитлеровцы расстреливали чешских патриотов.
(обратно)114
Пушечное мясо (нем.).
(обратно)115
Проклятая свинья (нем.).
(обратно)116
Фамилия! (нем.)
(обратно)117
Вашего руководителя (нем.).
(обратно)118
Проклятые чешские свиньи (нем.).
(обратно)119
Армия спасения — английская реакционная религиозно-филантропическая организация, содержащая ночлежные дома, столовые; имеет свои филиалы во многих странах.
(обратно)120
Пристрастием к мылу (нем.).
(обратно)121
Вот это жизнь! (нем.).
(обратно)122
Ехать по правой стороне улицы! (нем.).
(обратно)123
Какая-то дама (нем.).
(обратно)124
Боже мой (нем.).
(обратно)125
Гейдрих — гитлеровский наместник в оккупированной Чехии. Был убит чешскими патриотами.
(обратно)126
Отрывок из стихотворения чешского поэта В. Дыка.
(обратно)127
«Паспорт для иностранца. Ян Пашек» (нем.). (Гонзик — уменьшительное от имени Ян.).
(обратно)128
Ты прав (нем.).
(обратно)129
С богом (нем.).
(обратно)130
Гарри Грант — американский киноактер.
(обратно)131
пойдем (англ.).
(обратно)132
Какой восхитительный город! (нем.).
(обратно)133
стиляги (нем.).
(обратно)134
Тырш Мирослав (1832–1884) — чешский историк, основатель спортивного общества «Сокол», автор книг о физической культуре.
(обратно)135
Слово джентльмена (англ.).
(обратно)136
Севастопольский бульвар (франц.).
(обратно)137
Точнее — из романа «Унесенные ветром» американской писательницы Маргарет Митчелл (1900–1949).
(обратно)138
Партия аграриев — аграрная партия, объединявшая крупных землевладельцев; была основана в конце прошлого века и распущена в 1945 году, как партия, сотрудничавшая с оккупантами.
(обратно)139
Подумаешь, невидаль! (франц.).
(обратно)140
Иностранный легион (франц.).
(обратно)141
Прошу прощенья (англ.).
(обратно)142
Честной игры (англ.).
(обратно)143
Будьте добры (англ.).
(обратно)144
Мое имя Чарльз (англ.).
(обратно)145
Не понимаю (венг.).
(обратно)146
Ладно (франц.).
(обратно)147
вечное движение (лат.).
(обратно)148
Канадская иммиграционная контора (англ.).
(обратно)149
Молодой человек (англ.).
(обратно)150
Ваше имя? (нем.).
(обратно)151
Пепек — уменьшительное от Иозеф (чешск.).
(обратно)152
Вы арестованы (нем.).
(обратно)153
«Свободная Европа» (искаж. англ. от Free Europe).
(обратно)154
Чешская свинья собачья! Чех вонючий! Дерьмо богемское! (нем.).
(обратно)155
Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра весь мир… (нем).
(обратно)156
Смирно! (франц.).
(обратно)157
Друзья (франц.).
(обратно)158
Боже мой, боже мой (франц.).
(обратно)159
Вперед, вперед! (франц.).
(обратно)160
Только и всего (англ.).
(обратно)161
Прага — пригород Варшавы.
(обратно)162
волки (франц.).
(обратно)163
То есть не легкомысленный простачок, каких называли Франтишеками, а думающий и дотошный человек.
(обратно)164
Неблагонадежный (англ.).
(обратно)165
Молитва за упокой души (польск.).
(обратно)166
стобашенная Прага (нем.).
(обратно)167
Чехословакию называют сердцем Европы.
(обратно)168
Бегом, марш! (нем.).
(обратно)169
Живее, живее! (нем.).
(обратно)170
в Патагонию (нем.).
(обратно)171
сапожному искусству (нем).
(обратно)172
Ах, простите (нем.).
(обратно)173
Несчастный случай? (англ).
(обратно)174
Англичанин? (англ.).
(обратно)175
Иностранный легион, Сайгон, нет, нет… Понимаете? (франц.).
(обратно)176
Полиция. Не хорошо (англ.).
(обратно)177
одежде (англ.).
(обратно)178
Выходите (нем.).
(обратно)179
Внимание! Запретная зона! (нем.).
(обратно)180
Стой, проклятые! (нем.).
(обратно)




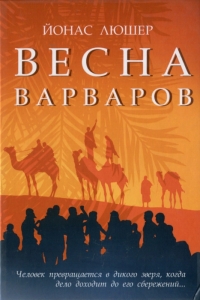

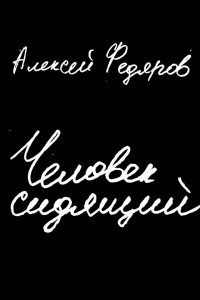


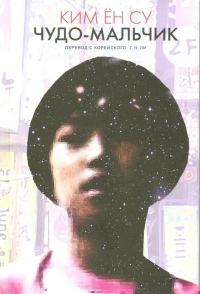



Комментарии к книге «Если покинешь меня», Зденек Плугарж
Всего 0 комментариев