Оксана Даровская Браво Берте
© Даровская О., текст, 2015
© Журавлев К., оформление переплета, 2015
© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015
Глава 1. Пристанище
– Зайдите ко мне, Берта Генриховна, через пять минут, дайте переодеться. – Цербер на ходу метнул в нее из-под шляпы зловещий взгляд.
«Чтоб тебя разорвало. Угораздило с утра попасться на глаза», – вжалась в стену вестибюля Берта. Ее руки прятали за спиной миниатюрный предмет. Электронные часы над главным входом равнодушно мигали двоеточием – 8:51.
– Сколько можно, Берта Генриховна? – Он сидел за рыжим ламинированным столом, постукивал ладонями по потускневшей столешнице с запекшимися в царапинах чернилами.
На вешалке у двери сырели его драповое пальто и узкополая шляпа из черного когда-то фетра, и Берта, стоя на пороге кабинета, ощущала кисловатый запах старой, вымокшей на улице шерсти. Он придвинул металлическую пепельницу, достал из кармана пиджака пачку сигарет, закурил. От местного персонала Берта знала, с конца прошлого века Цербер потребляет только «Золотую Яву». Верность отечественному производителю он хранил даже в этом. Табличка на двери кабинета гласила: «Директор Церазов Борис Ермолаевич», и именно Берте три года назад пришло в голову намертво приросшее к нему прозвище.
– Вы не желаете понимать, – выпустил он через нос первые струйки дыма, – что Любовь Филипповна не в состоянии находиться в атмосфере вещей, которыми вы заполонили совместную, заметьте, совместную с ней комнату. – Льдисто-серыми глазами он уставился, кажется, на Берту, но куда-то сквозь нее. – Почему по вашей милости должен страдать невинный человек?
Дым расплылся по кабинету, достиг ее ноздрей – она поморщилась, не столько от дыма, сколько от вялой патетики директора.
Ее мимику он проигнорировал:
– Молчите? Смотрю, побывали уже на улице. Вы, Берта Генриховна, будто не слышите слов, отвергаете правила человеческого общежития. Как прикажете с вами разговаривать?
Свеженайденная вещь находилась в кармане ее куртки. Это вселяло оптимизм и отчасти мирило с окружающим. Сейчас боковым зрением она наблюдала, как под столом директор освободил от ботинок ноги в мрачных хлопковых носках с ослабшими резинками и разминал пальцы, белеющие сквозь вытертости мысков. До нее доносилось потрескивание суставов. «Да-да, застарелый артроз», – мелькнуло у нее с секундной жалостью к директору. В поисках опоры для спины она прислонилась к дверному косяку, по привычке вскинула голову, подумала: «Что, в сущности, этот приверженец „Явы“ и советского носочного раритета может понимать в моих пристрастиях?»
– Во-первых, – собралась она с духом в момент очередной его затяжки, – вы не предложили мне сесть, а перед вами дама преклонных лет. Во-вторых, ваша драгоценная Любовь Филипповна – фискалка, неотесанная деревенская плебейка, ни черта не смыслит в предметах старины и антиквариата!
– Опять трагикомедия? – заметнее возбудился директор. – Вам не надоело? Вы, естественно, можете снять верхнюю одежду и сесть, в моем кабинете это не возбраняется, но, по-моему, свои роли вы привыкли разыгрывать стоя.
«Совсем охамел, тощий мерзавец, я ему устрою трагикомедию и правила общежития», – внутренне вскипела Берта, садясь на краешек дерматинового стула, стоящего у двери. Она пристроила на коленях куртку и старалась держать спину и спокойствие. Давалось это с трудом. Возникшая пауза навела на мысль, что она переборщила с «неотесанной деревенской плебейкой», и тогда она негромко спросила:
– Борис Ермолаевич, почему вы реагируете на жалобы одной стороны, но пренебрегаете интересами другой? Потому что я не опускаюсь до подметных писем? Вы полагаете, я не знаю, что Любовь Филипповна регулярно строчит на меня доносы? Зна-аю. Прекрасно знаю. И замечу, имею вполне конкретный повод для встречных пасквилей. Однако ей не уподобляюсь, продолжаю терпеть ее ежедневные утренние и вечерние песнопения.
– Минуточку! – оборвал ее директор. – Пение – эфемерная вещь. Любовь Филипповна спела, и все. Она не ущемляет ничьего пространства, не нарушает ничьих пределов. Ваши же забавы требуют все большей территории.
– Насчет пения вы заблуждаетесь, уверяю вас, – вместе со стулом развернулась к нему Берта, – голоса некоторых особ могут вызвать нервный припадок, а то и приступ ярости в ком угодно! Потом, вы забыли о ЗОЖах!
У директора задергалась левая скула, он затушил недокуренную сигарету, не отрывая взгляда от пепельницы, подытожил металлическим голосом:
– Вы свободны. Не испытывайте моего терпения. Сто первого китайского предупреждения не будет – я не китаец. Прошу сегодня же собрать свои бесчисленные бирюльки и отнести туда, откуда принесли. Не вынуждайте меня прибегать к крайним мерам.
Берта встала со стула, решительно набросила на плечи куртку, но, взявшись за дверную ручку, заметила предательское дрожание руки. В коридоре она левой ладонью отшлепала правую изменщицу. «Контролируй себя, усмири поганые нервы», – шепотом приказала она телу и направилась в столовую.
Шел десятый час, народец в столовой почти рассосался: за столиками в разных углах рассредоточились человек пять, любящих поспать подольше. Любови Филипповны среди них не наблюдалось. «Ка-ак же, ворвалась в первых рядах страждущих, наскоро заглотила содержимое тарелки и пустилась на коронный моцион, блюстительница режима хренова», – с отвращением подумала Берта, пробуя на вкус грязно-желтую пшенную кашу. Каша, как всегда, горчила. Для смягчения горечи ее можно было залить стаканом молока, положенного на завтрак. Но Берта не стала этого делать. «Уж лучше голодай, чем что попало ешь…» – в который раз прибегла она к философии сына Древнего Востока, мелкими глотками допивая молоко. После чего двинулась к стойке с использованной посудой, поставила туда пустой стакан и тарелку с чуть тронутой кашей.
В окошке раздачи мелькали крупногабаритные спина и зад судомойки Раисы Степановны. «Опять тебе горчит, Генриховна!» – весело выкрикнула та, не отступая от привычного дела. (С тарелками и столовыми приборами Раиса Степановна не церемонилась.) Ее голос и схожие с репетицией поселкового оркестра посудные звуки действовали ободряюще.
Два с половиной года назад эта грубоватая, но щедрая женщина презентовала Берте, по ее просьбе, истертый на животе, однако годный к применению прорезиненный фартук. «Не спрашиваю, Генриховна, зачем, хотя догадываюсь, – подытожила тогда Раиса Степановна. – Ох, артистка ж ты. Гляди, что б никто из местных на тебе его не увидел. Церберу донесут, казенное имущество разбазариваю, у него, сама знаешь, каждая склянка и спичка на счету». С той поры Берта питала к Раисе Степановне стойкое чувство доверия.
«Если потороплюсь, успею побыть наедине со своими любимцами», – про себя заключила она на выходе из столовой. Миновав вестибюль, пестрящий бюллетенями о здоровом образе жизни, она с легкостью поднялась по лестнице на второй этаж, проследовала в конец коридора, толкнула дверь с табличкой «18» и вошла в двухместную, вытянутую кишкой обитель, четвертый год служившую ей единственным приютом.
Социальный стандарт и банальность царствовали здесь во всем. Справа по курсу, в обрамлении выгоревших, раздвинутых твердой рукой Любови Филипповны штор, зиял ноябрьский пейзаж. Вдоль неопределенного цвета стен водружались близнецы-кровати с низкорослыми тумбочками в изголовьях. Стену напротив окна занимал трехстворчатый шкаф под орех, той же, что кровати и тумбочки, второсортной подмосковной фабрики.
Каждый из предметов меблировки был переименован Бертой на свой лад. Шкаф переплавился в «шифоньер» с ерническим интонационным перескоком, как на нижнюю ступеньку, на мягком знаке. Тумбочки были окрещены «кнехтами», что являлось термином не только судовой оснастки, а по-немецки обозначало еще «крепостных», «батраков». Кровати, в зависимости от Бертиного настроения, носили два названия. В приемлемые для нее дни они оставались «койко-местами», в дни совсем для нее отвратные становились «нарами». Она умела подчеркнуть разницу в выражениях: «прилечь на койко-место» или «опуститься на нары».
И все же светилось в этом казенном унынии заметное с порога яркое пятно – ровно полподоконника, – словно забредший сюда по ошибке художник, ужаснувшись увиденному, выдавил на свободную поверхность, как на палитру, краски для будущей непременно веселой картины.
Первым делом Берта шагнула к раковине в углу за дверью, неспешно подмигнула своему отражению в настенном зеркальце и извлекла из кармана куртки ту вещицу, что так тщательно оберегала от глаз Цербера. Это был фарфоровый двенадцатисантиметровый клоун, облаченный в желтую концертную блузу, заправленную в синие, не по размеру, штаны с одной косой бретелькой. Ворот блузы венчал оранжевый бант, из-под черного цилиндрика смеялись лукавые в морщинках глаза, нижнюю часть лица занимали малиновый нос-бульба и аналогичного цвета рот в улыбке от уха до уха. У клоуна имелся дефект: был отбит круглый набалдашник правого ботинка. Однако еще на улице Берта опробовала его на устойчивость: на ногах он держался – значит, годился в ее коллекцию. «Так-то, брат, – констатировала она, подставляя намыленного клоуна под струю воды, – лопни, но держи фасон!» Промокнув клоуна ручным полотенцем, она подошла к подоконнику, черным маркером разделенному Любовью Филипповной пополам, и, прежде чем внедрить того в фарфорово-глиняный коллектив, вновь обратилась к нему: «Так-то лучше, в этом строю ты оценишь главное жизненное преимущество, поймешь, что не одинок». Она застыла над разномастной компанией, покачивая головой, словно ожидала услышать аплодисменты в сторону новичка. Затем объявила: «Боюсь, всем вам на днях придется перебраться в темницу. Цербер не на шутку разъярился. Ну-у, не печальтесь, недра „кнехтов“ все лучше мусорных контейнеров».
В плотном, но не преступающем черты строю находились персонажи разной степени ущербности. Целилась стрелами на север и на юг парочка безносых амуров с отколотыми кудрями. В маске со стертыми красками замер в танцевальном па персонаж из веселого венецианского карнавала. Разыгрывалась сценка из старинной жизни, где кавалер во фраке с расходящимися полами преклонил колено пред однорукой дамой в небесно-голубом пышном платье. Застыл в полупоклоне тонконогий элегантный скрипач со смычком и грифом от отсутствующей скрипки в опущенных руках. Присел на пенек, наигрывая неведомую мелодию на остатке отбитой дудочки, юный пастушок. Не было здесь только зверья. К фигуркам животных Берта питала равнодушие. Ее привлекали исключительно только человеки, преимущественно творческих призваний.
Страсть Берты к фигуркам из фарфора имела фамильные корни. В ней был повинен ее отец – обрусевший поволжский немец с запутанной трагической судьбой. Небольшая восхитительная коллекция статуэток Мейсенской фарфоровой мануфактуры, сколько помнила себя Берта, пестрела на полке серванта их с теткой квартиры. Непревзойденным украшением, венцом коллекции, были «Танцор» и «Паяц» мастера Кендлера. «Танцор» был красочнее, эффектнее одетого в скромный белый костюм «Паяца». Но маленькая Берта, тайно от тетки, брала с собой на ночь в кровать именно «Паяца» и там, теребя покрытые позолотой пуговицы его курточки, крупные капли-серьги, прежде чем уснуть, заговорщически с ним шепталась. А ранним утром, бесшумно пробегая на цыпочках по прохладному полу гостиной, аккуратно водружала его на место.
И теперь, в иных жизненных декорациях, ее коллекция на подоконнике была чуть ли не единственным островком, напоминавшим о безвозвратно затонувшем прошлом.
Соседку по комнате, заядлую кляузницу Любовь Филипповну, Берта про себя именовала «Любка – плесневая юбка». По ощущениям Берты, от той исходил неистребимый запах старого затхлого сундука. При поступлении в интернат-богадельню заслуженных работников культуры, вслед за положенной профилактической беседой с руководством, Берту поместили на койку накануне «отошедшей» режиссерши одного подмосковного театра. Через неделю жизни рядом с Любовью Филипповной Берта уверовала: ее новоявленная соседка внесла немалую лепту в безвременную (спорить нечего) кончину режиссерши.
Ширококостная, полногрудая семидесятивосьмилетняя Любовь Филипповна принадлежала на первый взгляд к разряду «правильных», а по Бертиному заключению, подгнивших смолоду, если не с рождения. Свое пожизненное разложение она вуалировала отработанными за долгую певческую карьеру манерами. Но в истинности или фальшивости человеческих манер провести Берту было почти невозможно – она (после одного рокового случая, о котором позже) мгновенно распознавала цену любым из них. Как выяснилось в день Бертиного заселения, Любовь Филипповна многие годы состояла солисткой ансамбля русской народной песни и пляски. Берта, с детства воспитанная в лучших традициях драматического, оперного и балетного искусства, откровенно презирала народную манеру исполнения. («Этих рьяных плясунов в шароварах и вышитых рубахах навыпуск, этих румяных горлопанок в пыльных сарафанах и усеянных бисером кокошниках!») У нее имелось убеждение: «В такого рода „артисты“ могут податься лишь люди, забракованные на иных творческих фронтах. Ибо подлинное искусство призвано вырывать из сермяжной простоты, а не окунать в нее снова и снова». Исключение для Берты составляли три профессиональных хранителя и носителя русских народных традиций: хореографический ансамбль «Березка», хор Пятницкого и Северный русский народный хор, – этого было достаточно.
До попадания в здешние стены она помыслить не могла, что ей придется (не насмешка ли судьбы?) делить кров с второсортной представительницей певческих «народников». Именно в момент знакомства и признания «народницы» в преданности избранному делу Берта, как ни старалась, не сдержала эмоций. «Какой ужас!» – полушепотом произнесла она и, приложив узкую ладонь к щеке, медленно опустилась на койку. А спустя несколько секунд, отчасти предвкушая, что ее ждет, выдохнула: «За что?» Любовь Филипповна, оставаясь стоять по центру комнаты, замерла на полуслове. В образовавшейся тишине между пожилыми женщинами сверкнул яркий разряд молнии; с этого вечера нелюбовь Берты к жанру народной песни, помимо распеваний, регулярно подкреплялась вредоносными выпадами затаившей крепкую обиду соседки.
Необыкновенно бойкая для своих лет и габаритов Любовь Филипповна распевалась строго по графику: с 10:30 до 11:15, после утренней прогулки, и с 17:00 до 17:45 – перед ужином. По ее выражению, она «не намеревалась терять высшую квалификацию и при самых скверных соседствах». В нередко произносимой в лицо Берте фразе, сопровождаемой тяжелым пристальным взглядом, упор делался на словах «высшую» и «скверных». Начинала солистка с разнорегистровых «о-о-о-о-о», «а-а-а-а-а-», «у-у-у-у-у», потом комбинировала гласные, затем приступала к основному действу. Пела она исключительно форте, приняв в середине комнаты стойку с распростертыми в стороны и к потолку руками. Связки ее дрожали и вибрировали во всех регистрах подобно эвенкийскому варгану. Репертуар варьировался от «Поживем, моя милая, в любви хорошенько» до «Твою мрачную могилу всю слезами обольем». Окружение безмолвствовало, потому как над комнатой находилась нежилая часть здания, внизу располагалась столовая, одной капитальной стеной комната граничила с улицей, через другую стену жили туговатые на уши двойняшки Кацнельсон, филармонические флейтистка и арфистка в прошлом. Таким образом, Берта оставалась единственным прямым слушателем и свидетелем распеваний. Певческих сбоев на ее памяти случилось всего два. Когда прошлогодней зимой соседку сразило ОРЗ и с высокой температурой она слегла на несколько дней в отсутствие сил и голоса и в легендарный приезд по весне ее троюродной сестры из Вышнего Волочка, с которой день напролет воскрешались воспоминания юности.
Брюк «народница» не носила ни по какому случаю, зато домашних и прогулочных юбок у нее имелось великое множество, и любая из них излучала стойкий запах плесени, крепко въевшийся во внутренности общего на двоих «шифоньера».
Глава 2. Занавес
Театральная карьера Берты Генриховны Ульрих закончилась одиннадцать лет назад. Ради служения неувядающим Мельпомене и Талии Берта не раз ставила на карту собственную судьбу. И теперь почти ни о чем не жалела. Почти…
Она могла бы прослужить на театре куда дольше, если бы не тот внезапно настигший ее эпизод с нежелательной ролью.
В начале сезона девяносто девятого года театр отпраздновал пятидесятидевятилетие своей ведущей примы – ею была именно Берта, – а в середине января двухтысячного к ним прибыл молодой, прогрессивный, по слухам, режиссер Лев Геннадиевич Васильчиков, приглашенный из Красноярска поработать по контракту. Коллектив пребывал в творческом застое, и накануне приезда красноярского дарования театральные закоулки звенели, гудели в предвкушении: «Наконец-то… ветер перемен… молодая кровь… незамутненный взгляд… сибирский гений…»
Высокий, худой и гривастый, он обвел со сцены синеоким прищуром не отошедшую от встречи Нового года, растекшуюся по партеру труппу и с места в карьер начал, что ему «претит импотенция современных драматургов», что давно примерялся к классике и уже «взялся за нее в новом, нестандартном формате».
– Это будет на редкость динамичная пьеса, – мерил Лев Геннадиевич подмостки размашистым шагом, – абсолютно свежее прочтение горьковской «Старухи Изергиль». Вас удивляет, почему этот рассказ? Проиллюстрирую преимущества. Вы отметили, с каким фанатизмом режиссеры новой волны ринулись штурмовать Островского? «Бешеные деньги», «Доходное место», «Волки и овцы» и прочее. Нахлынула поголовная «островщина». Этой купеческой трухой они думают разоблачить сегодняшний день?! Ха! Пусть попыхтят, не возражаю. А вот «Старуху Изергиль» не ставил пока никто. Я, по крайней мере, таковых не знаю. Им кажется, – Васильчиков косо ухмыльнулся, на ходу кивнув в направлении левой кулисы, – что это не постановочное произведение. С ваших подмостков заявляю этим пигмеям от искусства: смотря в чьих руках! Итак, – страстно потер он руки, – на сцене у меня столкнутся Ларра и Данко, живущие среди нас. Ларра – сорокатрехлетний олигарх-нувориш, собирающийся отчалить в Лондон. Данко – студент технического вуза, выходец из наполовину интеллигентной семьи. – У правой кулисы Лев Геннадиевич притормозил: – Что? Кто-то что-то спросил? Уточнил? Мне показалось? – Труппа упорно молчала. Расслабив мышцы, он возобновил ходьбу. – Спектакль будет кипеть реалиями сегодняшнего дня, мощным противоборством двух антагонистичных начал! Вот актуальнейший конфликт! – Выхватив из-за левой кулисы стул, он сел на него в ореоле пыли вполоборота к залу, вытянул вперед спринтерские ноги, скрестил на груди руки, обратив лицо к потолочным конструкциям. – Детали конфликта я обрисую позже, его квинтэссенция разыграется во втором акте. Там герои подерутся: крепко, нещадно. Их драка ознаменует не только смену веков, режимов, но и… ладно, это потом… – Он прикрыл веки, стараясь снизить градус. – Ядром первого акта у меня станет женщина. Она явится контрапунктом всей истории. Никаких степей, таборов, разглагольствований у костра, как вы понимаете, не последует. Из предметов на сцене будет только скамейка – символ городского бульвара, где, пожилая, сильно пьющая, она начнет бессвязно, потом лаконичнее излагать свою биографию. А попутно – здесь – внимание! – кульминация мизансцены – взывать к прохожим в поисках нового Данко. Минимализмом антуража я хочу обострить, усилить нервный импульс ее страданий.
– Изумительно смело! – не выдержал с первого ряда вечно любящий выпятиться Спиридонов. – Архинатуралистично!
Васильчиков не оценил комплимента и, судя по всему, разозлился.
– Вас что-то не устраивает? – обжег он Спиридонова вспышкой правого глаза. – Именно доведенная до отчаяния женщина – собирательный образ России – способна разглядеть в толпе личность, вызвать вперед, пробудить в ней самосознание, жертвенность, и прошу больше меня не перебивать! – Он вернул взор к потолку. – В самых сокровенных болевых местах она будет обрывать монолог глотками водки из горлышка бутылки. Да. Именно так. Потому что не просто рассказывать, как душу единственного сына поглотили гордыня и алчность. Ларик – так она звала его в детстве – когда-то был тихим, выросшим без отца мальчиком, звезд с неба не хватал. Но оказался в девяностых в номенклатурной обойме и успел хапнуть как следует. С тех пор его сердце необратимо окаменело. И вот страдающая мать вышла к людям в поисках духовного сына. Пусть им станет близкий ей не по крови, но по духу человек! – Рывком подобрав ноги, Лев Геннадиевич развернулся к актерам анфас. – На фоне угрожающего расслоения общества это будет спектакль-вызов! Сегодняшний российский режиссер, не говоря об «островщине», помешан либо на протухших философиях, либо на однополой любви с раздеваниями. От гражданского пафоса он бежит как черт от ладана! А не мешало бы к нему вернуться. Художник, если не шарлатан, не трус, обязан кричать в рупор, бить в колокола, вырывать из апатии и спячки. Лидер с горящим сердцем нужен сегодня на сцене, как никогда! Скажите, где, как не в столице, ставить такой спектакль? Не спорю, моя трактовка не вписывается в рамки «Старухи Изергиль», она шире, глубже, масштабнее, но не беспокойтесь, – махнул он в зал ладонью, – Горькому я дань отдам. Помещу старое название внизу афиши, мелким шрифтом. Основной же слоган, алого цвета, будет звучать так, – тут Лев Геннадиевич поднялся со стула, – «СЕРДЦЕ НОВОГО ГЕРОЯ».
На этих словах оцепеневшая, казалось, труппа вздрогнула и, как по команде, оглянулась на худрука Иванова, но, не заметив со стороны того никакой выдающейся реакции, стала переглядываться друг с другом. В новогоднюю ночь двухнедельной давности сложил с себя полномочия нарубивший дров Ельцин, на горизонте замаячил никому не известный герой. Не его ли сердце имеется в виду в предлагаемых обстоятельствах пьесы?
– Простите, в какой манере будем играть? В гротесковой? – вклинился в паузу баритон мускулистого тридцатилетнего Аверина, наверняка (и небезосновательно) рассчитывавшего на роль Данко.
– Ни в коем случае, – Васильчиков отодвинул стул, – это будет полновесная драма лишь с вкраплениями трагикомедии и гротеска. Наелся я, знаете ли, дешевых экспериментов, необоснованного фарса, когда о серьезном – со стебом, с издевкой. Хочется настоящей и, простите за тавтологию, живой правды жизни.
– Снова призыв к революции… – то ли спросил, то ли констатировал вечно пессимистически настроенный, с лицом, напоминающим кратер потухшего вулкана, пожилой актер Константин Григорьевич Клюквин. Но его реплика осталась невостребованной.
Из глаз енисейского флибустьера в зал летели искры и букеты фиалок, вдохновленная его страстной энергией Берта, обожавшая молодость, почти прониклась только что услышанной, не лишенной привлекательности идеей, когда раздался шепот сидящей с ней рядом возрастной актрисы Коноваловой:
– Интересно, кому он поручит роль полусумасшедшей этой а-ля Изергиль? Уж кого я только не играла, но мне бы, к примеру, не хотелось.
– Отчего же, роль по-своему колоритна, свежа, есть зерно, – аналогичным шепотом ответила Берта, будучи уверенной, что именно Коноваловой она и достанется. – Ты спроси у него, Люся, – приблизила она губы к уху соседки, – Иванов и Судейкина наверняка его просветили, не сомневаюсь, каждому отвесили характеристику. Полюбопытствуй сейчас, официального распределения ролей не дожидайся.
Коновалова послушалась приму, подняв, как школьница, руку, в волнении поинтересовалась с несвойственными ей еврейскими нотками:
– Лев Геннадиевич, а сколько героине по сюжету ле-ет? И вы кого-нибудь наметили уже на эту ро-оль?
Режиссер подошел к краю авансцены и вгляделся в сторону вопрошавшей. Но прожектор его очей, минуя Коновалову, выхватил из зала именно Берту:
– Сакраментальный вопрос. Я его ждал, вернее, его вторую часть. Возраст героини не секрет – ей где-то шестьдесят семь. А в роли я вижу единственного человека в вашем театре. И в связи с этим позволю себе небольшой исторический экскурс. Весна семьдесят девятого, мне без двух недель пятнадцать, мать везет меня на каникулы в Москву, в один из вечеров мы идем в театр. Это была «Кошка на раскаленной крыше». Всех коллизий и перипетий пьесы я, наивный восьмиклассник, конечно, тогда не оценил, но актриса, исполнявшая Маргарет!.. Я, представьте себе, влюбился. До беспамятства, первой подростковой любовью. В каждое ее слово, в каждый жест и взгляд. Хромого дурака Брика, ее мужа, я возненавидел. Я мечтал, чтобы по ту сторону рампы испарились все, осталась только она и вела монолог, обращенный исключительно к нам, зрителям. Лучше персонально ко мне. Для меня не существовало уже ни сцены, ни актрисы. Была лишь умопомрачительная женщина, обжигающая своей судьбой. Ровно год я грезил, когда наконец позволит мой возраст примчаться одним прекрасным днем в столицу и жениться. Отбить ее у любого, кто встанет на моем пути. Именно в тот вечер, уверен, зародились во мне зачатки будущей профессии. И вот в качестве режиссера я перед вами – труппой одного из обожаемых мной московских театров. Я безумно хочу, чтобы на сей раз талант Берты Генриховны Ульрих проявился в моем спектакле. Не скрою, – в извиняющейся позе Лев Геннадиевич сложил у груди ладони и вновь устремился к рампе, – меня несколько смущает ваш моложавый вид, Берта Генриховна, но, думаю, это не проблема, состарить можно кого угодно. Седой парик, тщательный грим, чуть согбенная спина, легкая надтреснутость в голосе – вот все внешние атрибуты. Главное здесь другое. Передать терзания, душевную боль несчастной матери не только за сына, но за всю многострадальную Русь!
Весь коллектив смотрел теперь на Берту. Что это было? Вопиющее хамство девственного нахала или тонко продуманный ход? Берта словно оглохла, ослепла, онемела. Этот лохматый бандюга только что зарезал ее без ножа. Да, она может все. Верную жену, подругу, любовницу – святое дело! Коварную изменщицу – запросто! Пьяную – легко! Чуть тронувшуюся рассудком или вконец обезумевшую, отвергнутую, отчаявшуюся, одинокую – пожалуйста, сколько угодно!! Но молоды-ых!! В ее сердце всколыхнулась надежда, вот сейчас – еще секунда! – худрук встанет на ее защиту, осадит бесцеремонного прохиндея. Но Иванов молчал, как все вокруг. Берта сочла это бесповоротным предательством коллектива. Она поднялась с кресла, мужественно держа спину, в гробовой тишине двинулась вон из зала. Словно в мареве проплыли перед ней каменное лицо завтруппой Судейкиной и торжествующее, с нескрываемой улыбкой – Пироговой из второго состава. Иванов, сидящий с краю у прохода, попытался поймать ее за руку, успев прошипеть одним углом рта: «Не глупи, Берта, разберемся мы с ролью», но она, вильнув в сторону, отмахнулась от него рукой.
Она навсегда запомнила стук собственных каблуков по паркету пустынного фойе партера, вниз по лестнице, по выложенному плиткой вестибюлю, мимо гардероба, мимо плачущих, а может, ухмыляющихся ей вслед зеркал. Ни одна живая душа не ринулась за ней в ту роковую минуту. Эти стены предали ее. Вернее, не стены, а их постояльцы, вечные лицемеры-завистники. «Вон из так называемого храма, на самом же деле прибежища двурушников и ханжей! На свободу, на свежий ветер, к вольным хлебам, к простым, лишенным коварного лицедейства людям…» Вместе с глотком морозного воздуха и захлопнувшейся за спиной дверью ее пронзила леденящая мысль: «Что, если все продумано и запланировано? И руками заезжего молодого резонера матерый хищник Иванов захотел от меня избавиться?»
О эта треклятая ночь после ухода ее из театра. И вереницы других бессонных страшных ночей. Каждым последующим утром она все горше раскаивалась в ноте собственного протеста. Но идти на поклон к худруку ей было немыслимо.
Спустя две недели Иванов позвонил из театра сам. С нарочитым спокойствием заговорил, что текущий репертуар никто не отменял, что до сегодняшнего дня ему кое-как удавалось врать о ее якобы простуде, но завтра она просто обязана появиться. Держа трубку ледяной, окаменевшей ладонью, с бьющимся в горле сердцем и яростно пламенеющим нутром, Берта слушала его лепет.
– Поверь, Берта, нет повода… из-за какого-то сопляка…
Говорил он много. За его многословностью, Берта хорошо знала, скрывалось мощное волнение. «То-то же, – мелькнуло у Берты, – без меня-то вы что?!» И здесь, казалось бы, замаячил повод затушить двухнедельной давности вспышку. Вернуть течение жизни в прежнее русло. Но вероломный неуправляемый дракон, знакомый Берте если не с детства, то с ранней юности, восстал из глубин ее существа и выпустил огненный залп.
– Да, – с трудом она узнавала свой резко осипший голос, – но ты слова не проронил в мою защиту!
– Ты бы предпочла, чтобы я немедленно начал разбор полетов и превратил знакомство режиссера с коллективом в вокзальную склоку? Кстати, что у тебя с голосом?
– Так вот, – набрала она в легкие воздуха и выдала второй выхлоп, – коль этот новатор с его экспериментом, точнее – экскрементом, дороже тебе, чем я, вводи в ближайший спектакль Пирогову, пробил ее звездный час!
Иванов на том конце провода вспыхнул:
– Дался тебе этот Васильчиков! Твоя любимая «Власть женщины» через два дня! Билеты распроданы, люди придут на тебя!
– Да! Именно на меня! А к ним выйдет второразрядная Пирогова. Не забудь передать ей, чтоб заржала погромче, как она умеет, в третьей сцене. Пусть всем будет хуже – тебе, мне, зрителям! Всем, кроме нее!
Иванов воспламенился с пяток до лысины, превратив провод в бикфордов шнур:
– Ну знаешь, Берта, невыносимо! Какое-то просто хулиганство! В конце концов, никто бы не принудил тебя играть эту чертову алкоголичку. Если уж прямо, даже Гиацинтова и Бабанова не гнушались возрастных ролей! Бабанова так вообще вышла у Ефремова на сцену в роли, соответствующей ее восьмидесяти годам!
На этих словах Берта швырнула трубку.
Вечером того же дня позвонил Костя Клюквин. Он был пьющим человеком, но не дебоширом, тихим, стабильным занудой, оттого страшился резких перемен на театре. Этот редчайший актер-жертвенник когда-то безнадежно долго был влюблен в Берту и с тех пор продолжал тащить за собой шлейф застарелого чувства. На подмостках рядом с ней он проявлял удивительную щедрость, никогда не перетягивал одеяла на себя, позволяя ее таланту развернуться в полную мощь. Оттого клубок закоренелых театральных злопыхателей называл его «птицей-чистильщиком на теле гиппопотама» (под гиппопотамом в переносом смысле имея в виду, естественно, Берту). За минувшие дни он неоднократно пытался до нее дозвониться. Но Берта, глядя на определитель, светящийся знакомыми цифрами его домашнего номера, к телефону не подходила. Однако на этот раз она трубку сняла.
– Бертушка, – умоляюще начал Клюквин, – что ты с нами делаешь? Зачем оставляешь нас сиротами?
По его ноющему, протяжному тону она поняла – он хорошо подогрелся за день. «Что ж, откровенней будет», – решила она.
– Брось, Костя, не разыгрывай из себя арлекина, убитого горем. Признайся, после моего ухода пир горой и дым коромыслом?
– Что ты! Как можно? Все ходят словно в воду опущенные.
Берта злорадно усмехнулась:
– В воду, говоришь, опущенные? Ну и как? Никто там на днях не захлебнулся болотной ряской?
На это Клюквин промолчал. А Берту охватил новый прилив отчаяния. Куда-то совсем подевался голос. Она произнесла почти шепотом:
– Врать, Костя, ты так и не научился. У поголовного большинства праздник души и именины сердца. И кончим на этом.
– Да, но…
– Никаких, Костя, «но», – оборвала она его. – Нужно признать, пришел конец моей «Власти женщины». Чего уж тут! Не волосы же рвать. А выходить на сцену, опираясь на клюку, с трясущейся головой, – увольте.
Клюквин и здесь промолчал. Только вздохнул шумно и многомерно. Она слышала, как он налил себе очередные пятьдесят граммов. Выпил. Опять помолчал. Не стал жалеть ее вслух. Такую его душевную чуткость она ценила превыше всего.
– Налей себе, Костя, еще, – попросила она, – выпей за упокой моей жизни на сцене. Там дальше посмотрим, чем этот рассадник единомышленников станет цвести и пахнуть без меня.
Ближе к ночи, будто в подтверждение сказанных Клюквину слов, прогремел еще один звонок. Определитель номера демонстрировал зловещие прочерки. Неузнаваемо-глухой, среднего рода голос отчеканил скороговоркой:
– Наконец-то, свершилось, старая шлюха! Думала играть молодух до Второго пришествия? Ан нет, истекло твое время. Бай!
После этого звонка Берта, любящая обычно принимать на ночь ванны с лавандовым маслом, бесконечно долго стояла мумией под душем.
Наутро она не выдержала и позвонила завлиту Галочке Ряшенцевой, многолетние театральные отношения с которой, пройдя сквозь перипетии, выстояли под флагом духовной близости. (Под ложечкой сосала острая необходимость смягчить послевкусие от ночного звонка.)
– Неужели все, Галка?
– Что ты наделала, Берта? – искренне выдохнула Ряшенцева. – Что ты наделала?
Последовал глубочайший Бертин вздох.
– Видела бы ты, как вчера Иванов рвал и метал. Почерневшим демоном носился по театру, орал, что ты никакая не женщина, а исчадье ада! За полмесяца умудрилась кастрировать его дважды!
– Ругай, Галя, ругай.
– Да-а, толку-то тебя теперь ругать. Сама себя приговорила.
– Что Судейкина? – осторожно спросила Берта.
Но Галку несло дальше:
– Ты понимаешь, что твое двойное сальто-мортале они тебе не простят? Разве можно в нашем нежном возрасте выпадать из обоймы по личной инициативе? Через пять минут позабыт всеми, позаброшен!
– Они? – возвысила голос Берта. – Ты это про Судейкину?
– Про Судейкину тоже. Несмотря на перманентный антагонизм с Ивановым, в отношении тебя они на сей раз солидарны. На вчерашнем собрании Судейкина прямо заявила: «Я устала терпеть ее эксцентричные выходки! Незаменимых, как известно, нет!»
– Значит, слились в злобном экстазе против меня, – медленно протянула Берта. – Красноярское дарование, значит, признали?
– Признали.
– Где же был твой голос?
– Где? Тебе ответить в рифму? Ты прекрасно, Берта, знаешь, что я, в отличие от тебя, унижена и оскорблена пожизненно. Ну, сунул мне Васильчиков распечатку этого самодеятельного кощунства над Горьким – исключительно для проформы. Кто когда-нибудь всерьез интересовался у нас мнением завлита? У нас, сама знаешь, не МХАТ. Подай-принеси, пошла вон. Иванов для видимости у меня в кабинете покривился – не Чехов, мол, развел руками: «Лучшего-то нет» – и через два дня поставил «Сердце нового героя» в репертуарный план. Пророни я хоть слово критики, молодежь сожрала бы меня с потрохами прямо за рабочим столом. Особенно Аверин и Заславская, эта алчная, беспринципная фурия с вытаращенными глазами! Но кукиш им, не дождутся они от меня! Вешаться, как в свое время завлит театра Пушкина, не стану!
«Все-е, взобралась на своего любимого конька, понеслась по кочкам, – подумала Берта, – зря я ей позвонила. Не гожусь я на роль Ярославны. Ярославна у нас Галка».
Поостыв со временем, она вспоминала свой «уход» как скверный анекдот из собственной жизни. Но анекдот или нет, с театром было покончено раз и навсегда. Занавес безнадежно рухнул. «Господи, пусть сыграла бы эту пьющую горемыку-мать, пу-усть! Тысячу раз пусть! Этот молокосос правильно меня раскусил, я бы врезала на сцене джаз русского отчаяния!» Да, это была натуральная трагедия, без фарса и гротеска. Девять следующих лет прошли в перечитывании и переосмыслении русской классики на фоне денежных долгов, невостребованности и одиночества, разбавленных редчайшими приглашениями в сборную солянку сцены Дома актера.
Наблюдая происходящее в интернате, она все больше ненавидела старость – в любых ее проявлениях. Творящееся вокруг именовала «картинками с выставки». Она была моложе многих здешних поселенцев – при поступлении ей не исполнилось семидесяти. К тому же природа наградила ее отменным здоровьем, блестящей, не упускающей мелочей памятью, но главное, служащим ей крепкой опорой, незыблемым духом противоречия. Ее бунтарская натура отказывалась принимать окруживший ее в последние годы безжалостный распорядок жизни, трагические телесные несоответствия: желудочные несварения, недержания сфинктеров, вставные челюсти, игру сосудов, повсеместные треморы, прыжки давления, аритмии, тахикардии, артрозы, склерозы разных мастей и прочее, прочее. Нередко Берту посещали мысли следующего порядка: «Ладно, были бы отпущены те же восемьдесят, даже семьдесят пять, только без отвратительного телесного и мозгового распада. Зачем Высшим Силам понадобился столь пошлый, циничный эрзац-маскарад со сменой молодой свежей оболочки на дряхлеюще-подтекающую? Однако распад тела не самое страшное, – все больше укреплялась в выводах Берта, – закостенелость мозга, неспособность воспринимать веяния нового времени и вечное брюзжание по любому поводу – вот самое отвратительное». Ей был гадок зависший под потолком этой бывшей усадьбы, зудящий с утра до вечера ропот в сторону теперешних времен. Она отдавала себе отчет, что неприятие ею заката жизни противоречит Божественному замыслу, но Берта не страшилась быть еретичкой. Она предпочитала бросать вызов – всегда. «Смирение» являлось одним из ненавистных для нее слов. Рядом со «смирением» с годами пристроилось, безнадежно уронив воображаемые плечи и голову, словосочетание «жизненный опыт».
Когда кто-либо из обитателей интерната заикался при ней о бесценном опыте прожитых лет, она, как правило, злорадно смеялась в лицо говорящему, а то и демонстративно плевала себе под ноги, провозглашая примерно следующее: «Упавшему на четвереньки остается тешить себя былым прямостоянием». Разномастные деятели культуры, оскорбленные ею таким нещадным образом, не отваживались вступать с ней в дебаты, позволяя себе всего-то покрутить пальцем у виска за ее спиной.
Сама же она с благоговением и трепетом лелеяла в сердце только память о тетке, сыгранные роли и сюжеты ослепительно прекрасных снов, где была вечно молода.
Но… здесь непременно напрашивается ремарка.
Было, конечно, было еще кое-что в молодых закоулках ее памяти: щемящее, остро будоражащее кровь – нечто невообразимо бесценное, главное, – хранящееся в самых потаенных глубинах души. Эту трепетно оберегаемую драгоценность Берта извлекала из душевных лабиринтов в редчайших случаях, всегда без посторонних глаз, непременно в одиночестве. И хрустальная святыня эта, уж точно, не имела отношения к ржавому, как она считала, металлолому (нередко и вправду скучнейше-ординарного и бесполезного) житейского опыта.
Глава 3. Друзья
Они оставили машину в жиденьком перелеске и шли по усеянной свежим снежком шоссейной обочине – трое приятелей с Большой Ордынки. Несмотря на разность социального статуса, образовавшуюся у их родителей к концу девяностых, парней объединяла детская дворово-школьная дружба. Девятнадцать лет назад они сидели на однотипных пластиковых горшках в трех скромно обставленных квартирах двух соседних домов, не предвкушая грядущего расслоения масс. Жизнь пока не успела раскидать их в недосягаемые стороны, и они упивались раздольем пригородной прогулки, где никто их не слышит, можно смело валять дурака, перекидываться фразами на птичьем языке, периодически гогоча в три крепких молодых горла. На совместную субботнюю поездку подбил их Сергей, которому понадобилось купить на Солнцевском авторынке детали для недавно отданной отцом старенькой «шкоды». Запчасти были куплены, помещены в багажник, однако в замоскворецкие квартиры троица не торопилась.
– Так ты ее трахнул? – интересовался у Сергея длинный и худой, словно жердь, светловолосый Алексей, забегая вперед, пытаясь заглянуть тому в лицо.
– Сайгаком не скачи, – отмахивался от него чернобровый, с дерзким прищуром карих глаз, атлетического телосложения Сергей.
– За сайгака ответишь! От вопроса не уходи, в глаза мне смотри! – требовал Алексей, по-шутовски, задом наперед, подпрыгивая перед Сергеем.
– Ну почти… Ее предки нарисовались раньше времени.
– Нельзя трахнуть наполовину, десант!
Тут Сергей, замедлив шаг, загадочно произнес:
– По мелочам не копай, посерьезней есть тема.
– Ну и?
– Вчера «лексуху» аварийкой притащили. Хозяйка лет сорока, не совсем увядшая, в лице вроде без ботокса. Курточка из соболя, на руке «Ролекс». Сейчас посмотрим, говорю, что у вас там с коробкой, а сам ненавязчиво поигрываю бицепсами под комбинезоном. Продиагностировал – точно, фрикционные диски полетели. Масло, спрашиваю, последний раз меняли когда? Говорит, не помню, что, все так серьезно? Делаю суровое лицо, отвечаю: «Естессственно». А она: «Понима-а-аете, раньше муж этим занимался, а я езжу и езжу два с половиной года. Вообще-то я продавать собиралась».
– Как ты их отличаешь? – Алексей, угомонившись, шагал теперь вровень с Сергеем.
– Кого?
– Меха эти.
– Отличать соболь от норки входит в базовую профподготовку. У соболя шерсть длиннее. Короче, говорю ей: «При наличии запчастей дня три». Она приблизилась вплотную и шепчет: «Молодой человек, давайте организуем наличие», – такой взгляд кинула, у-у-у. Телефон мой персональный попросила, не сервиса. Похоже, всесторонне меня заценила.
– С чего вдруг такие надежды?
– Та-ак, интуиция. Думаю, не сегодня-завтра позвонит. Сделает предложение, от которого не смогу отказаться.
– Слышал, Кира, – повернулся к третьему другу Алексей, – наш десантник, прикинь, наметил себе мамочку.
Третий, темно-русый Кирилл, одетый дороже двух других, похожий чем-то на породистую гончую, не так активно участвовал в разборе профессиональных подвигов Сергея. Он почти не спал этой ночью, до начала четвертого готовил реферат, а до двух слушал через стенку очередной эпизод родительских «звездных войн». Он первым заметил пытавшееся занырнуть в придорожный мусорный бак существо. Судя по торчащим из брюк ступням, обутым в ботинки малого размера, существо являлось женщиной. Настроение с утра преобладало в Кирилле недобро-скептическое, и он, сам от себя не ожидая, крикнул со своей стороны шоссе: «Вам помо-о-очь, ба-арышня?» Существо неторопливо оторвалось от бака, повернуло на голос голову. Да, это была женщина, явственно пожилая, однако стройная и подтянутая. Она оказа лась предусмотрительна. На ней сверкал желто-оранжевый прорезиненный фартук, какие использовали до недавнего времени мясники на цивилизованных рынках и патологоанатомы в прозекторских. Протянув в направлении Кирилла руку, она поманила его облаченным в шерстяную перчатку указательным пальцем. Кирилл, неготовый к подобной реакции, приостановился в замешательстве.
– Наука одолела, потянуло на местных аборигенок? Хорош, пошли, – ухватил его за рукав куртки Сергей.
Кирилл рывком высвободил рукав, лавируя между притормозившими машинами, перебежал на другую сторону шоссе.
– Барышни у нас в державе отсутствуют с семнадцатого года, мальчик, – миролюбиво сказала женщина, беззастенчиво разглядывая его с ног до головы. – Вы, как погляжу, не из люмпенов. Прекраасно. Конечности у вас длинные, помогите-ка достать во-он ту вещицу. – Она указала внутрь мусорного контейнера.
Кирилл проследил за ее пальцем и заметил крохотную фарфоровую ножку в балетке на фарфоровой подставочке, нелепо торчащую среди многочисленного разноцветного тряпья. Мусорный бак был примерно наполовину заполнен тряпичным барахлом и предметами отжившего домашнего обихода. Над пищевыми останками безраздельно властвовал бак соседний.
– Одна-а-ко, – присвистнул Кирилл. – У вас тут высокоразвитая цивилизация, просто европейцы какие-то.
– Да-да, на юго-западной окраине живут весьма приличные люди, только идиоты, – согласилась она, мелко кивая облаченной в мохнатый фиолетовый берет головой. У нее наблюдались аккуратные черты лица, серо-зеленые ясные глаза и не совсем морщинистая кожа.
Кирилл мысленно усмехнулся ее словам и общему несуразному виду, при этом скроил суперсосредоточенное лицо:
– Почему идиоты, позвольте узнать?
– Захламляют жилища разной дребеденью, а самое ценное предают лону помойки, – переминалась она с ноги на ногу.
– Что же, по-вашему, самое ценное? – осведомился он, не упуская из виду Леху с Сергеем, топчущихся на противоположной стороне шоссе. (Диалог с незнакомкой странным образом продолжал затягивать.)
– Осколки детства, дружок, память… – Нетерпеливым жестом она взбодрила берет. – Замечу, вы слишком переигрываете со своей физиономией.
«Проницательная», – мелькнуло у Кирилла.
– Вы не допускаете, что некоторым не хочется помнить свое детство?
Эту реплику она проигнорировала:
– Давайте, мальчик, быстрее, меньше слов. С минуты на минуту нахлынут местные архаровцы. Только что прибыли свежие поступления, сейчас они налетят как стая саранчи, ибо эти оглоеды высоко ценят вовсе не память, а обноски местных, как вы выразились, европейцев.
В осанке и речах старухи присутствовало странное сочетание горделивой надменности и молодой игривой заносчивости, столь непривычное для униженного жизнью пожилого российского человека, отчего Кириллу расхотелось над ней глумиться.
– Ладно, давайте фартук, не буду же я нырять в помойку в цивильных шмотках.
– Вот это по-мужски, вот это по-деловому, – обрадовалась она и протянула Кириллу снятый фартук.
Он накинул на шею лямку, стал завязывать за спиной тесемки.
– Кира! Охренел?! – устремился в их сторону Сергей, за которым неохотно поплелся Алексей.
– Сейча-ас, стартану разок, – картинно помахал им рукой Кирилл.
Через несколько секунд он подал старухе статуэтку.
– Мерси, мерси. – Приняв добычу, она внимательно разглядывала ее с расстояния вытянутой руки.
У застывшей в пик балеринки отсутствовала поднятая вверх правая кисть, но, похоже, старуху это ничуть не смутило. Со статуэтки она перевела взгляд на Кирилла и пристально вперилась ему в лицо.
Удивительно, но и теперь она не была Кириллу противна, он коротко ухмыльнулся ей уголками губ.
Сощурившись, та заметно посерьезнела:
– А знаете ли вы, мальчик, что со дня на день вас посетит пылкая и, заметьте, взаимная любовь?
– О-о-о, как все запущено! – успел пристроиться сзади нее Сергей, зверски вращая зрачками, выписывая пальцами над ее беретом немыслимые вензеля.
Подоспевший следом Алексей заржал с присущей ему откровенностью.
Кирилл сам поразился ее резкому переходу с предметности в область чувств, но не успел придумать ничего оригинального:
– У вас все в порядке с рассудком, мадам?
– Более чем. – Она проигнорировала шутовские жесты и ржание за своей спиной. В тоне ее скользнули нотки раздраженного разочарования.
– Она существует? – Кирилл вернул ей фартук.
Старуха вскинула голову:
– Любовь?
– Она самая.
Повесив фартук на сучок ближайшего дерева, она приосанилась:
– Ре-едкая птица во все времена, но нет-нет, да и залетает на нашу падшую планету.
Из-за ее плеча, продолжая таращить глаза, вытянул шею Сергей:
– Может, пасьянс на него раскинете, уточните число? В ваших одеждах наверняка картишки где-нибудь завалялись?
– Картишки по такому поводу вовсе не нужны. – Несколько смягчившись, она вытирала статуэтку снятой перчаткой. – Знайте, молодые люди, в преддверии любви человеческий организм начинает излучать особые свет и энергию, которые ни с че-ем, ни с че-ем не спутаешь. Заявляю вам это категорически. А число, – она ткнула в Кирилла пальцем, – пусть останется для него тайной, ибо в любви хороша внезапность. Когда же событие сие свершится, милости прошу с избранницей в гости. Сдается мне, она окажется чудо как хороша. – Во весь рот старуха улыбалась исключительно только Кириллу, показывая родные, вполне приличные зубы. – Да-да, вовсе не хуже этой изящной фарфоровой штучки, – игриво заключила она, покрутив перед носом Кирилла однорукой балериной, прежде чем поместить ее в обширный карман куртки защитного цвета, явно с чужого плеча.
– Бендер тоже любил приглашать в гости, только никому не оставлял адреса, – заметил Кирилл, когда их троица, шагнув на шоссе, пережидала поток машин.
Она возразила им в спины:
– С Остапом Бендером меня отдаленно может роднить лишь его полное имя – Остап Сулейман Берта Мария Бендер бей Задунайский! И отсутствие личной крыши над головой! – И уже совсем им вдогонку она крикнула хорошо поставленным голосом: – Ульрих, запомните, мальчик, Ульрих Берта Генриховна, комната восемна-адцать, второй этаж во-он того желтого здания для просроченных деятелей культуры и сплетников все-ех масте-ей.
Сергей на ходу бросил:
– Обязательно запомнит, станет посещать каждую среду и пятницу.
Прохлаждаться им больше не хотелось, они направились сквозь перелесок к машине.
– Прикольный персонаж, с пафосом, я бы на их зоопарк глянул. – Алексей первым подошел к «шкоде».
– Ясновидящая, блин, – сквозь зубы процедил Сергей, щелкнув кнопкой сигнализации. – Знаем мы таких независимых, гордых интеллектуалов – любителей шариться по помойкам.
– Фу-у, какой ты сегодня недобрый, наверное, от вчерашнего недотраха. – Леха, сев рядом с водительским креслом, пристраивал на резиновом коврике безразмерные ноги.
– Тебе, трубач, надо было родиться матерью Терезой. – Сергей включил зажигание.
Редкая вспышка задора, возникшая в Кирилле, угасла. На обратном пути он мечтал вздремнуть на заднем сиденье.
Некоторое время все трое мол чали. Когда мимо пронеслась «Юго-Западная» с бесчис ленным многонациональным людом на остановках, Леха принялся терзать радиоприемник в поисках чего-нибудь особенного.
– Выруби эту байду, – попросил, не открывая глаз, Кирилл.
– Наш математик замер в ожидании любви! – хмыкнул Сергей.
– Пошел ты.
Сергей не унимался:
– Мне не ясен твой пессимизм, Кира. У твоего пахана в Москве квартир задницей жуй, а тебе западло чуток прогнуться. Включи правильного сына, подыграй ему в амбициях. Имей я такого денежного предка, развел бы его не по-детски, продемонстрировал охренительную любовь.
– В своем курятнике разгребись, потом лезь с советами.
Алексей не выдержал:
– Кончайте бодаться, не портите мне на завтра настрой.
Они замолчали до Ордынки. Высаживаясь у подъезда, Алексей энергично пожал друзьям руки.
– Завтра в семь вечера чтоб были как штыки. Не пропустите концерт века.
– Куда мы денемся, – без энтузиазма кивнул Кирилл.
– Давай, дуй завтра в свою трубу без промаха, трубач, – успел хлопнуть его по плечу Сергей.
С порога Кирилл услышал знакомые телефонные излияния матери. «Значит, отец успел соскочить в клуб, – отметил про себя Кирилл. – Чего-то сегодня рановато». Воскресный сценарий был хорошо ему известен. Отца, как обычно под утро, приведет и поставит под квартирную дверь его бессменный шофер Коля. Пропитанный парами виски, дымом сигар Bolivar, смесью своего любимого парфюма «Extreme» от Тома Форда с чужеродными женскими духами, отец плюхнется, не снимая брюк и рубашки, на диван в гостиной и с тяжелыми вздохами проваляется там до вечера воскресенья. Пару-тройку раз затребует развести ему «Алка-Зельтцер», к обеду попросит геркулесовой каши, спустя еще пару часов – бутерброд с сырокопченой колбасой. У отца это называлось «снимать недельный трудовой стресс». Мать с деревянным лицом и скорбно опущенными губами будет молча подносить ему. Ближе к вечеру ее прорвет, она выкрикнет что-нибудь типа: «Да что я, нанялась тебе?» И понесется, понесется…
В данный момент из гостиной звучал ее взбудораженный голос: «…сколько лет впустую… где тепло, элементарная благодарность… да какое там, досуг… я, Аня, не помню, когда мы с ним в последний раз…»
Скинув ботинки и куртку, Кирилл прошел в ванную комнату. Присел на край ванны, пустил холодную воду. Представил, как мать, с дурацким, собранным на затылке хвостиком, снует из угла в угол гостиной с трубкой у левого уха, каждый раз зачем-то поправляет отцовскую пепельницу, проходя мимо стола. Материнские телефонные откровения вызывали в Кирилле неприязнь и вместе с тем тоскливую жалость. Он не понимал, как можно, задвинув абсолютно все интересы, жить только выяснением с отцом давно загнувшихся отношений. Глядя на бодро хлещущую воду, он поднес ладони к струе – умыться, но передумал, подставил под струю голову целиком. Это было проверенное, мгновенно сгоняющее сонливость, усталость и ненужные мысли средство. Нещадно растерев лицо и волосы полотенцем, он отправился на кухню. Перед утренней поездкой на авторынок он почти ничего не ел, и сейчас в нем разыгрался аппетит. Распахнув двухстворчатый холодильник, он пробежал глазами по полкам, пестрящим пластиковым, металлическим, целлофановым изобилием. Половина продуктов хронически летела в помойку, но отец требовал, «чтоб было все и даже больше», и мать три раза в неделю послушно отправлялась в ближайшие «Глобус Гурме» или «Азбуку вкуса» исполнять его гастрономические запросы, благо оба магазина имелись на их улице. Кириллу хотелось банального бутерброда с желтым твердым сыром, он стал пробираться сквозь «Камамберы», «Дор-Блю», «Маскарпоне» к упаковке «Голландского». Вскоре появилась мать, подошла включить чайник.
– Вскипел две минуты назад.
– Хорошо, как раз не кипяток.
Она выбрала на полке банку с «Орхидеевым улуном», заварила его в специальной чашке, присела за стол напротив.
– Не надоело? – спросил Кирилл, откусывая бутерброд.
– Что? – пожала она плечами.
– Перетирать одно и то же со всеми подряд?
– Аня, между прочим, моя подруга. – Мать потянулась к вазочке за печеньем.
– Сука она, твоя Аня. Завистливая сука. Видел я ее глаза, когда в гостях была. Вот кто сейчас счастлив.
– Ты-то хоть не добивай.
– Не пойму я, ты у него в пожизненном рабстве?
– Предлагаешь нанять адвоката и объявить ему войну? И кто, как ты думаешь, победит в этой войне? – Она бросила сломанное печенье назад.
– Вышла бы на работу для разнообразия, переключила мозги.
– Кирюш, кто меня возьмет в сорок семь лет с таким перерывом в стаже? А потом, если и возьмут, зарплата вшивая.
Кирилл встал из-за стола:
– Все, разговор не задался. Я пошел.
У себя в комнате он раздвинул шторы, приоткрыл створку окна. Кирилл предпочитал работать обязательно за столом и в прохладе. Как можно, валяясь с ноутбуком на диване или сидя с ногами в кресле, создавать что-то стоящее? Сев за стол, он придвинул к себе серебристый «Мак», поднял крышку, кликнул стрелкой на «рабочем столе» в документ с названием «Ref», открылись нужные страницы, и он с удовольствием погрузился в работу.
Субботы он любил гораздо больше воскресений. В отсутствие отца атмосфера в доме разряжалась, Кирилл, пусть ненадолго, освобождался от незримого давления, от всеобъемлющей власти, которую тот пытался проявлять по любому поводу. Присутствие в квартире матери его почти не раздражало. Сегодняшний деловой настрой немного подтравливал ночной родительский скандал, но Кирилл пятнадцать минут назад дал себе в ванной комнате «правильную установку» и погрузился в работу мгновенно, без остатка. В понедельник он планировал сдать реферат руководителю.
Поступая три с половиной года назад на мехмат МГУ, он знал, что непременно выберет на третьем курсе кафедру теории вероятностей. Это была не просто одна из рядовых математических теорий. Это была целостная глубинная философия, охватывающая, по убеждению Кирилла, любую мелочь и одновременно все мироздание. Еще в школе, принимая участие в различных математических олимпиадах, он прочел работы Якоба Бернулли «Опыт новой теории измерения жребия» и «Искусство предположений», вник в понятия «математического ожидания» и «безрискового эквивалента», всей душой полюбил «Теорию риска». Это на сегодняшний день история открытий старшего представителя семьи Бернулли стала для математиков общим местом, а тогда, в XVII веке, гениальный швейцарец из Базеля сумел на два столетия опередить свое время. Именно он привнес эту теорию в Россию. Кирилл почему-то с детства верил в непознанную закономерность случайностей. Сейчас, на четвертом курсе, он писал реферат «О вероятных пространствах, в которых не существуют независимые события». В работе он хотел, помимо прочего, продемонстрировать, что математика вовсе не засохшая наука мертвых формул, а вполне живой, развивающийся, дышащий организм.
Глава 4. Она
Маленький концертный зал Колледжа эстрадного и джазового искусства, что на Большой Ордынке, был переполнен. Слушатели представляли собой коктейль из студентов, их родителей, преподавателей, просто любителей живого джаза. Мест на всех не хватило, кое-кто стоял, подпирая собой стены. Алексей учился на выпускном курсе отделения «инструментов эстрадного оркестра». Для тех, кто хорошо его знал, он был не просто рядовым начинающим «духовиком», он был «духовиком», влюбленным в трубу до самозабвения.
Со сцены звучала классика жанра: Summertime Гершвина. Кто и как только не изгалялся над этой мелодией за время ее существования. И все-таки выступающая сейчас троица исхитрились сделать это по-своему. Пианистка представляла собой хара́ктерную актрису, плечи ее то опадали, то вздымались, спина то закруглялась в скобку, то превращалась в летящую ввысь стрелу, кисти и пальцы рук казались гуттаперчевыми. Небольшого роста, пухлень кий, с коротковатыми руками и ногами ударник двигался в иной, но не менее уникальной манере. Его жесты являли отточенный хип-хоп, способность туловища изгибаться, градус поворота головы зашкаливали, ладони, взаимодействуя с тарелками, виртуозно шаманили щетками. Не в пример пианистке и ударнику, Алексей оставался стойким оловянным солдатиком, к этому обязывала труба. Он позволял себе лишь отбивать такт ступней правой ноги. Но столь эклектичному трио непостижимым образом удалось слиться в удивительной звуковой гармонии. И вот слушателей накрыли финальный аккорд клавиш, последний затихающий выдох трубы, прощальное перешептывание щеток с тарелками, мгновение тишины… и зал взорвался аплодисментами.
Где-то во втором ряду сидели родители Алексея. Вероника Евгеньевна, преподаватель по классу фортепьяно этого же колледжа, и Олег Владимирович, бессменный журналист одной из московских газет. Кирилл хорошо знал этих милых его сердцу людей. Он не только был вхож в их дом с раннего детства, но и в пятнадцать лет сплавлялся с ними по реке Катуни, запомнив захватывающее путешествие по Горному Алтаю на всю жизнь. Сейчас он пытался узреть их головы, представлял их счастливые, гордые за Леху лица, однако никак не находил глазами их затылки. И тут взор Кирилла наткнулся на макушку девушки. Девушка сидела впереди через ряд, чуть правее от него, и, подавшись вперед, усердно аплодировала. Что-то заставило Кирилла задержать на ней взгляд, скользнуть с макушки по волосам, поймать линию плеч, спуститься вдоль спины к талии. Плечи были хрупкими, спина тонкой, изящной, а длинные, рассыпанные по плечам прямые волосы в искусственном освещении казались насыщенно-каштановыми. «Интересно, крашеные или нет?» – мелькнуло у Кирилла. Впечатление от девушки было кратким; еще не утихли аплодисменты Гершвину и выступавшей троице, еще музыканты улыбались и кланялись, но тут кто-то крикнул из зала:
– Леха, дай Квинов «Форева», соло!
Алексей помедлил мгновение, шагнул навстречу залу, оглянувшись, неловко кивнул в знак извинения пианистке и ударнику, спешно облизал губы, приложил трубу к губам. В возникшей тишине труба запела нежно и тихо. Голос ее был чист и слаб, как у хрупкой девочки-подростка, казалось, она вымаливает что-то – робко, почти без надежды на воплощение желания. Но вот голос стал крепнуть, набирать мощь, и спустя полминуты не осталось ни мольбы, ни просьбы, звучали смелость, напор, уверенность в собственных силах расцветшей у зала на глазах красавицы.
Девушка, чьи макушку и спину облюбовал Кирилл, подалась вперед сильнее, заняла собой самый край стула – и больше ни разу не шелохнулась до конца исполнения. Покоренный ее напряжением Кирилл намертво прилип глазами к ее спине. Он ценил эту музыкальную композицию, считал одной из самых мощных у «Квинов», к тому же Леха сегодня был явно в ударе. «Кто хочет жить вечно»? «Кто осмелится любить вечно?» «Кто будет ждать вечно, несмотря ни на что»? Звуки резали душное пространство небольшого зала, вонзались в каждую клетку тела Кирилла, просверливали до костей, заставляли кровь течь быстрее, сердце стучать бешеней, предвосхищая, что вот оно, начало начал чего-то нового, немыслимого, чему не может быть конца, чему во все времена есть только начало. И сам Фреди, раскинув руки, сверкая зубами из-под черных усов, улыбался за спиной Лехи, потому что остался жить и звучать вечно.
Внизу образовалась шумная толчея. Кипел бурный обмен мнениями, звенели чьи-то возгласы, приветствия, хохот, мелькали рукопожатия, дружеские объятия. Кирилл с Сергеем ждали Алексея.
– В «Солянке» сегодня глухо, рванем в «Симачев»? – Сергей поддел плечом плечо Кирилла.
Кирилл рассеянно кивал, а сам искал глазами приглянувшиеся спину и волосы. Домой он не торопился. Воскресные домашние вечера вызывали в нем законное отвращение к жизни. К тому же не покидало ощущение, что он может упустить что-то важное, жизненно ему необходимое. Он нигде не находил ее взглядом. «Пошли курнем», – предложил Сергей. Они взяли в гардеробе куртки, вышли во внутренний дворик. Там Кирилл увидел ее. Она стояла с какой-то девицей чуть в стороне от выхода, обе курили, и он подумал, что ей совсем не идет это занятие. Она поймала на себе его взгляд, сделала вид, что полностью сосредоточена на приятельнице, а сердце у самой затрепыхалось. Она заметила его еще до концерта, у центрального входа. В громогласной предконцертной толчее бросился в глаза почему-то именно он. Короткий ершик густых темно-русых волос, джинсы на рыжем кожаном ремне, светло-канареечная льняная рубашка. Уже тогда в ней что-то щелкнуло. Он неуловимо отличался от большинства. Может быть, в нем не было привычной музыкантской расхлябанности, небрежности? Она и сама не понимала, чем он зацепил ее. Крепкие длинные ноги в хорошо сидящих джинсах, модных ботинках? Поджарый? Да мало ли таких?
– Дай-ка я дернусь потороплю эту черепаху, где он застрял, – оторвался от Кирилла Сергей.
– Давай, – кивнул вслед ему Кирилл со скрытой радостью, что остается один.
«Ну, подойди же, не трусь», – мысленно взывала она к нему.
«Если подойду, что скажу? – думал Кирилл. – Отошьет – что дальше? Подруга у нее грубоватая, хоть и блондинка, может, судя по виду, ляпнуть что угодно. Но надо решаться. Надо действовать». И все-таки, проходя в третий раз мимо их курящей парочки, он шагнул в их сторону. Из ее рук в эту секун ду выпала зажигалка, оба синхронно за ней наклонились, соприкоснулись лбами, коротко засмеялись, подняли друг на друга взгляд, и Кирилл поразился ее глазам – в вечернем освещении темно-рыжим в цветную искрящуюся крапинку. Он протянул ей зажигалку:
– Я заметил… вам понравилось, как играл мой друг?
– Да, очень, – ответила она, хотя не была уверена, что он имеет в виду этого чудесного долговязого трубача.
– Слу-ушай, Алексей твой друг? – беспардонно встряла блондинка. – Я раньше его слышала, он классный. А у меня, знаешь, приятель здесь, ударник, Виктор. Скажи, тоже виртуоз?! Я однажды на записи у них была, в подвальной студии. Кстати, может, представишься?
– Кирилл.
– Светлана, а это Катя.
Катя продолжала улыбаться Кириллу, чуть склонив к плечу голову. Ему показалось, легким наклоном головы она просит извинения за чрезмерную болтливость подруги. Изумительными у этой девушки оказались не только глаза и волосы, у нее были потрясающего очертания губы. Их уголки похожи были на завитки. Даже когда улыбка сошла с ее губ, лицо ее не утратило радостного, милого выражения. Кирилл спохватился, что слишком долго разглядывает ее лицо, и заставил себя оглянуться. К ним приближались Алексей с Сергеем.
– О чем спич? Надеюсь, девочки едут с нами? – Сергей был напорист, как всегда.
– Приглашаете? – мгновенно подсуетилась Светлана.
– Без вопросов. Отметить триумф трубача в компании ценительниц жанра – это, знаете ли… – Не найдясь, чем завершить фразу, Сергей вальяжно приобнял Алексея.
Переполненный эйфорией успеха, Леха сейчас любил весь мир, а заодно и двух незнакомых девушек.
Катя мимолетно взглянула на Кирилла, тот напряженно молчал, и у нее вырвалось:
– Ой, вы знаете, я не могу, к сожалению. Мне утром завтра рано вставать.
Светлана взглядом приговорила Катю к расстрелу.
– Тогда хотя бы номера телефонов подкиньте… на будущее. – Сергей достал из кармана сотовый, открыл записную книжку.
Продолжая уничтожать Катю взором, Светлана продиктовала свой и ее номера. Они попрощались.
Выйдя на улицу, троица довольно быстро поймала машину, на заднем сиденье Сергей протянул Кириллу трубку:
– На, для тебя старался, открой на букву «К», она одна там Катя. Чего б вы без меня делали? Инфантилизм сплошной.
– Не понял, – развернулся к Сергею сидящий впереди Алексей, – ты себе пухленькую эту бляндинку, что ли, наметил?
– Какую на фиг бляндинку, у меня со вчерашнего дня есть Зося. Считай, сутки с ней прокувыркались.
– Та-а-ак, почему мы про Зосю не знаем?
– Лексуха позвонила, та самая. Зацени, Леха, я на твою трубу пришел после суточного секс-дежурства.
– А подробности?
– Вдовица убитого два или три года назад газпромовца, сын на учебе в Англии, квартира двести метров на Ленинском. Оказались почти соседями.
– Сразу к себе домой не побоялась?
– Сексуальный голод убивает все страхи. Я, естественно, отблагодарил ее за смелость. Продемонстрировал класс игры на своей волшебной дудочке.
Хозяин машины, лет сорока, не удержался, прыснул:
– У вас, ребят, нет там еще одной про запас?
– Дудочки? – уточнил Сергей.
– Богатой бабы. Дудочка у меня у самого пока в порядке.
– Это вряд ли. – Алексей сел прямо. – Это только десанту такая пруха. Они у женщин на особом счету.
Они подъехали к Столешникову переулку со стороны Петровки, расплатились.
– Дудочку береги, шеф, другой не будет, – выходя из машины, порекомендовал Сергей.
Кате не спалось. За стенкой громыхали отголоски блокбастера. Отчим смотрел очередную американскую нетленку. Матери не было – улетела в Милан за очередной партией товара. «Какая я дура, что не поехала с ними в клуб. Вечно торможу, где не надо, вечно меня сомнения гложут, а потом жалею. Права Света, не умею я ловить нужный момент. Хотя что я дергаюсь? Все равно он не позвонит. Когда мне везло с нормальными? Подсуетился совсем не он, этот наглый приятель его, Сергей, а он даже на номер мой не глянул».
Он позвонил в понедельник ближе к вечеру. Она узнала его мгновенно, он не успел назваться, а ее пронзило то же, что вчера, состояние затрепыхавшегося сердца, отхлынувшей от рук крови и общей телесной беспомощности. Пока он напоминал о себе, она пыталась собраться, чтобы не дрогнул при ответе голос. Ответила, что учится на третьем курсе РГГУ на лингвистике, а когда он предложил приехать завтра к ее институту, она только и смогла выдохнуть: «Хорошо, к трем».
Они зашли в «Якиторию» у «Менделеевской», сели у окна, уставились в принесенные официантом меню. После ноябрьской промозглости обоим хотелось согреться, не отрывая лица от меню, Катя спросила: «Может, горячего саке?» – «Не возражаю, – сказал Кирилл. – А что будем есть?» – «Мне можно лапшу с курицей», – ответила не любившая суши Катя и тут же подумала: «Как я на его глазах лапшу-то буду есть? Ужас, ужас! Да и вообще…» Официант уточнил, сильно ли разогревать саке. Они, не сговариваясь, закивали: «Сильно-сильно» – и засмеялись вместе с официантом. В ожидании еды изо всех сил старались быть естественными, раскрепощенными, невозмутимыми, становясь от этого еще больше скованными, неловкими. Но где-то на седьмой минуте общения они бессознательно бросили тщетные старания и стали любоваться друг другом, правда, пока в скрытой форме. Официант принес заказ. Кирилл наполнил фарфоровые наперстки горячим напитком, они выпили. В них разлилось приятное тепло, и необъяснимое их родство усилилось. И уже получалось разговаривать на разные темы.
– Мне, когда я в девятом классе училась, гадалка на Арбате нагадала, что имя моего избранника будет на букву «К», а на меня тогда одноклассник глаз положил, Клим с фамилией Зайчонок, маленький такой, с большими ушами. Представь, как я страдала от безысходности.
– Ну да. А мне тут на днях одна странная особа тоже предрекла чуйство.
– Та-ак, интересно. С этого места поподробнее… пожалуйста.
– Любительница поживиться выброшенным фарфором. Я ей в субботу помог кое в чем, так она мне скорую любовь пообещала. Живет в доме престарелых, пятнадцать минут езды от «Юго-Западной». В гости, между прочим, приглашала.
– Давай съездим.
– Ты серьезно?
– Серьезно. Рутина надоела. Хочется свежих впечатлений, экзотики. Купим, к примеру, плод манго, еще что-нибудь и поедем.
– Разочарований не боишься?
– Не-а.
– Хорошо, в следующий выходной, только ради тебя.
– Договорились.
– Ты вообще с кем живешь?
– С матерью и отчимом.
– И как тебе?
– Да никак. У него психология неблагодарного человека.
– То есть?
– Как будто все в мире ему обязаны. Должны на него пахать, а он будет сидеть недовольный, нога на ногу, кривиться – все не то, плохо для меня постарались, надо бы лучше стараться. А сам только и умеет тупо поглощать. Потребленец жизни. – «Взгляды на меня стал слюнявые бросать, козел, а мать будто не замечает», – подумала она. Но тут же мысленно осеклась. – Ой, извини, что-то меня занесло, наболело просто.
– Ничего, нормально. А у тебя самой какая психология?
– Я по возможности радуюсь. Солнце с утра – спасибо. Дождь – тоже хорошо. Скажешь, банально на сегодняшний день?
– Не скажу.
– Значит, подумаешь.
– И не подумаю.
– Странно. Сейчас в студенческой тусе две основные тенденции: хронического пессимизма или мажорного пафоса, не замечал?
– Есть местами.
– Модно изображать отвергнутых миром жертв или избранников фортуны с дымом из ушей. Я ни в ту, ни в другую фокус-группу не вписываюсь.
– Ты как наш трубач, он примерно так рассуждает.
– Это у меня генетическое. В этом я абсолютная папина дочка.
– Кто у тебя отец?
– Теперь уже никто. Раньше наукой занимался, в Институте русского языка.
– В каком смысле никто?
– В том, что его двенадцать лет нет на свете. Я в память о нем на лингвистику поступила. Знаешь, не помню, чтобы он хоть раз меня за что-то ругал. Не потому, что я чересчур послушная была, думаю, он не умел ругать в принципе.
«Куда меня несет, зачем я ему столько про себя выкладываю?» – мелькнуло у нее в голове.
– А у меня, по твоей логике, какая психология?
– Пока не поняла. Но тебя по любому не поздно склонить в правильную сторону, у тебя улыбка обнадеживающая, – засмеялась она.
– Намек на гибкую молодую психику?
– Пожалуй, да. Ты не замечал, как многие после сорока перестают адекватно воспринимать реальность? Становятся откровенными жлобами или вообще кончеными дебилами?
– Возможно, – неопределенно ответил Кирилл, хотя о многих думал именно так.
– Вот с отцом моим никогда бы такого не случилось, я точно знаю, – добавила она.
Глава 5. Первый приезд
Итак, «осколки детства, память», именно так сказала Берта Кириллу при первой встрече у мусорного контейнера. В эту ночь ей и приснилось детство. Вернее, ранняя-ранняя юность. Они шли с теткой по залитой весенним светом и пьянящим воздухом Поварской улице (тетка никогда не называла ее Воровского). Шли в сторону площади Арбатских Ворот, в кондитерскую только что вновь открывшегося после «смутного времени» ресторана «Прага». Улица была знакома Берте каждым особняком и палисадником, всякой трещиной на асфальте, но все никак не кончалась. Позади оставался легендарный дом Шереметьевых, из окон проливал музыкальные звуки новенький Институт Гнесиных, справа тихо проплывали Борисоглебский и Большой Ржевский. Наяву Поварская давно уперлась бы в площадь, а во сне все тянулась и тянулась, счастливо длилась и длилась. Тогда еще Берта не была Бертой. Она была Ритой. И Серафима Федоровна, одетая в габардиновое светлое пальтишко и аккуратный, с небольшими полями синий капор, держа Риту-Берту под руку, в который раз ведала ей прекраснейшую из историй: «Твоя мать, младшая сестра моя Мария, с детства отличалась жертвенной душой. После педагогического института она вызвалась ехать на практику в Саратовскую область, именно, Риточка, вызвалась по собственной воле. Там, на улице заснеженного Саратова, ее и узрел твой будущий отец, инженер одного, – тут голос тетки съехал на шепот, – секретного предприятия. С этого момента они ни дня не могли существовать друг без друга».
Во сне Рита-Берта с нетерпением ждала, когда последует высокопарное заявление, которое она обожала и готова была слушать из уст тетки многократно. И вот, поравнявшись с церковью Симеона Столпника, Серафима Федоровна замедлила шаг, почти остановилась, чуть сдвинула капор к затылку и, глядя Рите-Берте в глаза, вдохновенно произнесла: «Знай, дитя мое, ты плод бесценной всепобеждающей любви, о которой пишут в романах»! Потрясающе! Она – плод всепобеждающей любви! Всякий ли человек может этим похвастать?
Они шли дальше, тепло из теткиной руки неудержимо перетекало в руку Риты-Берты, а кругом слышалось непрекращающееся торжество московской весны. Наконец они открывали дверь кондитерской-кулинарии, следовали к прилавку с пирожными, где в ноздри им ударял пропитанный густой ванилью, парами заварного крема и частицами сахарной пудры воздух, и выбирали каждая свое: Рита-Берта – сочащийся ромом, украшенный сверху цветными кремовыми виньетками бисквит и корзиночку с розочкой, Серафима Федоровна – покрытые лаковой шоколадной глазурью эклер и кусочек торта «Прага». И шевелилось, теснилось в груди пьяное чувство преддверия долгой, счастливой жизни. «Так-так-так, Риточка, – отойдя к подоконнику, тетка аккуратно укладывала в сумку коробочку с пирожными, – не забыть купить еще сто граммов печеночного паштета нам с тобой на воскресный завтрак. А что у нас насчет духовной пищи? Какую оперу будем слушать вечером? Ты подумала?» – «Подумала – „Тоску“», – отвечала Берта. «Опять „Тоску“? Мы же слушали ее на прошлой неделе». «Ну и что? Мне нравится». – «Хорошо, пусть будет „Тоска“».
Берте Генриховне Ульрих было за что обожать свои сны. Нередко они дублировали чудеснейшие моменты ее жизни, но присущее снам ощущение восторженной остроты момента было глубже, многограннее, величественнее, чем самая прекрасная явь.
В это утро она проснулась раньше соседки. Любовь Филипповна спала по своему обыкновению на спине, с традиционно высунутыми из-под одеяла ступнями. Всякий раз в глаза Берте, если она просыпалась первой, бросались ступни соседки. Сверху они походили на два хорошо оснащенных эсминца: большие пальцы угрожающе топорщились крепкими, давно не стриженными ногтями, младшие собратья узловато находили один на другой. Окружности пяток являли отдельную картину, напоминая гусеницы вездехода, нещадно эксплуатируемого на целине. В который раз в это утро Берта недоумевала, как можно, так рьяно заботясь о своем здоровье, настолько не следить за нижними конечностями. За три года вынужденного совместного проживания Берта отметила, ногти на ногах соседка стрижет два раза в год – к Рождеству и к Пасхе. «Бог мой, – думала Берта, безуспешно стараясь отвести взгляд к окну, – на что рассчитывал Твой Сын, когда призывал возлюбить ближнего, как самого себя? Как возлюбить такого ближнего? Для этого нужно родиться либо ангелом, либо законченным кретином. Хочется верить, что Он подразумевал все же некоторое родство душ». Усилием воли она наконец перевела взгляд к подоконнику, приветливо улыбнулась фигуркам, просвечивающим сквозь задернутую штору, брезгливо поморщилась на силуэт стопки газет «ЗОЖ», возвышающихся на половине Любови Филипповны. Но тут же себя одернула: «Не гневи Творца, Берта, ЗОЖи – твой козырь, весы Фемиды. „Плесневой юбке“ – сборище народных рецептов, тебе – амуры, клоуны, скрипачи. И пусть строчит жалобы сколько угодно. Пока растет стопка, у тебя есть неколебимый аргумент в защиту».
Несмотря на увиденные пятки, настроение сегодня было приподнятым. Хотелось скорее выйти на божий свет, на свежий воздух, поскрипеть молодым снежком под ногами.
Вчера она побывала на приеме у Натальи Марковны. Плановый врачебный прием проводился в интернате раз в неделю, по пятницам. Расположенный на первом этаже кабинет Натальи Марковны отличался от соседнего кабинета Цербера, как эдемские кущи от пустыни Гоби. Темно-зеленые гобеленовые шторы, два уютных глубоких кресла со специально подобранными под спину подушечками, журнальный столик светлого дерева, миниатюрный сервантик с чудеснейшим, в китайских драконах, чайным сервизом, льняные выбеленные салфетки – все было куплено за свой счет и в разное время привезено Натальей Марковной из собственного дома. Каждый из бывших деятелей культуры, стосковавшийся по красоте и обходительному отношению, норовил задержаться в ее кабинете как можно дольше. Но врачебный прием, во избежание беспорядков, был строго регламентирован Цербером: на каждого ходячего (лежачими занимался другой доктор) отпускалось не более десяти минут. И даже за эти минуты Наталья Марковна успевала, усадив пациента в кресло, напоить его чаем и выслушать, помимо рассказа о самочувствии, какую-нибудь дополнительную историю или жалобу. Берта, любившая бывать в кабинете Натальи Марковны не меньше остальных, называла его «оазисом последней надежды».
– Что ж, давление вполне приличное, да и вообще, по сравнению с большинством, вы просто молодцом. Однако, может быть, есть жалобы? – спросила по традиции Наталья Марковна, разливая по чашкам благоухающий на всю комнату чай «Грезы султана».
– Если честно, есть, – впервые за три года произнесла, усаживаясь в кресло, Берта, подправляя под спину бархатную подушечку.
Наталья Марковна поставила чайник на подставку, села в кресло напротив и обратила не Берту свои внимательные зеленоватые глаза:
– Выкладывайте.
– Спина стала болеть гораздо сильнее, и ноги все чаще подвихиваются.
– Ну-у-у, – словно с облегчением протянула доктор, – в вашем возрасте закономерное явление. Скелет оседает, позвоночные диски стираются, а насчет ног – слабые связки голеностопа, нужны правильная обувь и хорошие стельки. – Она придвинула к Берте коробку конфет. – Могу, если хотите, для позвоночника назначить вам процедуру растяжки, но при вашей в кавычках любви к процедурам наверняка ограничитесь единственным разом. А потом, такова своего рода, извините, расплата.
– За что? – насторожилась Берта, отпив из чашки с драконом и возвращая ее на блюдечко.
– Думаю, нелегко всю жизнь носить на плечах гордо поднятую голову.
– Критикуете… – качнула головой Берта, выбирая глазами конфету.
– Комплиментирую! Знаете, что могу посоветовать совсем не затруднительное? Потягиваться утром в кровати, как потягиваются, перевернувшись на спину, кошки. И прогулки, прогулки, прогулки – неторопливым шагом прогулки.
– Проще говоря, предлагаете донашивать то, что есть?
– Примерно так, – улыбнулась Наталья Марковна. – Что соседка, поет?
– Не то слово, – невесело усмехнулась Берта.
Доктор сочувственно покачала головой. Они понимали друг друга с полуслова.
Пятидесятитрехлетняя доктор-терапевт Наталья Марковна испытывала к Берте нескрываемую симпатию. И Берта платила ей полной взаимностью. С первой консультации обнаружив в Берте достойнейшую из собеседниц, доктор исхитрялась пообщаться с ней сверхурочно. Между тем делать это приходилось всегда украдкой, отнюдь не в кабинете и не в законные часы приема. Ибо за Натальей Марковной велось постоянное перекрестное наблюдение. Одной наблюдающей стороной выступала администрация, второй – кружок местных жильцов-активистов. Не дай бог, если кто-то из них подмечал, как другому удавалось вырвать у Натальи Марковны лишние полминуты общения (будь то в коридоре, а уж тем более в кабинете!). Сцена ревности могла разыграться тут же в коридоре или на пороге кабинета.
Сверхурочные беседы доктора и Берты происходили вне стен здания. Закончив с приемом и заперев кабинет, Наталья Марковна уходила будто бы домой, сама же частенько подсаживалась (тут уж она была в своем праве) к Берте на полуразрушенную скамейку в дальней части скверика. Скамейку эту Берта облюбовала давно и не напрасно. Она не пользовалась у постояльцев популярностью, напротив, презиралась за проломленность в двух местах (сиденья и спинки) и неудобство расположения. Стояла она в заброшенных, густо разросшихся кустах, сквозь которые нужно было активно пробираться. Настойчивая Берта проторила к скамейке персональную, почти незаметную окружающим тропинку.
Что приятно поразило Берту еще на заре попадания сюда, Наталья Марковна оказалась заядлой театралкой. Выяснилось это на первом приеме – Берта заметила, как радостно загорелись глаза докторицы, узнавшей о ее бывшем театральном поприще. После женитьбы сына Наталья Марковна жила одна в панельной пятиэтажке неподалеку от интерната. Она работала еще в здешней районной поликлинике, но сумела организовать службу так, что три вечера, помимо воскресного, оставались у нее свободными. И она нередко использовала их для посещения московских театров. О сегодняшних режиссерских постановках разных волн и направлений знала она все. И чем больше узнавала Наталья Марковна театральные работы многих, тем крепче любила «Мастерскую Петра Фоменко». Оттого недавнюю гибель в автокатастрофе актера Юрия Степанова восприняла как глубоко личную потерю. Она никак не могла смириться с этой бедой и в общении с Бертой часто повторяла:
– Ах, Берта Генриховна, как он сыграл доктора Чебутыкина в «Трех сестрах»! Какое отчаянное покаяние в трехминутном монологе, какие горчайшие интонации. А полковник в «Мотыльке»?! Да что там говорить!
Берта, не питающая ревности к театральным удачам безвременно ушедших коллег, выслушивала Наталью Марковну с превеликим интересом и участием.
– Да-да, – соглашалась она, – я помню Юрия Степанова еще по ранним его работам. Действительно прирожденным был лицедеем. Необычайно разноплановый талант.
– Вот именно был… в прошедшем времени, к сожалению. А сколько бы мог сыграть еще! Да что там говорить… скажите, почему так все несправедливо?
– О-о, вопрос не по адресу, Наталья Марковна. Это какой-нибудь батюшка-профанатор наплел бы вам сейчас про высшую справедливость с три короба, я же в планах небесной канцелярии ни черта не смыслю. А Петра Наумовича я помню молодым, тридцатилетним, по родному ГИТИСу, – возвращалась Берта к главной теме, – когда он учился на режиссуре. Зелеными студентами мы бегали на его пробные спектакли, тогда уже он славился своим бунтарством. Помню злобные гонения на него в шестидесятых советских идиотов-критиков. Все-таки ГИТИС – бессменная кузница кадров. Все потому, что дышащий, живой организм, а не схематизм, как у некоторых, где по сцене передвигаются вовсе не люди, а, пардон, трансформеры и перформансы.
– Вот именно, – согласно подхватывала доктор, – а кое-кто из снобов от культуры, представьте, сегодня позволяет себе упрекать мэтра, я имею в виду Петра Наумовича, в герметизации театра, в нежелании впрыскивать свежую кровь. Тоже мне умники! Это, в конце концов, дело их театра! Впрыснешь, потом, глядь, вся труппа больна СПИДом. В фигуральном смысле, конечно. Хотя, как вы полагаете, может, остается кто-то из сегодняшних современных, нами не охваченных?
– И кто? – Приложив ко лбу ладонь козырьком, Берта вглядывалась сквозь кусты в вечернюю даль. – Э-эй, обожаю свежую кровь, авангард, но где неподпорченная дурновкусием нынешней конъюнктуры душа-а? Где?! Где могучая – на века – драматурги-и-я?!
Обе, кивая головами, начинали смеяться.
– Нет, ну есть, конечно, отдельные достойные спектакли. Например, «Мальчики» Женовача по Достоевскому. Но опять-таки – классика и ученик Фоменко, – подытоживала Наталья Марковна.
Вернувшись с утренней субботней прогулки в бодром расположении духа, обнаружив (о счастье!) отсутствие в комнате Любови Филипповны, Берта подошла к зеркалу над раковиной и принялась с пристрастием разглядывать собственное лицо. Она желала в который раз убедиться в малом количестве морщин, а сейчас заметила на щеках еще и приятный легкий румянец. Сняв берет, провела ладонью по волосам. Волосы, надо отдать им должное, лежали крупной послушной волной даже после берета. «Недурна, все еще недурна, и седина меня не портит», – заключила она в мыслях.
Она перестала закрашивать седину с тех пор, как ушла из театра. А вот своей стрижке, удлиненному градуированному каре с игривой челкой, не изменяла лет пятнадцать. Конечно, у местной парикмахерши Ирины и близко не было тех рук и глаза, что у мастерицы-надомницы Анфисы из Скатертного переулка. (Раз в два месяца на протяжении десяти лет посещала ее Берта.) Как-то однажды, укладывая Берте последний локон, Анфиса, словно в воду глядя, непонятно к чему на тот момент сказала: «Благодатные у вас волосы, Берта Генриховна, если попадут в чужие руки, не такие старательные, как у меня, погрешности все равно заметно не будет».
Насмотревшись в зеркало, определив в «шифоньер» снятую куртку, Берта подошла к подоконнику навестить своих никуда не убранных любимцев, мимолетно глянула на улицу и заметила молодую парочку, о чем-то переговаривающуюся с дворником Ильей. Илья внезапно задрал голову и показал пальцем на ее окно. Парень поднял лицо вслед за Ильей, и дальнозоркая Берта мгновенно его узнала. Именно он в прошлую субботу помог ей выудить из мусорного бака балерину без кисти, в тот же день любовно нареченную Малечкой (в честь Матильды Кшесинской – неслабая была женщина), занявшую почетное место в коллекции. Осознав, что этот приезд по ее душу, Берта нешуточно разволновалась. «Надо же, вправду приехал! Кто бы мог подумать? Что за девица рядом с ним? Хорошенькая, очень хорошенькая. Ах да! Я, кажется, напророчила ему скорую любовь. Неужели с ней?! Кто бы мог подумать!» Она спешно поправила кроватное покрывало, заметалась по комнате, не зная, за что схватиться. Снова ринулась к кровати, зачем-то выдернула из-под подушки свою главную драгоценность – книгу Анатолия Эфроса «Репетиция – любовь моя», сунула под мышку, девчонкой вылетела в коридор, поторопилась к лестнице.
Никакой пророчицей Берта, конечно, не была. Просто в прошлую субботу ей захотелось побывать в роли Кассандры, что она воплотила, как всегда, с блеском. Но разве могла она предположить такие последствия?
– Вижу, вижу. Судьбоносная встреча состоялась. – Этими словами она встретила их у лестничного пролета второго этажа. Им показалось, она ничуть не удивлена их приезду. Одета она была чрезвычайно просто, но неуловимо изысканно. На ней были кремовая свободная блузка с накинутым на плечи шоколадным палантином, узкие брючки в бежевую клетку и черные замшевые балетки. – Невооруженному глазу заметно, – продолжала она, – какие искры сверкают между вами. – Ее правая рука взметнулась вверх, тыльной стороной ладони, как от вспышки, она прикрыла глаза.
Все трое незамедлительно рассмеялись.
– Что ж, правильно, что приехали. Не могу утверждать, что ждала вас, но не стану отрицать и радости по поводу вашего приезда.
Кирилл, поравнявшись с ней, поинтересовался:
– Где ваш знаменитый фартук, Берта Генриховна?
Она вскинула голову:
– Вы Кирилл… ведь верно, Кирилл? Вы искренне думали, что я в нем сплю, ем и принимаю ванны? Как видите, нет. Я использую его в экстремальных случаях, с известной вам целью. Сейчас он хранится в тайнике близлежащей лесополосы, под старой, помеченной мною крестиком сосной. Что же касается обращения ко мне, можно по-европейски просто Берта. Так будет лучше для всех нас. Изволите представить свою спутницу?
– Катя, – сказал Кирилл, беря девушку за руку.
Берта заметила, как скована стеснением девушка, и подумала: «Ах, совсем не наглая – при такой-то красоте! А у парня глаз гори-ит, похоже, втрескался не на шутку. Где же он раскопал это изящное сокровище?»
– Катя, чудесно! Вам очень идет ваше имя, Катя.
Девушка заулыбалась. Берта снова о ней подумала:
«Надо же, уголки губ, как завитки у грифа скрипки».
Они продолжали стоять посередине коридора. Все трое были явно смущены, и ликвидировать общую растерянность, как старшей, предстояло Берте.
– Я, молодые люди, хочу услышать либретто вашего знакомства.
– У друга на концерте. Помните худого длинного? Короче, музыка нас связала.
Кирилл не отпускал Катину ладонь. Катя согласно кивнула.
– Ах, тот беспечно-наивный гоготун? Каким же инструментом он владеет?
– Трубой.
Берта, переместив книгу из-под мышки в руку, всплеснула руками:
– Бесподобно! Мой любимый из духовых! Какое эстетическое наслаждение доставили вы мне своими словами! Вы не представляете, как опечалилась бы я, узнав, к примеру, что встреча состоялась в продуктовом магазине. Виду я, конечно, бы не подала, но безмерно расстроилась бы из-за банальности происшедшего. Для меня, знаете, всегда было чрезвычайно важно, при каких обстоятельствах впервые сталкиваются люди. Ну а теперь, извольте, я проведу ознакомительную экскурсию. Только прошу не удивляться вслух ни одному из встреченных персонажей. Ибо нас могут истолковать превратно. Я называю их пансионерами, производным от пансиона и пенсионеров. Идемте, идемте, перемыть им косточки мы еще успеем. – И Берта повела их вдоль коридора, устланного красно-синей дорожкой времен расцвета СССР. – Ничего не поделаешь, – продолжала она, – Цербер, наш директор, помешан на советских реликвиях. Хоть я не питаю к Церберу никакой симпатии, где-то в глубине души могу понять его ностальгические настроения.
Вдоль левой глухой стены под рубрикой «НАШИ ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО» висело множество самодельных плакатов. Кирилл обратил внимание на самый обширный, где под заголовком «ВСТРЕЧА НОВОГО, 2011 ГОДА» вокруг искусственной елки выстроился на укрупненной фотографии хоровод из старичков и старушек, слегка разбавленных местным женским персоналом.
– Как в детском саду, – заметил Кирилл.
– Недалеко от истины, хотя на самом деле пыль в глаза, для разных там комиссий. Через месяц вместо единицы нарисуют двойку, через год, глядишь, тройку, а рожи все те же, хотя некоторые тю-тю… – Берта винтообразным жестом указала в потолок, – отошли в мир иной. А настоящее творчество здешних масс, я называю его картинками с выставки, на плакатах не отображено. О-о, – чуть приостановилась она, – ни дать ни взять тайны дворцовых переворотов, только по-настоящему буйных мало, вот и не удается свергнуть правящую верхушку.
Они приблизились к концу коридора.
– Вот моя келья, прошу.
Берта распахнула дверь, они переступили порог.
– Как видите, все здесь довольно серо, кроме, пожалуй, этого. – Она слегка подтолкнула их в спины к подоконнику. – После моей первейшей драгоценности – она потрясла в воздухе книгой – еще одна драгоценность, благодаря этому молодому человеку, – она легонько тронула Кирилла в спину уголком книги, – приросшая неделю назад дополнительной единицей. Минималистская инсталляция, мой, так сказать, творческий изыск, прошу любить и жаловать.
Катя, подойдя к подоконнику, искренне умилилась:
– Какие прелестники!
– Согласитесь, некоторая ущербность придает им больший шарм, повышенную эксклюзивную ценность, не так ли?
– Да, – кивнула Катя, – я от кого-то слышала, больных детей любят больше, чем здоровых.
Берта пристально посмотрела на нее, затем всем корпусом развернулась к Кириллу:
– Сдается мне, в груди этой девушки бьется чуткое, понимающее сердце. Когда я беседую с ними, в моей душе разливается солнце и поют жаворонки. – Берта снова покосилась на Катю. – Кто же, позвольте узнать, Катерина, импонирует вам больше остальных?
Катя, продолжая со вниманием разглядывать фигурки, ответила:
– Скрипач и балерина.
– Восхитительно! Вы, безусловно, натура творческая. Не доводилось ли вам заниматься каким-нибудь видом искусства?
– Недолго совсем, – призналась Катя. – До школы отец водил меня примерно год в хореографическую студию.
– Вот как? Порой на заре юности достаточно года, чтобы в душе на всю жизнь открылся неиссякаемый фонтан вдохновения! Но, надо признать, есть натуры ничем не прошибаемые. Даже десятилетия сизифовых занятий не сделают их души утонченными. Такова моя никогда не смолкающая соседка по комнате. Представьте, эти милые фигурки на подоконнике, по ее мнению, есть хлам, не стоящий ломаного гроша. Зато пыльная кипа «ЗОЖей», откуда она черпает тонны телесного здоровья, для нее своего рода библия.
– Все правильно, – сказал Кирилл, – каждому свое по жизни. Оценка измеряется не ценой вещи, а выгодой, которую каждый из нее извлекает.
– Откуда эта поразительной глубины сакраментальная фраза?
– Якоб Бернулли, швейцарский физик, математик и философ.
– Из какого времени?
– Из семнадцатого века.
– Потрясающе! – Жестом Берта пригласила их сесть к себе на кровать.
Все трое присели.
– У вас что, очень болтливая соседка? – поинтересовалась Катя, оглядывая комнату.
– Если бы только это, – печально вздохнула Берта, пряча Эфроса под подушку, – она хронически певуча, причем зло певуча.
– Так попросили бы переселить вас от нее или наоборот.
– Это, увы, невозможно. Цербер стойко соблюдает разработанный им генеральный закон. Селить легких с легкими, трудных с трудными – вот его профессиональное кредо. С каждым вновь прибывшим он проводит пристрастную получасовую беседу, прощупывает, как ему кажется, все аспекты личности. Мало ему быть просто администратором, он мнит себя психологом, знатоком человеческих пороков и слабостей. После первичного собеседования он счел меня трудновоспитуемой и поселил сюда, к Любови Филипповне. Теперь уж его ничем не свернешь. Таким способом, ему кажется, он сохраняет равновесие и дисциплину.
– Ой, у нас же манго и еще кое-что тут, – спохватилась Катя, извлекая из сумки красно-желтый плод и коробочку конфет «Ферреро Роше».
Пока Катя мыла манго, Берта достала из тумбочки тарелку и нож, выдала их Кириллу. Кирилл продемонстрировал виртуозное мастерство отчленения мякоти от косточки, они снова устроились на Бертиной кровати и стали угощаться. В этот день им повезло, Любовь Филипповна не вторглась в их общение. В актовом зале шла репетиция к предстоящему новогоднему концерту, где она готовила два сольных номера.
В автобусе до «Юго-Западной» имелись свободные места, Катя с Кириллом сели на галерке:
– Ты помнишь какие-нибудь из своих детских кошмаров?
– Ночных?
– Нет, не ночных, – разъяснила Катя, – наяву.
– Детские травмы по Фрейду?
– Не-ет, у Фрейда слишком все заморочено, я про конкретные события, которые на поверхности.
– Может, начнем с тебя? – Кирилл пока не совсем понимал, до какой степени допускается откровение.
– Ладно, – легко согласилась она. – Например, принудительный сбор черной смородины в восемь лет у бабушки на даче. Солнце шпарит, кусты колючие, заразы. А ты собираешь, потому что попробуй откажи ей. Потом с обгоревшим носом, с обгоревшими плечами, вся исцарапанная заходишь в дом с одним желанием – высыпать ей этот чертов «витамин» на голову. Такая, знаешь, злость разбирает от этого жуткого несовпадения, что, когда все дачные друзья гуляли, ты мучилась, собирала.
– Понимаю, – усмехнулся Кирилл, внутренне расслабившись от столь замечательного ее рассказа. – Я лет в семь-восемь маниакально хотел сходить с отцом в зоопарк. Причем был там пару раз с матерью, но хотел обязательно с отцом. Он на мою просьбу, знаешь, что ответил: «Еще чего, у них там вечный недокорм и авитаминоз, я должен вонь нюхать и на их облезлые бока смотреть?» Взял так с ходу опорочил детскую мечту. Я на него долго злился, даже хотел отомстить, только способ не мог придумать. Потом как-то притупилось.
– Ой, у меня совсем было наоборот. Я ходила туда всего один раз, именно с отцом. Он меня посадил перед турникетами на плечи, крепко так держал за ноги, я брыкалась, мы с ним хохотали, мне казалось, все вокруг завидуют мне до потери пульса.
– Они и завидовали.
– Думаешь? – Она повернулась и слегка подалась к нему.
– Уверен.
– Знаешь, особенно что запомнилось? Как стояли у вольера с белыми медведями, медведиха плавала там с медвежонком в бассейне и смешно топила его лапой, отец снова поднял меня на плечи, я увлеклась, обо всем забыла, он вдруг говорит: «Катька, ты меня сейчас задушишь, держи меня лучше за уши», а мне было жалко его ушей. Потом купили пончиков в сахарной пудре, сидели на скамейке, ели. Я с тех пор ни с кем больше там не была. Какое-то дурацкое сидит ощущение: если пойду туда с кем-то другим, предам его.
Кириллу ужасно хотелось ее обнять. Она похожа была сейчас на ребенка. Еще в ней было то, что он ценил в женском поле, кроме красоты и ума, превыше всего – естественность и отсутствие пафосного хамства. В его родном университете приходилось как минимум по две отпетые хамки на каждый квадратный метр. Он слушал ее и незаметно разглядывал ее волосы. При свете дня они оказались не просто каштановыми, а отливали темной искрящейся бронзой. «Хорошо, что они у нее настоящие, природные», – думал он. Он терпеть не мог крашеных женских волос. Особое отвращение он испытывал к жутким бороздам другого цвета у корней, когда волосы отрастали, а владелицы волос не успевали подкрашивать их у основания. Именно эти полтора-два отросших сантиметра, контрастирующих с остальной массой, вызывали в нем вместе с чувством брезгливости абсолютное непонимание женских представлений о красоте.
– Мне понравилась Берта, – без всякого перехода сказала вдруг Катя. – Убожество, конечно, там страшное. Все какие-то хромые, косые, кривые, смотрят, как будто у каждого по миллиону украли. А в ней есть что-то такое, гордое, что ли, несломленное. Она, по-моему, абсолютная атеистка.
– А ты? – поинтересовался Кирилл.
– Меня в этом смысле никто не просвещал. Так, обходилась своими силами. Про буддизм даже чуть больше знаю, чем про православие. Если честно, меня эта тема не особо волнует. Мне кажется, в мире, кроме религии, столько интересного.
Глава 6. Начало
За спиной у Берты имелось полно грехов. Она не отрекалась от них, осознавая их тяжесть в полном объеме. Но обсуждать собственные грехи она не стала бы ни с низшими, ни тем паче с высшими церковными чинами. То была исключительно ее персональная ноша. Любые покаяния вслух через посредников – служителей культа были глубоко ей чужды. Кто, кроме самого человека, может стать судьей своим поступкам?
С годами у нее накопилось немало претензий к церкви и ее представителям. Она отказывалась понимать и принимать, что тех, кто из века в век переворачивал людские души, заставлял рыдать, переосмысливать жизнь и выходить просветленными, до недавнего времени было принято, не считая за людей, хоронить за оградами кладбищ. Она не собиралась прощать парижскому архиепископу второй половины XVII века неправедных, под покровом ночи, похорон истинного короля французской драматургии Мольера! Непосредственно Иисус оставался для нее фигурой самоценной, именно поэтому она нередко задавалась вопросами: «Как, когда, при каких обстоятельствах случилось, что идея всеобъемлющей любви в который раз в мировой практике переплавилась в глухое фарисейство? В нудную рутину запретов, диктат нравоучений, механистическое выполнение пустых формальностей, того хуже – лицемерную систему двойных стандартов? Откуда в подавляющем большинстве человеческих особей, – негодовала Берта, – сидит способность все опошлить, вложить в рамки безжизненного норматива, а то и откровенно бессовестного приспособленчества?»
Только искусство, считала она, обладает возможностью и правом очищать, просветлять, и это куда мощнее, чем выстаивание на церковных службах. Ветхозаветные истории с юности по сей день шокировали ее призывами к слепому подчинению карающему Богу Яхве (Иегове), к евангельским сюжетам тоже имелись вопросы – правда, им она симпатизировала больше, – но вживаться в те и другие готова была лишь сквозь призму искусства. Никакие книжные или словесные проповеди, была она уверена, не сравнятся по убедительности с «Гефсиманским садом» Пастернака и «Сретеньем» Бродского.
Именно таким сильнейшим потрясением от искусства стал для нее когда-то канун нового, 1958 года. В ночь с тридцатого на тридцать первое декабря Симочка повезла ее – тогда еще Риту – в Ленинград. Тетка задумала сделать любимой племяннице подарок.
Родная младшая сестра погибшего на войне теткиного мужа Алексея Яковлевича, Зинаида Яковлевна, работала в БДТ костюмершей и раздобыла заветные контрамарки на премьеру «Идиота». Родственницы сговорились держать это событие в строжайшей тайне и посвятить в него Риту-Берту только на входе в театр. Жила Зинуша одна, на улице Халтурина, бывшей Миллионной, в просторной коммунальной комнате с двумя окнами. Встреченные хозяйкой горячими объятиями и поцелуями, гостьи замерли на пороге комнаты перед благоухающей свежим смолистым духом красавицей елкой. Елка была установлена в простенке между окнами, крепкие ее лапы переливались цветной мишурой, искрились гирляндами из стекляруса, были схвачены пингвинами, зайцами, белками, лыжниками на прищепках, в партере утопали в ватном снегу Дед Мороз и Снегурочка из папье-маше, вверху традиционно багровела пластмассовая кремлевская звезда. Зинаида Яковлевна в двери взяла родственниц под руки: «Гриша постарался, сосед. Два захода с санками сделал – себе и мне. У меня бы самой сил не хватило, а очень для вас хотелось». Она велела им располагаться, сама же в срочном порядке отправилась на кухню, где возилась с новогодними пирогами. Симочка, оставив в комнате вещи, последовала за хозяйкой. А Рита-Берта долго не отходила от елки, детально изучая каждую из игрушек, потому как некоторых у них в московской квартире не было. Ее экстатичное стояние у елки периодически нарушало непривычное многоголосье и суетное шастанье соседей на кухню мимо комнаты.
После обеда, убрав со стола посуду, Зинаида Яковлевна торжественно подошла к шкафу, открыла скрипучую зеркальную створку и извлекла на свет ослепительной красоты платье, покачивающееся на деревянных плечиках:
– Вот, Ритуля, мой тебе подарок. Во-первых, к Новому году, а потом ты в этом году кончаешь школу, тебе полагается.
У Риты-Берты перехватило дух. Светло-изумрудный бархат, отрезное по талии, с сильно присобранной юбкой, с длинными рукавами на высоких манжетах, украшенное широким поясом с серебристой пряжкой, а главное, воротник – большой, закругленный, отложной, из тончайшего белоснежного кружева.
– Ну-ка, примерь, Ритуля. – Зинаида Яковлевна расстегнула ряд маленьких перламутровых пуговок по спинке платья, сняв его с плечиков, подала Рите-Берте. – Иди за ширму, мы с Симочкой ждем.
– Пуговицы не могу застегнуть до конца, пока не привыкла, – взволнованно проронила Рита-Берта из-за ширмы.
– Стой там, сейчас застегну. – Зинаида Яковлевна прошла к ней, ловко застегнула верхние пуговицы. – Ну, теперь выходи!
Она выплыла на мысочках из-за ширмы, встала в центре комнаты, и Серафима Федоровна восторженно взялась за сердце:
– Скажи, Зинуша, где наши с тобой осиные талии?!
Зинаида Яковлевна подтолкнула Риту-Берту к зеркалу в шкафу:
– Подойди полюбуйся.
Это была она и вместе с тем не она. Платье сидело безупречно, подчеркивало ее высокую округлую грудь, эффектно выделяло тончайшую талию, юбка чуть прикрывала колени, оставляя на обозрение стройность ног. А воротник! Как же он шел к ее серо-зеленым перламутровым глазам, темно-русым волосам с рыжинкой! В ее жизни не было до сей поры ни одной вещи, которая бы так ее красила.
– Руки у тебя золотые, Зинуша, и безупречный вкус, – цокала языком Серафима Федоровна. – Не зря трудишься в лучшем театре страны.
– Ты вправду считаешь наш театр лучшим?
– Да. С тех пор как два года назад к вам пришел этот носатый диктатор с грузинской кровью, снова считаю лучшим. Заметь, против такой диктатуры мне нечего возразить.
– Я думала, москвичи убеждены, что все лучшее может быть только у них, – засмеялась Зинаида Яковлевна.
Потом тетушки долго наглаживали свои наряды, причесывались, наводили марафет, и Рита-Берта заподозрила, что они готовятся на выход.
– Вы куда-то собираетесь? – удивилась она.
– Да, – подтвердили они. – Пора тебе снова надеть обновку. Там, куда мы идем, твое платье будет очень уместно.
– Куда же мы идем? – удивилась Рита-Берта.
– Терпение, дорогая.
По набережной Фонтанки дошли до набережной Мойки, стали приближаться к театру, куда активно стекались люди. Рита-Берта, издали узрев афишу, внутренне ахнула: «Что ж за день-то особенный!»
Отойдя перед гардеробом в уголок фойе, Серафима Федоровна достала из сумки сверток, вытряхнула на пол две пары туфель: свои и выходные племянницыны.
– Симочка, ты взяла с собой мои парадные туфли!
– А как же! Не в калошах же быть на премьере!
Зал не дышал. Князь Мышкин, не касаясь пола, скользил по сцене, словно имел крылья. И говорил, говорил тихим, прозрачным, совершенно необыкновенным голосом. Когда Настасья Филипповна стала выкидывать эксцентричные фортели, Рита-Берта машинально зажала себе рот ладонью, чтобы не выкрикнуть: «Дура! Зачем ты с ним так? Ты слепая? Не видишь, кто перед тобой?» Ей не было жалко Настасьи Филипповны. Подумаешь, был старый любовник у юной девушки! Эка невидаль! Ее одноклассница Лера, например, тоже встречалась несколько месяцев с пятидесятилетним трудовиком из их школы, потом ему надоела – и ничего, осталась радостная и веселая. Настасья же Филипповна вся изломалась, искривлялась. А избалованная, самовлюбленная Аглая? Никого, кроме себя, не видит и не слышит. Капризные, взбалмошные курицы! Каждая в своем роде. Разве способны они любить бескорыстно? Им же надо, чтобы любили только их, возились только с ними! А вот князь Лев Николаевич! Тихий, робкий, он во сто крат сильнее их всех. Куда Рогожину и Иволгину, с их земными страстишками, против него, хрупкого, больного, но полного духовного величия!
После спектакля решили снова идти пешком. Шли домой молча – в ушах волнами пульсировали нескончаемые аплодисменты. Только на пороге квартиры Симочка негромко произнесла: «Смоктуновский… великий артист, Зина. И бесспорно, такой же раненный, как сам Достоевский. У Товстоногова грандиозное будущее».
А Рита-Берта, затаив дыхание, продолжала молчать, что-то мощное расширялось в ней, неосознанная горячая сила заполняла ее клетки трепетом и возбуждением. К моменту боя курантов у нее поднялась высокая температура. Стук сердца охватил ее существо без остатка. Зинаида Яковлевна, застелив постель, заботливо уложила ее на диван, накрыла воздушным пуховым одеялом. Поздравления советскому народу, звон двух сдвинутых в честь Нового года бокалов донеслись до нее словно через многослойную вату. Она погружалась в сон под еле слышный диалог.
– Господи, когда она умудрилась простыть так сильно? Сквозняков у меня не бывает. Неужели в поезде?
– Сквозняки здесь ни при чем, Зина. Ритуша у меня никогда не болеет, тем более плебейскими простудами.
– Тогда что? Не отравилась же она, право дело. Еда у меня свежайшая.
– Ты спрашиваешь – что? Великая сила искусства, Зина. Что же еще?
– Да я как-то не предполагала… чтоб такое сильное влияние… – Растерянный полушепот Зинаиды Яковлевны то пропадал, то возникал вновь.
– У таких, как она, случается.
– У таких? Она особенная?
– Конечно. Разве ты не заметила, как она смотрела на сцену? Она же была одновременно всеми ими.
К утру от телесного жара не осталось следа. Но он успел выполнить главную задачу – запалить в ее душе вечное артистическое горение. Проснулась Рита-Берта с твердым осознанием – она не кто иная, как актриса. Актриса с макушки до кончиков пальцев – и на всю жизнь.
На обратном пути в поезде она никак не могла уснуть. Лежала, смотрела, как стремительно меняющиеся за окном ночные огни переплавляются на двери и стенах купе в диковинные светотени. Периодически она закрывала глаза, тогда князь Лев Николаевич скользил и скользил по сцене, звенел тихим, приглушенным голосом, заламывая тонкие, необычайно живые руки. Наконец она не выдержала, прошептала:
– Я решила, я буду актрисой.
– Я не сомневалась, – ответила тоже не спящая Серафима Федоровна. – Хотела только, чтобы ты сама это произнесла. Имей в виду, звонить, просить за тебя не стану. Уверена, поступишь без протекции. У тебя врожденное владение искусством переживания. Ну, а о твоих внешних данных говорить не приходится.
– А куда поступать? – счастливо спросила Рита-Берта.
– Как куда? В ГИТИС, конечно. Уж что-что, а подготовить тебя к поступлению за оставшиеся полгода я успею. Даром, что ли, служу на театре больше тридцати лет?
В мае от Зинаиды Яковлевны были переданы из Ленинграда с оказией еще два платья. Светло-кремовое крепдешиновое – летящее, невесомое, и темно-синее штапельное – строгое. Крепдешиновое было надето на выпускной школьный бал, штапельное на вступительные экзамены в ГИТИС.
Приемная комиссия оказалась в своем решении единодушна. Она была принята на актерский факультет.
Это потом, на втором курсе, в шестидесятом году, будет еще одна, уже самостоятельная поездка в Ленинград к Зинаиде Яковлевне, где на спектакле БДТ «Пять вечеров» по пьесе Володина на нее снова обрушится переворот в сознании, поразит, опалит Тамара (Зинаида Шарко). Не игрой – жизнью на сцене с вынутым на ладонь трепещущим сердцем.
Но именно премьера «Идиота» стала поворотной вехой в ее судьбе.
Как счастливо было нестись по Поварской до Никитского бульвара, туда, к Воздвиженке, сквозь Нижний Кисловский, к заветному трехэтажному особняку, утопленному в Малом Кисловском переулке. Дорога от дома занимала пятнадцать минут. Пятнадцать благословенных минут! Одинаково сильно она любила все, что окружало ее в пору учебы: всех преподавателей, все без исключения дисциплины, смену времен года – снежные сугробы вокруг особняка, весенние лужи на асфальтовых дорожках, зелень молодой травы на близлежащих газонах, опавшие багряно-золотые листья у заветного входа под старинным железным козырьком. В воздухе еще звенела хрущевская оттепель, слышались отголоски Всемирного фестиваля молодежи и студентов, будущее манило, влекло чем-то новым, неопробованным, бесконечно прекрасным. В отличие от многих сверстников, бездумно прожигающих юные годы, она с маниакальным обожанием вбирала в себя каждый день, каждый неповторимый миг студенческой молодости.
Ни до, ни после войны их с теткой не уплотнили, они продолжали жить вдвоем в отдельной трехкомнатной квартире, полученной Алексеем Яковлевичем от государства в конце тридцатых годов. Алексей Яковлевич был старше жены на пятнадцать лет. Он приглядел Симочку Снегиреву, начинающую тогда актрису, в небольшой роли одного из курируемых им театров и успел всей душой полюбить ее за время спектакля. Кроме его импозантной аристократической внешности и фантастически красивых ухаживаний, молоденькую Симочку покорило то, что Алексей Яковлевич оказался небезызвестным искусствоведом и театральным критиком (профессия в тридцатые годы почти эксклюзивная). Их брак был бездетен, они с удовольствием жили друг для друга, купаясь в личном счастье и богемной театральной атмосфере. За полгода до войны Алексей Яковлевич успел получить Сталинскую премию второй степени. Однако семейное благолепие прервалось в июне сорок первого. С первых дней войны Алексей Яковлевич, имевший бронь, начал терзаться муками совести и, невзирая на уговоры жены, что нужен в Москве, ушел весной сорок третьего на фронт. Он погиб в марте сорок пятого, в пятьдесят четыре года.
Остатки нерастраченных денежных средств от его премии канули в реформе сорок седьмого года, а вот обстановка квартиры сохранялась незыблемой с момента заселения хозяина. Единственное, что подверглось незначительному изменению, – угол его кабинета, переоборудованный Симочкой после войны в спальню для Риты-Берты. Конечно, в войну в обмен на продукты пришлось расстаться с некоторыми ценностями (деньги рыночных барыг интересовали мало), но горячо любимые Алексеем Яковлевичем черный кожаный диванчик, рабочий стол со столешницей темно-зеленого сукна, французские напольные часы «Бретон» с тихим мелодичным боем, стенные стеллажи с многочисленными книгами и альбомами по искусству и истории театра остались неприкосновенными.
Вся мебель в квартире была мягких округлых форм. Дубовый гостинный сервант с резными стеклами был закруглен по бокам, комод выступал вперед пузатым бочонком, круглый обеденный стол, когда его раскладывали для приема гостей, принимал форму огромного эллипса. Даже спинки и ножки стульев повторяли очертания основных мебельных предметов.
Три раза в неделю, приготовить обед и прибраться, приходила молчаливая, строгая домработница Анна Егоровна, доставшаяся им по наследству от родителей Алексея Яковлевича. В ее обязанности, помимо обеда и уборки, входил воскресный продуктовый рынок.
И вот в одно из весенних воскресений шестьдесят второго, закончив с обедом и отправив Анну Егоровну домой раньше обычного, без мытья посуды, Серафима Федоровна задержала собирающуюся на прогулку Риту-Берту:
– Погоди, Ритуля, мне нужно с тобой поговорить.
Тетка ненадолго исчезла в своей комнате, вернулась в гостиную с темно-коричневой кожаной шкатулкой.
Сев за стол, бережно поставила шкатулку перед собой:
– С раннего твоего детства до сей поры я рассказывала тебе только малую толику правды, все остальное – вымысел, легенда. Легенда во спасение. Теперь, когда многое в стране изменилось и окрепло, тебе близится двадцать два года, ты почти выпускница, я считаю своим долгом рассказать всю правду без остатка. – Она любовно положила ладонь на крышку шкатулки. – О своей матери ты знаешь почти все: что родилась поздним ребенком, была на одиннадцать лет младше меня, закончила пединститут с отличием и слыла одной из самых красивых девушек курса. А вот об отце ты не знаешь почти ничего. Отправляясь на работу, казалось бы, в глушь, в Саратов, Мария ни сном ни духом не ведала, что за обстановка там царит. А вышло совсем не по Грибоедову. Ситуация там сложилась жуткая. В тридцать шестом году начался страшный террор немецкого населения. Вышвыривали кого в Казахстан, кого в Сибирь, многих расстреливали. Школы с преподаванием на немецком языке срочно очищались от учителей-немцев. Оттого необходим был приток русских словесников. А отец твой как раз из поволжских немцев. История его предков уходит корнями в екатерининские времена. Этот вопрос, если захочешь, изучишь самостоятельно. Так вот… его не репрессировали до войны только потому, что он представлял необыкновенную ценность как инженерный специалист. Однако слежка велась за ним денно и нощно. НКВД контролировал каждый его шаг. Угораздило же Марию и Генриха – да-да, отца твоего звали именно Генрихом – случайно встретиться декабрьским вечером тридцать девятого года на улице Саратова. Нескольких секунд хватило вспыхнуть их взаимному чувству. Воистину от судьбы не уйдешь. Удивительно, но Генриху беспрепятственно позволили зарегистрировать брак с твоей матерью. Органы, наверное, решили, что продуктивность его мыслительного аппарата от женитьбы на такой красавице возрастет еще больше. Там, в роддоме саратовской больницы, двадцать второго августа сорокового года ты и родилась. И всего два письма от твоей матери за целый год. А в сентябре сорок первого раздался звонок в дверь, Мария ворвалась в квартиру с тобой на руках, словно за ней гнались, опустила узелок с вещами у порога, ринулась в комнату, крикнув: «Закрой получше дверь, Сима, проверь замки». Закрыв дверь, я поспешила за ней. Она ходила, ходила взад-вперед по комнате, прижимая тебя к себе и говорила – торопливо, возбужденно, будто боялась не успеть: «Ты понимаешь, Симочка, что по закону военного времени его должны были расстрелять! Он в Саратове работал на секретном производстве, самолеты строил. Это же оборонная промышленность! Мне кажется, даже в момент зачатия нашего ребенка в изголовье кровати стояла парочка энкавэшников». Вдруг Мария перестала ходить, крепче прижала тебя к себе, замерла в центре комнаты: «О-о, Зина, это страшные люди, да не люди они вовсе, а облаченные в форму бесы! Ручаюсь, у всех у них под одеждой хвосты и копыта. То, что Генриха не расстреляли, чудо. Чудо или случайность. Представь, перед ссылкой у него не отобрали партбилет. Но это только пока. Все ужасы впереди. Исхода от бесов нет, нигде, ни в одном захолустье». Она посадила тебя на диван, снова заметалась по комнате, непривычно поводя в воздухе руками. Глаза ее разгорелись как в лихорадке. «Я нужна ему там, без меня он не выстоит, сломается. Да прилепится жена к мужу своему, да последует за ним, и будут одна плоть. Да, да, да! Одна плоть». Господи, поражалась я, что она говорит?! Откуда в ней это? Всегда была рьяной атеисткой, комсомолкой, безоговорочно верящей в генеральную линию партии, в единственно правильный курс СССР. А тут вдруг слова из Писания, пусть и несколько перефразированные. Ее речь была похожа на истерику, на помешательство, я не узнавала свою сестру. Дабы снять напряжение, я попыталась вклиниться: «Машенька, в Писании сказано – прилепится муж к жене». А она мне: «Суть одна, главное – плоть, понимаешь, одна плоть, и дух, еще дух, конечно, дух». Тут-то до меня стало доходить, это все та же Мария, порывистая, отчаянная, жертвенная. Только раньше она приносила себя в жертву горячо любимой стране, а теперь любимому человеку. Все яснее мне становилось, ее не удержит в Москве никакая сила, даже инстинкт материнства, что ты, деточка, останешься у нас с Алексеем Яковлевичем; и все же до последней секунды нашего с ней свидания мне хотелось спасти ее от неминуемой гибели. «Опомнись, Маша, у тебя на руках годовалый ребенок, ты не думаешь, что гораздо нужнее ребенку? То, что под бомбежками ты смогла доехать до нас живая, невредимая, сохранить жизнь девочке, уже чудо». Она возмутилась: «Что ты?! Как ты можешь! Он там один. Ты не представляешь, что за кошмар… в каких условиях… как его заталкивали в теплушку для скота. Там, в этой теплушке, весь пол был в коровьих лепешках, и запах… кисло-сладкий приторный, тошнотворный запах». Я не знала, чем ее успокоить. «Ты бы, Машенька, пошла приняла с дороги душ, я пока разогрею тебе поесть, накормлю девочку». Она замахала руками: «У меня нет времени, Сима, я опоздаю на поезд». Ринулась в коридор, стала надевать босоножки, руки у нее дрожали, она никак не могла попасть в дырочки на ремешках, и на ногах эти носочки – в бело-синюю полосочку. Ей тогда двадцати пяти не исполнилось. Девчонка, хрупкая, осунувшаяся девчонка, измотанная дорогой, горем, страхом. Так и застряла в памяти сцена в коридоре: ее склоненная спина, две свесившиеся к полу русые косы с проделанным наспех неровным пробором, не справляющиеся с ремешками пальцы. «Я напишу, непременно напишу, только матери с отцом, пожалуйста, ни слова, для них у меня все хорошо, я вернусь, непременно вернусь за Бертой, только обустроимся». Она схватила лежащий у порога узелок, протянула мне: «Здесь Берточкины вещи, самое необходимое, и метрика, метрика тут, еще коллекция Генриха, старинная, от деда, мейсенский фарфор, сбереги, Сима, обязательно сбереги, он очень просил». Из гостиной в это время раздался твой плач, лицо моей несчастной сестры исказилось немыслимым страданием. Я испугалась за тебя, ринулась в гостиную: «Сейчас, Машенька, я только успокою девочку, погоди, я принесу денег и еды тебе в дорогу, сейчас, сейчас…» – Я подхватила тебя на руки, подбежала к серванту за деньгами, ты плакала все громче, громче… Когда я вышла в коридор, Марии не было… и тут меня пронзило страшное осознание… я больше никогда ее не увижу.
– Что было потом? – прошептала Берта.
– Потом… спустя четыре месяца поезд с нашими родителями разбомбят по дороге в эвакуацию, от дома на Нижней Масловке, где прошли детство и юность, ничего, кроме руин, не останется, через год Алексей Яковлевич не выдержит, отринет бронь, уйдет на фронт. А тогда, в сентябре сорок первого, придя вечером домой и выслушав меня, он скажет: «Машеньке мы вряд ли поможем, она выбрала себе судьбу, а вот девочку мы обязаны спасти. Ей, Сима, категорически нельзя оставаться Ульрих. Причины тут две. Идет страшное кровопролитие, а отец, по документам, немец». – «А другая причина?» – удивилась я. «Другая? Этот нелюдь, убийца Василий Васильевич Ульрих, председатель военной коллегии Верховного суда. Вот кто запачкан кровью с головы до пят. Это он, помнишь, я рассказывал, приложил руку к расстрелу Тухачевского. Да и всех лучших подчистую. Я уверен, это до поры, его самого наверняка скоро сожрет адская машина репрессий, и тогда, не исключено, вырастут перед нами представители наших доблестных «органов» и поинтересуются: не родственницу ли того-самого Ульриха пригреваете вы под своей крышей? Мы-то с тобой, Сима, как нормальные люди, понимаем, тут всего-навсего совпадение, случайность, но органы разбираться не станут. Их специфика извлекать из случайностей выводы и в поте лица пропалывать грядки. И никакие мои регалии не помогут. Скажи, сколько лет мы с тобой мечтали о дочери Маргарите? А здесь сама жизнь распорядилась. Так вот, пока у меня есть связи и возможности, я справлю ей документ со своей фамилией, пусть она станет Маргаритой Алексеевной Масленниковой.
– Знаешь, Симочка, мне кажется, я немного помню Алексея Яковлевича, – прервала тетку Рита-Берта.
– Вряд ли, – покачала головой Серафима Федоровна, – когда он уходил на фронт, тебе двух с половиной не исполнилось.
– А я говорю, помню. На нем была колючая шинель, за спиной вещмешок с широкими лямками, он стоял на лестничной площадке, держал меня на руках, что-то говорил, потом отдал меня тебе, стал спускаться по лестнице и оглянулся два раза.
– Верно, – отвернувшись к окну, тихо произнесла Серафима Федоровна, – сказал, что б берегла тебя, пообещал вернуться.
– Вот маму с отцом совершенно не помню. – Рита-Берта подошла к серванту, взяла с полки «Паяца», провела пальцами по длинному носу его маскарадной маски, по серьгам, по золотистым пуговицам белой курточки.
Серафима Федоровна, покачивая головой, продолжала гладить ладонью шкатулку.
– Мать была у тебя чудесная, и отец, не сомневаюсь, был прекрасным человеком. Мария не могла полюбить другого. Видишь, какую добрую и веселую память он тебе оставил. «Паяц» – персонаж старинной итальянской комедии. Алексей Яковлевич, как истинный ценитель старины, успел заболеть коллекцией. Хотел составить каталог с подробным описанием каждой фигурки. Но война, война… Пришлось кое с чем расстаться, спрос в войну на деньги был маленький, только на ценные вещички, но даже в мыслях ни разу не возникло у меня посягнуть на коллекцию. Вот был бы жив Алексей Яковлевич, он непременно рассказал бы тебе и о комедии дель арте, и о мейсенском фарфоре во всех красках и подробностях, как не рассказал бы никто другой!
– Я знаю про «Паяца». Я нашла о нем в альбомах Алексея Яковлевича. Он всегда был моим любимым. – Рита-Берта поставила фигурку на место, вернулась за стол. – Значит, я никакая не Маргарита Алексеевна Масленникова, а Берта? Берта Генриховна Ульрих?
– Страшное было время, Риточка. – Тетка придвинула к ней шкатулку.
Берта открыла пахнущую старой кожей крышку, достала два конверта с письмами, под которыми на оббитом красным бархатом дне лежала ее метрика. «Письма прочитаю потом, когда буду одна», – решила она. Развернув метрику, пробежала глазами по строчкам. Фиолетовые чернила, чей-то каллиграфический, с завитками заглавных букв почерк.
Мать: Ульрих (Снегирева) Мария Федоровна, 1916 г. р.
Отец: Ульрих Генрих Альбертович, 1909 г. р.
Дочь: Ульрих Берта Генриховна, 22 августа 1940 г. р.
– Нет, Симочка, с этого дня я больше не Рита. Я Берта… и никак по-другому. Я не собираюсь отрекаться от родителей. Верну себе фамилию, поменяю паспорт. Спасибо, что сохранила метрику и рассказала правду. – Берта подошла, обняла тетку за плечи, поцеловала в висок. – За все, за все тебе спасибо, ты – самая чудесная.
И тетка впервые на глазах у Берты расплакалась.
Глава 7. Сила искусства
– Знаешь, Берта, что в тебе самое главное?
Берта с Катей сидели в холле второго этажа. Уже наряжена была елка, правда искусственная, хвоей не пахнущая.
– Что?
– Ты не умеешь быть старой.
– Скорее не хочу. А что ты слушаешь из этой плоской пудреницы? – Берта пальцем указала на плеер.
– «Романс» питерской группы «Сплин» – моя любимая песня у них. Хочешь, дам послушать? Только имей в виду, Берта, он не новый, ему лет десять.
– О да! Для меня, конечно, это очень существенно.
– Ты же сама говорила, что любишь все новое.
– Не спорю, я всегда открыта для нового, но главное, я люблю качество, девочка. Качество и талант, невзирая на сроки давности.
Катя аккуратно вложила в уши Берте крохотные белые шарики, поправила ей волосы, прибавила звук. Из наушников в Бертины уши поплыли живые гитарные звуки с характерной, чуть скрипучей оттяжкой, и зазвучал молодой мужской голос:
И лампа не горит, И врут календари, И если ты давно хотела что-то мне сказать, То говори.Катя тихонько наблюдала за Бертой. Та слушала внимательно. В это время мимо них проплыли похожие как две капли воды два почти бестелесных существа и посмотрели в их сторону так, будто они занимались расчленением трупа.
– Тоже мне, растворенные в Бахе херувимы, – поморщилась вслед им Берта, извлекая из ушей наушники, – две глухие тетери.
– Кто это? – спросила Катя, проводив их взглядом.
– Музыкантши Кацнельсон из соседней комнаты.
– Ну как тебе романс?
– «Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда…», да ну тебя к черту, Катька, разворошила воспоминания.
Катя внутренне возликовала:
– Значит, понравился?
– Да-а. Построен на недосказанности, на полутонах. Бесспорно, хорош.
– А вспомнила о чем?
– О ком. Об одном человеке.
– Расскажешь?
– Когда-нибудь. Не сейчас. Атмосфера нужна особая и настрой.
– Я подожду. Я терпеливая. Может, хоть имя назовешь?
– Имя? Имя… так уж и быть, Георгий. Самое прекрасное из мужских имен.
Катя посмотрела на Берту расширенными от удивления и счастья глазами:
– Это же и мое любимое! У меня же отчество – Георгиевна.
– Ладно, давай лучше вернемся к недосказанности в искусстве. Знаешь, в актерском мастерстве есть прием, когда внешне не навзрыд – внутри все рыдает. Ты направляешь эмоцию вглубь себя, а зачастую получается диалог с Богом. У зрителя в такие минуты сердца останавливаются, мурашки по коже. Вот высший пилотаж. Полагаю, в искусстве, в любых его жанрах, самое главное, когда есть что додумать, довообразить. Только тогда это есть искусство. Причем, Творец не принуждает тебя к этому, ты просто-напросто не можешь этого не делать. Услышанное, прочитанное или увиденное никак не идет у тебя из головы. Ты уже вернулась в бытовую рутину, в повседневность, а осевшая в душе эмоция все открывает и открывает тебе новые смыслы. Понимаешь, о чем я?
– Еще как. Я много раз такое замечала. А с чем, Берта, у тебя так было?
– О-о, сколько угодно. Так было с фильмами столь непохожих, но равнозначно великих Феллини и Бергмана, Тарковского и Данелии, с картинами Гойи и Веласкеса. – Тут Берта хотела приврать, что видела «Венеру с зеркалом» в Лондонской Национальной галерее, но передумала. – Конечно, – продолжила она, – ничто не может сравниться с подлинниками, но даже альбомные иллюстрации их картин возбуждали во мне великую мешанину чувств, а иногда, напротив, небывалое умиротворение. Эх, альбомы, альбомы… В чьих-то вы теперь нечестивых руках? Но я отвлеклась… По поводу подлинников: был такой человек Владимир Яковлев. Однажды мой знакомый художник-сценограф захотел окунуть меня в так называемый андеграунд семидесятых, завлек в гости к некоему полулегальному коллекционеру. У того оказалось несколько работ-набросков Яковлева. Черно-белые лица и цветы, и единственный рисунок в цвете – гуашью. Я стала всматриваться в эти странные лица и цветы, обо всем забыла, потеряла ориентиры: где я, кто я, для чего живу. Я растворилась в его работах… Такая, знаешь, пронзительная щемящая нагота одиночества… Хотя… слова тут меркнут, превращаются в ничто, разбиваются о его рисунки. Позже мне сказали, что из-за болезни он потерял зрение, еще позже узнала, что последние четырнадцать лет провел в сумасшедшем доме. Там и умер. Нищий слепой гений, ходивший по лезвию бритвы. Его теперь любят сравнивать с Ван Гогом. Нет, я не согласна. Яковлев глубже, трагичнее и поразительно светлее. Обладал куда меньшей физической свободой, нежели Ван Гог, а чувствовал много острее. Работы его сегодня стоят бешеных денег. При жизни почти никому не был нужен… Да-а… времена… Ты не устала? – спросила она у Кати.
– Ты что, Берта, разве можно от такого устать?
– Хорошо. Тогда идем дальше. Музыка! Шостакович с Пятой симфонией! Непостижимо! Когда он ее создал, ему был всего тридцать один. А Шнитке! Непредсказуемый, неподражаемый Шнитке со своей «Гоголь-сюитой», иначе «Ревизской сказкой»! Ведь полный отпад! По матери поволжский немец, между прочим, у меня есть повод гордиться. Так что, не такая это редкость – испытывать долгое послевкусие от произведения искусства. Хотя… – Берта задумалась, – многое, конечно, зависит от настройки.
– А современное кино? Наше российское? Можешь что-нибудь назвать?
– Могу. Фильм «Изгнание» режиссера Андрея Звягинцева. Предыдущая его картина – полная нудятина, неудачная, на мой взгляд, проба пера. А «Изгнание» смотрела два раза, что бывает со мною редко. Это было до попадания в местный террариум, здесь-то черта лысого посмотришь, что хочется. Как глубоко он прочувствовал там женскую душу, как сострадает ей. Выпускник, между прочим, ГИТИСа, только бы не ушел от камерности в социальность, не поддался дешевому соблазну, – глубоко вздохнула Берта, и Кате показалось, глаза ее увлажнились.
– Я не видела. Надо будет посмотреть. А тебе когда-нибудь предлагали роли в кино?
– Да, предлагали.
– И что же ты?
– Что я? В первый раз меня оскорбила патологическая порядочность героини, ее откровенная штампованная советскость. Во второй – покоробило слишком подлое нутро женского персонажа. Разве реальные люди бывают такими одномерными и плоскими, как заготовки картонных коробок для водки? Примерно этот вопрос я оба раза, ознакомившись со сценариями, задала режиссерам. Оба одинаково глубоко обиделись. Плевать, я ничуть не жалею. Считала и продолжаю считать, что опрощение и примитивизм оскорбительны не только для актера, для режиссера в первую очередь. Квадратно-гнездовой метод в искусстве? Ни за что! Существует, конечно, гениальная простота, но сейчас не об этом.
– А что ты думаешь о «Черном квадрате» Малевича? – неожиданно спросила Катя.
– Ты-то сама как полагаешь? – внезапно разнервничалась Берта и, не дав Кате ответить, вскрикнула: – Чур меня, чур! Полная подмена понятий, дискредитация ценностей! Можно, конечно, и акт дефекации провозгласить шедевром, наделить глубинными смыслами, но от этого он не станет пахнуть ландышами и смотреться сценой из балета. У людей случается порой массовое помешательство. «Квадрат» – один из примеров великого обмана двадцатого века!
– Значит, люди слепы? Или всеядны?
– Зачастую – да. Никогда не принимай в расчет, Катерина, дурацкое общественное мнение. Уж тем более мнение современных горе-критиков, этих выхолощенных извращенцев с потухшими взорами. Открывай для себя старые книги по искусству, просвещайся самолично и верь только собственному внутреннему чувству. Во всем ищи высшую точку – но именно для себя! И помни, это не обязательно крик и надрыв, часто это всего лишь шепот, тихий шепот, а иногда молчание, когда слышно, как не дышит в зале зритель. Вот такое великое напряжение момента есть самое бесценное состояние души. – Нервность Берты, вызванная темой «Квадрата», переплавилась в воодушевление, она приосанилась и с упоением продолжала: – У каждого вот здесь, – она приложила ладонь к солнечному сплетению, – сидит свой собственный локатор. У кого-то он способен улавливать лишь грубые, низкие частоты, у кого-то – частоты наивысшей тонкости. В этом заключается вечная разность человеческой природы. Вот послушай:
Мой рубин! Мой пламень вдохновенный! Ты могуч, ты ярок и лучист… Но люблю я камень драгоценный Побледневший чистый аметист.К чему, как думаешь, вспомнились мне строки из Тэффи?
– Ну-у, к тому, что…
– Расслабься, Катиш, к тому, что ты вполне можешь доверять собственной природе. Теперь я буду звать тебя Катиш, на французский манер.
Катя заулыбалась:
– Считаешь, мой локатор в порядке?
– Сказала же, вполне. А голос?! Я имею в виду певческий голос. Голос тоже способен быть тайной. Причем тайной поразительной глубины.
– Чей, например?
– Как чей?! Моей любимой Марии Каллас! – Берта встала, по-балетному грациозно начала расхаживать перед Катей. – Вот тебе великолепный образец бельканто, хоть и не итальянка вовсе. Заметь, Каллас никогда не драла горло, как некоторые плебейки местного розлива. Но не забывай еще одну важную штуку: никогда не зацикливайся на каком-нибудь одном жанре того или иного искусства. Развивай в себе широту воззрений, наращивай разность вкусовых ощущений. Каллас изумительна, но есть, к примеру, наша Елена Камбурова, певица не меньших достоинств, хотя певческое амплуа совершенно иное. А какая драматическая актриса, о-о-о! Недаром имеет собственный театр. Знаешь, что объединяет столь разных певиц? – Берта вопросительно застыла перед Катей. – Обе трудяги, ломовые лошадки. Одна в прошлом, другая поныне. – Опершись о Катино колено, она снова села рядом. – Знай, Катиш, – похлопала она Катю по колену, – интерес к разножанровости в искусстве развивает в человеке многогранность натуры. Возьми, к примеру, обеих Кацнельсоних – тех, что продефилировали мимо нас минут десять назад. Всю жизнь крутятся у них в головах Вивальди, Бетховен, Чайковский, Стравинский, а «Битлс», «Смоки», обожаемый мной «Би Джиз», да и не только, прошли мимо. Мои любимые восьмидесятники из наших: «Кино» и «Наутилус Помпилиус». Представь, как эти филармонические оркестровые фанатки обеднили свое существование, урезали ощущения и эмоции от жизни – не расслышали красивейшую симфонию, сложенную из множества музыкальных жанров.
– Они, может быть, так не считают, – предположила Катя.
– Но мы-то с тобой, деточка, знаем, что это так. И сойдут эти симфонические дуры в могилу в полной уверенности, что, кроме их излюбленной классики, ничто не достойно внимания человечества. Вот тебе пример банальной узости мышления и восприятия. Так что, разрушай границы, ликвидируй барьеры, ломай рамки – вперед, к творческой свободе самовыражения!
– Берта, ты чудо. Ты так нестандартно мыслишь и выражаешься! У нас ни один из преподавателей, даже самых пожилых, так не строит фразы.
– Ну спасибо, отвесила комплимент.
– Ой, Берта, я неправильно выразилась, я не то хотела сказать.
– То-то, мне иногда полезно напоминать о возрасте.
– Я бы, если честно, не отказалась иметь хоть одного такого преподавателя в институте.
– О нет. Проверено, испытано, не мое. Галка Ряшенцева, наша театральная завлит, подсуропила мне однажды двух молодых пираний, жаждущих стать актрисульками. Расписала меня перед их родителями как одного из лучших педагогов, хотела дать мне подзаработать. Папики, сказала, у них богатенькие, ради своих дочурок раскошелятся. Договорились мы с ней, что двадцать процентов от прибыли – ее. Только норов-то свой, говорит, попридержи, и никуда они от тебя не денутся, подсядут на тебя, как на иглу. Я сдуру согласилась, не ради, конечно, денег, ради идеи. Двух занятий мне с ними хватило. Способностей с ячменное зернышко, зато апломба полные закрома. На втором занятии случилось им столкнуться в дверях – одна уходила, другая приходила. Я думала, они прямо на пороге глаза друг другу от ненависти и зависти повыцарапывают. Самое отвратное для меня племя: алчные, расчетливые. Такие, куда там, разве способны раствориться в роли? Даже на сцене будут прикидывать, как извести всех соперниц и урвать куш пожирней. Бр-р… – Берта передернула плечами.
– Берта, а была у тебя роль-мечта, которую ты так и не сыграла?
– Естественно. Как у любой уважающей себя актрисы. Мечтала сыграть Федру по пьесе Цветаевой. Но этому спектаклю в нашем театре не суждено было сбыться. За меня это сделала с помощью Романа Виктюка Алла Демидова, после чего ушла со сцены «Таганки». Получилось у нее мощно, ничего не скажешь. Правда, цветаевскую «Жалобу» я бы исполнила по-другому. Не в том дело – лучше или хуже, просто по-другому. Только не подумай, Катиш, что я из зависти. Не-ет.
– Я и не думаю. Можешь прочесть эту «Жалобу» сейчас?
– Нет-нет, я не готова. Место и время неподходящие. Слишком много посторонних глаз.
– Тебя разве это волнует? Пожалуйста, прочти.
– Ну хорошо, хорошо. – Берта не заставила себя долго упрашивать. Она взяла паузу, медленно запрокинула голову, прикрыла глаза, ладони ее оторвались от колен, пальцы ожили, стали наигрывать как будто мелодию.
Ипполит! Ипполит! Болит!
Опаляет… В жару ланиты…
Ее голос охватывал все больше пространства:
Что за ужас жестокий скрыт
В этом имени Ипполита!
Катя, замерев, смотрела на Берту восхищенно, с удивлением. Лицо Берты изменилось, разгладилось совершенно, словно озарилось лучами вынырнувшего из-за горизонта рассветного солнца, и зажегся под этими лучами профиль красивейшей молодой женщины, переполненной, разрываемой страстью:
Ипполит! Ипполит! Пить!
Сын и пасынок? Со – общник!
Это лава – взамен плит
Под ступнею! – Олимп взропщет?
Сама того не ведая, Катя уплыла туда: на окраину знойных античных Афин, к рыку прибоя, к кипарисам, пронзающим небо, к нагретым мозаичным плитам; стояла никем не замеченная, прислонившись к мраморной колонне, абсолютно отрешенная, и была свидетельницей ОТКРОВЕНИЯ. Ей дано было счастье наблюдать. Слышать, видеть, какими непревзойденно прекрасными и угрожающе-ревностными, сжигающими все вокруг и в себе самой могут быть чувства женщины. Голос звучал теперь низко, с придыханием, как сдерживаемое рыдание, как гул нарастающего землетрясения, будто в лоне этой женщины впрямь закипала – нет-нет, давно кипела – бурлящая, готовая выплеснуться огнем из горла лава.
– Берта, все?
Берта кивнула.
– У меня озноб по спине, – совсем тихо произнесла Катя. – Я бы слушала и слушала. В чем там дело с этой Федрой?
– Вам не преподавали античную трагедию?
– Нет.
– Все ясно. Вторая жена царя Тесея страдала от безответной любви к своему пасынку Ипполиту, рожденному от амазонки. Коварные, роковые игрища богов. Трагедия Еврипида, переплавленная в страшную запретную любовь по-цветаевски.
– Сильно. Жаль, что тебя не сняли в кино в этой роли. Ты бы потрясающе сыграла.
– Не-ет, девочка, это сугубо театральная роль.
– Я тебе скажу, Берта, только ты не обижайся, ладно? Я к театру вообще-то равнодушна. Я гораздо больше кино люблю.
– Ничего удивительного. Ваше поколение не приучено к качественному театру. Это не в упрек тебе. Такова нынешняя реальность. Но будущее, не удивляйся и не спорь, все равно за театром. Это гнусная чушь, что все вытеснят цифровое телевидение, Интернет, или кинотеатры 3D. Скоро, совсем скоро наступит новая эра театра. Его очищение. Вся шелуха, бессмыслица спадут с него, останется главное, необходимое человеку как воздух и вода. На вес золота станет цениться то, без чего человеческая душа существовать не может: живой человеческий контакт. Люди ринутся в театр. Потому что никакие, как сейчас выражаются, высокие технологии не возместят энергий живого общения человека с человеком. Когда вот так, как мы с тобой здесь, лицом к лицу, будет актер и зритель. Ну-у? Мощно я задвинула? – Берта с лукавым прищуром повернулась и смотрела на Катю.
– Да-а, – протянула Катя, – ты вообще мощный человек. Наверное, мне просто не везло со спектаклями? – задумалась она. – Хотя я и была-то всего два раза. Лет в девять смотрела в Театре Российской армии «Волшебника Изумрудного города». Они там маршировали по сцене, когда шли к Гудвину, и пели идиотскую песню: «Мозги, мозги, сердца, сердца и верная любовь к родному краю!»
Берта засмеялась:
– Да, редкостной глубины текст. Кино, говоришь, любишь?
– Очень.
– Я сейчас кое-что вспомнила, как раз по поводу кинематографа.
– Что?
– Как-то моя дорогая Симочка пригласила меня в кино. «Что мы с тобой, деточка, все театр, театр, давай-ка посетим синематограф». Было это в мае шестьдесят восьмого, мне двадцать семь, самый расцвет, а ей тогда приближалось шестьдесят три года. Отправились мы с ней не куда-нибудь, а в «Ударник», очередь отстояли немалую. Там шла премьера – «Еще раз про любовь». Состав звездный: Доронина, Лазарев, Ефремов. Как же! Нам с ней вдвойне интересно. Актеры сплошь театральные. Да какие театры! БДТ, «Современник», «Маяковского». Тебе имена эти о чем-нибудь говорят?
– Ефремов – следователь из «Берегись автомобиля»?
– Он самый.
– А Лазарева, по-моему, я в кино видела. Он вроде бы не старый, в Ленкоме играет?
– Это его сын, Лазарев-младший.
– А-а.
– Вышли мы с ней ошеломленные. То был настоящий прорыв, глоток свободы, неприкрытая нежность. Нечто подобное, надо признать, я испытала годом раньше на фильме Сергея Герасимова «Журналист», но там был счастливый голливудский конец, да и партийной ячейкой слегка отдавало, а здесь… здесь было что домысливать, над чем грустить. Домой не хотелось, и отправились мы гулять в Александровский сад. Май цвел сиренью, аромат стоял сногсшибательный. Ты наблюдала цветущую в Александровском сирень?
Катя кивнула:
– Я к экзаменам там иногда готовлюсь.
– Ну вот, присели мы с Симочкой на лавочку. Она спрашивает: «Что ты думаешь о главной героине Наташе?» А что я могла о ней думать, когда понимала ее как самое себя? Я потом не раз размышляла, как сложились бы их отношения с Евдокимовым, останься Наташа жива? И в голову чаще остального приходило – все равно бы расстались. Уж слишком каждый из них был самодостаточен, независим. Ей понадобилось бы вечно под него подлаживаться, она рано или поздно сломалась бы. По-моему, кто-то из известных французов, скорее всего режиссеров, выдвинул фразу: «Самая сильная любовь – неоконченная любовь». – Вздохнув, Берта взяла новую паузу.
Она умолчала о том, что ее тетка Серафима сказала ей тогда на лавочке кое-что еще. «Знаешь, Бертушка, вот мы с Алексеем Яковлевичем прожили почти семнадцать лет и, если бы не война, жили бы себе счастливо и жили. А ведь оба были творческими, независимыми людьми. Конечно, вначале была любовь, еще какая! Потом постепенно переросла в сильнейшую привязанность, в духовное родство. А это, скажу тебе, бриллиант не меньшей каратности. Ты же, смотрю, с замужеством не торопишься. Не спорю, нам с тобой прекрасно живется вдвоем, но я не вечная. Потому не советую тебе оставаться одной. Ухажеров у тебя предостаточно, присмотрись к кому-нибудь повнимательнее».
Кате хотелось воспользоваться паузой и заговорить с Бертой о Кирилле, но она тактично молчала, боясь спугнуть череду Бертиных воспоминаний.
– Кстати, страсть у вас какая-нибудь имеется, девушка? – вернулась Берта к разговору. – Не в смысле любви к противоположному полу, тут, знаю, место с недавних пор занято, в смысле любимого дела.
– Да, – переключилась в думах Катя. – У меня отец материалы к диссертации собирал, я все бумаги сохранила. Хочу за него работу доделать. В память о нем.
– Одобряю, Катиш, дерзай. Что за жизнь без дерзновения? Вырванные годы. Я вот репетиции всегда любила больше, чем сами спектакли. Знаешь почему? Потому что нет ничего прекраснее процесса. Самый блистательный результат не заменит процесса поиска. Могу утверждать теперь с уверенностью, самое захватывающее в жизни – творческий процесс. Конечно, порой это пот, кровь, слезы, нервы, но истинный полет и расцвет души! Скажу тебе больше, суметь ощутить прелесть процесса физически, на уровне осязания, обоняния, своего рода главный жизненный талант. Научишься этому – ты избранница.
– Ой, Берта, я кое-что замечала в этом духе, когда работала с отцовскими записями. Там попадались очень сложные места, я над ними мучилась, голову ломала, и вдруг что-то происходило, будто отец оказывался рядом, я его чувствовала, даже слышала, как он мне подсказывает, и наступало озарение.
– Во-о-т, – протянула Берта, – видишь? Е-е-есть, е-есть необъяснимые вещи.
– Чуть не забыла, Берта. – Катя закопошилась в сумке. – Кирилл передал тебе телефон. Пусть у тебя будет. Всегда сможешь позвонить мне или кому-нибудь еще. Денег на счет мы положили, зарядку будешь подключать вот сюда. А на бумажке – твой номер.
– Спасибо, очень симпатичный аппаратик. – Берта взяла телефон, зарядное устройство и бумажку. – А время как по нему посмотреть?
– Вот, сюда нажимай и высветится время.
– Вот это да! На ужин почти опоздала. – Они встали и поторопились к лестнице. – Ах, не успели обсудить, как у вас с Кириллом, – сокрушалась Берта по дороге. – Ну, в следующий раз обязательно. Где Новый год встречать собираетесь?
– В ночной клуб, наверное, пойдем, в «Солянку». Дома ни у кого из нас не получится.
– Правильно, идите. Повеселитесь на всю катушку за меня тоже.
«Удивительно, – размышляла на обратном пути Катя, – чтоб какая-то случайная пожилая тетка так чувствовала меня и понимала. Эгоцентристка, конечно, как все актеры, наверное. Но талант. Как тонко улавливает все нюансы своим локатором. В детстве у меня было похоже с отцом. Я только собиралась сказать, а он уже говорил моими словами. И глаза с прищуром, как у нее, всегда смеялись. Но этого не вернуть».
Глава 8. Неизбежность
– Пойми, Катрин, быть сегодня целкой в двадцать лет – постыдный биографический факт.
– Что ты так кричишь, Света? Можешь потише? Предлагаешь пойти отдаться первому встречному?
Они сидели в «Шоколаднице» в Камергерском переулке.
– Зачем первому? Сколько у тебя возможностей было со школы. Сто раз могла выбрать кого-нибудь для этой цели.
– Не пойму, в чем тут цель?
– Нет, Катька, ты не втыкаешь. Опыт, опыт и еще раз опыт. Надо нарабатывать сексуальный опыт, вот в чем цель. Движуха под партнером – всего лишь средство. А средства могут быть разными, чего там, любыми. Кто сказал: «Победителей не судят»? Александр Македонский? Не помнишь?
– Не помню, – ответила Катя.
– Ладно, какая разница, главное в точку. Этот, как его… – Света пощелкала пальцами в воздухе, – переходный процесс нужно преодолеть как можно быстрее и начать рулить по-взрослому. Вот мать у тебя молодец, сколько трудностей прошла, а рулит к своей цели, не сворачивает.
– Да-а, цель – зашибись. Открыть собственный, стотысячный в Москве, бутик итальянской одежды. Предел мечтаний.
– Не разделяю твоей иронии. У нее тяга к прекрасному, что тут плохого? У меня, например, тоже тяга к прекрасному. Я на днях две тысячи рублей не пожалела, пошла на лекцию Александра Васильева. Ну, этот историк моды, ведет «Модный приговор», знаешь, короче. О-о, Катька! Стопудовый просветитель! Как он правильно все излагал! Особенно про бриллианты. Основные его две фишки: мужья приходят и уходят, а бриллианты остаются! Мелкие бриллианты – это неприлично. Главный его тезис – нужно научиться вести себя с мужем так, чтобы ему было стыдно дарить тебе мелкие бриллианты! Нет любви – есть только ее доказательство. И доказательство это – брюлики! Чем крупнее, тем доказательнее. А чем можно зацепить и раскрутить мужика? Только охрененным сексом! Да, вот еще что: со всех сторон на Москву напирают полчища юных провинциалок, каждая мечтает отхватить олигарха покруче и готова для этого на многое, достойных мужиков на всех катастрофически не хватает, поэтому молодым москвичкам, то есть нам с тобой, нужно торопиться, пока мы бутоны. Мысль, конечно, не свежак, у Кончаловского в «Глянце» перетерта по полной, но ее нужно постоянно крутить в голове. И действовать. Действовать! Кать, тебе чего, по ходу, не интересно, что ли? Ты сегодня какая-то рассеянная. У тебя, может, случилось что-нибудь?
– Все в порядке, Света, я тебя внимательно слушаю. (Свои отношения с Кириллом Катя держала от нее в тайне, да и были это пока лишь прогулки по московскому центру, кинотеатры и заходы в кафе.)
– Тогда изреки что-нибудь.
– Тебе не кажется, что этот бриллиантовый бред рассчитан на одноклеточных Барби от восемнадцати до сорока, которые из салонов красоты выползают, только чтобы поужинать в ресторане и отдаться по плану в расчете на бриллианты? Думаю, времена этих зависимых, примитивных дур проходят, их становится все меньше и меньше.
– Ты что! – явно оскорбилась Света. – Я, по-твоему, Барби?
– Ты-то тут при чем?
– Ну спасибо, подруга. То есть ты намекаешь, что у меня шансов ноль, ни один из богатых мужиков в мою сторону не посмотрит?
– Да не то я хотела сказать.
– А что ты хотела сказать? Тебе хорошо рассуждать! Тебе от отца хотя бы в детстве любви перепало. А я от своего, кроме «кобылы» и «дубины», ничего до шестнадцати лет не слышала, пока посылать его не научилась. Хоть бы раз в жизни похвалил за что-нибудь для приличия, гаденыш. Теперь не рискует лишнее вякнуть, знает, что в ответ услышит, а то и в ухо схлопочет. Игрушек приличных не покупал никогда, тащил всякую дрянь – в игровых автоматах конца девяностых навострился выуживать. Да, слушай, чуть не забыла, я себе айпэд купила, тот, что хотела.
– Ты же говорила, денег нет?
– У него взяла. Причем даже спрашивать не стала. Заглядывает вчера вечером в комнату, ноет: «Куда деньги делись?» А я ему: «Это частичная компенсация за поруганное детство. И знай – не последняя! Все, досвидос». Он во мне комплексов до хрена успел развить. Мне их преодолевать надо любым путем. А повысить самооценку можно как?
– Ну и как?
– Только через богатого мужика, лучше, конечно, мужа.
– Извини, Светик, я не хотела тебя обидеть. Будет тебе счастье в виде олигарха, обязательно.
– Ла-адно.
Больше всего Катя любила быть дома одна. Тогда она могла делать все что захочется. Включать музыку на полную громкость и носиться по квартире в бешеном танце или, напротив, залечь на свой диванчик в полной тишине с книгой, не затыкая уши от грохочущего через стену телевизора. Сейчас выдался именно такой счастливый момент. Мать улетела за весенней коллекцией, отчим накачивал мышцы в тренажерном зале. Переодевшись в излюбленную, растянутую почти до колен домашнюю майку, она устроилась на диване и взялась читать привезенную Светой в кафе, начатую в метро по дороге домой книгу Бегбедера «Любовь живет три года». Но в голову навязчиво внедрялись посторонние мысли. «Света сказала: „В детстве от отца любви перепало“. Да разве любви бывает достаточно? Ее же всегда мало. А уж когда появился отчим… Почему большинство людей такие примитивные? Неужели им интересно так жить? Не задавая себе никаких вопросов. Есть, пить, обрастать мебельным барахлом и шмотьем, тупо заниматься сексом. Рождаются они такими тупыми и безразличными или такими их делает жизнь? На Светку обижаться невозможно, она, хоть и страдает перегибами, человек, в сущности, отзывчивый и неглупый. А взять, к примеру, мать. Бабушка наверняка ненавидела ее не только за отца, а за ее всеядность».
Кате опять вспомнились те давнишние страшные слова бабушки: «Никогда не прощу ей Георгия. Видеть эту гадину изо дня в день нет сил. Скорей бы Господь меня прибрал, Катьку только жалко, она же его копия. В глаза ей смотрю – вижу Жорку маленького. Ведь можно было его спасти, не такие большие нужны были деньги. Если бы эта тля приехала срочно тогда на дачу, рассказала мне все. Если бы я только узнала. А я ни сном ни духом, цветочки там окучивала, чай пила из самовара. Как назло все летом, как назло. Как?! – вскричала вдруг бабушка – видимо, на том конце провода ей задали вопрос. – Как, что смогла бы сделать?! Да все бы сделала! Квартиру срочно продала. Переехали бы в меньшую, но Жора жив бы остался! Они ведь, нелюди, полторы недели его там держали, звонили ей, выкуп требовали. Они наверняка и меня пытались найти, а меня дома не было. А эта… не знаю, как ее назвать… нарочно отсиделась, отмолчалась. Нет! Ничего я не хочу слушать про трусость! Никакая не трусость, а подлость, предательство! Он для них с Катериной в лепешку расшибался, на ее же Турцию денег одолжил. Совсем помешалась на этом тряпье! Никогда, ни секунды, она Георгия не любила, корыстная тварь!»
Как же девятилетней Кате жутко было слушать не предназначенный для ее ушей телефонный разговор. Она ничего не могла с собой поделать тогда, стояла как вкопанная у узенькой дверной щели из комнаты в коридор и слушала, покрываясь то мурашками, то испариной. Год назад местная милиция обнаружила полуобгоревшее тело отца на заброшенной даче в Немчиновке. Если бы те, кто его там держал, не устроили по пьяни в доме пожар и впопыхах не выронили в траву у калитки его паспорт, отец так и считался бы пропавшим при невыясненных обстоятельствах.
В последние выходные августа девяносто восьмого года они не поехали к бабушке на дачу, потому что еще с вечера договорились съездить на рынок, посмотреть Кате обувь к школе. Когда заканчивали завтракать, раздался звонок в дверь. Отец велел им с матерью срочно уйти из кухни в комнату, сказал, чтоб сидели тихо, не выглядывали, пошел открывать. Через минуту в коридоре раздались странные, похожие на борьбу звуки. Мать, схватив Катю за руку и показывая жестом, чтобы молчала, бесшумно бросилась к шкафу, забралась туда, затянула Катю за собой, закрыла изнутри дверцы. Там, путаясь в одежде на вешалках, она изо всех сил прижала Катю к себе, зажала ей рот ладонью, шепнув в самое ухо: «Молчи, только молчи».
Они слышали, как действие перебазировалось из коридора к ним в комнату.
– Деньги где, чмошник?
– Дайте еще три дня. – Это был голос отца.
– Кончились дни, пошли минуты. Устроим шмон, Аркаша?
– Не марайся, Дрозд. Мы приличные люди. А ты, грамотей, ся-ядь, в ногах правды нет. Подвел ты нас. Ох, как подвел. Мы думали, ты человек правильный, интеллигентный.
– Я же сказал, через три дня отдам все с процентами.
– Ну точно, рамсы попутал.
– Нехорошо-о, русист. Сроки вышли, а ты пустой. Точность – вежливость королей, забыл? Забы-ыл. Правильно будет тебя сейчас забрать, родственники пусть за тебя подсуетятся.
Сжав изо всех сил кулачки, Катя ненавидела эти чужие голоса. Она не понимала, почему один из них – Аркаша, другой – Дрозд.
– Родных трогать не смейте, – сказал отец.
– Не пойму я, русист, ты такой наглый или дурачок по жизни? Все-е, нет к тебе больше доверия. Ксиву бери и поехали. Разбираться не здесь будем. Я прав, Дрозд?
– Верняк.
– Так продемонстрируй, что я прав.
Раздались грохот упавшего стула и глухой стон.
«Они бьют его!» Катя дернулась в попытке вырваться из материнских рук. Она жаждала освободиться, наброситься на чужаков, закричать что есть мочи: «Не трогайте его! Мой папа самый лучший! Вы сами дураки!» Но мать сильнее стиснула ее, крепче зажала ей ладонью рот.
Когда она думала об отце, обязательно подкатывали слезы. Она чувствовала себя перед ним виноватой. Он так сильно любил ее. Только он умел по утрам в выходные расчесывать ей волосы совсем не больно, а вечерами в который раз читать ее любимую сказку про Зербино-нелюдима. У матери на подобные подвиги никогда не хватало ни желания, ни терпения. А когда в семь лет она заболела корью? То ли ей вообще не делали эту злосчастную прививку, то ли пропустили ревакцинацию перед школой, но заболела она в первом классе тяжело, с температурой под сорок, с яркими галлюцинациями. Видения той болезни она помнила отчетливо, как сейчас. Она словно раздвоилась: одна ее половина наблюдала со стороны, как у нее под кроватью копошатся клубки змей, другая была прикована к постели и, обмирая от страха, смотрела, как со всех сторон на нее надвигаются полчища огромных полых шаров на тонких ножках, тянут к ней нитяные ручки. Она пыталась от них отбиваться, но получалось слабо, почти совсем не получалось. Когда она вынырнула из бреда, открыла глаза, то первым увидела лицо отца. Он сидел на стуле рядом с ней, держал ее за руку и смотрел на нее глазами, полными любви и отчаяния. Она чуть дернула рукой, давая знать, что вернулась, лицо его вмиг преобразилось, осветилось счастьем. Она еле слышно прошептала пересохшими губами: «Папа, я живая?» И тогда он заплакал – коротко и беззвучно. И стал целовать ее ладошку со словами: «Живая, Катюха, живая. Будешь жить теперь долго-долго».
А она не отплатила ему действенной любовью. Не успела. Ей казалось, выбеги она тогда из шкафа, набросься на тех уродов, смогла бы его отстоять, отбить. Они бы отступили. Не стали бы драться с девчонкой. Не посмели бы увезти отца на глазах у дочери.
Отложив Бегбедера, Катя поднялась с дивана, включила на музыкальном центре песню Ваенги «Девочка». Куда больше она любила вовсе не «шансон», другую музыку, но эта песня переворачивала ей душу. Каждое слово здесь было про нее. «Девочка, возьми за руку отца, девочка, держи… Ты не отпускай, тяжело любить, легче потерять». Слушая песню и подпевая: «Никто тебя не любит так, как он…», она не заметила, как переключилась в мыслях на Кирилла: «Какой он, этот Кирилл? Встречаемся уже три месяца… а я, кажется, совсем его не знаю. Деньги тратит, не считая, а на мажора непохож. Такой немногословный, скрытный, по-моему. Не пойму, хорошо это или плохо для мужчины… не знаю… как хочется не обмануться в нем…»
Хлопнула входная дверь. Пришел отчим. «Вот типичная инфузория, – уменьшив звук, поморщилась Катя, – как мать могла? После отца…» И снова зазвучали в памяти те десятилетней давности, обращенные по телефону к приятельнице слова матери: «Верка, он же Антонио Бандерас! Не веришь? В натуре Бандерас!» – и негодующее лицо бабушки, выглянувшей из своей комнаты, спросившей с ненавистью: «Зачем ты водишь в дом чужого человека? Еще оставляешь его ночевать? Кто дал тебе такое право?» Мать с возмущением выкрикнула ей в ответ: «Прикажете в гроб заживо ложиться? Я, между прочим, молодая здоровая женщина, а дом этот не только ваш. Мы с Катериной в нем тоже прописаны. Я не виновата, что осталась без мужа в тридцать два года! Этот человек будет здесь жить! Я без мужчины не могу!» Со следующего вечера в квартире плотно обосновался Славик.
Спустя две недели присутствия в их жизни Славика Катя долго бродила у школы в ожидании бабушки, которая всегда ее встречала, а сейчас все не шла и не шла. Когда стало смеркаться, она, голодная и замерзшая, в недоумении поплелась домой. Ключей от квартиры ей, ученице третьего класса, не доверяли, она долго звонила в дверь, тщательно прислушиваясь к бабушкиным шагам. Но за дверью царила гнетущая тишина. Она устала давить на звонок, в изнеможении опустилась на корточки у двери, оперлась о стену неснятым ранцем и провалилась в короткую дремоту. Ее разбудила вернувшаяся из магазина соседка тетя Валя. У нее хранились запасные ключи от их квартиры. Одетая в плащ бабушка, нелепо разбросав ноги, лежала поперек коридора. Рядом с ее приоткрытым ртом тускло поблескивала лужица успевшей подсохнуть слюны. Катя, бросив в двери ранец, начала ее трясти, бабушка не реагировала, только голова тяжело перекатывалась по полу. Тетя Валя схватила Катю за руку, стала оттаскивать от бабушкиного тела: «Встань, Катюша, нельзя ее так сильно тормошить. Может, еще жива. „Скорую“ нужно вызвать». Они сидели в комнате и ждали приезда «скорой». Время тянулось невыносимо долго. Врач, проверив на шее пульс, посветив в бабушкины зрачки маленьким фонариком, сказала: «В больницу везти поздно, очень похоже на обширный инсульт, звоните родным на работу, вызывайте участкового – зафиксировать факт смерти». Потом был серый провал в памяти, а когда она вернулась в себя, из коридора слышались голоса матери, отчима и чьи-то незнакомые мужские. Она выглянула в коридор, увидала милиционера и двух мужчин в белых халатах, укладывающих бабушку на носилки. Они делали это небрежно, плащ у бабушки задрался, оголив ей ноги выше колена. Катя ринулась одернуть плащ, но тот, что был ближе к входу из квартиры, оттолкнул ее: «Куда?! Вперед покойника нельзя! Брысь!» Они дружно подхватили носилки, выйдя за порог, стали разворачиваться к лестнице. И тут Катя осознала, что бабушку уносят навсегда. И она закричала, вернее, завыла в коридоре протяжно, безысходно, как отбившийся от матери волчонок. Мать выкрикнула: «Сделай что-нибудь, пусть она замолчит!» Отчим больно схватил Катю за предплечья, поднял пушинкой в воздух, стал трясти, словно куклу со сломанным, заевшим механизмом: «Замолчишь ты, паразитка, или нет!» И тогда она изогнулась и из последних сил укусила его за впившуюся в предплечье руку.
На следующий после похорон день, решив не откладывать в долгий ящик, мать с отчимом повезли ее на консультацию в психдиспансер. Врач, с засученными по локоть рукавами халата, с черной густой растительностью на руках, задавал ей тупые вопросы: в чем разница времен года? чем трамвай отличается от троллейбуса, а троллейбус от автобуса? Когда тестирующие вопросы исчерпались, с вопросом возник отчим, спросивший с нажимом:
– Может, лучше поместить ее в стационар, а?
– Не вижу необходимости, – резко ответил врач.
– Не верите? – Отчим разбинтовал кисть и продемонстрировал обработанный зеленкой запекшийся укус с хорошо пропечатанными передними резцами. – Вот мелкая погань, что делает.
Врач пожал плечами:
– Почем я знаю, что это она?
Тогда выступила мать:
– Хорошо, доктор, пусть остается дома, школа все-таки, но вы выпишите ей, пожалуйста, что-нибудь посильнее, во избежание повторного инцидента.
Врач почесал ручкой в затылке и выписал Кате неулептил – «корректор настроения».
Некоторое время под контролем матери Катя пила препарат. Сидела в школе как пришибленная, желая одного – спать. Потом приспособилась незаметным движением языка запихивать капсулу за щеку, а у себя в комнате выплевывать в открытое окно.
Выключив музыку, она сейчас лежала на диване без малейшего движения, придавленная накатившими на нее в который раз воспоминаниями. Но сквозь тяжелую толщу пробивалось нечто хрупко-зыбкое, нежное, как подснежник, питающее робкой надеждой, отогревающее душу. То была мысль о Кирилле, что он у нее есть.
Отчим вошел без стука.
– Я, по-моему, просила тебя стучать перед тем, как входишь.
– Да брось, Катерина, лучше подними пятую точку, накорми главу семейства.
– В холодильнике мясо с картошкой, сам справишься. Хочешь погорячее, в СВЧ разогрей.
– Да, я хочу погорячее, – приглушенным тоном проговорил отчим, присев к ней на диван. – Нелюбезно как-то с твоей стороны. Все-таки я тебя воспитывал почти одиннадцать лет. Слу-ушай, ты так резко изменилась. Расцвела, похорошела – это что-то. Поди, трахальщика регулярного завела? – Он протянул к ней руку.
– Ладно, разогрею, дай встать. – Катя отстранила его руку.
– Пожа-алуйста. – Он сдвинулся на угол дивана. – Натрешь мне спину после ужина? Что-то разболелась, здесь и здесь. – Показывая места на спине, он, шаркая шлепанцами, поплелся за ней на кухню.
– Сам не можешь?
– Если б мог, не просил бы, я туда не дотягиваюсь. В тренажерном зале растянул, что ли, не пойму. Вроде там нагрузка рассчитана. Это я, наверное, натаскался за твоей маман чемоданов.
– Когда это ты успел? – Катя отложила часть еды со сковородки на тарелку, поставила в микроволновку. – Ты из машины почти не выходишь.
– Да-а, в этом доме никто не пожалеет, в этом доме умеют только эксплуатировать. – Усевшись за стол, он отхлебнул пива из железной банки.
Она поставила перед ним тарелку с разогретой едой и ушла к себе.
Минут через пятнадцать он снова вошел без стука, протянул ей тюбик с обезболивающим средством, присел на диван, задрал майку, приспустил штаны, оголив поясницу. Катя, желая побыстрее от него отделаться, выдавила на ладонь змейку геля, с трудом преодолевая брезгливость, стала втирать сначала между лопаток, потом в покрытую неровными островками волос, с жилистыми валиками по бокам поясницу.
– Сильней втирай, сильней, нервные окончания разогреть нужно как следует.
От него разило пивом, недавним потом и несвежим бельем. «Бандерас покоцаный», – думала Катя, усиливая нажим ладони.
– Помыться тебе не пришло в голову перед тем, как натираться?
– Успе-ею, ближе к ночи. – Голос его прозвучал низко, утробно.
Он вдруг больно схватил ее за запястье, резко развернулся к ней, задышал часто, прерывисто – к ее лицу подкатывали испарения из его рта, – не выпуская ее руки, опрокинул свободной пятерней на диван, в долю секунды оказался на ней, без помощи рук, одними ногами, стянул с себя штаны, рванул с нее колготки.
– Ты что?! Что ты делаешь?!
– Лежать! Рыпаться она будет. Небось давно с этим делом развязала, не отвалится от тебя, вы, сучки, живучие, выносливые, как кошки, вон мать кайфует, орет по ночам, и ты потом просить будешь, а я подумаю, – хрипел он ей в ухо.
Она пыталась вывернуться, выскользнуть из-под его туши, но он оказался слишком тяжел, сильнее впечатал ее тело в диван, перекрыл дыхание. В спину больно врезались диванные пружины, казалось, по груди, животу, ногам прокатывается асфальтовый каток, вот от этого катка отделился массивный рычаг и прожег ее тело насквозь.
– Е-мое, да ты целка! Ну ты, даешь, Катька!
Он сделал в ней еще несколько напряженных толчков, лицо его обезобразилось судорогой, тело волнообразно содрогнулось, уткнувшись носом ей в ухо, он выдохнул длинно, жалобно, как проколотая шина, и обмяк на ней.
– Эй, ты живая там? – Опершись на руки, он приподнялся. – Не ожидал я, конечно, такого разворота. Маман жаловаться будешь? Думаешь, поверит? Не надейся. Я отрекусь, все буду отрицать, скажу, у тебя новая шиза, в дурку моментом пристрою. Так что лучше тебе со мной не ссориться, не раздувать внутрисемейный конфликт. Давай в душ быстрее, залетишь, не хватало. У меня сперма, ух, пробивная. – Он скатился с нее к стене.
Она схватила оказавшийся в ногах плед, завернулась в него, спотыкаясь, побежала в ванную. Сорвала там майку, ошметки колготок, бросила на пол. Встала под душ. Стыда не было, были омерзение и злоба. Ощущение, что она рассыпается на мелкие чести. Дрожали все внутренности, только ритм дрожания у каждого органа был отдельный. Ей мерещилось, что от тела отламываются мелкие острые осколки, утекают с водой в темную металлическую воронку. Она стала тереть себя ладонями – сильнее, сильнее, – чтобы почувствовать себя всю – живой, целой. «Нет, нет, нет, эта грязная тупая бытовуха случилась не со мной», – шептала она.
Раздался стук в дверь:
– Чего застряла там? Смотри, лишнюю дырку на себе не протри. – Он нервно гоготнул. – Вылезай, мне тоже помыться надо.
«Зарезать его ножом для разделки мяса, – она яростно растиралась полотенцем, мыслям было тесно, как крови в висках, – дотерпеть до ночи, пока уснет, и убить. А-а-а, – опомнилась она, – не получится, не успею, сегодня ночью мать прилетает из Милана. Нужно его опередить, встретить ее в аэропорту, все рассказать. Пусть катится отсюда, мразь. Любым способом его опередить. Опоить чем-нибудь, чтобы не смог сесть за руль. Что делать, что же делать? – Тут она вспомнила про „корректор настроения“. – А вдруг… на мое счастье?»
На двух полках в двери холодильника у них хранились разные лекарства. Ни мать, ни сама Катя при уборке холодильника почему-то не трогали этих полок, там можно было обнаружить таблетки, оставшиеся еще от бабушки. Пока отчим мылся, она судорожно рылась в холодильной двери.
«Где же? Где? Где эта дрянь?» Она нашла пузырек с остатками капсул неулептила. Срок годности, выбитый на крышке, давно истек, но иных вариантов не было, снотворным у них никто не пользовался. «Пусть мне повезет, пусть в банке осталось хоть немного пива». Она знала повадки отчима – если осталось хоть сколько-то, он высосет все. Вслушиваясь в звуки льющейся в ванной воды, она вскрыла над чашкой пять желатиновых капсул, ссыпала порошок в банку, зажав отверстие большим пальцем, несколько раз встряхнула содержимое, подождала, пока опустится пена, поставила банку на место, торопливо смахнула со стола остатки белой пыли.
Через сорок минут отчим бесперебойно храпел. Перед выходом из квартиры Катя отключила его сотовый, выдернула из розетки домашний телефон.
Прошедшая паспортный контроль мать заметно скисла, увидев Катю:
– Почему ты? Где Славик? У меня два неподъемных чемодана. Что такая расхристанная, будто кошки драли?
– Ты можешь выслушать меня, мама?
– Ну? Нет, я не понимаю, почему он не приехал. Телефон отключен. Что случилось-то?
Откатив чемоданы в сторону от людского потока, мать остановилась, нервно жала кнопку в телефоне, повторяя «вызов» за «вызовом».
– Мама, он не возьмет трубку. Он подонок, мразь! Он изнасиловал меня.
– Кто? Подонок кто? – Мать, неотрывно глядя в телефон, продолжала жать на кнопку вызова.
– Твой Славик. Он сейчас дрыхнет как убитый, я подсыпала ему в пиво снотворное.
Мать уставилась на нее ненавидящими стеклянными глазами:
– Врешь, сучка. – Потом сорвалась на крик: – Сука! Ты, сука! Хочешь меня без мужа оставить? Чтобы я стала как эти изголодавшиеся по мужикам клуши? Он не мог! Он любит меня! Поняла? Любит! Ты что с ним сделала, дрянь?! Может, он умирает сейчас, а?! Господи, даже «скорую» вызвать некому!
С грохотом развернув чемоданы к выходу, мать понеслась к стоянке такси. Катя машинально ринулась за ней и услышала: «Я для нее все, лучших шмоток для нее не жалела! А она? Сама небось на себя его затащила, ноги раздвинула!»
Глава 9. Раздор
В лечебном крыле, возле двери с надписью «Кислородный коктейль с 10:00 до 12:00», шли бои местного значения. Любовь Филипповна и здесь выступала на переднем фланге:
– Я вам повторяю, в очереди за Сергеем Никифоровичем именно я! – Она вплотную приблизилась и нависла над сидящей у двери на стуле хрупкой Тамарой Николаевной, бывшим балетмейстером.
Та, глубоко въехав в стул, продолжала возражать:
– Откуда же вы, когда я сижу здесь ровно с десяти часов и своими глазами наблюдала, как полчаса назад вы вышли отсюда, утираясь салфеткой, значит, уже напившись?
– Я перед вами отчитываться не собираюсь, напившись или нет. Мне Галина Степановна свою очередь отдала. Пойдите спросите у нее. Она у себя в комнате лежит, ей плохо с сердцем сделалось.
– Немудрено при таком штурме Измаила. – В диалог вступил Петр Кузьмич, бывший музейный художник-реставратор. – Думаете, вторая порция коктейля превратит вас во врубелевскую Царевну Лебедь?
– За хамство ответите перед руководством! Скажите спасибо, что мне пора идти распеваться, а то бы ответили незамедлительно!
– Вот и шли бы, ваша страсть к руководству давно всем известна, – отмахнулся от нее Петр Кузьмич.
– И пойду! Непременно пойду, только коктейль выпью! – Любовь Филипповна перегородила собой дверь.
Проходящая мимо Берта, пронаблюдав сцену до конца, демонстративно похлопала в ладоши и отправилась дальше на выход. Она не сомневалась, за ее публичные хлопки мщение со стороны соседки последует сегодня же, но удержаться от удовольствия она не могла.
Направляясь к своей скамейке, она лишний раз утвердилась в мысли: «Правильно, что я игнорирую эту медицинскую дурь. Мертвому припарки, только срам один. И общественную храповню правильно обхожу стороной». Храповней она именовала соседнюю с «кислородной» комнату ароматерапии, где особо слабые пансионеры проваливались в сон в креслах.
Подстелив взятую на выходе из корпуса газету, Берта устроилась на скамейке. Подумала о благородстве Натальи Марковны, ее бесконечном терпении к рьяным жалобщикам, требующим назначения неограниченного числа процедур. Что спасает ее, столь впечатлительную и тонкую, от раздражения? Чувство юмора? Возможно, и так. Берта вспомнила одну из шуток доктора и рассмеялась. Самые эксцентричные пансионеры на приемах предпочитали пускать в ход ладони (охлопывали себя с головы до ног: «Здесь, здесь, еще здесь болит, доктор»), Наталья Марковна называла их демонстрации «цыганочкой с выходом».
Берта огляделась по сторонам, заметила, как осел и посерел снег, с облегчением выдохнула: «Уфф, наконец-то кончился чертов високосный февраль. Здравствуй, март». Сквозь лысые кусты хорошо проглядывалась территория интерната, в том числе аллея, идущая от главных ворот. Берте показалось, от ворот отделилась фигура Катерины: «Странно, в будний день, утром, без звонка, с чего бы? Не-ет, не она». Берта неотрывно вглядывалась в приближающуюся фигуру: «Да нет, она». По Катиной походке и общему облику было заметно – что-то стряслось.
– Я здесь, Катиш, – помахала Берта рукой поверх кустов.
Катя пробралась к ней сквозь кусты, села рядом, равнодушно сказала:
– Меня отчим изнасиловал.
Берта оторопела и спросила первое, что пришло в голову:
– Кирилл знает?
Катя отрицательно помотала головой.
– Правильно, ему незачем это знать. Нам не нужна его жалость, нам нужна его любовь. Ни в какую полицию ты, конечно, не пошла?
– А ты бы пошла?
– И я бы не пошла. Пользы никакой, только изведут идиотскими вопросами.
– Я думала зарезать его, Берта. Я и сейчас хочу.
– Нет, девочка, теперь нельзя. Если бы сразу, могло бы подпасть под состояние аффекта. А теперь поздно, в тюрьму посадят, только и всего. Подумай, стоит ли садиться за эдакую пакость? Потом, разве бы ты с ним справилась? Куда бы труп дела? Мать знает?
Катя промолчала. Она сидела, уставившись себе под ноги, упорно раскачиваясь назад-вперед. Берте было мучительно наблюдать ее согнутую в три погибели спину. И тут Берту осенило. Спасти Катю может только танец. Немедленное телесное движение, выброс адреналина, отрицательных эмоций, высвобождение.
– Ну-ка встань, Катерина, распрямись и слушай, что я тебе скажу. – Берта встала, насильно подняла Катю со скамейки, тряхнула хорошенько за плечи. – Сейчас ты будешь танцевать, не удивляйся и не спорь. Да, танцевать! И запомни, ничего смертельного не случилось.
– Ты что, Берта? Я не могу.
– Можешь. Я говорю, можешь.
– Зачем, Берта? Мне холодно… у меня нет сил…
– Я стану отстукивать ладонями ритм, согреешься.
– Это глупо, Берта, понимаешь.
– Нисколько не глупо. Большого пространства тебе не понадобится, хватит этого пяточка. Делай что говорю: подними руки, представь, что у тебя в руках кастаньеты, ты испанка, горячая кровь пульсирует в жилах! Раз, два, три! Ну же, соберись! Ноги! Живее ноги! – Берта жестко, методично отстукивала ритм ладонями.
Катя неохотно подчинилась: подняла руки, щелкнула пальцами в воздухе – сначала вяло, потом еще раз – смелее, еще, еще, вытянувшись в струну, приняла стойку тореадора, стала отбивать мелкую дробь ногами на месте.
Берта продолжала:
– Твое тело прекрасно и свободно. Раз, два, три! Ты красавица, Катиш. Кирилл сходит по тебе с ума! Раз, два, три! Танцуй, не останавливайся, двигайся резче, агрессивнее, выгоняй из себя чужую мерзость. Раз, два, три! Раз! По ком сходить с ума, если не по тебе?! Раз, два, три!
Начавшийся так боязливо и робко танец превращался на глазах у Берты в нечто необузданное, похожее на ритуальную пляску диких индейцев, на ведьмовскую вакханалию на Лысой горе. Волосы Кати разметались, цеплялись за кусты, ладони алчно захватывали воздух, страстно разжимались, отбрасывая воздух прочь, ноги ходили ходуном, тело извивалось, словно в нем не было ни костей, ни позвоночника. Берта наблюдала теперь шаманство, виртуальную месть, расправу, убийство.
Видя, в какой раж вошла Катя, Берта испугалась:
– Все, достаточно, сядь, передохни.
Катя резко села на скамейку и беззвучно разрыдалась.
Глядя на ее вздрагивающие плечи, боясь к ней прикоснуться, Берта приговаривала:
– Поплачь, девочка. Омой душу слезами. Это хорошо. Это выходит из тебя отложенное страдание.
– Что это, отложенное страдание? – прерывисто всхлипнув, спросила Катя.
– Вот послушай, что рассказывала мне тетка. В апреле сорок пятого она получила похоронку на Алексея Яковлевича, а вечером спектакль, надо играть, люди придут. Остальное потом: ночные рыдания в подушку, искусанные в кровь губы. В общем, отложенное страдание. Большинству среднестатистических людей не понять, как можно повременить со страданием. Оказывается, можно. Я вот что скажу тебе, деточка – тетка так звала меня, «деточка», – сценические сердца скроены по особому лекалу. И начинка в них особая. Там уживаются боги и дьяволы, рабы и короли, милосердие и жестокость. Прозвучит банально, но вполне справедливо: сцена не профессия, уж тем более не зарабатывание на кусок хлеба. Актерство, особенно театральное, – рок, предначертание свыше. И нет обстоятельств, которые могли бы отменить этот космический закон. Вот так Симочка и играла – навзрыд, а потом овации, зритель вызывал несчетное количество раз. Вот так. И никак иначе.
Катя схватила Берту за руку:
– Перестань, Берта, я не актриса, и у меня никто не погиб! Наоборот, сидит дома этот здоровенный вонючий боров, я уверена, он оклемался, ничего с ним не случилось, жрет, пьет, как раньше. Я не знаю, как теперь буду с ними жить, понимаешь?!
– Да, – вздохнула и покачала головой Берта, – сравнение, бесспорно, странное: оплакивать гибель любимого мужа или изнасилование омерзительным отчимом.
– Думаешь, Берта, я плачу из-за него? Из-за этой падали? Да мне ни тела своего жалко, фиг с ним, с телом, отмоюсь как-нибудь. Мне мерзко, что мать не поверила. Я ведь никогда ее не обманывала, с самого детства. А она? Как она… куда мне теперь…
– Моя ты деточка! Поверить – значит признать, что не один год жила с уродом, что этот урод использовал ее все эти годы. Для этого нужны недюжинная смелость, перетряска всей жизни, переворот в сознании. Не поверить гораздо проще. – Берта замолчала. Она давно держала наготове за Катиной спиной ладонь, чтобы погладить ее, но так и не осмелилась притронуться к ней. – Пройдет время, – снова заговорила она, – и ты простишь ей, ты поймешь, что неверие твоим словам – это отчаяние, дикий страх одинокой старости.
– Ни за что! – вскрикнула Катя, отшатнувшись от Берты. – Как можно прощать такое?!
– Простить можно все на свете.
– Ты же сама говорила, нельзя смиряться, с предательством тем более!
– Смиряться – одно, прощать – другое. У человека нет иного выхода. Иначе тупик.
– Что ты… что ты такое говоришь? Я думала, ты человек… настоящий… умный… настоящая душа… а ты предательница… как все они… тупые… безразличные…. одноклеточные сволочи. Я им прощала, когда бабушку доконали, прощала, когда таблетками травили! Зря, слышишь, зря прощала! Я ненавижу их. Я жить не хочу! И не смей называть меня деточкой! Это не твое слово, это бабушкино…
Катя сорвалась со скамейки и ринулась прочь от Берты. Преодолев кусты, она побежала неровно, петлями и зигзагами, как агонизирующий заяц-подранок. Берта сделала рывок ей вслед, крикнув: «Катя! Катенька! Постой…» Но та была уже далеко и так и не оглянулась. Берте показалось, у нее остановилось сердце. Воздух перестал быть, кончилось дыхание. Она опустилась в отчаянии на скамейку. «Боже мой, что я наделала? Они никогда больше ко мне не приедут… никогда… девочка… бедная моя… Катенька… Вздумала учить уму-разуму, идиотка старая, выбрала момент. Сама-то многих научилась прощать? Ой-ой-ой, надо было как-то по-другому. Но как? Как?!»
Глава 10. Танец
– Как вы с ней работаете? Она же невыносима.
– Да талант, черт ее дери! Может сыграть кого и что угодно! – Худрук Захаров, не вставая, развернулся за столом, распахнул оконную створку в мартовский, начавший вечереть дворик. – Если бы вы знали, дорогой мой, как мне осточертели социально-производственные драмы! Наконец-то современная мелодрама. В чистом виде!
Они накурили вдвоем с режиссером так, что дым не рассеивался, держался в кабинете стойким туманом. Третий час шло у них обсуждение новой пьесы, все больше они приходили от нее в восторг.
– Ну а в постели она как? Тоже талант? – снова закуривая, прищурился режиссер.
– Если в ударе, не просто талант – гениальность! Имеете на нее виды?
– Не-ет, у меня испорченный вкус.
– Как, и вы?
– Нет-нет, в другом смысле. Просто люблю иные женские типажи, чтоб кость широкая, много тела, как у Нонны Мордюковой.
– Фу-у ты, слава богу, я уж было подумал…
– Короче, предлагаете ее кандидатуру на главную роль?
– Не предлагаю, настаиваю! Гарантирую беспроигрышный вариант. Впрочем, на первой репетиции сами во всем убедитесь. Морская жемчужина!
Пьеса молодого польского драматурга называлась «Неоконченный танец». Режиссер раздобыл ее по счастливому случаю на театральном фестивале во французском Авиньоне, где побывал минувшим летом семьдесят третьего и глотнул настоящей невиданной свободы. Герой пьесы – талантливый, не признанный у себя на родине писатель, героиня – балерина на пике славы, окруженная свитой восторженных обожателей. И вот случайный обмен взглядами в тихом варшавском ресторанчике, где он беседует с французским издателем, влюбившимся в его неопубликованный роман, а она приходит поздравить бывшего балетного педагога с днем рождения. Обмен взглядами и мгновенная страсть, поразившая обоих. Разное социальное положение, непохожие творческие стихии. Страсть не выбирает. Впрочем, совсем скоро в нем победит жажда самореализации. Он давно мечтал быть опубликованным. Он заслужил это право, бессонными ночами у себя на чердаке домика варшавской окраины стуча по клавишам старенькой пишущей машинки. После очередной нашумевшей балетной премьеры, где она, как всегда, блистала, он провожает ее домой и говорит о своем отъезде во Францию навсегда.
Финалом спектакля должен был стать танец героини. Двухминутный постановочный танец. Танец, оборванной на пике страсти, сломанных крыльев, предстоящего горького одиночества. Так режиссер видел концовку спектакля, не предусмотренную драматургом.
Берта заболела героиней. В минувшем феврале она закончила читать «Мастера и Маргариту» – не сокращенный журнальный вариант, а полноценный книжный, изданный только что, в семьдесят третьем. Она читала роман впервые, он перевернул ее. И невольная ассоциация усилила впечатление от без того хорошей пьесы.
За одну ночь Берта выучила не только свой текст, она запомнила каждую строчку, каждую интонационную запятую пьесы. Уже два года не было с ней рядом Симочки, и Берта страдала, что не может разделить с теткой пожар и озноб души, рожденные новой ролью.
После теткиной смерти перестала приходить и Анна Егоровна. Совсем древняя, она посещала их квартиру исключительно из-за глубокой привязанности к Симочке. Дабы сгладить Симочкину болезнь, до последнего ее часа старалась ухаживать, что-то приготовить, напоить-накормить, но все валилось у Анны Егоровны из рук, бытового проку от ее приходов давно не было.
Берта не замечала, как доходила до опустевшего дома, что ела, что пила, как оказывалась в постели, во что одевалась перед выходами в театр. Только репетиции были ее жизнью; в промежутках между ними существовал молчаливый, выполнявший рутинные функции двойник.
Вопрос с постановкой танца все еще оставался открытым. На днях она слышала, как в кулуарах режиссер говорил худруку: «Тут нужен не просто профессиональный постановщик, нужен человек, способный тончайше прочувствовать канву пьесы. Танец может провалить спектакль либо поднять на недосягаемую высоту». Захаров ответил: «Ищу, ищу, все маститые москвичи за две минуты хотят приличных денег, причем еще до сборов, а у меня денег совсем нет. Пробую найти профессионала-энтузиаста. Связался по телефону на днях с балетными приятелями из Ленинграда, обещали подсобить, вывести кое на кого».
Георгий появился в театре в конце апреля. В гримуборную к Берте заглянула вездесущая Степанова и объявила: «Захаров привел балетного, молодого, красивого. Беседуют в кабинете втроем с режиссером. Ох, Ульрих, держись», – с известным подтекстом погрозила пальцем Степанова.
Зная ее завистливую, вредоносную натуру, Берта сохранила внешнее спокойствие, а у самой затрепетало все внутри. Наверное, потому, что ждала от предстоящей роли чего-то небывалого, сверхъестественного. Переодевшись в репетиционную одежду, она тщательно поправила перед зеркалом волосы и отправилась на сцену.
Там, отпуская короткие реплики, хаотично бродили от кулисы к кулисе задействованные в спектакле актеры.
– Мы репетировать-то сегодня будем?
– А этого никто не знает.
– Теперь равнение на танец. Мы так, погулять вышли.
Берта была встречена вялыми кивками и откровенно недружелюбными взглядами.
Наконец они показались с другого конца зала: худрук, режиссер и незнакомец. «Вправду красив, щеки впалые, глаза, какие глаза… со страниц Федора Михайловича, – пронеслось в ее голове, когда все трое взметнулись на сцену, и еще мысль… вдогонку: – Загнанный хищный зверь». Худрук представил его: «Георгий Тимурович, выпускник Вагановского училища, работал в балетной труппе Малого оперного театра, имеются режиссерские постановки. Надеюсь, можно просто Георгий. А вот наша героиня, – он выдвинул вперед Берту, – с ней вам предстоит сотворить нечто гениальное».
Георгий и Берта одновременно протянули друг другу руки. Он пожал ей ладонь твердо, сильно, но задержал в своей на пару секунд дольше положенного, и тогда она почувствовала нежность, мягкость и пронзительный жар его ладони. И с ней произошло что-то в те секунды.
Худрук развернулся к режиссеру:
– Что, на сегодня всех отпускаем, кроме Ульрих?
Режиссер кивнул:
– Да, все могут быть свободны.
Над сценой пронесся недовольный ропот:
– Зачем вызывали и мурыжили целый час?
– Извините, произошла накладка.
Актеры медленно, с явным раздражением, разбрелись.
– Что ж, и я вас оставляю – дела, дела. – Захаров панибратски похлопал Георгия по плечу. От Берты не ускользнуло, как Георгий при этом едва заметно отстранился и поморщился. – Желаю успешно наметить концепцию танца.
Худрук удалился.
Втроем с режиссером они спустились со сцены, сели в первом ряду. Режиссер был по-особому эмоционален:
– Основной замысел, Георгий, надеюсь, вам ясен. Теперь обрисую нюансы сценографии, идею освещения сцены во время танца. – Он жестикулировал активнее обычного. – Итак, свет над сценой приглушен, из зала виден только силуэт героини, движения ее замедленны, сонны, вот музыка усиливается, в полумрак вонзается луч прожектора, начинает метаться, искать ее – нервно, хаотично, сначала мимо, мимо, наконец, она в фокусе, в круге света… Все должно быть на нерве, понимаете, на нерве!
Она наблюдала за Георгием. Он казался отрешенным, равнодушным. С идеи освещения и «нерва» режиссер соскочил на фестиваль в Авиньоне, нешуточно распалился по поводу смелости их экспериментов, «фантастической способности сочетать драматическое искусство с танцевальным». Георгий продолжал слушать рассеянно, почти не глядя на режиссера, думая о чем-то своем. Когда тот кончил говорить, Георгий попросил дать ему до завтра пьесу. Только и всего. С Бертой он не обмолвился ни словом.
На следующий день он пришел в театр каким-то другим. Отдал листы с пьесой режиссеру, сосредоточенно спросил:
– Вы определились с музыкой?
– Да-а-а, коне-ечно, – на низких обертонах протянул режиссер, – французский певец и композитор Сержа Лама, песня в русском варианте называется «Я болен», речь идет там о…
– Я прекрасно знаю содержание этой песни, – прервал его Георгий.
– Это делает вам честь. У меня она будет звучать в исполнении Далиды. Лама исполняет ее слишком блекло, вот Далида… там небывалая внутренняя сила, накал фантастический! Если углубляться в смысл, хочу усилить идущий в зал от героини трагический посыл голосом Далиды.
– Хорошо, давайте попробуем. Поставьте запись, только, пожалуйста, негромко. – Жестом Георгий пригласил Берту на сцену, подал ей перед ступеньками руку.
При соприкосновении с его ладонью вчерашнее ее состояние повторилось. Звукорежиссер включил запись. Георгий стал объяснять, как видит композицию танца, вместе с тем что-то показывать, они пытались отработать первые ее шаги и движения. Обладавшая от природы стопроцентным слухом, тончайше чувствующая музыку, она сейчас не попадала в ритм; ее словно стреножили, лишили координации, слуха, всяческой воли, оставили ей в пользование лишь глаза. Обостренным до болезненности зрением она видела, как Георгий всем не доволен, как ему все не нравится. Абсолютно все. В первую очередь, казалось ей, не нравится ему ОНА. Она сама. От такого наблюдения она впала в несвойственную ей беспомощность, почти в отчаяние. Он резко остановился, отпустил ее руку, крикнул наверх звукорежиссеру: «Выключите!» Шагнул к рампе, сказал сидящему в зале режиссеру:
– Я считаю это однобоким.
– Что именно? – напрягся режиссер.
– Женское многоголосье на сцене.
– Не понял, что-что?
– Все не то. Понимаете? Типичное не то.
У Берты помутилось в глазах, пересохло во рту.
– Нет, не понима-аю, – поднялся с кресла режиссер.
– Здесь не годится Далида. – Георгий продолжал стоять у рампы, спиной к Берте. Она неотрывно смотрела ему в спину, впервые ощущала себя песчинкой, которую подхватил и несет неведомо куда беспощадный ветер. Георгий заводился все больше: – Здесь нужен мужской голос. Согласен, не Серж Лама. Жак Брель. Завтра я принесу свою запись, мы попробуем под Жака Бреля.
– Зачем Жак Брель? – Режиссер взметнулся на сцену. – Насколько я помню, у него почти речитатив! – Заложив за спину неугомонные руки, он заходил от кулисы к кулисе. – Далида значительно мощнее, мелодичнее. Повторюсь, слияние голоса Далиды с внутренним страданием героини создадут небывалый накал чувств у зрителя!
– Черта с два! Не может, не должно тут быть никакого накала чувств. – Провожая режиссера взглядом, Георгий торопливо провел ладонью по волосам. – Тут нужен полный раздрызг. Отзвук лопнувшей струны, последний вздох, всхлип, хрип! Иначе где тот самый «нерв», на котором вы настаивали вчера?
Режиссер негодующе развернулся к Георгию:
– Танец – выношенное мной детище! Мы с вами понимаем «нерв» по-разному!
Берте, не первый месяц работающей с этим взрывным, раздражительным человеком, было очевидно, инициатива Георгия его бесит, он не привык к сопротивлению подобного рода, держится из последних сил. «О моем присутствии они, кажется, забыли напрочь, – решила она. – Очень хорошо, сегодня я не желаю больше репетировать, хочу оказаться дома, одна, в постели, под любимым верблюжьим одеялом».
Между тем Георгий не думал отступать:
– Да, по-разному, но почему вы решили, что вы правы? У Жака Бреля почти речитатив, согласен. В этом весь смысл! Его надтреснутый голос прозвучит отголоском страдания того, кто ее оставил. – Он махнул рукой в сторону Берты, на нее не оглянувшись. – Уехавший, не забывайте, тоже страдает, может быть, сильнее, чем она.
Режиссер сорвался:
– Вы, вижу, проникли в драматургию пьесы лучше меня?!
– Вы исключаете такую возможность? – Георгий шагнул навстречу режиссеру.
Берте показалось, сейчас они сцепятся как два бойцовых петуха. Но они внезапно застыли на расстоянии полуметра друг от друга. Повисла тишина, в которой прозревал момент истины. Про себя она восхитилась смелостью Георгия. Он словно почувствовал ее восхищение.
– Поинтересуемся мнением актрисы? – Повернувшись в ее сторону, с надеждой и напором он смотрел ей в глаза.
И, окрыленная его взглядом, хоть и не слышала исполнения Жака Бреля, она, вскинув голову, сказала, как умела, безапелляционно, с вызовом, с мгновенно вернувшейся к ней силой:
– Я считаю, нужен Жак Брель.
У режиссера от их общей наглости уехал в сторону левый глаз. Из последних сил он взял себя в руки, попытался вернуть глаз на место, глотнул воздуха для возражений, но Георгий не дал ему говорить:
– Я не люблю, когда судят, не видя результата. Я бы просил дать нам два дня. Всего два дня. И посмотреть готовый танец.
– Хорошо, – отчаянно махнул рукой режиссер, – в вашем распоряжении два дня. – Он то ли окончательно обессилел от спора, то ли вспомнил, что замена Георгию катастрофически отсутствовала. Сбежав со сцены, торопливо пошел к выходу. Не оглядываясь, поднял в воздух два пальца правой руки: – Два дня, не больше!
На следующий день они стояли на сцене друг против друга. Кроме них, наверху в будке сидел звукорежиссер. Георгий подал ему знак рукой. Тот включил запись Жака Бреля. И все стало иначе, чем вчера. Георгий снова был другим. И сцена превратилась в небеса. «Прижмись ко мне спиной, врасти в меня всем телом, стань мной. – Он положил руку ей на солнечное сплетение, вжал ее тело в свое, медленно повел ее. – За две минуты ты проживешь жизнь. Ты остаешься на сцене совершенно одна. Это не сцена – это вселенская боль. Потом начинается смерть… медленное умирание. Твое тело все еще может двигаться, но ты почти мертва. В тебе не осталось тепла. Вот так… Тяни ногу, правая нога здесь прямая, тело раскованней, отпусти зажим в животе, держи спину, сконцентрируйся и расслабься одновременно. Теперь сама!» Он оставил ее в центре сцены, ушел к кулисе, стал показывать оттуда движения руками, через полминуты крикнул: «Не то, не то! Пробежка легче, почти невесомо! Про телесность забудь! Тут замри!» Подлетел к ней, поднял ее руки, задержал их в воздухе: «Мне нужна незавершенность движений, незаконченность каждого жеста, любого движения. Никаких классических attitude и port de bras! Ты – до капли испитый сосуд, разбившийся на сотни осколков. Ты садишься на стул спиной к зрительному залу, поднимаешь над головой руки. Как в замедленном кадре! Руки!! Руки должны быть вялыми, безжизненными! Мне нужна полная разбалансировка движений, полное отсутствие координации». Он снова подбегал, снова схватывал ее за пальцы рук – и тряс, тряс, подняв ее руки вверх, расслабляя ей мышцы. «Еще раз музыку!» – крикнул он звукорежиссеру. «Смотри же! – Сам сел на стул: – Смотри на меня! Руки должны быть плетьми, тряпками. Ты скрещиваешь их в воздухе, опускаешь ладонями на затылок, ме-едленно, ме-едленно обхватываешь голову, прижимаешь ее к коленям, сжимаешься в пружину. Ты не балерина сейчас, не женщина, ты бесплотное, бесполое существо, оставшееся без любви. С чем бы это сравнить? Вот! Нашел! Возвращение в утробу матери. Ты становишься неродившимся ребенком, эмбрионом, не осознающим, хочет ли он появиться на свет… наверное, нет, скорее всего, нет». Он снова сажал ее на стул, заставлял сгибаться, нещадно давил на спину ладонями.
– Мне больно, – не выдержала она.
– Так и должно быть – больно, очень больно. – Он еще раз пружинисто надавил ей на спину и вдруг отпустил, сжалился. – Все, перерыв десять минут.
Он сидел, вытянув ноги, на досках сцены. Одновременно был похож на Мефистофеля и Иисуса на камне в пустыне. Она встала со стула, подошла к нему, осторожно присела на корточки рядом, сказала, потирая позвоночник:
– Георгий… я не хочу быть настолько раздавлена в танце. Мне кажется, есть вещи сильнее любви.
– Например?
– Например, творчество.
Он поднял глаза, посмотрел на нее долго, ей показалось, он смотрит вглубь нее, видит, как кровь бежит в ее венах, как работает сердце, как дышат легкие.
– Любовь и творчество равновелики. Взаимосвязаны. Нет любви – нет творчества. От вас, Берта, здесь ничего уже не зависит. Тут вступают в силу высшие духовные монады. Там, и больше нигде, – он показал пальцем вверх, – решается, вернутся к вам силы творчества или нет. Именно там рушатся и созидаются земные проекты, а заодно наши судьбы.
Слова его действовали поразительным образом. Это был гипноз. Окажись на его месте кто угодно, она возмутилась бы, обязательно стала спорить. Она хотела возразить и сейчас, а вместо этого поднялась с корточек и осталась стоять перед ним молча. В этом балетном человеке жила удивительная, порабощающая энергия, заставлявшая ее, вечную упрямицу и спорщицу, безоговорочно подчиняться. Все, что она нашлась сказать, опустив руки:
– Я всегда думала, человек властен над судьбой, способен быть выше обстоятельств.
– Может быть… отчасти, – растягивая слова, ответил он, – но эта часть, кажется, ничтожно мала, полагали античные греки.
Он порывисто встал, хлопнул в ладоши, крикнул: «Музыку!», снова взял ее за руку, развернул к себе спиной. И снова повторилось: «Прижмись ко мне, врасти в меня всем телом, стань мной». И его горячая ладонь на ее солнечном сплетении, совместный шаг, еще шаг, пробежка к кулисе на мысочках, взмах руки, замирание, безжизненно упавшие вдоль тела руки…
Они не знали, как оказались в тесной костюмерной. Они целовались – одурело, бесстыдно. Это было продолжением танца, его пиком, вершиной. На них рушились вешалки с театральными костюмами: платья, камзолы, плащи, палантины шуршащими слоями накрывали их тела, пряча от возможных посторонних глаз. Но если бы вместо тряпичного маскарадного дождя на них обрушились сейчас тысячи зрительских взоров – что там, весь мир! – они не смогли бы оторваться друг от друга.
И было утро следующего дня. Квартира в доме на Поварской. Ее спальня. Берта неотрывно смотрела, как он одевается. Ее завораживали безупречность его тела, отточенность и вместе с тем плавность движений. Только ступни босых ног были у него истерзаны, словно под пыткой, принадлежали, казалось, другому человеку. «Господи, как он танцует, вообще живет с такими незаживающими ранами? Нигде сейчас не служит, значит, истязает себя добровольно». Она снова обратила взгляд на его торс. Кроме эстетического наслаждения в этом человеке ее притягивало что-то другое.
Обычно она бывала с мужчинами ради куража. Ей нравилось нравиться, чувствовать их влюбленность, желание ее тела, нравилось наблюдать, как страсть порабощает их. Тогда она сполна давала волю актерскому мастерству. Постель становилась для нее той же сценой, но здесь ОНА была полновластной хозяйкой: режиссером-постановщиком, сценографом, балетмейстером, главной исполнительницей. Когда же она просыпалась рядом с кем-нибудь из них, то бесстрастно находила в их телах и лицах недостатки, за которыми стояла внутренняя их слабость. Тогда ее посещало разочарование, они, с их слабиной, не были ей уже интересны. А сейчас, когда она смотрела на Георгия, ею владело совершенно иное чувство. Совсем иное. Он был сильнее ее. Она не смогла бы объяснить в чем, но сильнее. Она вдруг подумала, что Георгий – первый в ее взрослой жизни мужчина, с которым она целуется, закрывая глаза. Любого из прошлых своих мужчин она могла спокойно разглядывать во время поцелуя. Только тот, самый первый ее поцелуй был тоже с закрытыми глазами. Но тогда это было от юного стеснения. А с Георгием – от наслаждения и растворения в нем.
– На что ты живешь, Георгий? – спросила она.
– Веду хореографический детский кружок. – Он застегивал пуговицы на манжетах рубашки.
– Где?
– В ДК «Московский строитель».
– Это после Вагановского училища и Малого оперного?
Его лицо чуть заметно передернуло.
– В театре сейчас болото, загнивание. Я не могу без свободы самовыражения, ради нее я готов пожертвовать почти всем. Мы не нашли контакта с новым руководителем труппы. Возможно, у них что-то там сложится, только без меня. Не знаю. Вот дети в ДК – они хорошие, просто чудесные. В них есть доверчивость, прозрачность. Если они злятся или завидуют, когда у кого-то лучше получается, совсем не умеют этого скрыть. У них все эмоции на поверхности, от них не получишь ножа в спину.
– От взрослых приходилось, значит.
Он промолчал.
– А живешь сейчас где?
– Там же, при клубе. Бакиджан, дворник-татарин – я ему иногда помогаю мести территорию, – так он отгородил мне половину своей берлоги. У него там, знаешь, забавно. Даже подобие станка получилось соорудить: тренировки необходимы ежедневно. Вообще-то у меня в Ленинграде есть комната. В Москве я та-а-ак, решил попытать счастья.
– Оставайся у меня, если хочешь. У меня много места. – Берта сама удивилась своему предложению.
– Нет, что ты, – серьезно сказал он. – Я не могу быть приживалом у женщины. Я же грузин наполовину. И так чувствую себя не в своей тарелке.
– Глупости, предрассудки.
– Нет, не глупости. Для меня это принцип.
В этот день, собираясь в театр, она не надела привычных каблуков. Георгий сказал, что у нее слабые голеностопные мышцы, надо поберечь связки щиколоток, до осенней премьеры лучше не рисковать. Проходя мимо гримерки Степановой, она услышала голоса:
– Возомнил из себя невесть что, а сам истерия ходячая. Невостребованный псих, неврастеник. Подайте ему Жака Бреля! Далида ему плоха!
Берта приостановила шаг.
– Надо же такую наглость иметь, сам никто, звать никак, а все туда же, с режиссером спорить, амбиции проявлять.
– Где только наш великий эконом Захаров отрыл этого безработного танцора? Ему, наверное, яйца мешали в Малом оперном танцевать.
Раздался общий смех.
– Нет, вы посмотрите, как прима-балерина наша разъярилась. На защиту бросается, яки тигрица!
– Да она с ним спит! Старые, видать, надоели. Вжик, вжик, вжик – уноси готовенького! Вжик, вжик, вжик – кто на новенького?!
Глава 11. Еще раз танец
Была вторая половина августа. В театре и в ДК «Московский строитель» шли каникулы. Он позвал ее с собой в Коктебель. Дней на семь – десять, пока не кончатся деньги. Она согласилась, не раздумывая.
Старенький круглый автобус «Львiв» источал крепкий запах бензина и разогретой резины. Они проехали Насыпное, Подгорное, им открылся Кара-Даг с застывшим над его Чертовым пальцем вечным белым облачком.
– Красота какая! – ахнула Берта. – Совсем другая.
– Чем где? – спросил Георгий.
– Чем в Абхазии. Мы с тетушкой обычно в Пицунду ездили отдыхать.
– Видишь, а наполовину грузин привез тебя вместо Грузии в Крым. Снимем комнату под самым Кара-Дагом. Эта гора излучает особую силу, ты непременно ее почувствуешь.
Они наплавались в мелких бухтах Кара-Дага и стали уходить в другую сторону, за Тихую бухту, – им хотелось простора, воли. Как-то раз поднялись на могилу Волошина. Там он рассказал ей о своей мечте:
– Я хочу переплавить в танец «Вакханалию» Пастернака. Я обязательно сделаю это. Отчетливо вижу одноактный балет. Он пришел ко мне во сне. Явственно, осязаемо. Приснилась даже музыка. Сначала темп анданте, потом нарастающее скерцо. Скерцо безумной короткой страсти. Непременно поставлю этот балет. Назову его «Актриса». Это будет один из лучших моих спектаклей, ты веришь мне? – Сидя по-турецки, он сбросил вьетнамки, машинально стал массировать ступни.
– Верю, конечно верю, – отвечала она, вдыхая ветер, застрявший в его черно-рыжих волосах, – все будет так, другие твои балеты будут тоже прекрасны. У тебя ноги, смотри, немного поджили, только суставы еще припухлые.
– А-а, разбитые суставы и пальцы для нас норма. Я типичный балетный наркоман, два-три дня без тренировок – и тело изнывает, требует нагрузки, как очередной дозы.
– Расскажи, что для тебя танец.
Он крепче обнял ее, заговорил торопливо, возбужденно, словно боялся упустить очень важное:
– Танец – пик человеческого творения. Самое животворящее из всех искусств. Сплав поэзии, музыки, живописи, игры. Танец текуч, как воздух, прохладен, как ручей, жарок, как огонь. Природа высшего высвобождения. В танце собраны все земные энергии – горечи, печали, страдания, страсти, в нем они переплавляются в неземное счастье, в восторг, в полет! Вот мыс тобой сидим на этой горе, а вокруг, всмотрись, все танцует – вверху, внизу, задействованы все природные стихии. О танце невозможно рассказать, его надо показывать!
В предпоследний день небо было с утра серым, воздух наполнен предгрозовым озоном, но они все равно решили идти в Тихую бухту. Дорога была безлюдной, в ушах свистели порывы влажного ветра, а как только дошли до места, рухнул проливной дождь. Они спрятались под жиденьким символическим кустом, но вскоре Георгий не выдержал, выбежал из-под хилого укрытия под струи дождя, крикнул: «Смотри, как это будет». Метнулся к кромке взбудораженной почерневшей воды. Любой, кто увидел бы его в эти минуты, решил бы, что он сумасшедший. Буйный сумасшедший, борющийся со стихией разверзшегося неба, с перехлестами водных потоков, порывами ветра. Для нее же он был главной составляющей этой стихии и самым нормальным из тех, кого она знала. Именно такую страсть – всепоглощающего, непревзойденного, рвущегося на свободу таланта – она ценила превыше всего. Иначе зачем тогда жить? Майка облепила его тело. Ветер разметывал, рвал на куски его голос, но до нее успевало доноситься:
«Море им по колено…. И в безумье своем… Им дороже Вселенной…. Миг короткий вдвоем…»
За его спиной, когда он снова простер руки к небу, полыхнула молния. Ничего прекраснее и торжественнее она не видела, и ей казалось, она слышит музыку, ту самую, пришедшую к нему во сне.
– Я посвящу этот балет тебе, моя героиня. – Оказавшись рядом с ней, он сорвал с себя майку, отбросил в сторону, приник к ней мокрым телом…
Он был единственным, с кем она забывала свой артистизм, становясь просто влюбленной до одури женщиной. Она жаждала быть его Евой, в первородной их вакханалии не предвкушая, что скоро станет для него Лилит.
Когда они оторвались друг от друга, сияло солнце, верхний слой песка подсох, море отливало тихой лазурью.
На следующее утро, когда расплачивались с хозяйкой и Берта достала из сумки кошелек, Георгий посмотрел на нее так, что она молча убрала свои рубли назад в сумку.
Поезд у них был вечерний, они сговорились поехать в Феодосию утром, желая погулять по древним улочкам города. Вдоволь набродившись, спустились к набережной и увидели фотографа. Тот, тоже их заприметив, жестом пригласил на съемку.
– Хочешь? – спросила она.
– С детства не фотографируюсь, не люблю статику фотографии, а с тобой хочу, – ответил Георгий, последние слова прошептав ей на ухо.
– На фоне моря желаете? – спросил фотограф.
Они кивнули. Георгий властно развернул ее к себе спиной, обнял, скрестив руки у нее под грудью, припал сбоку головой к ее голове, его подбородок оказался на уровне ее глаз, она слышала его дыхание, ощущала виском легкую его небритость, в ее теле отдавался стук его сердца. Фотограф навел на них объектив:
– Ну же, улыбайтесь! Старичок ФЭД выдает только шедевры!
– Что? Сегодня успеем заполучить? – спросил Георгий, расплачиваясь.
Фотограф, проверив аппарат, удовлетворенно кивнул:
– Считайте, редкая удача, вы на последнем кадре. Зайдите ко мне в фотоателье – во-он в ту дверь – часика через два, выдам вам готовую продукцию. Вам сколько нужно?
– Две.
– 10×15 подойдет?
– Шуруйте 10×15, – кивнул Георгий.
– Добре.
В назначенное время они вернулись к фотоателье, увидели за стеклом, среди прочих, свою увеличенную фотографию. Разомлевший от закатного солнца фотограф сидел на раскладном парусиновом стульчике рядом с распахнутой настежь дверью.
– Не возражаете? – улыбнулся он, прищурив левый глаз, кивнув на самодельную оконную витрину.
– Да нет, нам так с вами повезло.
– Это мне повезло с вами. Красивые пары в дефиците. Обычно как? Либо он ничего, либо она – что чаще. Бывают оба крокодилы. А чтобы так хороши оба?! Редкость! – Он скрылся за дверью, вскоре вынес им снимки в конверте.
И были душный плацкарт поезда «Феодосия – Москва», аромат вареных кур, лука, помидоров, хоровое детское нытье, раздраженные окрики матерей, верхние полки с протянутыми друг другу, крепко сцепленными руками, пыльный, шумный Курский вокзал, родной гул московского метро, недолгое расставание с Георгием, генеральный прогон спектакля и щемящее предвкушение скорого открытия сезона, сентябрьской ПРЕМЬЕРЫ.
Но почему ей так плохо? Она обязана чувствовать себя превосходно. Она вволю наплавалась, вдоволь наелась любимых персиков, а главное, пропиталась этим киммерийским степным ветром, единственным на Земле в своем роде. А ее почему-то подташнивает, ноет низ живота, голова гудит тяжестью каждое утро. Беременность она исключала. Потому что ни с одним из бывших своих мужчин не беременела, нисколько не заботясь о мерах предосторожности. Она решила, что застудилась. «Не стоило загорать в мокром купальнике, и тогда этот ливень…» Но у врача выяснилось, что она беременна, еще с июля.
Почему? Почему именно сейчас, перед премьерой? Перед лучшей ее ролью? Она ничего не скажет Георгию, не станет морочить ему голову бабьими сложностями перед спектаклем. Она решит эту проблему сама. Срочно.
Зал был полон. Прозвучали последние слова Жака Бреля: Je suis mala-а-ade, проплыли над сценой затихающие звуки скрипок. Она замерла, уткнувшись лицом в колени. Пауза тянулась бесконечно. Тишина сдавливала ее тело все сильней. Ее начало знобить, как четыре дня назад, когда вернулась домой от врача. «Неужели провал?» Она сидела спиной к залу и страшилась шевельнуться, разогнуть спину. Но вот тишину разорвал первый мужской возглас «Браво!», несколько одиночных хлопков, рядом с ней упал букет астр, и… в спину ей обрушилась овация.
На театральном сабантуе, проходящем в буфете, Георгий сидел с краю нескольких сдвинутых столов, рядом с Бертой, и жадно ел. Берта понимала – он очень голодный. На другом краю безудержно торжествовал Захаров:
– Грандиозно! Други мои, грандиозно! Сегодняшний фурор – лакмусовая бумажка того, как наш зритель стосковался по подобным спектаклям! Поздравляю! Настоящая творческая победа!
В этот момент в буфете, словно из воздуха, вырос приземистый, в сером плаще и старомодной фетровой шляпе, человек:
– Я, собственно, от Министерства культуры, ну и от себя лично, по горячим, так сказать, следам. Моя фамилия Задорожный, Никита Ильич.
Не предчувствующий беды, полный эйфории Захаров рванулся к нему со своего места, затряс ему руку:
– Очень, очень рады! Прошу, присоединяйтесь, вот сюда, прошу вас, как почетного гостя и дорогого зрителя!
Не снимая плаща, человек уселся за стол, снял и положил рядом шляпу. Захаров распорядился насчет тарелки с закусками, несколько секунд помедлил, затем, залихватски махнув рукой, налил ему водки. Тот, не мешкая, выпил и заговорил:
– Вот что, граждане дорогие, не мир принес я вам, но меч.
Воцарилась мгновенная тишина.
Никита Ильич Задорожный продолжал:
– Именно. Если бы я вернулся из отпуска чуть раньше и вместе с коллегами поприсутствовал на генеральном прогоне, то, будьте уверены, никакой премьеры не состоялось бы!
Труппа хором ахнула.
– Вы ждали услышать дифирамбы? Отнюдь. Нашей зрительской массе, ясное дело, вынь да положь лишнюю любовную интрижку. Она в большинстве своем подоплеки, вероятно, не заметит. Но существует вдумчивое меньшинство. И оно не дремлет. Вот тут-то вы, профессионалы, люди искусства, обязаны быть начеку, отделять зерна от плевел, зрить, так сказать, в корень и не терять лица. В этой связи я хотел бы поинтересоваться у вас, Аркадий Петрович, – нацелился он на изменившегося в лице Захарова, – куда вы смотрели? Вы же худрук, как говорится, главное лицо. Я не понимаю, как вообще утвердили эту пьесу. Хотя лояльность вашего худсовета давно-о хорошо известна, в Министерстве о нем легенды ходят, он просто притча во языцех.
Окончательно сбледнувший с лица Захаров промямлил провалившимся голосом:
– Я не совсем понимаю… может быть, вы поясните…
– Ну-у, не прикидывайтесь несведущим мальчиком! Подоплека лежит на ладони. Почему польский автор? Не возражаю, традиции Сопота, советско-польские контакты, но у нас своих драматургов достаточно. Их надо ставить во главу угла. Дальше – больше… Почему герой уезжает в Париж? Отчего не публикуется у себя в отчизне? Что значит – непризнанный талант? А? Я вам отвечу. Подведу, так сказать, черту. Пассажи подобного рода случаются только в одном случае: когда писатель в своих опусах негативно высказывается о социалистической Родине. Эту же вашу постановку можно расценить как прямой намек на нашего писателя-велико мученика! Примерно с полгода назад и-и-именно на Западе, в Париже, вышел его «Архипелаг ГУЛАГ»! Правдоборец, Нобелевский лауреат, итить его мать, недобитый власовец. Но к высланным предателям будет предъявлен особый счет, у нас, скажу вам, внутренних хватает. В Беляеве на предыдущей неделе разогнали выставку художников-авангардистов. Все газеты трубят об этом. И вы туда же, не отстали?
Побагровев вслед за убийственной бледностью, худрук машинально налил Никите Ильичу еще водки. Тот сделал резкий отрицательный жест рукой, следом опрокинул рюмку, утер рот и лысину короткопалой ладонью, продолжил без закуски:
– А завершающий аккорд спектакля? Этот экзальтированный упаднический танец? Какой-то, простите меня, развратный декаданс. Чистейшей воды происки буржуазно-западнического эротизма. Актрису, – он не удостоил Берту взглядом, – так и быть, обвинять не стану, она лишь орудие в руках режиссера и того, кто поставил этот финальный разврат! Еще под такую, с позволения сказать, музыку. У нас своих мало? Чем вам плохи Юрий Гуляев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, на худой конец, лауреат, кстати, Сопота позапрошлого года? Ведь широчайший репертуар! А? – Он обвел присутствующих налитым бычьим взором.
На противоположном конце стола негромко пропели два шальных тенора: «Раньше ду-умай о Родине-е, а пото-ом о-о себе-е».
– Но, но, я попросил бы… – нахмурился Никита Ильич. – Кстати, постановщик танца находится среди вас?
Георгий с вызовом поднялся. Берта, опережая события, изо всех сил наступила ему под столом на ногу.
– Мм-да-а, – закатив глаза, качнул головой Никита Ильич, – по вашей провокационной внешности можно судить, вы не член партии. А? В точку? Иначе я настаивал бы на немедленном вынесении вам партийного взыскания.
– Да он вообще пришлый, не в штате театра, свободный художник, – непонятно, в защиту или в обвинение Георгия раздался одинокий голос художника по костюмам.
– Оно и заметно. – Никита Ильич демонстративно отвернулся от продолжавшего стоять Георгия и нацелился на оглушенного, раздавленного происходящим режиссера. – Но вы-то что наделали? Вы же коммунист! Хотя с вами будет отдельный разговор, не здесь и не сейчас. Руководству труппы пока ставлю на вид, но тема, учтите, не закрыта. – Он поднялся из-за стола, энергично застегнул плащ, надел шляпу. – Что ж, разрешите откланяться. Семья ждет, понимаете ли.
Шаги его стихли в фойе. В буфете царило убийственное молчание. Закурили даже те, кто не курил. Георгий и Берта молча поднялись, забрали подаренные ей цветы и ушли из театра. Брели вдоль Никитского бульвара, поднялся злой ветер, пахнуло разгаром осени, и ошеломленная Берта заплакала беззвучными злыми слезами.
Он не сразу понял, что она плачет. Спросил о чем-то, когда она не ответила, заглянул ей в лицо и только тут заметил ее слезы. Переложив цветы в левую руку, обнял ее, притянул к себе:
– Что ты, Берта! Наплюй на этого доморощенного козла. Ты сегодня была прекрасна. Ты потрясающе играла. Этот вечер – лучшее из того, что я когда-нибудь пережил.
– Правда?
– Конечно правда. Зрители – судьи, а не этот полуграмотный номенклатурный хам.
– Знаешь, в первый наш день, тогда, в апреле, я не верила, что у нас что-то получится, отчаялась совершенно. А сегодня не играла – жила, летала, потом падала в пропасть, умирала. – Она на ходу смахнула слезы. – Слышишь, рифма получилась. Это все ты. Вот что ты сотворил.
– Не-ет, это твой талант, хорошая, если честно, режиссура, потом музыка, слова, вырванные из сердца, написанные кровью, и голос Жака Бреля.
– Это так, конечно, конечно. – Она обогнала Георгия, встала перед ним, выхватила из его рук гладиолусы, астры, бросила их на землю – порыв ветра мгновенно растерзал их, – взяла его за руки. – Все равно я танцевала сегодня с тобой. С незримым тобой. Ты был моим телом, нутром, изнанкой, моими крыльями, моими оковами. Мне обидно даже не за себя, не за всех наших, а за тебя. Мало того что Захаров заплатил тебе жалкие копейки, так ты еще выслушал эти пошлые оскорбления министерской сволочи при всей труппе.
Он усмехнулся:
– Мне не привыкать. Чиновник, бесспорно, запредельная тварь. Пил вашу водку и планомерно уничтожал спектакль. Безграничный цинизм. Не удивлюсь, если его натравила на вас какая-нибудь высокопоставленная министерская шишка, решившая нагадить вам именно по случаю премьерного успеха. Они легко могли вызвать Захарова к себе в Минкульт, проработать индивидуально. Но нет, зачем-то понадобилось делать это публично в вечер премьеры.
На этих словах Берта оцепенела. Перед глазами пронеслись две разрозненные картинки.
А Георгий продолжал:
– Очень смахивает на чью-то хорошо продуманную месть. Но кому и за что? Тебе ничего не приходит в голову?
Месть… Картинки слились воедино и обожгли ее догадкой, в которую она не хотела, не могла поверить. Тем более, не имела права признаваться в ней Георгию. Попросила только:
– Георгий, не оставляй меня этой ночью.
Войдя в квартиру, они не стали зажигать верхнего света, прошли в гостиную, включили настольную лампу, сели за стол напротив друг друга.
Георгий взял ее ладони в свои:
– Это, наверное, я принес тебе несчастье. Я знаю, ты считаешь меня неудачником.
– Нет, поверь мне, нет. Я не балетный человек, но я актриса и способна видеть – ты фантастическая незаурядность, которую проглядели, не заметили, не оценили. Но это только пока, слышишь, пока! Ты лучше меня знаешь, сколько профанов от искусства на руководящих должностях. Тебя разглядят, непременно разглядят.
– Мне уже двадцать девять, – безнадежно мотнул он головой.
«Уже… вот мне УЖЕ тридцать четыре», – мелькнуло в ее сознании, но она произнесла вслух другое:
– Ты только не опускай крылья, слышишь, не смей.
То ли соглашаясь с ней, то ли нет, он продолжал трясти красивой головой, волосы у него спутались от уличного ветра, отчего он казался еще прекраснее.
– Я хочу вкалывать до седьмого пота, ставить спектакли, работать сутками как проклятый. А я никому не нужен. Мой труд здесь никому не нужен. Они называют это бестолковым авангардом, какофонией движений, кощунством над классическими традициями и формами. Теперь ко всем грехам, – он снова горько усмехнулся, – прибавились упадничество с декадансом. Я на бульваре тебя успокаивал, а у самого от ненависти к таким Никитам Ильичам нутро клокотало. Если бы не ты, точно набил бы ему при всех морду.
– Что ты, что ты! Я обещаю, клянусь, у тебя от ангажементов отбоя не будет.
– Когда?
– Совсем скоро, вот увидишь. – Она нежно запустила пальцы в его волосы.
Он поймал ее руку, прижал к губам:
– Как хорошо, что ты у меня есть. Мне необходима именно ты, которая верит в меня.
Она вдруг сморщилась от боли.
– Тебе плохо?
– Нет, ничего. Немного устала. Прилягу, хорошо?
– Конечно, конечно. У тебя был трудный день. Я эгоист. – Он пошел за ней в спальню.
Она легла на покрывало, не расстилая постели. Он осторожно лег рядом. Спиной она снова чувствовала, как бьется его сердце.
– Тебя лихорадит. – Он положил ладонь ей на лоб. – Ты вся горишь.
– Ничего, пройдет. Ты хотел что-то сказать еще? Говори.
– Да, хотел… мы нужны друг другу. Но я здесь изгой. Ты не представляешь, как страшно быть изгоем, когда уверен, что на многое способен, многое можешь лучше других. У тебя жар… все, не буду больше… ни слова о себе… тебе плохо.
Он замолчал, не договорив того, что собирался сказать. Каждой клеткой она ощущала, как он хочет ее.
– Нет, пожалуйста. Я не могу сегодня.
– Хорошо. Спи. Договорим завтра. Все, все завтра.
Она попросила шепотом:
– Прижмись ко мне сильнее, как тогда на репетициях. Просто прижмись, положи руку вот сюда. – Она взяла его ладонь, положила на низ ноющего, опустошенного несколько дней назад живота.
От теплоты его тела и рук она впала в забытье. Сквозь дрему в ее сознание просачивались знакомые фразы. Он шептал, еле касаясь губами ее уха, вольный перевод песни «Je suis malade», его собственный: «Я болен, неизлечимо тобой болен… моя кровь течет в теле твоем… мои крылья мертвы, когда ты спишь…» Она и вправду истекала его кровью. Ее душа и тело кровоточили. Ей снилось, что она плачет. Во сне слезы были слишком горячими и солеными, до горечи солеными. Во сне она думала: «Наяву не бывает таких обжигающе-горячих, таких горько-соленых слез».
Наутро, когда пили чай, он сказал, что принял решение уехать из Союза. На Женевьев-де-Буа похоронен его дед по отцу, белый офицер, Георгиевский кавалер. В этом есть что-то мистическое, фатальное. Если он не нужен в собственной стране, то, может быть, дедов прах поможет ему на чужбине. Он немного знает французский. Год назад один чудаковатый импресарио-француз, увидев его десятиминутную постановку в Ленинграде, выразил восторги, оставил визитку с координатами и пообещал прислать вызов, если он решится. И он попробует позвонить ему – наудачу. Здесь ему нечего больше делать. Он проклинает на земле место, где тупицы и бездари от культуры умудряются возвести в ранг крамолы даже безобидный спектакль о любви. И этот созданный им и Бертой двухминутный танец, которого никто больше не увидит, стал для него последней каплей. Даже если он превратится в нищего, ночующего под мостами Сены, то хуже, чем здесь, ему не будет. Он говорит ей об этом первой и единственной. Как самому близкому, родному человеку. Да, он любит ее. Он полюбил ее тогда, в апреле, дотронувшись впервые до ее руки в момент знакомства. Он был бы счастлив, если бы она согласилась поехать с ним. Если бы только согласилась. Но разве он имеет право предложить ей это? Разве может позвать в никуда? Да и разве бросит она свой театр?
Она закрыла за ним входную дверь. Прислонилась спиной к стене. Часы «Бретон» неспешно пробили в гостиной десять ударов. На последнем ударе в коридорном полумраке возникли очертания Симочки, негромко прозвучал ее голос: «Да, Берта. Так и есть. Помнишь, я говорила тебе о Великом Законе Игры и Правды? Если сильно, со всеми потрохами, вживаешься в роль, подобные обстоятельства непременно настигают тебя в жизни».
Ровно в полдень она ворвалась в кабинет Захарова. Тот сидел за столом, смотрел остекленевшим взором в полную окурков пепельницу. На секунду поднял глаза на Берту:
– Я разорен, убит. Год насмарку, репетиции, декорации, костюмы… все прахом… режиссер в больнице с сердечным приступом… – Он отчаянно затряс головой, желая стряхнуть с себя вчерашний кошмар. – Не понимаю! На генеральный прогон, что ли, пробралась инкогнито какая-то министерская крыса и решила, не соответствует, мол, советской эстетике? Где тогда раньше были? Почему допустили премьеру? Чем им худсовет не угодил? До этого всегда устраивал! Ничего не понимаю!
– Да, именно пробралась. Я знаю, кто эта крыса. Я помню, я видела его глаза в зале на генеральном прогоне.
– Откуда ты знаешь – кто?! Кто?! За что?!
– Я знаю, за что. Худсовет тут ни при чем. Незачем было давать открытый прогон, хотя… чего уж…
Вчера на бульваре она вспомнила все. Воскресный вечер тринадцатого января в ресторане ВТО, восемь месяцев назад. Старый Новый год. Идущий к ней шаткой походкой от другого столика человек. Выстрел шампанского над ее головой, сальные губы и длинный, с горбинкой нос, сопящие ей в ухо: «Богиня, Афродита, затмила всех… экипаж у подъезда… ко мне… на дачу… и любые желания…» Свой безумный хохот в ответ: «С вами? Скорее Гоголь сойдет с постамента, чем я стронусь с места!» Короткий тычок приятельницы в бок под столом, ее испуганный шепот: «Рехнулась! Ты знаешь, кто это?» И снова собственный хохот в спину оскорбленному длинноносому: «Да мне плевать! У него гайморит и перегаром разит за километр!» О боги, боги мои, если бы знать о последствиях!
– Берта, прошу тебя! – Захаров отчаянно замахал руками. – Не ходи никуда, не наломай дров! Будет еще хуже!
– Что, бывает хуже?
– Бывает. Ты плохо их знаешь. Начнут гнобить, остановиться уже не смогут.
– Это мы посмотрим!
– Вы записаны? По какому вопросу? – Дородная, в розовом кримплене секретарша окинула ее взглядом оценивающим и холодным.
– По личному, безотлагательному. Представьте меня, пожалуйста, ваш руководитель меня знает.
– У нас, если вы не знаете, строгая запись. Ладно, ждите. Ваша фамилия, еще раз?
Секретарша встала, одернув тугой кримплен на ягодицах, ненадолго исчезла за дверью кабинета. Пока она находилась там, Берту трясло все сильнее. Казенные стены сволочным образом поглощали ее решимость.
Наконец секретарша вышла:
– Хорошо, пройдите, но не больше пяти минут, у него через час выездное совещание в партийных верхах.
Она говорила очень путано. Она не знала, куда девать руки. Ее мутило в душном, пахнущем бумажной пылью и приторным одеколоном кабинете. Снова ныл живот. Человек за столом не предложил ей сесть.
– Что-что, простите? Нет, лично вас я не помню. Да, я был на прогоне в вашем театре по роду службы. А-ах, это вы были в главной роли? Теперь, кажется, начинаю вас припоминать. Однако претензии нашего Министерства касаются спектакля в целом, его идейной составляющей, никак не вашей персоны. Вопрос со спектаклем окончательно решен коллегиально вчера. Ничем не могу помочь.
Собрав ускользающие силы, она посмотрела ему в глаза. Увидела в них ледяное презрение. Но его подрагивающие, еле сдерживающие улыбку губы выдали его. Задорожный – настропаленная им марионетка. Именно сидящий перед ней человек растоптал ее триумф в премьерной роли. Он был настолько ей мерзок, что она не смогла подключить актерские резервы и вытянуть ситуацию. За приход к нему она себя презирала.
– Кстати, коль вы здесь, передайте Аркадию Петровичу, что в ближайшее время мы собираемся ставить вопрос о его профнепригодности и снятии с должности художественного руководителя театра. – Его глаза и нос Мефистофеля торжествовали безоговорочную победу.
Оглянувшись от двери, она сказала:
– Вы подлец.
С такого рода мужской подлостью она столкнулась впервые. Она не предполагала, что отринутый ею пьяный чиновник спустя почти год отомстит столь гнусным образом. Ужас, она не сумела ничего изменить. «Яду мне, яду!» – яростно шептала она, оказавшись на улице. С тех пор она возненавидела любые чиновничьи кабинеты навечно.
Глава 12. Разлука
Катя ехала в автобусе в сторону «Юго-Западной» и не знала, куда ей теперь деваться. «Зачем все так? По каким законам Вселенной рождаются такие Славики? В чем смысл их жизни? Неужели Земля вправду отстойник, где нормальных отцов убивают, а присоски-Славики до старости цветут и издают запах? Должен же быть смысл. Читала же мать, когда был жив отец, „Сто лет одиночества“, я помню. А потом снюхалась с этим скотом, ради тупого траха. Ненавижу! Пусть катится эта гуманность! Землю надо очищать от таких ублюдков. Истреблять. Травить, выжигать! А эта престарелая: „Танцуй, Катерина, танцуй“. Что она понимает в жизни! Ни детей, никого».
На выходе из автобуса она позвонила Светлане.
– Свет, можно у тебя переночевать?
– А что случилось?
– Давай без вопросов. Да или нет?
– Катюх, к нам вчера родственники материнские приехали, целых три штуки, на пять дней. Если только на потолке. Позвони, слушай, Павлику Никифорову, он один живет, точно тебя пустит. Я у него трое суток прошлой зимой тусовалась, когда отец запил, помнишь? Без секса, кстати. Или к Зайчонку попробуй, до сих пор по тебе сохнет.
– Спасибо за совет. – Катя нажала отбой.
У проходящего мимо дядьки стрельнула сигарету, прикурила дрожащими руками с третьей попытки. Стояла, глубоко затягиваясь, у стеклянного входа в метро, понятия не имела, что делать дальше. На последней затяжке пришло сообщение от Светы: «Меланья! К ней можешь без звонка, лови адрес…»
Катя вспомнила ту поездку в гости вместе со Светой. Было это месяцев пять назад, в начале октября, на улице еще стояла теплынь. Из рассказанного Светой по дороге следовало, что девушка, к которой они едут, художница, расписывает шелковые ткани в технике батик. «Я купила у нее шарф, матери в подарок, в розово-сиреневых тонах, очень красивый. Она торговала ими в подземном переходе от Парка культуры к Дому художника. На фирменных, сама знаешь, разоришься, а тут все-таки ручная работа и цена божеская. Они у нее все разные были, ни один не повторялся. Телефон свой оставила, сказала, дома у нее вообще огромный выбор. Хочу себе теперь купить».
Художница по имени Меланья жила в двухкомнатной квартире недалеко от метро «Алтуфьево». Слушая тогда Свету, Катя почему-то вообразила нежное, трепетное создание с тихим голосом. Но Меланья оказалась прокуренной, с немытой головой женщиной лет за тридцать. По углам квартиры стояли и валялись пустые подрамники и рамы с угрожающе торчащими гвоздями и скрепками, из комнат в кухню и обратно в несметном количестве хаотично бродили, сталкиваясь разными частями тел, странные личности. «Приезжайте, девки, когда захотите. У меня, если что, перекантоваться можно. В общак денег чутка подкинете и оставайтесь», – напутствовала их Меланья, провожая после продажи шарфа до входной двери.
В метро Катя спросила:
– Чего они там все странные такие?
– Ой, ты как ребенок, – ответила Света, – ничего не странные, просто обкуренные.
На сей раз звонить в дверь не пришлось, она оказалась не заперта, Катя вошла и тут же споткнулась о несметную груду обуви. Квартира была еще в большем запустении, чем осенью. Из комнат доносилось ленивое многоголосье, распространялся вязко-приторный душный запах. Меланья сидела за столом в кухне и сосредоточенно смотрела в окно.
– Помните, мы приезжали к вам осенью вдвоем с подругой. Света, светленькая такая, небольшого роста, с голубыми глазами, шарфик еще у вас покупала.
– А-а-а, если б я вас всех помнила… – Отвернувшись от окна, художница уставилась Кате в живот. – Хочешь чего, тоже шарфика?
– Нет, вы тогда сказали, у вас, если что, можно переночевать.
– Ну, не отрекаюсь.
– Только у меня денег совсем мало.
– Ладно, давай, сколько есть. Ты девочка вполне. Красивым у нас скидка. – Меланья протянула в сторону Кати ладонь с нечистыми, разной длины ногтями.
«И пусть, прекрасно, все равно меня никто искать не будет», – решилась Катя, доставая из сумки деньги.
Спрятав две бумажки по пятьсот рублей под темно-малиновую скатерть с местами оторванной провисшей бахромой, Меланья подняла на Катю затуманенный, не способный фиксироваться взор.
– Гляжу, ты спишь по ходу, глаза у тебя слипаются. Эй, Викто́р, – крикнула она в сторону ближней комнаты, – достань еще один матрац, кинь под окно. Пусть там дрыхнет.
Появившийся в двери голый по пояс Виктор пробормотал что-то невнятное, но явно безрадостное.
– Не тормози, Виктор, достань и кинь, сказала. – Вялой рукой Меланья указала на кухонную антре соль. – Ты стал меня раздражать, тупишь последнее время. Ты кто, лезбуха или натуралка? – снова обратила она расплывчатый взор к Ка те. – Имей в виду, у нас все на добровольных началах, никакого насилия, у меня приличный дом. Водяры выпьешь?
Катя кивнула. Меланья достала из-под стола початую бутылку, потянулась к подоконнику за рюмками, неспешно наполнила их водкой.
– Садись, чего застыла, – указала она глазами на табурет рядом.
Катя села. Не чокаясь, они молча выпили. На кухню в этот момент забрела какая-то девица, села с ними за стол:
– Мне тоже налей.
Пока Меланья разливала водку по трем рюмкам, девица ухватила Катю за рукав:
– Кофточка у тебя классная, продай мне.
Катя сняла кофту через голову:
– На, так забирай. Только принеси чем-нибудь прикрыться.
– Нормально. Выпьем – тельняшку принесу.
Мимо матраса бесконечно сновали чьи-то ноги.
Несколько раз кто-то пытался пристроиться к Кате сбоку, она из последних сил отбивалась, слышался невнятный мат, один раз она разобрала вопрос: «Кто там такая борзая на полу?» И непонятно, мужской или женский голос в ответ: «К ней не приставай, не видишь, депресняк у нее». Водка лишь усугубила ситуацию, и, проваливаясь в мутный сон, Катя подумала: «Я никому не нужна, никому, и Кириллу не нужна».
Она вынырнула из сна от звучащих совсем рядом голосов. В комнате теплился слабенький дрожащий свет, она осознала его происхождение, когда запахло стеарином. Два существа, присевшие ей в ноги, на край матраса, держали в руках зажженные свечи. Судя по общей тишине в квартире, царила глубокая ночь.
– Ты неслабо набрался, агрессор.
– И тебя, философ, прилично развезло. Думаешь, спит принцесса на горошине?
– Дрыхнет малолетка без задних ног. Так я не понял, что ты предлагаешь?
– Ничего особенного. Сжечь напалмом всех лишних уродов. Развелось их как кроликов.
В неясном свечном свете Кате были видны лишь силуэты их спин.
– А кто будет определять степень уродства? Комиссия ООН?
– Не фиг тут определять, философ! Признаки просты. От них разит за версту.
– Чем разит, брат?
– Тупоголовостью, мещанством, быдловатостью, чем угодно, только не здравыми смыслами. Планета перенаселена, пора разрядить атмо сферу.
– Разрядил один такой, Раскольниковым звался.
– Не надо морочить меня классиками, философ. Это они у нас – классики. А где-нибудь в другой галактике, в иных мирах, может, были бы признаны дрожащими тварями. Да поставь ты свечу на пол, а то ее косит в мою сторону, подпалишь ненароком.
Они закопошились, устанавливая свечи на пол.
– Теперь, агрессор, дай я тебя обниму, когда мои руки свободны. Положим, ты их ликвидируешь, а кто-нибудь из оставшихся, возомнив себя Гулливером, сочтет лилипутом тебя? Тогда что?
– Общие фразы. Можешь сколько угодно молоть языком в защиту этих ублюдков, пока однажды какая-нибудь отменная гнида не причинит тебе или твоему близкому конкретного зла. Это я для остроты примера, я тебе этого не желаю.
– А как же «Мне отмщение, и Аз воздам»? Ты никогда не думал, что они есть своеобразная гипербола, сгусток наших пороков. Именно через них мы призваны прозревать и очищаться? Не будь их, мы, возможно, сочли бы себя непогрешимыми и моментом погрязли в собственных омерзительных грешках.
– Сказки, философ, королевство кривых зеркал. Я хочу смотреться в прямые зеркала. Имею право! – Агрессор стукнул кулаком в пол. – Или вообще не хочу никуда смотреться, только бы не видеть их паскудных харь! Планете необходима чистка напалмом!
– Э-э, брат, тебе явно не хватает человеческой ласки… – Раздался звук долгого поцелуя. – В тебе говорит…
«Разговор серьезный, поцелуй только все изгадил», – разозлилась Катя и, перевернувшись на другой бок, пнула их с силой ногами.
Слушая очередную родительскую брань, Кирилл поймал себя на том, что жутко скучает по Кате. Из гостиной неслось:
– У меня в печенках сидят твои претензии! Дай мне жить! Жи-ить, понимаешь?! Сколько лет я пахал как проклятый. Сколько лет я по кирпичу строил риелторскую империю! Для чего? Чтобы сидеть в ошейнике и наморднике у твоей юбки? Хочешь загнать меня, белого человека, назад в совковое рабство!? Не выйдет! Я свободен!
– Я! Я! Я! Тебе известны другие местоимения?! Скажи зачем?! Зачем ты живешь с нами? Почему не оставишь нас в покое, не переедешь в любую другую квартиру? Неужели твоя жадность дошла до того, что ты… Боже мой! Как я могла! Какая я дура! Зачем подписала этот сволочной брачный контракт? Как могла променять родительскую квартиру на денежное пособие от тебя? Ведь должна была догадаться, чем это кончится! Ты затуманил мне мозги! Поставил в вечную зависимость. Делаешь все, что тебе угодно, превратил меня в служанку, в твой придаток!
– Хреновый из тебя придаток!
– Надо было засадить тебя за решетку! Тогда, пятнадцать лет назад, когда ты вляпался в тот криминал.
– Что ты несешь, идиотка?! Заткнись!
– Не затыкай меня! Благородства в тебе ни на грамм. Мама правильно говорила, она видела тебя насквозь! Когда Денис сел отдуваться за вас двоих, ты ни разу к нему не съездил! А ведь это ты, ты должен был сидеть вместо него! Из-за тебя он спился, когда вышел, и сдох под забором как собака! Он был лучше тебя, во сто крат лучше! Вот она, твоя благодарность! Ты сволочь!
– Заткнись! Я кому сказал, заткнись!
Кирилл перевернулся на диване, закрыл голову подушкой. Его былые подростковые попытки встревать в их ссоры, желая их усмирить, всегда терпели фиаско. Однажды, встав между ними, он реально испугался их глаз. От него по сторонам, не видя его, стояли с обезображенными лицами два монстра, зараженные бациллой взаимных попреков. Именно с того дня Кирилл постепенно стал приходить к выводу: его родители испытывают от брани странное садомазохистское удовлетворение. Особенно удавалось это отцу. Он мастерски аккумулировал полученную в скандале энергию, используя ее в качестве топлива для карьерных достижений. Где-то с год назад, с целью оградить себя от подобных прослушиваний, Кирилл купил беруши. Но когда становился отрезанным от происходящего, пугался за мать. Что, если отец ударит ее, а он не сможет вовремя прийти на помощь? Он не переставал удивляться, почему отец не переедет в любое другое жилье из приобретенного им в последние двенадцать лет. Неужели полновластному хозяину риелторского агентства, учредителю и гендиректору в одном лице, настолько важны какие-то шестьдесят – семьдесят тысяч в месяц, которые он, помимо основной прибыли, имеет со сдачи каждой из квартир? Кириллу было противно за мать. Больно и противно. С отцом давно все было ясно. Отцу, с его квартирным помешательством, никогда не было до него дела. А вот мать… Кирилл любил ее, все еще по-детски, до спазмов в горле, вернее, не ее теперешнюю, а воспоминание о ней – той, прежней, веселой, неунывающей, похожей на подростка, с мальчишеской стрижкой, у которой всегда был готов ответ на любой его вопрос. Когда она в узких джинсах и кожаной куртке-косухе приходила к школе встречать его, он не смущался, как некоторые ребята рядом с матерями, наоборот, радостно подбегал к ней, она клала ему руку на плечо, как взрослому, они шли домой и обязательно над чем-нибудь хохотали. Она не спрашивала, как у него дела в школе, потому что знала – все хорошо, ведь он «весь в нее». По дороге могли зайти в кафе, заказать чего-нибудь вкусненького, и Кирилл помнил, как проходящие мимо по улице мужчины заглядывались на нее сквозь большие оконные стекла.
«Неужели любовь переплавляется только в такое? И Катька…» Он не мог представить, чтобы девушка, от одного взгляда на которую переворачивается все внутри, стала бы когда-нибудь выкрикивать ему в лицо нечто подобное. Тогда лучше оставаться одному. В экстренных случаях дрочить на луну или справлять сексуальную нужду с проститутками – так правильнее, справедливее. Никто никому не должен.
Он вдруг отчего-то вспомнил эту старуху Берту. «Опыт – говно, отработанное говно, налипающее на подошвы и только утяжеляющее поступь. Опыт все портит, лишает человека крыльев, свежего аромата жизни, новизны вкуса» – так она говорила, провожая их с Катей к лестнице в первый их приезд. «Интересная теория», – заметил он, когда они остановились попрощаться в коридоре. «Эта теория, – продолжала Берта, – должна присутствовать в головах всех свободомыслящих, не замороченных стереотипами людей. Никакого опыта не существует, это фантом, пшик, пустой звук. Вы когда-нибудь задумывались, особенно ты, Катерина, почему на каждую устоявшуюся поговорку есть поговорка с противоположным смыслом? Нет? А я вам скажу. Это значит, что на любой общенародный вывод существует вывод противоположный. Думаете, опыт делает людей умнее, прозорливее, благороднее? Ничего подобного! Он делает их хитрее, изворотливее, приспособляемее. Верующие фанатики сказали бы – терпимее, а я говорю – трусливее. Что, человечество за последние тысячелетия благодаря опыту стало жить как-то иначе? Ни секунды! Одни и те же грабли, бьющие по лбу из века в век. И пусть эти умудренные опытом пустозвоны, раздающие направо и налево рецепты жизни, засунут свой опыт себе в задницу!» Катя тогда от души рассмеялась, уже со ступенек зааплодировала: «Браво, Берта!»
«И все-таки, – думал сейчас Кирилл, – смотря какой опыт. Такой, как у отца с матерью, точно в канализацию, а такой, как у Пифагора и Лао-цзы?.. Куда она исчезла? Вот уже третьи сутки не выходит в скайп, почтовый ящик молчит на мои письма. Сотовый постоянно выключен. Почему?»
Возможно, он успел ее чем-то обидеть? Он и домой пытался ей дозвониться, но к телефону хронически подходил ее отчим и нагло хамил в трубку. Кирилл перебирал в памяти детали их встреч, разговоров, ее реакции на его слова, но не мог обнаружить даже малейшей трещины. Что тогда? Может быть, ее задело, что он до сих пор не переспал с ней. Так он, наоборот, не хотел форсировать, хотел как лучше. Может, она просто потеряла к нему интерес? Вот так банально взяла и потеряла, без видимых причин. На уровне, например, запаха, неудачного прикосновения, неловкого с его стороны взгляда? Загорелась и так же быстро остыла? Такое бывает. У него самого было так однажды. И нет тут никакой конкретной точки обратного отсчета. Или все-таки есть?
Четыре с половиной года назад, весной, их десятый класс поехал на экскурсию по Золотому кольцу. Он вдруг как-то по-новому разглядел тогда Вику Решетникову. Она показалась на редкость остроумной, веселой, от ее шуток угорал весь автобус. Ее округлые выпуклости под водолазкой и джинсами приобрели неожиданно манящие, возбуждающие очертания. Он думал о ней целую неделю, следил за ней на уроках и переменах, наконец набрался смелости, пригласил в кино. Они договорились, что он зайдет за ней ближе к вечеру. Вика встретила его в мини-халате с глубоким вырезом, с голыми руками и ляжками, усадила в кресло в своей комнате, сказав: «До фига времени еще, ты там полистай что-нибудь, я ногти быстренько накрашу». Села за стол напротив, закинула ногу на ногу и, старательно высунув язык, стала колдовать над каждым ногтем, периодически отставляя ладонь для изучения результата. По комнате поплыл зловонный запах ацетона с примесью сладковато-тошнотворного ароматизатора. Одновременно с этим в комнату вошел огромный персидский кот, подняв хвост трубой, стал курсировать вокруг Кирилла, недобро на него поглядывая. Кирилл догадался, что занял его насиженное место, хотел встать, но кот успел прыгнуть ему на колени и принялся яростно об него тереться. «Только не сгоняй его, он этого не любит, поцарапать может», – прокомментировала Вика, не отрываясь от ногтей.
Он сидел в ацетоновой вони, облепленный шерстью линяющего кота, и физически ощущал, как интерес к Вике Решетниковой растворяется в воздухе вместе с частицами ацетона. Она наконец поднялась, подошла к Кириллу вплотную, упершись коленями в его колени, изогнулась так, что ее груди в вырезе нависли над ним зажигательными бомбами, подсунула ему под нос растопыренные пальцы со зловеще поблескивающим черным лаком и потребовала: «Зацени». Он не нашелся что сказать. Встал и пошел в туалет. Пока собирал там с себя шерсть, подумал: «Надо же, я так хотел ее еще вчера…» С испорченным настроением, с отвращением даже, отправился с ней в кино. Во время фильма только и думал о бездарно потраченном вечере. Вдобавок ко всему на середине фильма у нее затренькал сотовый; вместо того чтобы отключить его, она принялась громко шептать в трубку какую-то патологическую чушь. «Банальная идиотка», – вынес Кирилл в уме окончательный вердикт.
Сквозь подушку просочился стук в дверь, вернувший Кирилла в домашнюю реальность. Отбросив подушку, он сел, хрипло сказал:
– Да.
Это была мать.
– Алексей не может на сотовый тебе дозвониться. Домашнюю трубку возьми! – раздраженно выкрикнула она.
Кирилл высунул руку в приоткрытую дверь, мать остервенело вложила ему в ладонь трубку.
– Да?
– У тебя телефон, что ли, разрядился? Звоню, звоню… Давай срочно приходи. У нас тут ЧП вселенского масштаба.
– Что за криминал?
– По телефону не хочу, детали при встрече.
Открывший дверь Алексей был заметно взвинчен:
– Отца из газеты уволили.
– С чего так? – искренне поразился Кирилл.
– Короче, пришло новое начальство, начались непонятные терки, тут отец со своей статьей о думских фракциях, попался под горячую руку.
Из кухни выглянула Лехина мать Вероника Евгеньевна:
– Кирочка, ты? Хорошо, что зашел. У нас, видишь, что происходит. Давайте, ребята, на кухню, разбавите атмосферу, а то слишком накалилась.
Кирилл с Алексеем прошли на кухню. За столом, кроме Олега Владимировича, сидел огромный бородатый дядька. Судя по разгоряченным лицам обоих, сидели давно.
– О, Кирилл! – обрадовался Олег Владимирович, приподнявшись из-за стола, приветственно протягивая в сторону Кирилла руки. – Лучший друг моего сына, между прочим, надежда российской математической науки.
– Ты не отвлекайся, продолжай, – пробасил «борода», наскоро кивнув Кириллу.
– Не-ет, я сейчас повторю краткие тезисы для не-его-о. Потому что друг моего сына – мо-ой друг. – Крепко пожав Кириллу руку, Олег Владимирович, покачнувшись, сел на место. – Во-от, слушай, Кирилл. Вызвал этот баран меня к себе в кабинет и проблеял: «Мне, Олег Владимирович, такая ваша правда, которая до матки, не нужна. Вы не видите, что происходит? Сейчас во всем необходима лояльность, иначе прикроют». Я ему: «До сих пор не прикрыли, а тут вдруг прикроют?» А он мне: «Вот именно до сих пор. Вы, похоже, заработались, отстали от нынешних реалий, у вас мог замылиться глаз». Это я-то, Кирилл, отстал. «Значит, – спрашиваю, – предлагаете полумеры? Замалчивание? Вранье, проще говоря? Что положено Юпитеру, не положено быку?» И напомнил ему одну радиостанцию, где можно все, хотя сам говорунов этих не люблю. А он: «Их содержит „Газпром“, а нас – нет. Я, безусловно, уважаю ваш опыт, но у меня свое видение, своя концепция, конфликт между нами ни к чему хорошему не приведет. В сегодняшних реалиях, повторяю, не место острым углам. Либо мы с вами сглаживаем углы и смотрим в одну сторону, либо…» – и взял паузу. «Что-либо?» – спрашиваю. «Либо пишите заявление».
– Ну и? – вскинулся «борода».
– Ну и послал я его с его концепцией и реалиями. Написал заявление. Вот так, Кирилл.
Кирилл хотел отреагировать, но «борода» его опередил.
– Зря, ох зря, – бурно тряс он бородой, – надо было применить гибкость, ни черта мы не учимся у Востока.
Олег Владимирович поник:
– И Васька Климкин сказал: «Зря, глядишь, пересидели бы и его». Посоветовал: «Сходи-ка ты лучше к психоаналитику, может, подсобит в себе разобраться». И телефон дал.
– Пошел? – уточнил «борода».
– Сходил один раз. Сидит эдакая фря, при костюме, в кожаном кресле, все стены облеплены дипломами. «Что вас ко мне привело?» – Сам набивает трубку, посверкивает брюликами в запонках. Я ему обрисовал ситуацию, а он, попыхивая трубкой: «Вы, как я понимаю, в профессии давно, судя по всему, у вас творческое выгорание. Ситуация распространенная, однако требующая глубинного анализа. Кстати, что у вас с половой сферой?» Я ему о том, что Россию, к чертям собачьим, продали с потрохами, а он мне про выгорание и половую сферу, дипломированный хрен.
– Чего ты ополчился на бедного психоаналитика? Правда индусы вон с китайцами по аналитикам не ходят, а с половой сферой о-го-го! – «Борода» разлил всем присутствующим по рюмкам очередную порцию водки.
Все выпили.
– Аналитик, положим, не бедный. – Олег Владимирович глотнул вслед за водкой апельсинового сока. – Знаете, почему? Потому что голый прозападный формалист. Бездушный, как все они, прагматик. Прикрылся Фрейдом, как фиговым листом, и стругает всех по одной болванке. Но самое страшное племя, – он пристукнул кулаком об стол, – вот таких вот новорусских начальничков, которые шкуру свою хамелеонью под любого подстроят. Верхогляды хреновы, со своим клиповым сознанием. Лишь бы срубить сразу и побольше, там хоть трава не расти. Продажники. Ничего святого за душой, никаких идеалов. Скажи, – схватил он бородача за локоть, – вот откуда? В одни ведь школы ходили, за одними партами сидели.
«Борода» понимающе кивал, но тут не выдержала Вероника Евгеньевна:
– Ну да, у нас унитаз три месяца течет, скоро потолок на головы рухнет, зато ты не верхогляд. Если б какой-нибудь гипотетический верхогляд предложил мне ремонт, я бы закрыла глаза на его клиповое сознание.
– Что? Смогла бы? Отдалась бы такому? – вскинулся на нее Олег Владимирович.
– Отдалась бы, если б взял.
– Нет, ты слышал, Митяй? Я всегда знал, что она внутренняя проститутка.
– Ну-у, поле-егче, – несколько смутился «борода».
Вероника Евгеньевна махнула рукой в сторону мужа:
– Ой, Митяй, я тебя умоляю, не принимай всерьез.
Тут борода дяди Митяя вновь оживилась, задралась вверх.
– А что значит внутренняя проститутка? Для внутреннего пользования в организациях, что ли? Типа офисного планктона?
– Да при чем здесь планктон, Митяй? Она в душе проститутка. Потому что не ценят бабы ум и талант как таковые. Им в нагрузку бабло подавай, антура-а-ажность всякую, унитазы инхруст… тьфу, инкруст… короче, потолки натяжные. А можно чистоганом бабло-о, остальное зачер….
Раздался глухой удар и звон разбившейся рюмки.
– Все, отключился. – Вероника Евгеньевна встала, подошла к мужу, попыталась поднять его голову – голова не поддавалась. – Истинный талант, Митяй, зрит выше унитазов, хоть и не верхогляд и за бабло не продается. Давай бери его крепче под руки, в комнату на диван оттащим. Потом еще посидим, помянем былые надежды, покумекаем, как этого борца с всенародным злом реанимировать к жизни.
«Борода» поднялся, запыхтел, пытаясь понадежней обхватить тело друга.
– Помочь? – спросил Кирилл, глядя на опрокинутую на стол голову Олега Владимировича и на то, как нервничает из-за происходящего Леха.
– Помогите, ребят, – отдувалась Вероника Евгеньевна, – совсем отяжелел, как из газеты уволили.
Они сообща оттащили Олега Владимировича на диван.
– Конечно, кому нужен открытый честный журналист… за правду люди горели на кострах… снесите меня на помойку лучше… к бомжам… у них там все честно, – бормотал Олег Владимирович, пока Вероника Евгеньевна укладывала его ноги на диван.
В этот момент раздался звонок в дверь.
– Это Серый, – сказал Алексей.
– Ты решил всех, что ли, на сходку сколотить? – спросил Кирилл.
Сергей снял в прихожей верхнюю одежду, втроем они отправились в Лехину комнату.
– Что, орлы с подрезанными крыльями, я из вас, по всем понятиям, самый стойкий? – Сергей оглядывал Лехин творческий кавардак. – Все потому, что у меня армейская выдрючка. Десантура не сдается. Ох, Осадчий нас и дрючил, особенно с прыжками с парашютом. Жара под сорок, камуфляжи к яйцам липнут, дышать нечем, а мы…
– Слушай, сейчас не до твоего Осадчего. – Отодвинув кипу исписанных нотных листов, Алексей присел на угол стола, безнадежно бросив вдоль тела руки.
– Ладно, зайдем с другого конца. Переключись, сыграй что-нибудь из этого. – Сергей кивнул на кипу нотной бумаги. – Это ж твое собственное?
Против такой просьбы Алексей не устоял. Расчехлил трубу, порылся в нотных листах, извлек один, начал играть, не доиграл, отложил лист, взялся за другой, начал новую мелодию, опять не доиграл, стал искать третий.
Сергей разозлился:
– Чего они у тебя по ходу все на середине обрываются? Не дописал, блин, ни одной, терпения ни на что не хватает. Получается, я из вас, по всем понятиям, самый стойкий.
Алексей укладывал трубу обратно в футляр:
– Нет настроя. Не знаю, как быть с таким отцовским подходом. Меня в октябре на стажировку в Австрию приглашают, а он так надломился.
– У тебя отсрочка от армии вечная, что ли?
– Не вечная, но в Австрию мотануться бы успел, типа аспирантуры. В армию тогда уж в следующем году, весной, в оркестр какого-нибудь мухосранского округа.
– Мать что советует?
– Мать говорит, срочно делай паспорт и поезжай, без тебя справимся, еще пару учеников возьму.
– Делай, Леха, что мать говорит. Ты все равно добытчик нулевой, инфант типичный, а она у тебя тетка с мозгами. Отцов, даже самых образцовых, надо уметь задвигать. Я против твоего папашки ничего, конечно, не имею. Мужик он нормальный. Но чего при первых трудностях сдулся? Может, вправду накосячил в статье?
– Чего лепишь? – возмутился Леха. – Накосячил! Отца, что ли, не знаешь?
– Знаю, знаю. Слушай мою команду: сейчас по коням и к проституткам. Приятеля моего армейского Генку помните? Неделю назад был в одном месте. Дал хорошие рекомендации. За умеренную плату широкий спектр удовольствий на всю ночь. Приглашаю за свой счет.
– Да ну-у, я чего-то не в форме, – отмахнулся Алексей.
– Чего ты грустишь, как опавший член? Форма возникает от тренировок. Главный орган должен рваться в бой сквозь все преграды. Отцу ты сейчас без надобности, и мать только рада будет, если ты свинтишь, дашь спокойно пообщаться с общим другом.
В машине Сергей не унимался:
– Не нравится мне настроение математика. Совсем скис наш интроверт, молчит всю дорогу. Ничего-о-о, девочки – волшебницы, мертвого реанимируют. Что у тебя дома?
– Все то же, – ответил Кирилл.
– Эх, не научились вы, братишки, в суровый час переключаться на инстинкты. Я лично твоего папашку понимаю. Он хочет насладиться женским полом, пока в штанах не все безнадежно рухнуло. Мой вот совсем не умеет с тетками замутить, моментом все спрыгивают. А он что, серьезно запал на эту Катю? – кивнув в зеркало на Кирилла, поинтересовался Сергей у Алексея.
– Тема закрыта, не начинай, – сказал Кирилл. Он вообще не понимал, зачем поехал с ними. Хотя, может быть, понимал. Ему, как и Алексею, не хватало легкости, наглости, смелости Сергея. «Странно, – думал Кирилл, – жизнь у него будет куда сложней, чем у нас с Лешкой. Мать умерла до школы, вкалывает в автосервисе с отцом, любящим хорошо поддать, младшая сестра как будто с приветом, а он и впрямь из нас самый стойкий. В школе, кстати, почти отличником был. Непонятно, благодаря или вопреки? Тонкости ума ему для рефлексии не хватает, что ли? А-а, от этих рефлексий один геморрой. И пусть сегодня проститутки, раз я ей не нужен».
– Откуда у тебя после Зоси силы еще на девочек есть? – поинтересовался Алексей у Сергея.
– Зося мне отгул на неделю дала, сынка навестить полетела в Англию. Разрядиться имею полное право. Кстати, перед ее отъездом по автосалонам с ней прокатились, собирается себе «инфинити» брать, а меня ждет «БМВ», трехдверный хетчбек, синий металлик, шестиступенчатый автомат, задний привод, еще там всякие прибамбасы, – как бы невзначай бросил Сергей.
– Го-онишь, – протянул Алексей.
– Не-а, ни фига не гоню. Был момент, она заколебалась, может, тебе тоже «японочку», туда-сюда. Нет, отвечаю, «ниссаны», «тойоты» не мое. Только немца.
– И сколько тянет такая тачка?
– С необходимой комплектацией в лимон шестьсот можно уложиться. Комплектация, правда, российская, но детали все бюргерские.
Алексей присвистнул:
– Хорошо ты Зосю обработал.
– Могу поделиться опытом. Я ей, помимо главного действия, сопутствующие слова говорю, типа «козочки», «овечки», – она млеет. Так что скоро будете наблюдать меня в «бэхе». Слушай, ты чего до сих пор пахана на тачку не раскочегарил, а, котангенс? – Сергей снова глянул в зеркало на Кирилла.
– Мне не западло в метро ездить, не все ж такие крутые, как ты. – Кириллу хотелось сегодня напиться не хуже Олега Владимировича; подавшись вперед, он протянул Сергею тысячную купюру: – Притормози где-нибудь, возьми пару бутылок водки.
– Убери, сказал, гуляем на мои.
Тут снова возник Алексей:
– А у тебя на Зосю встает без проблем? Все-таки почти как мать.
– Нормально. За «бэху», сам понимаешь, на кого хочешь встанет. Тем более она себя держит в формате, блюдет товарный вид. Тренажерный зал, регулярные косметологи, массажисты, все такое. Со мной вообще расцвела георгином. Я ей иду на пользу. Что существенно, она неглупая баба. В свободные от траха минуты она меня успевает просвещать. Считает, хорошо впитываю. На днях целую лекцию про авангардистов, про поп– и соц-арт прочитала. Сегодня без живописи в интерьере – полная труба. Причем царит абсолютное смешение жанров и стилей. Особенно актуальны инсталляции на экологическую тему, типа призыв к очищению. Про выставки в «Гараже» и на «Винзаводе» упоминала, про какого-то арт-критика Валентина Дьяконова – сказала, харизматичная личность. А свела все к тому, что современное искусство – банальная закачка денег в пустоту. Все заточено под западный рынок. А там давно у всех крыша потекла. В Лондоне креативщики эти не знают уже, на какую задницу сесть, какого цвета розочку на член нацепить.
– Тоже мне откровение, – обрадовался актуальности разговора Алексей. – Я тему эту когда-а двигал. Не искусство, а дутая пустота. Все, кроме музыки, прогнило. Только семь нот пока дышат.
– Прикиньте, – продолжил Сергей, – Зоське как-то пришлось в лондонской подземке прокатиться, она сцену наблюдала: стоят мужик с теткой, обнимаются, тетка натуральная, с приличными сиськами, но мужланистая, а он, наоборот, тонкий-звонкий, обмотанный длинным шарфиком, ботинки на платформе с серебряной блесткой, достал из кармана помаду, губы покрасил. Ладно бы гомик, так нет. Кстати, трубач, ты когда заведешь себе самочку для траха? А то присосался к своей трубе, как будто она у тебя газовая.
Над лицом Кирилла нависло расплывчатое женское лицо. Оно вдруг исказилось еще сильнее, рот от него словно отделился, разверзся в громком хохоте: «Я Анжелика, маркиза ангелов! Лежи уже, лентяй. Сама все сделаю. Дружбаны у тебя будут поактивнее. Мне, знаешь, часто попадаются тормознутые. Я так рассуждаю – целей буду. Подожди-и, сейчас я тебя растормошу». Она расстегнула Кириллу джинсы и начала свои нехитрые манипуляции. После полбутылки водки Кирилл сдался ее напору, но мысли не отключались: «Она мне противна, я ее не хочу, а мой орган очень даже откликается. Как подло устроен человек».
Глава 13. Встреча
Катя не знала, какое сегодня число, видела только, что за окном день. Она смотрела со своего матраса, как рядом дерутся два неопределенного пола существа, и ей стало мерзко до тошноты. «Зачем я здесь?» Она внезапно закричала на них: «Прекратите вы, уроды!» – вскочила с матраса, оттолкнула обалдевших от ее крика существ, ринулась в коридор, сорвала с вешалки куртку, сумку, нашарила в груде обуви свои ботинки, наскоро обулась, выбежала из квартиры, слетела по лестнице, распахнула дверь подъезда.
На нее обрушилась безликая городская окраина, погруженная в раннюю мартовскую весну. «Бежать, бежать… от чужих стен, из чужой грязи, но куда?» У нее больно свело от голода живот, она не успела отбежать за угол, ее вырвало прямо у подъезда. И сразу вывернуло наизнанку второй раз – одной желчью. Когда рвать стало совсем нечем, она нашла глазами крохотный, не уделанный собаками пятачок снега, зачерпнула в ладонь ледяное крошево, вытерла рот, растерла лицо до горячих колик. Пошла в сторону метро. Идти было необычайно легко, будто она ничего не весила. При каждом шаге ее словно поднимало над асфальтом, и она немножечко взлетала. Голова была свободной от прошлых мыслей, а зрение, наоборот, странным образом обострилось, бросалось в глаза то, на что раньше не обратила бы внимания. Вон тот полноватый старик в темно-синем пальто с воротником из искусственного меха, выгуливающий настороженно выглядывающую у него из-за пазухи кошку, беседующий с ней, как с человеком, или тот ребенок у дома на другой стороне двора, лет, наверное, трех, настойчиво отталкивающий мать, пытающийся открыть подъездную дверь сам. Наблюдать одновременно так много уличных подробностей было непривычно и удивительно.
Без надежды что-либо найти она на ходу машинально ощупала карманы джинсов, в одном из них обнаружила сторублевку. «Наверное, та девица, что выклянчила у меня кофту», – решила Катя. В ближайшем супермаркете на пятьдесят рублей она купила питьевой йогурт и булку. Телефон, что удивительно, оказался в кармане куртки, но батарейка безнадежно села. Отойдя в угол супермаркета, Катя жадно рвала зубами резиновое тесто.
«В городе оттепель, чавкает в лужах серый мартовский снег. Город, весною ранней контуженный, вскрылся венами рек», – пел Трофим. Катя видела своим новым зрением, как молоденькая кассирша, шевеля губами, беззвучно повторяет за Трофимом: «Все перемолото, скомкано, сорвано слишком долгой зимой. Но у меня есть ты, значит, Господь со мной».
Рядом какой-то парень пополнял телефонный счет через терминал.
– Который час? – спросила у него Катя.
– Пятый, – хмуро ответил парень.
Катя протянула ему оставшиеся от сотни пятьдесят рублей:
– Дай, пожалуйста, позвонить, я быстро, на два слова.
Парень взял у нее купюру, вложил в щель терминала вслед за своими деньгами, нажал «Оплатить», дождался чека, протянул Кате телефон.
«И неприглядная истина мира вновь предстанет нагой, но у меня есть ты, значит, Господь со мной», – пел Трофим.
Кирилл ответил сразу. Она только выдохнула:
– Кирилл?
– Катя… где ты?
– В Алтуфьеве. Тут супермаркет рядом с метро, с желтой вывеской.
– Не уезжай никуда, буду через полчаса.
– Только не спрашивай ни о чем.
– Ладно.
Они стояли на улице у двери супермаркета. Курили. Их толкали входящие и выходящие люди. Обоих бил озноб. Оба пытались это скрыть.
– Хватит курить. – Кирилл выхватил из ее руки недокуренную сигарету, затушил оба окурка в мусорнице. – Поехали к Алексею.
– А его родители?
– Они нормальные.
Катя отогревалась под теплым душем, подставляла лицо напористым тонким струйкам – проводила ладонями по телу. Она была целая и живая, та же, что раньше, Катя. Только видела теперь по-другому, как будто через сильное увеличительное стекло.
Потом на кухне они пили чай с приготовленными Лехой бутербродами, и Кирилл молча смотрел на нее. Просто смотрел. Не спрашивал, почему на ней тельняшка с чужого плеча.
– Я на днях была у Берты, – глядя в чашку, тихо сказала Катя, – и обидела ее. На душе кошки скребут. Хочу к ней съездить.
– Ладно, вместе съездим, – кивнул Кирилл. – Мне завтра в универ можно к часу. Тебя, смотрю, крепко к ней прибило.
– Ну, прибило, и что? – пожала плечами Катя.
– Ничего, так просто.
В кухню заглянул Алексей:
– Допьете чай, идите ко мне в комнату. Так и быть, чего-нибудь вам слаба́ю.
На стенах Лехиной комнаты висели увеличенные фотографии известных трубачей мира. Катя стала их разглядывать. Леха давал ком ментарии:
– Майлз Дэвис, много сделал для джаза нового. А это Клиффорд Браун, погиб в двадцать пять лет в автокатастрофе.
– Ой, а это Луи Армстронг?
– Ну да, куда без джазового дедушки. А это мой обожаемый Уинтон Марсалис – полная свобода звучания инструмента!
– Он хоть живой?
– Живой пока. А это Рой Харгроув, тоже неплох в своем роде.
– И все негры, – засмеялась Катя.
– У них кровь замешана на джазе. Вот Чет Бейкер белый, правда, как трубач будет послабее, но пел неплохо, «кул» прилично исполнял.
Кирилл сидел в кресле заваленной всяким барахлом Лехиной комнаты и счастливо смотрел на них с Катей.
– Вот, еще один белый. – Алексей показал на симпатичного улыбающегося дядьку с седыми волосами и густыми бровями. – Морис Андре, француз, материн любимый. Он в основном по классике. Умер только что, мать грустила. Ну, слабать-то вам что?
– А можешь «Есть только миг»?
– Без проблем.
Давно Берта не ощущала себя такой потерянной и сломленной. Железные тиски не отпускали ее душу вот уже четвертый день. Она неоднократно пробовала звонить Кате, но номер был недоступен, тиски сжимались все сильнее. В воскресенье от безысходности возник импульс позвонить Галке Ряшенцевой, но параллельный голос сказал: «Не стоит, Берта, начнут ся лишние расспросы, перемалывание прошлых театральных и жизненных ошибок».
После того, как в пятницу ее покинула Катя, Берта пропустила прием у Натальи Марковны, не посетив «оазиса последней надежды». Сегодня был понедельник, Наталья Марковна принимала в вечернюю смену в поликлинике. Берта решила сходить к ней, попросить успокоительных таблеток. На самом деле таблетки были предлогом. Ей хотелось излить душу.
Она спросила разрешения зайти с одним из пациентов на несколько слов. Тот согласился.
– Что случилось? – Наталья Марковна удивленно вскинула брови. – Почему не были в пятницу, у вас что-то экстренное?
– И да и нет, хочу поклянчить лекарство и очень нуждаюсь в разговоре с вами.
– У меня, Берта Генриховна, на сегодня все расписано, до конца приема час, если подождете…
– Конечно, я подожду. – Берта села в коридоре ждать Наталью Марковну.
Через час с небольшим они шли по улице в сторону дома Натальи Марковны. В кармане Берта теребила блистер с элениумом.
– Каких я дел натворила, Наталья Марковна, каких безобразных, непоправимых дел. Только вам могу сказать. Эта девочка, что приезжала ко мне, вы видели?
– Да. Пару раз видела. Красивая. Кто она вам?
– Если в родственном отношении, то никто. Свела судьба на старости моих лет.
И Берта рассказала Наталье Марковне о случившемся.
– Вот скажите, какой черт дернул меня заступиться за ее мамашу? Ведь та еще кретинка, коль живет с такой мерзостью.
Наталья Марковна глубоко призадумалась.
– Вы же хотели как лучше, преследовали благородную цель. Но, увы, благородство не всегда бывает оправданно. А по гамбургскому-то счету вы правы. Если девочка ваша обладает доброй, чувствительной душой, то действительно когда-нибудь простит свою мать. Поймет, что она тоже своего рода жертва подонка-приспособленца. Таких, готовых быть обманутыми, женщин-жертв, особенно после сорока, несчетное количество. Сколько лет девочке?
– Двадцать.
– Ничего, должна справиться. Хорошо бы ей, конечно, к доктору, к гинекологу. Почему не позвонили мне по горячим следам? Я бы отвела ее в поликлинику к нашей Серафиме Валерьевне, очень хороший доктор.
– Вот не догадалась.
– Хотя если этот ублюдок спит с ее матерью и у той со здоровьем все в порядке, то вряд ли мог чем-то заразить. Главное, не забеременела бы.
– Не дай бог. – Берту передернуло.
– Да-а, тут основная травма – психологическая. Но мне отчего-то кажется, она непременно к вам приедет. Отойдет и приедет. Ей, судя по всему, толком и поговорить не с кем, кроме вас.
– Теперь и жить негде, – вздохнула Берта.
– Отвлекитесь, Берта Генриховна, почитайте что-нибудь. Переживаниями вы делу не поможете.
– Верите, не могу. Ничего не могу, Наталья Марковна. От всего воротит, и от классиков, и от современников.
– Нет, не верю. Ни за что не поверю, что нет книги, которая хоть как-то отвлекла бы вас и утешила.
– Есть одна любимая, но я помню ее почти наизусть.
– Хотите, угадаю какая? – Доктор пыталась увести Берту от болезненной темы.
– Интересно, попробуйте.
– Анатолий Эфрос? «Репетиция – любовь моя»?
– Вы ясновидящая?
– Нет, просто наблюдательная. Я не раз видела ее у вас в руках.
– Признаться вам, за что я люблю эту, во многом наивную книгу?
– Сделайте одолжение.
– За безоговорочную любовь Эфроса к актерам. Он написал о нас: «В актеров надо влюбляться. Они прекрасные люди». А ведь многие режиссеры, в отличие от Эфроса, относятся к нам как к рабочему материалу, считают всего лишь строительными кирпичами. Меня вот на моем театре воспринимали как актрису с необычайно сложным характером. А я просто-напросто не желала быть марионеткой ни в чьих руках. Позволяла себе спорить, поверьте, вовсе не из-за упрямства и самодурства, а отстаивая актерскую честь, право иметь собственный голос.
– Не мне вам говорить, дорогая Берта Генриховна, что яркие, незаурядные личности у многих вызывают раздражение. Если у нас, врачей, это категорически не приветствуется, то уж от режиссеров, пожалуй, снисхождения ждать тем более не приходится. Эфрос наверняка слыл среди них белой вороной.
– Да, вы правы. Жаль, моя дорогая Симочка не дожила до этой книги. Она обожала Анатолия Эфроса. У нее, Наталья Марковна, было три наилюбимейших режиссера одной эпохи: Товстоногов, Ефремов и Эфрос. Она про них говорила: «Такие принципиально разные, а все трое – гении». И так небрежно добавляла: «Мальчишки!» Они и впрямь были для нее мальчишками. Самый старший – Товстоногов – был на десять лет ее моложе. Заочно она прощала ему суровое диктаторство, а вот Эфроса, не умеющего быть диктатором «Таганке», думаю, ни за что бы не простила. Задолго до прихода его на «Таганку» всю их таганскую шатию назы вала головорезами. У нее вообще была любопытная градация: Товстоногов был для нее аристократом двадцатого века, Эфрос – истинным гуманистом на все времена, Ефремов – горячим рубахой-парнем с широкой, вывернутой наизнанку душой.
– А Любимов? Его постановки «Пугачева» и «Гамлета»?
– Ну-у, это же Высоцкий! Он сам по себе был безусловным гением. В том-то и состоял парадокс. Каждый из их труппы по отдельности был бесспорным талантом, а все вместе получались головорезы. Странным образом на них воздействовал знаменитый любимовский фонарик, которым он на репетициях шуровал по ним из зала.
– Как интересно. Очень нестандартный взгляд на «Таганку».
– Кстати, о «Пугачеве». Году примерно в семидесятом один мой ухажер достал на «Пугачева» контрамарки. На спектакле мы сидели, словно охваченные огнем, кровь закипала в наших молодых жилах, я пришла домой взбудораженная, в полном восторге, а Симочка осадила мою эйфорию репликой: «Что, наслушалась душевного стриптиза? Уши не заложило?» Я, помню, разозлилась на нее, со всей горячностью натуры стала спорить. А она спокойно так, уверенно возразила: «Три века как театр – не балаган, и актерам не пристало быть площадными кликушами». Я, представьте, долго не разделяла ее мнения, поняла ее гораздо позднее. Поняла, что не ум, а именно ее утонченная душа не принимала кричащей брехтовской социальности постановок Любимова. Именно ее душе, вобравшей в себя дух Серебряного века, были чужды подобные грубые энергии, столь откровенная лобовая атака.
Они давно стояли в темноте у подъезда пятиэтажки, пошел сильный снег, и Наталья Марковна, кутая лицо в воротник дубленки, спросила:
– Может, поднимитесь ненадолго ко мне?
– Нет-нет, – заторопилась Берта, – я и так отняла у вас непозволительно много времени, пора на нары.
Разговор с Натальей Марковной на какое-то время переключил ее сознание, но, оказавшись по пути в интернат наедине с собой, она снова стала думать о Кате. Заступивший на ночную вахту дежурный, еле заметно кивнув на входе, пропустил ее. Она поднялась в комнату, с порога услышала мерный храп Любови Филипповны, на ощупь, не включая света, подошла к кровати, извлекла из-под подушки книгу, где между страниц хранилась ее главная реликвия. Вышла в коридор, дошла до холла, осмотрелась по сторонам – никого не было. Она села на стул, достала фотографию, подставив ее под тусклый свет ночной лампочки, принялась говорить с Георгием: «…Вот так-то, милый мой Георгичек. Вот какая я у тебя дура. Пусть простит меня моя дорогая девочка, моя милая Катенька, пусть забудет то, что случилось с ней, словно не было этого вовсе. Пусть приедет ко мне, как ни в чем не бывало, такая же доверчивая, открытая, чистая, как раньше». Берта все шептала и шептала эти слова, повторяла их как заклинание, а может быть, как молитву – первую в своей жизни.
Всю ночь завывал вредоносный мартовский ветер, трепал шифер старой крыши – так зима боролась с весной, – и не выпившую элениум Берту одолевала бессонница. Ей было особенно неуютно, неприкаянно, хотелось раствориться на казенных нарах, вся теперешняя жизнь казалась никчемной, лишней, как обрезки не вошедшего в фильм, отбракованного материала.
– Не может быть, – пробормотала она, увидев Катю с Кириллом в окне, и тут же прошептала: – Сбылось, сбылось!
– Чему ты так возрадовалась? – поинтересовалась Любовь Филипповна, только что вернувшаяся с утренней прогулки.
– Есть чему, Люба, ты распевайся, не буду тебе мешать. – Берта подхватилась уходить. – Мне показалось, у тебя голос немного осип? Может, простыла? Возьми там, в моем «кнехте», в выдвижном ящичке, леденцы «Холс» – мед с лимоном, тебе сразу полегчает, – уже в дверях торопливо договорила она.
У Любови Филипповны безотчетно распахнулся рот.
«Только сохраняй самообладание, Берта, – приказала она себе, спешно сев в холле на стул, схватив первый попавшийся под руку журнал. – Сдержанность и еще раз сдержанность».
Ничего не видя на страницах, она прислушивалась к шагам на лестнице. Вот они показались на этаже – Кирилл и Катя.
Катя окликнула ее тихонько. С недоуменным видом Берта оторвалась от журнала. Чуть отстав от Кирилла, Катя приложила палец к губам, Берта еле заметно кивнула.
– Ну, здравствуйте, – сказала она, поднимаясь со стула. – Давненько не видела вас вместе. Пойдемте-ка лучше на воздух. Там хоть и не июль в Крыму, но именно в такой атмосфере рождается надежда. Замерзнуть по дороге не успели?
– Вроде нет, – ответил Кирилл.
– Вот и хорошо. Куртку только надену. – Берта небрежно бросила журнал на столик и направилась в комнату.
– Берта, подожди, – Катя нагнала ее, – мы тут шкатулку для твоих мелочей купили и специальную бархотку, чтобы статуэтки блестели. Вот возьми. – Она протянула Берте небольшой целлофановый пакетик.
– Гран мерси, – приняла пакетик Берта, – очень кстати.
В момент передачи пакета Катя ощутила холод Бертиных пальцев. «Странно, – поразилась Катя, – у нее руки обычно даже зимой на улице бывали теплыми».
Через пару минут Берта возвращалась к ним по ковровой дорожке. В коронном фиолетовом длинноворсовом берете, в ботинках с обрубленными квадратными мысами «привет из девяностых». Защитного цвета куртка сидела на ней мешковато, большие накладные карманы напоминали два провисших на ветвях дерева парашюта. Катя впервые как следует разглядела подробности ее туалета и подумала, что эти вещи Берта ни за что не купила бы себе сама. Кате захотелось броситься ей навстречу, обнять, прижаться к ее груди, но она удержалась, осталась стоять на месте. «Что обо мне подумает Кирилл, да и она тоже?»
Они устроились втроем на скамейке. Кирилл обнял Катю. Молчали. И Берта шестым чувством улавливала от них нечто зыбко-эфемерное, похожее, наверное, на счастье. Что бы они там себе ни думали, эти молодые, Берта все больше осознавала – это счастье. Она определила его по почти забытому трепету и покалыванию у себя в солнечном сплетении. «Да-а, – думала Берта, – не ураган, как у нас с Георгием, не Ниагарский водопад, но все же… все же…. Тебе все бурлящие водопады подавай. Не подходит тебе, видишь ли, спокойное течение. До сих пор не уяснила, что тихое куда надежней». Она медленно распрямила спину, закрыла глаза, доверилась исходящему от них эфиру. Веки ее чуть подрагивали, и мерно дышало за ними улегшееся после шторма море, нежные волны омывали подножие древнего утеса, изнуренного многими бурями и штормами. Боже мой! Боже мой! Как ей хотелось прижаться к этим двоим. Дышать, наслаждаться ими. Их молодостью, их будущим, слушать биение сердец, улавливать пульсацию крови, боже мой, как хотелось…
– Что нового? – негромко спросила она, взяв себя в руки.
– Нам бы угол какой-нибудь, – протянул Кирилл.
– Угол… – пространно повторила Берта, – да-да-а, угол…
Они помолчали еще немного.
Но тут Берта встрепенулась:
– Ручка и бумага у вас есть?
– У меня были. – Катя поискала в сумке и достала блокнотик и ручку.
– Идите погуляйте минут двадцать, дайте мне сосредоточиться, рискну выхлопотать вам угол.
Когда они вернулись к скамейке, у Бертиных ног обнаружились многочисленные обрывки скомканной бумаги.
– Неудачные пробы пера надо собрать и сжечь от местных клевретов, – сказала она, указав себе под ноги, и протянула им несколько мелко исписанных, сложенных пополам листков. – Вот возьмите. Степанова Алевтина Ивановна – служила на нашем театре. Старуха, учтите, не из самых обаятельных. Ей играть-то давали преимущественно склочниц. Хотя вру. Была у нее однажды чуде-е-еснейшая роль. Марфа-богомолка в спектакле «Марфа, жена Петра». – Тут она спохватилась, что Кириллу с Катей сейчас вряд ли это интересно, и вернулась к генеральной линии: – Других одиноких пеньков с двухкомнатными квартирами у меня нет. Звонить ей бесполезно. К телефону не подойдет. Она использует это завоевание человечества исключительно для вызова «скорой» и жалоб в милицию, тьфу, в полицию на соседей. Поэтому только письмо. Сядьте же, не маячьте передо мной как проштрафившиеся часовые любви! – Кирилл и Катя сели от нее по бокам. – Я там спела ей панегирик, – продолжила она. – В основном вранье, конечно, ради вас. Предупреждаю, непреме-енно начнет лить на меня грязь. На веру все не берите, завидовала она мне страшно. Но одно я знаю точно, она не крохоборка. Лет пять назад, когда я обреталась в иных стенах, она в очередной раз заглянула в гости и за чаепитием призналась, что пустила бы к себе квартирантов, только ни в коем случае не с улицы, а по надежной рекомендации. Так вот, если вам повезет и у нее свободна комната, бесплатно, конечно, не пустит, но и не разорит. Тут, на отдельном листке, ее адрес.
На обратном пути в автобусе Катя сказала:
– Надо будет глянуть, что такое «панегирик».
– И кто такие клевреты, – добавил Кирилл. – Может, все-таки расскажешь, что у тебя случилось?
– Ничего экстраординарного. Банальная домашняя ссора, просто ты со мной или нет.? Если не хочешь, я…
Кирилл заметил, что ее снова начало трясти, как вчера у магазина в Алтуфьеве. Он обнял ее, притянул к себе, шепнул, касаясь губами ее волос:
– Не пытайся казаться эмансипе круче, чем ты есть. Я с тобой однозначно.
Катя легонько ткнулась лбом ему в плечо:
– Давай прочтем письмо.
Кирилл пожал плечами.
– Она же нам не запрещала.
– Ладно, сегодня я что-то податливый.
Они развернули листки, склонились над написанным.
ПИСЬМО БЕРТЫ
Ну что, старая перечница, по-прежнему на меня злишься? Не стоит. Прелые листья, если их ворошить, издают дурной запах. А нам с тобой, Алевтина, показаны теперь только озон с кислородом. Никакого углекислого газа! Слышишь? Никакого!
Вот и настала пора признаться: я всегда считала тебя талантливой актрисой. Твою Марфу у колодца, глядящую вслед уходящему на фронт Петру, я никогда не забуду. Поверь, ты была лучшей Марфой. Я знаю, что говорю. А то, что тебе давали первые роли меньше моего, извини – вина не моя. Напрасно ты бегала по театральным закоулкам и обвиняла меня в пересыпах со всеми подряд режиссерами с целью получения ролей. Главные роли, смею надеяться, давали мне не за это. Не отрекаюсь, с некоторыми спала, но только после премьер, отмечая, так сказать, успех мероприятия. Ради корысти – никогда! Слышишь?! Никогда! А ты, подумать только, умудрялась ревновать меня даже к Косте Клюквину. Хотя мы с ним за столько лет службы, кроме сцены, не поцеловались по-настоящему ни разу. Слышу, как ты скрипишь, ввинчивая свое излюбленное словцо: «Опять за старое, профурсетка!» Но разве мой дух противоречия – что-то новенькое для тебя? Я умру, ты умрешь, все умрут – а он с флагом наперевес будет брать очередную высоту!
Сегодня, пожалуй, нам делить нечего. Роли, гримерки, премьеры, провалы, успехи, бессонницы в гостиничных номерах – все в прошлом. Та к или нет? Не слышу ответа. Ах, не совсем? Что ж, твоя правда. Не знаю, как с этим у тебя, а меня все еще преследуют по ночам два лучших на свете запаха: пыльных кулис и влажного (помнишь? после мытья, на утренних репетициях?) дощатого настила сцены. Верно-верно, лукавлю. Есть еще один, непревзойденный, – запах костюмерной, где аромат нафталина был навеки перемешан с «Серебристым ландышем». Разве забудешь нашу бесценную Лидию Борисовну, добродушную нашу толстуху, нещадно кропившую дешевым «Ландышем» костюмы эпохи Марии Стюарт и Марии Мнишек? О-о-о, к этому запаху, к этой узкой комнатенке в конце коридора у меня особое отношение!
Но хватит театральной ностальгии. Сейчас не об этом. Сейчас о любви. Оказалось, она шире пределов сцены. И это справедливо. Представь, Алевтина, я помню твою любовь. Твоего Володю. Помню, как ты летала, когда он появился у тебя, как перестала завидовать кому бы то ни было, прекратила строить козни. Как сейчас вижу ваши с ним счастливые, устремленные друг на друга глаза, твои – опять же со сцены, его – из первого ряда партера. Ты всегда оставляла для него контрамарку в первый ряд. Он мчался на твои спектакли из любых командировок. Познав силу ответной любви, ты преобразилась. Но, как большинство актрис, выбравших единственным вечным любовником Театр, Володиным чувством ты распорядилась безжалостно. Хотя в бытовом смысле ты оказалась куда практичней меня – не растранжирила свою квартиру столь бездарно, – в личном смысле мы обе остались у разбитого корыта.
Та к вот, Алевтина, «пока Земля еще вертится, и это ей странно самой», на нашу Землю нет-нет, да залетит эта редчайшая птица – любовь. Многолика она, ничего не скажешь! То она птица-ураган, то коршун, то вещая птица сирин, а то замерзший зяблик, но потроха у нее всегда одни и те же – нежные, ранимые. Именно поэтому прошу тебя, в память о том, как тридцать шесть лет мы переступали один и тот же порог, отдали свою любовь на заклание, служа единственному божеству – Театру, приюти два любящих молодых сердца! Они приедут к тебе с этим письмом, два нежных зяблика, Кирилл и Катерина. Помнится, ты хотела поручительства? Тебе достаточно моего слова? Да, чуть не забыла, они не актеры. Слава богу, пожалуй. Она – будущий лингвист, он – будущий крупный (уверена) математик. Дневные студенты. Что-то там у них не сладилось с домашними, бывает. Если приютишь, постарайся не обидеть. Только не вздумай морочить их своими богомольными экзерсисами! Глядишь, и тебе перепадет от них частичка счастья, как перепала мне.
Прости за некоторый сумбур в изложении. Сто лет не писала писем.
На сем вуаля, давно тебе не конкурентка и не соперница, небезызвестная тебе Берта Ульрих.
06 марта 2012 года.Глава 14. Другая жизнь
Старый шестиэтажный дом с выносным лифтом стоял во дворе недалеко от Смоленского бульвара. Они поднялись на верхний этаж, Кирилл, окончательно прогулявший в этот день университет, нажал кнопку звонка. За дверью послышалось неторопливое шарканье, тихое копошение, еле слышное:
– Кто?
– Мы от Ульрих Берты Генриховны. Вы с ней когда-то работали в театре.
Последовало продолжительное молчание. Кирилл с Катей, глядя друг на друга, тоже затихли.
Наконец чуть громче прозвучало хриплое:
– Вы еще здесь?
– Да.
– Служили, а не работали – это во-первых, потом НА театре – это во-вторых. А что, собственно, вам от меня нужно?
– У нас от нее письмо вам.
– Письмо? Кхе-кхе. Интересно, с каких пор, прости Господи, она стала баловаться в мой адрес эпистолярным жанром? – Дверные замки пришли в движение. – И вас много?
– Двое.
Дверь, сдерживаемая толстой древней цепочкой, приоткрылась, в щели появились полоска морщинистого лица и полноватая в пигментных пятнах рука.
– Письмо давайте сюда, сами стойте, где стояли. – Ловким движением рука выхватила у Кати протянутые листки.
Дверь прикрылась, но не захлопнулась. Последовал короткий бумажный шелест и временное затишье.
Пока шло изучение письма, Кирилл решил закурить. Из-за двери тут же раздалось:
– Немедленно затушите сигарету, не выношу табачного дыма.
– Начинается, – пробурчал Кирилл.
– Да, да, да, кхе, – прозвучало подобие всхлипа и двукратного шмыганья носом, голос за дверью приобрел новые вибрации, – узнаю фигуры речи. Почерк, несомненно, ее. Только не пойму, вы-то ей кто?
– Какая вам разница кто, она ручается за нас, – нашелся Кирилл.
– М-да, ладно, пусть девица войдет. – Цепочка тяжело звякнула, дверь открылась наполовину. – Тю-тю-тю, только девица, вы, Архимед, обождите, паспорт пока приготовьте.
Катя смотрела с улицы на окна своей квартиры. «Надо кухню еще проверить», – торопливо обогнув дом, она подняла голову. Там тоже было темно. «Главное теперь оперативно собраться», – думала она, поднимаясь в лифте.
С собранной сумкой она обернулась на свою комнату, пробежала глазами по стенам с детскими выцветшими рисунками, с темным пятном от фотографии, где первоклассницей обнималась с отцом (фотографию она взяла с собой), мимолетно глянула в сторону дивана (на нее тут же пахнуло обезболивающим гелем, несвежим нательным бельем, едким потом) и закрыла дверь. Подкатив сумку к входной двери, она зашла на кухню, положила на стол, со стороны, где обычно сидит мать, записку: «Устроилась на подработку, сняла комнату. Меня не ищи. Катя». На пороге кухни на секунду задержалась, вернулась к столу, приписала: «У меня все нормально».
У Кирилла неожиданно оказался дома отец. Смотрел в гостиной телевизор. По грохочущим звукам и резким возгласам Кирилл узнал «Бросок кобры». Просмотр фильма у отца шел не впервые. Меньше всего Кириллу сейчас хотелось общаться с отцом. Стараясь не шуметь, он просочился в ванную комнату, стал торопливо собирать предметы личной гигиены. Отец все же что-то услышал, заглянул к нему, моментально смекнул, в чем дело:
– Удочки сматываешь?
– Да.
– Пошли поговорим.
Кирилл молча прошел в гостиную, сел за стол. Отец, остановив фильм, сел напротив:
– С чего так? – Он пополнил свой бокал виски Dewar’s Signature, не подумав предложить Кириллу.
– Надоело, – ответил Кирилл.
– Попросил бы как следует, может, получил бы отдельную крышу над головой. – Отпив большой глоток, побалтывая в бокале виски, отец вальяжно откинулся на спинку стула.
– Не хочу.
– Это почему же?
– Потому. Чтобы ты бросил кость, надо быть твоим отражением. Жить по твоим законам. А я другой. Дру-угой, понимаешь?
– Друго-ой он! – моментально взбесился отец. – Размазня ты, а не мужик!
– По-твоему, быть мужиком – это отжимать тех, кто слабее, и выбрасывать как отработанный материал. А мне противно. Я не хочу.
– А чего ты вообще хочешь? – Опершись свободной ладонью о стол, отец принялся раскачиваться на стуле.
– Заниматься делом без кидалова, чтоб потом свои же дети не…
– Делом?! Как папашка этого жалкого твоего музыкантишки, к которому ты постоянно шляешься? Где он там работает? В какой паршивой газетенке, непризнанный гений пера? Чего он достиг, голозадая вшивота?! А эта, как там ее, вечная его подруга дней суровых? Всю жизнь блынь-блынь по клавишам, как башню-то не снесло, хотя наверняка давно повело!
– Да, все должны тупо колотить бабло, прокатывать друг друга, с экранов надо смотреть исключительно голливудскую парашу – это расслабляет, бабы все – дуры и проститутки. Эти твои шаблоны и штампы я наизусть выучил!
– Что ты понимаешь, штампы?! Это жи-изнь, реальность!
– Бывает и другая реальность.
– Да ты что?! Параллельная, что ли?
– Ты удивишься, но родители Алексея до сих пор любят друг друга.
– Не смеши. – Отец плеснул себе еще виски. – Тоже мне пара реликтовых слонов-однолюбов. Денег у твоего журналистишки на молодых баб нет – вот все дела!
– Они просто остались людьми. Его отец не шляется за каждой…
– Что?! – Отец шарахнул бокалом об стол. – Пошел во-он! Хотя нет, подожди-и. – Он вскочил, схватил Кирилла за рукав рубашки. – Я брежу? Или как? Это говоришь мне ты?! Здоровенный молодой лось? Кобель, который должен хотеть трахать любую женскую особь моложе сорока? А-а-а, может, ориентация не та?
– Пусти, достал ты. – Кирилл рванулся так, что оторвалось полрукава, вылетел из гостиной, скрылся в своей комнате. Он еле сдерживался, чтобы не выбежать назад, не полезть с отцом в драку.
Отец забарабанил ему в дверь:
– Открой, слышишь, я не договорил, я понять хочу, в кого ты такой баран упертый! Любой на твоем месте мечтал бы перенять дело у отца! Только не ты-ы! Зачем тебе эта мудовая теория вероятностей? Теоретик хренов! Хочешь доказать, что умней меня? Ни хера-а! Ни хера подобного! В этой тухлой стране можно быть только торгашом! Торгашо-ом! Понял? И только в сетевом бизнесе! Вот когда будет сносный приток капитала! Вот в чем стопроцентная вероятность. Заруби себе. – Он еще раз ударил в дверь, но слабее, как-то вяло.
Кирилл торопливо запихивал в сумку «Мак», нужные книги, целлофановые файлы с распечатками, рубашки, джинсы.
Когда он вышел из комнаты, отец сидел на полу гостиной, широко раскинув босые, без тапочек, ноги, у правой его ступни валялась пустая бутылка из-под Dewar’s Signature; бокалом с прыгающими остатками льда он методично бил в пол: «Только торгашом… торгашом…»
Сумма оплаты, назначенная Алевтиной Ивановной, по меркам московского центра была смехотворной – шесть тысяч в месяц. Они пообещали, что внесут деньги через месяц, и отдали ей в залог свои паспорта. В комнате имелось самое необходимое: раскладной диван времен шестидесятых годов, обширный рабочий стол с выдвижным ящиком, два расшатанных, но вполне живых еще стула, небольшой платяной шкаф с антресолью. Ознакомив их с предметами интерьера, Алевтина Ивановна из комнаты не ушла. Она стояла по центру давно не циклеванного паркетного пола, опустив ладони в бездонные карманы махрового, облысевшего на животе и груди, потерявшего цвет халата, и, глядя куда-то вверх и вдаль, произносила пламенную речь:
– Вообще-то я не приветствую отношений, не освященных узами брака и таинством венчания, ибо они есть не что иное, как прелюбодеяния. Смолоду я была противницей половой распущенности. Никогда не стояла в одном ряду с приславшей вас ко мне личностью. Конечно, прости Господи, и я не без греха, но ни-ни! Не иду с ней ни в какое сравнение! Нюансы ее витиеватого прошлого опускаю исключительно из благородства и порядочности, ибо они есть энциклопедия разврата! – Вытащив из правого кармана руку, она устремила к потолку указательный палец: – Смертоносный яд, способный отравить любую неокрепшую душу. – В ее позе читалась хроническая недооцененность публикой. «Кого же она мне напоминает? – силилась вспомнить Катя. – Надменное лицо, нос с горбинкой, тяжелая шея, седые пряди в низком пучке. Точно, постаревшую Ахматову с фотографий». Алевтина Ивановна, не опуская пальца, продолжала: – Но Господь учит нас состраданию, милосердию, помощи ближнему, поэтому, только поэтому я пускаю вас к себе.
Они ждали конца ее мессианской речи как манны небесной. Им до одури хотелось остаться вдвоем. Она говорила что-то еще. Наконец прозвучал спасительный завершающий аккорд:
– Надеюсь, вы усвоили, как раскладывать диван и открывать форточку, потянув за веревку. Что ж, располагайтесь. – И Алевтина Ивановна удалилась из комнаты.
Задвинув сумки ногами в угол, они ринулись в объятия друг другу. После поцелуя Катя выдохнула:
– Надо работу срочно искать.
– Прямо сейчас? – Кирилл не выпускал ее из объятий.
– А когда? Месяц пролетит, оглянуться не успеем.
Они бросились к сумкам, достали ноутбуки, поспешили к столу, нашли розетку с удлинителем, подключили шнуры, стали торопливо бить пальцами по клавишам.
– Что за фигня?
– Боже, у нее Интернет не проведен.
– Кать, давай завтра. – Кирилл смотрел на нее умоляющим взглядом.
– Что завтра?
– Интернетом займемся завтра. Отец час назад вынес мозг, эта «прости Господи» добавила.
В этот момент Алевтина Ивановна из коридора оповестила их, что уходит на вечернюю церковную службу.
Обнявшись, они стояли у окна. С шестого этажа были видны нескончаемые хвосты почти не двигавшихся машин на пересечении Смоленского бульвара с Новым Арбатом. Словно две перпендикулярно текущие реки, войдя в неразрешимое противоборство, оторопело застыли. В оконных стеклах отражались вечерние огни московского центра, в приоткрытую форточку вплывал разноголосый автомобильный гул. Кирилл крепче скрестил руки у нее под грудью, прильнул сзади лицом к ее волосам. Макушкой она ощущала тепло его дыхания. Тепло было такой силы, что согревало ее существо до кончиков пальцев. У нее возник импульс развернуться, увидеть его глаза, уткнуться лицом ему в грудь, рассказать ему все. Как после смерти отца и бабушки не принадлежала себе одиннадцать лет, жила, будто во сне, каждый день, каждую минуту ожидая несбыточного чуда, что откроется дверь, они вернутся и все станет как раньше. Что никогда не могла понять материнских поступков, ее безумной страсти к тряпкам, главное, к этому накачанному уроду Славику, ее неспособности или нежелания выбрать время и просто поговорить с единственной дочерью. Что от хронического этого непонимания спасалась только музыкой, фильмами, учебой, памятью об отце. Что никогда не любила молодежных тусовок, шумной дымной суеты, болтовни ни о чем, если попадала в них, чувствовала себя потерянной, одинокой, никому не нужной. Наконец о самом страшном – надругательстве над ней отчима и патологическом неверии в это матери. Но она вспомнила слова Берты: «Нам не нужна его жалость, нам нужна его любовь», – и ей расхотелось быть слабой. Откуда-то всплыли строчки, она прошептала почти неслышно:
– «Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье».
Он ее расслышал:
– Из «Зеркала» Тарковского.
Она кивнула.
Вот так стояли они, одни на целом свете, во всей Вселенной, не чувствуя ни времени ни пространства. И где-то там, внизу, под ними «расступались, как миражи, построенные чудом города».
Потом они расстелили диван, помчались принимать душ, не замечая полного упадка вокруг, видя только друг друга.
– Мы красивые, – произнесла Катя, когда они срослись под струями воды, как сиамские близнецы.
– Слабо сказано. У тебя спина шелковая. – Он плотнее прижал ее к себе.
– Не здесь, в комнате.
Выключив воду, он ловко выпрыгнул из ванной, завернул ее в полотенце, перекинув через плечо, понес, придерживая за ноги, в комнату. Это была самая чудесная ноша в его жизни.
– Мне страшно, – прошептала она, когда он аккуратно опрокинул ее на диван, стянул с нее полотенце.
Она лежала перед ним с раскинутыми темными змейками мокрых волос, тоненькая, узкобедрая, необыкновенно женственная, прекрасная, напоминающая девочку на шаре Пикассо. В ямке между ее ключиц дрожала капля воды, влажная еще кожа излучала золотой теплый свет. Стоя над ней, он смотрел на нее неотрывно. Лицо у него было серьезное, сосредоточенное, ей казалось, он видит насквозь всю ее: как кровь бежит в венах, как работает сердце, как дышат легкие. Она зажмурилась, закрыла ладонями грудь, повторила: «Мне страшно». Он наклонился, убрал ее руки, нежно распял ее, осторожно слизал языком каплю между ключиц, поцеловал в ложбинку между грудей, где еще хранилось тепло ее ладоней. Соски ее откликнулись, напряглись, потемнели. Отпустив ее запястья, он взял в ладони сначала одну ее грудь, приник губами к соску, другую обхватил смелее, стал целовать сильнее, дольше.
– Ты любишь меня? – задохнувшись от сладости ее сосков, охрипшим голосом спросил он.
– Да.
– Все, что было до этого, не важно?
– Да.
– Я тоже люблю тебя. Очень.
Потом она засмеялась, кивнув в сторону стола, где развернутые друг к другу под углом в сорок градусов стояли с распахнутыми крышками, будто объясняясь в любви, их ноутбуки. Чуть приподнявшись на локтях, он тоже улыбнулся. Счастливо опрокинулся на спину. Положил на нее правую руку, захватив часть ее живота и бедра, произнес:
– Моя.
Она улыбалась, замерев под тяжестью его руки.
– О чем ты думаешь? – Она легонько провела ладонью по его животу.
– Хочу, чтобы церковная служба не кончалась.
– Я тоже. Эти мышцы у тебя на животе как называются? Кубики?
– Где ты там нашла кубики!
– Ну как же, вот рельеф.
Он хохотнул, поймал ее руку, продел свои пальцы между ее пальцев, свободной ладонью скрепил их пальцы в замок:
– Вот так теперь будет. А насчет кубиков – отжимаюсь по утрам от пола, только и всего.
– Я думала, специально где-нибудь тренируешься.
– Я все это ненавижу, если честно. С тех пор, как отец запихнул в шесть лет в секцию боевого самбо. Перед четвертым классом наотрез отказался, до скандала дошло, а так пришлось отходить четыре года. Меня от бицепсов-трицепсов с тех пор воротит.
– Ты отца, по-моему, не любишь.
– За что его любить? – Он развернулся к ней, обнял обеими руками, прижал к себе что есть силы. – За экстремистские взгляды? Или за деньги? Я не проститутка, чтобы любить за деньги. В прошлом году, помню, скачал «Доктора Живаго» почитать, случайно айпэд забыл в гостиной на ночь. Он в него влез, утром коммент отпустил: «Чего на всякую дрянь время тратишь?» Ты читал, спрашиваю? Мне, говорит, не надо, я первую и последнюю серии на диске прокрутил. Слизняк твой Живаго, не смог с тремя бабами по жизни разобраться. Вот вся его философия. Ему объяснять бессмысленно, что там не в этом дело. Мать жалко, она когда-то совсем другая была.
На слове «мать» Катю передернуло. Вспыхнула сцена в аэропорту. «Несчастный отец, за что он любил ее? Никогда она не была другой. Не прощу, никогда не прощу». Катя сильнее вжалась в Кирилла.
Как только на следующее утро, впервые после пребывания у Меланьи, она поставила на зарядку и включила телефон, позвонила Света:
– Ты, подруга, даешь, вырубилась на три дня. Ты у Меланьи?
– Уже нет.
– А где? Тебя мать разыскивает. Меня с пристрастием допрашивала, где ты. Она не поняла, что за комната, на какие деньги. Что за работа? В общем, море вопросов. Переживала, почему телефон недоступен. Предлагает тебе денег через меня передать. Что у вас стряслось? Я действительно ничего не знаю, говорить-то ей что? Может, сама ей позвонишь?
– Не позвоню. Раньше понимания не было, теперь откуда ему взяться. Денег мне от нее не надо, я ей все в записке написала, обойдется без подробностей. Да, Свет, передай еще, пожалуйста, у меня все отлично. Пусть дальше облизывает своего козла.
– Понятно. Судя по последнему аккорду, с отчимом что-то не поделила. Ты, Катрин, совсем скрытная стала. Ничего толком не рассказываешь. Кажется, я догадываюсь, с кем ты сейчас. Ладно, без обид, желаю вам большой чистой любви. Матери передам, жива-здорова. Нужна буду – звони сама.
Они устроились на подработку довольно быстро. Времени на тщательный выбор не было. Кирилл подвязался через ночь разгружать у «Смоленской» продуктовые фуры для «Седьмого континента», Катя на три дня в неделю обрела воспитанника в лице первоклассника Севы.
Берта не солгала. Алевтина Ивановна оказалась навязчивой, переполненной ложным пафосом миссионеркой. Ее отлучки на вечерние службы были для Кати и Кирилла истинным спасением. Однако по утрам на кухне в выходные дни она успевала грешить словесными выпадами:
– Бертолуча-то ваша, мы так звали ее на театре, характер имела несносный, со многими была в конфликте. – Она стучала ложкой об алюминиевую кастрюльку, помешивая воскресную манную кашу. – Удержу в страстях, прости Господи, не имела, а как-то раз…
– Послушайте, Алевтина Ивановна, – однажды не выдержала во время жарки яичницы Катя, – я слышала, говорить плохо о человеке за его спиной Бог не велит.
– Ладно, ладно, слышала она. Как живется-то ей там? – наморщив лоб, вытянув губы, Алевтина Ивановна снимала пробу с каши.
– Как может житься в доме престарелых?
– Да уж, угораздило ее. Какие хоромы имела! Какие хоромы! – Вслед за облизыванием ложки раздался цокот языком. – Вот расскажу одну историю, не перебивай, тебе полезно будет послушать. Оставался у нее от теткиного мужа подлинник картины одного русского художника, фамилию на всякий случай называть не стану. Картина роскошная: «Савл на пути в Дамаск». Знаешь, почему Савл?
Катя пожала плечами.
– Действительно, откуда тебе знать. Вы ничего не знаете. Апостол Павел до обращения в истинную веру. Так вот, опишу картину: вдалеке очертания города, куда направляется ослепленный после услышанного Христова гласа Савл, за ним по дороге струится свиток, еле заметный, полупрозрачный, – свод старых фарисеевых законов, а впереди ангелы в небе трубят победу новой веры. Смотришь – дух перехватывает. У Караваджо есть картина на тот же сюжет: «Обращение Савла по дороге в Дамаск», – но гораздо слабее. Кони, люди, – ни то ни се, идея пропадает. А здесь вся история налицо. У Бертолучи в гостях я всякий раз застывала перед картиной как завороженная. Ее два года как из театра «ушли», когда она решила картину продать: денег на жизнь хронически не хватало. О ее планах меня Галя Рашенцева, завлит театра, предупредила инкогнито. Знала, что для меня значит эта картина. Как же я умоляла повременить и продать картину нашему приходу! Деньги я бы собрала, в лепешку расшиблась бы. Куда там! Она заявила: «И не подумаю поощрять твой богомольный ажиотаж, церковное твое помешательство. А Галке передай, она трепло, сплетница!» Сама неизвестно где отыскала искусствоведа, этот шарлатан с успехом втерся к ней в доверие, убедил, что картину необходимо проверить в лаборатории, если она действительно окажется подлинной, то ее ждет пожизненное обеспечение, отвел для отвода глаз в реставрационно-художественную мастерскую где-то в переулках Арбата, на следующий день картину забрал и пропал навечно. Как тебе?
Катя молчала над остывшей яичницей, думая: «Права Берта, завистливая, злорадная склочница».
– Безалаберная она, недальновидная, вот что. Самое главное, самонадеянная. – Алевтина Ивановна доедала за столом кашу. – И вредная. Сам Господь указал ей на ее вредность, причем дважды. Не знаю, как она, я так до сих пор о картине сожалею. С жильем вообще ни в какие ворота, что сотворила. Ладно. Разведка донесла, в Париж все рвалась. На старости лет. Деньги, может, не только на проживание, на поездку нужны были. Интересно, к кому-то или так просто, проветриться? Тебе не рассказывала?
– Нет, – сухо ответила Катя.
– Дорвалась, профурсетка!
Но кое-что человеческое в Алевтине Ивановне Степановой все-таки присутствовало. Иначе Берта вряд ли бы рискнула отправить к ней Катю с Кириллом. Алевтина Ивановна любила подольше поспать, из-за чего нередко пропускала утренние службы. Никогда не пила растворимого кофе, варила себе настоящий, ароматный, в тяжелой старинной турке. С дымящейся туркой уходила к себе в комнату, включала там записи бардов семидесятых. Некоторым подпевала. Особенно жаловала песню «Господа юнкера, кем вы были вчера…».
Катя в понедельник, среду и пятницу работала у Клотильды. Объявление в журнале «Работа и зарплата» выглядело так: «Срочно! Рядом с метро „Новослободская“ ищу няню мальчику семи лет на три дня в неделю (вторая половина дня). Желательно молодую, симпатичную. Можно студентку».
В объявлении Катю прельстили два момента: вторая половина дня и близость к ее институту.
– Ничего, если я лягу? – спросила работодатель Клотильда, проводив Катю в одну из комнат довольно большой, помпезно обставленной квартиры.
– Пожалуйста, – сказала Катя. – Если вам так удобнее.
– Черчилль сказал: «Можешь лежать – лежи», – устраиваясь на диване, пояснила Клотильда. Закинув ноги на кожаный валик, любуясь французским педикюром с серебряным френчем, она продолжила: – Можешь обращаться ко мне на «ты». Не такая у нас с тобой большая разница в возрасте. Папаша у него приходящий, субботний. Деньгами откупается. Рискуешь его не увидеть, но это и лучше. Мне, короче, от тебя что надо? Чтоб кормила, гуляла и уроки с ним делала, меня разгружала. У твоей предшественницы голова оказалась слабым местом, не тянула с ним уроки. Прикинь, первый класс. Обещали ничего не задавать, а загрузили по самое не балуйся. Короче, главное – английский. Без английского сейчас, сама знаешь, никуда.
Самым выдающимся местом на теле лежащей Клотильды оказался лобок. Именно на него, как на Олимп, взобралась непонятно откуда вынырнувшая лысая хохлатая собачка и принялась трястись мелкой дрожью.
Прикрыв ладонью почти ее всю, кроме хвоста, Клотильда сказала с долей ласки:
– Прекрати, Зизи, что ты вибрируешь, как фаллоимитатор. Ну, зову ребенка?
– Зовите, – кивнула Катя.
– Се-ева-а, пойди сюда.
В комнату ворвался худенький белобрысый мальчишка с заранее испуганными глазами и застыл на пороге, не зная, на кого смотреть, на мать или Катю. Катя прочитала на его майке: «МОТАЮ НЕРВЫ, сколько ВАМ клубочков?»
– Вот, Сева, знакомься, это Катерина, твоя новая няня. Ты должен с ней подружиться и слушаться ее, – не меняя позы, томно произнесла Клотильда.
Поникнув плечами, Сева по-стариковски вздохнул. К страху в его глазах прибавилась вселенская печаль. Катя подумала, что должна подобрать единственно нужные слова, и сказала:
– Сева, не расстраивайся, я веселая, нам с тобой скучно не будет.
К маю они были неразлейвода. Сева добровольно поведал Кате некоторые семейные тайны. В частности, что «у папы есть пигалица Аленка „ссаные колготки“, а мама никакая не Клотильда, а Клава, только она терпеть не может свое имя, поэтому всем говорит, что Клотильда».
Перед первыми майскими выходными, ложась спать, Катя спросила у Кирилла:
– Сева в зоопарк очень просится, может, сходим с ним?
– А мать у него на что? – поинтересовался Кирилл, пуская ее к стене, откинув для нее одеяло.
Катя пожала плечами.
– Ладно. Почему бы нет? – согласился Кирилл, просовывая руку ей под голову.
С погодой в этот день им повезло. Они миновали Большой пруд с розовыми фламинго и шли в глубь территории. Сева, буравя их сзади головой, неоднократно норовил втиснуться между ними. Катя остановилась:
– Чего ты хочешь, Сева?
– Дайте мне руки, я между вами повисю.
– Не «повисю», а «повишу», – поправила его Катя.
– Ну, повишу.
Они раздвинулись, подали ему руки. Он вцепился в их ладони, поджал ноги, крикнул:
– Разгоняйтесь!
Они побежали.
– Хорошо тебе, мелкий? – спросил на бегу Кирилл.
– Угу, – болтая в воздухе ногами, высунул от удовольствия язык Сева.
– Можно подумать, первый раз так висишь, – бросил Кирилл, усиливая пробежку.
– Второй! – захлебываясь от восторга, выкрикивал Сева. – Один раз только висел с мамой и папой, когда в школе еще не учился! Тогда я был легкий-прелегкий, а мама сказала: «Рука, блин, отсохла тебя держать». А я подумал: я, что ли, блин? Меня, что ли, съесть можно? Кать, ты каких воспитателей больше любишь, которые помнят или которые забывают? – тараторил он без умолку, продолжая оттягивать Кате руку.
– Я в детский сад не ходила, Сева, со мной бабушка до школы сидела, папина мама. А сам-то ты каких больше любишь? То есть любил раньше?
– Которые забывали.
– Ясный перец, такие лучше. Все, я выдохлась.
Они остановились, опустили Севу на асфальт.
Но его эйфория не улетучилась.
– Кать, угадай, чего я хочу?
– Чего?
– Сисечку твою посмотреть. Покажешь?
– Эй, пацан, – возмутился Кирилл, – с этим, пожалуйста, к маме.
– Мамины не интересно, ее я уже видел много раз.
– Ничем не могу помочь, Сева. Я у тебя для другого, – смеялась Катя.
Утомленные пробежкой, они теперь шли неторопливо.
– Для чего другого?
– Дурачком не прикидывайся. Прекрасно знаешь для чего. Три праздничных дня пролетят, и в школу. После школы пообедаешь, за чтение сядем.
– Будешь интеллект развивать, – подтвердил Кирилл. – Для мужчины это самое главное. А то сисечку ему посмотреть.
– А-а-а, это что в голове?
– Именно.
Сева забежал вперед, затряс перед ними ладонями с растопыренными пальцами:
– Это же ску-учно.
– Кому как, – сказал Кирилл.
В это время они проходили мимо клетки со снежным барсом. Барс торопливо фланировал вдоль ограждения.
– Ух ты, какая киса! – мгновенно прирос к клетке Сева, повторяя с восторгом: – Ух ты, киса какая! Киса моя, киса! Зовут ирбис.
Кирилл и Катя тоже приросли к ограде. Киса впрямь была хороша.
В первый рабочий день после праздников к холодильнику Клотильдой была прикреплена записка: «В морозильнике „Сытоедов“, разогрей в СВЧ 6 мин. Он любит. Я в фитнес-центре разгружаюсь, буду к семи. Зизи заскулит, глянь в миску, если пусто, насыпь корма».
Пока Сева, морщась, ковырял «Сытоедова», Катя нашла в букваре нужную страницу, пробежала глазами по строчкам рассказа, заданного на дом. Рассказ назывался «Лесные мастера». Там вела диалог лесная живность. Один из переговорщиков, судя по реплике, был пауком:
«– Ткать умею, ткачом работаю. Ловчие сети-тенета в лесу плету.
– Водолаз я, – чирикнул с камня оляпка и без долгих слов плюх в воду и побежал по дну реки».
«Бред какой-то», – показалось Кате.
– На, Сева, читай вслух. – Убрав от него, сжалившись, недоеденного «Сытоедова», она протянула ему раскрытый букварь.
Сева положил букварь на колени, по обыкновению тяжко вздохнул. Его можно было понять: «Лесные мастера» после «Сытоедова». Дойдя до оляпки, он недоуменно поднял глаза на Катю:
– Кто это? Оляпка?
– Я сама точно не знаю, Сева. Может птица, раз чирикнул?
– Птица? А побежал по дну реки как?
– Давай в нете глянем.
Они перешли в комнату, склонились над экраном ноутбука. Оляпка оказался птицей отряда воробьиных, способной находиться под водой до пятидесяти секунд. «Вот извращенцы», – подумала о составителях букваря Катя.
Он был хороший, этот Сева. Когда они вместе чем-нибудь занимались, он, сидя с ней рядом, обнимал ее за шею, и она слышала, как он старательно сопит. Особое сближение произошло после исполнения Катей одной песни. В третью майскую пятницу Клотильда собиралась на свидание, предварительно договорившись с Катей, что та побудет с Севой подольше. Сева застрял в материнской комнате, терзая ее вопросами, явно ревнуя к предстоящему свиданию. Она разозлилась, прогнала его, крикнув:
– Отцепись, блин, я опаздываю из-за тебя.
Он понуро вернулся в комнату к Кате, сел, подавленный, в свое креслице, стал прислушиваться, когда за матерью захлопнется входная дверь. Как только та ушла, он поднял на Катю свои испуганно-печальные глаза и сказал с привычным стариковским вздохом:
– Ты обещала, что будет весело.
Кате в который раз вспомнилось, как в возрасте Севы она до слез, бывало, обижалась на мать, и тогда всякий раз ее спасал отец. Способ спасения был на редкость прост, но поразительно эффективен. Уединившись с ней в комнате, отец делал огромные глаза, накидывал на себя старый зеленый плед и приступал к исполнению заветной песни. То было вовсе не рядовое пение, а эпохальное представление. В несколько минут Катя забывала любые обиды, превращаясь в счастливейшую на свете дочь.
– Хорошо, – подхватилась она с места, – будет тебе, Сева, весело. Срочно неси какую-нибудь зеленую ткань. Только большую. Есть у вас?
– Ткань? Зеленую? – уточнил Сева, вскакивая.
– Да, обязательно зеленую и большую, чтоб завернуться можно было.
– Щас! – крикнул Сева, вылетая из комнаты.
В коридоре раздался короткий грохот – видимо, что-то вывалилось из шкафа-купе, где активно рылся Сева, – через минуту он ворвался к Кате с зеленым гобеленовым покрывалом под мышкой.
– Подойдет? – Он торопливо развернул перед ней покрывало.
– Отлично, подойдет. Теперь садись сюда. Ты будешь зритель.
Он уселся, положил ладони на колени, приготовившись смотреть.
– Минуточку терпения! – Катя вышла за дверь, задрапировалась в покрывало, таинственно произнесла в дверную щель: – Итак, представление начинается! – И распахнула дверь.
Был час пик, бежали все куда-то, Вдруг застыл, задумался зеленый свет…
Она исполняла все совершенно так, как отец: устраивала на различный манер бег на месте, застывала в нелепых позах, изображая руками кружок светофора, клала ладони на сердце, и оно начинало пульсировать под ее ладонями, снова возобновляла бег, не забывая при этом петь. На последнем куплете Сева не выдержал, подлетел к ней, она приняла его под покрывало, и на словах «Чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет продлился» они отплясывали вместе. Повалились, хохоча, на диван, запутались в покрывале, и Сева, суча ногами, повторял сквозь хохот:
– В жизнь влюбленный, – ой, не могу, – сам собой включился!
Глава 15. Воспоминаний рой
Берта закончила протирать фигурки. После подаренной бархотки они действительно блестели, как натертые воском. Профилактика проводилась Бертой по понедельникам. Сегодня был понедельник – седьмое мая. За полгода, с ноября, коллекция пополнилась всего двумя персонажами: бронзовой «Девочкой с обручем» (привет из Франции шестидесятых) и статуэткой-новоделом с надписью «Боулинг», где обутый в кроссовки парень застыл на постаменте в нелепой позе перед броском (правая его кисть с шаром отсутствовала). Зато «Девочка с обручем», единственная в своем роде, не имела никаких повреждений. Убирая бархотку в ящик «кнехта», Берта со вздохом подумала: «Как давно Катиш не приезжала». Берта вряд ли отдавала себе отчет, что с момента появления в ее жизни Катерины некоторым образом поостыла к коллекции. Задвинув ящик, поправив на койко-месте покрывало, она вышла в вестибюль.
Просроченные деятели культуры смотрели завершающий этап инаугурации. Короновали теперь всем известного героя. Берта с минуту посмотрела на тянущиеся к нему по сторонам от ковровой дорожки многочисленные руки, провозгласила: «Бойкот раболепию!» (на нее оглянулись и зашикали) – и отправилась к излюбленной скамейке. Там она возобновила думы о Кате: «Бедняга, заучилась, заработалась. Обещала приехать, когда у Севы школа закончится. В выходные, понятно, с Кириллом побыть хочется. Интересно, что им плетет обо мне лахудра Степанова? Никогда не любила эту сплетницу. Эй, – одернула она себя, – да ты никак ревнуешь. Вот ты никуда и не делась, приварилась, попалась в капкан привязанности». Она усмехнулась, вспомнив, как в юности дала себе зарок ни к кому не прикипать ни душой, ни телом, посвятить себя исключительно искусству. Теперь-то она понимала, какая ерунда и глупость все эти зароки. «Значит, все-таки не зарекайся? – еще раз усмехнулась она. – Получается, ни от чего никогда не зарекайся».
Между тем денек был вполне симпатичный. Теплый, с переменной облачностью. Кусты рядом со скамейкой трепетали юной листвой, при появлении солнца искрились свежей липкостью, в воздухе рассеивался обожаемый Бертой аромат, присущий исключительно майскому времени. Достав из кармана телефон, отодвинув его на почтительное расстояние от глаз, Берта стала писать сообщение: «Катиш! Н. М. прописала капли „Береш плюс“. Начала пить. Редкая гадость. В остальном все чудесно, чего и тебе желаю. Твоя Б.». Подумав, она приписала недостающие буквы имени.
Ночь оказалась беспокойной. В коридоре, опираясь на некогда лакированный, давно потертый посох, бродила бывшая театральная завлит Софья Тимофеевна и говорила, говорила, говорила. Была она женщиной грузной, отчего шаги ее, пусть в тапочках и по ковровой дорожке, отдавались колебаниями во всех коридорных углах. Смысл ее ночных бдений заключался именно в разговорах. По первому несведущему впечатлению говорила она с собой. На самом же деле ее виртуальные собеседники являли густой микст из драматургов различных времен и народов. Бессменными участниками бесед были Шекспир, Гольдони, Жан Жене, Бернард Шоу и плеяда советских театральных авторов: Арбузов, Розов, Вампилов и ныне здравствующий Эдвард Радзинский. Для каждого из корифеев Софья Тимофеевна выработала персональный, с неподражаемыми оттенками голос.
Примерно год назад у Берты случилась весенняя бессонница, совпавшая с бессонницей Софьи Тимофеевны. Берта вышла тогда в коридор и села на стул в холле. Проходящая мимо Софья Тимофеевна вскользь ей улыбнулась. Берта сочла мимолетный реверанс приглашением к совместному путешествию и, согласно кивнув, присоединилась к завлиту, тем более темы драматургических бесед были весьма привлекательны. В момент ее присоединения Шекспир густым баритоном упрекал Карло Гольдони в легковесности, ярморочности стиля, Карло же беспечным тенорком парировал, что трижды был прав Мольер, его драгоценный учитель, истина рождается именно в иронии и смехе, и нечего омрачать без того тошнотворную жизнь трагедией на сцене. Здесь Гольдони даже развязно хихикнул, добавив, что не решить, мол, мировых проблем трагизмом. Тогда-то Берта не удержалась, позволив себе реплику: «Да! Но трагизм трагизму рознь!» По лицу Софьи Тимофеевны пробежала рябь, брови насупились, она остановилась, сотрясая седой головой, жестко пристукнула посохом об пол. Берта молниеносно поняла, что внедрение в созданный завлитом мир чревато. Она без обид ретировалась, передумав разрушать созданный Софьей Тимофеевной сценарий взаимоотношений ее героев.
Текущей же майской ночью Софья Тимофеевна была возбуждена по-особому. Ее мятежную, впечатлительную душу, чего греха таить, мог выбить из колеи утренний показ инаугурации, совпавшей с полнолунием в знаке Скорпиона. В данный момент бывшая завлит остановилась передохнуть в тупиковой части коридора рядом с комнатой 18, и до уха Берты долетало, как Арбузов чихвостит непонятно откуда взявшегося в устоявшейся компании Михаила Шатрова за конъюнктурность пьесы «Так победим!». Не выбирая выражений, Арбузов вовсю чертыхался, обвиняя Шатрова в раболепии перед власть имущими в ущерб художественно-литературной части. Никогда ранее не участвующий в беседах Шатров отмалчивался и сейчас. Вслед за двухминутным молчанием Шатрова Софья Тимофеевна, видимо поднабравшись сил, направилась в другой конец коридора. По ее возвращении к комнате 18 Арбузов уже хвалил молодого Александра Вампилова за глубину и актуальность характера Зилова в «Утиной охоте». Берта, любившая творчество Вампилова, про себя обрадовалась такому развороту и надеялась услышать его ответ, но сделать этого не удалось, потому как Любовь Филипповна, грязно выругавшись, села в кровати:
– Опять эта полоумная. Из твоих, театральных, невменяемых. Вот уж где горе-то от ума!
– Пусть ходит, Люба, – приподнялась с подушки Берта. – Она себя тем самым успокаивает. Наталья Марковна считает, подобные беседы – главное для нее спасительное средство. Не таблетками же травить.
– Нет! – громким шепотом ярилась Любовь Филипповна, – нет, не пусть! Пусть не ходит! Нужны таблетки! Пуды таблеток! Чтоб дрыхла сутками! Бездарь твоя Наталья Марковна! Экономит на всех и каждом! Сидит здесь для проформы, неизвестно, за что зарплату получает. Элементарного фарингосепта не прописала, когда у меня трахеит открылся. Ноги повыдергать твоей Софье Тимофеевне! Чтоб не ходила! И язык! Дать по башке ее же клюшкой!
– Откуда такая кровожадность, Люба? Вот ты поешь по два раза на дню, трахеит, не трахеит, тоже, знаешь ли…
– Ты что сравниваешь?!
Берта, спохватившись, с кем имеет дело, подумав: «Не тронь гэ…», вернула голову на подушку. Но сон окончательно от нее улетучился. Переместившись со спины на бок, закрыв голову половиной подушки, она попробовала убаюкать себя воспоминаниями о счастливой жизни с Симочкой. Но в памяти отчего-то всплыли теткина смерть и предсмертная неделя. «А ведь неспроста, – подсчитав в уме даты, внутренне ахнула Берта, – через две недели ровно сорок лет, как ее нет. Завтра же отпрошусь у Цербера заранее на кладбище».
Тогда, в мае семьдесят второго, вернувшись с похорон в опустевшею квартиру, Берта с невообразимой силой осознала, кем была для нее Симочка. Для всех, кто ее знал, Симочка была ангелом. А для самой Берты – архангелом. «Непостижимо, – лежала и думала этой ночью Берта, – при моем столь взрывоопасном характере мы с ней за всю жизнь по-настоящему ни разу не поссорились. Это, конечно, исключительно ее заслуга. Сумела отлюбить меня за мать и отца так глубоко и сильно, что никогда, ни разу в жизни, я не почувствовала их отсутствия. Ах нет, был все же один случай. Тот мальчишка с вечнозеленой соплей под носом, из соседнего дома. Мне было где-то восемь, ему, кажется, чуть больше. Выговор буквы „р“ был у него чрезвычайно ярко окрашен, оттого его выкрики звучали для меня особо оскорбительно. Он кричал мне вслед, шумно захлебываясь густой соплей: „Племяшка-сирротинушка!“ Помню, даже дралась с ним, а как-то, не догнав, пришла домой заплаканная. Сима допытала меня, откуда эти слезы, молча оделась, взяла за руку, сказала: „Идем“. Велела сесть на скамейке в палисаднике за домом и ждать ее. Минут через пять притащила этого обалдуя за шиворот к скамейке, поставила передо мной, хорошенько встряхнула, склонившись над ним, спросила: „У тебя есть мама, мальчик?“ – „Есть“, – пробурчал он, дергая плечом в попытке освободиться от ее руки. „И папа вернулся живым с фронта?“ – „У моего папы была бр-р-ронь, он ценный пар-ртийный р-р-работник“, – растерев пальцем соплю, выдал тот короткую злую дробь. „Так вот, – наклонилась над ним еще ниже Сима, – передай своему бр-р-ронированному папе, а заодно маме, чтобы они купили тебе носовой платок. И никогда больше не болтай лишнего своим паршивым языком“. Она отпустила ворот его куртки. Он оставался стоять еще какое-то время на месте, уставившись в землю, одергивая вельветовую куртку, думая, что основная проработка впереди, а Симочка на самом деле все уже сказала. Рука ее замерла над его плечом, у нее было такое лицо… будто она хочет вытереть об него руку. Но она, конечно, этого не сделала. Не дождавшись дальнейших нравоучений, он сорвался с места и был таков. Мы молча пошли домой. Больше она никогда вслух не вспоминала об этом эпизоде. Мальчишка после проработки не прекратил меня дразнить, и сопля у него под носом не исчезла, но непостижимым образом мне перестали быть обидны его выкрики. У Симочки, кроме таланта актрисы, определенно был талант бескорыстной ко мне любви. А я… сколько же я недодала ей при жизни…»
Сама Берта обладала феноменальной способностью погружаться в воспоминания до такой степени, что, кроме непосредственных событий, к ней возвращались звуки, запахи, оттенки и полутона прошлого, окутывая ее с головы до ног. Теперь она сидела у теткиного изголовья, держала ее за руку и тихонько с ней разговаривала. В комнате стоял лекарственный дух, портьеры, несмотря на вторую половину мая, были наглухо задернуты, мягко горела настольная лампа под шелковым золотистым абажуром. Всего-то неделю назад тетка обещала, что непременно встанет, но сегодня голос ее через каждое слово съезжал на шепот, а рука была почти невесома и прозрачна. На кухне один за другим роняла столовые приборы Анна Егоровна. И Симочка шептала с частыми передышками, сокрушаясь по поводу ее древности: «Какая потрясающая верность нашему дому, Бертушка… нашему устоявшемуся быту… памяти об Алексее Яковлевиче, а ведь ей, если не ошибаюсь… девяносто два. Только вдумайся в эту цифру. И три раза в неделю… как „Отче наш“… пять остановок на троллейбусе».
Из Ленинграда приехала, взяв недельный отпуск в театре, все еще работающая там на полставки Зинаида Яковлевна. Берта, открыв ей дверь, с порога внутренне ужаснулась, как та постарела, уменьшилась в размерах, словно усохла. «Чего ж я хотела, – принимая у нее из рук сумку с вещами, подумала Берта, – не виделись почти десять лет, а ей между тем уже за семьдесят пять». На кухне Зинаида Яковлевна безостановочно плакала, под укоризненными взглядами Анны Егоровны всячески пробовала взять себя в руки, наносила на щеки и нос рассыпчатую пудру «Рашель», дрожащей рукой подкрашивала морковной помадой губы и шла к Симочке в комнату. Там старалась казаться веселой, пыталась рассмешить. Берта, понимая, что им необходимо пошептаться, оставляла их вдвоем, хотя знала, как быстро Симочка устает. Один раз Зинаида Яковлевна позвала в комнату Берту:
– Хочу вас обеих, девочки, немного повеселить. Расскажу вам приватную историю, которую поведал нам на внутритеатральном банкете Товстоногов. В одну из своих заграничных поездок он оказался в предместье Лондона в гостях у некоего лорда. Сидели тет-а-тет в зале, вели задушевный разговор об искусстве, как вдруг раздался телефонный звонок, лорд извинился и вышел. Георгий Александрович остался в зале с двумя лежащими у камина королевскими догами. Тут наш дражайший режиссер почувствовал, что хочет в туалет, поднялся выйти, но доги дружно зарычали, преградив ему дорогу. Ему ничего не осталось, как сесть на место, и именно в этот момент он издал неприличный, надеюсь, вы догадываетесь какой, звук. В тот же миг доги, как ошпаренные, выбежали вон из зала. Товстоногов, естественно, пришел в полное недоумение. Возвратился лорд, Георгий Александрович изложил ему происшедшее. На что лорд сухо ответил: «Я долго отучал их от этого, внушал, что это неприлично, ругал на чем свет стоит. Они подумали друг на друга, и им стало стыдно».
– Смешно, – тихо произнесла тетка, в лице ее возникла вымученная улыбка, она потянулась рукой к лицу Зинаиды Яковлевны: – Дай я тебя поцелую, Зинуша, и шепну кое-что.
Зинаида Яковлевна наклонилась, и Берта, не успевшая выйти из комнаты, расслышала:
– Я очень любила твоего брата, Зинуша, может, там встретимся?
– Не смей, Сима, слышишь, не смей, тебе рано…
– Не-ет, не рано, – еще тише прошептала тетка, – не рано.
Уезжая домой после похорон, Зинаида Яковлевна оставила немного денег. Сказала, что это лепта на памятник. Но на мало-мальски приличный памятник нужно было раз в десять больше. Впервые ложась спать в совершенно опустевшей, осиротевшей без Симочки квартире, Берта испытала смертный ужас. Три ночи до этого она кое-как перемогалась, зная, что за стеной в гостиной лежит, вздыхает Зинаида Яковлевна. Этой же ночью Берту бросало то в жар, то в холод, она не понимала, приснился ли ей сон или было то видение наяву. На край ее кровати присела и заговорила Симочка:
– Прошу тебя, Берта, не нужно никакого помпезного памятника. Пожалуйста, самый скромный. И ничего страшного не случится, если ты снесешь по осени в комиссионный мою шубку из котиков. Это всего лишь шкурки животных, не стоит считать их неприкосновенным золотым запасом. Носить сама ты ее вряд ли станешь – фасон и размер не твои, – а отдавать на откуп моли тем более не стоит. Вполне сможешь выручить за нее рублей двести. Да, вот еще что, ты не тоскуй по мне, деточка. У меня все хорошо. Правда-правда. Мне пообещали скорую встречу с Алешей. Надо будет только пройти несколько необходимых процедур, разглашать суть которых я не имею права. Я вовсе не умерла, как ты подумала, просто перешла в другое существование, и я непременно буду навещать тебя. Главное, береги себя, свой талант береги. Ты, бесспорно, необыкновенно талантлива. И еще, ни в коем случае не оставайся одна. Одиночество подтачивает, размывает душу, как вода речные берега.
В начале октября Берта упаковала в чемоданчик шубку и поехала в Столешников переулок. В тамошнем комиссионном обнаружилась небольшая очередь, преимущественно из божьих старорежимных одуванчиков. Берте даже стало неудобно за свою молодость. Работу вели одновременно две приемщицы, контрастирующие друг с другом, как матерый прокурор с начинающим вкрадчивым адвокатом. Одна из старушек волновалась заметно больше других, явно желая попасть к приемщице-адвокату. «Внучке на кооператив нужно добавить, – бормотала она, заискивающе заглядывая в глаза двум сидящим по сторонам от нее соседкам. – Ох, нужно». Соседки, уставившись каждая перед собой, думая о своем, индифферентно кивали. Говорливая старушка нервничала, очевидно, неспроста. Однако по известному всем закону ее очередь подоспела, когда освободилась приемщица-прокурор. «Вы, по-моему, торопитесь? – в отчаянии повернулась она к соседке справа. – Я могу пропустить вас вперед». – «Нет уж, благодарствую», – ответила та, крепче прижимая к животу большой из серой бумаги сверток, перевязанный бечевкой аналогичного цвета. «Не задерживайте, гражданка, через тридцать минут обед», – угрожающе пробасила прокурор-стервоза, коротким жестом вправив на место шиньон, просвечивающий сквозь густо залакированную бабетту «Брижит Бардо». Делать нечего, старушка поднялась, споткнувшись два раза на ровном месте, подошла к прилавку, трясущимися руками выложила шубку из светло-серой каракульчи. В глаза бросалось, что мех от времени потерял гибкость, шубные борта отчаянно топорщатся колом. В эту минуту Берте припомнилась рассказанная некогда Зинаидой Яковлевной петербуржская история о том, как в зените своего правления Николай Второй одаривал выпускниц Смольного института изумительного качества лисьими шубами. «Так вот, одна из них, огненно-рыжая, просто красавица (в ушах Берты зазвучали знакомые интонации Зинаиды Яковлевны), спустя полвека попала по случаю в реквизит БДТ. Шуба эта, уж поверьте мне, девочки, выглядела куда лучше любых новых, и одна из наших ведущих актрис втайне неоднократно выпрашивала ее у меня для свиданий с итальянским послом».
Между тем приемщица, почти не глянув на предоставленную старушкой шубу, огласила приговор:
– Рукава на сгибе и по канту лысые, износ семьдесят процентов, такие не принимаем.
– Где же износ, где? – дрогнул голос старушки.
– В Караганде, – как бы сама себе ответила приемщица без выражения, отодвигая шубу в сторону старушки. – Следующая.
– Вы же посмотреть как следует не успели, шуба почти новая.
– Послушайте, гражданочка, – приемщица согнулась в том месте, где у нее подразумевалась талия, растекшись обширной грудью по прилавку, – она такая же новая, как ваша жизнь.
Старушка заплакала, заталкивая шубу обратно в сумку. Руки окончательно отказывались ей служить.
Берта не выдержала:
– Где я нахожусь?! В комиссионном или в подвалах НКВД? Кирзовыми сапогами на колхозном рынке вам торговать! На другое вы не годны!
Не дослушав ответного демарша приемщицы, она стремительно покинула комиссионный. В переулке развернулась идти к улице Горького, но передумала и направилась к Петровке. Она была неожиданно рада, что не пришлось вынимать из чемодана бывших морских котиков. Не стерпела бы она дурного слова в сторону Симочкиной шубки. Раскрой только рот эта бесформенная беспардонная глыба, рука бы не дрогнула залепить ей пощечину. «Ничего, Симочка, ничего, – следуя по Петровке к проспекту Маркса, обращалась Берта вслух к тетке, – из твоих котиков я сошью себе на память жилетку, а денег одолжу в театре, буду отдавать потихоньку, лишних капроновых чулок себе не куплю и помады, но без памятника ты не останешься. Правильно местные старожилы называют этот чертов переулок „Спекулешников“!» В эту минуту за спиной у нее раздался негромкий бархатный голос:
– Постой, красавица, не спеши.
Берта оглянулась.
За ней шла худенькая, в коротком сиреневом плаще поверх малиновой юбки до пят, черноволосая женщина и, вытянув вперед руку, взывала:
– Не торопись, красавица, подожди.
Ее собранные в разболтанный пучок увесистые волосы украшал перламутровый гребень, чем-то она походила на отбившуюся от табора цыганку. «Откуда здесь цыгане, просто для столицы нетипична, на роль пушкинской Земфиры подошла бы, будь помоложе», – подумала о ней Берта и остановилась. Женщина нагнала ее, неотрывно глядя ей в лицо, продолжила:
– Вижу, не договорилась ты с приемщицами, сколько за товар хочешь? – В ее роскошных овальных глазах плавился на осеннем солнце горький шоколад.
– Вы даже не знаете, что у меня, – поразилась Берта.
– Э-э, у такой красавицы плохого не бывает, давай отойдем, на товар посмотрим, приценимся. – Настойчиво взяв Берту под локоть, женщина повлекла ее в ближайшую подворотню Петровки.
– Да вы что, в самом деле? Почему я должна верить в ваши благие намерения? – возмутилась Берта, пытаясь высвободить локоть.
– Ничего не бойся, красавица, не видишь, я одна, никто тебя пальцем не обидит, я добрая.
Тут Берта впрямь усомнилась: «Что может сделать со мной среди бела дня эта хрупкая женщина, ограбить, убить? Возможно, это шанс продать шубу».
Когда дошли до подворотни, напор незнакомки стих за ненадобностью. Берта поставила чемодан на асфальт, бодро щелкнула латунными замочками, достала и элегантно накинула на себя шубу.
– Яй-яй-яй, красота ты моя, – зацокала языком женщина, оглаживая шубные борта, – чистый шелк. Сколько за нее хочешь?
– Двести пятьдесят рублей, – окончательно осмелела Берта.
Женщина расстроилась:
– Нет у меня столько, милая. – И запела грудным речитативом: – Уступи, голуба, уступи, за двести отдай, двести – хорошая цена, проценты не вычтут, ждать не надо, деньги сразу получишь.
Коротко подумав, Берта согласилась. Тогда женщина извлекла из внутреннего кармана плаща сложенную во много раз нейлоновую сумку, взмахнула ею, как скатертью-самобранкой, ловко утрамбовала туда шубу, сумку перевесила через плечо. Из противоположного потайного кармана, расколов английскую булавку, достала небрежно сложенную пачку десяток:
– Деньги отсчитывать буду, внимательно смотри, ничего не пропусти. – Она наклонилась над раскрытым чемоданом, снизу продолжая неотрывно смотреть Берте в глаза, звонко щелкнула в воздухе пальцами, и одна за другой в чемодан полетели желто-рыжие десятки. – Восемнадцать, девятнадцать, двадцать! Пересчитывать станешь?
– Зачем? – удивилась Берта. – Я за вами внимательно следила, все правильно.
– Верно, верно. – Негаданная ее спасительница распрямилась и с ног до головы обласкала Берту шоколадно-вишневым взором. – Такую красавицу обманывать грех. Ты, случаем, не артистка? Красивая больно. Теперь слушай, что скажу за то, что в деньгах уступила. Скоро, совсем скоро любовь свою встретишь. Короткая будет, а на всю жизнь. Поняла? Иди теперь.
Берта шла домой налегке, в хорошем расположении духа, размахивая чемоданом. В денежно-бытовом отношении ночной завет Симочки был исполнен. Вопрос с памятником практически решился. Что же касалось жизни личной, то странному предсказанию незнакомки вряд ли стоило верить. И еще одна мысль смутно-отдаленно мелькала в сознании: почему за время торгов в подворотню не вошел ни один человек?
Дома на дне чемодана она обнаружила двадцать мятых рублевых бумажек.
Глава 16. Родительский день
Сергей пригласил друзей посмотреть подводные съемки, сделанные в Индийском океане на Мальдивах. Ни Алексей, ни Кирилл ничем подобным этим летом похвастать не могли.
– С почином тебя. Первая заграничная ходка и сразу вон аж куда. – Переступив порог, Алексей от души пожал Сергею руку.
– А толку? Из бунгало почти не выползали, – комментировал поездку, пропуская их в комнату, Сергей, – отжала меня Зоська в этом бунгало по полной программе.
Он заметно был счастлив поездкой, но нагонял на себя эдакий бравадный пофигизм.
– В океан, однако, занырнуть успел. Или не ты снимал? – Кирилл рассматривал, взяв со стола, новенькую камеру Canon, приготовленную для демонстрации отснятого материала.
– Как же не я? Три раза в полной экипировке.
– Давай не томи, подключай уже.
Сергей через разъем подключил камеру к ноутбуку. Они устроились поближе к экрану. Перед ними поплыла гряда огненных кораллов, послышались диковинные звуки подводного мира.
– Хочу музыкальный фон попробовать наложить, негромкий, как думаешь, трубач?
– Вивальди можно или Марчелло Алессандро, – одобрил идею Алексей.
У Кирилла в этот момент зазвонил телефон. Он ждал звонка Кати, вышел поговорить в коридор. Света накануне сообщила, что мать Кати в больнице, по какой причине – неизвестно. Катя собиралась к ней ехать. Он предложил съездить вместе, она категорически отказалась. По-прежнему упорно не рассказывала ему об отношениях с матерью. Он не настаивал, в душу к ней не лез. Сам не любил распространяться о родителях. Оказалось, звонит не Катя, а его собственная мать:
– Кир, возвращайся домой, я соскучилась.
– Исключено. Я не один, ты же знаешь. Потом, жилье оплачено на месяц вперед.
– Брось, Кирю-юш. Все это несерьезно. Так, пробный шар. Побаловался пять месяцев – и хватит.
– Хочешь, чтобы я вырубил телефон?
– Не хочу.
– Тогда зачем начинаешь?
Мать тихо вздохнула:
– Давай хотя бы увидимся, посидим где-нибудь, как раньше.
– Сейчас?
– Да. Соскучилась по тебе ужасно.
На этих материнских словах открылась дверь в квартиру, и на пороге нарисовалась сестра Сергея Зоя, одетая, несмотря на лето, во все черное. Веки ее до бровей были также черны, отчего казалось, на ее худеньком бледном личике, кроме глазных провалов, ничего больше нет. «Здравствуйте, Кирилл», – проходя мимо Кирилла, прошелестела она бескровными губами столь скорбно, что впору было подумать, она не здоровалась, а прощалась со всем живым.
– Кирилл, ты меня слышишь? – спросила мать.
– Слышу, – с невнятной душевной тоской о бренности мира ответил Кирилл, глядя вслед Зое. – Ладно, давай встретимся, только ненадолго. – Он пытался сохранять в голосе строгость. – Если не будешь внедряться в мою жизнь.
– Я постараюсь.
– Не «постараюсь», а обещай.
– Хорошо, обещаю.
Проводив Кирилла, Сергей вернулся в комнату. Стали с Лехой досматривать съемку.
– Кира сказал, вечером заедут вместе с Катериной. Продублирую им на бис. Не ожидал от него, что бросит свою малину с клубникой и уйдет в такую дыру.
– Не такая, значит, малина, раз ушел, – ответил Алексей. – С отцом вечные терки. А потом, лямур-тужур, куда денешься?
– Да уж. – Сергей выключил камеру и ноутбук. – Ну а твой как? Работу нашел?
– Не-а. – Алексей пересел от стола на диван, закинул руки за голову, вытянул вперед ноги. – Торчит дома целыми днями. Купил на «Горбушке» диск с «Клубом знаменитых капитанов», слушает, ностальгирует. Я к нему вчера вечером в комнату зашел взять кое-что, он сидит в наушниках на диване, плачет, подушкой в меня швырнул, что я его засек.
– Что за хрень?
– Ты, похоже, совсем забетонировался, десант. Почему обязательно хрень? Радиопередача его детства. Я, говорит, может, благодаря этой передаче журналистом стал настоящим. Не подлецом-журналюгой, а именно журналистом. Улови, сын, разницу. В общем, совсем раскис батя. Депрессует по-черному. Шестой месяц пошел. – Алексей стал тихонько насвистывать мелодию.
– Что свистишь? – поинтересовался Сергей, бережно пряча камеру в чехол.
– Заставку к «Клубу». Я ее наизусть выучил.
– Слова там есть?
– Угу.
– Так включи слова, трубач, – снисходительно хмыкнул Сергей.
Убрав камеру в стол, подойдя к зеркалу, он внимательно изучал начавший бледнеть на шее засос.
Алексей принялся легонько отстукивать ритм мысками в тапочках:
В шорохе мышином, в скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц, шелестят кафтаны, чей там смех звенит, все мы капитаны, каждый знаменит.– А чего, прикольно. Особенно это: «медленно и чинно». – Развернувшись к зеркалу боком, Сергей нижней частью тела произвел соответствующие совокуплению движения.
– Узнаю излюбленную твою аранжировочку, – скептически усмехнулся Алексей. – Там дальше для тебя есть спецтема: «Обнажаем шпаги за любовь и честь».
Сергей присел рядом, приобнял Алексея, оттопырив нижнюю губу, со значением покачал головой:
– Весо-омо. Я ж говорю, гимн половой любви. Эстет твой пахан, гурман утонченный.
– Ты о чем-нибудь другом можешь?
– Не-а, после бунгало не могу. Скинь ссылку, Зоське исполню, может, и у нее слеза вытечет, еще один пиджачок от «Ланвен», ну или от старичка «Армани» на плечи мне ляжет.
Алексей совсем сник.
– Чего скис, брателло? – хлопнул его по спине Сергей.
– Отстань, клоун, – дернул плечом Алексей. – Смотрю, злым и алчным дельцом заделался окончательно.
– Ты серьезно? Моральный кодекс включил?
– Да при чем здесь… – Алексей встал, подошел к окну, вложив руки в карманы джинсов, начал покачиваться с мысков на пятки, глядя на улицу.
– Брось, трубач, я не злой, я умный. – Теперь Сергей искал что-то в шкафу. – При моем семейном раскладе ловить момент нужно. Когда еще жизнь такой шанец подкинет. Знаешь, что такое по-немецки «шанец»? Укрепление, окоп – вот что это такое. Мне свой окоп оборудовать и экипировать нужно срочно.
– Шмотьем?
– В том числе, ты думал? Дресс-коды в злачных местах никто пока не отменял. Хотя шмотки – так, второстепенка. Конечная цель моих с ней сексуальных подвигов – квартира.
Облачившись вместо снятой рубашки в майку с надписью Maldives, он встал рядом с Алексеем, тоже стал смотреть на улицу.
– Надо успеть, трубач. Отец с сеструхой задолбали. Отец насквозь провонял бензином, эта чума болотная ночами бродит по квартире. Лунатизм у нее, что ли? Два раза чуть в кухонное окно не выпорхнула, чудом поймал. Заколебала в отделку. А вроде и жалко ее. Объяснял неоднократно – карму суицидом себе изгадишь, в следующей жизни родишься десятой рабой в гареме, ноги потному султану станешь мыть. Этого хочешь? А она: «Хочу к маме, хочу к маме, я бы там с ней встретилась». Весь мозг выела, дура.
– Совсем она не дура, – смягчился Алексей. – Я с ней по телефону на днях разговорился, она восприимчивая просто очень. Я таким был лет до шестнадцати, потом заматерел.
– Да не заматерел ты ни хрена, таким же остался.
– Ну, может быть, – не стал спорить Алексей. – Ты встань на ее место, каково с рождения без матери?
– Да уж, бабка хорошо мозги ей растрясла. Накормит из бутылочки и давай трясти как полоумная. Наш первый класс не забыл? Вы с Кирой в шоколаде, я в полном дерьме. До сих в ушах стоит, как отец с ней ругался: «Вера Спиридоновна, зачем вы так трясете девочку? Дайте я сам ее уложу». А она вылупится и шипит: «Ты мне не указ, ребенок скорее так засыпает, у меня нервы не железные, я слабый больной человек, меньше пить тебе надо». Швырнет Зойку в люльку, уйдет на кухню и воет там сиреной: «Ты мою дочь угробил, зачем понадобился еще ребенок, мало вам одного оглоеда, нашли время рожать, когда жрать в стране нечего, медицина прогнила, без взятки не сунься, под суд их не отдашь, в продуктовых за колбасой очереди». Так два года, пока отец архитектуру не задвинул, в автосервис не подался. Только когда Зойку в ясли пристроили, она от нас соскочила. У меня, когда за вами матери к школе приходили, зубы сводило, драло в носу и глазах, но я виду ни разу не подал. После школы у вас военные кафедры, отсрочки, а я сам знаешь в армию, потом к отцу в автосервис. Думаешь, предел мечтаний? Зойке, кроме жратвы, носить нужно было что-то? Так что не тебе, трубач, шить мне злость и алчность. Я в нищебродах походил выше крыши.
– Да понял я, понял, – опустился с мысков на пятки Алексей.
– Ладно, извини за резкость.
– Чего уж!
– Слушай, я тебе историю с хреном рассказывал?
– С каким?
– С моим.
Они продолжали стоять у окна.
– Не помню.
– Да-а, я тогда вроде Кире только успел. Дело два года назад было, летом. Когда горело все. Я из армии только вернулся. Жара жуткая, я, короче, спал голый, под одной простыней. Ну, с утра законно хрен стоит, и типа холм под простыней образовался. А спим-то с Зойкой в одной комнате. Она проснулась, холм увидала, подошла, потрогала, как заорет: «Папа, папа, Сережа заболел, Сережу спасать надо!» Заплакала, потом в голос зарыдала. Стресс с ней по ходу приключился, аж температура поднялась. Мы с отцом растерялись, сказать что – не знаем. Трындец, короче. Хорошо, отец догадался знакомую докторшу из поликлиники вызвать. Та пришла, уединилась с ней, капель вонючих налила, кое-как успокоила, потом нас с отцом отозвала и говорит: «У девочки важный этап полового созревания, ей спать в одной комнате с мужчинами вредно. Вы как-нибудь потеснитесь, предоставьте ей отдельную комнату. И помягче с ней, а то ей душу излить некому, в ее возрасте необходимо иметь хоть одно доверенное лицо». Раньше, в мохнатом веке, были типа семейные доктора, а теперь поточный метод, суицидов много среди подростков. И ушла. А я думаю: какие, на хрен, семейные доктора? Отцу, получается, вообще никого в дом не привести.
– Отец сейчас один или есть кто-нибудь? – окончательно смягчился Алексей.
– А-а-а, – махнул рукой Сергей, – каждые две недели свежую жертву приводит. Где он только берет этих кикимор увядших? Каждый раз одна и та же байда. Кончай, говорю, им всем подряд свою историю втюхивать. Они не того от тебя хотят, у них своего дерьма навалом, им внимания надо, ласки, а ты им, как твою жену в роддоме угробили, и остался ты несчастным вдовцом с двумя детьми. После таких аргументов жалко тебя, и все, никакого интима ни одна не захочет.
Кирилл увидел мать в окне кафе, она тоже его заметила, махнула ему рукой. Похоже, она была только что из парикмахерской. Кирилл подошел, она по-молодому тряхнула свежей стрижкой, подставила щеку для поцелуя. У Кирилла засосало под ложечкой от ощущения дежавю из детства. Он коротко чмокнул ее в щеку.
– Отец о тебе вчера снова спрашивал, – сказала мать, когда Кирилл сел за столик.
Дежавю его тут же улетучилось.
– Ну да, нужен я ему сто лет.
– Зря ты так. Он любит тебя.
– Мать, давай обойдемся сегодня без сказок. Горбатого могила исправит.
– Он твой отец, имей снисхождение.
– Правильно, он об тебя вытирает ноги, а ты снисходишь. Снизошла ниже плинтуса.
– Нет, Кирилл, он в последнее время изменился. Сказал, если придешь, объяснишься с ним, именно придешь, а не по телефону, он готов…
– Можешь не продолжать, – оборвал ее Кирилл, – ничего нового. Хочет чувствовать себя вершителем судеб. Я ему этого удовольствия не доставлю, пусть не надеется.
– Смотри, – мать протянула ему левую руку, – он мне вчера новые часики подарил, «Картье».
– Рад за тебя, – кивнул Кирилл.
– Кир, я тут принесла… – Она закопошилась в сумочке, выложила на стол стопочку пятитысячных купюр, придвинула к Кириллу. – Себе и девушке своей купи что-нибудь, раз ты так к ней привязался. Потом, хорошо бы вам куда-нибудь съездить отдохнуть, пока лето не кончилось. У тебя все-таки пятый курс на носу. – Поверх купюр она положила банковскую кредитку.
Кирилл отрицательно помотал головой:
– Некогда нам отдыхать. Мы оба делом заняты.
– На голодном пайке сидишь? Похудел, осунулся. Она готовить-то умеет? Студентки же эти даже картошку почистить не могут.
– У нее есть имя, Катя.
– Хорошо, Катя. Она из приличной семьи, твоя Катя?
– Слишком много вопросов. – Кирилл начинал заводиться.
– Все, больше не буду.
Но Кирилл уже завелся:
– Это как, приличная семья? Может, наша эталон?
– Эталон не эталон, а я тобой горжусь. Да, горжусь и не скрываю этого!
– Кончай, мать, с этим гнилым пафосом.
– С тобой трудно говорить. Ты стал совсем чужим.
– Чужим я стал давно. Просто ты заметила это только сейчас. Так что ты вкладываешь в понятие приличной семьи?
– Я исключительно в интеллектуальном смысле.
– Ах, да-а-а, у тебя, помнится, был красный диплом, и когда-то с интеллектом было все в порядке… – Опершись локтями о стол, он придвинулся вплотную к ее лицу: – Но твоя жизнь сейчас полный тупизм.
– Не будь фашистом, Кирилл, тебе это не идет.
– Ладно, пустое. – Кирилл откинулся к спинке дивана. – Наличку, пожалуй, возьму, спасибо. Кредитку нет, не хочу расслабляться.
Мать убрала кредитку в сумку:
– Ты знай, это твоя персональная, если понадобится, в любой момент позвони. Может, познакомишь с Катей?
– Не время. Как-нибудь потом.
– Хорошо, настаивать не буду. Ты ко мне на день рождения придешь?
– Приду, куда я денусь. Надеюсь, не в «Турандот» будешь отмечать?
– Пока не выбрала, но точно не в «Турандот». Я вот еще что хотела сказать, Кирочка. – Мать посмотрела на него глазами больной собаки. – Ты только не презирай меня, ладно? Не все же сильные. Тебе трудно понять, может, совсем невозможно, но я не могу без него. Я как жертва вампира, из которой сосут кровь, а она без этого не может. Я очень люблю тебя, Кирилл, больше всех люблю на свете, мне без тебя не представляешь, как плохо, но он – моя молодость, двадцать пять лет жизни. Там было не только дерьмо, было кое-что другое. Начинать жизнь с нуля в сорок восемь – не для меня.
– Ладно, – сказал Кирилл, – твоя жизнь.
Нелюбовь к ресторану «Турандот» возникла у Кирилла в прошлом году, после того как отец отметил там свое пятидесятилетие.
В китайский мандариновый рай на Тверском бульваре отцом был приглашен основной костяк сотрудников его компании. Кирилл выдержал примерно час, но и часа ему хватило получить мощную импрессию. Особо впечатлили Кирилла юрист Нина Аркадьевна и неразлучная тройка менеджеров среднего звена. Полноватая, лет под сорок, Нина Аркадьевна, в облегающем, выше колен платье и с пышно взбитыми кудрями, сидела напротив отца, неотрывно смотрела на него кричаще-плотоядным взором, периодически слизывая с губ сочную помаду, высовывая пятки из туфель. Казалось, она вот-вот сорвет с себя платье, устроит жесткий стриптиз на столе или, без всяких прелюдий, сядет к отцу на колени и приступит к активной тактильной атаке. Тройка же менеджеров, дружно опрокинув по третьей рюмке, подсосав мяса из омаровых клешней, встала, синхронно поправила галстуки и продекламировала «Заздравную риелтору» – продукт их совместного, как понял Кирилл, творчества:
Профессий много на земле, Но впереди всегда риелтор! В столице и в любой дыре Расселит и укажет вектор, Куда идти, куда бежать, Как приумножить свои метры, Где ипотеку лучше взять, Чтоб сохранить при этом нервы. Как врач зубной, как окулист, Он делает свою работу. В одном лице юрист, артист, Скор на ногу и на заботу О тех, кто жесткою судьбой, Родными загнан в угол тесный. О нет, не дремлет наш герой, Придет на помощь повсеместно. Да пусть же славен будет он, Риелтор – всех времен трудяга! А наш директор – чемпион, Получит орден за отвагу!После чего тот, что стоял в центре троицы, откинув прядь искрящихся в электричестве волос, жестом факира извлек из-под стола золоченый орден, прикрепленный к алой бархатной подушечке. Подняв орден над головой в вертикальном положении, он обвел им присутствующих. Награда (Кирилл успел разглядеть) имела персональную гравировку, где цифра «50» оплеталась витиеватыми, под стать здешнему китайскому барокко, отцовскими инициалами. Под аплодисменты отец вышел из-за стола, сосредоточенно принял орден на грудь. Присутствующие продолжали аплодировать стоя. Нина Аркадьевна прослезилась. Кирилл тихо сбежал.
Мать лежала лицом к больничной стене. Катя сидела рядом на стуле, тоже глядела в бледно-бежевую, с проступающими неровностями шпаклевки стену. «Полумертвая краска, – мелькало у нее в голове, – неужели нельзя было выбрать другую, о больных бы подумали». Две соседки по палате, не обращая на них внимания, обсуждали рецепт приготовления домашней вишневой наливки.
– Ничего мне не надо. Слава мне все принесет, – произнесла мать, не меняя позы.
– Понятно. Как хочешь, – ответила Катя.
– Все равно я тебе не верю. – Мать съежилась, подтянула к лицу одеяло. – Ты злая, бесчувственная. Нашла, как отомстить, наговором. Можешь радоваться, мне все удалили, теперь я не женщина.
У Кати заныло под ребрами. Она перевела взгляд на материнский затылок, на слежавшиеся волосы, давно не крашенные, с проступающей в несвежем проборе сединой. Кате подумалось: «Полгода назад у нее не было столько седины». И резко захотелось наклониться, прошептать матери в ухо: «Чему радоваться? Да, ты не женщина! Совсем не потому, что тебе все удалили. Что должно еще тебя шарахнуть, чтобы ты прозрела?!» Она дернулась к кровати, на нее пахнуло лекарством и чем-то из детства, еле уловимым, и мгновенно острые молоточки застучали в висках: «Нельзя, нельзя, нельзя, пожалей ее».
– Ладно, пойду, если тебе ничего не надо.
– Иди. Не знаю, зачем приходила. – Мать не шелохнулась.
Катя медленно шла к выходу из отделения. Тяжесть из груди и живота расползалась вниз по телу. Двери палат из-за летней духоты были раскрыты. Катю влекло заглядывать в каждую палату, в неведомую чужую жизнь. Некоторые женщины читали, лежа или сидя на кроватях, иные разговаривали, кое-кто ел из пластиковых контейнеров принесенное родственниками, у трех в разных палатах женщин стояли капельницы. «Все люди как люди… а эта… как хочет, не надо, так не надо, какая же она… что значит, все удалили… стоп, нужно взять себя в руки, быть сильнее. У меня есть Кирилл, Берта. А у нее?»
Увидев ординаторскую, она остановилась, неожиданно для себя постучала. Из-за двери раздалось: «Да-да». Приоткрыв дверь, Катя спросила:
– Можно узнать о здоровье Романовой из двести пятнадцатой палаты?
В тесной ординаторской почти вплотную друг к другу стояли четыре стола, за двумя из которых сидели доктора. Тот, что сидел ближе к двери, полноватый, с добродушным округлым лицом и аккуратно очерченной лысиной, кивнул, указав ей на стул:
– Присаживайтесь.
Она вошла, села сбоку от стола.
– Дочь?
– Да.
– Хорошо. Операция прошла без осложнений, процесс поймали вовремя, яичники и придатки сохранили.
– Как вас зовут, доктор?
– Евгений Павлович. – Он пальцем указал на прикрепленный к халату беджик.
– Что у нее было, Евгений Павлович?
– Приличное кровотечение, множественная миома, слишком крупные узлы для консервативного лечения, матку пришлось удалить. К счастью, только матку.
– Это опасно?
– Не очень. Лишилась детородной функции, но сорок пять – возраст уже не детородный. Назначим для поддержания гормонального фона кое-какие препараты, надеюсь, все будет в порядке.
– Почему тогда у нее такое состояние? Она говорит, у нее все удалили?
– Угнетенная психика, депрессия. После гистерэктомии явление распространенное. Тут мы не властны, но насколько я помню… – Он вытащил из стопки справа на столе историю болезни, пробежал глазами по медицинским каракулям первой страницы. – Да, правильно, замужем. У замужних женщин по статистике адаптация протекает легче. С отцом своим поговорите, пусть будет к ней помягче, создаст дома благоприятную атмосферу, об операции не напоминает.
– Он мне не отец. Он заходил к вам?
Врач посмотрел на нее долго, внимательно:
– Пока нет. Возможно, собирается зайти.
Голос у него был спокойный, мягкий, весь он как будто источал надежность и умиротворение, напряжение немного отпустило Катю.
– Вижу, вы девушка разумная, – продолжил он, – при необходимости сами поддержать сумеете. У вашей мамы довольно крепкий организм. Теперь насчет анализов… – Он отыскал среди бесчисленных вклеек одну из последних, развернул ее. – СОЭ почти в норме, гемоглобин приличный. Думаю, на следующей неделе выпишем. Раз в полгода наблюдаться обязательно. – Закрыв историю болезни, он припечатал ее пухлой квадратной ладонью. – На ночь сделаем успокоительный укольчик, сон для нее лучшее лекарство. Вот как-то так.
– Спасибо, доктор.
Катя вышла из ординаторской, дошла до туалета, закрылась в дальней кабинке и заплакала.
Глава 17. Цербер
У Кати случился вынужденный перерыв в работе. С середины июня и до осени она была разлучена с Севой – Клотильда отвезла его на каникулы в деревню к своей матери. Денежное обеспечение в летние месяцы целиком легло на Кирилла, он участил разгрузку продуктовых фур для «Седьмого континента». Зато у Кати после сдачи сессии появилась возможность продолжить работу над отцовскими рукописями. Кирилл поощрял ее научное рвение. Несколько раз за лето звонил Сева, взахлеб рассказывал, как петухи дерутся из-за кур, а «куры – та-акие дуры». Катя смеялась. В середине августа позвонила Клотильда, похвасталась, что летит с другом на две недели в Эмираты, проверить крепость чувств, уточнила, может ли рассчитывать на Катю в новом учебном году, после чего не без ревности добавила, что Сева к ней прикипел, ни о ком другом слышать не хочет. Катя подтвердила свое согласие.
Это была Катина идея – вывезти Берту в ресторан.
– Удивительно, – сказала она Кириллу после очередной поездки к Берте, – у нас с Бертой дни рождения оказались в один день – двадцать второго августа. Может, устроим ей праздник, пригласим куда-нибудь? А то смотрит с утра до вечера на одних старперов, света белого не видит. Двадцать второе, правда, среда, ты в ночь работаешь, можно двадцать пятого, в субботу. Только не знаю, какое место могло бы ей понравиться? Как думаешь, Кир?
Кирилл задумал подарить Кате ко дню рождения новый ноутбук и тайно приберегал взятую у матери сумму, но оставить тысяч двадцать на ресторан он мог себе позволить.
– Ты точно этого хочешь? – спросил он.
– Очень.
– Тогда, пожалуй, «Пушкин».
– А денег на «Пушкин» нам хватит?
Он сделал вид, что подсчитывает в уме цены тамошних блюд.
– Хватит, если спиртным до фанатизма не увлекаться.
– Света говорила, рядом с «Пушкиным» есть «Турандот», шикарное место. Правда, я не была ни в «Пушкине», ни в «Турандот».
– Только не «Турандот»! – почти крикнул Кирилл.
Катя удивленно на него посмотрела.
– Чересчур пафосное местечко, зачем лишние понты разводить, – объяснил он, – «Пушкин» гораздо демократичнее, цены там не такие зверские.
– Хорошо, пусть будет «Пушкин», только, пожалуйста, ничего не дари мне тогда, мне ценнее будет, если мы втроем посидим.
– Ладно, разберемся, – ответил Кирилл. – Заранее надо будет столик у окна заказать, чтобы твоя Берта могла Тверской бульвар наблюдать. Придется Серому на своей драгоценной «бэхе» три ходки сделать: с нами за ней съездить, потом отвезти ее назад, чтобы все было красиво.
Кате мечталось организовать Берте сюрприз. С другой стороны, необходимо было предупредить ее заранее. Порядок в заведении был таков: если отпрашиваешься больше чем на три часа, нужно подавать заявление руководству чуть ли не за две недели.
Сейчас Катя ждала Берту у окна в холле второго этажа, пока та собиралась на прогулку. «Сегодня скажу, – решила Катя, – не буду тянуть. Пусть подготовится». Она увидела, как по лестнице поднимается директор интерната. Он вызывал в Кате странные чувства, ассоциировался с выброшенной на берег полумертвой рыбой, шевелящей жабрами редко-редко. «Почему она зовет его Цербер? Никакой он не Цербер, а полудохлый карась – рыбий глаз». – «Опять та же девчонка, – подумал, приметив ее, Борис Ермолаевич, – зачастила. Что их может связывать с взбалмошной бывшей актрисой? Какие могут быть у них общие интересы? Надо ужесточить режим, ограничить часы посещений. Слишком много дал я им свободы. Распусти-ились. Не ценят хорошего отношения. Особенно некоторые».
Как только он ступил на этаж, Катя отвернулась к окну. Стояла теперь к нему спиной, опершись о раму поднятой, почти прозрачной от худобы рукой, облитая мягким августовским солнцем, и вдруг пронзительно напомнила Борису Ермолаевичу его первую и единственную любовь. Его Тасю. Он надеялся, что вытравил из сознания тот страшный фрагмент своей юности. Оказалось, нет.
Его родители поженились за неделю до войны. А забеременеть мать умудрилась, когда осенью сорок четвертого старший лейтенант Ермолай Церазов примчался домой на двухдневную побывку. Мальчик, названный Борисом, родился в июне сорок пятого. За месяц до рождения сына лейтенанта Церазова намертво свалила на окраине Берлина шальная пуля. Борис знал отца по подробным материнским рассказам, скромному наследию из пачки фронтовых писем, трофейного «вальтера П38» и трех фотокарточек. Одна, высокохудожественная, с коричневыми завитками в резных уголках, была сделана в фотоателье в день родительской свадьбы; две другие, скромные, любительские, присланы в разное время с фронта.
Они с Тасей учились в одной школе. Он, годом ее старше, перешел в ту пору в выпускной. Оба были гордостью школы. Мать, увидав однажды из окна автобуса, как они с Тасей вдвоем шли по улице, сказала вечером того же дня: «Похоже, ты однолюб, Борька, как твой отец. Однолюбы сродни белым воронам, встречаются на планете очень редко. Приводи свою зазнобу, погляжу, что за птицу ты выбрал». Когда втроем пили чай, мать в основном молчала, но по ее щедро улыбающимся глазам он прочитал – она признала Тасю, почувствовала в ней свою. Уж он-то хорошо знал этот теплый, лучащийся материнский взгляд. Убрав со стола посуду, мать поставила памятную пластинку сороковых с медленным фокстротом «Звездный свет». «Не стесняйтесь, потанцуйте, а я полюбуюсь», – сказала она. И они танцевали сначала немного смущенно, потом все свободнее под негромкий голос Ружены Сикоры: «О звездный свет, лучистый свет недавних лет, его огнем сегодня вновь душа согрета…»
Неумело целовались они на июньском закате за старой голубятней, под утробное воркование местных жильцов. Голубятню с отборными белыми красавцами держал в конце двора вечно пьяный одноногий дядя Коля. Когда, тихо смеясь, Тася отстранилась от него, он заметил, как ей на плечо легли два маленьких белоснежных перышка. С наивным языческим суеверием он подумал, что это хороший знак, теперь они всегда будут вместе и ничто, кроме смерти, не разлучит их. Вкус ее губ напоминал свежее абрикосовое варенье с косточкой. Проводив ее домой, он неторопливо брел по темноте назад, растворяясь в счастье, то и дело притрагиваясь пальцами к губам, где осталась частица ее аромата. Он не успел вздрогнуть, когда на него навалилась яростная тяжелая масса, зажала рот чем-то горячим, влажным, со жгучим металлическим привкусом, свалила с ног, поволокла в кусты. Удары по ребрам, по голове, по лицу были частыми и сильными, он все никак не отключался, ясно различал голоса: «Мало мне матери-алкашки, еще эта сопля в шлюхи подалась. Ишачишь на них, как папа Карло, а эти суки ничего не ценят. Давай, Витек, стягивай с него портки. Щас глянем, что у него за калибр, чем он твою сеструху оприходовал». Луч карманного фонарика, попрыгав, нацелился сначала ему в лицо, потом резко скакнул ниже пояса. «Думаешь опустить? Петушком сделать?» – «Мараться… теперь он без того морально опущенный». – «Хотя бы за деньги, а то за так, давалка бесплатная». «Да откуда у этого голожопника деньги?» – «Может, укоротим?» – «Да ну его… тяжкие телесные… садиться за эту падаль… запомни, еще подойдешь…» «Хорош, пацаны, бросай его, пошли с ней разбираться. Этот недомерок к ней больше не приблизится, за версту будет обходить».
Он лежал на влажной ночной земле, не чувствуя нижней части тела. Казалось, все, что ниже пояса, ему ампутировали, он превратился в пожизненного инвалида, недочеловека. Он не мог шевельнуть языком, во рту было горячо и солоно, нижнюю губу невыносимо пекло. Ему хотелось оказаться глубоко под землей, чтобы никто никогда больше не увидел его – растерзанного и полуживого. Он не понимал, сколько пролежал вот так, вбирая в себя сырой земляной холод. Все же с рассветом он шевельнулся, с глухим стоном поднялся на колени, потом в полный рост, непослушными руками натянул порванные, в комьях подсохшей грязи брюки, с трудом разлепив губы, сплюнул густым коричневым месивом, зашагал, как пьяный, домой. Стараясь не разбудить мать, прокрался к шкафу, достал чистые брюки, рубашку, второпях переоделся, грязные вещи, скомкав в узел, сунул под кровать. Он спешил к Тасе. Он из последних сил ускорял шаг, пытался бежать, но бежать не давала сильная боль в ногах и ребрах. Как старой тупой иглой по заезженной пластинке шипели, прокручивались в мозгу ночные слова: «Пошли с ней разбираться». «Пусть убьют, – думал он, – я должен быть там, с ней». Наконец он добрался до верхнего этажа ее пятиэтажки, дверь в квартиру оказалась незапертой, он вошел в полумрак коридора, шагнул к комнате, дернул на себя ручку. В пронзительных лучах летнего солнца Тася стояла на подоконнике спиной к нему. Свет солнечного утра делал ее фигурку еще более хрупкой, невесомой. Этот слепящий, бьющий в глаза солнечный свет не дал ему разглядеть ее разорванного почти в клочья платья. От неожиданности он замер, споткнувшись о порог комнаты, успев то ли подумать, то ли прошептать: «Не надо, Тася». Она не обернулась к нему, взмахнула тонкими руками, словно крыльями, и полетела, как ему показалось, сначала чуть ввысь, а потом, прижав руки-крылья к телу, камнем вниз. А он не подбежал тогда к окну – не смог. Присел у двери и тихо заскулил, бесчисленно повторяя это никчемное «не надо, не надо». Порог комнаты с распахнутым в июньский день окном, где никогда не будет его Таси, мгновенно вырос за ним мертвой бетонной стеной, за которую невозможно назад.
Мать срочно тогда занялась обменом. Спустя два месяца она уволилась с работы, они переехали в соседний подмосковный город. С тех пор он вроде бы и не жил, а отрабатывал извечную повинность, что не уберег Тасю. Работал, учился на вечернем, не успевая понять, что стал зомби. Спустя еще десять лет мать сказала: «Нельзя жить одним горем, Борис. Это грех. Нужно взять себя в руки, жениться, рожать детей, я буду хорошей бабушкой». Он промолчал. Через год женился на соседке по дому. Ему было все равно.
За тридцать шесть лет брака он утратил трагическую остроту тех событий, но осталось где-то в подкорке чувство пожизненной платы по счетам за опоздание, терзающее Бориса Ермолаевича извечными ночными кошмарами.
В этот августовский вечер он напился. Сидя за столиком случайного придорожного кафе при заправочной станции, где полупьяная уборщица без национальности и возраста вяло елозила, тыкая ему в ноги, поролоновой шваброй по полу. Домой пришел на автопилоте за полночь. Безнадежно долго копошился ключом в замке. Дверь открыла всклокоченная жена в ситцевой ночной сорочке до пят:
– Это что такое? Где твой телефон? – Изо рта ее веяло валерьянкой.
Следом подтянулась младшая незамужняя дочь:
– Да, пап, ты сегодня чего-то…
Впервые безразличие к жене и дочери сменилось острой к ним неприязнью. Борис Ермолаевич грубо отстранил их рукой с порога квартиры, проследовал в комнату в уличных ботинках:
– И попрошу не трогать меня! Не пересекать без дозволения границ моей территории! – Не сбившись ни единым словом, сорвался он на фальцет, с силой захлопнув перед их носами дверь. Повалился на кровать, как есть в одежде, и уснул почти мгновенно без мучивших его долгие годы кошмаров.
На следующее утро, сев за рабочий стол кабинета в так и не смененных со вчерашнего дня измятых рубашке и брюках, Борис Ермолаевич извлек из выдвижного ящика объединенные крупной скрепкой жалобы Любови Филипповны и швырнул их перед собой. На носу была очередная проверка, необходимо было что-то предпринимать. Активно реагировать на жалобы. Иначе Любовь Филипповна непременно озвучит свои претензии проверяющим. Сейчас он остро осознавал, что совершил отвратительное попустительство. «Надо было пресечь это безобразие осенью прошлого года, нечего было миндальничать», – злился он на себя. Ужасно болела голова, организм требовал горячего чая с лимоном и сигарету. На какое-то мгновение Борису Ермолаевичу захотелось подпалить стопку жалоб пламенем зажигалки, но он одолел крамольное желание, глубоко затянулся обнаруженной в одном из углов ящика сигаретой, вернул зажигалку в карман. Стал перечитывать верхнюю, самую свежую, не обремененную, как и предыдущие, знаками препинания и верным написанием слов:
Уважаемый Борис Ермолаевич!
В который раз довожу до Вашего сведения о безобразном поведение моей соседки по комнате Берты Генриховны Ульрих. Доколи я буду терпеть ее антиобщественные проявления?! В последнее время она заняла своим барахлом не только половину подоконника и основную часть личной тумбочки, а на мое тактичное замечание пригрозила физической расправой (на эту хулиганскую выходку прошу обратить повышенное внимание). Я неоднократно обращалась к Вам (ксерокопии всех писем у меня вналичие) с просьбой очистить жилую территорию от добытого в непристойных местах хлама. С юридической точки зрения уверена Вы на моей стороне. Но этого НЕ достаточно. Ульрих Б. Г. упорно продолжает разводить антисанитарию несовместную со званием образцового заведения в Вашем лице. Помимо прочего это негативно сказывается на моих связках и звучание голоса. А мне если Вы не забыли в скором времене предстоит открывать концерт к Юбилею Интерната.
Хочу напомнить также кроме двух устных раз по существу я никогда не жаловалась на предыдущую соседку. Да! У нас имелись разногласия на жизнь и искусство. Но это оставалось личным делом каждого и не выходило за рамки допустимых пределов. Она не приволакивала в комнату помоечный мусор с различными микробами и вирусами. Учитывая мой преклонный возраст и многолетние творческие заслуги перед Родиной у меня нет ни моральных ни физических возможностей противостоять Ульрих Б. Г. в одиночку. Зашедшая в тупик ситуация ДАВНО нуждается в СРОЧНОМ И ЖЕСТКОМ вмешательстве с Вашей стороны.
П.С. Если я снова столкнусь с бездействием местной администрации следующее заявление с приложением ксерокопий ранее составленных заявлений заказным письмом будут отправлено в вышестоящую инстанцию.
Заслуженная артистка бывшего СССРсейчас РоссииПрохорова Любовь Филипповна.После завтрака Борис Ермолаевич вызвал Берту к себе:
– Итак, Берта Генриховна, кредит моего доверия к вам полностью исчерпан. Вы думаете, мне нечем заняться, кроме ваших междоусобных распрей с Любовью Филипповной? Зачем вам, неглупому, казалось бы, человеку, нужен полуразрушенный глиняный хлам? В чем цель вашего патологического собирательства?
– А вы, Борис Ермолаевич, сделайте милость, объясните, почему ей позволительно держать на подоконнике бумажный пылесборник, доросший почти до потолка? – Берта по привычке оставалась стоять у двери с гордо поднятой головой.
– Да поймите же, вы с Любовью Филипповной пребываете в совершенно разных весовых категориях!
– О-о да, – кивнула Берта, – в Любови Филипповне почти центнер, во мне всего пятьдесят шесть кэгэ.
– Не передергивайте. Своим невразумительным поведением, диким упрямством вы вынуждаете меня напомнить: вы здесь на птичьих правах. Только из уважения к заслугам позвонившего и попросившего за вас в свое время лица я принял вас в эти стены. Однако терпение мое небезгранично. Вас не устраивают наши порядки? Пожалуйста, существуют коммерческие учреждения, от полутора тысяч в сутки и выше.
У Берты пересохло во рту, онемели ладони. «Только бы не дрогнул голос».
Кашлянув, она произнесла спокойно и твердо:
– Не пытайтесь унизить меня больше, чем это возможно. Вам прекрасно известны обстоятельства моей жизни.
– Вот именно. Московской пенсии вы лишились, квартира ваша пошла прахом при весьма странных обстоятельствах, тогда как подмосковная квартира Любови Филипповны отошла в безвозмездное пользование нашей структуры. Творческих заслуг и государственных регалий у Любови Филипповны несоизмеримо больше, нежели у вас. Как видите, мне нет резона сохранять ваш статус-кво. Сядьте, прошу вас. А то снова скажете, что я не пригласил вас сесть.
Она традиционно села на стул у двери. Отметила, что Цербер сегодня по-особому официален, раздражен, к тому же изрядно помят и скомкан. «Что это с ним? Будто валялся где-то под забором. Что ж, я продемонстрирую ему ответный официоз, и ни шагу назад».
– А как же… – начала она.
– Прошу, не перебивайте. – Цербер пристукнул ладонью по столу. – Я не успел пролить свет на другую сторону вопроса. Будучи человеком физически еще вполне крепким, вы могли бы приносить ощутимую пользу нашему коллективу. Однако общественная деятельность была и остается для вас пустым звуком. Более того, вы демонстративно игнорируете наши устои и традиции, нарочито попираете их, чем провоцируете волнения в среде пожилых, не совсем здоровых людей.
– Да-да, жаждете лицезреть меня в массовых сценках из протухшей уездной жизни, – сузила глаза Берта. – Я знаю, в ваших глазах я вредитель и диверсантка. Вам предпочтительнее оглохшие безропотные сестрицы Кацнельсон или известные всем местные кляузницы, активистки-запевалы, развлекающие заезжее начальство непотребным пением. Хочу полюбопытствовать: вы находите в этой горластой особе нечто самоотверженное и позитивно деятельное? Так вот, все это ваши близорукие формальные подходцы! Я знаю ее гнилую подноготную, как никто, потому что именно мне изо дня в день, по вашей милости, выпала честь наблюдать ее истинное лицо. Как бы я желала, чтобы вы, Борис Ермолаевич, невидимкой, да-да, именно невидимкой, поприсутствовали в нашей комнате хотя бы полдня. Тогда во всей полноте вам открылась бы изнанка ее непотребной натуры. Вы бы удостоверились, что ее мерзости нет аналогов.
– Опять, – кончиками пальцев массируя виски, поморщился Цербер, – вы снова затеваете бессмысленные пререкания. Вы не просто диверсантка, как сами себя назвали. Вы бунтарка! Неужели вы не понимаете, что смешны, нелепы в своем бунтарстве? Эта ваша буря в стакане воды, простите меня…. – Он достал из брючного кармана деформированную пачку «Явы», отыскал там, морща лицо, кривую уцелевшую сигарету, закурил, крепко затянулся, принялся вертеть зажигалку в пальцах. – В вашем возрасте надо бы понимать, что бунтарство для молодых, а вам пора подумать о вечном. – Смяв в ладони пачку, он пристукнул зажигалкой об стол.
– Вы предлагаете мне думать о вечном в подобных обстоятельствах? – Берта сдвинулась на край стула. – Когда она без зазрения совести, с завидной, замечу, регулярностью, роется в моей тумбочке, подбрасывает мне под кровать огрызки яблок и бывшие в употреблении гигиенические прокладки? За всю жизнь я не встречала человека более наглого и отвратительного. Мне кажется, даже отпетые уголовники пытаются скрывать самые грязные из своих пороков. Она же с несказанным удовольствием выпячивает их передо мной! Ей осталось только испражниться на мою кровать и влить мне ночью в ухо яд. Ответьте, Борис Ермолаевич, неужели человек, проживший пусть даже бесполезную, на ваш взгляд, жизнь, не заслужил незадолго до смерти двух метров личного пространства, где можно почувствовать себя индивидуальностью? Куда не будут внедряться загребущие руки и вонючие юбки такой вот Любови Филипповны?
– Не забывайтесь, Берта Генриховна!
– Я-то как раз не забываюсь! Послушайте, Борис Ермолаевич. – Внезапно сменив тон, Берта порывисто встала, подошла к столу. – В своей жизни я старалась никого ни о чем не просить, вовсе не из гордости, из желания никого собой не обременять. Но не виновата же я, что мне не встретилось, как булгаковской Маргарите, Воланда, который помог бы мне в роковую минуту отчаяния. Пожалуйста, переселите меня от нее, и я обещаю стать примерной и покладистой. Если хотите, активисткой не хуже Клары Цеткин или Розы Люксембург. Только переселите меня от нее. Я знаю, освободилось место в одиннадцатой комнате.
– Опять шутовство и юродство?
– Увы вам, увы, несчастный Борис Ермолаевич. – Берта отступила от стола. – Даже сейчас вы не способны отличить игру от правды. Самое важное для вас – не отойти от выработанных однажды правил, соблюсти показушный ранжир, а что происходит в душе каждого из нас, вам глубоко наплевать. Понимаю, возня с нашими душами не по вашей части. Но позвольте спросить: что должно было произойти с вашей собственной душой, коль вместо нее у вас выжженная пустыня? Знаете, что в вас самое страшное? Вы заземляете, старательно вколачиваете в землю, заставляете дышать вполсилы, умерщвляете наши души, пока наши тела еще живы. По-видимому, вы никогда ни к кому не испытывали истинных человеческих чувств.
Она увидела, как на этих словах Цербера передернуло. Он резко перебил ее:
– Вы окончательно потеряли над собой контроль. Мне известна тенденция большинства актеров все подряд подвергать гиперболизации, я с этим, поверьте, сталкивался неоднократно, но вы перешли всякие границы. К теме ваших взаимоотношений с Любовью Филипповной, равно как к теме переселения, я возвращаться не намерен. Через час мы со старшей медсестрой произведем проверку комнаты восемнадцать на предмет наличия на подоконнике лишних предметов. Время пошло, Берта Генриховна.
Глава 18. Полный провал
Берта освободила подоконник. Заворачивала у себя на кровати каждую фигурку в салфетку, складывала в большой полиэтиленовый пакет с ручками.
Любовь Филипповна, сидя напротив, неотрывно наблюдала за процессом:
– Во-о-от, думала, твой верх, а верх все равно взяла моя макушка. Запо-омни, твоего верха над моим никогда не будет. Потому что я непобедимый русский народ! Никакая не ты, а я! Следующим шагом будет очистка твоего этого, как ты там называешь, «кнехта». Будь уверена, об этом я позабочусь в ближайшее время.
«Только не сорвись, только не сорвись», – мысленно уговаривала себя Берта.
Любовь Филипповна продолжала с упоением:
– А то ишь, со своими полунемецкими корнями чуть ли не баронессой фон Ульрих себя возомнила! А сама-то не знаешь ни роду ни племени! Запомни, я, я – истинный носитель русской традиции и культуры!
Берта не выдержала, тихо сказала, упаковывая последнюю фигурку:
– Это говорит мне балаганная певунья, за стакан кислородного коктейля готовая продать Родину?
Любовь Филипповна рьяно поднялась, старательно хлопнув дверью, покинула комнату. Берта, оставаясь сидеть на кровати, закрыла лицо руками. Ей, острее, чем прежде, вспомнился тот последний, унизительный разговор с Ивановым и подробности того, что ему предшествовало.
Начало короткой эпопеи, приведшей ее в здешние стены, пришлось на двадцать второе августа две тысячи восьмого, на день ее шестидесятивосьмилетия. Время клонилось к вечеру, отгремели телефонные поздравления. Заезжавший к ней обычно в этот день с традиционными розами и тортом Костя Клюквин оказался болен, в гости Берта никого больше не ждала, если только соседку по этажу, обещавшую привезти с дачного участка яблок. Когда прозвучал звонок в дверь, Берта решила, что это соседка, оттого не поинтересовалась, кто там. На пороге стоял среднего роста плотный шатен примерно сорока лет в великолепно сидящем кремовом костюме и держал перед собой безукоризненно составленный букет. На его лице играла широчайшая улыбка, демонстрирующая ряд неправдоподобно ровных белых зубов.
– Простите, но я вас не знаю, – удивилась и вместе с тем растерялась Берта.
– Достаточно того, что мы знаем вас! И знаем вас не огульно! Но об этом чуть позже. – Он продолжал сохранять широту улыбки. – Итак, – сделал он шаг вперед, – позвольте посвятить вас, уважаемая, в курс дела. Наша строительно-риелторская компания давно плодотворно сотрудничает с ЕИРЦ, местной управой и Бюро технической инвентаризации, курирующими округ Арбат и непосредственно ваш дом. Я представляю компанию «Москва за нами». Мы оказываем обширный спектр гарантированных риелторских услуг. Фактически дарим москвичам новую жизнь! – Речь лилась из его рта как из рога изобилия.
– Я рада за вас, – с трудом удалось вклинить реплику Берте, – однако я не нуждаюсь в ваших услугах, тем более в новой жизни.
– Вы ошибаетесь, Берта Генриховна, уверяю вас. Потому как являете собой эксклюзивный для нашей компании случай. Вот моя визитка. – Он извлек из потайного кармана пиджака и ловко вставил в букет тисненую визитку. – Прочтите, прочтите, – приблизил он букет к лицу Берты. Дождавшись, когда она все-таки возьмет визитку и прочтет, что там написано, а написано там было: «Менеджер отдела продаж вторичного жилья Бородянский Михаил Илларионович. Кутузовский проспект, 25», – он добавил: – Можно просто Михаил. Но прежде чем перейти к главенствующей теме, я хотел бы поздравить вас, дорогая Берта Генриховна, с днем рождения и поцеловать вашу руку. Сегодня праздник не только у вас, у всей нашей компании!
Приняв чуть ли не насильственно вложенный ей в руки букет, ощутив правой ладонью жар его неутомимых губ, Берта с недоумением обнаружила, что незнакомец перешагнул порог и стоял в прихожей.
– Вижу, – продолжил он, – с вашего лица не исчезает немой знак вопроса. Перехожу к главному: ваш дом по генплану поставлен на реконструкцию в будущем году, что означает капитальный ремонт с неминуемым отселением всех жильцов. Ни больше ни меньше. По выражению ваших глаз читаю, что вы никогда не посещали местных собраний жильцов. Уверен, не посещали и последнего, состоявшегося шесть дней назад, вечером понедельника. Именно на этом собрании представитель префектуры Центрального округа обещал жильцам вашего дома временное отселение с последующим возвращением в отремонтированные квартиры. О чем, кстати, до вчерашнего дня висело объявление в подъезде, внизу у лифта. Но такого рода объявлений, предвижу, Берта Генриховна, вы не замечаете. Так вот, спешу сообщить конфиденциальную информацию, обещание это – чистейшей воды ложь. Никакого возвращения не будет. Всех жильцов сошлют в Южное Бутово. Подчеркиваю, навечно! Уж кто-кто, а наша компания знает это не понаслышке.
У Берты от его речей и благоухания в букете лилий голова пошла кругом. Он, кажется, это заметил:
– Вам не мешало бы присесть, Берта Генриховна. Позвольте проводить вас в комнату. – Он галантно взял ее под руку, отвел в гостиную, усадил там на стул. – А букетик положимте вот сюда. – Взяв у нее букет, он пристроил его на столе.
Пока Берта, обхватив ладонями виски, превозмогала головокружение и пыталась осмыслить им сказанное, он безостановочно продолжал:
– Однако для нас есть особые люди. Их можно перечесть по пальцам, тем ценнее каждый из них. Именно вам, женщине, целиком посвятившей себя искусству, дарившей счастье сотням и сотням зрителей не одного поколения, мы хотим предложить особые условия. Но! С убедительной просьбой не афишировать этих условий окружающим вас простым смертным, в частности соседям.
Одновременно со своей речью он стал прохаживаться вдоль стен гостиной, изучая фотографии, где кроме двух совместных портретов Серафимы Федоровны с Алексеем Яковлевичем, девичьего портрета сгинувшей в горниле войны матери Берты, Марии, и двух – детской и юношеской – фотографий самой Берты было на что посмотреть: Берта на Вацлавской площади Праги, Берта на Театральной площади Варшавы, Берта на фоне Концертного зала на Площади академии в Берлине.
– Какие замечательные фотографии, – произнес он с придыханием.
– Да, – отозвалась Берта, ощущая себя отчего-то совершенно пьяной, – в каждом из городов, где гастролировал наш театр, я выбирала знаковые места.
– Я понял, понял. Но я не нахожу здесь Парижа. Бывали ли вы когда-нибудь в Париже? – Он продолжал неторопливо исследовать фото.
В этот миг сердце Берты вздрогнуло и приостановилось.
Он словно уловил ее состояние и виртуозно подхватил его:
– Истинная цитадель всяческих искусств все-таки Париж, не правда ли? Вы согласны?
«Он будет рассказывать мне (мне!) про цитадель искусств», – мысленно усмехнулась Берта.
– Я, голубчик, – расправила она спину и отняла ладони от висков, – могу просветить вас и насчет современного «Комеди франсез», и по поводу его знаменитого предшественника «Блистательного театра» господина де Мольера куда лучше многих маститых искусствоведов!
– О-о, не сомневаюсь. Вам осталось только принять наше предложение.
– А в чем, собственно, оно заключается?
– Небольшая двухкомнатная квартира в пределах Садового кольца и доплата в валюте, которой вы сможете распорядиться по личному усмотрению, посетив, к примеру, тот же Париж. Знаю, сейчас у вас непомерная квартплата, догадываюсь, как вам трудно. Но главное, вы и Бутово – полный абсурд. Итак, прежде всего, мы подберем вам подходящий вариант, оформим все честь по чести, перевезем вас; и тогда на кухне вашей новой квартиры, за чашечкой чая, а лучше за бокалом шампанского, вы расскажете мне и про Мольера, и про «комеди», и про «франсез».
– Нет-нет, только не шампанского, у меня всегда болела от него голова, вот белого сухого вина, пожалуй, выпила бы, но непременно французского, – поражаясь тому, что она говорит, произнесла Берта.
– Вина – так вина! – Он присел напротив за стол, одаривая ее внимательным острым прищуром. – Да. Так и есть. Мое руководство именно так вас и описывало. Отзывалось о вас восторженно. Так и есть! – повторил он, пристукнув ладонью о крепкое колено. – Незаурядность!
– Нет, я совершенно не понимаю, что происходит. Откуда меня знает ваше руководство?
– Представьте, некоторые старожилы верхнего эшелона нашего агентства до сих пор живут под впечатлением ваших театральных работ. Да, прошу не удивляться и поверить, среди риелторов встречаются порой заядлые театралы. Именно это обстоятельство подвигло наше руководство на сегодняшнее благотворительное действо. А хотите знать мое персональное мнение? В более широком смысле, выходя за рамки театральных пределов?
– Ну, ну?
– Многие наши соотечественники, побывавшие в Париже, восторгаются французскими пожилыми дамами, их ухоженностью, моложавостью, жизнелюбием, но, думаю, именно вы с вашей грацией, внутренней культурой, с лучащимся из глаз светом, юной душой смогли бы посоперничать с ними и даже, – он погрозил ей пальцем, – утереть им нос.
В его интонации, особенно в жесте, Берта узрела фамильярность, но, покосившись на букет, не стала заострять на этом внимание. «Издержки недоразвитого капитализма, – подумала она, – куда денешься».
– Это, голубчик, уже неприкрытая лесть.
– Ничуть. Москва держится на таких, как вы. Да что там Москва… Россия! Уверен, наше предложение не оставит вас равнодушной. – Он встал, ловким движением задвинул за собой стул, направился к выходу. У двери оглянулся, осуществил короткий поклон головой. – Звоните. Для вас я доступен в любое время суток.
Берта поднялась проводить его. У входной двери она не выдержала:
– Никак не возьму в толк, вам-то от этого какая выгода?
– Выгода? – оглянулся он на нее с порога квартиры. – Вспомните Савву Мамонтова, Савву Морозова. Разве они искали в своих деяниях выгоды? И не надо говорить мне, что сейчас не те времена. Дело отнюдь не во временах, а исключительно в человеческом факторе. Меценатству есть место всегда.
Не воспользовавшись лифтом, он легко побежал вниз, скользя по ступеням ботинками из песочного цвета замши. И Берта, закрывая за ним дверь, пожала плечами, расслышав, как он пропел с нижнего пролета: «Старики-и, вы мои-и старики-и, да-айте я-я вас сейчас расцелу-ую…»
Часов до пяти утра она не сомкнула глаз. Взвешивала все «за» и «против». А какие, собственно, могут быть тут «против»? «За» было значительно больше. «Конечно, – шептала она среди ночи, – мою ненаглядную квартиру, где, осеняя меня мягким любовным крылом, до сих пор бродит нетленный теткин дух, жалко до безумия. С другой стороны, капремонт неотвратим, после него все равно ничего от прежнего не останется. Да если бы и осталось? Я была бы ни при чем. Он сказал, Бутово неминуемо. Соседке наконец отдам долг – три тысячи рублей. А потом Париж… Париж!»
Пришедшая к Берте под утро тетка хоть и молчала, но лицо ее было необыкновенно настороженным, хмурым. Она поводила плечами и отрицательно мотала головой, как делала обычно при жизни в минуты крайнего недовольства и несогласия с некоторыми Бертиными закидонами. Берта же объясняла ей с привычной горячностью: «Ты должна понять меня, Симочка, я не хочу в Бутово. А потом, я ни разу не бывала в Париже. Не знаю… мне отчего-то кажется, я непременно встречу там Георгия. Вот так, запросто, буду идти по улице, по Елисейским, к примеру, Полям, а мне навстречу он, элегантный, в длинном кашемировом пальто, с зонтиком-тростью цвета бордо…»
По пробуждении Берта почувствовала некоторый душевный дискомфорт, но постаралась прогнать его от себя. Вечером она позвонила по телефону с визитки.
– Только вот сборы… – поколебалась она в процессе разговора с Михаилом, – один переезд, говорят, равен двум пожарам. Потом, у меня такая громоздкая мебель.
– Ни в коем случае! Мы не дадим вам ни к чему притронуться. Я организую эксклюзивную услугу. Все сделают профессионалы, упакуют ваши вещи по высшему разряду. Такая услуга стоит приблизительно тысячу евро, но пусть это будет еще одним подарком, дополнительным бонусом от нашей фирмы. С мебелью тоже что-нибудь придумаем.
На следующий день с утра он заехал за ней и повез смотреть будущую квартиру. Все понеслось, как в убыстренном кино. Просмотр показавшейся ей игрушечной, но уютной, вполне милой квартиры на Новослободской. Тихая классическая музыка в салоне его машины, неназойливый запах восточных благовоний, с вклинившимся на мгновение, как ей почудилось, запахом серы, снизошедшие на нее чуть позже истома и мечтательная благость. Посещение вслед за просмотром квартиры нотариуса, подписание двух договоров купли-продажи, доверенности на сбор документов и регистрацию перехода права собственности, подписание Михаилом расписки-обязательства выплатить ей обещанную сумму в евро (с указанием, по правилам нотариальной конторы, рублевого эквивалента) и его реплика на выходе из нотариальной конторы: «А теперь, пожалуйте, мне свой паспорт для ускорения процесса».
Когда на другой день она спохватилась, что при ней нет ни одного из подписанных у нотариуса документов и уж точно не стоило отдавать Михаилу паспорт, то снова позвонила по телефону с визитки.
– «Москва за нами» слушает, – раздался на сей раз бархатный женский голос.
– Пригласите к телефону Михаила Илларионовича, – строго сказала она, подумав: «Возможно, секретарша?»
– Он на объекте. Что ему передать?
У Берты немного отлегло от сердца.
– Передайте, что звонила Ульрих Берта Генриховна. Пусть он непременно мне перезвонит, когда освободится.
– Он обязательно вам перезвонит. Ждите.
Берта ждала двое с половиной суток, пока в семь вечера не раздался звонок в квартиру. На пороге стояли трое мужчин с суровыми квадратными лицами. Самый плечистый протянул ей ее паспорт. Из его слов следовало, что ровно через два дня ей надлежит освободить квартиру и это абсолютно законно. Она ринулась к телефону, набрала номер Михаила, врезавшийся в ее память навечно, трое пришельцев при этом стояли – один сзади, двое по бокам от нее – молчаливыми конвоирами. В трубке раздался механический голос: «Номер не существует».
Многократно раскрывая паспорт на пятой странице, не веря глазам своим, в полном смятении она пережила на кухне ночь, наутро поехала в офис компании «Москва за нами» разобраться во всем на месте. Она жаждала посмотреть в глаза руководству, которое до сих пор жило под впечатлением ее театральных работ. Она надеялась, что руководство, возможно, не догадывается о деяниях Михаила, того хуже, вовсе не знает, кто он такой, что, услышав безобразную правду об этом, с позволения сказать, менеджере, запятнавшем их репутацию, они незамедлительно посодействуют в возвращении ей квартиры. По указанному в визитке адресу обнаружился Театр кошек Юрия Куклачева. В нотариальной конторе, куда она добралась в полуобморочном состоянии, равнодушно сказали, что нотариус, которым она интересуется, два дня назад уволился в связи с отбытием на ПМЖ в Нидерланды.
Она не помнила, как вернулась в квартиру. Потом все пыталась сообразить, что с ней произошло. У нее было состояние, будто началась Третья мировая, планету оккупировали роботы-пришельцы, никаких землян, кроме нее, в живых не осталось и она вынуждена собираться в пожизненную эвакуацию неведомо куда. Да, это был тот глобальный роковой случай, когда за внешними манерами человека она не распознала бесчеловечности его цели. «О! Как я могла не раскусить этого мнимого Бородянского. Как великолепно он исполнил роль. Актер! Какой блестящий актер! По нему плачут театр и кинематограф, вместе взятые. Господи, откуда всплыли во мне эти гнусные, несвойственные мне вульгаризмы: „голубчик“, „белого сухого вина, пожалуй“? Боже, какая мерзость». И тут ее пронзила убийственная догадка. Да не исполнял он никакой роли. Подобные старания были ему совершенно ни к чему. Он просто был самим собой, беспринципным до мозга костей отморозком, гениальным в своем прирожденном качестве. От внезапного осознания запредельной в цинизме пошлости Берте захотелось раствориться в небытие. Вот так она сидела в одной из комнат обожаемой квартиры, где, за вычетом первого года, прожила всю жизнь, и бесконечно повторяла: «Москва за нами… Москва за нами… Какой ужас… Господи, какой ужас… Бородянский Михаил Илларионович… Кутузовский проспект… Театр кошек… Какой ужас, господи». И тут раздался телефонный звонок. С вспыхнувшей в душе надеждой на чудо Берта схватила трубку. Это оказалась Галя Ряшенцева, сказавшая без предисловий: «Берта, умер Костя Клюквин. Похороны завтра. Встречаемся у центрального входа ровно в одиннадцать. Приезжай». Она назвала кладбище. «Все одно к одному», – подумала Берта и произнесла: «Приеду».
С окаменевшими, пустыми лицами стояли у могилы бывшая Костина жена и давно ставшие ему такими же бывшими немолодые дочь и сын. Народу было негусто. Старая театральная гвардия, вышедшая в отставку. Из так называемой театральной молодежи присутствовал только Аверин, основательно оплывший, но все еще периодически исполняющий Данко в «Сердце нового героя». Берта, в больших темных очках, держалась рядом с Галкой. Ее поразило запустение здешней могилы, где отсутствовала даже ограда, и гроб с телом Кости, от чего она содрогнулась особо, опускали не непосредственно в землю, а на чей-то предыдущий гроб.
Когда она бросала в могилу горсть земли, ее качнуло, она испуганно отпрянула назад, и в тот же миг всплыла перед ней картинка коммунальной комнаты на Малой Дмитровке, где Костя жил после развода. Синий эмалированный чайник на полуистлевшем паркете рядом с кроватью, неровные стопки «Знамени» и «Театральной жизни» на подоконнике голого в отсутствие штор окна, выцветшие, лопнувшие в углах обои, заваленные рулонами отживших афиш. Обстановка комнаты являла обрывки булгаковского «Театрального романа», и даже кошка, неслышно возникшая на пороге, худобой своей была тому подтверждением. «О-о, – торопливо расчищая пространство стола, протянул Костя возвышенно, – ты не представляешь, что это за кошка. – Взяв на руки, он поднес ее к Берте. – Знакомься, Сильфида, принцесса крови». Сильфида потянулась к Берте носом, задвигала чуткими шелковыми ноздрями и вдруг отвернулась, уткнувшись мордочкой в сгиб Костиной руки. «Ревнует, дурочка», – подумала Берта. А Костя засмеялся: «Видишь, смутилась? – Он продолжал торжественно гладить ее по костлявому хребту. – Личность, индивидуальность, тончайшей души существо». Еще он сказал тогда, что не может выбрасывать старые афиши – не поднимается у него рука. Он хранит их все, с первого своего спектакля.
Он перешел в их театр в семьдесят пятом, после развода с женой, с которой прослужил до этого тринадцать лет в труппе другого московского театра. К ним его заманил Иванов. Их театр в ту пору сотрясали значительные перемены. Перетряска началась после снятия с репертуара «Неоконченного танца» и насильственного, по указке свыше, увольнения Захарова. Иванов работал без году неделю, в коллективе процветали разброд и шатание, менялся репертуар, кое-кто из актеров собирался увольняться и прочая, прочая, прочая. Многие из труппы считали Берту косвенной виновницей перемен к худшему. Для Берты наступили совсем невеселые дни. Не было больше рядом Георгия. Жизнь раскололась надвое. И тут появился Костя и сразу потерял от нее голову.
Да-да-да, тот один-единственный приход к Косте состоялся, если ее не подводит память, весной восьмидесятого. Он суетился, как всякий безнадежно влюбленный, не зная, чем ей угодить. Отпустив с рук Сильфиду, поспешил на кухню ставить чайник, вернулся с пачкой печенья «Юбилейное» и совершенно осчастливленным лицом. Когда Берта поднесла к губам чашку с дымящимся чаем, он опустился перед ней на колени, неловко схватил ее свободную руку, стал покрывать поцелуями от кисти к локтю: «Останься, прошу тебя, останься». – «Мы разве репетируем „Чайку“, Костя? Я Заречная, ты Треплев? Это, в конце концов, пошло, – холодно сказала она. И добавила: – У нас ничего не может быть, кроме дружбы». Счастье с его лица мгновенно сплыло, он поднялся с колен, отряхнул брюки: «Хорошо, пусть будет по-твоему». И коротко отбил перед ней чечетку. Еще припомнилось, как он пожаловался ей, всего однажды, да и то не по своему поводу. Было это значительно позже, году, наверное, в восемьдесят пятом. В тот вечер после спектакля, заглянув к нему в гримерку, она бросила упрек, что сегодня он был слишком вял и инертен. Он оставался сидеть за гримерным столиком с неснятым гримом, смотрел, не оглядываясь, на ее отражение в зеркале. Оба знали, что это плохая примета, но он так и не развернулся к ней лицом. В отражении ей показалось, на его щеке блеснула слеза. «Померещилось», – решила она. Он тихо сказал: «Сильфида заболела». А она не удосужилась спросить, чем заболела его любимая кошка. Закрыла дверь гримерки и поехала домой. Сейчас бы она все-все-все переиграла. Но переиграть прошлое было невозможно. И в душе стало невыносимо пусто и жутко, что за столько лет она не расслышала Костю по-настоящему ни разу, а теперь уж поздно. «Услышь меня, Костя. Услышь сейчас. Ты был гениальным другом и гениальным партнером. Прости, что не сказала тебе этого при жизни. Прости за отвратительный актерский эгоцентризм, и за Сильфиду тоже прости. Что? Ты спрашиваешь, как мои дела? Ты вправду хочешь знать это? Плохи. Очень плохи. Я жутко обманулась. Твоей драгоценной подруге, старой дуре, подсунули пустой фантик. А она, как наивная малолетка, приняла его за шоколадный трюфель. Не-е-ет, я не стану бороться, Костя. Ты спрашиваешь, почему? Потому, что не хочу окунаться в грязь. Я отлично понимаю, что шансов победить в этой гнусной, отвратной борьбе у меня нет. Вот и не желаю марать рук. Не возражай, Костя, не надо. Борьба уничтожит меня, превратит в жалкую мещанку, в плебейку. Даже представить не могу, как пойду оббивать пороги присутственных мест, клянчить милостыню по кабинетам, унижаться перед равнодушными протокольными рожами. Иногда надо найти в себе силы отступить, в этом и будет сила. Правда, Костя? Ведь так? Костя, ах, Костя, не хочу больше о себе, все меркнет перед твоей смертью…» Берта не ощущала текущих по щекам слез. Опомнилась только, почувствовав чье-то физическое вмешательство: это Галя Ряшенцева взяла ее под руку.
Галка захотела проводить ее до дома. Правда, это был уже не дом Берты.
В вагоне метро Галка исходила праведным гневом:
– Очнись, Берта, нельзя допускать этот беспредел. Как ты могла не распознать откровенного аферюгу? Не понимаю, просто не понимаю – как? Дешевый фигляр, сволочь, выродок! Вешать таких публично!
Берта молчала.
– Надо что-то делать. Сейчас не девяностые. – Она вцепилась в кисть Бертиной руки и трясла ее. – Я всегда знала, что ты дитя. Ни к чему не приспособленное, живущее в замкнутом театральном пространстве дитя. Но не до такой же степени! Хотя что я удивляюсь, тетка облизывала до тридцати двух лет, от всего ограждала. История с «Савлом» тебя ничему не научила. Немедленно позвони Иванову, у него сохранились кое-какие связи. Иначе я сама ему позвоню.
Берту резанули слова о тетке и утраченной картине, она медленно отринула руку, но сил злиться дальше не было.
– Езжай домой, Галя. Я позвоню… позвоню Иванову, обещаю. Ты молодец, что позвала меня на похороны. Я бы себе не простила, если бы не попрощалась с Костей.
Ряшенцева не стала настаивать на проводах до подъезда, они расстались на станции «Кузнецкий Мост».
Ключ никак не входил в личинку замка. Наконец дверь открыли изнутри, чья-то крепкая мужская рука выставила на лестничную клетку чемодан, затем подала паспорт, из которого выпало несколько тысячных купюр. Дверь захлопнулась. Берта наклонилась, торопливо открыла чемодан – две пары брюк, кремовая блузка, шарф-палантин, шерстяная кофта, шелковый шейный платок, черные балетки, халат-кимоно, подаренный Галкой к прошлому Новому году, кое-что из нижнего белья. Никакой верхней одежды, но черт с ней! Не было главного! Изо всех сил она стала стучать в дверь кулаками и кричать:
– Откройте! Откройте немедленно!
– Чего еще? – Дверь все-таки приоткрылась.
– Там коллекция статуэток, альбомы, книга, дайте взять. – Она попыталась войти.
– Что за книга? Как называется? – Тот, кто стоял внутри, придерживал дверь ногой.
– Анатолий Эфрос, «Репетиция – любовь моя».
Через несколько минут та же рука протянула ей книгу.
– На, возьми. Больше ничего не велено.
Она наскоро пролистала страницы, фотография была на месте.
Сдав нехитрый скарб в камеру хранения Курского вокзала, Берта отважилась съездить по адресу, который стоял теперь в ее паспорте на странице регистрации. За пятнадцать минут электричка доставила ее на станцию «Чухлинка». Пока ехала, пошел мелкий серый дождик. Зонта у нее, естественно, не было. «Хрен с ним, не растаю», – подумала она, выйдя на платформу. Без труда она нашла улицу и дом.
Увиденное потрясло ее не меньше Костиной могилы.
По полусгнившим ступеням она поднялась на то, что никак невозможно было назвать крыльцом, вошла в незапертую, оббитую древним, подранным дерматином дверь.
Деревянное почерневшее строение, как оказалось, состояло исключительно из наружных стен. Внутри обширного, почти пустого помещения, сразу за дверью, в эмалированный таз несмелой струйкой стекала вода. «И сырость капает слезами с потолка», – пришло ей на ум из Саши Черного. Пахло, без преувеличения сказать, гнилыми портянками и перезревшими мухоморами. На расстеленном на полу стеганом одеяле с торчащими из дыр клочками грязно-желтой ваты сидели и играли в карты двое. На звук открывшейся двери один повернул голову:
– Ядрена-Матрена! К нам гости! Неужто в нашем полку прибыло?! Глянь, Исидорыч, какая симпатичная гражданочка! От такого присутствия плесневый грибок на нашем потолке вполне может переродиться в нечто съедобное!
– Ох, грибок ты наш, грибок, ты не низок, не высок, – поднялся с одеяла, слегка приплясывая, худосочный Исидорыч. – Если б не мой ишиас и застарелый геморрой… – Приложив два пальца к правому виску, он залихватски щелкнул обутыми в калоши на босу ногу пятками.
– Не тушуйтесь, милая дамочка! – подскочил к ней тот, что первым ее заметил и поприветствовал. Он взял ее под руку. – Стихоплет безопасен. И про меня дурного не подумайте. Я не какой-нибудь старый хрен отвязный. Я, между прочим, дворянского рода отпрыск, у меня древо имеется. Подтверди, – обернулся он к Исидорычу.
– Угу, генералогическое, – охотно подтвердил Исидорыч. – В роду одни генералы были. Сам без одной звезды генерал. – Тут он пропел блеющим тенором на мотив газмановских «Офицеров»: «Господа генера-алы, вас запишут в анна-алы!» – и, осуществив несколько вальсирующих па по шатким доскам, подхватил Берту под руку с другой стороны. – Кстати, драгоценнейшая, вы диетические блюда́ готовить умеете? – дохнул он ей в лицо запахом прогорклых консервов.
Крепко зажатая ими с обеих сторон, она в третий раз порывалась спросить, не жертвы ли они все того же Бородянского, но они не давали ей вставить слова.
– К слову о блюда́х. Должен предупредить, – духарился дворянско-генеральский потомок, – с нами могут ужиться только те дамы и господа, у коих идентичное с нами понимание работы большого адронного коллайдера. Мы, уважаемая, стоим на позиции, что с момента запуска программы столкновений ионов свинца человечество в целом почувствовало себя гораздо хуже. Участились случаи параноидной шизофрении и прободения язвы двенадцатиперстной кишки. Так-то-с. Мы жаждем услышать ваше резюме по этому поводу!
– Да-с, позвольте-с уточнить и углу́бить, – заглядывал ей в лицо, продолжая обдавать консервным духом, Исидорыч. – Куда же вы? С минуты на минуту мы планируем разжечь камин, приготовить британский грог. Неужели отказываетесь разделить удовольствие, обсушиться в нашей компании?
В электричке на обратном пути ей припомнилась легенда о жителях взятого Тамерланом города. О тех самых жителях, которые после первого его набега плакали, а после третьего уже смеялись. «Бог мой, как эти доморощенные философы будут зимовать в этом продуваемом всеми ветрами подклете? Кошмар…» По прибытии на Курский вокзал ей захотелось помыться, но негде было. И тогда она превозмогла себя – купив телефонную карточку, позвонила Иванову.
Иванов выслушал ее, не перебив ни словом. Однако, когда она закончила, не удержался:
– Если бы не твой голос, который трудно с чьим-либо спутать, решил бы, что слышу бред городской сумасшедшей. Ты в своем коронном амплуа. Допрыгалась. Как всегда, самая смелая, самая умная. Все знаешь лучше других. Не пришло в голову позвонить, посоветоваться, прежде чем отправляться к нотариусу?
– Нотации будешь читать или поможешь?
– Мне бы кто помог, – недобро вздохнул Иванов. – Я лежу, понимаешь, лежмя вторую неделю, у меня страшный поясничный прострел. На Костины похороны подняться не смог. Не знаю, не знаю… Как в таком состоянии пойду с тобой по инстанциям? Не знаю…
– Я что, предлагаю тебе ходить со мной по инстанциям? Пристрой меня куда-нибудь, чтоб крыша над головой, и дело с концом. Мне теперь без разницы. Сделаешь?
– Да-а, «писе-ец подкрался незаме-етно», – растягивая слова, произнес Иванов со вздохом, чем несколько обескуражил Берту, ибо подобных фраз за ним раньше не водилось. – Говорил тебе год назад, отпиши квартиру актерской гильдии и живи спокойно. Пришло бы время, похоронили бы по-людски. Так не-ет, это тебе было низко, гордыня не позволила. А теперь что?
– Ты человек?!
– Ладно, не кипятись. Сделаю, что смогу. В память о твоей гениальной игре. Позвони мне завтра после двух. Паспорт, надеюсь, у тебя при себе? Смотри его не потеряй. Переночевать тебе есть где?
И тогда Берта солгала, что есть.
Перед первой своей ночью в интернате она загадала: если ей приснится Георгий, не так все страшно.
По каким-то неподвластным ей ощущениям и косвенным признакам она понимала – это Гранд-опера. Она сидела в партере, по центру третьего ряда, на ней было облегающее джерсовое платье цвета цикламена, маленькие сережки-бусинки с аметистами, любимые темно-сиреневые туфли на невысоких шпильках, с перламутровыми пряжками. Георгий в великолепно сидящей черной тройке и кипенной рубашке вышел на поклоны, ведя за руку дирижера. Вдвоем они подошли к рампе. Балетная труппа за их спинами аплодировала вместе с поднявшимся в единой волне рукоплещущим залом. Счастье разливалось в душе Берты. Счастье и гордость. За его успех, за триумф. Она всегда знала, все будет именно так – это свершится, он достоин. Но к счастью примешивалось беспокойство. Она поймала себя на том, что пытается разглядеть обручальное кольцо на пальце его правой руки. Тут промелькнула мысль, что он мог принять католичество и носить кольцо на левой руке, как большинство европейцев. Она напрягла зрение, но кольца не узрела ни на одной из рук. «Конечно, как я могла подумать о нем такое? Он совершенно не мог. Не мог полюбить кого-то, кроме меня. Вот… вот… сейчас… он опустит глаза и непременно меня увидит, непременно…»
Глава 19. Два разговора
Кирилл обнаружил Алексея в третьем дальнем зале «Солянки». Диджей Дима Японец крутил за пультом медленную композицию «Острова», дань восьмидесятым.
– По какому случаю внезапный сбор? – уточнил Кирилл, садясь за столик.
– По поводу его разрыва с Зосей. – Алексей кивнул в сторону приближающегося к ним от барной стойки Сергея. – Излагай, – выдвинул он для Сергея стул.
– А-а… – сев и поставив на стол рюмки с зеленой мутью «Форреста Гампа», махнул рукой Сергей, – нашла себе пятидесятитрехлетнего козла. Делового бизнесмена. Говорит, все, встречаться больше не будем, не хочу себя компрометировать.
– Ты б ей подкинул вопрос: «Как же трах-тибидох?» – Алексей активно озирался по сторонам в поисках знакомых.
– Да подкинул, а она пафосно так: «У него с потенцией порядок, он йогой занимается». Во-от. Я ее девять с половиной месяцев окучивал, как подорванный, а она мне про йогу теперь втирает.
– Ха-аре Кришна, Кри-ишна Харе, – извиваясь верхней частью тела, пропел в такт «Островам» Алексей. – Слили, значит, тебя, десант. Деньги потянулись к деньгам. Не успел крутануть ее с квартирным вопросом. Понимаю, обидно. С другой стороны, могло и «бэхи», и Мальдивов не быть. Авто, надеюсь, отбирать не станет, не будет мелочиться?
– Надеюсь, – невесело усмехнулся Сергей. – Ты что скажешь, математик?
– Вообще-то, понять ее можно, – пожал плечами Кирилл. – Какие у нее с тобой маячили перспективы?
Сергей промолчал, хмуро уставившись в стол. Алексей первым поднял рюмку:
– Побывал в мажорах, хватит с тебя. С возвращением в ряды беспафосных замоскворецких пацанов.
Они опрокинули по коктейлю.
– Ладно, мужики. – Алексей поднялся. – Не обижайтесь, я домой. У меня с утра встреча с австрийцем, опаздывать нельзя.
– Двигай, трубач, пусть заграница тебе поможет, – кивнул Сергей. – Повторим по «Форресту»? – спросил он у Кирилла, глядя вслед Лехе, который на выходе из зала активно тряс руку какому-то парню с косичкой.
– Можно, – ответил Кирилл.
Сергей снова метнулся к барной стойке, растворился среди желающих выпить. Минут через пять вынырнул из толпы с двумя наполненными рюмками.
– Не забыл, Серый? – Кирилл разглядывал на свет непрозрачную зелень «Форреста».
– О чем?
– Насчет субботы двадцать пятого, бензин я тебе оплачу.
– Пошел ты с оплатой.
Они снова выпили.
– Отвезу, сказал же. Не пойму только, зачем тебе это.
– Обещал Катерине. Она к Берте прикипела. У них дни рождения оказались в один день.
– И что?
– Катерина видит в этом мистический символ. У нее ассоциации с ее умершей бабкой, и не только.
– Что еще?
– Гнетет ее что-то, я вижу. Особенно перемкнуло после того, как у матери в больнице побывала. Что между ними происходит, не понимаю. Отношения странные, вернее сказать, вообще никаких. Отчим Катькин крутое хамло, возможно, из-за него. Она не жалуется, отцовскую диссертацию дописывает, со мной веселая, но глаза тоску выдают. Я инфу не вытягиваю. Есть, видимо, вещи, которыми можно делиться только с женщиной. «Прости Господи» на эту роль не тянет. Берта далеко не худший вариант. Я к ней не ревную.
– А я подумал, волонтерами в Красный Крест пристроились.
– Остряк. Мне что, трудно сделать приятное любимому человеку? Отметить их дни рождения в ресторане? Потом, действительно надо отблагодарить старуху. Где бы мы нашли жилье в центре, без посредников, без залога, да еще за шесть тысяч в месяц.
– Это да. Вот тебе случайная встреча у мусорного контейнера.
– Случайностей не бывает, Серый, что подтверждает усиленный закон больших чисел.
– Вечно ты, математик, во всем усмотришь знаки, фундамент подо все подведешь. Ладно, где кутить собираетесь?
– В «Пушкине» столик заказали.
– Знаю, бывал.
– С Зосей?
– С кем же еще? Ты не больно приглашал. Вообще, согласен, там антураж подходящий. Реально вкусно, мясо жевать не напрягаешься. Если честно, я завидую тебе, Кира. Не в смысле, конечно, «Пушкина» и старой кошелки.
– Тогда в смысле чего?
– В смысле математики и Катерины твоей. Сейчас мало кто горит. Посмотри вокруг. Пустые души, пустые глаза. Они все – ходячие мертвецы.
– Не усугубляй, Серый. Если копнуть глубже, они вполне себе живые, в чем-то даже добрые.
– Да-а, добрые – до первого поворота за угол. Знаешь, чего все они хотят? Мгновенного успеха, признания, славы. Никто из них не хочет пыхтеть, достигая цели, им западло тратить на это годы, разбиваться в лепешку. Все эти хипстеры, лобстеры… хлебом не корми, дай поглумиться над чужим трудом. Думаешь, не знаю, как некоторые из них презирают меня за автосервис? Корчат из себя богемных креативов, свободных художников. А сами дутые пузыри, проедающие родительские бабки. Ничего-о, большинство из них моргнуть не успеют, встанут в ряды тупоголовых яппи, в офисах будут портки протирать. Гарантирую. Потому что никакие на хрен они не художники. Создать собственный качественный продукт – кишка у них лопнет. Ни на что не способные моральные импотенты.
– Крепко, Серый, тебя на критику пробило. Все не могут быть творцами. Творила всегда маленькая кучка. Остальные – биомасса. Так было, есть и будет. Ничего нового.
– Да не об этом я, Кира, это-то как раз ясно, только я не об этом.
– Тогда о чем?
– Об амбициях, которые прут у них из всех щелей. А за ними тишина, пустыня. Пойми, я не против амбиций, но по делу. Подойди сейчас к любому, спроси: «Чего бы ты хотел прямо завтра с утра, только по чесноку?» Уверен, он ответит: «Проснуться богатым и знаменитым». Не снять на скромные бабки охрененный фильм, потом сутками корпеть в монтажной над раскадровкой, не написать в бессонных ночах стоящую книгу, уж тем более не создать новый двигатель внутреннего сгорания, а проснуться, имея сразу все и всех. Они думают: «Вот будет у меня все, тогда я развернусь, сотворю шедевр!» Но их надежды – гнилая туфта. Прикинь, три недели назад я рассуждал примерно так же. А на днях, знаешь, что понял? В нас сидит один глобальный дефект. Мы не умеем получать кайф в процессе движения. Нам нужны быстрые результаты, мгновенный приток бабла и успеха. Аа-а… – Сергей обвел глазами окружающих, – в любви то же самое, каждая из крутящих здесь задом телок на аналогичный вопрос если не ответит, так подумает: «Проснуться в постели с богатым и знаменитым…» Ни одна не скажет: «Просто любить». Хотя, – он снова прошелся взором по здешней тусовке, – кого тут любить? Треть – конченые геи, половина – бисексуалы. Во-он тот, глянь, у окна, с бритыми височками, подъезжал ко мне пару месяцев назад – типа, давай интимно уединимся. Ну, я ему объяснил, что думаю насчет такого уединения.
– У меня здесь ни с кем таких заходов не было, – усмехнулся Кирилл. – В целом ты слишком к ним суров. Все мировые язвы на них повесил. Не забывай, Земля вращается быстрее, Вихри Россби не дремлют, ход времени ускорился – научный факт. Глобальные мировые процессы диктуют свои правила. Так что, ты зря на них катишь, их жажду быстрых результатов можно понять. Среди них наверняка есть прогрессивные таланты.
– Не будь трубачом «дубль два», Кира. Только он, с его вселенским наивом, может считать их через одного прогрессивными. Ну, найдется, может, пара-тройка индивидуев. И те пребывают в наркоте либо в вечной ленивой депрессухе, что никому не нужны и никем не поняты. Трусливые полуталанты с облезлыми крыльями, разлагающие себя ленью и наркотой.
– Не возносись над толпой, Серый, не рекомендую. Потом, Леха же не такой.
– А что Леха? Талантлив, не спорю, в злоупотреблении дури замечен не был, но ленив до черта. Ни одной музыкальной пьесы до конца не склепал. Разгильдяй – поискать. Опаздывает вечно. Австрия ему вряд ли мозги вправит. Там родиться надо, вырасти, впитать их дисциплину.
– Узнаю тягу к немецкому порядку. – Кирилл похлопал Сергея по плечу. – Брось, там, с их устоями, еще тухлее. Была возможность убедиться. От их улыбчивой фальшивой добропорядочности мутит конкретно. А потом, музыкант без разгильдяйства – нонсенс. Хотя мы все по-своему разгильдяи. Нам с тобой тоже не отвертеться.
– Я – да. Прельстился халявой, продался богатой бабе. Ты – нет, Катька твоя – нет. Честно, не ожидал, что ты способен оторваться от родительской кормушки.
– О чем ты, Серый? Я тут недавно не погнушался, у матери прилично денег взял. Хотя брал, по сути, отцовские. Когда брал, знаешь, на чем себя поймал?
– На чем?
– Мне стало жалко себя. Не ее, а себя. Я в тот момент подумал, что мы все: ты, я, Лешка, еще много таких же – до сих пор хотим сидеть в песочницах, лепить куличики, хвастать, у кого круче совочек, ведерко или машинка. И чтоб в идеале отцы сидели на скамейках рядом, а матери из окон звали нас ужинать, а потом долго гладили перед сном по волосам.
– Да-а, – протянул Сергей, – известная феня, если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас у тебя «бентли», то в детстве у тебя все равно не было велосипеда. Вообще-то, – усмехнулся он, – я б сейчас от песочницы не отказался, хрен с ним, с велосипедом.
– Вот-вот. А насчет Катерины ты прав. Она сильная. Правда, не знаю, на сколько нас хватит. Эйфория ушла, храп «Прости Господи» усилился, нищие стены оголились. Остается только пойти по стопам отца.
– В смысле?
– В смысле – отвезти старуху Степанову подальше за город, пристроить с кляпом во рту в канаве, а перед этим заставить переписать квартиру на кого-нибудь из нас. Родни у нее вроде не наблюдается. Шучу, Серый, шучу, конечно. Разговор у нас с тобой получается какой-то недетский. Непривычно, что б ты так рассуждал.
– Меня на такой разговор, может, никогда б не пробило, если бы эта престарелая сучара Зося меня не бортанула.
– Какая связь?
– Связь прямая. Меня будто окунули в дерьмо, накрыли крышкой и шепнули: «А ну-ка, попробуй, братишка, вытащи себя сам». И я вытащу, Кира, вытащу, блин. Я ведь умный. Похоже, жизнь сама кинула предъяву: на что, типа, годишься? Я, кажется, созрел для реализации своего основного таланта. Ух, я теперь рыть землю буду! Первая ступень – пилот-любитель, вторая – пилот коммерческой авиации. Ух, гнилье это, элита эта гребаная, стопудово будет от меня зависеть, как я штурвал поверну. «Бэху» продать, правда, придется – курсы платные.
– Туда вроде без диплома о высшем техническом не сунешься.
– Ты меня поражаешь, Кира. Вопрос с дипломом я решу, как нефиг делать. Главное, я азы в армии изучил. Осадчий, хоть злой был мужик, потихоньку от начальства дал нам основы управления летным средством. Я там, в армии, понял – высота меня любит. Знаешь самый мощный и затяжной оргазм?
– Ну и?
– Высота плюс скорость.
– Короче, автосервис отменяется?
– Ты сомневался? Наживать простатит под чужими тачками на пару с отцом? Хера вам лысого. Все слышали? Вот вам вместо рихтовки с грунтовкой. – Сергей продемонстрировал окружающим соответствующую фигуру с крепко сжатым кулаком. – «Бэху» жалко, но надо ваять будущее.
В начале августа в интернат прибыл новый поселенец и в первый же вечер облюбовал Берту. Случилось это за ужином в столовой. Его посадили от нее через столик, к странноватому, подозрительному Ивану Алексеевичу, и боковым зрением она подметила, что новичок частенько скашивает глаза в ее сторону.
«Только этого мне недоставало, – подумала Берта. – Хотя… на ловеласа не похож, глаз не масленый, не раздевающий, однако… какие теперь раздевания… смешно…» Взоры новичка были скорее страдальчески-человеческими, чем сугубо мужскими. «Уж мне ли не разбирать мужских взглядов, похоже, помыслы его чисты», – с внутренней грустью усмехнулась она на третий день. Был он худым и высоким, ел совсем мало, Берта нарекла его про себя благородным идальго и даже начала испытывать легкую вину за его недоедание.
Двадцать второго августа, в день ее рождения, в час ее послеобеденного уединения на лавочке он пробрался сквозь кусты, испросив разрешения, подсел к ней, интеллигентно сохранив между ними расстояние примерно в метр. Немного помолчал, любуясь домиком, который она рисовала веточкой на земле, потом негромко начал:
– С первого дня наблюдаю за вами, Берта Генриховна, и нахожу вас совершенно особенной. Мне показалось, вам приходится несладко с соседкой по комнате.
– В вас дремлет комиссар Мегре? – Она уже закончила с фасадом и перешла к крыльцу. – Или нашептал кто-то из местных доброхотов? – Сейчас она занималась перилами.
– Здесь не надо быть Мегре. – Он осмелел немного. – Достаточно краем уха послушать вашу и ее речь, чтобы понять, какая пропасть вас разделяет.
– Я должна поверить, что вы не знакомы с железным правилом Цербера? Кстати, напомните, пожалуйста, ваше имя.
– Дмитрий Валентинович. А с правилом Бориса Ермолаевича я, представьте, действительно не знаком.
– Селить легких с легкими, трудных – с трудными – вот его непреложный закон. Мы с соседкой, каждая по-своему, оказались для него трудны. Вот он нас и объединил.
– Смею думать, мне понятны его внутренние мотивы. Он показался мне человеком безмерно уставшим, сломленным и глубоко несчастным.
– Неужели? Я-то как раз считаю его бездушным роботом и чистейшей воды функционером. Кстати, как вам живется с Иваном Алексеевичем? Он, насколько я знаю, состоит у Цербера в списке легких. Значит, вы попали в ту же обойму. – Она пририсовывала кольца дыма к дымоходной трубе.
– Иван Алексеевич? Экземпляр интереснейший. На первый взгляд безобиден, на самом же деле безнадежный ипохондрик. Правда, ипохондрия у него камерная, распространяющаяся в основном на меня и изредка на нашего третьего соседа по столу. Он убежден, что нас всех потихоньку подтравливают в столовой. Нести свою убежденность в широкие массы он не рискует: боится быть помещенным, как сам выражается, в «желтый дом». Зато мне наедине каждый вечер сообщает приблизительно одно и то же. Очень, говорит, удобно приспособилась местная административная мафия. Главное – малозатратно. Микродоз яда в наших организмах не обнаружит ни одна лаборатория, а процесс распада на уровне клетки знай себе идет. И добавляет: неукоснительно. «Неукоснительно» – его любимое словцо. Пропускает меня вперед в дверь столовой и напутствует: «Милости прошу на неукоснительную смерть». А сегодня проснулся и, сидя в кровати, сказал: «Голова болит больше обычного, значит, вчера дозу превысили». Впрочем, Бог с ним, с Иваном Алексеевичем. Это так, пришлось к слову о легких и трудных жильцах. У вас ведь сегодня день рождения, Берта Генриховна. Разрешите от души поздравить! – Берта поразилась его осведомленности, а он продолжал, любуясь законченным ею домиком: – У меня, к сожалению, нет никакого вещественного подарка, но, если позволите, преподнесу вам то, что умею делать лучше много другого. По профессии я чтец, сорок лет отдал работе на Всесоюзном радио. А бывших чтецов, как и бывших актрис, не бывает. Вы согласны?
– Пожалуй, – кивнула Берта. – Что-нибудь из отечественных или иноземных авторов?
– Скажем так, из неизвестных отечественных. Из посвященного мне когда-то моим близким другом.
– Что ж, извольте. – Она отложила рисовальную веточку в сторону.
И Дмитрий Валентинович стал читать:
Моим глазам нельзя, нельзя К высоким строфам прикасаться, И душу строчками терзать, И, плача, ими восхищаться. Нельзя вникать в небесный звук — Тогда я дня вокруг не слышу И становлюсь и слеп, и глух, Себя и все я ненавижу. И все же я безумный чтец И слушатель слогов и строчек, И Богом посланный певец Мне сердце мучит, ум морочит. Как будто колокольный звон, Спорхнув со звонницы соборной, Все манит эхом с трех сторон, Мечтой крылатой. И покорно На это эхо легких слов В груди моей рождает отклик, Что бродит в роще из слогов, Пока в бессилье не умолкнет. И звук истает. Новый день Рябиной огорчится мокрой, И тени кленов у плетней Проявятся пятнистой охрой, А тишина заполнит круг. Рассветной синью улыбнется Туман, покинувший свой луг, И, тая, к небу вознесется. Мир стал иным. То чтенье слов Дарует сладкое смятенье Порывов и неясных снов, Игру предутренних цветов В лохмотьях растворенной тени… …И возвращенный полке том Своей потрепанной обложкой Прикроет, будто жадным ртом, Строки божественную сложность…– Прекрасно, – искренне выдохнула Берта, – особенно: «И звук истает, новый день рябиной огорчится мокрой…» Правда, очень красиво. Признаться, не ожидала. В чем-то напоминает Тютчева, только позднего. Надеюсь, вас не оскорбило такое сравнение в адрес друга?
– Что вы! Напротив, после подобных слов приходится сожалеть, что перед вами лишь чтец, а не автор. Удивительно другое: как вы с ходу запомнили строфу?
– Это у меня профессиональное. Многолетняя театральная закалка. А по поводу «лишь чтеца» скажу: суметь передать то, что выстрадал поэт, не менее важно, чем непосредственно выстрадать. Меня, признаться, всегда удручало, как читали свои стихи Вознесенский, Ахмадулина, не говоря уже о Бродском. Я скрепя сердце выносила их надрывные выкрики или заунывные невнятные псалмы. Зато как звучали те же стихи в исполнении профессиональных чтецов и актеров! Не всех, конечно, Зиновия Гердта, к примеру. Из поэтов же, кого я слышала живьем, пожалуй, только Роберт неплохо справлялся с задачей, хотя картавил и заикался. А теперь хочу вас кое о чем спросить.
– Я весь внимание, – подтянулся Дмитрий Валентинович.
– Поведайте, что держит вас на плаву, не давая упасть на колени, когда практически все позади?
Он задумался.
– Знаете… у нас с женой была необыкновенная любовь. Как говорят, любовь длиною в жизнь. А когда испытываешь подобное чувство, кажется, что рожденные от него дети должны быть непременно прекрасны. С разницей в четыре года мы произвели на свет двух дочерей. В детстве они вправду были нежными, очаровательными созданиями. Мы с женой наперебой читали им сказки о добре, побеждающем зло, водили на детские спектакли, полагая, что наша с ней родительская пара будет для них идеальным примером. Они же взяли и с годами превратились в хищных акул… непостижимым образом. И мужей выбрали под стать себе. До сих пор не понимаю, как… ну да ладно. Между тем всю жизнь до определенного момента я был закоренелым потомственным атеистом. Родители-рабфаковцы – рассказы о первых ударных стройках комсомола, даешь пятилетку в три года, любимая песня на закате дней «Коммунизм – это молодость мира»… ну, вы понимаете. И все прижизненные попытки жены приобщить меня, нет-нет, не подумайте, не к формальному лону церкви, а к вере в Бога внутри сердца терпели фиаско. Хотя моя жена, надо отдать ей должное, была человеком чрезвычайно тактичным, ни по какому поводу не приставляла ножа к горлу, не насаждала….
Берта перебила его с тяжелым вздохом:
– И вы туда же? Проповедь по спасению души читать станете?
– Ни в коем случае. Сам не люблю проповедей. Расскажу лишь то, чего, пожалуй, никому до этой поры не рассказывал, а пережил на собственной, простите, шкуре.
– Ну, валяйте, – согласилась Берта.
– После смерти жены я безнадежно затосковал. Что говорится, навечно. Тут дочери стали все активнее наседать, требовать немедленно отписать им квартиру, подключили мужей. Я подозревал, как только составлю требуемую бумагу, они попытаются вытурить меня из квартиры куда подальше. Если не составлю – изведут того хуже. Получался какой-то не совсем полноценный король Лир, что ли. Меня захлестнуло чувство особого, абсолютного одиночества. Понимаете, абсолютного, космического. Тогда я задумался: зачем вправду мне жить? И решил покончить с собой. Твердо и бесповоротно. Избрал способ, назначил себе день кончины, провел предварительную ревизию-подготовку квартиры и лег спать в уверенности, что это моя последняя ночь перед завтрашним добровольным уходом. Именно этой ночью ко мне впервые после смерти пришла жена. По сей день помню каждое ее слово. «Не смей. Нет у тебя такого права. Ты же знаешь, как я любила тебя и продолжаю любить. Прошу, испей чашу жизни до дна. Иначе нам с тобой встречи не будет». Она говорила строго и вместе с тем улыбалась. Такое, знаете ли, тепло шло от нее, что до сих пор я берегу ощущение от того сна. Убежден, проснувшись тогда, я некоторое время еще чувствовал живое тепло от прикосновения ее ладони. В том сне снизошло на меня небывалое умиротворение, спокойствие, блаженство. И бесповоротное, казалось бы, решение покончить с собой наутро показалось ничтожным, малодушным, попросту невозможным. Воплощать суицид я раздумал совершенно. Пошел к нотариусу, составил дарственную на дочерей, пусть грызутся между собой, и добровольно оказался здесь. Благо беспрерывного рабочего стажа у меня предостаточно. – Он немного помолчал. – Именно с момента того сна меня держит на плаву, не давая, как вы выразились, упасть на колени, исключительно то обстоятельство, что душа бессмертна. Откуда-то из неведомых пространств за нами приглядывают души наших близких, любимых людей.
– А что толку? Она же без памяти, душа ваша, – без особой уверенности произнесла Берта.
– Не скажите, – задумчиво откликнулся Дмитрий Валентинович. – То, что ей надо, она знает и помнит. Пастернак когда-то охарактеризовал это явление очень верно. Он сказал о недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач. Он справедливо считал, что поэтические, к примеру, озарения – одна из возможностей ощутить масштабы задумки, заглянуть за пределы земного бытия.
– Это вы про «вечности заложника у времени в плену»?
– Да, вы правильно поняли.
И Бертин дух противоречия не взбунтовался, не воспротивился; она отчего-то поверила в справедливость слов Дмитрия Валентиновича и, обратив лицо к высокому августовскому небу, произнесла:
– Да, наверное, вы правы. Сейчас я припоминаю, как жизнь не раз подбрасывала мне Божественные знаки, только я не умела их расшифровывать. Но уж один перст судьбы обязана была распознать. А вот не распознала. – Она поднялась со скамейки, вздохнула как-то по-особому трогательно. – Пойду, дорогой Дмитрий Валентинович. Спасибо за чудеснейший стих и за упоминание о моем любимом Пастернаке. А главное, за вашу искренность.
Сквозь начавшие золотиться кусты Дмитрий Валентинович смотрел вслед удаляющейся Берте и думал, что со спины ей вполне можно дать лет тридцать, от силы тридцать пять. Но дело было не в этом. Совсем не в этом. А в том, что, как виделось Дмитрию Валентиновичу, с любого ракурса она являлась вовсе не бездомной старухой, а Актрисой и Женщиной от Бога.
Глава 20. Прощальный аккорд
Она вернулась в свою обитель, поднялась в комнату, печально глянула на тумбочку с букетом дежурных гвоздик и утренней поздравительной открыткой от интерната, легла на кровать лицом к стене. Закрыв глаза, принялась шептать строчки из «Вакханалии»:
…Клочья репертуара На афишном столбе И деревья бульвара В серебристой резьбе… …За дверьми еще драка, А уж средь темноты Вырастают из мрака Декораций холсты… …То же бешенство риска, Та же радость и боль Слили роль и артистку И артистку и роль…На нее обрушились кадры старательно вытесненного из памяти эпизода. Она шла на свидание к Георгию. Их счастливый Коктебель был впереди, совсем скоро. А в то последнее июльское воскресенье семьдесят четвертого он ждал ее у памятника Пушкину. Не пожелав сесть в троллейбус от Никитских ворот, она спешила по Тверскому бульвару; каблучки ее лодочек (сегодня она позволила себе такую роскошь) приятно утопали в мягкой почве, она наслаждалась благоуханием цветущих лип, мысленно держала Георгия за руку, ловила горячие неизбывные токи, идущие от его ладони. Тогда она еще не знала, что беременна от него.
Вдруг сверху ей под ноги упало что-то маленькое, темно-серое, скользко-блестящее. Она приостановилась, пригляделась и содрогнулась – это был новорожденный воробьиный детеныш. Следом с дерева стрелой бросилась воробьиха, распластав по земле крылья, стала биться над погибшим птенцом. Подняв вокруг себя облачко пыли, она выписывала рядом с его тельцем трагичные полукружья, и истошные птичьи рыдания, вылетающие из распахнутого клюва, были страшны. «Нет, нет, не моя роль», – передернув плечами, обошла воробьиху Берта и поторопилась дальше. Вспомнила она сказанные спустя два месяца в пропитанном карболкой и эфирными парами кабинете слова пожилой врача-гинеколога: «При вашей особой конституции, голубушка, а именно при детской матке, вам удалось забеременеть чудом, природа подарила редкий шанс, а вы от него отказываетесь. Воля ваша, уговаривать не стану, но как бы потом не пожалеть». Всплыл перед глазами совсем не артистичный жест сухой врачебной руки, протянувшей ей направление на аборт. Сейчас, спустя почти сорок лет, пронзила, обожгла та минутная малодушная мысль в больничном коридоре, перед дверью в женскую преисподнюю: «Была бы жива-здорова Симочка, может быть, решилась бы… хотя что я… нет, нет… какой ребенок… Через четыре дня премьера. Мы с Георгием принадлежим искусству».
«Проклятая злодейка-память… скорей бы суббота. Приедут мои дети, заберут меня отсюда. Хотя бы на вечер. Там, в ресторане, я расскажу им про Георгия, про свою драгоценную, сыгранную лишь единожды роль. Теперь можно, они готовы. Мы разомлеем от вина, я покажу им наконец фотографию. Пусть увидят наши с ним счастливые глаза. Они все поймут. Непременно все поймут. Катя сказала, в „Пушкине“ готовят вкусные десерты. Интересно, есть ли там что-нибудь подобное „мокрому“ бисквиту из „Праги“?» Ей вдруг безумно захотелось того самого, за двадцать две копейки, «мокрого» бисквита из «Праги», когда была полна сил Симочка, когда лучшая ее роль и единственная ее любовь были впереди.
Ее вырвал из грез резкий голос Любови Филипповны:
– Я все видела!
– Что ты видела? – тихо спросила Берта, оставаясь лежать к ней спиной.
– Все! Как ты на лавке в кустах обольщала этого старого дурака Дмитрия Валентиновича. Рисовала ему пейзажи. Во-от куда зашла в своей безнравственности. Охмурительница! Мало тебе поздравления коллектива, нужно еще персональный спектакль учинить – одного актера и одного зрителя! Не стыдно морочить голову несчастному вдовцу?!
Берта не хотела сегодня с ней ссориться.
– Послушай, Люба, – миролюбиво сказала она, – откуда в тебе столько зависти и желчи?
– Зависти? Какой такой зависти?
– Самой банальной и примитивной. Не рассуждай о том, о чем в силу ограниченности не имеешь ни малейшего представления.
– Представления у меня обо всем как раз самые четкие и правильные. – Опершись о подоконник, Любовь Филипповна запела, притоптывая ногой, вибрируя старческими связками:
За горою две избушки, Печки рано топятся. Девки кудри навивают, На вечер торопятся.* * *
Я на пенсию пошла, Немного приоделася, Руки, ноги отдохнули, Замуж захотелося!– Прошу, Люба, сейчас не до твоих сельских куплетов.
Все настойчивее и яростнее Любовь Филипповна продолжала:
Он грустит, и я грущу И душой болею. А штаны ему спущу — Сразу молодею!Ты глянь, глянь в книжонку-то свою.
У Берты перехватило дыхание. Кровь остановилась в жилах. Она выдернула из-под подушки книгу, стала трясти на весу – фотографии не было. Медленно сев в кровати с обескровленным лицом, она еле слышно прошептала омертвевшими губами:
– Не смей, гадина, слышишь, не смей… своими грязными лапами…
– А что ты со мной сделаешь?! – Демонстративным жестом вытащив из кармана халата фотографию, Любовь Филипповна подняла ее над головой, намереваясь порвать.
– Убью! Убью! – В Берте поднялась неженская, нечеловеческая сила.
Сорвавшись с кровати, она бросилась на Любовь Филипповну. Закипевшая ярость непостижимым образом помогла повалить ту на пол.
Спустя несколько минут ужасающего рукопашного боя Берте удалось оказаться сверху. Почти утратившими чувствительность пальцами она впилась в шею Любови Филипповны и стала душить. Та, хрипя, суча взмокшими ляжками, разжала ладонь с измятой фотографией. Берта ослабила натиск. Воспользовавшись моментом, Любовь Филипповна вывернулась из-под Берты, по-звериному завывая, поползла на четвереньках к двери. У порога схватилась за дверную ручку, грузно поднялась с колен, распахнула дверь, вывалилась в коридор, размашистыми скачками понеслась в сторону лестницы с криком на срывающейся ноте:
– Убивают! Убивают! Спасите, люди добрые! Съехала, с ума съехала!
«Похоже, она впрямь тронулась умом. Драка – натуральный прецедент, типичное девиантное поведение. Вполне серьезный повод избавиться от нее законным путем, – закуривая после ухода не прекращающей рыдать, с разлившимися по щекам пунцовыми пятнами Любови Филипповны, решил про себя Борис Ермолаевич. – Последний наш с ней разговор был по меньшей мере странен. Прохорова, нечего сказать, та еще штучка, но Ульрих несла совсем диковатые вещи. Про испражнения на своей кровати, про яд, влитый в ухо. Подобающие ли это речи для нормального человека? Не изолирую ее сейчас, наверняка устроит светопреставление перед проверяющими. Опозорит на всю ивановскую. Вразумлял-вразумлял, а кончилось все равно безобразной дракой. Хватит. Никаких полумер. Она явно невменяема». Он отыскал в выдвижном ящике стола старую телефонную книгу и позвонил знакомому главврачу ближайшей психиатрической больницы. «Семьдесят два года? Очень нужно?» – уточнил главврач. «Очень. Агрессивна, неадекватна». «Родственники есть?» – «Родственников нет». – «Двух санитаров пришлю, врачи все заняты под завязку. Освидетельствование проведем в больнице, оформим задним числом, но учти, церемониться с ней не станем, дефицит койко-мест». – «И не надо», – выдохнул Борис Ермолаевич.
Бо́льшая часть жильцов выстроились перед зданием как на параде. В переднем ряду стояли близняшки Кацнельсон с приставленными к ушам ладонями раструбами. Берта выкрикивала:
– Вы! Старые немощные холуи! Вы все стоите на четвереньках! Трухлявые пни! Где ваше достоинство? Трусы! Вас унижают, плюют в вас, а вы утираетесь и терпите! Ваши отцы и старшие братья избавили мир от нацистской чумы! А вы?! Среди вас процветают нахрапистые злодейки, грязные воровки любови филипповны! Вами правит бездушное зомбированное существо, робот!
На этих словах в окне столовой показалась массивная фигура Раисы Степановны. Она стала подавать Берте знаки и делать страшные лица. В правой ее руке был зажат нож, для пущей убедительности она несколько раз провела им по горлу. Видя, что на Берту это не действует, Раиса Степановна бросила нож на подоконник, приставила ладони к шее и стала душить себя, выпучив глаза, высунув язык, сотрясая головой. С ее гигантских резиновых перчаток капала мыльная вода, из-под съехавшего вбок крахмального колпака выбились седые пряди. Берта отрицательно мотнула ей головой.
– Ну и дура! – отчаянно выкрикнула Раиса Степановна, со звоном захлопнув окно.
– Трусы! Все трусы, кроме одного! – с новой силой продолжила Берта. – Слышишь меня, Дмитрий Валентиныч?! Выйди на авансцену! Там, на кровати, осталась книга, принеси, пожалуйста, опереди этих монстров, пока под предводительством «плесневой юбки» они не бросили ее в костер инквизиции! Но главное-то при мне, здесь! – Она торжествующе похлопала себя по нагрудному карману кофты. – Руки у них коротки!
Старик потерянно заметался перед корпусом и ринулся ко входу.
– Вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя! – продолжала Берта, после того как Дмитрий Валентинович скрылся в дверях. – Слышите, нельзя!
Прислонившись спинами к машине «скорой», за происходящим следили два санитара. Худощавый, что повыше, спросил у малорослого, полноватого:
– Что, несостоявшийся трагик, нравится картинка?
– Супер! Полтора моих курса «Щуки» отдыхают. Тут степень мастерства на пятеру!
Тем временем Дмитрий Валентинович выбежал, задыхаясь, из корпуса, подал Берте книгу.
– Нет-нет! Книга твоя. Возьми на память, Дмитрий Валентинович. Мой тебе подарок, от души. Теперь слушай, Дмитрий Валентиныч, привет от нашего общего друга!
Прощай, размах крыла расправленный, Полета вольное упорство, И образ мира, в слове явленный, И творчество, и чудотворство!!Худощавый толкнул полноватого в бок:
– Хорош балдеть, пора.
Они подошли, взяли Берту под руки:
– Концерт окончен, бабуля. Пора на покой.
Подведя к «скорой», стали затаскивать ее в боковую дверь. Она продолжала из машины:
– Запомните! Истинное творчество не гибнет! Оно имеет крылья, проникает в души потомков, застревает в памяти…
Двери захлопнулись, машина тронулась с места.
Ворвавшийся в кабинет к Борису Ермолаевичу старик был один. «Значит, без делегации, – подумал Борис Ермолаевич, – и то хорошо».
Щуплый, на длинных худых ногах, с похожей на птичью, сидящей на тонкой шее головой, он напоминал растерянного аистенка. Запыхавшегося, его хорошенько трясло, особенно заметно это было по рукам, держащим книгу.
– Борис Ермолаевич! Прошу вас, остановите их! Это бесчеловечно! Позвоните, пока не поздно, пусть вернут ее обратно.
Сидя за столом, Борис Ермолаевич нащупал ступнями снятые туфли, морщась от боли, втиснул в них ноги.
– Бесчеловечно?! Да что вы понимаете в моей работе! Живете на всем готовом, как у Христа за пазухой. Эта ваша акция, знаете, на что смахивает? На благородство за чужой счет! Хотите саботажа и хаоса? Чтобы каждый затребовал для себя привилегий? Начал права качать? Рассказать вам, что из этого получится? Первый станете строчить на меня жалобы.
– Клянусь! Никогда! Ни за что не стану!
– А-а, бросьте!
Дмитрий Валентинович присел на стул у двери, отчаянно сотрясая головой:
– Вы же заведомо отправили ее на эшафот. Я вижу, я научился видеть такие вещи, вы сами человек измученный, исстрадавшийся. Не берите греха на душу. Вы не представляете… как потом будете с этим жить.
– Позвольте мне как-нибудь самому разобраться со своей жизнью.
– Да, я понимаю, я не должен… – Старик поднялся. – Но может быть, все же… – Он на секунду задержался в двери.
– Я своих решений не меняю. – Борис Ермолаевич прихлопнул правой ладонью по столу.
Бормоча «Жаль, очень жаль», теперь мелко тряся головой, старик удалился.
Борис Ермолаевич снова закурил, подошел к окну, распахнул его. В палисаднике перед корпусом все стихло, бывшие деятели культуры успели разойтись. Косточки на ногах пульсировали тупым нытьем. «Через неделю осень… опять обострение артроза замучает… – морщась, думал он. – Хорошо, сегодня не пятница, нет Марковны. Чего доброго, тоже надумала бы мораль читать. Развела тут будуар мадам Помпадур. Забыла, что ее обязанность лечить, а не изображать утонченную покровительницу искусств».
– Господи! – неожиданно крикнул он во весь голос в окно. – Как же они мне все осточертели! Все до единого. – И следом прошептал: – Но самые из них гнусные – актеры.
На его памяти было их не так уж много, но он помнил каждого поименно. Певцы, музыканты, художники, работники радио и телевидения были другими, на них, если возникала нужда, находилась управа. Это же сучье артистическое племя было неуправляемо. «Лицедеи, шуты гороховые, похабники и скандалисты, гремучая смесь белых роз с черными жабами. Знал белобрысый поэт, о чем писал. Мало того что сам был похабником и скандалистом, так еще вечно якшался с артистической шушерой». Борис Ермолаевич затушил в пепельнице окурок, запер кабинет изнутри, подошел к стеллажам с документацией, просунул руку за папки, достал завернутый в темную ткань небольшой предмет. Вернувшись к столу и сев, положил предмет перед собой, развернул ткань. Это был трофейный «вальтер П38». Сколько раз на протяжении пятнадцати лет, в той, другой, до женитьбы, жизни, ему хотелось употребить пистолет по назначению. Вернуться в родной городок и расстрелять тех, из-за кого покончила с собой Тася. А потом убить себя. Пуль хватило бы. В магазине было пять из восьми патронов. Но каждый раз, рисуя себе в деталях картину мщения, он содрогался от мысли, что станется с матерью. Он не мог обречь ее на пожизненную муку. Сейчас, продолжая держать левую ладонь на холодной стали пистолета, Борис Ермолаевич включил на портативном магнитофоне любимую песню Высоцкого «А сыновья уходят в бой». Проверка пистолета, его чистка и смазка давно стали для Бориса Ермолаевича лишь ритуалом памяти об отце. Но именно сегодня, дослушав песню до конца, Борис Ермолаевич почувствовал себя совершенно свободным. На него снизошло право распорядиться своей жизнью. Сегодня, за эту песню, он простил Володе его актерство. Выключив магнитофон, он тихо повторил: «На этот раз мне не вернуться», привычным движением, как делал множество раз, проверил патроны в магазине, положил пистолет в карман пиджака и вышел из кабинета.
В ближайшей лесополосе он снял ботинки и носки, носки сунул в ботинки, ботинки швырнул куда-то между деревьев. Ступни его, ощутив влажную прохладу земли, колкость веток, перестали ныть. Первый выстрел на всякий случай он произвел в воздух. Подняв голову к небу, набрав полные легкие воздуха, не боясь показаться смешным ни траве, ни деревьям, ни птицам, ни ветру, он выкрикнул: «Тасенька, родная моя, иду к тебе!» – и выстрелил себе в сердце.
Глава 21. Поздно – не поздно
Они ехали к Берте. Кирилл сидел справа от Сергея, Катя – на заднем сиденье, рядом с ней лежал роскошный букет белых роз с синими ирисами.
Сергей оставался верен себе:
– Последний вопрос: она в трусы не подпускает? Памперс на всякий случай пусть наденет, а то я на понедельник договорился с покупателем, мне кресла нужны в лучшем виде.
– Достал со своим казарменным юмором, сам смотри не подпусти, – разозлился Кирилл, – было бы что портить, велюр галимый, не раскрутил свою миллионершу на кожаный салон.
Катя, легонько дернув Кирилла сзади за ворот свитера, шепнула: «Не надо», но Сергей заржал вполне миролюбиво и прибавил скорость.
В который раз Катя набирала Бертин номер. Вместо гудков в трубке звучало одно и то же: «Абонент недоступен». Эти слова успели стать ненавистными, содержащими зловещий, убийственный смысл. «Абонент недоступен». Что может быть страшнее? «Абонент недоступен…» Они почти подъезжали к интернату, когда у Кати зазвонил телефон. В надежде, что это Берта, она схватила трубку, не глянув на номер, и услышала голос матери:
– Катенька, это я, только не отключайся. Прости меня, девочка моя родная, доченька моя, прости…. Нет у меня никого, кроме тебя. Я со Светой связь держала, все время о тебе узнавала, двадцать второго весь день проплакала, твоего отца вспоминала, тебя маленькую. Я по-настоящему только его любила. Ты это знай. А этого я выгнала, не думай. Навсегда. Застала его неделю назад дома в постели с какой-то девкой. Возвращайся домой. Мы поговорим. Я мебель в комнатах поменяла, возвращайся, слышишь, иначе с ума сойду. Не могу одна, на стены бросаюсь.
– Слышу, мама. – Голос у Кати почти пропал, к горлу подкатил комок, в носу и глазах защипало. – Дай мне время, мама. Я позвоню тебе сама… завтра.
– А-а-а, поколение «некст»? – Любовь Филипповна, сложив руки под грудью, стояла, опершись задом о пустой подоконник. Кипа ЗОЖей перекочевала с подоконника на Бертину тумбочку. На кровати Берты в разнообразных конфигурациях лежали и висели многочисленные юбки. В комнате плотно пахло плесенью. – В психушке ваша подруга. Там ей место! Все из-за нее! Из-за чертовой актерской куклы!
– Заткнись, сука, – дернулся в ее сторону Кирилл.
Катя удержала его:
– Не надо, пойдем.
Они ушли.
Резко развернувшись к окну, Любовь Филипповна заплакала. «Фу ты… откуда эти дурные слезы?» Она зло растирала их кулаком. Но ее слезоточивые каналы словно прорвало, слезы катились, катились, падая на подоконник, сливаясь в озеро жгучей тоски и скорби. «Что ж ты с собой натворил, Ермолаич, зачем?! На кого ты покинул нас?»
– Что у них за беготня, ментов понаехало? – спросил Сергей, когда с теми же цветами, но без Берты, они вернулись к машине.
– Бред какой-то, – пожала плечами растерянная Катя. – Директор, сказали, застрелился. Три дня искали, вчера тело в лесу обнаружили, сотрудников опрашивают.
– Круто. А ваша куколка где?
– Старшая медсестра сказала, в среду забрали в психбольницу. Получается, теперь спросить не с кого.
– Упекли в психушку? – Сергей присвистнул. – Не удивляюсь, старушенция, помнится, с характером. Думаю, копец ей, как этому директору.
– Не каркай, – попросила Катя. – Она нормальнее нас всех.
– Каркай не каркай, исход предрешен. Адрес срисовали?
– Да. У старшей медсестры за деньги. Село Каменское по Киевскому шоссе.
Вынув из бардачка и включив устройство GPS, Сергей нашел означенный пункт:
– Вообще-то далековато. Ладно, давайте довезу, все равно день пропал.
Они сели в машину, Сергей рванул по газам.
– Учтите, – увещевал он их по дороге, – там кругом замки, посетителей шмонают, фиг прорвешься. Отцовский приятель однажды загремел в подобную больничку с «белочкой», отец пару раз его навещал, крутые страсти потом рассказывал. Что делать собираетесь?
– По ходу пьесы решим, глядишь, российский бардак поспособствует… и врачебная страсть к деньгам, – ответил Кирилл.
«Я сегодня первый день из отпуска, – средних лет сотрудница вела загорелым пальцем по графам журнала, – как говорите, Ульрих? Вот, нашла. Палата двенадцать. А ваши пропуска где?» – «Мы через проходную внизу, по-вашему, как прошли?» – с этими словами Кирилл увлек Катю вперед по коридору.
Они ворвались в палату 12, где не было Берты. Одна из кроватей зияла голым бесстыдством двух старых ватных матрасов. Верхний – бугристый и тощий, в коричнево-желтых разводах и темно-бурых пятнах, – пялился на них с откровением живого существа, демонстрируя изнанку многих нечеловеческих страданий. Первым из оцепенения вышел Кирилл.
– Пойдем, – сказал он, – попытаем эскулапов, куда они ее сплавили.
– Подожди.
Заметив что-то, Катя подошла к кровати, наклонилась, потянула за торчащий между матрасами крохотный уголок. Это оказалась черно-белая, в изломах и трещинах, фотография, с которой улыбались, стоя в обнимку на фоне моря, озаренные счастьем мужчина и женщина – молодые и редкостно красивые. На обороте было написано: «Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда…» Катя вмиг узнала Бертин почерк и строку из любимого «Романса» группы «Сплин». Подняв на Кирилла рыжие в крапинку глаза, где дрожали собравшиеся завесы слез, она прошептала:
– Это он.
– Кто? – не понял Кирилл.
– Ее Георгий… она так и не успела… ее, наверное, больше нет, Кирилл, понимаешь, нет! – сорвалась она на тихий крик.
– Да подожди ты. – Он обхватил ладонями Катину голову, прижал к себе. – Может, еще не поздно.
Тут раздался душераздирающий хохот. Хохотала молодая, обритая наголо толстуха, сидящая на кровати у окна: «Не поздно, не поздно, не поздно, классное слово!» – Скрипя панцирной сеткой, все сильнее раскачивалась она, тыкая пальцем в пустую кровать.
Они спешили, почти бежали по коридору, читая на ходу дверные таблички.
– Вот. Дежурный врач. – Кирилл торопливо постучал.
Из-за двери выглянул парень в зеленом халате и колпаке:
– Вам кого?
– Ульрих Берта Генриховна из двенадцатой палаты, где она?
– Айн момент. – Дверь прикрылась.
Донесся приглушенный диалог:
– Сан Саныч, там молодняк какой-то просочился, Ульрих спрашивают.
– У нас проходной двор, что ли, как в прошлую субботу?
– Звонок внизу починить не успели.
– Валера там на что? Гнать его к черту, вечно линяет за сигаретами, когда не надо. Ульрих под утро ласты склеила, ночная смена доложила. Петрович постарался, любитель суровых мер. Ты в среду дежурил, сколько ей лет, помнишь?
– Много.
– Ну вот. Что там насчет родственников?
– Родственников нет. Что ответить-то им?
– Гони их помягче как-нибудь, без эксцессов.
Медбрат вышел в коридор:
– Вы вот что, ребят…
– Подожди, – оборвал его Кирилл. – Иди на улицу, – велел он Кате, – я сам тут разберусь.
– Нет, Кирилл…
– Иди, я сказал, – повторил Кирилл.
Когда за Катей хлопнула дверь отделения, Кирилл приблизился к медбрату вплотную:
– Так что с ней случилось?
– Ничего особенного, – медбрат дергался, как на шарнирах, – обширный инсульт, по старинке говоря, апоплексический удар.
– С чего так? У нее со здоровьем было все в порядке. Может, скажешь правду?
– Я и говорю правду, какие сомнения?
Кирилл схватил дерганого за грудки, тряхнул как следует, вжал в стену:
– Вы скоты.
Тот, выпучив глаза, вцепился в руку Кирилла:
– Ты что, парень, я здесь при чем? Меня не было двое суток, сегодня утром на смену заступил.
Кирилл достал из заднего джинсового кармана пятитысячную купюру, сунул под нос дерганому:
– Двадцать второго в среду ты дежурил? Давай правду.
Медбрат впился взглядом в новенькую желто-оранжевую бумажку:
– Думаешь, тебе от правды полегчает?
– Мне не надо, чтоб полегчало.
В коридоре тем временем сбилась стайка больных, они дружно и жалко улыбались, участливо кивая в сторону Кирилла головами.
– А ну марш по палатам, щас всем вкачу! – заорал на них медбрат.
Больные бросились врассыпную.
– Ладно, – покосившись на дверь кабинета, медбрат спрятал купюру в рукав халата, – фейерверк при поступлении устроила, завотделением у нас нервный, шума не любит. Мог организовать в четверг – пятницу передоз с электрошоком, результат – кровоизлияние в мозг. Больница переполнена, дефицит койко-мест, негласная разнарядка насчет одиноких стариков.
– Петрович? – Кирилл отпустил его халат.
– Он. – Медбрат пригладил лацканы. – Мы что, люди маленькие. Но его сегодня нет, он выходной. Потом, все равно ничего не докажешь, даже не рыпайся. Еще есть вопросы?
Кирилл молчал. Дерганый, окончательно успокоившись, взял его под локоть, подвел к окну в торце коридора, через решетку показал на одноэтажный барачного вида домишко в глубине территории:
– Там она. Запомни, я тебе ничего не говорил. Подруге своей доложишь официальную версию про инсульт. Мне головная боль не нужна.
– Что они с ней сделали, Кирилл? – ринулась к нему Катя, как только он вышел на улицу.
Кирилл решил пощадить ее, конечно, не ради медбрата:
– Фотографию у нее хотели отобрать, она стала сопротивляться, Петрович, здешний санитар, случайно не рассчитал силы, короче, удар с ней произошел. Санитара этого уволили вчера.
– Почему все так, Кирилл? – глядя себе под ноги, прошептала Катя.
Кирилл молчал.
Маленький худосочный сторож, сидящий на лавке рядом с дверью морга, поднял на них выцветшие глаза:
– Ну-у, подкинули спозаранку двух пожилых жмуров – мужика и бабу. Ночью отошли, значить.
Оглушенная происшедшим Катя задала неожиданно детский вопрос:
– Что же теперь с ними будет?
Щеки сторожа повело подобием однобокой ухмылки.
– Не бзди, дочка, дурного с ними не будеть. У кого родственники, тех бы-ыстро разбирают. Холо дильников-то у нас на хозяйстве нет, не держим мы холодильников. А для бесхозников два пути. Кой-кого в анатомичку, студентам, стало быть, на вскрытие, остальных в перевозку и в общий котел на прожарку.
Он сделал паузу, ожидая следующего вопроса.
Не дождавшись, продолжил:
– Потом, будьте любезны, пепел в кучу и на удобрения. Плохо ль? Опять-таки для матушки-землицы польза немалая. Мотайте, значится, домой, раз разрешительной бумажки никакой нема.
Видя, что они не уходят, продолжают стоять перед ним как вкопанные, он высморкался в ладонь, тщательно вытер пальцы об штанину.
– Главное, чтоб тута и тута осталось, – ткнул он кулаком в иссохшую грудь, потом пару раз постучал по голове. – У меня, к примеру, – зайдясь утробным кашлем, он вернул пятерню на грудь, – давно все тута выгорело.
Почти у ворот они снова услышали его хрипатый голос:
– Так уж хотите проститься?
Оглянувшись, они, не сговариваясь, кивнули.
– Тогда тараньте чекушку и закуски какой-нибудь, пока я на хозяйстве, а то через час сменщик придет. За углом магазинчик имеется.
Они вернулись, бросили букет на лавку рядом с ним, пошли в магазин.
– Вы куда? – Сергей приоткрыл дверь машины.
– Сторожу за водкой, – ответил Кирилл.
– Выяснили? Кирдык вашей спасительнице?
Кирилл махнул на ходу рукой.
– Вот вам «Пушкин», сукин сын. Ждать вас?
– Нет, Серый, езжай. Мы сами доберемся.
– Точно? Ну как хотите. – Сергей мягко захлопнул дверь и уехал.
Вернувшись, они протянули сторожу чекушку и колбасу. Тот, спрятавшись за угол барака, осушил чекушку залпом, колбасу понюхал через обертку, заботливо опустил в карман, тут же приободрился:
– Ну, пошли. Букет-то возьмите. Букетик зна-атный, чего добру пропадать? – кивнул он на цветы. – Почесть последнюю отдать.
По щербатым ступеням они спустились за ним в полуподвал.
Он по-хозяйски командовал парадом:
– Носы заткните, с непривычки в голову шибануть можеть, следом – в ноги. Мне обмороки ваши тута не нужны. – Громыхнув задвижкой, он толкнул тяжелую, поеденную ржой металлическую дверь, спустился еще на три ступеньки, поманил их рукой, не оглядываясь. – Вот она, Ульрих ваша. Пополудни уж не застали б. Фамилия какая-то… еврейская, что ли…
– Немецкая, – прошептала Катя.
– Ишь ты, за немцем по молодухе, значить, замужем была… чего ж в Германию в свой срок не укатила? Там, слышал, экономика.
На деревянных топчанах лежали два накрытых простынями тела. Одно показалось им совсем маленьким, полудетским. Нащупав Катину ладонь, Кирилл с силой сжал ей пальцы. Сторож откинул край простыни. В тусклом свете двух лысых лампочек в сорок ватт они смотрели в лицо пожилой женщины, таинственно, жутковато улыбающейся чуть приоткрытыми губами. Это было лицо незнакомой женщины. Полумрак не мог так нещадно обманывать их – это была не Берта. Заметив на висках жертвы два небольших кровоизлияния, оба подумали: «Наверное, от электрошока».
– Это не она, – громко сказала Катя.
– Дык, многие так думають, когда столкнуться, бирку-то на ноге не обманешь. – В голосе сторожа просквозила обида. – Бирку гляньте, Ульрих, точно.
– Нет, дед, это не она. Эскулапы что-то напутали. – Кирилл сорвал с многострадального букета целлофан, положил цветы умершей на грудь. Розы и ирисы, не успевшие упасть на пол, причудливым веером обрамили загадочно улыбающееся чужое лицо. – Пойдем, – сказал он Кате.
День на выходе из подвала брызнул им в глаза прозрачной, неожиданно яркой чистотой. Птицы заливались, словно весенним утром. Больничные ворота были распахнуты. У дверей приемного отделения сдавала задним ходом машина «скорой». Из кабины гремело «Авторадио». Растворив задние дверцы, на землю спрыгнул плотного вида санитар, развернувшись спиной к автомобильному нутру, потянул на себя носилки с пристегнутой ремнями очередной больничной жертвой. В глубине машины ему подсоблял смачно матюгающийся напарник.
– Через центральный вход больше не прокатит, – шепнул Кирилл Кате, – охранник наверняка вернулся. Попробуем через приемное, пока они пациента выгружают.
Им удалось проскользнуть мимо занятых пациентом санитаров. По боковой лестнице они взметнулись на второй этаж. Там был запасной вход в отделение. На двери со стороны лестницы висел амбарный замок. «Полный тупик», – отчаялась Катя. Кирилл со злостью дернул замок, тот неожиданно легко хрястнул и остался у него в руке. «Сплошная бутафория», – с усмешкой заметил Кирилл. Они приоткрыли дверь, обзор коридора в щель был хорошим. Вскоре им повезло: послышался нарастающий дребезжащий звук – знакомый медбрат вез мимо по гулкому коридору пустую каталку.
Кирилл поймал его за рукав, затащил за дверь на лестничную площадку.
– Опять вы? – обалдел тот от неожиданности.
– В морге не Ульрих.
– А кто? – Медбрат снова задергался всем телом. – Ошибка исключена. – И вдруг завелся: – Да кто вас впустил?! Все, достали, охранника вызываю.
Кирилл вырвал у него телефон:
– Деньги отрабатывать положено. Ты Ульрих нам предоставь, живую или мертвую, без кипиша, по-тихому.
– Меня уволят к едрене фене из-за ваших пяти штук.
– На, возьми еще. – Кирилл сунул ему в карман еще одну пятитысячную купюру.
– Ладно, ждите. Одиночки проверю, может, там.
Его торопливые шаги удалялись в глубь коридора, пока совсем не стихли.
– Кинет он нас, Кирилл, – предположила Катя.
– Не думаю.
Прошло десять показавшихся им вечностью минут, когда запыхавшийся медбрат вернулся:
– Жива. В одиночке. Вчера перевели, похоже, как особо буйную. Ночная смена реально с летальным попутала.
Катя вцепилась ему в руку:
– Пожалуйста, проведите меня к ней.
Медбрат, глянув на Кирилла, осторожно отстранился от Кати:
– Исключено. Она на вас не среагирует, накололи ее хорошо.
Катя закрыла лицо руками.
– Не дергайтесь, превратить в овощ за четыре дня нереально. Я вам как специалист говорю, тут минимум три недели нужно. На стариков расходовать препараты так долго не станут, со стариками другая схема. Одиночка, скажу, плохой знак, там у нас не залеживаются.
– Может, ее выкрасть?
– Здесь я пас. Хотите ее вытащить, приезжайте с утра в понедельник, с главврачом пробуйте договориться. Расписку об ответственности состряпаете, ну и так далее. – Медбрат со значением потер в воздухе пальцами правой руки. – Меня только не подставляйте, мне новую работу искать некогда: жена вот-вот родит.
Они снова вышли на улицу. Сели на скамейку, где курили освободившиеся от хлопот по устройству пациента санитары.
– Как быть, Кирилл?
– Забирать по-любому. Только куда? Не к «прости Господи» же везти, они двух дней вместе не протянут – полные антиподы.
– А твой отец? Может, позвонишь ему, пересилишь себя?
– Позвонил бы, корона бы не упала, но он темы не оценит, слишком хорошо его знаю. Ты говорила, Берта в приличных отношениях с врачом из интерната была?
– Да, с Натальей Марковной, но у меня нет ее телефона.
– В богадельню снова ехать – дохлый номер, там сейчас не до нас.
– Сколько у тебя осталось ресторанных денег, Кирилл?
– Десять тысяч.
– Ладно. – Катя достала телефон, застыла над ним несколько секунд, открыла последний входящий, нажала вызов. – Мама, это я. Вот, звоню сегодня. Ты только не перебивай, дай договорить, для меня это очень важно. Нужно забрать из больницы одного человека, женщину. Помоги раз в жизни. Мне надо знать сейчас, помочь сможешь?
– Да! Да! – прокричала мать так громко, что вздрогнул Кирилл и встрепенулись санитары. – Света что-то говорила, она бывшая актриса? Когда нужно? Я могу! Могу сейчас! Где больница?
– Нет, сегодня не отдадут. В понедельник утром, но не позже. Только понадобятся деньги, у нас всего десять тысяч, их не хватит, я отдам позже, когда смогу, и машина нужна.
– Деньги есть, машина на ходу. Все сделаю, дочка.
– Я на тебя рассчитываю, мама. – Катя нажала отбой.
Они с Кириллом посмотрели друг на друга. И слились в долгом поцелуе.
– Аж завидно, – встал, потягиваясь, со скамейки один из санитаров, – может, и нам слиться в засосе, Федюня?
Фиолетовые и красные всполохи сменяли друг друга, справа и слева расходились желто-синие круги. Иногда круги и всполохи рассеивались, тогда на передний план выплывала большая пегая собака, неподвижно сидящая в позе сфинкса. Она была заметно стара, ее тяжелая морда с обвисшими брылями не подавала признаков жизни, глаза были закрыты морщинистыми складками век. С одного угла ее приоткрытого черного рта стекала нить мутной слюны. И все же, если вглядеться, худые впалые бока собаки дышали. Где-то далеко-далеко за собакой тонкой иглой-пульсаром мелькала белоснежная балерина, неустанно крутившая фуэте. Необходимо было, минуя собаку, оказаться рядом с балериной и там, в ее реальности, выведать секрет ее нескончаемого юного танца. Требовалось усилие – таинственное, невероятное. Во что бы то ни стало разгадать тайну усилия… это возможно, возможно… Вместо разгадки из параллельной реальности всплыли голоса: «вытри ей слюни, подушка мокрая…», «салфетки, твою мать, в процедурной забыла…», «ладно, так высохнут, ставь быстрей укол, у нас тринадцатая и четырнадцатая еще не окучены».
И взметнулась ввысь белоснежная балерина, рассыпалась на тысячи огненно-рыжих песчинок собака-сфинкс, исчезло напряжение разгадки. Все заволокла тьма. И кажется, потекла вечность… Но вдруг в вечность простерлись чьи-то руки, подхватили, стали выволакивать из тьмы. Снова зазвучали голоса. Не прежние, другие. Тьма отчаянно сопротивлялась, но руки оказались сильнее.
В больничном одеянии, как ее привезли, Берта лежала вечером понедельника в Катиной комнате на новом диване. Катя, сидя на краю дивана, держала ее за руку. На пороге комнаты, с тарелкой почти остывшей каши и чашкой молока на подносе, растерянно стояла Катина мать.
– Берта, прошу, возвращайся, хватит молчать. Нужно поесть, помыться, смыть с себя больничную вонь. Прошу, очнись. Ты давно собиралась рассказать мне историю с Георгием, обещала, обещала, я ждала так долго, фотография у меня, слышишь, ты не…
Берта дернула головой, покосилась на Катю с привычным прищуром, сказала медленней обычного, немного заплетающимся языком:
– Слышу, Катиш. Я помню. Чем пахнет? Опять пшенка? Надеюсь, не горькая?
– У нас не горькая, – сквозь слезы рассмеялась Катя.
Эпилог
Нотариус Матис Бертье посмотрел на часы. До прихода первого клиента оставалось двенадцать минут. «Успею, пожалуй, выпить кофе». Набрав внутренний номер, он строго сказал: «Анник, пожалуйста, двойной эспрессо с одной ложечкой сахара и тонким ломтиком лимона. Только, прошу, ничего не перепутайте». Анник была премиленькой, но бестолковой, как все молоденькие секретарши. Испытанная старушка Корнели, доставшаяся Матису Бертье вместе с кабинетом в наследство от ушедшего на пенсию старика Бюше, вела документацию безупречно, к тому же умела делать грандиозный массаж воротниковой зоны, но Бертье, перебравшись сюда полгода назад, махнул рукой на массаж, решив поменять не только мебель, но и секретаршу. Он был убежден: клиентам в приемной куда приятнее смотреть на свежее молодое личико, что, в свою очередь, положительно отражается на работе его самого – Матиса Бертье.
На прошлой неделе звонил известный парижский импресарио Серж Пикар, просил записать на утренний час некоего Жоржа Дадиани, именитого постановщика-балетмейстера, чтобы тот ни минуты не ждал в очереди. «Он, кажется, серьезно болен, решил составить завещание. Пожалуйста, прояви максимум любезности, не задавай лишних вопросов, характер у него жуткий, но он гений, черт побери этого бывшего русского», – предупредил Пикар.
Ровно в одиннадцать Анник сообщила, что клиент прибыл. Матис Бертье, изобразив на лице радушную улыбку, открыл дверь кабинета лично. Подтянутый, с красивой проседью пожилой человек в черном кашемировом пальто протянул руку для приветствия. Бертье, пожимая его руку, словно почувствовал прошедший сквозь ладонь электрический ток. «Ого! Ничего себе мощь, никакого намека на болезнь», – подумал Бертье. От взгляда нотариуса, имевшего глубокое пристрастие к дорогой обуви, не ускользнули великолепные ботинки ручной работы фирмы Berluti на ногах клиента. Вслед за рукопожатием тот снял и повесил на вешалку пальто. Черный, тончайшей шерсти свитер с вырезом под горло, темно-серые, с шелковой нитью брюки, никаких дополнительных деталей, как то: наручных часов, шейного платка или запаха парфюма.
– Итак, позвольте без преамбул, – сказал Дадиани, садясь за стол и доставая документы из папки крокодиловой кожи. – Парижскую квартиру и дом в Биаррице я желал бы оставить двум моим сыновьям, а именно: старшему – дом, младшему – квартиру. Здесь копии их паспортов, фамилии у них разные, они не Дадиани.
– Живут в России? – уточнил нотариус.
– Почему? Оба родились в Париже. Носят фамилии матерей.
– Понял, извините, – кивнул нотариус. – Весьма правильно, что вы озаботились, так сказать, заранее.
– Далее, половину суммы, которая окажется на моем счету на момент смерти, я хотел бы перечислить в Москву некоей Берте Генриховне Ульрих, двадцать второго августа тысяча девятьсот сорокового года рождения. Надеюсь, она жива и здорова. Если сменила фамилию или адрес, разыскать ее по дате рождения и имени-отчеству не составит труда. Вторую половину денежных средств я завещаю «Русскому дому престарелых» при Сент-Женевьев-де-Буа. Но только в том случае, если администрация кладбища выдаст разрешение на захоронение моего праха в могилу деда. Документы, подтверждающие родство, когда понадобится, привезет мое доверенное лицо.
Холодность и отрешенная деловитость этого человека, несмотря на просьбу Сержа обойтись без лишних вопросов, задели нотариуса, он не удержался:
– А ваши жены? Вы ничего не…
– Я не был женат, – оборвал нотариуса клиент. – Повторяю, средства для дома престарелых должны быть перечислены в том случае, если администрация кладбища даст разрешение на захоронение моего праха в могилу деда.
– Простите, месье Дадиани, а если администрация не выдаст такую бумагу? Я знаю, на Сент-Женевьев-де-Буа с этим давно огромные сложности. Если только сумма окажется весьма и весьма…
– Сумма окажется весьма и весьма.
– И все же мне необходимо отразить на бумаге, как поступить с вашим прахом в случае отказа?
– В таком случае мне абсолютно все равно. Пусть сыновья развеют над Сеной, а оставшуюся сумму разделят между собой. Если же разрешение будет дано, то на надгробной плите, ниже сведений о деде, под фамилией и датами моего рождения и смерти, надлежит сделать следующую надпись, – Дадиани придвинул к нотариусу отдельный листок, – непременно на двух языках, места там хватит. Пожалуй, все. – Он встал, подошел к вешалке, снял и перекинул через руку пальто. – Я не прощаюсь. Завтра в это же время заеду поставить подпись под завещанием.
Закрыв за ним дверь, Бертье взял со стола листок, отделенный от остальных, подошел к окну, посмотрел, как шофер открыл Дадиани заднюю дверь «мерседеса» и тот, подхватив полы пальто, грациозно сел в машину, блеснув напоследок правым ботинком. Когда «мерседес» тронулся с места, нотариус прочел напечатанное на бумаге:
L’éternité attire in éluctablement vers elle cette danse inachevée, où nous nous trouverons un jour heureux…
Неоконченный танец непременно уходит в вечность, и когда-нибудь мы будем счастливы в нем…
«Ох уж эта мне вышедшая из России театральная boheme. – Матис Бертье во второй раз пробежал глазами по французскому варианту фразы. – С колько высокопарности в двух строчках. А еще нас, французов, считают снобами. Танец, видите ли, уходит у него в вечность. Хотя… это, пожалуй, можно представить при хорошо развитом художественном воображении. Но почему “мы” вместо “я”? Извращенное имперское величие, присущее русским? Непонятно. Надо немедленно позвонить, уточнить, не ошибся ли он в эпитафии с местоимением».









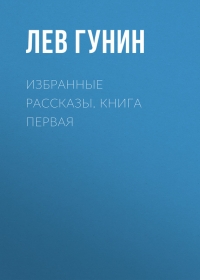




Комментарии к книге «Браво Берте», Оксана Евгеньевна Даровская
Всего 0 комментариев