Даниэль Глаттауэр Дар
Брауншвейгским чудом называют серию анонимных денежных пожертвований в пользу социальных и благотворительных учреждений, а также отдельных людей, несправедливо попавших в бедственное положение; а началось все это в ноябре 2011 года.
Daniel Glattauer
GESCHENKT
Copyright © Deuticke im Paul Zsolnay Verlag, Wien 2014
© Набатникова Т., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Глава 1
Мануэль
Совсем не таким я представлял бы себе своего сына. Иногда я поднимал взгляд от монитора, делая вид, что размышляю. А на самом деле наблюдал за Мануэлем – именно тайком, когда он не знал, что за ним наблюдают; и он отнюдь не казался самостоятельным. Честно признаться, меня возмущало, что его зовут Мануэль, я считал это несправедливым по отношению к нему и ко мне. Почему не спросили меня? Я не допустил бы никакого Мануэля, я восстал бы против Мануэля – по крайней мере, против имени. А против Мануэля как человека… ну что тут скажешь, такова была моя свыше данная участь. Моя участь обычно была для меня слишком высокой планкой. Ладно бы она оставалась там, наверху, ну хоть когда-нибудь. Но ведь нет же, рано или поздно каждый из судьбоносных моментов моей жизни сваливался на меня и говорил: «А вот и я». В данном случае это произошло в виде моего четырнадцатилетнего сына.
* * *
Десятый день пребывания Мануэля со мной протекал буднично, как почти все понедельники в этом году. Вторники, впрочем, тоже. По средам я часто брал себе свободный день, а уж остаток недели проходил как-то автоматически. Значение этого понедельника раскрылось мне лишь много позже. И тут я, несомненно, должен отдать дань моей сорокатрехлетней и заметно помутненной алкоголем памяти – за то, что она сумела задним числом собрать воедино так много картинок, да еще с живым звуком, по большей части связанных с моим сыном, который сидел у меня в кабинете и выполнял домашнее задание или просто делал вид, что выполняет.
– Ну как, ты справляешься? – спрашивал я.
– А почему я не должен справляться?
Может, все четырнадцатилетние подростки с пушком над верхней губой и регистром голоса где-то между расстроенной скрипкой и испорченным контрабасом были такие же противные, как этот, не знаю, но меня это изрядно раздражало.
– Я не хочу знать, почему ты не должен справляться, я хочу знать, справляешься ты или нет, – отвечал я.
– А кто тут говорил, что ты хочешь знать, почему я не должен справляться? – интересовался он.
Он спросил об этом потому, что знал: я наверняка не буду втягиваться в такую тупую дискуссию и наш диалог тем самым будет закончен. Ибо одной из проблем в моих еще совсем новых отношениях с сыном было то, что Мануэль терпеть меня не мог. Это объясняло и все те мутные, пустые и скучающие – на грани зевоты – взгляды, которыми он одаривал меня уже вторую неделю. Они лишь отражали то, что он видел: меня. Если бы он знал, что я его отец, он бы, может, и не полюбил меня, но был бы ко мне, пожалуй, милосерднее.
Однако он этого не знал. Да я и сам, признаться честно, узнал об этом лишь пару недель тому назад.
Алиса
В начале лета Алиса позвонила мне и высказала сожаление по поводу того, что у нас давно уже не было вообще никаких контактов. И не встретиться ли нам снова, ведь у нее накопилось так много новостей. Вообще-то, на Алису я больше не рассчитывал. Вот на Таню, на Бригитту, на Кати, ну разве еще на Коринну, а при случае даже на Соню – да, но никак не на Алису. Я бы никогда в жизни не подумал, что ее огорчает отсутствие между нами контакта – особенно после ее тогдашнего ухода, вот ведь как можно обманываться в людях, пусть и в женщинах, к этому у меня был просто природный дар.
– Да, конечно, давай встретимся, с удовольствием. Где? – спросил я.
– Лучше всего у меня, – сказала она.
«Лучше всего у меня». Эти слова оказывали на меня исключительно волшебное действие, и если кому из мужчин при этом удается не думать в совершенно определенном направлении, да еще в начале лета, когда и без того чувствуешь себя необузданным, то сердечные им поздравления. Я лично на это неспособен. Чтобы как-то скоротать три дня до назначенной даты, я выгреб старые фотографии с Алисой, с нашего уикенда в Гамбурге, и мне оставалось только надеяться, что она за это время набирала в год не больше полкилограмма веса. Семь с половиной дополнительных кило я мог бы как-нибудь пережить.
Впрочем, мы и провели-то вместе всего лишь тот единственный гамбургский уикенд. Потому что тогда я был еще женат на Гудрун, а Гудрун была уже месяцев семь как беременна Флорентиной, и это во время обратного полета из Гамбурга сделало Алису предметом моей печали, ведь всякий раз, когда мне боязно, я становлюсь уязвимым. А летать я очень боюсь. Не буду в претензии, если кто-то сейчас подумает, что я был – или даже по-прежнему остаюсь – большим мерзавцем, но ведь не всегда все так, как выглядит со стороны, даже если выглядит сильно похоже. Однако вернемся к встрече с Алисой.
Собственно, мне хватило пары секунд на ее пороге, чтобы понять, что напрасно я брился. Не стоило распинаться, изображая, как фантастически все еще можно выглядеть пятнадцать лет спустя и как благотворно сказывается на лице человека то, что он твердо шел своим путем. Поскольку в случае с Алисой это, к сожалению, вообще больше не играло для меня роли, потому что я больше не играл никакой роли для нее. Она получила медицинское образование и работала в организации типа «Врачи без границ», хотя границы-то как раз были, ведь они курировали проекты исключительно в Африке. И Алиса собиралась в Сомали, где ей предстояло начиная с сентября за полгода создать новый опорный пункт организации. И почему-то ей понадобилось срочно сообщить об этом не кому-нибудь, а мне, человеку, которого она тогда, после приключения в Гамбурге пятнадцать лет назад, послала к черту. Вот только я еще не знал почему.
– А ты, Гери, как? Что поделываешь? – спросила она.
Это было вдвойне обидно. «Гери» значило, что я в ее глазах все еще недостаточно созрел для Герольда. А «Что поделываешь?» звучало совершенно так, как будто она и мысли не допускала, что я способен что-то и делать. Так, разве что поделывать что-нибудь спустя рукава. Должно быть, это было по мне заметно.
– Я все еще журналист, но уже не в «Рундшау», а в более мелкой… э-э-э… бесплатной газете, которую тебе читать не доводилось. Я веду в ней социальный раздел.
– Социальный? Но это же прекрасно, – сказала она.
– Да, прекрасно.
– И где находится ваша редакция? – спросила она.
– В Нойштифтгассе.
– И у тебя там есть рабочее место?
Я и сам не нахожу свою жизнь такой уж захватывающе увлекательной, но все же думаю, что заслужил и несколько более заинтересованных расспросов на тему «Пятнадцать лет из жизни Герольда Плассека».
– Да, у меня есть небольшое рабочее пространство в виде кабинета.
И то, и другое было нещадно преувеличено – и «пространство», и «кабинет», правдивым было только «небольшое».
– Чудесно, – заключила она.
Потом она немного помялась. И в конце концов рассказала мне о своем великолепном ребенке, которого вырастила совсем одна. Это был мальчик. Уже большой мальчик. Ему было четырнадцать лет. Он был образцовым школьником, ходил в гимназию, у него там было много, много, много – да что там – бессчетное множество друзей, которые позаботились о том, чтобы он укоренился там настолько прочно, что сдвинуть его с места практически невозможно. Перспектива провести полгода в Сомали могла привидеться ему только в страшном сне. Он должен оставаться в Вене. Жить может у ее сестры Юлии, и обеспечен он будет всем, за исключением…
– У тебя четырнадцатилетний сын? – спросил я.
– Да, верно.
– А у меня пятнадцатилетняя дочь.
– Да, я знаю, я умею считать, – сказала она, а вернее, фыркнула – как Лесли, сиамская кошка моей бывшей жены, стоило только ее задеть.
Итак, ее мальчик был всем обеспечен, продолжала она почти уже с преувеличенной любезностью, за исключением вечеров, времени между школой и Юлией, так сказать. Поскольку ее сестра Юлия была тренером не то по фитнесу, не по танцам, не то по обоим видам сразу и во второй половине дня у нее дома всегда проходили музыкально-гимнастические занятия. И вот Алиса странным образом подумала обо мне, а конкретно – обо мне и моем кабинете.
– Мануэль мог бы выполнять у тебя свои домашние задания, – сказала она.
Мануэль? Нет, не мог бы. Из этого ничего не выйдет. Это невозможно. Шеф этого не допустит. А если бы и допустил, то я бы не дал ему этого допустить. Я и четырнадцатилетний мальчик по имени Мануэль, которого я не знал и знать не хотел, вдвоем в этой жалкой каморке – этого попросту не могло быть. Уже сама мысль о такой мысли была немыслима.
– У тебя наверняка наберется с полсотни друзей. Почему ты обращаешься с этим именно ко мне? – удивился я.
– Я подумала, что вы с Мануэлем, может быть, поладите.
– Я с чужим четырнадцатилетним подростком? Ты могла бы назвать мне хотя бы одну причину, по которой мы должны поладить?
– Одну-единственную?
– Да, всего одну, – повторил я.
– Потому что ты отец Мануэля.
– Скажи-ка еще раз.
– Потому что ТЫ отец Мануэля.
Это действительно была причина. Она вызвала у меня один из тех глубоких травматических кризисов, про которые говорят, что человек впадает при этом в шоковое состояние и в интересах самозащиты отстраняет факты, пока они в какой-то момент больше не поддаются отстранению и просачиваются в мозговые клетки, отвечающие за реакцию на катастрофы. (Которые у меня, к счастью, пребывают в постоянной готовности.) Я просидел у Алисы несколько часов, потягивая из стакана коньяк, – выпито было полбутылки, но стакан был один, Алиса алкоголь не хотела.
Она сидела прямая, как свечка, на краешке дивана и подробно рассказывала мне, почему так было лучше, что она четырнадцать лет утаивала от меня существование сына. Но все ее объяснения можно было свести к короткой формуле: ни она, ни Мануэль не могли ничего ожидать от меня как от отца, вернее, ни в каком смысле не могли ожидать хотя бы чего-нибудь. Это одновременно привело меня в ярость и ввергло в печаль. В ярость оттого, что не стоило бы такое говорить о человеке, который к моменту рождения сына уже был отцом дочери. И в печаль оттого, что это, пожалуй, было правдой.
Но на сей раз они чего-то от меня ждали, и тут я просто не мог сказать «нет». Ведь это и нужно-то было на каких-то два-три часа в день, и продлиться должно было каких-то смешных двадцать недель. К тому же мне было интересно посмотреть на сына.
– А он знает, что я его отец? – спросил я.
– Еще нет.
– Поскольку мне было бы предпочтительнее…
– Да, я так и думала, – сказала она.
Она уже подготовила своего сына к «хорошему другу из старых времен».
– Очень хорошо, – согласился я.
Удивительный подарок
Итак, шел десятый рабочий день с Мануэлем в поле зрения, и мое любопытство к собственному сыну было уже утолено. Я не мог себе представить, что нам придется терпеть тут друг друга еще дни, недели или даже месяцы, а когда я видел его лицо, я уж точно никак не мог себе представить, что он может представить это себе. Самое худшее было то, что он попросту не был готов взаимодействовать со мной достойным человека образом, какую бы тему я ни выбрал.
– «Битлз» или «Стоунз»? – спрашивал я, к примеру.
Ведь это был вопрос как раз для четырнадцатилетнего! Мне хватило бы одного-единственного слова – и я бы тотчас развернул перед ним альбом полувековой истории поп-музыки.
– Что ты имеешь в виду под «Битлз» или «Стоунз»? – переспрашивал он.
– Какая музыка тебе больше нравится – «Битлз» или «Роллинг Стоунз»?
Уже за одну эту развернутую версию, которая звучала так, будто ты пытался объяснить шутку больному Альцгеймером, я презирал себя.
– Я должен на это отвечать? – продолжал он унижать меня.
– Нет, ты не обязан отвечать, но мне было бы просто интересно, – говорил я.
– Ну хорошо, мне не особенно нравится ни то ни другое.
– А какая музыка нравится тебе особенно? – наседал я.
– Это смотря когда и как, – обнадежил он.
– И от чего же это зависит? – спросил я.
– Это зависит от того, какую музыку играют.
– Да, в принципе это всегда важно, – отвечал я.
На этом тема исчерпывалась. И я клялся себе больше ни единым словом не обращаться к Мануэлю. А если он и впредь будет меня презирать, я его герметично упакую и отправлю авиапочтой к его маме в Сомали.
Но тут случилось нечто необыкновенное, что надолго сделало этот день таким особенным: Норберт Кунц, мой шеф, вызвал меня к себе в кабинет. Речь шла об одной моей заметке в четверговом выпуске «День за днем». На этом месте я должен сделать небольшое отступление, чтобы оправдать свое существование и объяснить круг моих обязанностей в бесплатной газете «День за днем», издаваемой концерном оптовой торговли PLUS.
После того как я соскочил с «Рундшау» – о’кей, то было скорее падение, чем соскок, – Норберт Кунц взял меня в «День за днем». Он всегда высоко оценивал мою журналистскую работу, а кроме того, его отец и папа моей бывшей жены Гудрун были близкими друзьями и даже вместе играли в гольф. Ведь недаром говорят, что кровь плотнее воды, но и она не так сплачивает, как гольф.
Больше всего мне хотелось бы работать в отделе культуры, но, во-первых, такого отдела не было, потому что «День за днем» – совершенно бескультурная газета для совершенно бескультурной публики, а во-вторых, привередничать мне не приходилось. Меня поставили на «Пестрые сообщения дня», и еще я вел колонку читательских писем. Если вы зададитесь вопросом, а чего там вести в читательских письмах, то вам следует присмотреться, на что способны читатели «Дня за днем». И, наконец, третьей областью моих задач был раздел «Социальное». Его-то я всегда и называл, когда кто-нибудь спрашивал меня, чего я поделываю и о чем пишу. Это, конечно, звучало «социальнее», а главное – весомее, чем было на самом деле. Поскольку, если не считать подводного землетрясения и цунами с десятком тысяч жертв – среди которых, на минуточку, было как минимум пятеро австрийцев, – для «Дня за днем» никакое бедствие не было достаточно бедственным для того, чтобы отнять печатную площадь у какой-нибудь рекламы обогревателей для садового домика. Проблемой социального раздела было то, что никто не давал туда рекламных объявлений, то есть денег он не приносил. И от страданий бедных и слабых никто не мог себе ничего отпилить, даже живодеры из концерна оптовой торговли PLUS. Поэтому социальные темы умещались в три строки и упрятывались куда-нибудь в гущу «пестрых сообщений дня».
Тем большей для меня неожиданностью было, когда Норберт Кунц специально вызвал меня к себе, чтобы поговорить об одной из таких коротких заметок. В четверговом выпуске я упомянул – поскольку мне недоставало еще хотя бы одного «пестрого сообщения дня» – переполненную ночлежку для бездомных в венском Флоридсдорфе, которой недавно сократили субсидии, из-за чего ее сотрудникам, работающим на общественных началах, пришлось выставлять на улицу половину бездомных. Норберт Кунц выделил это сообщение светящимся оранжевым маркером и постучал по нему пальцем, что не сулило мне ничего хорошего. Я ждал, что он сейчас снова укажет мне на то, что у нас такое не проходит, что мы – хозрасчетное предприятие и поэтому должны держаться подальше от маргинальных групп, для которых существуют свои газеты – от благотворительных фондов, от Красного Креста, от Армии Спасения, от «Груфта»[1] и черт знает еще от кого. Но вышло совсем иначе.
– Ваша работа еще доставляет вам удовольствие, господин Плассек? – спросил он.
Кунц хотя и не был таким уж сердечным человеком, которого волновало бы – или хотя бы заслуживало его мысли – самочувствие подчиненных, но и циником он тоже не был, для этого ему не хватало юмора.
– Честно признаться, я работаю здесь не для того, чтобы получать удовольствие, – ответил я.
– Вот и я тоже.
– Это меня успокаивает, – заметил я.
– Но бывают моменты, когда вдруг снова осознаешь, ради чего ты делаешь это, – заметил он.
– Да, бывают? – переспросил я.
– Да, бывают. Вот такой момент я только что пережил.
– Это мило, я рад за вас. Если и меня постигнет такой момент, я дам вам знать. Но может так случиться, что вы уже будете на пенсии. Тогда я дам знать вашему преемнику, – сообщил я.
Если кто из нас двоих и был циником, то я.
Кунц выжал из себя вымученную улыбку и рассказал мне, что ему только что позвонил заведующий ночлежкой для бездомных во Флоридсдорфе, да такой возбужденный и настолько вне себя от радости, что едва мог говорить, ведь свершилось нечто чудесное.
– Ему пришел по почте толстый конверт. От анонимного отправителя. В конверте были деньги. Наличные. Очень много денег. Отгадайте сколько, господин Плассек?
– Понятия не имею.
В этом деле я не был экспертом. Мне еще никто никогда не присылал денег, ни анонимно, ни под своим именем.
– Десять тысяч евро.
– Вау. – Я даже сглотнул. Это была пятимесячная зарплата в газете «День за днем», во всяком случае моя.
– За эти деньги они смогут оборудовать койками второе помещение, и им не придется на зиму глядя вышвыривать ни одного бездомного, – сказал Кунц.
– Это хорошо, это в самом деле хорошо, – ответил я. И действительно так считал. Хорошие новости очень даже могут меня растрогать. Наверное, потому, что по-настоящему хорошие новости случаются так редко. То, что обычно впаривалось нам в качестве хороших новостей и что мы, журналисты, бойко перепродавали дальше, было рекламой, при помощи которой кто-нибудь мог поживиться за счет другого, а больше ничего.
– Но почему он позвонил именно вам? – спросил я.
Теперь мой господин шеф-редактор просиял от эйфории, таким его редко увидишь.
– В конверте анонимного дарителя была маленькая вырезка из газеты. Больше ничего, только деньги и вложенная вырезка. А теперь отгадайте, из какой газеты она была?
Опять отгадывать, отгадчик из меня плохой. Однако Норберт Кунц дал мне подсказку, ткнув пальцем на выделенную оранжевым маркером заметку, на мое четверговое «пестрое сообщение».
– Да, верно, господин Плассек. Наша маленькая заметочка явно сподвигла человека спонтанно отдать на бездомных десять тысяч евро. Разве это не великолепно?
– Да, это великолепно, – подтвердил я.
Хотя, если быть точным, заметочка была не наша, а моя, но неважно. Если бы я мог предположить, что эта заметка могла какому-то человеку на этом свете стоить десяти тысяч евро, я бы сформулировал ее как-то тщательнее.
– И мы теперь, конечно, крупно пожируем на этой истории, – сказал Кунц.
– Что вы имеете в виду под «крупно пожируем»?
Он поглядел на меня, как на идиота, которому приходится объяснять основные правила бульварной журналистики.
– Статья с броским заголовком на первой странице. Заголовок: «День за днем» спасает проект по бездомным». Подзаголовок: «Щедрое пожертвование нашего читателя создает новый кров для беднейших из бедных». Что-то в этом духе. Тут же факсимиле нашей заметки. И четыре, пять, шесть страниц фоторепортажей из ночлежки для бездомных. Интервью с безмерно счастливым заведующим. Разговоры с бомжами. Как наступает это падение? Каково это – жить на улице? Исследование среды. График профинансированных нами новых ночлежек…
– Они профинансированы не нами, – позволил я себе возразить «Наполеону» посреди его видения победной битвы.
– Ну, не напрямую, господин Плассек, не напрямую же.
– И когда, вы думаете, мне приступать к репортажам и интервью?
– Не вам, господин Плассек, это возьмет на себя госпожа Рамбушек. Она обо всем проинформирована и уже на месте…
– С какой стати София Рамбушек, она же из экономического отдела? Социалка – это моя работа, или я что-то неправильно понял? – Теперь я сам забеспокоился о своем положении.
– Ваша, ваша, господин Плассек. Но вы нам нужны здесь, на месте, – сказал он.
Ах да, верно, ведь есть еще читательские письма и «пестрые сообщения дня». Я улыбнулся, и он меня понял. К счастью, все это было для меня не столь важно. Рамбушек была молодая и голодная, у нее впереди еще долгая и успешная карьера. Я же никогда голодным не был, мне хотелось только пить. И карьеры впереди у меня никогда не было, она всегда оказывалась где-то позади.
Алкоголь не воняет
Почему-то я почувствовал потребность рассказать Мануэлю об этом странном анонимном пожертвовании.
– Тебе не интересно, что мне только что сообщил шеф? – спросил я.
– Почему это должно быть мне не интересно? – ответил он.
Я понял это так, что ему интересно, и живописал все, что произошло. После этого он хотя и выглядел не менее отсутствующим, чем прежде, но впервые с тех пор, как въехал в мою жизнь в качестве моего сына и компаньона по кабинету, задал умный вопрос:
– А другие газеты тоже об этом писали?
– Понятия не имею, – сказал я.
Я не читал других газет, да и свою-то, разумеется, не читал. Но после этого мы раздобыли полный комплект четверговых изданий и обнаружили, что история про сокращение субсидий для бездомных была, так сказать, местной темой дня и некоторые именитые газеты посвятили ей большие статьи.
– Тогда твоя заметка вообще не была чем-то особенным, – посчитал Мануэль.
– А я и не утверждал, что она была особенной, – заметил я.
– А тот, кто прислал деньги, читал, видимо, только «День за днем», иначе бы он вложил другую вырезку, – сказал Мануэль. Это было не лишено некоторой логики, однако сформулировано враждебно и интонировано презрительно, и мне пришлось это дело неотложно обсудить.
– Мануэль, что я тебе сделал?
– А что ты мне должен был сделать?
– Вот именно, что я должен был тебе сделать, можешь ты мне это объяснить?
– Ты мне совершенно ничего не сделал, вот только…
– Что только?
– А, совсем ничего, – пробормотал он.
– Нет уж, это не ничего, это кое-что, и я хочу, чтобы ты мне сказал, что это. Я настаиваю на этом! Ты меня понял?
Он меня понял. Густая завеса хронической скуки рассеялась, и глаза его вдруг расширились вдвое против обычного, так что можно было увидеть, что они такого же зелено-медно-янтарно-желтого смешанного цвета, как и мои; по крайней мере, мне так привиделось.
– А почему я должен быть здесь? Как я вообще сюда попал? Как я тут оказался? Что это за комната? Что это за позорная газета? Что за странные люди? Что они здесь делают? Как тут можно работать? – Он позволил себе короткую паузу, чтобы набрать воздуха для продолжения атаки. – А ты? Что с тобой творится? Тебе же все безразлично. Просто сидишь тут, смотришь в монитор и ничего не делаешь. О’кей, я тоже делаю не бог весть как много, но я еще молодой. Да и что уж мне тут делать? – Он испуганно взглянул на меня, почувствовав, что перегнул палку. Но было уже все равно, и он мог высказать мне всю правду сразу. – Ты все время ходишь в одной и той же зеленой жилетке. А твои башмаки! Взрослые не носят такого, да и подростки такого не носят, я вообще не знаю никого, кто бы носил что-то подобное. Кроме того, от тебя воняет алкоголем. Мама говорила, что ты отличный, приятный парень, с которым уж точно не будет скучно. Но ты вообще никакой не отличный – разве что, может быть, приятный, немного, но не отличный никак. У тебя нет ни машины, ни мотоцикла. Если бы у тебя был хотя бы велосипед, но ведь у тебя нет даже велосипеда. И мы ни разу не устроили ничего веселого. На домашние задания мне нужно полчаса, остальное время я сижу бессмысленно и жду, что ты, может, вдруг однажды…
– Алкоголь не воняет, – сказал я.
– Нет, алкоголь воняет, и еще как!
– Утверждать такое – наглость. Я бы никогда не выпил что-нибудь вонючее!
Тут Мануэль засмеялся, значит, он умел смеяться. Видимо, он испытал облегчение оттого, что смог сказать мне такие вещи, а я не разозлился. Другие отцы или другие старинные друзья его матери, по-видимому, взвились бы на месте. Разумеется, было не очень весело выслушивать о себе такое от четырнадцатилетнего подростка, но в этом была своя острота, и мне понравилось. По крайней мере, и я остался не без комплимента, а именно: оказывается, Алиса рекомендовала меня ему как отличного и приятного парня. А честно признаться, для меня было важнее, что думают обо мне женщины, ставшие «врачами без границ», чем какой-то подросток, который еще верит, что школа и жизнь имеют между собой что-то общее, а мир в целом бывает то крутой, то дерьмовый.
– Это хорошо, что ты все высказал, – заметил я, притом что не был уверен, действительно ли все. Теперь он впервые был под впечатлением от меня, я это видел. Под впечатлением или в шоке – одно из двух.
– Не принимай это на свой счет, ничего личного, – ответил он.
Ну уж нет, на свой счет я бы это никогда не принял.
На прощанье он подал мне руку.
– Привет тете Юлии! – крикнул я ему вслед.
Так. И теперь мне безотлагательно понадобилось выпить пива. В самом нижнем ящике письменного стола где-то должна была оставаться резервная банка – пусть теплая, но неважно.
Теории после полуночи
Вечера, в которые я мог ожидать, что на следующее утро буду в них раскаиваться, я проводил со своими приятелями в пивных. Правда, как истинный житель Вены, к тому же выросший в рабочем районе Зиммеринг, я чурался слов, импортированных из Германии, – «приятели» и «пивная». У нас это называлось «парни» и «байсль», но когда я называл их «приятели», мне было легче дистанцироваться от них. А это было необходимо. Поскольку в действительности мы просто топтались вместе без всякого энтузиазма, пили одно пиво за другим шнапсом, рассказывали друг другу, какой подлой была по отношению к нам жизнь, вернее, нет, не друг другу – каждый сам себе рассказывал про подлости собственной жизни, а остальные ждали, когда очередь дойдет до них. В награду за то, что мы так самоотверженно притворялись, что слушаем друг друга, кто-нибудь проплачивал очередной круг на всех, и этим кем-нибудь чаще всего бывал я.
Плохо становилось после двух часов ночи, и можно было сверять часы, когда мои приятели, в первую очередь Хорст и Йози, начинали блуждать по сторонам своими расфокусированными от выпитого взглядами и фантазировать насчет еще присутствующих женщин, ни одной из которых не приходилось бояться сравнения с их собственными бывшими или теперешними партнершами у них дома. Для меня это означало, что пора либо идти домой, либо заказать последний круг, при этом в большинстве случаев я предпочитал второй вариант.
Самым предпочтительным и самым алкогольно-продуктивным был для меня бар Золтана в Шлахтхаусгассе, туда я погружался, как в продолжение моей собственной гостиной, что, признаться, не в лучшем свете выставляло мои жилищные условия. У Золтана, уроженца Венгрии, который умел неподражаемо выслушивать и кивать, не говоря при этом ни слова, я «переварил» много подъемов и спадов, в основном спадов, а такое запоминается надолго и то и дело вновь приводит к месту «переваривания».
На сей раз я успешно пресек парадную тему «Женщины после двух часов ночи», начав рассказывать историю пожертвования, связанную с газетой «День за днем», и даже вызвав тем самым что-то вроде небольшой дискуссии. Поскольку то были первые оценки произошедшего, а ведь в ночной пьянке самые немудрящие типы зачастую проявляют наивысшую мудрость, я помню их до сих пор.
– Пожертвовать десять тысяч евро анонимно? Да кто так делает? – спросил Йози, дипломированный кондитер, пребывающий в поиске работы.
– Должно быть, это человек, который сам однажды был бездомным, а потом разбогател, – предположил Франтишек, который сам, пожалуй, шел необратимым путем. Его богемские дедушка с бабушкой были знатными бронзовщиками, родители еще продержались на поверхности за счет их предприятия. А Франтишек уже, к сожалению, нет, недавно он объявил о банкротстве, и срок погашения долгов истекал уже очень скоро.
– Никто не станет делать такие вещи без задней мысли о собственной выгоде, – возразил Арик, преподаватель профтехучилища и, судя по всему, самая светлая голова в нашей компании. – Я уверен, что спонсор только и ждет благоприятного момента, чтобы объявиться.
– Или все это фейк и этот тип из ночлежки сам все инсценировал, чтобы попасть в заголовки газет, – сказал Йози.
– Но тогда бы он прогнал эту телегу через «Тагблатт» или «Рундшау», а не через грязный листок, который так и так никто не читает. Прости меня, Герольд. – Это было высказывание Арика, и я его сразу простил.
– А я бы скорее подумал, что в деле замешаны нелегальные деньги, или деньги с крышевания, или деньги с наркотиков и кому-то нужно было срочно от них избавиться, – предположил Хорст, который знал в этом толк, потому что держал тотализатор на Кайзер-Эберсдорфер-штрассе.
Так продолжалось часов до четырех, и теории становились все более жесткими и заговорщицкими, пока Золтан, который терпеливо слушал нас, не напомнил, что ему пора закрывать.
– Еще по одной? – спросил я.
– О’кей, господа, самый последний, заключительный круг. За счет заведения, – сказал шеф.
Значит, все-таки они еще не перевелись, тонкие натуры, сердечные наши современники, самоотверженные благотворители, которые ничего не афишируют, не преследуют никакой другой цели, кроме как осчастливить сограждан, людей вроде меня. Мне, например, и десяти тысяч евро не надо, с меня довольно и дармовой, от души налитой на прощанье виноградной водки в баре Золтана в четыре часа утра.
Глава 2
Бывшая и Флорентина
Вечера, в которые я лелею справедливую надежду, что мне не придется раскаиваться в них на следующее утро, я провожу в основном с женщинами. Но не так, как можно подумать, к сожалению, не так, – или, скажем, в последнее время так уже скорее редко.
Приглашение на ужин к моей бывшей жене Гудрун было ритуалом. Это напоминало о придворных временах, когда монарх раз в месяц оказывал своей свите честь приблизиться к нему и есть с ним за одним столом. Я был, так сказать, свитой, кем-то вроде миннезингера, которого, правда, освободили от пения. Монарха звали Бертольд Хилле, он занимался лоббированием в тяжелой индустрии, точнее и не хотелось бы знать, если ты не прокурор. К его симпатичным жестам относилось то, что сам он в большинстве случаев не присутствовал, когда я был гостем монархини. На сей раз он, к сожалению, сделал исключение.
Монархиню звали Гудрун Хилле, некогда Плассек. Она была возлюбленной моей юности, первой девушкой, которую я поцеловал, а немного позже – первой женщиной, с которой я лежал в постели, сплетясь руками и ногами, и думал, что одним этим моя жизнь уже окупилась. На этом месте мне хотелось бы настойчиво предостеречь всех подростков от того, чтобы слишком рано начинать верить в большую любовь и слишком долго за нее держаться. Я начал в семнадцать и держался до двадцати пяти, то есть по крайней мере восемь лет. Потом я вдруг заметил, что в среднем каждый второй человек, встречавшийся на улице или на вечеринке, был женщиной и что много маленьких любовей в сумме были больше, чем одна большая, которая к тому же как раз выдохлась. К тому моменту Гудрун начала интересоваться господином Хилле, который и в молодости был уже успешным мужчиной, если у него вообще когда-нибудь была молодость. По крайней мере, он всегда выглядел как человек, который должен был кем-то стать в жизни, поэтому он ничем не походил на меня и с каждым днем не походил все больше.
Поскольку расставания не становятся менее печальными оттого, что происходят по разумным причинам, мы придумали нечто более оригинальное: мы поженились. Брак состоял из ностальгического свадебного путешествия на испанское побережье Коста дель Соль, торговой марки Best of Plassek и еще восьми месяцев в придачу, но в эти восемь месяцев каждый следовал своим собственным интересам. Я, например, интересовался высокопроцентными спиртными напитками. А поскольку два прикола в конце большой любовной истории были лучше, чем один, в день нашего развода у Гудрун начались схватки, и на следующий день на свет родилась наша дочь Флорентина. Трогательным образом господин Хилле с первого дня ее жизни заключил ее в свое индустриальное сердце, и одновременно с Флорентиной родилась, так сказать, безупречная новая семья, в которой мне перепадало лишь спорадически спеть любовную песню. Но это не должно звучать патетически, я ведь сам был виноват, я без боя отдал дочь состоятельному лоббисту.
– И как идут дела, месье? – спросил я Бертольда, который после еды тяжело откинулся на спинку и закурил сигару.
Флорентина рядом со мной захихикала. Я переживал лучшую фазу моих отношений с дочерью. Ей было пятнадцать, и она как раз восставала против мещанства, богатства и пропорционального распределения голосов, то есть против своего отчима. О’кей, пусть это была мягкая революция, которая не ставила ее перед необходимостью отказываться от основной экипировки от фирм «Армани» и «Дизель». Но такой потребительски-дезориентированный, небритый, неряшливо одетый, слегка подвыпивший парень, как я, который, видимо, мог себе позволить ничего себе не позволять и который к тому же еще приходился ей родным отцом, был для нее носителем чего-то интересно-смелого и пользовался неким культовым статусом. Да, я им действительно пользовался. Мне можно было даже пару раз мимоходом погладить ее по волосам или обнять за плечо. Разумеется, это должно было выглядеть непринужденно, чтобы Флорентина не заподозрила, что у меня при этом чуть не останавливается сердце и что больше всего мне бы хотелось прижать дочь к себе и больше не отпускать.
С Гудрун, моей бывшей, я был почти в расчете. Угрызения совести и чувство вины по отношению друг к другу у нас были приблизительно одинаково велики, так что мы в какой-то момент решили в обоюдном согласии их взаимно списать. Вот только я не переносил сочувственного взгляда, который должен был мне передать, как она тревожится за мое будущее, – она и все остальные, все, кроме меня, и мне бы наконец тоже пора было начинать тревожиться. Но у меня действительно не было никакого желания вдруг задумываться о своем будущем, это мне следовало бы делать раньше, а теперь я для этого уже староват.
– И как идут дела, месье?
– Спасибо, спасибо, жаловаться нам не приходится, – сказал Бертольд.
Множественное число было необходимо, чтобы подчеркнуть, как сильно все его семейство, к которому и я должен был бы себя причислить, выигрывает от успешного хода его дел.
– Скажи, Герольд, твоя коллега… эта госпожа Рамбусек…
– Рамбушек.
– Да, правильно, Рамбушек, которая нарыла такую крутую историю, про анонимного жертвователя в пользу бездомных…
– Тебе об этом известно? Ты что, неожиданно стал читать «День за днем»? – спросил я.
– Ну что ты, с чего бы вдруг, – сказал он и засмеялся тяжело-индустриально, это была такая смесь из сарказма и сигарного кашля. – Просто и серьезные газеты зацепились за эту историю, зацитировали вдоль и поперек заметки и интервью этой Рамбушек.
– Кстати, о серьезных газетах. Я собираюсь уволиться из «Дня за днем», – сообщил я.
Это, впрочем, не соответствовало действительности, сама мысль пришла мне в голову ровно за три секунды до того, но чувство свободы опьяняло: произнести эту фразу и увидеть оторопелые лица.
– Ты хочешь уволиться? Боже мой, но почему? И куда ты пойдешь? – забеспокоилась Гудрун.
– В «Новое время». Мы ведем переговоры.
Это было произнесено так быстро и убедительно, что я сам в ложь чуть было не поверил.
– Круто, – сказала Флорентина и улыбнулась.
Уже одним этим окупилось напряжение моей фантазии. Правда, «Новое время» в медийном ландшафте не считалось значительным изданием, но оно было леволиберальным, претенциозным и молодежным. Одно из немногих печатных СМИ, за которое было не стыдно ни авторам, ни читателям.
– И в какой функции тебе там нашли применение? – спросил мужчина с сигарой.
Гудрун можно было только пожалеть за то, что она замужем за человеком, которому не приходит в голову ничего, кроме функции и применения, когда речь заходит о взятии новой профессиональной высоты.
– Видимо, в области культуры. Музыка, искусство, литература – посмотрим, – сказал я.
– Ну, тут я и впрямь ошарашена, – вставила Гудрун.
Это значило, что она не поверила ни одному моему слову. Или поверила только первой части моего заявления – а именно что я собираюсь уволиться из «Дня за днем». Тогда ей пришлось бы донести это до сведения своего играющего в гольф отца. Нет, такую свинью я не мог ей подложить. Но мысль насчет «Нового времени» была действительно хороша.
Фартовый «Клеверный листок»
В пятницу на одиннадцать часов неожиданно назначили редакционное совещание. По-настоящему неожиданным в этом было то, что я то ли мог, то ли должен был принять в нем участие – в зависимости от того, как на это посмотреть. Одиннадцать часов утра, признаться честно, было не совсем мое время, я в такой час вроде как присутствовал, но мое кровообращение еще только поджидало взмаха флажка на старт к первым тренировочным кругам для разогрева. Однако Норберту Кунцу удалось сравнительно быстро и впечатляюще эффективно меня растормошить.
– Дорогие коллеги, у меня есть радостная новость для нас всех. Поступило еще одно анонимное денежное пожертвование. На сей раз в дневные детские ясли. Опять в белом конверте без обратного адреса или какого бы то ни было намека. Опять десять тысяч евро наличными. И самое великолепное в этом… – тут он набрал полную грудь воздуха, – в конверте рядом с деньгами опять соседствовала вырезка из «Дня за днем».
В то время как коллеги спонтанно начали рукоплескать, не зная, кому именно аплодируют, я уже испытывал маленький личный триумф, потому что знал: это, должно быть, опять одно из моих «пестрых сообщений дня» обрушило нежданный денежный ливень на некое забуксовавшее социальное учреждение.
Поскольку Кунц справедливо исходил из того, что никто из коллег эту заметку не читал, он ее огласил.
«На грани закрытия находятся дневные детские ясли «Клеверный листок» в Мейдлинге – частная родительская инициатива, которая в настоящее время опекает 120 детей из неблагополучных семей, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Два спонсора прекратили финансирование, а небольшая команда из воспитателей и помощников, работающих на общественных началах, не в состоянии оплачивать аренду помещения».
Ну, скажем так, на Пулитцеровскую премию эта заметка не тянула, но Кунц тем не менее мог бы и упомянуть, что именно я был тем, кто отловил это сообщение из ленты, сформулировал и поместил в газету.
Потом он зачитал и благодарственный имейл, который заведующая «Клеверным листком» направила в редакцию:
«Многоуважаемые сотрудники и сотрудницы «Дня за днем»,
некий благодетель или благодетельница, некий чудесный человек, не пожелавший назвать свое имя, своим пожертвованием в размере 10 000 евро на первое время избавил нас от больших забот. И теперь нашим детям, которые оказались не на солнечной стороне жизни, мы можем продолжать давать хотя бы часть из того, что для защищенных детей является само собой разумеющимся: дом, внимание, любовь, тепло. Поводом для этого послужила крошечная заметка в вашей газете. Газетная вырезка была приложена к щедрому пожертвованию. Наш коллектив «Клеверного листка» хотел бы сердечно вас поблагодарить. Журналистика, которая может подтолкнуть человека на такой поступок, которая указывает на нужды людей и побуждает к хорошим делам, недостаточно высоко оценивается в наше недружелюбное время. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Нам вы принесли много счастья.
От имени «Клевера-четырехлистника», Урсула Хоффер».
Если бы кто взглянул сейчас на коллег, он бы заметил, что каждый как-то просветлел лицом, а на губах или в глазах играла улыбка, как будто мы сами совершили благое дело. Притом что все было не просто чистой случайностью, но даже и чем-то вроде гротеска: как нарочно, дешево состряпанная газетка концерна – сомнительной правопопулистской группы PLUS, постоянно замешанной в каких-нибудь коррупционных скандалах, – вот уже во второй раз проявила себя позитивно. Впору было подумать о том, что благородный спонсор забавлялся, назначая «День за днем» вестником своих щедрых деяний. Но, разумеется, это высоко поднимало значимость газеты и внезапно выставляло ее в совершенно другом свете.
Улыбка, впрочем, сравнительно быстро слетела с моего лица, когда Норберт Кунц познакомил нас со своими планами по редакционным перестановкам: София Рамбушек отныне должна будет еженедельно сочинять большой социальный репортаж, а в ежедневных колонках сообщать о людях, попавших в беду и нужду.
– Только, пожалуйста, не надо о судьбах иностранцев, или хотя бы по возможности минимально, в противном случае у нас возникнут проблемы с нашим хозяином, – ограничил Кунц.
«Пестрые сообщения дня» должны были расшириться, и вести их по-прежнему буду я, при этом и Рамбушек тоже сможет размещать там свои менее волнующие социальные заметки в краткой форме. А я за это должен буду помогать в экономическом отделе с «Заметками дня».
– Этого я делать не буду, – заявил я спонтанно, вовсе не обидевшись, а просто считаясь с реальностью. – К экономике я не имею никакого отношения.
– Хорошо, хорошо, господин Плассек, об этом мы еще поговорим, – ответил Кунц.
Это звучало с некоторой угрозой. Может, Гудрун попросила бы своего отца, чтобы он пару раз дал своему другу – старику Кунцу – выиграть в гольф? Иначе я потеряю работу преждевременно – раньше, чем сам ее брошу.
На пути исправления
После обеда явился с мрачным взором мой юный сокабинетник и без слов положил передо мной на стол тоненький пакетик, завернутый в газетную бумагу нашего «Дня за днем».
– Что это? – спросил я.
В наших отношениях что-то явно изменилось, поскольку Мануэль не ответил своим стандартным: «А что уж это должно быть?», а сказал:
– Просто разверни.
Там был компакт-диск с серым земным шаром на конверте. Группа называлась, видимо, «Эфтеркланг», а альбом – «Пирамида». Я вопросительно взглянул на него.
– Ты же как-то спрашивал меня, какая музыка мне нравится, – произнес он.
Это было очень мило с его стороны.
– «Эфтеркланг»? Это ни о чем не говорит, но мне интересно. Можно я возьму его на время послушать?
– Можешь оставить его себе, тетя Юлия за него заплатила.
– Вау, спасибо, как это мило с вашей стороны!
Я был действительно тронут, теперь уже во второй раз за день. Еще бы, это был первый подарок, который я когда-либо получал от своего сына.
– Первым делом послушай композицию Apples, а потом The Ghost, они самые доходчивые.
– Так я и сделаю, – пообещал я и решил, что музыка мне непременно понравится, как бы ужасно она ни звучала.
– Ну, а ты ничего не заметил? – спросил я.
– Да, на тебе новый пуловер.
Новым он, конечно, не был, но темно-синим был точно.
– И ботинки тоже получше, – сказал Мануэль.
Черные ботинки, жесткая кожа, классические, консервативные, вот видишь! Мы оба ступили, что называется, на правильный путь, и это могло меня полностью восстановить.
Пока Мануэль по очереди извлекал из своего ранца учебники, чтобы и они могли в кои-то веки побывать на свежем воздухе, я рассказал ему о втором денежном пожертвовании и о том, что уже второй мой материал явился для этого побудительной причиной.
– Но ведь никто не знает, что это написал ты, – с сожалением сказал он и упал на свой уже хорошо обкатанный серый вертящийся стул.
– Да, увы, но ведь никто не знает и того, кто пожертвовал десять тысяч евро.
– Верно, – подтвердил он.
– Кроме того, теперь в «Дне за днем» каждую неделю будет большой социальный репортаж, то есть история о людях, дела которых плохи.
– Зачем? Чтобы еще раз кто-нибудь пожертвовал десять тысяч евро и газета могла этим похвастаться?
Вообще-то, хороший интеллект у этого парнишки, моего сына, подумал я. И ломкий голос у него скоро пройдет.
– А хотя бы под большими репортажами будет стоять твое имя? – спросил он.
Тут мне стало немного стыдно.
– Репортажи будет в основном писать одна моя коллега, я лишь иногда, когда позволит время, – соврал я.
– Ах, вон как, – сказал он.
А могло бы быть и хуже. Я уже приготовился услышать: «Но ведь у тебя же всегда есть время».
* * *
Потом мы некоторое время сидели относительно спокойно, занимаясь своими делами или предаваясь безделью. Но в какой-то момент я заметил, что Мануэль заерзал – у него явно что-то вертелось на языке, а коренилось где-то в области челюсти, как в итоге и оказалось.
– Мне в понедельник надо к зубному врачу.
– Ой, бедняга, – ответил я.
У меня сразу побежали по спине сотни мурашек на высоких шпильках. Потому что я испытывал панический страх перед зубными врачами. Они с детства преследовали меня в кошмарах. Приблизительно с тех пор я у них и не был ни разу, а сами они, к счастью, меня никогда не разыскивали как дезертира, и в этом состояла их единственная человечная черта.
– Я боюсь зубных врачей, – сказал Мануэль.
– Э-э… это ты зря, они сейчас вообще все делают не больно, с современной зубной техникой стало намного лучше.
– Я не могу пойти туда один, – горько сказал он.
– Хорошо тебя понимаю, – ответил я.
Со мной тоже всегда кому-нибудь приходилось идти, чтобы подхватить меня и оказать первую помощь, когда я потеряю сознание.
– Тебе придется пойти со мной! – объявил Мануэль.
– Мне?
Он не знал, что такое городит.
– Да, тебе. Тетя Юлия не может, и никто другой не может, потому что все работают, и тетя Юлия сказала, чтобы я попросил тебя, кого же еще, никого же больше нет, а мама в Африке.
Теперь я понял: она попыталась сделать меня послушным при помощи музыки на CD.
– Мануэль, мне действительно очень жаль, я бы тебя с удовольствием сопровождал, но у меня в понедельник после двух часов весь день расписан на важные дела, – сказал я.
– Очень хорошо, я закончу раньше, зайду за тобой в половине первого, и мы это сделаем, – ответил Мануэль.
Стоматологиня
Еще слегка изнуренный после воскресной ночи, я почувствовал необходимость сейчас же, натощак, влить в себя пару децилитров водки, иначе и десяток лошадей или внебрачных детей не затащили бы меня в эту чертову стоматологию на Маргаретенштрассе.
Для Мануэля я выполнил свою задачу уже тем, что его страх перекрывался стыдом перед посторонними, какая образина сопровождает его на пыточное кресло.
– Отец тоже войдет с тобой? – спросила медсестра со справедливым скепсисом.
– Не отец, а лишь старинный знакомый моей матери, но он войдет вместе со мной, – ответил Мануэль.
Я, к сожалению, был не в силах возразить, но устроился у самой двери.
При некоторых сценах из фильмов моя позиция всегда была одинакова: лучше выколите мне глаза, чем я буду вынужден увидеть, как один делает это другому. Приблизительно так же мне было теперь с Мануэлем, которому закутанная в белое преступница под жужжанье, вибрацию и свист адской машины засовывала в детский беззащитный рот один инструмент за другим и подолгу ковырялась там острыми серебристыми приборами, все что-то улучшая и устраняя недостатки, чтобы придать пытке последний блеск.
Но позже все было кончено. Мануэль вскочил, как будто ничего не случилось. Я, в отличие от него, был скорее мертв, чем жив, но тут докторша направилась прямо ко мне, одним движением освободилась от маски на своем лице, улыбнулась и сказала насмешливо, а может, и нет:
– Редко мне приходилось видеть здесь такого сострадательного отца, как вы.
То, как она при этом выглядела и как смотрела, подействовало на меня таким образом, что сотня мурашек, которые снова побежали по моей спине, все теперь были в мягких войлочных шлепанцах. Во всяком случае, мой первый зрительный контакт с женщиной, которая, кроме всего прочего, только что вылечила моего собственного ребенка, представлял собой исторически исключительное явление качества встречи. И я почувствовал это не только оттого, что стоял словно бы рядом с самим собой, содержащим в крови наверняка более одного промилле. Мне было уже сорок три года, и, оглянувшись, я мог бы насчитать сотни первых взглядов.
К сожалению, я был не в состоянии сказать что-либо осмысленное. И я не сказал ничего. Мануэль тоже, понятное дело, не раскрыл замороженный уколом рот, чтобы опровергнуть тот факт, что я его отец. Таким образом, заключительное слово перешло к медсестре, и оно было однозначно адресовано нам обоим:
– На следующей неделе зайдите для контрольного осмотра.
Глава 3
Лавры для Софии
Последовавшие дни были отмечены тем, что Бог и мир взаимно выпытывали друг у друга, объявится ли благодетель, или, может, дело еще дойдет до третьего анонимного денежного пожертвования в столь же существенном размере. Все взоры при этом были устремлены на бесплатную газету «День за днем», а в ней, естественно, на первые большие социальные репортажи и колонки Софии Рамбушек. Мне было даже жаль ее, ведь она находилась под избыточным психологическим давлением, это прочитывалось и по ее текстам, в которых она судорожно и слишком уж прозрачно взывала к состраданию то к тем, то к другим жертвам.
По моему же мнению, было в принципе невозможно вызвать у читающей публики чувства, которых сам пишущий не испытывает. София Рамбушек, изучавшая экономику и организацию производства, по-журналистски, так сказать, была приемной дочерью Доу Джонса. И вот, к примеру, она описывала на целый разворот бедственное положение сельской общины, которая в прошлом году угодила под паводок, какой случается раз в сто лет, и до сих пор тщетно ждет обещанных выплат из некоего фонда стихийных бедствий. История при этом хотя и содержала огромное количество цифр, проверенных до последнего знака после запятой, но никого не задевала за живое. А не задевала потому, что самой Софии Рамбушек было, скорее всего, наплевать, получат ли какие-то там крестьяне выплаты или нет – нечего было строить свои дома вдоль реки, в паводок выходящей из берегов. Ее единственный посыл, скрытый, но прямо-таки умоляющий, гласил: пожалуйста, дорогой благожелатель, сжалься надо мной и передай жертвам еще разок десять тысяч евро в сочетании с моей вырезкой из газеты, чтобы я получила предложение о работе от приличной экономической газеты и наконец-то могла уйти из этого подтирочного листка!
Это желание пока что, к сожалению, не исполнялось, и уже через несколько дней пошли слухи о том, что владельцы концерна PLUS хотят вскоре снова прекратить финансирование социальных очерков, якобы есть жалобы от важных заказчиков, которые дают в газету объявления.
Приятно было, что Рамбушек сняла с меня часть работы тем, что каждый день переправляла мне в «Пестрые сообщения дня» одну-две короткие заметки. Они, конечно, были сформулированы настолько мертво, что я не мог оставить их без некоторой шлифовки, хотя это в принципе меня не касалось.
В среду она пригнала мне такой текст:
78-летняя пенсионерка Аннелизе З., страдающая почечным заболеванием, во вторник вечером подверглась нападению и ограблению на Нусдорфер-штрассе. Преступник в маске имел внешность южанина. Правда, она сама поспособствовала грабителю тем, что подала нищему пару монет и при этом не уследила за своей сумочкой. А перед этим сняла в банке со счета все свои сбережения, почти 9000 евро. Преступник, должно быть, видел это.
То есть, будь я Аннелизой З., которая, кстати, ровесница моей мамы, и если бы у меня украли все мои сбережения и мне потом пришлось бы прочитать в газете, что я сама поспособствовала грабителю тем, что достала из кошелька пару монет, и что я, таким образом, как бы сама виновата, а нападение спровоцировано ненужной милостыней нищему, – это бы меня доконало. Что же касается преступника, то замечания, подобные «внешности южанина», я нахожу более чем ненужными. Я знал немало южан, которые выглядели вполне себе северянами, и наоборот. И я знал даже южан, которые выглядели южанами, но, несмотря на это, не были грабителями, даже если в это никто не верил, по крайней мере, в газете «День за днем».
Моя слегка поправленная и сокращенная версия выглядела так.
78-летняя пенсионерка Аннелизе З. стала во вторник вечером на Нусдорфер-штрассе жертвой нападения и понесла большой материальный ущерб. Неизвестный преступник отнял у нее сумочку в тот момент, когда она подавала милостыню нищему. Непосредственно перед этим женщина сняла в банке 9000 евро, все свои сбережения.
Именно это неприметное «пестрое сообщение дня» и привлекло в конце недели большое общественное внимание – с громкими заголовками во всех местных газетах и с подробными сообщениями и обсуждениями на радио, телевидении и в Интернете. Поскольку соответствующая газетная вырезка из «Дня за днем» находилась вкупе с десятью тысячами евро в одном белом конверте без обратного адреса, который Аннелизе З. – ее звали Аннелизе Зайльчек – достала из своего почтового ящика через два дня после ограбления. В первый момент она подумала, что это сам грабитель, раскаявшись в своем злодеянии, прислал деньги назад. Но как бы он узнал ее адрес? И, кроме того, в конверт были вложены не похищенные девять, а десять тысяч евро. А о таких грабителях можно только мечтать: чтобы через день после ограбления они не только возмещали потерю, но и приплачивали десять процентов за перенесенный шок. По логике, такие грабители обанкротились бы один за другим, и грабительство как таковое быстро бы вымерло.
И вот старая женщина отправилась в конце концов с конвертом в полицию. Там на основании приложенной газетной вырезки сразу поняли, что речь идет о третьем случае анонимного милостивого дара. После приюта для бездомных и после дневных детских яслей спасительная рука помощи впервые была протянута – неведомо откуда – отдельной личности, безвинно попавшей в беду.
Высокий детективный интерес вызывал вопрос, откуда благотворитель мог узнать адрес жертвы. Единственной газетой, упомянувшей фамилию старой женщины, то есть Зайльчек, была «Тагблатт». Неужели благодетель прочитал «Тагблатт», затем разыскал адрес старой женщины в телефонном справочнике, но в конце концов вложил в конверт все-таки вырезку из «Дня за днем»? И если да, то почему? Потому что заметка в этом великолепном бесплатном издании была столь приятно короткой и складной? И с первого взгляда было ясно, в чем дело? Потому что София Рамбушек заострила эту заметку и сформулировала ее с блестящим и экстремально благоприятным для благодетеля выбором слов?
В последнем был убежден, по крайней мере, шеф-редактор Норберт Кунц. Перед собравшимся коллективом редакции он держал – с увлажнившимися глазами и дрожащим голосом (и то, и другое позволяло судить о только что последовавшем продлении его контракта или повышении его жалованья со стороны владельцев газеты) – пламенную хвалебную речь в адрес «Дня за днем» в целом и толковой Софии Рамбушек в частности.
Я держался в непосредственной близости к торжественно откупоренной бутылке шампанского «Магнум» и испытывал смешанные чувства. С одной стороны, я был рад за Софию, на которой уже тяжело сказались социальные перегрузки последних дней, и ни ее бежевый бизнес-костюм, ни ее свеженакрашенные губы не могли ввести в заблуждение на этот счет. С другой стороны, лицемерные хвалебные речи и взаимное похлопывание по плечу моих товарищей по работе ощутимо задевали меня. Я чувствовал себя, честно признаться, немножко оттесненным на обочину, ведь как-никак денежные пожертвования уже в третий раз сопровождали мои «Пестрые сообщения дня». Тем более меня обрадовало, что София потом все же подошла ко мне, обняла за плечо и шепнула на ухо «спасибо». За это мы потом выпили еще по бокалу-другому шампанского.
В гостях у мамы
В воскресенье я навестил маму. Я принес ей букет разноцветных гладиолусов в крапинку, как их написал бы Моне, это были ее любимые цветы. Кроме того, у меня было с собой две упаковки кофе. Это было скорее символически и должно было сказать ей: смотри, твой сын оказывает предпочтение здоровому, укрепляющему силы, проясняющему голову кофе вместо вина, вермута, виски и тому подобных вредных напитков. Странным образом мама была единственным человеком, перед которым я испытывал что-то вроде угрызений совести из-за того, что регулярно употребляю в больших количествах алкоголь. Разумеется, это не шло ни в какое сравнение с моим отцом, который семь лет назад умер от последствий цирроза печени. Официально, правда, причиной считался вирус, но кто знал моего отца, тот знал и то, что его пища во все годы после выхода на раннюю пенсию Австрийской железной дороги была преимущественно жидкой, отчего мама сильно страдала, стараясь не показывать вида, но от этого все было только хуже. Однако она не хотела излишне докучать мне этим.
Поездка к матери всегда была эмоциональной, мы были очень привязаны друг к другу и точно знали, как у кого идут дела. Я знал, что она страшно одинока. И она знала, что я уже, так сказать, удобно устроился на наклонной плоскости. Но открыто мы бы никогда не признались в этом друг другу, что делало наши встречи крайне утомительными.
Вот и на сей раз мы снова состязались друг с другом в оптимистических новостях, полных веры в себя и в будущее.
– А что с твоими анализами крови?
– Они гораздо лучше, гораздо лучше, так говорит врач. А как дела у маленькой Флорентины?
– У нее все великолепно, она больше не маленькая, она уже наполовину взрослая. А скажи-ка, мама, ты действительно управляешься совсем одна?
– Да, тебе не надо обо мне беспокоиться, у меня ведь много соседок, они все за мной присматривают. А как у тебя с работой, Гери? Наверное, много дел?
– Да, я сейчас сильно загружен, мама. Но я всегда говорю: лучше слишком много работы, чем слишком мало.
И так весь вечер. От сплошных улыбок у меня начинались судороги в уголках рта, у нее, наверное, тоже. Но мы просто не могли иначе, мы должны были изображать друг перед другом полное благополучие.
Я подумывал, не рассказать ли ей про Мануэля, но потом решил, что это несколько преждевременно. Или запоздало на четырнадцать лет – с какой стороны на это посмотреть. Скорее всего, ее бы это напрягло – нежданно-негаданно вдруг снова стать бабушкой, а проявить себя в этой роли ей опять не удастся, хотя втайне она об этом всегда мечтала.
Так мы добрались до истории с пожертвованиями, которая, естественно, дошла и до маминых ушей и произвела на нее глубокое впечатление, это было ясно. Меня так и подмывало рассказать, что я сижу прямо на источнике серии благодеяний, но тогда бы мне пришлось исповедаться ей, что я уже два года работаю в «Дне за днем», веду там «Пестрые сообщения дня» и ковыряюсь в письмах читателей – от враждебных до тупых. В принципе, такую правду мама бы перенесла, но она ее поистине не заслужила.
– Должно быть, это чудесный человек, – сказала она.
Уже одной этой мысли было достаточно, чтобы в ее глазах открылись шлюзы. Мне нравилось, что мама никогда не плакала от жалости к себе, а всегда только из участия к другим. Она была образцовым примером человека, который никогда не думал о себе, а все только о других, который постоянно все отдавал и никогда ничего не брал себе. Проблема таких людей состояла в том, что запасы и резервы того, что они могли отдать, когда-то истощались – как раз потому, что они никогда ничего не могли взять. В мое хотя и короткое, но, видимо, самое лучшее время в отделе культуры «Рундшау» я этой теме – равновесию «брать» и «отдавать» – посвятил целое приложение, и мы даже провели небольшой симпозиум.
Поэтому я сказал:
– В своей жизни этот загадочный благодетель, наверное, много чего получал. А теперь он хочет что-то и вернуть.
Хотя я и понимал, что изрекаю очевидные вещи, но мне хотелось чем-то утешить маму, поскольку ей уже больше нечего было отдавать.
– Да, но разве это не чудесно, Гери, что он это действительно делает?
Она была неисправима.
– Да конечно же чудесно, мама. В первую очередь тем, что он делает это анонимно, это самое необычное, – ответил я.
«Эфтеркланг» и послезвучие
Вечером я наконец послушал этот диск под названием «Пирамида». Вначале я хотел для этого налить себе виноградной водки, чтобы снова вымыть из себя чувства, которые всегда поднимаются во мне после посещения мамы. Но потом у меня вдруг возникла потребность проверить себя: смогу ли я сказать «нет» алкоголю, просто шутки ради. И вот я достал бутылку из шкафа, поставил ее на столик около дивана, посмотрел на нее и сказал:
– Нет!
…Бутылка была пуста. К счастью, в холодильнике еще оставались две банки пива.
«Эфтеркланг» вверг меня в странное настроение. Сам бы я ни за что не стал слушать такую музыку. В ней часто приходилось ждать минутами, пока что-нибудь произойдет, а там глядь – уж и трек заканчивался. Я бы лучше послушал Брюса Спрингстина, Нила Янга, The Smiths, The Cure, Joy Division, Ника Кейва, Тома Уэйтса и все такое. Во-первых, это были мои музыкальные корни, а во-вторых, эти ребята были приблизительно такого же человеческого склада, что и я, с тем лишь различием, что они писали и играли зонги о неисполненных обещаниях и ежедневных унижениях, а я жил в них.
«Эфтеркланг» звучал совсем иначе. Мне пришлось погуглить, чтобы узнать, в чем там у них дело, и мои подозрения подтвердились. Эти музыканты, родом из Дании, ставили в основном на мистику, обособленность и одиночество. Альбом «Пирамида» они снимали в разрушенных промышленных сооружениях бывшего советского рудника, в местечке Пирамиды на Шпицбергене – то есть если смотреть из задницы мира, то прямиком дальше. До такого надо было еще додуматься.
Но что меня действительно встревожило: как четырнадцатилетний подросток дошел до такой жизни, чтобы слушать композиции смертной тоски и называть их своей любимой музыкой? Это прямиком вело к мысли, что Мануэль, может быть, втайне совсем несчастный, одинокий парень, безумно страдающий от того, что у него нет отца, а мать без него уехала в Африку. Вместе с тем я заметил, что при таких мыслях мне становится не по себе и что две опустевшие меж тем банки пива никак не могли оказать мне в такой ситуации моральную поддержку.
Я вдруг почувствовал невероятную тоску по женщине, с которой мог бы просто быть вместе и доверительно разговаривать, но никого конкретного, кроме известной стоматологини, я себе при этом не представлял, а для неконкретных женщин поздний воскресный вечер в моем возрасте и при моей консистенции был абсолютно неподходящим.
Итак, я выбрал программу неотложной помощи и позвонил своим приятелям.
– Алло, Йози, как дела… Уже в пижаме? А, понимаю…
– Алло, Арик, если ты сейчас прослушаешь мое сообщение и если у тебя будет настроение, перезвони мне.
– Алло, Франтишек, что ты делаешь? А, понимаю, тогда не буду мешать.
– Алло, Хорсти, ты где? На Хюттельдорферштрассе? В Ребус-баре? Все ясно. – Ребус-бар в Пенцинге хотя и дрянное заведение, но все же не такое безутешное и заброшенное, как Пирамиды на Шпицбергене, подумал я. – О’кей, никуда не двигайся, через полчаса я буду там, – сказал я.
Очень важно, чтобы друзей было много, тогда можно положиться хотя бы на одного из них.
Одна печаль сменяет другую
С такой тяжелой головой, какая была у меня утром в понедельник, я обычно звоню и говорю, что болен, но с тех пор, как в мою жизнь вошло существование Мануэля, об освобождении по болезни не могло быть и речи. Кроме того, мне рано или поздно все равно пришлось бы подниматься на ноги, ведь во второй половине дня мы с ним записались на контроль зуба. Я уповал на то, что мое местное алкогольное обезболивание из предыдущей ночи продержится до того времени.
Про «Эфтеркланг» я с Мануэлем обмолвился лишь парой слов. Я сказал, что нахожу крутым то, что он в его возрасте интересуется электронной музыкой, а не дешевой попсой из чартов.
– Но скажи, неужели тебе не становится грустно от такой музыки?
Мне все-таки захотелось поговорить об этом.
– Почему мне должно быть от нее грустно? – возразил он.
– О’кей, Мануэль, я задам тебе еще один вопрос. И на этот вопрос я не хочу услышать от тебя определенный ответ. Я не хочу сейчас услышать от тебя: почему я должен в принципе быть печальным? Так, теперь ты даже знаешь, о чем я хочу тебя спросить, верно? Итак, о чем я хочу тебя спросить?
Он засмеялся, ему это понравилось.
– Ты хочешь меня спросить, печален ли я в принципе.
– Верно.
– И мне нельзя отвечать: «Почему я должен в принципе быть печальным»? – спросил он.
– Верно.
Теперь ему пришлось надолго задуматься.
– Как ты пришел к мысли, что я могу быть печальным? – спросил он.
Ну да, это уже был кое-какой прогресс.
– К такой мысли я пришел потому, что ты слушаешь печальную музыку, и вообще ты очень спокойный и серьезный, по крайней мере, в моем присутствии.
– А тебе что, мешает, если я грустный? – спросил он.
– Да.
– Почему? – удивился он.
Это был хороший вопрос, на который я не мог дать сыну совершенно честный ответ. Поэтому я попытался дать почти честный:
– Потому что печальные люди печалят меня.
– Да ты и без того печальный человек, – сказал он.
Приговорил меня. И то, как он при этом на меня смотрел, приятно мне не было.
– С чего ты взял? – спросил я.
– Иначе ты не пил бы так много.
Разумеется. Тут снова оказалось, что молодые люди абсолютно недостаточно просвещены насчет значения и действия алкоголя. Все сконцентрировалось на профилактике наркотиков, и про алкоголь больше никто ничего не знал.
– Я пью, потому что алкоголь мне нравится. А раз мне что-то нравится, значит, я не печальный, – сказал я.
Он хотя и кивнул, но не поверил ни одному моему слову. Кроме того, он обладал хорошим интеллектом и был блестящим оратором, так что малыми средствами ему удалось повесить на меня его собственную печаль.
Тогда по моему настоянию мы позвонили его маме в Сомали, где из-за разницы часовых поясов было на два часа позднее. И хотя Мануэль уверял меня, что он чуть ли не каждый вечер переговаривается с ней по телефону, я хотел при этом присутствовать, ведь как-никак я был его послеобеденным опекуном – и кроме того, еще его отцом.
Алиса тут же взяла трубку и дышала тяжело – как загнанная; должно быть, она синхронно оперировала сразу пятерых африканцев.
– Привет, Гери, у вас все в порядке?
– Да, все о’кей, твой сын хочет обменяться с тобой парой слов, – сказал я и протянул ему телефон.
Это было действительно подло с моей стороны – так его подставить, – и он скорчил гримасу, но в конце концов я успешно установил контакт сына с матерью. Правда, моему слуху перепадали лишь обрывки разговора.
– Привет, мама. – Да, хорошо. – У Герольда в кабинете. (Все-таки назвал меня Герольдом, а мою нору – кабинетом.) – Холодно. – Нет, солнце. Солнце и облака. – Да. – Математику. – Да. – Да. – Да, я. – Даааа, обещаю тебе.
Тут он покосился на меня снизу вверх. Должно быть, она требовала, чтобы он был со мной дружелюбней.
– Нет, еще нет. – Не знаю. – Скажи это ей.
Это было интересно. Должно быть, они говорили о тете Юлии.
– Сегодня? – Сегодня мне еще нужно к стоматологу. – Нет, с Герольдом. – Да, он пойдет со мной. – Да, правда. – Да, я ему скажу. – Да. – Пока. – Да, я сделаю.
Он по-мальчишески грубовато протянул мне телефон.
– Что ты должен мне сказать? – спросил я.
– Что очень мило с твоей стороны идти со мной к стоматологу.
– К стоматологине, – поправил я. – Но твоя мама права, это очень мило с моей стороны.
В логове красивой львицы
Что касалось докторши с короткими светлыми волосами и восхитительным – что бы назвать в первую очередь? – ну, с восхитительным восьмидесятиградусным переходом от восхитительного края подбородка к восхитительному началу шеи, той докторши, которая после третьей и решающей двери гостеприимно протянула нам руку, чтобы самым сердечным образом приветствовать нас в ее уютно пахнущей лекарствами мастерской, то речь шла о госпоже Ребекке Линсбах, тридцати семи лет, неопределенного семейного положения, вот уже семь лет работающей по договору на обслуживании застрахованных больных, с собственным врачебным кабинетом, публично представленной лишь однажды, а именно с рефератом, предположительно привлекшим большое внимание на австрийском конгрессе стоматологов в 2013 году в Зальцбурге, на близкую народу тему «Обеспечение имплантами в атрофированной челюсти; метод наращивания; дистракционный остеосинтез и программа протезирования». В остальном она была виртуально неприметной: ни книжных публикаций на Амазоне, ни друзей на Фейсбуке, ни активности в Твиттере. Одно-единственное изображение, изготовленное ассоциацией врачей, категории «документальное фото», оценка: весьма привлекательна. (Источник: Интернет, различные поисковики.)
– Ну и как идут дела у храброго пациента? – Она посмотрела на меня, но имела в виду, судя по всему, Мануэля. – Есть ли какие-нибудь осложнения?
Это, к сожалению, был не тот вопрос, на который можно было ответить: я еще раз явился сюда, в логово львицы, чтобы спросить ее, не можем ли мы познакомиться несколько ближе, в стороне от атрофированных челюстей, так сказать.
И я сказал:
– Нет, насколько можно судить со стороны, с моим… с нашим юным пациентом все обошлось, не так ли, Мануэль?
Он метнул в мою сторону довольно презрительный взгляд.
Затем все пошло, к сожалению, очень быстро. Мануэль лежал на белом кресле, все внимание Ребекки Линсбах было направлено на него, и освещенное внутреннее пространство его рта поочередно осматривалось, опрыскивалось, промывалось, ощупывалось и обстукивалось. При этом я удивлялся, насколько безучастным это оставляло меня на сей раз. И вот уже прозвучало:
– Мы закончили, молодой человек. Пожалуйста, один час ничего не есть.
И потом, наконец, все-таки обращенное ко мне:
– Весной я хотела бы увидеть вашего сына снова.
– Он мне не отец, он всего лишь старинный друг моей матери, – ввернул Мануэль.
– Его мать полгода работает в Сомали, она тоже врач, не стоматолог, но зато в Африке.
Я улыбнулся, несмотря на вялую остроту, как можно более победно и как можно меньше демонстрируя при этом мои зубы.
– А, интересно, – сказала она тоном «а, неинтересно».
Но и совсем уж безразличен я ей тоже не был, мужчина это всегда чувствует. Бывают ведь вполне здоровые и красивые женщины, может, даже безупречные стоматологини с восхитительной линией подбородка и перехода к шее, которые делают стойку даже на ископаемых типов – таких, как Жерар Депардье после пяти лет водочного гражданства.
К сожалению, мы находились уже в непосредственной близости к расставанию, и мне непременно нужно было что-то сказать, иначе шанс был бы навеки упущен.
– Госпожа магистр, я надеюсь, это не будет слишком большой наглостью, если я вас просто напрямую спрошу, не будете ли вы, может быть… не мог бы я…
– Само собой разумеется. Я уже и сама подумала, что это не терпит отлагательства. Можете прямо сейчас зайти к моей ассистентке и записаться на следующую неделю. В основном ведь для профилактики? Или уже бывают боли?
Совершенно неуместный дурацкий смех Мануэля выбил меня из колеи, но я все-таки собрал по частям пригодную к употреблению фразу:
– В основном для профилактики. А боли уж потом непременно последуют.
Теперь я все-таки увидел, как она улыбается. И мой промежуточный мозг сфотографировал ее при этом с хорошей резкостью.
Глава 4
Четвертое пожертвование
В начале октября от этого деятеля, то есть от благодетеля, все еще никто не обнаружил и следа, хотя его характеристики от растущего, как грибы, множества экспертов по части психологии, рассуждений и ясновидения с каждым днем становились все отчетливее, многограннее и ярче. Поиски дарителя превращались в народный вид спорта. Люди любят разгадывать необычные социальные ребусы. В кои-то веки разыскивали не разбойника, а его прямую противоположность, и каждая заметка об этом, даже самая тупая, служила вроде как благородным целям и по-своему участвовала в улучшении мира.
Вскоре дело дошло до четвертого пожертвования. Оно торжественно отмечалось не только в Вене, но и за ее пределами как крупное общественное событие, ввергнув «День за днем» в блаженное хмельное головокружение, которое на сей раз проявилось и в экономическом плане. Ибо все большее число рекламодателей почитали за счастье разместить рекламу своих товаров и услуг в бесплатном издании, которое стало столь популярным, и, так сказать, впарить их человечеству в качестве дополнительных бонусов.
Да, и в этот четвертый конверт весом в десять тысяч евро была вложена газетная вырезка из «Дня за днем», и почти все сыщики-любители, включая моих приятелей из бара Золтана, были отныне едины во мнении насчет читательских привычек благодетеля или благодетельницы: он или она концентрировались исключительно на «Пестрых сообщениях дня». София Рамбушек со своими большими социальными репортажами и колонками могла сколько угодно проливать свежеокрашенную искусственную сердечную кровь, но ей так и не удалось выманить у благотворителя ни малейшего пожертвования.
Ему больше нравились простые и менее захватывающие заметки:
«У Венского социально-консультационного центра «Помощь немедленно» кончаются средства. Благотворительная организация для людей, оказавшихся в бедственном положении, которая начертала на своем знамени, что помогает быстро и без лишней бюрократии, из-за постоянного роста спроса вынуждена отказывать все большему числу людей, взыскующих помощи».
София изначально планировала посвятить этой теме большую социальную статью, но потом все-таки решила написать про кризис добровольной пожарной дружины, которой в некоторых районах не хватало средств выполнять свою работу эффективно и с полным покрытием. Так из проблем социально-консультационного центра «Помощь немедленно» получилась лишь короткая заметка, и это явно пошло ему на пользу.
Однако что говорило об анонимном дарителе то обстоятельство, что он обслуживал исключительно короткие заметки «Дня за днем»? На этот счет публичная дискуссия уже предложила обширное многообразие толкований.
1. Он явно хотел затратить на выбор нуждающихся как можно меньше времени и сил.
2. Он просто был не готов платить деньги за газеты, из которых выискивал получателей своих пожертвований.
3. Дело было в том, чтобы не ходить в газетный киоск и вообще никак не зависеть от вспомогательных действий. Он брал газету, что называется, на дороге, и ему не приходилось ни с кем вступать в контакт, чтобы сделать выбор для пожертвования.
4. Уровень и даже идеология газеты, так называемое направление, были ему совершенно безразличны.
5. У него, наоборот, были свои медийные и социально-политические мотивы. Тогда, может быть, это даже входило в его задачу – сделать рупором обездоленных антимаргинальное издание, существующее под лозунгом «закон и порядок».
6. Он однозначно склонен к слабому, скрытому взыванию о помощи и игнорирует пышно преподнесенные социальные драмы.
7. Может, он старый мужчина или старая женщина, который или которая больше не имеет ни желания, ни сил, ни времени интенсивно и углубленно заниматься случаями для органов социального обеспечения, поэтому он или она берет себе в качестве стереотипа бесплатную газету и более или менее наугад черпает случаи из «Пестрых сообщений дня».
8. И все же благотворителю было важно выдать источник своей информации, иначе он бы не стал регулярно вкладывать в конверт вырезку из газеты. Не думал ли он показать тем самым, что без его вырезок дело никогда бы не дошло до столь широкой медийной огласки и до такой реакции среди населения, об этом можно было лишь гадать.
Божественная работа
Я, разумеется, радовался и четвертому пожертвованию. Не только потому, что благотворитель явно пристрелялся к разделу «Пестрые сообщения дня», который официально по-прежнему вел я, но и потому, что я с детства любил Робина Гуда и мне просто приятно было видеть в такой непосредственной близости от себя, как кто-то не отрекался от самых меньших и слабейших в обществе или поддерживал тех людей, которые по доброй воле и без громких труб служили хорошему делу. Но на этом позитивная часть заканчивалась.
К сожалению, в редакции мне приходилось иметь дело с маниакальными личностями, и в первую очередь с Норбертом Кунцем, которые всерьез уверовали, что они как минимум боги. И они давили на меня, принуждая к своей вере, и это означало не что иное, как заставить меня делать много больше за те же самые деньги. Отдел читательских писем из-за большого наплыва корреспонденции утроился в объеме, и это означало, что в три раза больше психопатов, чем раньше, могли потчевать меня своими топорными теориями – и мне приходилось возиться с этими абсурдными текстами.
Еще хуже дело обстояло с «Пестрыми сообщениями дня». София Рамбушек была сильно перегружена своим социальным портфелем, а сверх того фрустрирована тем, что благотворитель совсем не обращал внимания на ее непомерно растянутые репортажи. К сожалению, было уже невозможно установить истинное положение дел, и именно София стала, так сказать, журналистским лицом, причастным к анонимным денежным пожертвованиям. С ее хорошеньким изображением на плакатах и в объявлениях «День за днем» претендовал на то, чтобы стать маркой для нового – доброго – человечества.
И все равно каждый знал, что спонсор ориентировался явно на короткие заметки, которые уже разрослись до размеров крепости, и эту крепость стерегли Аргусы от конкурентов. Выбор социальных заметок был объявлен делом особой важности с резолюцией сената. Каждые несколько часов люди сталкивались лбами в марафоне заседаний, ломали себе головы и торговались, как и чем в очередной раз смягчить сердце благодетеля и облегчить его кошелек на следующие десять тысяч евро.
Я же сидел в тихой и темной каморке и обрабатывал остаток «Пестрых сообщений дня» – все, что не было социальным, то есть мрачные и деструктивные 99 процентов мировых событий. К тому же распоясавшиеся представители остальной сотой доли, а именно возбужденная целевая группа – от слезливых до агрессивных якобы-благодетелей, – теперь с утра до вечера засоряли мой почтовый ящик. То были люди, которые теоретически всегда хотели сотворить что-то хорошее, но практически никогда не имели для этого средств. Теперь они усмотрели шанс полакомиться от большого пирога пожертвований и вымаливали несколько строчек в коротких заметках для наспех сляпанных проектов оказания социальной помощи. Я незамедлительно отсылал эти мейлы Софии Рамбушек, а она переправляла их Норберту Кунцу с вопросом: «Что нам со всем этим делать?», и уже оттуда они снова возвращались ко мне с указанием: «Господин Плассек, пожалуйста, ответьте по возможности вежливо!!!»
Картины недостижимого
Особенным в эти первые дни октября, и это уже отличало меня от остальных, особенным была Ребекка Линсбах. Ту мысль, что эта женщина, которую я, кстати, вообще не знал, в принципе недостижима для меня, я без усилий отодвигал в сторону. Поскольку мне совсем не приходилось размышлять о том, на каком иерархическом этаже заседает, скорее всего, ее муж, на каком кроссовере из какого лофт-гаража в какую резиденцию он едет. И сколько чудесных Линсбах-детишек вечером, после как минимум часовой церемониальной чистки зубов, укладываются в свои кроватки, чтобы их мама и папа в форме диалога еще могли прочитать им их любимые сказки на ночь. А когда малыши засыпают, в гостиной разжигается камин, и мистер Джеймс Линсбах замешивает коктейли, или встряхивает их, или откладывает на потом – смотря по необходимости и настроению.
Думать об этом – я не думал. Я же не мазохист. Реально в моем распоряжении было только гугловское фото Ребекки с конгресса стоматологов, и с ним я сопоставлял те моментальные снимки, которые сохранил мой промежуточный мозг. Серия этих моментальных снимков складывалась в маленький фильм, который я прокручивал по нескольку раз на дню, чтобы время от времени побаловать себя чем-то приятным, что бы отвлекало меня от привычного. Больше всего я любил прокручивать этот фильм ночами, лежа в постели, когда моя голова была уже непригодна для того, чтобы подводить итоги дня, а то и всей жизни. Вот и давеча я рассматривал Ребекку и воображал себе, что все доступное представлению может быть осуществимо, даже фактически невозможное.
– Ты немного того в зубную врачиху? – спросил меня Мануэль, к моей полной растерянности, в один из наших вечеров.
При этом у него была на верхней губе та гнусная ухмылка полупросвещенного подростка, у которого любовные сигналы из телевизионных каналов и интернет-форумов еще не дошли до головы, не говоря уже о сердце, а копошились где-то на пару этажей ниже.
– Я немножечко чего? – уточнил я.
Теперь он имел случай доказать мне, на что способен.
Он отложил в сторону ручку, которой так и не вписал еще ни одного слова в лежавшую перед ним тетрадь, хотя занес ее над страницей добрых двадцать минут назад.
– Ты сам знаешь, что я имею в виду, втрескался, втюрился…
Ясное дело, обычный язык войны и борьбы. Я-то был сторонником более строгих вербальных законов о хранении оружия, по крайней мере для подростков.
– Влюбился, ты имеешь в виду? – спросил я.
Это слово, разумеется, было для него мучительно стыдным, ведь он был мальчишка, а в этом на удивление мало что изменилось со времен моего собственного детства.
– Да, она мне нравится, она, признаться честно, как раз в моем вкусе, – произнес я.
– Но тут тебе придется изрядно помучиться.
Теперь он снова ухмыльнулся, но уже не гнусно, а скорее заговорщицки.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, с твоими-то зубами.
– Уж она мне их выправит и отполирует, – сказал я.
Тут он громко рассмеялся. Я не считал, что он заходит слишком далеко, потешаясь надо мной все больше. У меня даже внезапно возникло чувство, что я в состоянии стать для него настоящим примером – а именно в том, как смотреть на вещи субъективно, когда объективно они представляют собой нечто совсем другое. Начинать с этим делом никогда не рано, потому что это всегда пригодится для того, чтобы выжить.
С Флорентиной в пивном баре
Как отец, я пережил на этой неделе еще один маленький звездный час: мне позвонила Флорентина, она хотела встретиться со мной, без Гудрун – только мы вдвоем. Встречи вдвоем с моей дочерью можно было пересчитать по пальцам одной руки. Бесконечно много лет назад я ездил с ней в парк Пратер покататься на пони, то были травматичные полдня, которые я не могу забыть до сих пор. Сидя верхом на лошадке, маленькая принцесса внезапно расплакалась, и ее невозможно было ничем успокоить. Признаться, и я – как зритель – ожидал от пони большего, чем пять скучных шагов, после каждого из которых ему требовалось по пять минут передышки для переваривания. Проблема была в том, что Флорентина тогда считала виноватым меня, ведь это я посадил ее верхом на ленивого пони, в то время как другие дети носились на других лошадках вскачь. Мне не оставалось ничего другого, как вызвать Гудрун, чтобы она забрала истерически орущего ребенка. Бертольд, новый папа, не преминул явиться вместе с ней. Он демонстративно встал между мной и Флорентиной и простер объятия так, как будто был ее спасителем. Увидев его, Флорентина бросилась к нему, как одержимая. Он поднял ее вверх, покружил в воздухе, прижал к себе, поцеловал. Слезы высохли в мгновение ока, и малышка просияла во все лицо. В награду ей было позволено залепить сахарной ватой весь рот, Бертольд точно знал, чем можно склеить разбитое детское сердце. На прощанье я помахал ей, но она не помахала мне в ответ. С тех пор мы всячески избегали общения вдвоем. О’кей, это я избегал. Просто у меня был панический страх опять посадить мою маленькую Флорентину не на ту лошадку.
* * *
Итак, то была ее инициатива, и ее звонок, и ее идея, и ее конкретное желание, и так мы встретились с ней в альтернативном пивном баре «Трайблоз», в пресловутом Штувере – тоже по ее выбору, – куда люди младше сорока не заглядывали в принципе. В этом ей хотелось пойти мне навстречу явно дальше, чем на полпути. Я перед тем уже выпил пару стаканов, потому что был страшно взволнован. Дети умеют ввергнуть нас в стресс как следует.
Ее вид, дорогие шмотки, которые радикально удешевлялись ее манерой их носить, размазанный макияж и серебряная звездочка на ноздре, желавшая казаться гадким панковским пирсингом, – все это должно было рассеять последние сомнения в том, что в помещение вошел ребенок. В состав ее прикида входило и то, что на каждом мужчине, будь то посетитель или кельнер – неважно, какого пошиба, – она опробовала свой мерцающий взгляд, и это причиняло мне настоящую боль.
– Для меня пиво, а ты что будешь пить, Флорентина? Яблочный сок? – спросил я.
– Тоже пиво, – кивнула она.
– Что, правда? – засомневался я.
Мне это совсем не понравилось, ведь был еще белый день.
– Конечно. Я всегда пью пиво, когда выхожу, – сказала она и заговорщицки улыбнулась мне, потому что ей и в самом деле казалось, что этим она набирает у меня очки.
Я, к сожалению, был последним, кто имел право применить здесь свое властное слово.
Приблизительно в том же направлении двинулся затем и наш разговор. Флорентина хотела пожаловаться мне на своих обывательских «стариков». Она по горло была сыта домом, школьными уроками, лимитированным временем в Интернете, закрепленными часами обеда и ужина и контролируемым часом возвращения домой, призывами к порядку и дисциплине, к чистоте и вежливости, стилю и этикету. Кроме того, она всерьез подумывала о том, чтобы все бросить и прекратить обучение в гимназии.
– Для того чтобы заняться чем? – спросил я.
– Понятия не имею, устроюсь куда-нибудь на работу, я просто хочу быть свободной. Я не хочу закончить так, как мама или папа… то есть Бертольд, – сказала она.
– Ты предпочитаешь закончить так, как я? – уточнил я.
Редко мне приходилось произносить фразу, которая бы так крепко приклеилась к языку и так болезненно от него отделилась, как эта.
– Ты хотя бы живешь своей жизнью, делаешь что хочешь и не беспокоишься о том, что подумают о тебе другие, – заявила она.
– Но не путай это со свободой, детка, – ответил я. – Вся моя свобода состоит только в выборе между пивом, вином и шнапсом, да и эту свободу я могу себе позволить лишь потому, что твоя мама пристроила меня на работу, к тому же на работу, которую я ненавижу. Вот она, моя свобода!
Внутри я дрожал от страха, что у Флорентины сейчас опять будет тогдашний взгляд, какой был у нее верхом на пони.
– Но ты, по крайней мере, естественный. Ты всегда оставался верен себе, а считается только это, – сказала она.
Я лишь успел взять ее руку и крепко пожать, как мне немедленно понадобилось в туалет.
Когда я снова был в порядке и вернулся к столу, Флорентина разоткровенничалась и рассказала, что у нее уже три месяца как есть друг. Его зовут Майк, ему двадцать один год.
– И он музыкант, – предположил я.
– Да. А ты откуда знаешь? – Она и впрямь удивилась.
– Я знаю мою дочь. Ударные?
– Нет, бас-гитара.
– Хорошие басисты всегда нужны, – соврал я. – И что они играют?
– Инди и психоделический рок, скорее медленные вещи.
«Психоделический» – это не предвещало ничего хорошего.
– И вы уже?..
– Я нет. А он уже, но только сигареты, ничего тяжелого.
Я, правда, имел в виду совсем другое, но и это встревожило меня не на шутку.
– Ты хочешь познакомиться с Майком? – поинтересовалась она.
– Хочу, и даже очень. Непременно! Это замечательно, что ты спросила.
– Он очаровательный. Он тебе понравится, – заверила она.
Я не был в этом так уж уверен.
– Он напоминает мне тебя.
С одной стороны, это было восхитительно, но с другой – подтверждало мои худшие подозрения.
– Но ни слова маме и Бертольду, обещай это. Им ничего нельзя про него знать, – попросила она.
– От меня они ничего не узнают, в этом я клянусь.
Я смотрел на свой пустой пивной бокал и чувствовал, что настоятельно нуждаюсь в добавке. Но с этим дело обстояло плохо, потому что бокал Флорентины тоже был пуст.
– Я, кстати, тоже хотел бы, чтобы ты кое с кем познакомилась, но это, может быть, несколько преждевременно, – сказал я.
– У тебя новая любовь? – Она распахнула глаза, и ее зрачки, обрамленные зелено-медно-янтарными радужками, загорелись.
У нас троих были практически одинаковые шесть глаз.
– Нет-нет, не это… или… то есть… может быть… но я имею в виду кое-кого совсем другого. Только это еще рановато, – повторил я.
Теперь она была совершенно сбита с толку, но мы оставили все как есть.
– Так, и знаешь, что мы теперь сделаем, Флорентина? Мы закажем нам кофе. Договорились? – спросил я.
– Да, кофе хорошо бы, – ответила она.
– А потом я хотел бы еще сказать тебе несколько слов на тему школы.
– Это обязательно?
– Думаю, да.
– О’кей, – согласилась она.
Битва вокруг пожертвований
Когда на вторую половину четверга было срочно назначено совещание, обязательное для всех сотрудников «Дня за днем», мы, конечно, все подумали про пятое анонимное пожертвование. Так оно и оказалось, но это было, к сожалению, далеко на все.
Уже по беспокойным жестам и нервному тику на лице Норберта Кунца можно было догадаться, что не все идет так, как надо, и что искусственно поддерживаемая в течение нескольких недель эйфория грозит внезапно рухнуть. К тому же на сей раз нам выставили лишь пару графинов воды из-под крана и не откупорили ни одной бутылки шампанского.
Однако первым делом нам все же была объявлена хорошая новость: семье Венгер из Гросрайнпрехтса в Нижней Австрии пришло пожертвование в размере десяти тысяч евро. В белом конверте без обратного адреса находились не только двадцать пятисотенных купюр, но и непременная вырезка из газеты «День за днем». Домовладение большой крестьянской семьи с пятью детьми было за одну ночь полностью выжжено ударом молнии – дотла, и крестьянин со своей снова беременной женой оказались «на руинах существования», буквально так гласил текст короткой заметки. Можно было наперед заключать пари, что эта заметка сподвигнет благодетеля на денежное пожертвование. Так оно и случилось.
Но после этого Кунц произнес странную речь, из которой я поначалу не понял, что к чему. Жестким и агрессивным тоном он клеймил низость местного медийного ландшафта, зависть, предательство и недоброжелательство. Он изображал дело так, как будто «День за днем» был чем-то вроде ведущей моральной инстанции страны, оазисом милосердия, прибежищем христианской любви к ближнему, более католической, чем сам католицизм, поэтому спонсор не преминул использовать для своих благих целей именно это СМИ. Но снаружи подстерегал враг, он шпионил, устраивал засаду, ставил ловушки и ждал своего часа, чтобы оклеветать добро и впутать его в скандал.
Потом он наконец произнес это: Клеменс Вальтнер, ведущий руководитель «Дня за днем», член наблюдательного совета и ведущая голова (судя по виду, скорее брюхо) концерна оптовой торговли PLUS, попал под подозрение, что именно он стоит за анонимной серией пожертвований, сам, так сказать, вызвал их к жизни и связался с пока не выясненными сообщниками, чтобы обеспечить паблисити дышащей на ладан бесплатной газете и привлечь новых рекламодателей – что ему и впрямь удалось, если верить утверждениям.
Но я не мог себе представить, чтобы это было правдой. В такой хитроумной задумке, в которую к тому же еще надо было инвестировать как минимум пятьдесят тысяч евро, я господину Вальтнеру отказывал. Господина Вальтнера я однажды имел возможность видеть вблизи за поеданием гуляша на корпоративном праздновании Рождества, после чего я спрашивал себя, почему такие алчные люди всегда носят белые рубашки. Итак, я просто отказывал ему в социальном, а также во всяком другом интеллекте.
– Эта история с начала и до конца есть наглое измышление, – утверждал, естественно, Кунц под одобрительный ропот коллектива.
Надо было учитывать и то, кто вообще распространял эту историю, или, вернее, кто собирался взорвать бомбу в своем выходящем по пятницам издании. То была конкурирующая газета «Люди сегодня», вуайеристская газета-афиша, которая обычно цеплялась за пятки и трусы знаменитостей и обслуживала приблизительно те же целевые группы, что и «День за днем». Якобы в распоряжении редакции оказались магнитофонные записи, на которых Вальтнер хвастался двум близким друзьям в ночном кафе, и отнюдь не в самом трезвом виде, что он лично и был тем самым анонимным благодетелем. Якобы в качестве доказательства он достал из своей сумки понедельничный номер «Дня за днем», в котором ткнул пальцем на «пестрое сообщение дня» про удар молнии в Гросрайнпрехтсе и заявил, что эта семья вскоре и станет обладателем десяти тысяч евро.
«Они это действительно заслужили», – якобы добавил он.
Уже одна эта фраза никак не могла бы сорваться с его языка.
Наряду с этим «Люди сегодня» якобы располагали и другими изобличающими материалами. Полиция, по их словам, вела расследование и опросы свидетелей по подозрению в подлоге, и на управленческом этаже компании PLUS якобы уже проводились обыски. Все это можно было понять из анонса большой разоблачительной статьи, и этот анонс Кунц нам как раз и зачитывал. Этот материал уже разошелся по агентствам.
– Дорогие коллеги, я могу вас успокоить, в этом нет ни слова правды, – заверил нас шеф-редактор и вытер пот со лба тыльной стороной ладони.
Инстинктивно я ему поверил, хотя сам он никак не мог знать, а мог лишь надеяться, что там не было никакой правды. Так или иначе, а медийные адвокаты уже были подключены и добились временного постановления. Это означало, что «Люди сегодня» не могли опубликовать скандальную статью или могли публиковать лишь отрывки из нее. Кроме того, юристы «Дня за днем» уже готовили миллионный иск за клевету.
И все это знали
На следующий день все это, разумеется, было напечатано во всех газетах крупным шрифтом и прошло сюжетами по всем радиостанциям и всем каналам телевидения. Поскольку «объективные, серьезные газетные сообщения» означали, что кто угодно мог поучаствовать в любой дискредитации – при условии, что оставался открытым вопрос, была ли это правда или всего лишь ложь. Можно было также подробно разобрать в деталях все обвинения, для этого достаточно было просто дать слово противной стороне, а более благодарную противную сторону, чем Клеменс Вальтнер, нельзя было и найти. Для него, кого обычно никто бы не стал интервьюировать – разве что, может быть, я – я бы спросил у него, почему он для поедания гуляша надевает белую рубашку, – для него даже самый негативный заголовок был все же лучше, чем никакого заголовка, он словно был бы бесплатной рекламой для колосса оптовой торговли PLUS. Вальтнер наслаждался каждым отдельным выступлением и при этом отнюдь не оспаривал, что в баре говорилось об анонимных пожертвованиях и что выпивши он мог и пошутить на тот счет, что он сам и есть великий даритель. Может, он и впрямь размахивал при этом выпуском газеты «День за днем» и наугад мог ткнуть пальцем в какое-нибудь сообщение, утверждая, что это и есть «его» новый адрес для пожертвования.
«Да, мы действительно много веселились в баре и здорово дурачились, – цитировали его. – То, что «Люди сегодня» не могут отличить дурачество от серьезного дела, обойдется им дорого, это я могу им обещать», – передал он афишной газете через другие СМИ.
Меня самого эта скандальная история коснулась особенно неприятно, притом что мое сочувствие к Кунцу и редакции «Дня за днем» держалось в рамках. Они и сами никогда не упускали случая поставить конкурентов под подозрение и навредить их репутации. Просто я находил ужасно огорчительным то, что такое хорошее дело, которое могло дать немного надежды нуждающимся в помощи, так быстро выродилось в этой системе в свою полную противоположность.
* * *
Стоило же послушать, что говорят на этот счет мои приятели, которые в полном составе собрались на еженедельный пир в баре Золтана в Шлахтхаусгассе и уже с нетерпением поджидали меня, своего медийного представителя. В их глазах я действительно что-то значил и даже обладал харизмой за счет того, что оказался при скандальной теме дня, так сказать, в первом ряду и сидел там, вытянув ноги, тогда как они, обычные сердитые граждане, имели всего лишь стоячие места на заднем плане, откуда смутно могли разглядеть, что их опять одурачили. Единственный шанс их реабилитации состоял в том, что они и так это заранее знали.
– А разве я не говорил вам с самого начала, что это только фейк? – открыл дискуссию Йози, кондитер.
– Такие вещи ни один человек не делает без задней мысли, это я вам тоже говорил, – сказал Арик, фрустрированный преподаватель профтехучилища.
– Но, Гери, не станешь же ты нам рассказывать, что вы в редакции ничего про это не знали. Это наверняка обговаривалось между своими, – заметил Хорст, держатель тотализатора.
– Друзья, во-первых, мы действительно понятия ни о чем не имели. А во-вторых, мы на самом деле не знаем, замешан ли в деле PLUS. Я, например, в это не верю. Есть только обвинения, но нет ни намека на доказательства, – сказал я.
– Ну ясно, именно так он и должен теперь говорить, – примирительно сказал Йози и при этом дружески похлопал меня по плечу.
Да будь я самый прожженный ловчила на свете, Йози простил бы мне это, лишь бы я поскорее угостил их очередным кругом выпивки.
– Что-то здесь нечисто, иначе делу не стали бы давать такую огласку, – заподозрил Хорст.
– Наоборот, Хорст, именно потому и дали такую огласку, чтобы в деле что-то было нечисто. Так и функционирует журналистика, – сказал я.
– Какой паршивый бизнес, – заметил Арик.
– А ты как считаешь, Франтишек? – спросил я.
Наш богемский бронзовщик до сих пор держался на удивление спокойно, и казалось, что-то его удручает. Он был, наверное, так же наивен, как и я, и верил в сенсационные исключения из правил нашего общества, а именно в серию бескорыстных добрых деяний.
– Представь себе, что ты заведующий таким приютом для бездомных, или ты бесплатно заботишься о брошенных детях. И вот ты получаешь это безумное пожертвование и страшно рад, потому что о тебе кто-то подумал, кто-то протянул тебе руку помощи, потому что в тебя кто-то верит, рассчитывает на тебя и поддерживает твое благое дело очень большими деньгами. А потом вдруг оказывается, что какой-то поганец из начальства – вроде этого Вальтнера, – что он, может, смухлевал на этом, снял с какого-то мутного счета какие-то грязные деньги и послал каким-то бедным, на которых ему на самом деле плевать, лишь бы его поганый концерн, который и так производит одно дерьмо, лишь бы он эту поганую газетку, прости, Гери, лишь бы он эту поганую газетку, в которой не печатается ничего, кроме дерьма…
– Ну, скоро ты разродишься, давай уже, вываливай, наконец! – нетерпеливо вставил Хорст.
– Следующий круг за мой счет, – успокоил нас Золтан, хозяин заведения, для которого мир в его пивной был превыше всего.
Я, естественно, хорошо понимал, что имел в виду Франтишек, но в голове у меня промелькнула совсем другая мысль: допустим, скандал был лишь сотрясанием воздуха и анонимный благодетель действительно существует; что он сейчас должен думать? Не придет ли он в ужас перед лицом таких самодовольных типов, как Вальтнер и его подельники, которые развлекаются тем, что паясничают, изображая из себя великих благодетелей? Смирится ли он с тем, что они за его спиной ведут медийные битвы и затевают судебные процессы о возмещении ущерба с миллионными исками? Допустим, реальный благодетель действительно был; потянется ли он еще раз к белому конверту? Мне стало страшно, что волшебство минуло раз и навсегда.
Глава 5
Четверку еще можно было спасти
14 октября в 12:30 по среднеевропейскому летнему времени я впервые в жизни добровольно и без сопровождения был у стоматолога, то есть нет – у стоматологини. Специально для этого случая я купил в магазине H&M бордовую вязаную куртку повышенной красивости, по выгодной цене в 49,90 евро. И сходил к парикмахеру, попросил срезать мне сзади весь избыток, так что теперь я выглядел уже не как безработный звукотехник хэви-метал, а как безработный преподаватель по классу фортепьяно. Кроме того, я запихнул в рот мятную жвачку, одну из тех, что Мануэль теперь регулярно кладет на стол, когда приходит ко мне на работу.
– Когда вы проходили контрольный осмотр в последний раз? – спросила меня секретарша в приемной.
– Честно говоря, еще никогда.
Она посмотрела на меня недоверчиво.
– Со времен моего детства я утратил контроль над своими зубами, – сказал я.
К сожалению, моя шутка не показалась ей забавной, и она отправила меня на рентген. После чего посадила потеть в комнате ожидания перед стопкой нетронутых стоматологических журналов с отталкивающими обложками, выдержанными в розовом цвете желез или слизистой оболочки.
Наконец я был допущен в логово Ребекки Линсбах, которая быстро прямо в дверях протянула мне руку. Ребекка была приблизительно так же очаровательна, как накануне ночью в моих снах, но она сделала вид, что не знает меня, и мне это было очень жаль. Может, она действительно не узнала меня, а может, ей не хватило Мануэля при мне или моих длинных волос на затылке.
– Пожалуйста, не смейтесь надо мной, если я признаюсь, что побаиваюсь вас, – сказал я.
Она улыбнулась. Женщины любят мужчин, которые не изображают из себя неизменно сильную личность, а в этом отношении у меня действительно было что предложить.
Затем она показала мне мои челюсти, уже висевшие на стене в виде постера, и поставила диагноз:
– Господин Плассек, увы, это катастрофа.
Быстро обнаружилось, что большинство зубов годилось только на выброс, а остальным требовались мосты.
– Лишь бы не разводные, – сказал я. Но шутка как-то не пришлась к месту.
– Вверху четвертый слева мы еще можем спасти.
Это было чем-то вроде хорошей новости того вечера, за которую я поблагодарил себя самым сердечным образом.
Я бы с удовольствием добавил еще несколько приватных слов, но Ребекка, к сожалению, форсировала события и быстро привела меня в горизонтальное положение.
– Я предлагаю, давайте мы даже пробовать не будем без анестезии. Если вы все равно будете чувствовать боль, просто поднимите руку.
Я ее и без того уже поднял и на всякий случай так и держал.
Следующий час можно было выдержать только с закрытыми глазами, при этом ужас состоял не столько в том, что́ из меня вынимали и цеплялись ли за это нервы, пережившие наркоз. Гораздо хуже было воображать, что меня ожидает в следующие секунды: какие ужасы и кровопролитная резня. Однажды было по-настоящему больно, и я спонтанно вцепился в запястье Ребекки, это было, пожалуй, самое сильное мое проявление эмоций за последние десять или двадцать лет. Но она сделала вид, будто ничего не было. Судя по всему, для нее это было, к сожалению, рутиной, ее ничто уже не волновало, даже то, что по ее команде «Пожалуйста, прополощите как следует» я выплюнул литра три крови.
Но когда Ребекка управилась, она все же сказала чудесную фразу (по крайней мере, содержательно чудесную), которая даст мне продержаться всю осень.
– Господин Плассек, вы знаете, сегодня было лишь начало, впереди нас с вами ждет большой объем работы.
Мне хотелось ответить ей, что установление отношений всегда представляет собой большой объем работы. Но я ограничился несколько более сдержанным сигналом:
– И все-таки я рад, что преодолел себя и явился к вам.
Я бы на ее месте ответил: «Вы сделали хороший выбор». Но нет, она лишь лапидарно ответила:
– Дальше откладывать было уже нельзя.
Хотя по ее виду не скажешь, что любая ее мысль должна непременно начинаться и заканчиваться зубами. Пожимая ей руку на прощанье, я все-таки рискнул произнести еще пару личных слов.
– Как бы то ни было, я рад, что на будущей неделе снова приду к вам, – сказал я.
– Довольно будет того, что вы придете, а радоваться совсем не обязательно, – отпасовала она.
– Но можно я все-таки порадуюсь?
Она пожала плечами и смущенно улыбнулась.
– Можно? – настойчиво повторил я.
– Можно, – позволила она.
Мануэль давит на меня
По четвергам Мануэль являлся ко мне только в три часа, потому что перед этим у него была тренировка по баскетболу. Поначалу я не придавал особого значения этому хобби, поскольку баскетбол – не совсем мой спорт, притом что вообще никакой спорт моим никогда не был, кроме разве что настольного футбола, где используешь лишь два запястья, а попутно можешь сделать глоток-другой.
Но постепенно из его рассказов я понял, как важен для него был баскетбол и какая в нем зреет личность игрока. Кажется, в своей команде юниоров «Торпедо-15» он был кем-то вроде распасовщика, и вроде бы тренер предсказывал ему карьеру, сходную с карьерой его кумира Джеффри Линна Грина из «Бостон Селтикс», которого также называли Green Monster, что не было таким уж преувеличением при росте два метра, шесть сантиметров и при ста семи килограммах веса. Откуда я это знаю с такой точностью? Мануэль установил мне этого Зеленого монстра фоном рабочего стола на компьютере – со всеми его основными данными, и теперь я понятия не имею, как мне от этого монстра избавиться.
Когда Мануэль по четвергам приползал после тренировки, он был чаще всего весел и общителен. И с недавних пор у нас вошло в обычай устраивать час болтовни, во время которого я узнавал чуть ли не все о его товарищах по команде и противниках, о структуре игры, тактике, все больше овладевал правилами, так что мог уже все бросить и в рамках второй профессии наняться в команду «Торпедо-15», если они там заинтересованы в усилении их Лиги старых наркоманов.
В этот унылый четверг в редакции, ввергнутой в шоковое оцепенение из-за неразберихи с пожертвованиями, я уже предвкушал приход Мануэля с тренировочными новостями и разборкой баскетбольных эпизодов. Однако на сей раз он явился с опущенными плечами, а когда взглянул на меня, то не сдержался и начал громко всхлипывать. Какое-то время его ничем нельзя было успокоить.
– Эй, парень, что стряслось? У тебя что-нибудь болит? – спрашивал я.
– Нет.
– Кто-нибудь тебя обидел?
– Нет.
– Что тогда?
– Махи ушел.
– Кто такой Махи?
– Махмут, наш атакующий защитник.
Правильно, теперь я вспомнил. Мануэль был разыгрывающий защитник, который формирует ход игры, тогда как атакующий защитник специализируется на бросках с дальней дистанции. Мануэль уже неоднократно рассказывал об этом бедовом парне Махмуте. Если где-то на горизонте замаячит корзина, этот мальчишка гарантированно вбросит туда любой мяч, какой попадется ему в руки.
– Что значит «ушел»? Откуда ушел? Куда ушел?
– Я не знаю. Он сбежал.
– Как сбежал? Из дома? От своих родителей?
– Нет, со своими родителями. Они сбежали, потому что им грозит выдворение из страны.
Это звучало совсем нехорошо. Когда Мануэль немного успокоился, он рассказал.
Махмут Паев был из Чечни. Лет шесть тому назад его родители бежали вместе с ним в Австрию и подали прошение на статус политических беженцев. Проведя какое-то время в лагере для беженцев, семья перебралась в общежитие для иностранцев. Махмут ходил в школу, был там, по рассказам, одним из самых способных, свободно говорил по-немецки, и все к нему хорошо относились, даже девочки, хотя у него были оттопыренные уши, как паруса катамарана. В команде «Торпедо-15» он из-за своих дальних бросков был уже маленькой звездой – ось Мануэль – Махмут была, так сказать, стержнем команды, оба мальчика понимали друг друга на лету.
В последние недели он не раз намекал, что, возможно, скоро не сможет приходить на тренировки, потому что их прошение о статусе беженцев было отклонено. Поначалу этого никто не понимал: с каких пор для игры в баскетбол требовался статус беженца, разве это не свободный спорт для всех? Тогда тренер объяснил своим взволнованным питомцам, что Паевы не получили разрешение на пребывание в Австрии и должны быть высланы к себе на родину. На последней тренировке Махмут сказал Мануэлю буквально следующее: «Если нам придется возвращаться назад, то пусть уж лучше полиция застрелит моего отца, потому что дома его все равно убьют на месте».
Так, и теперь дело дошло до того, что Махи больше не появился на тренировке.
– Это плохо. Я понимаю, тебя это доконало, – сказал я, отдавая себе отчет в том, что утешительный фактор этих слов ограничен.
– Мы должны что-то сделать, – ответил Мануэль.
– Что ты имеешь в виду? Что мы можем сделать? – спросил я.
– Ты должен что-нибудь сделать, – конкретизировал он.
Это заявление меня несколько озадачило, поскольку я не считался таким уж большим волшебником по части обнаружения беглых семей чеченских беженцев.
– Ты должен об этом что-нибудь написать, чтобы Махи смог здесь остаться, – заявил Мануэль.
Это была нетрезвая идея, по моему мнению. Однако взгляд хищной кошки, который он устремил на меня и который сильно напомнил мне о его матери, дал понять, что пространство вдоха для того, чтобы сказать «нет» – а мне, к сожалению, пришлось сказать «нет», – было очень тесным. Мне требовались по-настоящему убедительные аргументы. Выбор был такой:
1. Подобные трагедии не были единичными случаями. Первые из них даже широко обсуждались через СМИ. Но это никак не повлияло на закон об иностранцах. Кто получил отказ в статусе беженца, должен вернуться на родину, тут ничем не поможешь. Журналисты могут усердствовать сколько угодно и гнать волну любой высоты. Мир жесток, и эту жестокость не позволят пресечь внезаконными актами человечности, иначе такая жестокость становится слишком заметной и порождает недовольство, а этого политика допустить не может. Приблизительно так действовал этот аргумент.
2. В «Дне за днем» я связан по рукам и ногам. Даже если бы я захотел, мне не дали бы написать об этом. За социальные репортажи отвечает София Рамбушек. А «Пестрые сообщения дня» в последнее время стал отбирать для публикации сам шеф лично. Я же здесь, в редакции, по должности кто-то вроде ковырятеля в носу. Этот аргумент хотя и был самым обоснованным, но в то же время служил доказательством моей личной никчемности, поэтому он исключался.
3. Даже если бы мне было разрешено или я просто взял бы на себя свободу сообщить об этом, передо мной встал бы один основополагающий вопрос, и он гласил: а о чем я, собственно, должен сообщить? Семья скрылась, предположительно она нашла приют в Вене у своих земляков. Даже если бы мне удалось разведать, где они укрываются, напиши я об этом – их тотчас возьмут, арестуют и позднее вышлют.
Вот такие были три возможности, но я инстинктивно выбрал четвертую и сказал:
– До тех пор, пока я не знаю, где скрывается Махмут со своими родителями, я не могу об этом писать. Ведь мне нечего сказать даже об их самочувствии.
– Чувствуют-то они себя хорошо, – сказал Мануэль.
– Кто сказал?
– Махи.
– А ты откуда знаешь? – спросил я.
– Он мне это написал. Он прислал эсэмэс.
– Да? – Тут я даже растерялся. – Что ж ты мне не говоришь?
– Я только что тебе сказал, – напомнил он.
– И где он прячется?
– Этого я не знаю. Он не скажет, иначе его оттуда заберут.
– Покажи мне эсэмэс.
Мануэль протянул мне свой мобильник. Текст гласил:
«Привет, Мани, как дела? У меня все хорошо, я в надежном месте. Мне нельзя говорить, где я. Но там, где я, люди к нам относятся хорошо, и даже всегда есть спагетти. Но я все равно хочу домой. Не в Чечню, там я никого не знаю. И там моему папе пришлось бы скрываться и нам было бы нечего есть, хоть сдохни. Пожалуйста, скажи своему дяде из газеты, пусть поможет нам. Пожалуйста!!! Ведь в ноябре у нас финальная встреча с «Union CS». Я должен играть, потому что на кон поставлено все. Твой Махи».
Мне нужна была короткая пауза, чтобы перевести дух. Мне ведь зачастую бывает достаточно нескольких точных слов, чтобы пришлось душить нагрянувшие ни с того ни с сего слезы. Это я унаследовал от мамы, у меня это в крови, пусть даже в форме остаточного алкоголя, который всегда настраивал меня на сентиментальный лад.
Так или иначе, я пришел к одному из моих знаменитых решений, которое гласило: я, правда, ничего не могу сделать, но я должен это сделать. Уже ради одного этого слова – «дядя».
– Ты что, сказал ему, что я твой дядя? – спросил я.
– А почему я не должен был это ему сказать? – возразил Мануэль.
– Потому, например, что это неправда.
– А тебе это мешает?
– Нет, напротив, я нахожу, что «дядя» звучит очень симпатично.
– Тебе подходит, – сказал Мануэль.
– Ты находишь?
– Да, ты типичный дядя, – заключил Мануэль и снова улыбнулся.
Мне сразу полегчало. Как будто на шкале в сто делений, где я до сих пор ни разу не продвинулся дальше десяти, я вдруг щучкой допрыгнул до пятидесяти. Я был, так сказать, на половине пути, поэтому мне срочно надо было подкрепиться пивом.
Софии пришлось заболеть
Я с трудом поднялся по лестнице в залитый светом кабинет Софии Рамбушек, который по сравнению с моим казался номером люкс пятизвездочного отеля, и поведал ей историю Махмута.
– Трагично, – сказала она.
Она была в стрессе и слушала меня вполуха.
– Ты можешь сделать из этого что-нибудь путное? – спросил я.
– Еще обсудим, Гери, – сказала она, не отрываясь от монитора.
То есть она не сделает из этого ничего путного, а также ничего беспутного. Вполне возможно, что история умерла для нее на слове «Чечня». Значит, я должен был добавить еще один ход.
– София, у меня к тебе есть одна просьба, – сказал я.
Теперь она взглянула на меня впервые с тех пор, как я вошел в ее кабинет. Такого она от меня не ожидала. В редакции «Дня за днем» я еще никогда ни к кому не обращался с просьбой, если не считать просьбы о том, чтобы меня по возможности оставили в покое.
– Отдашь мне завтра страницу репортажей?
Тут она выдула воздух через свои тщательно обведенные по контуру губы.
– Ты хочешь что-то написать? – с удивлением спросила она.
И правильно, в подобных желаниях я тут, в редакции, не был замечен.
– Надо спросить у Норберта, – сказала она.
Ага, он для нее Норберт, ну-ну. Никогда журналистка не может оказаться слишком юной для того, чтобы получить от своего шефа – который, в свою очередь, никогда не может быть слишком стар для этого – предложение перейти на «ты», которое она, разумеется, не может отклонить, что для шефа, вероятно, несет в себе искру сексуального приключения.
– Забудь об этом. Если спрашивать Кунца, я заранее знаю, что он ответит. – Я махнул рукой.
– А как ты себе это представляешь? – спросила она.
– Заболей завтра.
Теперь она выдула через свои тщательно обведенные по контуру губы двойную порцию воздуха.
– Послушай, София, побалуй себя свободным днем, возьми длинные выходные, выспись как следует, расслабься, сходи на шопинг, устройся дома поудобнее, займись йогой, прими настоящую ванну, почитай книгу, посмотри какой-нибудь дурацкий фильм…
– Я еще никогда не болела, – призналась она.
– Тогда тем более самое время для этого.
– Нет, Гери, так дело не пойдет, я не могу этого сделать, – сказала она.
М-да, отними у трудоголика работу, и он не будет знать, ради чего живет.
– София, я тебя еще никогда ни о чем не просил, я бы и сегодня не попросил, не будь это так важно для меня. Объяснить тебе, почему это настолько для меня важно?
– Нет, не надо, – сказала она.
Это я, при всей скромности, действительно бросил ей хорошую наживку.
– Тогда, пожалуйста, завтра в виде исключения заболей, просто скажи «да» свободному дню. Которого здесь мало кто заслуживает так, как ты.
Такому аргументу ей, разумеется, нечего было противопоставить. Я сам себе удивлялся, как четко я работал, чтобы не лишиться статуса «дяди».
– И когда я должна сказаться больной?
– Только не с утра.
– И чем я должна заболеть?
– Это может быть все, что угодно: мигрень, прострел, понос, гастрит, отравление, затруднение дыхания, проблемы с кровообращением, гипервентиляция…
Все это хотя бы по разу бывало и у меня самого.
– И ты сделаешь страницу репортажа?
– Да.
– В самом деле?
– В самом деле.
– Я могу быть в этом уверена?
– Можешь не сомневаться. София, ты ангел!
Шницель вместо спагетти
Одним из немногих известных мне изъянов алкоголя было то, что после часа умственной работы тебе казалось, что ты вкалываешь уже часов двадцать и что больше не можешь продержаться ни минуты, потому что все ясные мысли истрачены без остатка, остались только смутные, да и те сводятся к посещению ближайшей пивной. К счастью, я предвидел это и учел при составлении концепции страницы репортажа.
Сам я писал короткие комментарии. Это было всего тридцать строк, содержание мне нашептывал мой здравый смысл: нельзя – есть статус беженцев или нет – продержать семью с ребенком шесть лет и вроде бы даже принять в гражданство, а потом вдруг приговорить к диким чеченским пампасам, где семья к тому же подвергалась политическим преследованиям.
Работа Мануэля состояла в том, чтобы собрать все цифры и факты касательно судьбы семьи Паевых, то есть набросать эскиз ее становления, ее бегства и ее жизни в Австрии. Для этой цели он проговорил по телефону со своим баскетбольным тренером почти час, задавая один за другим умные вопросы и делая себе профессиональные пометки. Я наблюдал за ним и замечал, как сильно он продвинут в разыскном деле. С одной стороны, это заслуживало удивления, но с другой стороны, ведь он, может, и не был моим сыном.
Информацию по австрийскому законодательству, а также по чеченской войне и по волнам ее беженцев мы черпали из Википедии.
Я отвечал главным образом за осмысленный порядок слов в написанных фразах.
Но самая большая и важная история была заточена под Махмута, который должен был описать положение своими словами, выразив свои страхи и желания.
– Как он должен это сделать? – спросил меня Мануэль.
– Пусть пришлет тебе эсэмэску, примерно такую, как прислал, только раз в десять длиннее.
– И что он должен там написать?
– Все, что придет в голову, что ему кажется важным и исходит от сердца.
– И про баскетбол тоже?
– Естественно. Он должен написать, что бы его порадовало больше всего, если бы ему разрешили остаться, какие у него увлечения, что он хотел бы предпринять со своими друзьями, как хорошо в Австрии, как ему нравится говорить по-немецки, ходить в школу, кто его любимые учителя, что ему больше всего нравится есть…
– Спагетти и тирамису, – вставил Мануэль.
– Да? О’кей, тогда скажи ему, пожалуйста, что нам стоит исправить это на венский шницель и кайзершмаррн.
Мануэль засмеялся. Он понял меня, более того, он в принципе уже понял и журналистику, и это в четырнадцать-то лет.
* * *
Во второй половине дня мне позвонил Кунц и взволнованно сообщил, что София Рамбушек с подозрением на воспаление легких слегла в больницу.
– Ну, это она немного преувеличила, – заметил я.
– Что-что?
– Она в последнее время слишком много на себя берет.
– Да-да. Она уверяла, что у вас, господин Плассек, в случае необходимости всегда найдется история для страницы социального репортажа. То есть вы могли бы подготовить целый разворот?
– У нее, наверное, сильный жар, – сказал я в шутку.
– Что-что?
С людьми, лишенными чувства юмора, да к тому же находящимися в критической ситуации под стрессом, лучше не шутить.
– Да, это в самом деле так, я напишу разворот, у меня припасена одна хорошая история.
– Очень хорошо. И о чем же она? – спросил Кунц.
Этого я и боялся.
– Судьба одной семьи, эксклюзивная история, очень трагичная, очень трогательная, очень драматичная, очень… жизненная, судьбоносная, так сказать. И трогательная. И эксклюзивная.
– О’кей, господин Плассек, приступайте, приступайте же! Вы знаете, номер сдаем в семнадцать часов.
– Да-да, к семнадцати я управлюсь.
Дай пять
Эсэмэски Махмута и впрямь оказались не для слабонервных. Мальчик рассказывал так волнующе и натурально, что нам даже не пришлось много править. В качестве заголовка мы выбрали – для «Дня за днем» однозначно чересчур сложно, но Мануэль настоял на этом – «Я больше не хочу спасаться бегством». Рядом мы разместили крупное фото, которое нам предоставил тренер «Торпедо-15». На снимке был сияющий мальчишка с оттопыренными ушами, его несли на плечах ликующие после победы товарищи по команде – впереди всех Мануэль. Будь я ответственным политиком и попадись мне на глаза эта история да с этим снимком, у меня было бы только две возможности: либо эта семья останется в Австрии – либо я подаю в отставку. Правда, на практике, увы, ни один человек не становится политиком для того, чтобы потом лишиться места из-за четырнадцатилетнего чеченского мальчишки и его родителей, которых тщетные надежды завели на Запад.
Ровно к пяти мы управились, и я был уже на последнем издыхании. Я просто давно отвык от таких перегрузок и, честно признаться, больше не хотел к ним привыкать. Но с тех пор, как я познакомился со своим сыном, я еще никогда не видел его таким оживленным, пламенным, импульсивным и жизнерадостным, и уже одним этим окупались все затраты сил. Мы, без сомнения, переживали звездный час наших отношений, и даже неважно было, что в конце концов выйдет из нашего репортажа. Разочарования тут было не миновать. Ведь Мануэль был уверен, что мы, считай, спасли его друга Махи, что он вскоре появится из своего убежища и спокойно сможет готовиться к предстоящему через две недели важному баскетбольному матчу. Я, к сожалению, знал, что этого не будет. Разве что случится маленькое чудо. А опыт научил меня, что всякий раз, когда надеешься на маленькое чудо, оно гарантированно не происходит.
Как бы то ни было, прощались мы в этот раз исключительно сердечно, ведь Мануэль впервые мог гордиться своим новым «дядей». И я смог применить пару жестов, к которым мне и раньше очень хотелось прибегнуть, – я подмигнул ему, прищелкнув языком, и протянул раскрытую ладонь, по которой он с воодушевлением хлопнул своей пятерней. Так, наверное, когда-то начинали все отцы позднего призыва.
Крушение мира
Я уже был на пути к бару Золтана, как позвонил Норберт Кунц и попросил меня зайти к нему в кабинет.
– А это обязательно, а то я уже в пути? – сказал я.
– Да, господин Плассек, это обязательно.
– А мы не могли бы это обговорить по телефону?
– Нет, господин Плассек, это мы не могли бы обговорить по телефону.
Если он дважды подряд называет меня «господином Плассеком», а в промежутке между этими двумя «господами» задыхается так, как будто ему прямо сейчас без наркоза перерезают горло, это верный признак очень весомого события. И я нехотя поплелся назад в редакцию.
– Господин Плассек, поверьте мне, я не испытываю ни малейшего удовольствия от того, что должен вам сейчас сообщить, – сказал он, погружаясь в отвратительный кабинетный диван цвета хаки и зажигая сигарету.
А я и не знал, что он курит – может, правда, лишь в исключительных случаях, таких, как этот.
– Господин Плассек, мы вынуждены снять с номера ваш завтрашний репортаж.
– Да что вы!
– К сожалению, репортаж о чеченцах появиться не может. Приказ сверху.
Я инстинктивно глянул вверх, на люстру. В этот момент я был неспособен даже изумиться.
– Вы это серьезно?
– Можете мне поверить, я все испробовал, чтобы спасти эту историю. Я сражался за ваш репортаж. Потому что я лично считаю его хорошим, удавшимся, очень человечным, очень человечным. То есть это не критика вашей работы, пожалуйста, не воспринимайте это как критику вашей работы. С точки зрения журналистики вы все сделали правильно. Я был даже поражен, как хорошо вы…
– Почему? – спросил я.
Кунц вздрогнул. Видимо, я произнес вопрос довольно громко.
– Господин Плассек, мы знаем положение владельца нашего издания, мы знаем наших инвесторов и спонсоров, мы знаем наших рекламодателей и абонентов, мы знаем законы рынка, мы знаем ситуацию, возникшую из-за аферы с пожертвованиями, мы знаем политические структуры, мы знаем, за что выступает группа PLUS.
– Она выступает за всякое дерьмо, – позволил я себе заметить.
– Господин Плассек, я понимаю вашу досаду, но и вы должны понять, что мы здесь следуем правилам. Мы занимаем ясную позицию в вопросе иностранцев. Мы – не страна иммиграции…
– Вы, может, и не страна иммиграции, а я – да, – сказал я.
– Мы не можем вдруг превратиться в рупор понаехавших нелегальных чеченских или еще каких-либо беженцев без документов и вообще без ничего. Если мы однажды скажем «да», мы сами станем наполовину чеченцами…
С каждым словом этой постыдной чепухи я чувствовал нарастающую потребность поднять стеклянный столик метра на два вверх и шарахнуть его об пол.
– Значит, мой репортаж завтра не выйдет? – уточнил я.
– Да, к сожалению, как я уже сказал…
– Ни единой строчки?
– Да, то есть нет, ни единой, – сказал он, запинаясь.
– О’кей, тогда все ясно.
Я вскочил, стремительно вышел за дверь и с размаху толкнул ее за собой что было силы в надежде, что стены от удара задрожат и раскрошатся и что все трехэтажное здание редакции в итоге рухнет и сложится на землю кучей дымящегося, вонючего коричневого дерьма. И прохожие будут морщить носы и говорить: «О боже, какая гадость, а ведь это был «День за днем».
Но нет, до этого дело не дошло, поскольку дверь являлась начальственной и была оборудована доводчиком, чтобы сглаживать жесткие удары. Освободительный большой взрыв не состоялся. И мне пришлось, к сожалению, снова вернуться в кабинет шефа.
– Господин Плассек? – спросил Кунц со страшной догадкой.
– Я увольняюсь, – сказал я.
– Господин Плассек, я вас понимаю…
– Я увольняюсь, – повторил я.
– Господин Плассек, не делайте ничего такого, в чем вам, возможно, придется…
– Я увольняюсь, я ухожу прямо сейчас, и больше ноги моей в этом здании не будет.
Глава 6
Жестокое пробуждение
День и я испустили дух – в обратном порядке – в баре Золтана в Шлахтхаусгассе. Поначалу было еще слишком рано, чтобы думать о последствиях моей акции. А когда время для этого уже нельзя было отодвинуть на потом – при всем желании, – я, к счастью, больше не мог думать. Я и потом, кстати, не мог вспомнить, чего наговорил в ту ночь; возможно, рассказал моим приятелям всю историю, включая Мануэля и мое отцовство. Должно быть, кто-то из них и доставил меня домой ближе к утру. По крайней мере, полдень субботы я встретил в своей постели.
Не таким уж и настоятельным было мое намерение в эти выходные осмыслить все произошедшее, но мой мобильник уже не переставал пытать меня мелодией Unchain My Heart, пока я наконец не ответил на звонок.
– Материала про Махи в газете нет, – проверещало у меня в ухе на высокой жалобной частоте.
– Да, Мануэль, я знаю, мне очень жаль.
– А почему нет?
– Потому что они его сняли.
– Почему?
– Потому что он им не подошел.
– Кому?
– Начальству.
– Почему не подошел?
– Потому что тема не та, чуждая «Дню за днем».
– Что значит – тема не та?
– Это сложно, я тебе объясню потом, Мануэль. Сейчас я себя не очень хорошо чувствую.
– И когда этот материал будет напечатан?
– Никогда не будет напечатан.
– Как это никогда? – спросил он.
– Вот так. История вообще не будет опубликована, статья погибла, сорри, – произнес я.
– Что будем делать?
– А что мы должны делать? – пробубнил я.
– Это я тебя спрашиваю! – сказал он, причем довольно громко.
– Понятия не имею, – правдиво ответил я.
– И что я должен сказать Махи?
Я попытался обдумать это. У меня не получилось.
– Не знаю, Мануэль. Скажи ему, что нам очень жаль, мы попытались, мы в самом деле попытались, а больше мы ничего сделать не можем, – посоветовал я.
Он помолчал, а затем отключился. И хотя это было бесшумно и произошло быстро, но вызвало во мне боль, которая продержалась дольше, чем мое похмелье. Поскольку от нее не было таблеток.
* * *
К вечеру, когда мне стало хотя бы психологически немного лучше, одной из первых моих ясных мыслей была та, что с понедельника Мануэль уже не сможет приходить ко мне на работу, потому что меня там больше не будет. Я быстро прикинул, не отмотать ли назад мое увольнение, но размышлял я об этом действительно очень, очень недолго. Затем передо мной встал вопрос, кому проще исповедаться в правде – самому Мануэлю, или его матери в Африке, или его тете в Вене. Я выбрал тетю Юлию, которую знал лишь по нескольким коротким встречам из тех времен, когда был с Алисой; тогда Юлии было, может, лет восемнадцать. Я надеялся, что это неприятное дело можно уладить по телефону, и мне повезло тут же до нее дозвониться.
Поначалу я просто нес какую-то чепуху, благо практически круглосуточно существует погода, о которой можно распространяться сколько угодно. Правда, вскоре я заметил, что у меня язык не поворачивается сказать, что у нас с Мануэлем больше не будет общего кабинета и общего времени.
– Могу я с тобой поговорить? – спросил я наконец.
– Да, – она обдала меня холодом.
Значит, она уже знала по меньшей мере половину истории. Видимо, Мануэль уже несколько часов кряду сидел у нее на диване и слушал свою скорбную музыку.
– Мы могли бы встретиться в кафе?
Мы условились о встрече в кафе «Аида» на Талия-штрассе.
Юлия с другой планеты
О’кей, в этот предвечерний час я, наверное, и впрямь выглядел развалиной – еще большей развалиной, чем обычно. По моему опыту, встречаться приходится с людьми двух видов. Одни стараются оставаться нейтральными и принимают внешний облик своего собеседника таким, как есть, поскольку одна из немногих непоколебимых свобод личности состоит в том, чтобы выглядеть так, как уж выглядишь, ведь во внешности всего лишь отражается жизнь. А другие беспрерывно наказывают тебя презрительными взглядами. Юлия, к сожалению, относилась ко второму виду. Но это нельзя было поставить в упрек тридцатитрехлетней оранжерейной орхидее, которая выучилась в академии спорта на тренершу по фитнесу и питалась соевым творогом и фруктовым чаем, чтобы соответствовать смыслу своей жизни, а именно: оставаться здоровой, безупречной и эффектной до самой смерти. Во всяком случае, в ее присутствии мне было не по себе, когда я заказывал столь необходимое мне пиво, и отхлебывал я его, только когда она отворачивалась.
К сожалению, я не мог поправить свой имидж содержанием речей.
– Юлия, есть одна проблема. Я потерял работу, то есть уволился – из-за истории с чеченским мальчишкой, Мануэль тебе наверняка об этом рассказывал.
– Ты уволился? – переспросила она.
Теперь и у нее был этот взгляд хищной кошки, который я еще очень хорошо помнил у ее сестры Алисы.
– Да, уволился, без предупреждения. А это означает, что Мануэль с понедельника, к сожалению, не сможет приходить ко мне в редакцию…
– Как ты себе это представляешь? – перебила она, сильно повысив громкость.
– То есть? – Ее вопрос сбил меня с толку, поскольку я вообще ничего себе не представлял, это не входило в мои намерения – представлять себе что бы то ни было, обстоятельства и без того говорили сами за себя.
Но как раз в этом пункте Юлия была совершенно другого мнения, о чем мы потом долго дискутировали – собственно, дискутировала Юлия, а я только слушал.
Она дала мне понять, что я плохо управляемый, а то и вовсе неуправляемый, никчемный человек, который живет только сегодняшним днем.
Ну, уж если я чем и живу, так скорее не днем, а ночью, но я даже не обмолвился об этом, потому что Юлия была в сильном раздражении. Кроме того, я в ее глазах был бессовестным человеком, не готовым взять на себя даже малейшую ответственность за своего ребенка. А ведь Мануэль в подростковом возрасте и остро нуждается в присутствии рядом родственника-мужчины, который служил бы для него образцом. А я как отец представляю собой пустое место. Притом что ее сестра Алиса, вопреки всякому здравому смыслу и вопреки сторонним мнениям, поставила на меня так много и дала мне уникальный шанс установить-таки отношения с моим мальчиком. И теперь, когда Мануэль наконец-то почувствовал ко мне доверие и даже начал ко мне привязываться, я хочу снова уйти на дно, и это вполне в моем стиле и соответствует моему ничтожному, слабому, бесчувственному, эгоистическому характеру.
– Мануэль ко мне привязался? – переспросил я.
– Да, я даже не знаю, как ты этого добился, но ты ему нравишься, – сказала она.
– Он классный парнишка.
– Да, он классный, весь в мать, – заключила она.
– Он мог бы делать свои домашние задания у меня дома, – предложил я.
При этом в моей голове пронеслись картины состояния моего жилища.
– Эта идея мне не нравится, – отрезала Юлия.
Видимо, она сумела по моим глазам отсканировать облик моей квартиры.
– Знаешь что, давай, ты проспишься от своего похмелья, и завтра утром мы продолжим разговор, – предложила она. – Мне пора на тренировку.
– О’кей, – сказал я.
Но если она вот это вот считает похмельем, она и впрямь живет на другой планете, чем я, что отнюдь не упрощает взаимоотношения между нами.
Начинается Новое время
По дороге домой я купил в ларьке с едой пиццу с салями и пару банок выпивки. Когда я расплачивался, мне под руку подвернулась сложенная записка, которая торчала в моем бумажнике.
Дома я ее развернул. Там были нацарапаны какие-то пометки, если это вообще был мой почерк, его не так-то легко разберешь. Записи шли в столбик:
«Рундшау» / Бенджамин Целлер
«Штадткурьер» / Лидия Майзельхаммер
«Тагблатт» / Фердинанд Шмидтбауэр
и, обведенное двойной рамкой, отмеченное римской цифрой I и снабженное тремя восклицательными знаками:
«Новое время» / Клара Немец.
Должно быть, где-нибудь в баре Золтана я накорябал на бумажке названия газет и имена их главных редакторов. Но было странно, что у меня об этом не сохранилось ни проблеска воспоминания. Должно быть, очередной стакан шнапса был лишним и стер с моего жесткого диска в подкорке все записи или хотя бы один ночной файл.
Как бы то ни было, в качестве завершения этой катастрофической субботы я получил довольно терпимое занятие – разгадывать смысл этих записей, или, вернее, намерение, которое за ними стояло.
* * *
Разрешил ли я эту загадку засыпая или только уже во сне, я сказать не могу. Но когда в воскресенье я проснулся со сравнительно ясной головой, я, по крайней мере, уже знал, что делать.
Первым делом я вынужден был, хотя зарекался, еще раз переступить порог «Дня за днем», чтобы переписать со своего компьютера на флешку сверстанную страницу с репортажем про Махмута. После этого я разыскал номер телефона «Нового времени», позвонил туда и попросил соединить меня с главным редактором Кларой Немец, которую я знал по ее сатирическим передовицам: они были, пожалуй, самым остроумным, что можно было прочитать в нашей прессе. Госпожа Немец, как я узнал от ее секретарши, как раз сейчас проводила совещание.
– Мне срочно надо с ней встретиться для одного короткого разговора, – сказал я. Поскольку я и так знал, о чем она меня сейчас спросит, я добавил: – Я… э-э… независимый журналист. И речь пойдет об одном взрывном материале на тему беженцев.
– Сегодня не совсем удобно…
– Я знаю, воскресенье, у вас в наличии только половина сотрудников и так далее, но это действительно очень важно.
– Может быть, на следующей неделе и по телефону? Или, еще лучше, вы напишете нам имейл…
– Прошу вас, это действительно взрывная тема, которая не терпит отлагательства. Мне нужно всего пять минут, ну, может, шесть, самое большее семь, восемь маловероятно, а дольше десяти затянуться просто не может.
Она вздохнула:
– В четырнадцать часов?
– Спасибо!
Я ей понравился. Или она хотела поскорее от меня отвязаться.
* * *
Клара Немец была уж никак не орхидея, скорее куст бамбука, да и во всем остальном была противоположностью тети Юлии. Она посмотрела на меня – и я утвердился в ощущении, что со мной, в общем-то, все в порядке и что я, если судить по внешнему виду, иду исключительно верной или как минимум проходимой дорогой. Правда, я и пребывал в гораздо лучшем состоянии, чем накануне, и на мне была черная куртка, очень похожая на пиджак, это был самый серьезный предмет одежды, каким я располагал. Кроме того, тип вроде меня не представлял для журналистов «Нового времени» ничего особенного. Они контактировали и с обычными людьми на улице или в забегаловках – не в пример медитативно-беззаботным музыкальным гимнасткам из венских районов, заселенных выскочками.
Однако это ничего не изменило в содержании нашего разговора. Когда госпожа Немец преодолела шок, вызванный тем, что бывший коллега из «Дня за днем» прорвался в ее газету и даже в ее кабинет, чтобы сбагрить ей материал, от которого отказался жуткий бесплатной листок, она пошла на принцип. А принцип гласил, что в редакции хватает и своих штатных сотрудников, поэтому газета не может публиковать материалы сторонних авторов – ни из «Нью-Йорк таймс», ни из «Дня за днем». Но я, дескать, могу пересказать содержание мой статьи коллеге Зайбернигу, который отвечает за эти темы, и тот, конечно, благосклонно отнесется к материалу, если он того заслуживает.
Но Зайберниг, к сожалению, был не мой вариант. Однажды я наблюдал его за дегустацией вина, примыкающей к одному вечернему мероприятию для прессы. Люди, которые отхлебывают глоток и потом долго полощут им рот и булькают, сосредоточенно напрягая лоб, были мне в принципе подозрительны. Но, может, я просто завидовал, что таким людям для опьянения достаточно пары дегустационных глотков. Нет, Зайберниг мне точно не подойдет.
– Благодарю вас, что вы нашли для меня время, – сказал я и хотел уже направиться к двери.
Но тут я вспомнил про Мануэля и мысленно услышал «трехсекундный блюз». Должно быть, она заметила это по мне, поскольку бамбуком была лишь снаружи, а внутри, похоже, представляла собой как минимум цикламен. Потому что она спросила:
– О чем идет речь в вашей статье?
Моя годами хорошо скрываемая ярость на жизнь вдруг нашла выход и обрушилась на тех бандитов, которые поддерживали систему, где маленькому одаренному баскетболисту с оттопыренными ушами, никому не сделавшему ничего плохого, можно было отказать в праве на родину.
– Дайте взглянуть, – сказала Клара Немец, когда я немного успокоился.
Я воткнул флешку в мой ноутбук, открыл файл и показал ей очерк о положении и настроении Махмута, написанный от его лица. После нескольких строк она начала кивать и кивала все чаще, уже не переставая, и я увидел, как ее ладони вдруг сжались в кулаки.
Потом она взглянула на меня, полная ожидания, как будто я должен был предоставить ей всего один, но очень хороший аргумент, ради которого она могла бы поставить редакционные принципы с ног на голову, а репортаж – с колес в номер.
В таких случаях – по моему опыту – лучше всего было говорить правду, и я сказал:
– Знаете, почему это дело так важно для меня лично?
– Скажите почему.
– Вообще-то, все дело в моем сыне Мануэле.
Мне понадобилось не больше трех минут, чтобы все ей объяснить. И временами – я клянусь, такого со мной никогда не случалось перед посторонними, – временами мне приходилось вытирать уголки глаз и как следует сглатывать, чтобы мой голос не оборвался. И я заразил ее этим, у нее тоже увлажнились глаза, и уже по одному этому она, вероятно, была вынуждена сказать решающее слово, и оно было именно тем, которого я так жаждал ради Мануэля.
– О’кей, завтра мы опубликуем эту историю, но много мы вам не заплатим, наш бюджет…
– Да мне вообще не надо за нее платить, – произнес я в первом порыве радости.
Когда ты безработный, тебе сравнительно легко быть щедрым.
– Чепуха, обычный гонорар вы получите.
Ну я, конечно, был не из тех, кто в таких случаях настаивает на своем. И я согласился.
– Но у меня есть еще одно условие, – сказала она.
Вот от этого «но-еще-одно-условие» как раз и терпели поражение все договоры о мире во все времена. Соответственно испуганно я, наверное, и выглядел.
– Вы должны написать нам для вторника еще один материал, касающийся этих беженцев. Если мы хотим в этом деле оказать давление на органы, мы должны подключить и другие СМИ. А добиться этого мы можем, только если наляжем как следует. Вы меня понимаете?
Да, я понимал ее очень хорошо. Работа шла на меня сама, но я понятия не имел, как мне ее осилить. Однако для верности подтвердил:
– Да, естественно, это же само собой разумеется.
– Вы справитесь сами? – спросила она.
Видимо, ее вера в способности пропащего бывшего журналиста из «Дня за днем» все-таки имела свои границы.
– Конечно, – сказал я и попытался надменно улыбнуться.
– И проверьте, пожалуйста, не изменилось ли что-нибудь в положении этой семьи беженцев. Чтоб не получилось так, что они уже уютно сидят у себя дома, – заметила она.
– Разумеется, я удостоверюсь. – Тут я уже целеустремленно пятился к выходу, чтобы не спровоцировать еще какие-нибудь условия. – В любом случае я вам очень благодарен, госпожа Немец, вы среди прочего спасли и мой выходной, – сказал я от порога.
– Посмотрим, достигнем ли мы чего-нибудь, – ответила она. – И еще одно, господин… Плассек, поскольку я как раз читаю ваше имя, – окликнула она меня. – Плассек, Плассек… Нет ли у вас родственника, который раньше писал для «Рундшау»?
Это был один из наиболее хитро сформулированных вопросов, которые ко мне обращали в последнее время. Не знаю, какую мысль она подспудно хотела мне этим внушить.
– Да, то был мой наивный младший брат, который хотел стать журналистом, чтобы изменить мир к лучшему, – ответил я.
– И кем он стал? – спросила она.
– Мной, – сказал я.
Тест на отцовство не понадобится
Сперва неприятная новость: она дожидалась в автоответчике и была от моей бывшей жены Гудрун.
«Привет, Герольд, это я. Не мог бы ты срочно мне перезвонить? У папы приступ ярости. Что это взбрело тебе в голову? Ты спятил? Старый Кунц ему рассказал. Нельзя же сразу все бросать только оттого, что один раз все пошло не по-твоему. Герольд, получить такую работу не так-то легко. Ты знаешь, сколько журналистов сидит на улице. Подумай все же и о Флорентине, она ведь смотрит на тебя снизу вверх. Тебе же придется сказать ей, что ты безработный. Ты этого хочешь? Или подумай о своей маме. Неужто она это заслужила? Где твоя гордость? Пожалуйста, попробуй исправить это дело. Норберт Кунц – не чудовище какое-нибудь, его можно уломать. И Бертольд знает кого-то из концерна PLUS, он может замолвить за тебя словечко, чтобы…»
Вот это было мне сейчас совсем не нужно. Я должен был сосредоточиться на главном, на Мануэле. Когда я позвонил ему, он как раз шел с друзьями в кино. Я сообщил, что наш репортаж про дело Махмута выйдет в понедельник в «Новом времени», эта газета гораздо, гораздо лучше. Своим пронзительным воплем радости он на время парализовал мой правый слуховой проход. Но я тут же предупредил его, что теперь нас обоих ждет работа и что надо срочно обсудить положение дел.
– Что, мне прийти после кино к тебе? Где ты живешь? – спросил он.
М-да, лучше не надо бы, но какая-нибудь альтернатива не пришла мне в голову.
– Да, хорошая мысль, – сказал я. – Пицца или кебаб?
Я уже приготовился отвечать на вопрос: «Что ты имеешь в виду под «Пицца или кебаб»?»
Но он ошеломил меня:
– Бутерброд с маслом и зеленым луком, если у тебя есть.
– Конечно, есть, – ответил я.
* * *
Итак, я забежал в магазин на Западном вокзале, купил сливочное масло, хлеб и зеленый лук, взял было еще «фруктовых гномиков» с молодым сыром в пластиковых стаканчиках, но снова вернул на полку, потому что запоздал с ними на добрый десяток лет. В четырнадцать они, наверное, уже пьют Red Bull, но я побоялся, что такую банку не смогу взять даже в руки. И я купил яблочный сок, а для себя – обычное.
Когда я оглядел свою совмещенную кухню-столовую-кабинет-спальню, которая при хорошей фантазии могла сойти за мини-лофт для малопривилегированных, я испытал жестокий противоуборочный ступор, потому что вещи отнюдь не случайно лежали там, где они лежали, а заслуженно завоевали себе за долгие месяцы каждая свое место. Но раскиданные повсюду картонные коробки и ящики с пустыми бутылками и банками, если присмотреться, действительно были лишними. Я вынес их все в переднюю, но там, к сожалению, им было не место, потому что из-за них не открывалась входная дверь. Я бы выставил их к дверям моих почтенных соседей – господина, а главное, госпожи Энгельбрехт, – которые уже несколько раз беспричинно заявляли на меня за нарушение тишины только потому, что я спотыкался на лестничной клетке, – я бы выставил их им на коврик, агрессивно охраняемый их обувью для улицы, но мне не хотелось сразу после увольнения нарваться еще и на выселение из квартиры. Таким образом, ящики и мешки временно угодили в ванную, а для успокоения я накинул на них сверху пару полотенец. После этого у меня еще оставались силы помыть два стакана и две тарелки и сунуть CD Мануэля с «Эфтерклангом» в аудиоплейер – и вот уже квартира чуть ли не в идеальном состоянии, ее оставалось только когда-нибудь убрать, помыть, расчистить – и подвергнуть генеральной реконструкции, но это было не к спеху.
* * *
– О, круто, моя музыка, – сказал Мануэль, даже не озираясь по сторонам, а прямиком шагнув к дивану, рухнул на него – и мы тут же приступили к обсуждению.
– У тебя есть какие-нибудь известия от Махмута? – спросил я.
– Да, у него все хорошо, только хочет домой.
– Завтра мы должны написать еще один очерк про него и его родителей, – сказал я.
– Круто. И у тебя есть какая-нибудь идея? – поинтересовался он.
– Нет. А у тебя?
– Будет лучше всего, если мы их навестим, и ты потом напишешь об этом, – предложил Мануэль.
– М-да, это, конечно, было бы лучше всего, но для этого мы должны знать, к примеру, где они.
Теперь Мануэль лукаво улыбнулся, и мне в голову сразу закралось подозрение.
– Скажи, ты знаешь, где они скрываются?
Теперь он засмеялся.
– Где?
– Я выдам тебе это при одном условии.
Ну вот, опять условие, вся моя жизнь скоро будет состоять из одних условий от людей, которым я и без того предоставлен в полное распоряжение.
– Мы отправимся туда завтра в первой половине дня вместе, – сказал Мануэль.
– Завтра в первой половине дня? Разве ты не в школе?
– В школе. Это и есть условие.
А, теперь я понял.
– Махи сейчас тоже не ходит в школу, – сказал Мануэль.
Перед строгой в отношении школы тетей Юлией данный аргумент уж точно не устоял бы, но мне понравилась эта мальчишеская солидарность, поэтому я подмигнул и согласился на прогул уроков.
– Но только один раз, и тете мы ничего не скажем.
Он кивнул.
Тут он мне рассказал, где нашли убежище наши австро-чеченцы, а именно – в семье священника-протестанта в Нойштифте, куда их пристроил баскетбольный тренер команды «Торпедо-15», что, правда, должно было храниться в тайне.
– Но это же замечательно, что в игре замешана церковь, – возликовал во мне журналист.
– Это не церковь, а всего лишь старый священник и его жена.
– Но они нас не впустят, – с сожалением сказал я.
– Впустят.
– Почему ты так уверен?
– Махи уже переговорил с женой священника, и она сказала, что мне можно прийти вместе с дядей, но только при условии… – Ну-ну, как же без условия. – Но только при условии, что ты об этом напишешь, и именно в «Новом времени», потому что «Новое время» – действительно хорошая газета, для которой все люди одинаково ценны, из какой бы страны они ни приехали. Так сказала эта женщина, сообщил мне Махи.
То есть они и впрямь готовы были дать мне эксклюзивное интервью. Столько хороших новостей за одно воскресенье – что-то мне слегка не по себе от этого.
Так или иначе, а проблема со вторым материалом теперь, считай, решена. Я заставил себя коснуться и неприятной темы.
– Слушай, Мануэль, я уволился из «Дня за днем», и у нас тобой теперь не будет кабинета.
– Я знаю, тетя Юлия уже рассказала, – весьма расслабленно произнес он.
– И куда ты теперь будешь ходить делать уроки?
– Сюда, к тебе в квартиру.
– Не знаю, хорошая ли это идея.
– Тетя Юлия тоже так сказала.
– Ты только посмотри, какой здесь кавардак, – сказал я.
– Нет, – возразил Мануэль.
Это был превосходный ответ, я считаю. Теперь мне окончательно не понадобится тест на отцовство.
Глава 7
Паевы в своем убежище
В понедельник – в мой первый за много лет официально безработный рабочий день – я еще до начала уроков перехватил Мануэля неподалеку от школы. Это состоялось в то время дня, о котором до сих пор я знал лишь понаслышке – под точным названием «утренние сумерки». Зато накануне я лег спать в тот час, к которому обычно лишь начинаю медленно соображать, на что мне употребить этот вечер – или на что этот вечер употребит меня. Так или иначе, это имело последствием джетлаг, сопровождаемый приступами тошноты – на грани остановки кровообращения, и моей главной задачей было не допустить слипания век, когда мы сидели в булочной и Мануэль, потягивая какао и надкусывая бутерброд, гордо озирал разворот свежего выпуска «Нового времени», нашу статью с заголовком огромными буквами: «Дело Махмута». Подзаголовок: «Я не хочу опять спасаться бегством».
Потом он заставил меня записать вопросы, которые мы могли бы задать священнику-протестанту и его жене. Я-то предпочитал делать такие вещи наобум, ненавижу всякую подготовку. Потому что я воспринимаю жизнь в принципе как сплошную серию подготовок к чему-то иррациональному, что потом никогда так и не происходит, в то время как действительно роковые события всегда настигают неожиданно, без всякой подготовки, как, например, роды, ветрянка, влюбленность, импотенция и смерть, а в моем случае также и отцовство. Может быть, об этом мне и поговорить с семьей пастора.
Почти двухчасовая миссия в Нойштифте была чрезвычайно суматошной для всех участников, за исключением мальчиков, которые тут же принялись обсуждать баскетбол, моментально забыв, в каких обстоятельствах они встретились. Родители Паевы сидели в дальнем углу на кухонной скамье, съежившись, и казались позорно провинившимися; от их жалкого вида я бы предпочел себя избавить. Я-то склонен в неудобных ситуациях предпринимать побег вперед, отпуская дурацкие шуточки. В данном случае у меня так и вертелось на языке: «Вот уж так не повезет, что родишься не в то время и не в том месте». Или: «В такие дождливые дни как раз лучше всего где-нибудь спрятаться». Но Паевым, видимо, было не до шуток. Я ободряюще подмигнул им и сам себе показался довольно жалким.
Старый священник внешне напомнил актера Карлхайнца Бёма, у которого много лет назад я брал интервью для «Рундшау». У обоих было одинаковое рукопожатие, которое пробирало рукопожимаемого от макушки до пяток. Особенно впечатлила меня жена пастора. Ей было самое меньшее лет семьдесят, и последние остатки сил она вкладывала в то, что – по ее личному ощущению – было справедливо, но ради чего любой ее сосед и пальцем бы не пошевелил. Вместо того чтобы валяться у бассейна в Доминиканской Республике, потягивать «Бейлис» и наслаждаться покоем, она сидела в холодном октябре в Вене перед толстым блокнотом и ломала голову над тем, как спасти от верного выдворения из страны семью беженцев, о которой она еще три дня назад ничего не знала и которая теперь жила в ее доме. В юридических тонкостях я не разбирался, но какой-то маленький шанс еще был, если я правильно понял. Потому что, по словам Паевых, на первом слушании дела о предоставлении убежища шесть лет назад не присутствовал переводчик, хотя чеченцы тогда ни слова не знали по-немецки. Это означало, что Паевым срочно требовался хороший адвокат, которому, возможно, удалось бы заново начать производство по их делу из-за данной процессуальной ошибки. Такой адвокат, естественно, стоил много денег, и не было такой инстанции, куда супруги-протестанты могли бы обратиться за помощью официально, не выдав при этом, где Паевы нелегально пребывают.
Первым делом требовалась гарантия органов, что высылка из страны будет приостановлена хотя бы до тех пор, пока адвокат, которого пока даже не нашли и которому нечем было заплатить, не вникнет в дело и не сможет сказать, возможно ли здесь обжалование. Все это звучало чудовищно сложно и безвыходно. Но я не показал виду.
И если наше посещение и достигло какой-то цели, то лишь в том, что круг людей, участвующих в судьбе Паевых, расширился еще на двух человек и что каждый хотел внести в их судьбу свой вклад. Пара протестантов делала это чисто из любви к ближнему и во имя веры в богоугодную земную справедливость. Мануэль делал это ради своего друга Махмута и ради «Торпедо-15». А я делал ради Мануэля, то есть ради себя самого.
Махи остро востребован
Дома мы быстренько переключились на рабочий лад и устроились более или, скорее, менее уютно. Затраченных усилий одного этого понедельника хватило бы на целую неделю. Зато имелись удивительно позитивные новости, которые на несколько часов заставили забыть о том, что значила для меня в последние годы моя работа, а именно – не значила ничего.
Например, на радио «Австрия-1» дали подробный материал о деле Махмута, который начинался словами: «Как эксклюзивно сообщила «Новая газета» в своем сегодняшнем выпуске…» На телевидении тоже подхватили эту историю и даже коротко показали вышедшее в газете баскетбольное групповое фото с Махмутом, на котором был виден и Мануэль. И он, таким образом, впервые увидел себя на экране телевизора. Для многих мальчишек его поколения это стало бы кульминацией жизни – однажды попасть в объектив телевизионной камеры, ибо чье лицо показали по телевизору, тот чего-то достиг – а достиг он того, что попал в телевизор, больше ничего, но и этого было уже достаточно. Дальше вопрос состоял лишь в том, чем заняться в оставшейся жизни, раз уж цель была достигнута. Но за Мануэля в этом отношении мне беспокоиться не пришлось, он был не дитя своего времени, он ел бутерброд с зеленым луком и слушал «Эфтеркланг» и «Брасстронавтов» – это были такие же мечтатели, на сей раз из Канады, которых здесь не знала ни одна душа.
Чтобы продолжить список хороших новостей: почтовый ящик моего ноутбука форменным образом раздулся от мейлов, которые мне переправляли из «Нового времени». Читатели, в том числе большое количество студентов, возмущались высылкой на Кавказ, грозящей семье после шести лет процесса легализации в качестве беженцев, и выступали за пребывание Паевых в Австрии. Мануэль, который отвечал за регулировку интернет-движения и исполнял это образцово, рассказал мне потом, все еще взволнованный, о специально созданных форумах, на которых собирали подписи за Махмута, а также о сайте баскетбольных юношеских объединений, где сам президент федерации подобрал несколько трогательных слов.
А в заключение Клара Немец также подтвердила мне по телефону, что репортаж взорвался, как бомба, и поднялось много пыли, и что министерству внутренних дел теперь не отвертеться от официальных комментариев. Я в ответ рассказал ей о предпринятых нами розысках и о деятельных протестантах и их идеях по спасению Паевых. За это я снискал не только комплименты, но заодно и четыре пустые страницы, которые предстояло заполнить в ближайшие четыре часа; то есть мне отводилось по часу на страницу. Такое было просто не под силу. Во-первых, я утратил навык, во-вторых, у меня в голове вообще ничего не шло в направлении ясной структуры мысли. Кроме того, я неотложно нуждался как минимум в пиве, что составляло, благодаря преимуществу игры на своем поле, наименьшую проблему. Только Мануэлю совсем не обязательно было что-то об этом знать.
Клара Немец опознала дилемму по моему голосу и пожелала избавить меня от политической стороны этого дела, взяв ее на себя, что было мне очень кстати, потому что для меня это было бы сопряжено с тягостными телефонными обращениями в органы власти, а я и без того ненавидел всю эту триаду: обращения, телефон и органы власти.
– Я тоже могу кое-что написать, – предложил Мануэль, который близко к сердцу принимал мое состояние, и уже за одно это высказывание и за его взгляд в тот момент я был готов его обнять и сейчас же усыновить. – Например, про Махи, как он играет за «Торпедо-15», какие безумные броски он уже сделал и как он важен для команды, в первую очередь в будущей финальной игре против «Union CS», ведь речь идет о титуле чемпиона в осеннем турнире.
– Выдающаяся идея, – сказал я, и был совершенно серьезен.
Если нас, людей, что-то и волновало, так именно такие истории, то есть не грандиозные бойни, учиняемые над ластоногими где-то там далеко, а такой вот изрядно помятый тюлений детеныш по имени Бобби, который улизнул от забойщиков и теперь без матери сидит на обломке льдины. Точно так же нас потрясает отнюдь не глобальное извращение огромных потоков беженцев, переполненных лагерей и необозримых массовых выдворений. Чтобы растрогать людей, а еще лучше заставить их действовать, как раз и нужен один такой маленький Махи с оттопыренными ушами, который способен делать фантастические броски в кольцо и трепетно готовиться к предстоящему важному матчу. Удастся ли ему сыграть в этом матче, или он безвинно отправится в преисподнюю? Этот вопрос разожжет сердца и, может, даже политиков приведет к необходимости принять срочное решение, заставит реагировать.
Мне же оставался, собственно, лишь вводный репортаж из убежища: интервью с семейством протестантов, идентичность которых, разумеется, должна оставаться защищенной, и правовые основания, то есть история с отсутствием переводчика и теоретическая возможность возобновления процесса легализации беженцев. Причем я не хотел бы, чтоб осталась неупомянутой надобность в хорошем, опытном адвокате, которому к тому же придется потерпеть с оплатой. Может быть, кто-то в результате этой публикации вызовется сам.
* * *
Короче, мы мастерски справились с нашей четырехчасовой программой. Я на сей раз даже немного гордился своим достижением, потому что в ходе работы уничтожил несколько банок напитка, а обычно мне вообще не удавалось ничего скреативить, если я пил.
Но лучший материал – мы озаглавили его «Махи, ты нам нужен» – однозначно выдал Мануэль. Правда, история была сформулирована просто и изложена старательно, как школьное сочинение, и по ней были заметны усилия пишущего соблюсти безупречный порядок слов – существительных, прилагательных и глаголов. Зато каждая фраза была битком набита страстью, а этому искусству не научишься ни в школе журналистов, ни в кузнице литературных кадров – искусству залить в ванну чувства, выстроенные из букв, и погрузить туда читающую публику.
Клара Немец тоже была под впечатлением и сказала, что это объяснение в любви четырнадцатилетнего подростка к баскетбольной команде, в которой все спаяны друг с другом и стоят друг за друга, может оказаться не менее сильным и убедительным, чем вступившее в законную силу решение о легализации.
Мои заботы – это мои заботы
В понедельник вечером я, признаться, немного попраздновал со своими приятелями в баре Золтана. И с наступившим вторником столкнулся лишь в полдень, когда, с одной стороны, дала о себе знать жажда, требуя холодной воды из-под крана, а с другой стороны, забил тревогу зуб справа наверху в глубине, напомнив мне о предстоящем визите к Ребекке Линсбах, которого я ждал со смешанными чувствами разного рода. Ну, слишком уж разнообразными они не были, однако от сочетания любви и боли как-никак кормится вся литература.
К счастью, ничего другого мне в этот день не предстояло. Мануэль, как я уже знал, во второй половине дня оказывался в надежных, тренированных руках тети Юлии, которая собиралась пойти с ним купить куртку. Что касалось моей бывшей жены Гудрун, то она ждала моего звонка, ведь по электронной почте она еще не совсем доконала меня. И я бы, может, и позвонил ей ближе к вечеру, но она меня опередила.
– Привет, Гери, ну и историю ты раскрутил, она и впрямь умопомрачительная! Теперь о тебе все говорят. Я потрясена, а Флорентина тем более. И Бертольд поздравляет тебя, он специально из-за этого звонил из Варшавы, – сказала она.
При этом у нее был тот неконтролируемый голос, скачущий то вверх, то вниз, где в него вторгались то хроническая разочарованность, то полная зачарованность – совсем как тогда, когда я сделал ей предложение, в тот момент, когда наши любовные отношения уже выдохлись.
– Да, это по-настоящему классная история, – произнес я так небрежно, как только мог.
Нечасто мне выпадал случай столь искренне проявить перед Гудрун ложную скромность.
– И где ты только ее нарыл? Откуда она у тебя вообще? И как ты… Тексты написаны превосходно… и так много, – запиналась она. – И скажи, кто же этот… Где ты взял этого восхитительного мальчишку, этого Мануэля?
– Получил непорочным зачатием, как Дева Мария, – сказал я довольно близко к правде. – Это сын моей очень хорошей старой знакомой.
– Я ее знаю?
– Алису? Нет, вряд ли.
– Я, кстати, еще раз говорила с папой, – сообщила она после продолжительной искусственной паузы, в которой ее голосовые связки пришли в нормальное положение: в разочарованность. – И он сказал мне, что Норберт Кунц готов взять тебя назад.
– В самом деле?
– Тебе даже не придется извиняться, тебе нужно только…
– Гудрун, дорогая, – тут я уже чуть было не начал злиться. – Тема «Дня за днем» для меня закрыта раз и навсегда. Они выкинули из номера эту историю про Махмута, которая теперь гонит такую волну, потому что она не ложилась в русло их убогой идеологии. Я – туда – больше – не – вернусь! Это тебе понятно?
– А на что же ты будешь жить?
– На публикации вроде этой, для «Нового времени», – ответил я.
– Но много ли наберется таких историй?
– Достаточно наберется, – заметил я.
– И все они только тебя и дожидаются?
– Частью дожидаются они, частью дожидаюсь я, и иногда мы будем идти навстречу друг другу, я так думаю.
Это были те фразы, которые нравились мне самому, но Гудрун не знала, что с ними делать, и по ним-то она в свое время и заметила, что больше ей со мной делать нечего.
– Гери, я просто беспокоюсь…
– Я знаю, Гудрун, но тебе беспокоиться абсолютно не имеет смысла, если я сам не беспокоюсь. Это мои заботы, они принадлежат мне. И я начинаю о них беспокоиться, когда они беспокоят меня, а пока они меня не беспокоят, то и я о них и не беспокоюсь, и уж тем более я не беспокоюсь о них, если вместо меня начинаешь беспокоиться ты. Понимаешь, что я имею в виду?
Тут она больше ничего не сказала, и мы смогли распрощаться довольно мирно и спокойно.
* * *
Только я успел разделаться с Гудрун и ее, как я знал, вполне справедливым беспокойством и хотел уже посмотреть последние имейлы на тему дела Махмута, как последовал еще один звонок. То была Клара Немец из «Нового времени». И это был явно день взволнованных женских голосов по телефону.
– Господин Плассек, не могли бы вы сегодня ненадолго зайти ко мне в редакцию?
– Сегодня? Это довольно затруднительно, – сказал я, глянув на свою полосатую фланелевую пижаму. – А в чем дело?
– Мне бы не хотелось говорить об этом вот так.
– Это плохая новость?
– Нет, это не плохая новость, это хорошая новость, и даже, я думаю, особо хорошая новость. И об этом нам надо поговорить.
О’кей, это был аргумент. Я бы еще с удовольствием спросил, не связана ли эта особо хорошая новость – а вдруг – с работой для меня. Но я не хотел рисковать и пообещал зайти в редакцию ближе к вечеру.
Шестое пожертвование
Меня принимали как какую-нибудь поп-звезду – правда, скорее поп-звезду типа Кита Ричардса или Оззи Осборна, когда примешивается уже немного смирения перед преклонным возрастом и его следами, а может, то было сострадание, поскольку собравшийся небольшой приветственный комитет был однозначно уже следующего поколения журналистов и производил впечатление поразительной свежести и полноты сил. Все они исправно назвали свои фамилии, дождались рукопожатия и потом разошлись по рабочим местам.
– Может, хотите кофе? Или чаю? Или воды? – спросила Клара Немец.
Она производила впечатление радостно возбужденной.
– Нет, спасибо, не хлопочите.
– Или пива?
Я задумался.
– Да, пожалуй, маленький стакан, – согласился я.
– У нас только бутылка.
– О’кей, тогда пусть будет бутылка.
Я ведь не обязан был выпивать ее всю. Клара Немец ждала, когда я сделаю первый глоток.
– Господин Плассек, сегодня в середине дня мы получили анонимное денежное пожертвование, – сказала она более или менее внезапно.
– Сегодня в середине дня? – переспросил я.
Ведь при сенсационных сообщениях не всегда улавливаешь с первого оборота, в чем состоит сенсация.
– Да, письмо отдали, должно быть, на стойку у входа. Я уже наводила справки, но госпожа Куннерт не может ничего вспомнить. Так или иначе, письмо попало ко мне. И когда я его открыла… Взгляните сами.
Она протянула его мне. То был белый конверт с наклеенными белыми полосками бумаги, на которых было напечатано: «В главную редакцию, Кларе Немец, лично». В конверте была толстая пачка денег и вырезка из газеты.
– Десять тысяч евро? – спросил я.
– Угадали! – воскликнула Немец.
Я пробежал глазами вырезку из газеты, в которой сразу заметил свою фамилию. Это был один эпизод из вышедшего в сегодняшнем номере очерка о деле Махмута, а именно тот, в котором говорилось о шансах возобновления процесса легализации беженцев из-за допущенной процессуальной ошибки. И в этой вырезке были выделены зеленым светящимся фломастером и снабжены тремя восклицательными знаками две фразы. То была цитата от неназванных укрывателей семьи Паевых, и она гласила: «Сейчас семье срочно нужен опытный адвокат. У нас на него, к сожалению, нет денег, но мы будем пытаться собрать их среди друзей».
– Значит, десять тысяч евро предназначены для Паевых, чтобы они могли позволить себе хорошего адвоката, – заключила Клара Немец.
Я кивнул. У меня как раз началась фаза, когда вещи из-за своего большого масштаба непостижимости не умещались в моей голове. И мне пришлось просить у нее еще одну бутылку.
– Я предлагаю выпить по бокалу шампанского, это я сейчас легко перенесу, – сказала она.
Мне это, разумеется, тоже было только кстати. У Клары Немец с самого начала вид был такой, что с ней очень даже можно было и выпить.
– Это явно продолжение большой серии пожертвований, – сказала она.
– Очевидно, – ответил я.
– Давайте чокнемся за это.
– Да.
– Благодетель, так сказать, сменил газету вслед за вами. Вы наш провозвестник счастья, господин Плассек. – При этих словах она рассмеялась, и это означало, что она считает этот факт, разумеется, чистой случайностью. Не могу сказать почему, но у меня свалился с сердца камень. – Но это значит также, что «День за днем» совершенно несправедливо был обвинен в том, что инициировал дело с пожертвованиями, – заключила Клара Немец.
– Если, конечно, новое пожертвование исходит не от людей из компании PLUS, чтобы отвести от себя подозрения, – заметил я.
Но это было, вообще-то, невозможно, ведь для этого они ни за что не выбрали бы статью о беженцах, которую сами же накануне отклонили из политических соображений.
– Как бы то ни было, мы должны решить, что нам теперь делать, – сказала она.
В одном мы быстро пришли к единому мнению. Поскольку Мануэль и я были, видимо, единственными, кто знал, где скрываются Паевы, на нас и возлагалась обязанность передать десять тысяч евро им или супругам-протестантам. В этой связи я тут же получил и следующую хорошую новость: адвокатская контора Райхерта, которая специализировалась на случаях с беженцами, уже передала через «Новое время-онлайн», что хочет взять на себя полномочия по защите, в крайнем случае безвозмездно – это, правда, означало, что они захотят вместо денег получить медийное возмещение. Ждали только гарантий от органов власти, что запланированное выдворение будет приостановлено. Из-за большого резонанса среди общественности, вызванного этим случаем, можно было надеяться, что таковая гарантия будет получена и Паевы вскоре смогут покинуть свое убежище. Я страшно обрадовался, что принесу Мануэлю радостную весть.
– И как мы обыграем это анонимное пожертвование? – спросила Клара Немец.
Я высоко оценил то, что она вовлекала меня в решение этого вопроса.
– Я считаю, не следует поднимать из-за этого большой шум, – посоветовал я.
Правда, я вообще был из тех людей, которые ни из-за чего в жизни не хотят поднимать большой шум, да и маленький тоже; собственно, вообще никакого шума. Потому что в принципе я ведь был прирожденный антижурналист, который говорил себе: вещи таковы, каковы они есть, неважно, раздуешь ли ты их на полную или оставишь при себе.
– Но и совсем умолчать это дело мы не можем. В конце концов, это наша обязанность перед дарителем, чтобы он знал, что его деньги дошли до адресата. Кроме того, за молчание меня убьет наш хозяин, – сказала она.
– Лучше всего, если будет опубликовано короткое, солидное, деловое сообщение без эффектного смакования, не на первой странице, а где-то в серединке, вот и все, точка, – сказал я.
– Вы можете себе это представить? – спросила она.
– Да, я очень хорошо это себе представляю, – ответил я.
– Прекрасно. То есть вы и напишете нам это сообщение?
– Я? – Тут была какая-то путаница.
– Это же ваша история, господин Плассек. Благодаря вам получено пожертвование, – заметила она.
Это звучало странно. Я не привык, чтобы хоть что-то на этом свете происходило благодаря мне.
– О’кей, четыре-пять предложений, больше мне не понадобится, – сказал я.
И она налила мне еще один бокал шампанского.
Страшная догадка
Поздним вечером мы стояли, облокотившись о стойку бара Золтана, и я докладывал свеженькие новости об очередном пожертвовании в десять тысяч. Для меня это был в первую очередь тест, как посторонние – а мои приятели вообще стояли далеко в стороне от всего на свете – отреагируют, не придет ли им что-нибудь в голову, и не будет ли это, возможно, то же, что и мне сразу бросилось в глаза, но чем-то меня смущало.
– Должно быть, благодетельница испытывает большое доверие к «Новому времени», если не боится, что они просто прикарманят себе ее деньги, – сказал Йози, безработный кондитер.
– Благодетельница? Почему ты думаешь, что это женщина? – спросил Франтишек, бронзовщик.
– Это мне подсказывает инстинкт. Женщины просто более социальны. Нет, я не так выразился, – женщины социальны и тогда, когда они ничего с этого не имеют, – ответил Йози.
– Лучший пример – женщина, которая вышла замуж за тебя, Йози, – посчитал Хорст, держатель тотализатора.
– Пошел ты лесом, – огрызнулся Йози.
– Я рад, что это оказался не какой-нибудь урод из концерна PLUS, – сказал Франтишек.
– Я думаю, это старый миллионер, который раньше читал «День за днем», а когда там начался скандал, ему этого хватило по горло. А теперь он случайно наткнулся в «Новом времени» на историю Гери про беженцев, и тут он сжалился и еще раз отвалил большой кусок. Вот как было дело. Я так думаю, – высказался Арик, преподаватель из профтехучилища.
– Говорю вам, его не волнуют отдельные судьбы. У него куча черных денег, он хочет от них избавиться и делает это очень элегантно, так что и бедным кое-что перепадает.
Это был посыл от Хорста.
– Как бы то ни было, поздравляю, Гери! Очерк тебе и в самом деле удался. Все об этом говорят, а теперь еще и пожертвование поступило. Твой мальчик может гордиться тобой. Да смотри, как бы тебе еще не стать знаменитостью на старости лет, – сказал Арик.
– А что нам скажет на сей счет великий князь молчания Золтан? – спросил Йози.
– Я предлагаю всем выпить за Гери за счет заведения. За Гери и инвестора, – ответил хозяин.
Предложение было принято без единого возражения.
* * *
На сей раз я вернулся довольно быстро и дома долго валялся в постели без сна. В пространстве помехой для сна носилась одна мысль, от которой я хотел избавиться во что бы то ни стало, но никак не мог отделаться. И хотя ее, к счастью, больше никто не мог заметить, кроме меня, да и сам я, вероятно, только навоображал себе все это, но чувствовал до последнего мизинчика на левой ноге, что загадочная серия пожертвований, как ни фантастически это звучит, каким-то боком имеет отношение ко мне – не к «Дню за днем», не к «Новому времени», а ко мне лично. Потому что если все шесть пожертвований и имеют между собой что-то общее, так лишь то, что материалы вложенных газетных вырезок написаны мной – либо я сам их сочинил, либо как минимум отвечал за них при публикации. Или я ошибаюсь? Первое пожертвование пришло после короткого материала о ночлежке для бездомных, написанного мной. Во втором конверте была заметка о детском садике, и ее тоже сочинил я сам. Третьи десять тысяч евро были предназначены для пенсионерки, у которой украли кошелек; правда, текст мне передала София Рамбушек, но и он вышел в «Пестрых сообщениях дня», которые вел я. То же самое было и с попавшим в бедственное положение социально-консультационным центром. Ладно, согласен, ту овеянную скандалом историю про крестьянскую семью, пострадавшую от грозы, выудил из информационного потока сам Кунц, а может, даже написал сам, но ведь и она оказалась в моей рубрике «Пестрые сообщения дня». Благодетель мог принять за данность то, что все заметки, на которые опирались его пожертвования, были отобраны и написаны мной. Достаточно было лишь один раз навести справки, кто в «Дне за днем» отвечает за короткие заметки, и ему наверняка назвали мою фамилию.
Хорошо, все это могло быть и обыкновенной случайностью. Но шестое пожертвование – от него мне становилось прямо-таки не по себе: почему выбрали именно случай с беженцами в скромной леволиберальной городской газете? Кто (кроме меня) столь радикально менял приверженность, перебегая из «Дня за днем» в «Новое время», в то время как во всех крупных газетах страны ежедневно публикуются на самых видных местах дюжины социальных репортажей и несметное количество коротких заметок практически по всем аспектам нуждаемости? Почему даритель пожелал взять под свое крыло именно маленького чеченского мальчишку? Ведь не потому же, что именно я был тем, кто написал статью и подписал ее своей фамилией?
В следующий момент мне было уже стыдно за такие мысли. Герольд Плассек, сказал я себе, что ты о себе вообразил, кто ты такой? Сорок три года тебя не было ни видно, ни слышно, ты держался скромно, никогда не вылезал вперед, победу всегда оставлял другим – не из благородных мотивов, нет, а чаще всего из чистого удобства и потому, что ты хорошо знал: ты не из тех, кто создан для великих дел. И что теперь, с чего бы вдруг, а, Герольд Плассек? Уж не обуяла ли тебя, часом, мания величия? Слабостей у тебя достаточно, но вот чего с тобой до сих пор не случалось: ты никогда не зазнавался до такой степени, чтобы вообразить себя кем-то совершенно особенным. И даже не воображай, что ты можешь начать воображать это теперь.
Глава 8
Трудно все переварить
В среду я встретил Мануэля из школы, на сей раз в человеческое время дня, то есть не до, а после занятий. Эсэмэской я предупредил, что у меня есть для него сюрприз.
– Можешь оставить велосипед на стоянке, а мы пока забежим поесть картошку фри с майонезом и кетчупом, – сказал я.
После этого он казался смущенным, как будто боялся, что в этом и состоял мой сюрприз. Я ел свою картошку, потому что не позавтракал, а он набросился на завернутый в плотную салатовую зелень полноценно-био-грубопомольно-соево-жизненно-важный сэндвич марки «Тетя Юлия считает это вкусным» – и это при том, что мальчик находился в процессе бурного роста. Ну да ладно, каким-то образом дети вырастают, должно быть, и при таком питании.
В драматургически подходящий момент я извлек из кармана конверт с пожертвованием – я его заранее препарировал таким образом, чтобы пара купюр выглядывала наружу, – и крайне непринужденно бросил его на стол со словами:
– Это для Махи.
Я сам себе казался при этом немного Джейми Фоксом из «Джанго освобожденного» Квентина Тарантино, с тем маленьким различием, что я никогда не был порабощенным темнокожим охотником за головами в южных штатах. Тем не менее эффект оказался ошеломительным, Мануэль однозначно сделал самые большие глаза за всю нашу общую историю общения.
Затем я рассказал ему об обстоятельствах получения денежного благословения и радостных перспективах развития в случае Паевых. Я заранее запасся несколькими свежими ежедневными газетами, и мы вместе пробежали статьи, касающиеся нашей темы. Газеты уделяли большое внимание тому факту, что анонимный благодетель вновь активизировался, и много места посвятили отчету обо всей серии пожертвований. В некоторых статьях называлось и мое имя – со снисходительной пометкой, что я – бывший репортер «Дня за днем», ныне изгнанный. Однако, к счастью, я нигде ни единой строчкой не упоминался в связи с серией пожертвований, и Мануэль тоже поначалу не заикался об этом, он был целиком сосредоточен на Махмуте и на письмах читателей.
«День за днем», кстати, использовал шестое пожертвование для массированного удара против клеветнических нападок в СМИ и пообещал разорить конкурирующую газету «Люди сегодня» в предстоящем судебном процессе.
Мне понравилось, что «Новое время» было сдержанным в отношении пожертвования и предоставило фактам говорить самим за себя. Таким образом, по моему мнению, было достигнуто гораздо более сильное воздействие, вполне соответствующее анонимности благих дел.
* * *
Потом мы ехали к семейству протестантов в Нойштифт на трамвае маршрута номер 38 и на автобусе 35-А. Мне было радостно видеть, как мальчики бросились друг другу на шею, как родители Махмута преодолели прежний страх – если судить чисто по внешнему виду, – как разгладились их лица и с каким доверием они улыбались нам на сей раз.
– Вы очень добросердечный человек, – сказала жена священника, когда я передавал ей конверт с деньгами.
– Тут вы сильно ошибаетесь. Я бы прибрал эти десять тысяч евро к рукам, но, к сожалению, все газеты раззвонили, для кого предназначены деньги, – ответил я.
Я должен был сказать что-то в этом роде, потому что слезы у меня на глазах уже нельзя было скрыть. Ненавижу трогательные сцены, если они затрагивают меня самого. Я становлюсь каким-то совсем беззащитным.
Не менее прекрасным сюрпризом было известие, что Паевы уже чуть ли не завтра могут вернуться в свою квартиру, потому что официально пошел отсчет нового рассмотрения их беженской ситуации. Это означало, что маленький Махи уже в ближайший четверг мог выйти на тренировку по баскетболу.
– В школу, впрочем, придется тоже ходить, – напомнил я ему, чтобы немного поубавить эйфорию.
В качестве маленькой благодарности за исполнение нашей миссии нас в конце концов заставили есть манты – блюдо, которое госпожа Паева приготовила, по ее словам, по чеченскому рецепту. То были, судя по вкусу, карманчики из теста, начиненные карманчиками из теста, которые, в свою очередь, тоже были начинены карманчиками из теста – по принципу матрешки. Теперь я понял, почему семья ни за что не хотела возвращаться на Кавказ. Кроме того, мой желудок был еще наполнен жирной картошкой фри. Но зато потом священник выставил свой самодельный грушевый шнапс.
Мануэлю не нужен отец
Вернувшись домой в мини-лофт, мы посвятили себя темам, которые еще не были закрыты. У меня, например, оставался час времени на то, чтобы психологически подготовиться к следующему жертвенному визиту – после денежного пожертвования мне предстояло пожертвовать зубом, что включало и кровавое жертвоприношение. Короче: Ребекка Линсбах ждала меня – по крайней мере, мне так представлялось, что она меня ждет не дождется.
Мануэлю совсем не хотелось корпеть над математикой сразу после блестящего доказательства того, какой волнующей может быть жизнь, и он принялся рассказывать мне о приключениях своего детства: как он с велосипедом на плечах переходил через широкую и, вероятно, кишащую крокодилами реку; как выжил в палаточном лагере, несмотря на холеру, чуму или как минимум воспаление легких; как в легендарном австралийском отпуске его чуть не убило насмерть его первой серфинговой доской под волнами километровой высоты; или как его чуть не удушил на охоте шершень-убийца – и еще много чего. Большинство историй начиналось словами: «Когда мы с мамой были там-то и там-то…» В какой-то момент я набрался храбрости и завел наконец разговор:
– А скажи-ка, Мануэль, твой отец… – Я смотрел в окно, чтобы не придавать вопросу слишком большой вес.
– Что мой отец? – спросил он.
– Что ты о нем знаешь?
– Ничего. А что?
– Мама тебе никогда не рассказывала?
– Нет. Она сказала, что рассказывать особо нечего. Но, мол, если я хочу, она мне, конечно, расскажет.
– И что? – спросил я.
– Я не захотел.
– А почему не захотел?
– Потому что мне не интересно.
– А, вон как, – сказал я.
– Он ведь тоже мной не интересуется, – объяснил он.
– Почему ты так уверен? – уточнил я.
– Если бы он мной интересовался, он бы объявился хотя бы раз, пришел бы, поздравил с днем рождения или что-нибудь подарил, или мы поехали бы вместе кататься на велосипедах, или на матч, или в кино, или еще что-нибудь, – поделился он.
У меня так и вертелось на языке то, что его отец, может, четырнадцать лет даже и не знал, что он его отец. Но это прозвучало бы тоже не очень лестно для сына. Кроме того, Мануэль мог бы что-то заподозрить, а этим я ни в коем случае не хотел рисковать, по крайней мере, пока.
– Может, он просто не осмелился дать о себе знать, – ответил я.
– С чего бы он не осмелился?
– С того, что, может, боится, что вдруг не понравится тебе.
– Как он может мне не понравиться, если я его совсем не знаю?
– Верно. – Мне и в самом деле пора было закругляться с дурацкими вопросами.
– Но тебе ведь его иногда не хватает? – только и спросил я напоследок.
– Нет.
– Почему нет?
– Потому что тебе не может не хватать того, чего у тебя никогда не было, ведь ты даже не знаешь, что это такое, чего тебе не хватает.
– Верно.
Это было и впрямь разумно. Иногда у меня складывалось впечатление, что он умеет и знает куда больше, чем его отец.
– Да и маме он совсем не нужен, у нее достаточно других друзей, которые заботятся и обо мне.
Наверное, в этот момент он подумал – для примера – про меня.
– Вот ты, например, – сказал он.
От корней зубов до сердца
Когда я увидел Ребекку Линсбах, до меня впервые по-настоящему дошло, как много всего напроисходило за эти плотные полторы недели и как мало это отразилось на ее отношении ко мне. Эта женщина, которая казалась мне от визита к визиту все привлекательнее, интересовалась лишь крохотной частью моей личности, причем лишь разрушенной долей этой части, к которой и пробраться-то можно было лишь приборами убийства, и даже этот – скорее брутальный – частичный интерес имел сугубо профессиональную природу, если он вообще существовал вне моего воображения. Как бы то ни было, ей раз за разом удавалось уменьшить мой ужас перед страхом боли. И от несчастного восьмого или девятого зуба справа вверху в глубине, который долгое время обкрадывал мой сон, теперь я действительно с удовольствием мог отказаться.
Если это было ее принципиальное требование – не выстраивать с пациентами никаких вербальных отношений, которые выходили бы за пределы дентальной области, – то на сей раз она допустила грубую ошибку. Поскольку она спросила меня – разумеется, лишь между прочим, для перехода к прощанию, но мне-то какая разница:
– Как дела у вашего сына?
После чего я сознательно уставился на нее с таким замешательством, какое только мог изобразить, и тут она действительно моментально вспомнила тогдашнее опровержение Мануэля:
– Ах да, ведь вы же… Он ведь… Вы ведь… не отец, а только… лишь хороший друг его матери, которая в настоящий момент живет в Африке, если я правильно запомнила.
– Вы запомнили правильно, – ответил я. И тут же предпринял бегство вперед, к правде. – Не знаю, выдать ли вам тайну? – спросил я. Я не дал ей ни малейшего шанса сказать «нет», и она ради приличия кивнула. – Мануэль на самом деле мой сын. Только он об этом не знает. Да я и сам узнал об этом лишь пару месяцев назад. – Теперь у меня впервые возникло чувство, что она думает не только о зубах, но в этом непривычном деле она выглядела по-настоящему неумелой, так что мне пришлось быстро снять немного тяжести с ее хрупких плеч: – Извините, пожалуйста, что я докучаю вам своими личными делами.
– Нет-нет, вы мне нисколько не докучаете. Это всего лишь немного непривычно…
– Да, это непривычно. Я, признаться честно, и сам к этому еще толком не привык.
Тут она улыбнулась. Но я не сбился с намеченного пути. И ей, наверное, тоже было понятно, что после такой экскурсии в отцовство из зубного кабинета так просто, без комментариев, не выходят. И я рассказал ей, уложившись в пять-шесть быстрых фраз, как дошел до своего мальчика, вернее, он до меня.
– Да, вот какие шутки порой играет с нами жизнь, – сказала она.
Она была, я думаю, в целом мире единственным человеком, которому я эту потрясающую фразу смог простить в ту же секунду.
– Но теперь мы с моим мальчиком переживаем первый общий успех, – темпераментно добавил я.
– Да? – вяло удивилась она.
– Его друга по баскетболу Махмута должны были выдворить из страны в Чечню – после шести лет процесса легализации в качестве беженцев. К счастью, мы смогли этому воспрепятствовать.
Я форменным образом услышал, как в том небольшом пространстве ее мозга, которое не контролировалось зубным богом, пришли в движение шестеренки давно не используемого механизма.
– Как раз об этом в газете писали? – спросила она.
Люди, которые не работают в газете, любят говорить в единственном числе: «в газете», как будто во всем мире существует всего одна газета.
– Да, об этом много сообщалось в СМИ.
– И вы?.. – Это был как бы мой прорыв к успеху у нее – первый непритворный, не связанный с зубами интерес к моей персоне, который я не мог оставить неутоленным.
– Я журналист. Я писал очерк об этом в «Новом времени».
– А ваш сын и есть тот восхитительный мальчик, который написал о своем друге?
– Да, это Мануэль, – гордо сказал я, хотя он опять испортил мне всю картину, переключив внимание на себя.
Как бы там ни было, Ребекка не только явно читала «Новое время», что для наших стоматологов было скорее похвальным исключением, но она посмотрела на меня совсем другими глазами. Нет, в принципе, то были те же самые глаза, но она впервые взглянула ими на меня, и это вызвало у меня щекотание где-то в области двенадцатиперстной кишки, знакомое мне с прежних времен, когда тяжелые случаи влюбленности приключались у меня не реже гриппозных инфекций.
– И теперь семье можно будет остаться в Австрии? – спросила она уже с некоторыми зачатками почти что страсти.
– Да, пока можно.
– Это хорошо, – откликнулась она.
– Да, хорошо, – согласился я.
Мы совершали процесс квантовых скачков в нашем сближении. Тут я ввернул еще историю про анонимное пожертвование в десять тысяч евро и про то, что несколько часов назад мы смогли передать его лично в руки адресатам.
– Прямо сердце радуется, да ведь? – сказала она.
– Да, еще как радуется, сердце-то, – ответил я и с облегчением вздохнул.
Итак, мы фактически пробились от корней зуба к сердцу. Тем самым на сегодняшний день было достигнуто едва ли не все, на что я только смел надеяться, и я мог спокойно идти домой.
– Ах да, – окликнула она меня.
Я повернулся и попытался улыбнуться как можно лучезарнее, насколько мне позволяло онемение замороженной щеки.
– Два часа не есть, – посоветовала она.
Конспиративная встреча
Когда я бывал один, а это в основном моя естественная форма жизни, в голове у меня – в отличие от недавнего времени, когда все мои мысли крутились вокруг меня или вокруг себя самих, – теперь преобладали два человека и две темы. Два человека – это были Ребекка и Мануэль, причем думать о ней я принимался скорее в вечерние и ночные часы, тогда как мысли про Мануэля держались более или менее весь день.
Темы были одна проблематичнее другой. Ситуация с местом работы была темой номер один, поскольку работы у меня не было. В принципе, какое-то время можно было жить и так. Но стоило мне задуматься об этом в связи с определенными персонами – назову сейчас подряд Гудрун, Флорентину, маму, естественно, Мануэля и даже Ребекку, а также еще и тетю Юлию, и не в последнюю очередь землевладельца Бертольда Хилле, – как мне становилось неуютно и я не мог избавиться от догадки, что я, наверное, должен позаботиться о работе, и как можно быстрее. Потому что был еще один аргумент в пользу этого, и очень убедительный: у меня больше не было никаких доходов, только сбережения, но они истощились, а ожидаемый гонорар от «Нового времени» не сделает капусту жирной, как говорят в наших краях.
Мне всегда требовалось некоторое время для раскачки, прежде чем что-либо сделать, но это было даже кстати в том деле, какое мне настойчиво присоветовали мои приятели. В конце концов я преодолел себя, позвонил Кларе Немец и спросил ее, не могу ли я при случае предложить для «Нового времени» какой-нибудь материал как внештатный сотрудник, то есть без особых взаимных обязательств. К моему удивлению, она сразу же сказала «да»; и что уже говорила об этом с Петером Зайбернигом – с тем торжественным ценителем и дегустатором вина, а заодно руководителем отдела. И что Зайберниг, дескать, сам нахваливал мой очерк про Паевых и предложил вовлечь меня в работу отдела с социальными репортажами на гонорарной основе. А что, Петер Зайберниг, если присмотреться, – очень симпатичный человек, которого я всегда высоко ценил, разве я не упоминал об этом чуть раньше?
«Социальные репортажи» – это было одновременно ключевое слово для темы номер два, которая вертелась у меня в голове. Мне приходилось то и дело возвращаться мыслями к анонимным пожертвованиям, и я поймал себя на том, что становлюсь нетерпеливым в своем любопытстве, кто же в самом деле за этим стоит. А потом позвонила София Рамбушек и предложила непременно пойти со мной выпить пива, чтобы побеседовать «о том, о сем», что мне сразу же показалось немного подозрительным.
* * *
Мы встретились в кафе «Вестэнд», где она зарезервировала самый задний столик в самом темном углу, как будто здесь должно было состояться конспиративное совещание. Я рассказал ей несколько полуприватных вещей – нет, то были даже совсем приватные вещи, из которых я, однако, рассказал ей лишь половину, потому что вскоре заметил, что ей неинтересно. После этого она подключила очарование и предприняла небольшую атаку, уверяя, как сильно ей и газете «День за днем» не хватает меня, как плохо со мной обошлись и как теперь все об этом сожалеют, и в первую очередь «Норберт», у которого тяжелая депрессия и явления «нехватки Плассека» и который якобы не может ни есть, ни спать и исхудал до состояния скелета, а ведь он и без того страдает атрофией костей – и так далее в том же духе.
– Значит ли это, что тебя подослали с целью вернуть меня назад? – спросил я.
– Нет, нет, Гери, совсем нет, клянусь тебе. Ни одна душа на свете не знает, что мы здесь встречаемся.
– И одна душа не знает, зачем мы здесь встречаемся, и эта душа – моя, – заметил я.
На это она среагировала довольно обиженно: неужели, мол, старым друзьям нужна какая-то причина, чтобы посидеть вместе и выпить пива.
– Я всегда считала, что мы друг друга хорошо понимаем и что у нас доверительные отношения, – сказала она.
– О’кей, София, тогда открой мне, пожалуйста, чем я могу быть полезен твоему доверию, – ответил я.
И тут наконец и прозвучали эти волшебные слова: серия пожертвований.
– Я просто хотела знать, что ты… об этом думаешь, Гери. Я обещаю тебе торжественно и свято, что это останется между нами, – произнесла она.
– Минуточку, уж не думаешь ли ты, что я знаю об этом больше твоего? – спросил я.
И тут она сбросила маску, насмешливо улыбнулась и заговорщицки наклонилась ко мне неприятно близко.
– Гери, послушай, нам незачем притворяться друг перед другом. Пожертвования и твои заметки неразделимы. Пойми меня правильно, Гери, я рада за тебя. Я считаю, это суперидея… вернее, хорошее развитие, которое пошло в нужную сторону, к тому же это действительно помогло и другим людям. Я считаю это совершенно легитимным. И репортаж в «Новом времени» был действительно очень хорошо написан, стилистически там есть чему поучиться. Так что ты по-настоящему заслужил это…
– Что я заслужил?
Мне неотложно требовалось еще одно пиво.
– Гери, да об этом даже воробьи щебечут со всех крыш, что ты действуешь сообща с пресловутым благодетелем…
– София, с меня довольно!
Это прозвучало повышенным тоном, из-за соседнего столика на нас обернулись. Но я уже по-настоящему вошел в раж.
– Раз и навсегда: я не имею ничего общего с пожертвованиями, ни малейшей связи! Я понятия не имею, кто за этим стоит! Это случайность, это может быть лишь чистой случайностью, что будто бы я… или мои статьи, или одна из них… что этот благотворитель… Это случайность, София! Поверь мне и передай, пожалуйста, всем остальным, скажи это Норберту Кунцу, и если ты встретишь какого-нибудь мерзавца из концерна PLUS, то скажи и ему, что я здесь, к сожалению, ничем не могу быть полезен, тут не выгорит никакой сенсации и что им, к сожалению, придется выдумать кого-то другого. Им непременно кто-нибудь придет в голову, я на этот счет нисколько не сомневаюсь.
– Гери, я клянусь тебе, никто мне ничего не поручал, это сугубо личный интерес, честно. Я не знала, что ты так на это… что ты так разволнуешься, я тебя таким и не видела никогда, – сказала она, присмирев как мышка. – И если ты говоришь, что ничего про это не знаешь, то ты действительно ничего не знаешь, я тебе, разумеется, верю, ты – один из немногих, кому я слепо верю, – сказала она.
Я понимаю, можно кому-то доверять, но вот можно ли слепо верить? Ну, неважно.
– Тогда ты сняла у меня камень с сердца, – ответил я.
Итак, мы все-таки нашли более-менее примирительный способ завершения разговора.
– Но я бы хотела тебе сказать еще кое-что, Гери. То, что это чистая случайность, я имею в виду пожертвования и твои статьи, то, что это была чистая случайность, об этом ты можешь забыть прямо сейчас.
Мутный тип
Вот уж кому в эти выходные удалось быстро переключить меня на другие мысли, так это Флорентине. Правда, не одной, а с Майком, ее первым и наверняка – стопроцентно – не последним другом, за это отныне я готов был молиться каждый день, ради такого, пожалуй, стоило бы даже впасть в глубокую религиозность. Если раньше у меня было некоторое представление, чего можно ждать от молодого мужчины в возрасте двадцати одного года, который не был ни учащимся, ни студентом, ни учеником, ни практикантом, а был басистом психоделической рок-группы, которая к тому же только что распалась, то теперь оно полностью подтвердилось вживую. Конечно, молодой общественный отщепенец в начале своей бурной наркоманской карьеры и вошедший в года приземленный унылый тип с регулярными уходами в безнадежное состояние сочетались за одним столом не очень хорошо. Причем не сказать, чтобы я был ему несимпатичен – в таком случае мне потребовалось бы стать для него хоть кем-то, то есть он должен был бы меня воспринимать, а восприятие в принципе не было его сильной стороной.
Итак, мы сидели в «Трайблозе», и мне не доставляло ни малейшего удовольствия наблюдать, с каким обожанием Флорентина смотрела на этого внешне блеклого, внутренне пустого персонажа, как она гладила его по волосам, ласково касалась щек, целовала его в макушку и находила все новые места, чтобы потрепать и потеребить его, как мягкую игрушку, а он принимал это без всякой реакции, не откликаясь ни единым ласковым жестом в ее сторону.
Однако ничто не помогало, моя дочь была безнадежно влюблена в этого коматозного типа, и был на свете, пожалуй, лишь один человек, способный отвадить ее от него, и этим человеком была она сама.
– Майк едет в начале будущего года на два месяца на Кубу, – сообщила Флорентина.
– Поздравляю, – ответил я.
Поздравление, вообще-то, относилось к ней, но смотрел я при этом на него, причем я уже догадывался, что это была лишь часть правды.
– Хочешь, открою тебе секрет, папа? – Оказывается, она умела заглядывать в глаза собеседника с необыкновенным теплом. – Я тоже лечу на Кубу. Поеду к нему на школьные каникулы на четырнадцать дней.
Это была ошеломительная новость, которую мне требовалось сперва переварить.
– У вас что, каникулы длятся четырнадцать дней? – это было первое, что пришло мне в голову.
– Нет, каникул всего одна неделя, а вторую неделю я просто прогуляю, в начале полугодия еще ничего особенного не пропустишь, – объявила она.
Я попытался реагировать иначе, чем сделал бы в этой ситуации любой отец. Я с пониманием кивнул.
– И что, у тебя хватит денег на такую поездку?
– Пока нет, но к Рождеству я наверняка что-то получу от дедушки, – сказала она.
– А мама и Бертольд знают о твоих планах?
– Нет.
– Ты уже знаком с ними, Майк? – Я вынужден был заговорить с ним, иначе бы он у нас, чего доброго, заснул.
– Нет, – ответил он.
Произносил он только самое необходимое, но содержание было солидным.
– Я не хочу, чтобы он с ними знакомился, с моими стариками, это что-то несочетаемое, – сказала она.
И ни с ней не сочеталось, ни мне не подходило то, что она назвала их «мои старики». Но я это стерпел.
– Если они не знают твоего друга, тебе трудно будет дома продавить этот полет на Кубу, мне так кажется.
– А мне и не придется продавливать его дома, – ответила она.
– Как так?
– А так, что в феврале мне уже будет почти шестнадцать и они уже ничего не смогут мне запретить. Они больше вообще никогда не смогут мне ничего запрещать.
Это понравилось Майку, он даже подставил ей лицо, чтобы она могла его обцеловать.
– И вообще, я им скажу, что я у Алены и ее родителей на Майорке, уж это они мне разрешат, – произнесла она.
– Кто такая Алена?
– Моя любимая подруга, на которую я могу положиться, она человек надежный.
– Не знаю, так ли уж хороша эта идея, – заметил я.
Внешне я сохранял спокойствие, но вообще-то это дело с каждой минутой нервировало меня все больше, и я уже не знал, как мне себя вести. С одной стороны, это было не в моей власти – запрещать Флорентине поездку. С другой стороны, я не мог молча смотреть, как она дурачит свою маму ради того, чтобы сопровождать этого зомби в его наркоманском турне по Кубе. А еще ведь, не ровен час, она вернется к нам оттуда наркошей, и получится, что я ей, так сказать, своими руками вымостил туда дорогу, только этого мне не хватало в моей биографии.
Лучше всего было бы тут же позвонить Гудрун и проболтаться ей о тайных планах Флорентины. Но худшего вероломства против дочери и быть не могло, к тому же это означало бы полный разрыв отношений с ней, а ведь они только-только начали складываться.
Я извинился, ненадолго отлучаясь, чтобы выиграть время, и, проходя мимо бара, перехватил стаканчик шнапса, который хотя и не напоминал по вкусу кубинский ром, но навел меня на очень интересную мысль. Когда я вернулся за стол, Флорентина сидела одна.
– А где Майк?
– Ему уже надо было уходить, – сказала она.
– А попрощаться? Это не обязательно?
– Извини, папа, он не хотел тебя обидеть, он даже сказал, что ты совершенно о’кей. Но он просто не умеет показывать такие вещи. Когда мы вдвоем, он совсем другой.
– Ты в него действительно влюблена?
– Да, безумно. Я люблю его больше всех на свете, – сказала она.
– А вот насчет Кубы, это ты всерьез?
– Да, более чем. Я должна полететь, непременно. И я сделаю это, ничто меня от этого не удержит, – призналась она.
Хорошо, с этим все ясно, и мне оставалась практически только эта, последняя возможность.
– Куба и меня всегда интересовала, – соврал я.
– Да, там, судя по всему, классно. Люди там хотя и бедные, но поют и танцуют прямо на улице, и они всегда радостные, не то что у нас, – поведала она.
– Ты будешь смеяться, но я уже давно подумывал о том, чтобы слетать туда как-нибудь.
– Да? И почему же ты не летишь?
– Знаешь, я не из тех, кто любит разъезжать один, а пока что мне не подвернулось никого, с кем бы полететь на Кубу…
– Тогда поедем со мной, вместе и полетим, – предложила она, и это не было пустой вежливостью, за этим просматривался хороший заряд энтузиазма, порцию которого я тут же урвал себе. Потому что было чертовски хорошо, когда тебя берет к себе в лодку собственная дочь, а некий Бертольд Хилле остается за бортом. Ради такого можно примириться даже с тем, что лодка болтается на волнах Карибского моря и рядом ошивается мутный тип по имени Майк; и что мне вообще ни зачем не сдалась эта Центральная Америка; и что я в принципе питаю отвращение к поездкам, а дальние путешествия просто ненавижу, поскольку испытываю жуткий страх перелетов; и что затея эта, собственно, мне не по карману. Но все это я отодвинул в сторону, поскольку февраль представлял для меня утопически далекое будущее. И в принципе, дело здесь было лишь в прикладной педагогике, больше ни в чем.
– Однако предупреждаю тебя заранее, ты от меня уже не отвяжешься и у вас двоих не будет даже минутки, чтобы побыть наедине. Я вымотаю вам все нервы.
При этом я посмеивался, так что она не могла заметить, насколько серьезно я настроен.
– Это ничего, папа, ты вообще не действуешь на нервы, потому что каждому даешь возможность быть самим собой и никого не ограничиваешь, – сказала она.
Сомнительный комплимент, я считаю.
– А если мы поедем вместе, это даст то преимущество, что мы сможем сказать твоей маме правду, – заметил я.
– Да, вообще-то. Я ей прямо сегодня и…
– Нет-нет, лучше ничего не говори. Я сам с ней поговорю, но мне надо дождаться благоприятного момента. И Майка нам лучше совсем вывести за рамки этого дела.
Может, он к тому времени и сам благополучно вывалится за борт – такова была моя заветная задняя мысль.
Глава 9
Преждевременная раздача подарков
Мне совсем не нужно было думать о далеких крупных финансовых проектах вроде Кубы. Достаточно было просто заглянуть в холодильник, чтобы понять, что время уже созрело – пора засучивать рукава. Проблема была в том, что я понятия не имел, о чем бы мне написать. Не был я достаточно выносливым, чтобы гоняться за большой медийной темой на злобу дня, и на мое журналистское любопытство надежды не было: насколько я его знал, оно всегда возвращало меня тем или иным путем к моим личным делам, вернее, в бар Золтана.
Поэтому я решил послать Петеру Зайбернигу имейл с предложением и сочинил следующий текст: «Дорогой господин Зайберниг, я был бы весьма рад время от времени посылать для вашего отдела материалы из области социального. Разумеется, у меня уже есть идеи, но для начала было бы, может, лучше, если бы вы дали мне задание. Во-первых, я ценю ваше чутье на…»
Последнюю фразу я смело вычеркнул, поскольку не годилось мне на пятом десятке лет вдруг начинать подлизываться, а кроме того, при слове «чутье» я сразу представлял Зайбернига за дегустацией вина. Поэтому я написал: «У вас есть цельное представление о редакционном портфеле, и вам лучше знать, какие темы заслуживают наиболее пристального внимания и оправдают появление репортажа на ваших страницах. Надеюсь на ваш скорый ответ. С дружеским приветом, Герольд Плассек».
Ответ Зайбернига не заставил себя ждать: «Привет, господин Плассек. Не заинтересует ли вас тема магазинов Kost-Nix? Из нее мог бы получиться хороший репортаж. Эти бесплатные лавки вырастают как грибы после дождя, и дело здесь не в выгоде, а в активной помощи нуждающимся. Такая лавка на Таборштрассе вроде бы должна закрыться из-за повышения арендной платы. Скажите, нет ли у вас желания написать об этом статью? Если да, я пришлю вам пару ссылок. Сердечно, Петер Зайберниг».
Если что-то ничего не стоило, это автоматически было мне симпатично. Поэтому я не раздумывал и десяти секунд и с благодарностью принял это предложение.
* * *
Во второй половине дня я уже с нетерпением ждал прихода Мануэля и сразу спросил его, много ли ему задано на дом. К счастью, оказалось немного. Если не считать заданий по математике, английскому и немецкому и подготовки к завтрашней контрольной по французскому, он был, так сказать, совершенно свободен.
От моего заманчивого предложения отправиться со мной на разведку, с одной стороны, а с другой стороны, на бесплатный шопинг, он, естественно, не мог отказаться.
И мы пустились с ним в путь в так называемый Подарочный центр на Таборштрассе.
Я уже почитал в сети материалы по теме и поэтому освоился с философией магазинов Kost-Nix, она сильно напоминала мне классическую рождественскую раздачу подарков и велась на этих площадках открыто и каждый день, да к тому же без упаковочного хлама. Это могло подаваться, например, так: «Ты можешь брать у нас и ничего не обязан отдавать за это. Но ты можешь и занести вещи, которые тебе больше не нужны, если они чистые и еще функционируют». Или так: «Мы хотели бы создать открытое пространство для всех, кто хотел бы взаимно одаривать друг друга. Вещи можно приносить и забирать – без всякого участия денег. У нас нет ни малейших намерений получить выгоду, а арендную плату нам финансируют спонсоры».
Сильно ошибается тот, кто ожидает увидеть здесь пропыленный ассортимент старьевщиков или обычных блошиных рынков с носками всех оттенков серого и виниловыми пластинками от Дэвида Кэссиди до Дэвида – нет, вот не Боуи, а – Хассельхоффа. Я бы, вообще-то, не глядя поменял свой мини-лофт на любое из этих плотно уставленных, крайне уфарфоренных и густо увешанных хрустальными люстрами помещений. А чтобы избавить себя от настолько же хлопотной, насколько и дорогой процедуры перевозки, я мог бы сделать мою квартиру со всей мебелью магазином Kost-Nix, а сам просто переехал бы сюда, думал я, вот это было бы настоящим «шух не глядя» в усовершенствованной форме, по крайней мере, для меня.
Мануэль – прежде чем усвистать в спортивные товары – должен был выполнить мое задание: ко всему присмотреться и записать, какие люди что приносят и что забирают. А если он хочет действительно сослужить мне службу, то пусть проведет среди посетителей небольшой блиц-опрос – для школьной газеты – о том, что их сюда привело, какой опыт по этой части у них уже есть и какого они мнения о бесплатных магазинах в принципе. Это было, конечно, эксплуатацией детского труда, но Мануэль любил такую работу – в отличие от меня.
Я как раз завис между горами посуды и залюбовался чувственно-волнующим каменным литровым сосудом, напомнившим мне о детстве, потому что у моего дедушки была похожая кружка, как вдруг ко мне обратилась женщина лет тридцати прямо-таки с металлом в лице и бейджиком на груди с именем Нина. Она прошептала:
– Ты можешь забрать эту пивную кружку бесплатно.
В том смысле, что бывают у нас всех плохие времена.
Я заявил Нине, что нахожусь тут с журналистской миссией и работаю над репортажем для «Нового времени», и это впечатлило ее до такой степени, что она тут же перешла на «вы», так что я даже не успел вдоволь насладиться ее предыдущим «ты». В маленьком подсобном помещении, где мы могли без помех побеседовать, мне налили кофе из термоса, и Нина развернула передо мной историю зарождения и развития этой сказочной страны секонд-хенда.
Единственная печальная глава касалась как раз близкого будущего: дом, в котором находился магазин, принадлежал одной трастовой компании, которая намеревалась реконструировать здание и предупредила их, что с января повысит арендную плату на треть. Тем самым Подарочному центру больше не продержаться за счет симпатии частных персон, придется, к сожалению, закрывать бесплатный магазин и перебазироваться в более дешевый район на окраине города. Владельцу это будет только кстати, поскольку, по слухам, здесь вскоре должен открыться магазин деликатесов.
Я пометил себе фамилию и номер телефона владельца, простился с Ниной и забрал Мануэля, который уже завершил разведку и выбрал свою топ-тройку подарочных предметов, которые, судя по всему, предназначались для новой формы современного троеборья: жокейку, хоккейную клюшку и очки для нырянья.
– А ты себе ничего не подыскал? – спросил он меня.
Я вспомнил красивую пивную кружку, но я ведь был при исполнении, поэтому ответил:
– Нет, сегодня нет.
* * *
Мы обменялись полученными сведениями и обсудили дальнейшие шаги. По мне, так нам следовало бы сразу посетить владельца этого дома – по имени Дитмар Штайнингер – в его трастовой конторе на втором этаже и расспросить по поводу слухов о повышении арендной платы, чтобы на сегодня покончить с делами, поскольку я был уже сильно утомлен.
– Я бы на твоем месте не стал этого делать, – сказал Мануэль.
– Почему не стал бы?
– Как только он тебя увидит, то сразу поймет, что это будет за очерк.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, он ведь не примет тебя за большого фаната магазина деликатесов.
Уж не комплимент ли это был?
– Да он и не должен принимать меня за фаната, – ответил я.
– Но тогда он сразу догадается, что ты напишешь о нем плохо, поэтому не скажет тебе ничего или хотя бы не скажет правду.
Я обомлел. Мой высокоинтеллектуальный мальчик обладал способностью думать на три хода вперед и даже видеть насквозь людей, которых никогда не видел.
– И что бы ты предложил? – спросил я.
– Будет лучше всего, если ты позвонишь ему, станешь интересоваться только магазином деликатесов и скажешь, что находишь суперским, что такой магазин там наконец появится. А в газете потом напишешь, что находишь это суперски плохим и подлым.
– Мануэль, само по себе это задумано гениально, но абсолютно несерьезно, – сказал я.
– Ну и что? Главное, чтобы магазин, в котором все бесплатно, не закрылся, – ответил Мануэль.
Деликатесы для шейхов и олигархов
Поскольку ни Рим не был построен в один день, ни Афины не обанкротились в одночасье, я дал проекту репортажа спокойно провести ночь – среди прочего и в баре Золтана – и ждал обещанного обратного звонка от владельца дома Дитмара Штайнингера, который в полдень среды застал меня в постели. Я твердо намеревался придерживаться совета моего разумного сына, но при этом обойтись без всякой лжи.
– Добрый день, господин доктор Штайнингер, моя фамилия Плассек, я пишу для «Нового времени», и меня интересует запланированный магазин деликатесов на Таборштрассе, – таковы были мои первые слова.
– Уважаемый господин… э-э…
– Плассек.
– Уважаемый господин Плассек, об этом говорить пока преждевременно. Сейчас первым делом здание необходимо реконструировать, а потом уж мы поглядим. Сейчас пока идут переговоры с арендаторами. Я не хотел бы забегать вперед, – ответил он коротко и ясно.
– Но, может быть, у вас есть хотя бы смутное представление о том, как такой магазин деликатесов, или позволю себе назвать его храмом гурманов в сердце Вены, ведь это в двух шагах от самого центра города, то есть в чудесно обжитом, так сказать, районе – как он мог бы выглядеть? Это было бы очень интересно и мне, и всем потребителям, – сказал я.
О’кей, теперь это не была такая уж чистая правда, но человека немного подогрело.
– Да-да, у нас есть хорошие концепты. Мне тут видится нечто вселенское. Лучшие деликатесы от пяти континентов. Изысканные деликатесы из Азии, Америки, Австралии, Европы и… э-э…
– Африки, – подсказал я.
– Верно. Нечто всемирного охвата, специфическое, неповторимое, что ни с чем не спутаешь. Знаете, господин… э-э…
– Плассек.
– Знаете, господин Плассек, мы живем в глобальном обществе… – Это был вступительный такт к заключительной речи защитника всего лучшего из самого лучшего, и эта речь воспаряла все выше – в своего рода эмпиреи потребления элитного класса трастовой экономики. Я прерывал его редко и лишь для того, чтобы подбавить ему вербально-возбуждающего средства, такого, как:
– Вы истинный гурман.
Или:
– Как основательно вы во все вникаете.
Или:
– Это поистине речь знатока.
За это я получил от него целый набор цитат высокой пробы – таких, как:
– В мой магазин непрерывным потоком пойдут шейхи из Саудовской Аравии и русские олигархи.
Или:
– Есть слой покупателей, для которых деньги не имеют значения, они платят, чтобы не получить почти ничего, но это почти ничего должно быть особенным, и сегодня все дело именно в этом.
Или – это мое любимое высказывание, абсолютный победитель:
– Попомните мои слова, на Таборштрассе вы получите вьетнамские качественные продукты, которых нет даже во Вьетнаме.
Под конец его тонковкусовой язык развязался настолько, что он затронул и щекотливую тему:
– Но в настоящий момент нам приходится, к сожалению, собачиться с совсем другой публикой.
– Вы имеете в виду Подарочный центр?
– Не поймите меня превратно, господин… э-э…
– Плассек.
– Да, господин Плассек, саму по себе мысль о бесплатном я нахожу очень хорошей, правда, немного наивной и далекой от реальности, но хорошей, а эти молодые люди еще полны идеализма. Но оборотная сторона та, что это, естественно, притягивает к себе и проблемные случаи, которые приходится потом расхлебывать нам здесь, на месте: это нищие, алкоголики, бродяги, ну, вы сами знаете.
– Да, я знаю.
– А район здесь просто не подходящий для этого.
– А где же был бы для этого подходящий район? – заинтересованно спросил я.
– Где-нибудь подальше, на окраине.
– Самое лучшее – вообще за границами страны, не правда ли? – заметил я.
– Это вы сами сказали, – ответил он. И громко рассмеялся.
Я поблагодарил его за содержательную беседу.
– Еще один вопрос, господин… э-э…
– Плассек.
– Господин Плассек, верно. Скажите, это интервью выйдет в приложении для гурманов или в разделе экономики?
До сих пор я обходился без существенной лжи, теперь мне приходилось быть особенно внимательным.
– Гурманы, экономика, возможно также, городская жизнь. Я пока не могу вам сказать с уверенностью, это определяет в конечном счете главная редакция. Я лишь маленький внештатный сотрудник, – ответил я.
Я и Микеланджело
– Ну, что с твоей контрольной по французскому? – спросил я, испытывая угрызения совести.
– А что с ней должно быть?
В мануэлевской схеме ответа вопросом на вопрос мало что изменилось.
– Если по мне, то она должна быть легкой. Она была легкой? – спросил я.
– Да, совсем. Если бы я к ней готовился, я бы сейчас только досадовал на себя.
Это меня успокоило.
– Не хочешь сделать со мной этот репортаж? – спросил я.
Видимо, в моей фразе прозвучали нотки мольбы, потому что он сказал:
– Естественно, не могу же я бросить тебя в беде.
Для него моя персона постоянно была главным социальным проектом, но я в принципе считал положительным то, что нынешние дети раньше времени учатся брать на себя хоть немного ответственности за своих отцов, дядьев или даже всего лишь старых друзей их матерей.
В журналистском переложении фактического на языковое мы с ним были, как показала практика, уже слаженной командой. Он зачитывал мне из своего блокнота длинные версии своих разведданных, в которых он любил выходить из берегов и растекаться мыслию по древу, а я делал из них короткие фразы без лишних завитушек. Например:
– Это была женщина, уже пожилая, на мой взгляд, где-то между пятьюдесятью и восьмьюдесятью…
– Не мог бы ты выставить пределы немного поуже?
– О’кей, тогда ей где-то между шестьюдесятью и восемьюдесятью, у нее были такие седые короткие волосы и красные очки, они были круглые, то есть круглые красные очки, вообще-то, красно-черные, и она сказала, что она как-то сама делала украшения, ну, там, кольца и ожерелья, модные украшения, короче. Она мне показала цепь, или ожерелье, или бусы, что-то такое, вообще-то, и красивое, такое серое или серебряное, с кругами и кольцами. И эти украшения она раньше продавала, у нее даже был собственный магазин, в Нойбаугассе, и она хорошо зарабатывала на этом, потому что люди охотно покупали их: им это нравилось, потому что не так дорого, как настоящие украшения, как золото, например. Но магазин она потом закрыла, поскольку состарилась и больше не хотела. И у нее осталось много украшений. И теперь она приходит дважды в неделю или трижды, я не могу разобрать, то ли у меня тут написано два, то ли три раза, неважно, и вот, она идет в Подарочный центр и всегда приносит пару колец и ожерелий собственного изготовления. И когда она приходит в очередной раз и у нее не остается колец и ожерелий, потому что их кто-то забрал, она радуется, ведь теперь, наверное, кто-то носит ее украшения, и этого ей достаточно, деньги за это ей больше не нужны.
После моей обработки из всего амбициозного описания Мануэля в репортаж шла лишь пара стройных фраз, в данном случае: «Одна женщина лет семидесяти, с короткими волосами и в красных очках, раз в несколько дней приносит сюда модельные украшения собственной работы. До недавнего времени она держала процветающий магазин в Нойбаугассе. Сегодня она позволяет себе личную роскошь раздаривать свои кольца и ожерелья. «Меня всегда радует, когда я прихожу – а от моих украшений уже ничего не осталось. Тогда я знаю, что их теперь кто-то носит, и у меня от этого просто поднимается настроение», – рассказывает она».
* * *
Через три часа мы управились с репортажем. Мануэль отправился к тете Юлии, а я сделал нечто непривычное: я стал работать дальше, как будто больше не будет ни завтра, ни послезавтра. Зайберниг прислал мне ссылки на множество магазинов Kost-Nix в Австрии и на все сходные модели в Германии и Швейцарии. Это делало общую картину наглядной. Что касалось щекотливой главной темы очерка – повышения арендной платы и запланированного открытия храма деликатесов, – то я долго размышлял, в каком тоне мне следует это подать – то ли в весело-ироничном, но это не подходило; то ли в циничном, но это я предпочитал делать устно, а не письменно; или совсем уж напрямик, это было мне не близко; или прямо в лоб, это было для меня еще дальше; или морализаторски, это было для меня самым далеким, – пока я не решил вообще ничего об этом не говорить и воздержаться от всякой оценки. Было достаточно того, что два интервью – домовладельца Штайнингера и Нины из бесплатного магазина – стояли друг против друга и говорили сами за себя. Более острого контраста, чем между «Покупать за любую цену» и «Дарить от души», нельзя было и достигнуть. И из этого каждый должен был извлечь собственное отношение к происходящему.
Когда все было сделано, у меня еще хватило сил отправить завершенные документы Зайбернигу, приложив к ним предложения по заголовку, советы по иллюстрированию и фактологии и соображения по верстке и уравновешенности материалов. После этого у меня было приблизительно такое чувство, какое должен был испытывать Микеланджело, когда изготовил последнюю фреску для Сикстинской капеллы – и церковь, так сказать, была полностью закрашена. Понятия не имею, что он сделал непосредственно после того, как закончил работу, – может, частным порядком навестил стоматологиню своего сердца. Я об этом пока мог только мечтать. Итак, я отправился выпить пиво-другое. Вот совершенно честно: на сей раз и правда обошлось немногим больше, чем пиво-другое.
Хоть раз что-то сделать
В четверг я встал рано, на этот раз даже не поинтересовавшись, который час, поскольку среди цивилизованного населения есть гигантские различия в понимании того, что такое рано, а что нет.
Зайберниг явно встал еще раньше, потому что уже успел отправить мне имейл из редакции «Нового времени». То было чрезвычайно приятное сообщение, и я пожелал себе, чтобы впредь хотя бы один день в неделю начинался так, как этот. Он писал: «Дорогой господин Плассек, отличная работа, поздравляю! Хороший, насыщенный репортаж, действует подкожно. И интервью со Штайнингером – настоящий ломтик деликатеса, хоть сейчас ставь его в кабаре! Комплимент и от Клары Немец. Мы доработаем эту историю со дня на день, фотографа для Таборштрассе я уже заказал, к вечеру пошлю вам готовую верстку для согласования. Сердечно, Петер Зайберниг».
Этот человек становился мне с каждой минутой все симпатичнее, а что касалось его мимики при дегустации вина – это он тогда, вероятно, играл на публику, потому что на него в то время пристально смотрело профессиональное сообщество. Мы ведь все делаем особые лица и принимаем особые позы, когда находимся на виду, в этом и состоит, к примеру, главная проблема всех политиков.
Каким-то образом я почувствовал, что это особенный день – не только потому, что поздней осенью опять установилась теплынь в двадцать градусов и солнце светило так ярко, а еще и потому, что я чувствовал себя на удивление хорошо – настолько, что мне было даже чуть ли не жутковато, и еще потому, что я испытывал настоящую потребность что-то делать, а не только смотреть со стороны, как все происходит само по себе; в кои-то веки сделать что-то другое. Но что-то другое было уже и в том, что я вообще испытывал потребность что-то сделать, а не только созерцать, как все происходит само по себе, что до сих пор было моей сильной стороной.
Сначала я подумывал, уж не убрать ли мне квартиру, да по-настоящему убрать: вымыть с чистящими средствами, щетками и тряпками, то есть профессионально. Но возобладал приоритет холодильника, мне требовались в нем хотя бы важнейшие продукты – такие, как масло, пиво, хлеб, яйца, лук-резанец и все такое. На это мне, понятное дело, требовались деньги, а на тему денег мне никто не приходил в голову, кроме Гудрун, что, к сожалению, снова опрокидывало мой план однажды сделать что-то другое.
Перед тем как в раскаянии броситься ей в ноги, я сделал еще один маленький крюк в филиал моего банка, чтобы и ему дать некий аутсайдерский шанс однажды удивить меня чем-то позитивным. И именно этим минимальным шансом он и воспользовался – я же знал, что этот день особенный: на мой счет поступило 3211 евро, гонорар «Нового времени» за очерк о Паевых, причем сперва я подумал, что они ошиблись и не там поставили запятую. Но нет, платеж состоял из двух траншей: сперва часть за текст, а потом следующие 2500 евро, которые были помечены как «разовый специальный гонорар». Короче говоря, они одарили меня поистине щедро, а на улице к тому же все еще светило солнце.
Само собой, я должен был поделиться моим счастливым гонораром с Мануэлем, и тут мне спонтанно пришла в голову мысль о новом велосипеде, – пока я не вспомнил, что его теперешнему велосипеду, собственно, всего три месяца. И тогда я дал наконец волю своей непривычной потребности в чем-то совсем другом: я решил купить велосипед себе самому, чтобы заново научиться ездить на нем, а потом совершать с Мануэлем велосипедные прогулки, то есть чтобы делать именно то, что давно уже сделал бы со своим настоящим сыном настоящий отец.
Раньше велосипеды были складные
В спортивном магазине Грубера на Шенбруннер-штрассе велосипеды – а их было тысяч пять – занимали целый этаж. Я в принципе ненавижу большой выбор любого рода, этот выбор симулировал якобы свободу, которая на самом деле являлась полной противоположностью свободе. Чем больше предложение, тем оно необозримее, а чем оно необозримее, тем непрогляднее, а чем непрогляднее, тем легче выдернуть из толпы неопытного покупателя вроде меня и обвести его вокруг пальца.
Поэтому я не особо озирался, а подождал, пока молодой человек в спортивной форме, по виду только что выигравший Тур де Франс и сбежавший от пробы на допинг в торговый центр, замаскировавшись под продавца, – в общем, я подождал, пока он ко мне обратится. И мы тут же вступили в диалог.
– Добрый день, вы что-то хотите?
– Велосипед.
– Какой велосипед?
– Не красный.
Он засмеялся.
– А о чем вы мечтали? BMX? Кросс-байк? Сити-байк? Круизер? Ретробайк? Горный байк? Трековый байк?..
Я вообще ни о чем не мечтал.
– А есть у вас складные велосипеды? – спросил я.
Понятия не имею, производят ли еще нечто подобное в наши дни. В 1980 году в Зиммеринге человеком считался лишь тот, у кого был складной велосипед.
– Складные велосипеды? – переспросил он.
Он был не очень хорошим продавцом, потому что с отвращением скривился.
– Может, вы имели в виду велоспед-гармошку?
– Понятия не имею. Раньше можно было складывать велосипеды, может, теперь на них можно играть, – ответил я.
Он засмеялся.
– А для чего он вам нужен? – уточнил он.
– Для езды на велосипеде, – ответил я.
Он снова засмеялся. Должно быть, у них на работе предоставляется не так много случаев повеселиться.
– То есть он должен быть по возможности дешевым и при этом хорошим. И чтобы легко катился. Я, честно признаться, давно уже выпал из темы. Я хотел бы совершать с моим сыном небольшие велосипедные прогулки – ну, там на Дунайский остров или в область затопления – разумеется, лишь в те моменты, когда затопления нет, иначе я был бы сейчас в отделе надувных лодок. У вас тут наверняка выделен целый этаж и для надувных лодок, не так ли? – сказал я.
Он пропустил это мимо ушей: не его специализация.
– А как вы смотрите на голландский велосипед? – спросил он.
– На слух звучит хорошо. Наверное, можно во время езды срывать тюльпаны?
На сей раз он не рассмеялся, хотя это действительно был хороший трюк, я считаю. Он показал мне пару нидерландских экземпляров.
– А это что такое? Они встроили сюда теннисную ракетку? – спросил я.
– Это кожух для защиты цепи. А на заднем колесе боковая обшивка, она бывает разных типов. И седло у этих моделей установлено так, что вы можете сидеть прямо. Это хорошо подходит для пожилых, я имею в виду, и для пожилых тоже, – уточнил он.
– Честно, как сказал бы мой четырнадцатилетний сын, это крутой велосипед? – спросил я.
Он как-то гадко рассмеялся.
– Я не знаю вашего сына, но голландские велосипеды называют также бабушкиными, – ответил он.
– О’кей, тогда другой, – сказал я.
Была еще серия, которая мне нравилась, пока я не узнал, что она принадлежит к семейству «фитнес-байков». После этого мой взгляд останавливался на паре красивых «ретровелосипедов», но ретро я был и сам по себе, для этого мне не нужен был специальный велосипед. Остановились в конце концов на очаровательном сити-байке с двадцатью одной скоростью и многопозиционным рулем, причем на самом дешевом, за двести девяносто евро, а выглядели они все равно все одинаково.
– Хотите проехаться на пробу?
– Прямо здесь, в магазине? Вы так хорошо застрахованы? – удивился я.
Мы порешили на маленьком испытании «сесть-сойти», которое прошло благополучно. На этом все было завершено, и мы вдвоем – мой новый велосипед и я – могли приступить к нашей первой совместной дороге домой – рядом друг с другом, разумеется, как это приличествует молодой паре.
Глава 10
Седьмое пожертвование
Во вторник после публикации моего разворота о бесплатном магазине Клара Немец прислала мне два имейла, снабдив их красными восклицательными знаками, в том смысле, что известие высокой срочности. Более короткий имейл был написан по поводу более длинного и гласил: «Дорогой господин Плассек, если вам не трудно, зайдите, пожалуйста, в редакцию, или давайте встретимся в каком-нибудь кафе. Мы должны на сей раз обсудить это более подробно. Сердечно, Клара».
Ага, только Клара, без Немец, это было, так сказать, мягким переходом с «вы» на «ты».
Второй имейл бросился мне с экрана прямо в лицо. Подтверждалось опасение, которое мучило меня целыми днями, а главное – ночами, причем опасение – это не вполне правильное слово. Ведь само по себе это было счастливым случаем или даже серией счастливых случаев. Но проблема состояла, к сожалению, в том, что я не подходил для такого рода счастливых сюрпризов.
Имейл исходил от «цельнометаллической» Нины из Подарочного центра на Таборштрассе, он был направлен в «Новое время» и сопровождался просьбой переслать господину репортеру Герольду Плассеку. Нина писала:
«Привет, господин Плассек, мы тут только что прыгали от радости и обязаны этим целиком и полностью вам. Нам кто-то прислал десять тысяч евро, просто так, не сказав, кто он или она, и ничего не требуя взамен. И для чего так много денег? – Для арендной платы!!! Чтобы мы и впредь могли давать нашим клиентам возможность обмениваться подарками. Чтобы мы не закрылись. Мы и так уже получаем кое-какую спонсорскую помощь, но самой большой суммой до сих пор были триста евро. И вдруг кто-то – он или она – посылает нам десять тысяч евро!!! С ума сойти! Возможно, это те же самые люди, которые несколько раз анонимно посылали в разные места по десять тысяч евро. А теперь, надо же, и нам! Мы все никак не можем поверить своему счастью! И этим мы обязаны, как уже сказано, вам! Почему? В конверте была именно ваша статья про наш магазин. Мы немного посомневались, нам ли вообще адресованы эти деньги. Но кому, кроме нас, они должны были достаться? Ведь они предназначены для нашей арендной платы. Мы просто невероятно счастливы.
Вы непременно должны к нам как-нибудь прийти и отпраздновать с нами. Мы бы вам что-нибудь подарили, что-нибудь такое, что доставило бы вам радость.
Примите наши наилучшие пожелания!
Нина и вся команда Подарочного центра».
Я потом еще полчаса сидел, словно более или менее парализованный, и пытался осознать, что тут, собственно, разыгрывается и что это значит для меня. Я не мог разгадать это; может, хоть Клара Немец мне что-то объяснит.
Прежде чем отправиться, я написал Нине короткий ответный имейл:
«Привет, Нина, я чрезвычайно рад за вас всех! Я тоже лишился дара речи. Попраздновать я с удовольствием как-нибудь зайду.
Когда я слышу слово «праздновать», я не заставляю себя долго ждать. Сердечные приветы, Герольд Плассек.
P.S. Осталась ли еще у вас большая пивная кружка бежевого цвета? Не могли бы вы отложить ее для меня? Вот она бы меня сильно порадовала! Потому что у моего дедушки была похожая кружка».
Внезапно я стал феноменом
Я назначил Кларе Немец встречу в кафе на Оттакрингер-штрассе, где в юности частенько играл в бильярд против самого себя, вместо того чтобы идти в школу. Она встретила меня словами:
– Я – Клара, – и протянула мне руку.
– Привет, я Герольд, враги называют меня Гери, – ответил я.
После этого я заказал себе большой бокал белого разливного вина: не хотел перед Кларой выдавать свою слабость, что всегда пью только пиво.
– Благодетель явно вкладывается в тебя, – сказала она довольно скоро и очень спокойно, но ей что-то не удавалось быть расслабленной до конца.
Я подробно рассказал, как обстояли дела с пожертвованиями в «Дне за днем»: что все без исключения взносы ссылались на мои «Пестрые сообщения дня».
– Тогда у меня больше нет сомнений, что с самого начала имелся в виду лично ты. Спонсор ориентировался на твою работу, Герольд, на твою, и больше ни на чью. Это должно быть тебе ясно, это должно быть ясно нам всем.
– О’кей, – сказал я.
Тут я все же заказал себе пиво. Белое вино было слишком кислым и слишком едким для моего желудка, тем более в комбинации с такими новостями.
– Разве тебя это не радует?
– Почему это должно меня радовать? – спросил я. Кстати, именно так спросил бы и Мануэль, нет, точно нет, Мануэль спросил бы: «Почему же это должно меня не радовать?», но он имел бы в виду то же самое.
– Например, потому, что твоя рыночная стоимость как журналиста в силу этого чрезвычайно повышается; «Новое время» того и гляди не сможет позволить себе такого автора.
Она ухмыльнулась, чтобы показать мне, что тут присутствует и доля иронии, ведь она догадывалась, насколько второстепенной для меня была моя рыночная стоимость.
– Разве тебе не нужны деньги? – спросила она, неприлично разглядывая при этом мою серую шерстяную куртку.
– Нужны, но тайные взносы спонсора мне в принципе нравятся больше, – ответил я.
– Ты станешь знаменитым, – наседала она.
– Великолепно, – пробормотал я.
– Каждому захочется тебя знать. О тебе будут писать. Все захотят докопаться до спонсорского феномена Плассека.
– Нет здесь никакого феномена, я все что угодно, только не феномен, – сказал я.
– С таким мнением ты останешься в полном одиночестве, – предостерегла она.
После этого возникла маленькая пауза. Клара смерила меня странно испытующим взглядом сперва сверху вниз, потом снизу вверх, будто желая любой ценой прочитать на мне то, чего не было написано. Наконец она взяла себя в руки и спросила:
– Ну, и как широко мы можем об этом оповестить?
– О чем? – уточнил я на всякий случай.
– О тебе, – ответила она.
Я прикрыл глаза и пожелал себе в этот момент стать невидимкой. Но фокус не удался. Когда я снова открыл глаза, она смотрела на меня все с тем же воодушевлением.
– Это обязательно? – спросил я.
– Да, обязательно, если я не хочу потерять работу. А я лишусь ее сразу, как только в другой газете, а не в нашей будет объявлено, что Великий Спонсор откликается исключительно на заметки или статьи известного господина Плассека. Герольд, как только они узнают о новом пожертвовании, они непременно напишут об этом, причем все. Итак, нам придется объявиться первыми! Или ты предпочитаешь прочитать об этом сперва в «Дне за днем»?
Это был, разумеется, убойный аргумент.
– О’кей, и кто это сделает?
– Я, – сказала она.
– Только, пожалуйста, как можно сдержанней.
– Обещаю.
– О’кей, – согласился я, чтобы закрыть эту неприятную тему.
Но она все еще смотрела на меня с каким-то ожиданием.
– Что-то еще? – спросил я.
– Да. Нам нужна твоя биография, совсем крошечная. Ты можешь выдать мне в пяти фразах, кто ты есть, что ты делаешь и чего хочешь?
– Кто я есть и чего я хочу?
Я вздохнул. Как я должен был в пяти фразах выразить то, что мне не удалось разузнать за сорок три года? Но Клара была действительно приятная, правильная личность, и мне хотелось хотя бы постараться.
Кто может быть передо мной в долгу?
По дороге в бар Золтана я чувствовал, что окружающий меня мир уже приготовился круто измениться по отношению ко мне и начать ни с того ни с сего замечать мою персону. Навстречу мне ковылял мрачный бирюк с клюкой и тут же отвернулся, увидев меня, поскольку до сегодняшнего дня, к счастью, не было причин задерживаться на мне взглядом. Но завтра или послезавтра он, может быть, остановится, вытаращит глаза и скажет: «Господин Плассек, вы ли это? Мне ваше лицо знакомо из газет. Поздравляю! Великое дело с пожертвованиями! И дальше действуйте в том же духе! И вспомните как-нибудь и о нас, старых бирюках с клюкой!»
Но у Золтана все было еще по-старому, и хорошо бы так оставалось до скончания века. Вообще-то, мне хотелось отдохнуть от событий дня и не распространяться о них, но приятели быстро заметили, что присущая мне флегматичность куда-то подевалась, и стали допытываться, пока я не рассказал им про седьмой спонсорский взнос и про встречу с Кларой Немец.
– С ума сойти, – сказал Золтан, хозяин бара, и тут явно прозвучало на три слова больше, чем обычно слетало с его языка.
Уже одним этим можно было измерять масштаб значения последних событий.
– У тебя есть какие-нибудь догадки, кто бы это мог быть? – спросил Франтишек, бронзовщик.
У меня не было даже самых смутных догадок, но мне вдруг разом стало ясно, что это и есть тот самый вопрос, который возьмет в заложники мой мозг на ближайшие дни и недели.
– Ясно одно: это, должно быть, человек, который хорошо тебя знает, кто-то из круга знакомых, наверное, богатый друг, – предположил Йози, кондитер.
– У меня нет богатых друзей, – ответил я.
– В этом я ему верю, иначе бы он тут с нами не зависал, – заметил Франтишек.
– Но это может быть и человек, который тебя знает, а ты его не знаешь, – сказал Арик, преподаватель профтехучилища.
– А какой бы это имело смысл? – спросил я.
– Может, он хочет, чтобы ты разгадал, кто он есть, – выдал версию Йози.
– Это он мог бы получить и дешевле, – возразил я.
– Говорю же вам, он никогда не объявится. Если человек семь раз вносит пожертвования анонимно, то он и впредь захочет остаться неизвестным. Он просто не хочет, чтобы кто-то знал, что у него так много денег. Логично, поскольку это черные деньги, которые у него остались и от которых он теперь хочет избавиться, что я всегда и говорил. А поскольку у него есть социальная жилка, он жертвует на благотворительные цели, – сказал Хорст, держатель тотализатора.
– Что само по себе является хорошей моделью спасения мира, как говорится среди богатых людей, – довершил Арик.
– Правильно. Лучше ты их пожертвуешь, чем у тебя их отнимут. Именно так он и думает, этот тип, – утвердил Хорст.
– Да, но какая тут связь с Гери? – спросил Франтишек.
– Он ему чем-то обязан и расплачивается таким образом, – предположил Хорст.
Это казалось мне малоправдоподобным, я отродясь не способствовал тому, чтобы кто-то в моем окружении был мне чем-нибудь обязан.
– Или он боится, что Гери известно, откуда у него деньги. И, вовлекая Гери в эти дела с пожертвованиями, он практически перетягивает его на свою сторону, – сказал Йози.
– Теория супер, Йози! Гери, не становился ли ты, случайно, свидетелем ограбления банка, которое по сей день так и осталось нераскрытым? – спросил Арик, чтобы перевести разговор в шутку.
– Хоть так, хоть эдак, а с завтрашнего дня он звезда, если все СМИ оповестят об этом. И нас он скоро перестанет узнавать, – произнес Франтишек, подмигнув, разумеется, ведь он знал, что я всегда останусь прежним.
– Но сегодня-то он мог бы и проставиться на один круг, – подсказал Йози.
– На один-другой, – поправил его Хорст.
В принципе, для них важным было только это, но кто же сознается; таких честных людей днем с огнем не сыщешь.
Поздравления из Стокгольма и Могадишу
Спал я мало, да к тому же и плохо. Во сне я был как бы молекулярным исследователем, который отчаянно старался разложить бледное свечение на сто составных частей, чтобы проверить, нет ли в нем следов вещества, которое помогло бы выяснить, кто был анонимным спонсором. К сожалению, в каком бы направлении я ни думал, я в конечном счете топтался по одному и тому же кругу.
Я переключил свой мобильник на беззвучный режим, потому что мне постоянно кто-нибудь звонил. А я был настроен принимать звонки только от знакомых, чьи номера были записаны в памяти моего телефона. В ящике голосовой почты накопилось уже пять новых сообщений, которые я намеревался прослушать как-нибудь потом. Эсэмэсок было всего три, и я их быстро просмотрел.
Первая: «Дорогой Герольд, может, этот номер еще действует. Ты сейчас передо мной на экране крупным планом. Вау! Ты меня еще помнишь? Ликёнскнингар! Коринна. Сейчас живу в Стокгольме, и у меня три дочери…»
Разумеется, Коринну я вспомнил. Волосы соломенного цвета, и вообще-то было даже логично, что когда-нибудь она обоснуется на севере. Но я бы поставил скорее на Данию, а не на Швецию.
Вторая: «Папа, ты в газете во всю страницу!!! Я так горжусь тобой!!! Предвкушаю Кубу! Твоя Флори».
Тут уголки моих губ ринулись в разные стороны и вверх. Осторожнее, может порваться рот. Я просто не привык так широко улыбаться.
Третья: «Привет, Гери, я уже пыталась с тобой связаться. Читаю в Интернете огромные сообщения о тебе и о серии пожертвований. По-моему, это чудесно, я надеюсь, ты с этим разберешься. Мануэль мне уже все в деталях рассказал. Он счастлив и страшно гордится своим ХХХ. Все это просто чудесно! Давай поговорим по телефону! Привет из пламенно жаркого Могадишу, Алиса».
Тут я сделал короткую паузу для обдумывания и пару секунд тупо упивался радостью.
В конце концов я сел к компьютеру и попытался составить представление о том, что из меня успели сделать к этому времени СМИ. В почтовом ящике ждали дюжины две имейлов, большую часть из которых мне переслали из редакции «Нового времени». То были главным образом комплименты и поздравления от обычных читателей, которые имели какое-то отношение либо к Подарочному центру, либо к делу Махмута, либо к серии пожертвований в целом. Некоторые отправители прямо ставили вопрос, знаю ли я, кто был спонсором и когда тайна будет раскрыта для публики.
Было и одно сообщение, от которого во мне забрезжила надежда, что спонсор, может быть, объявится сам по себе и напишет мне напрямую, чтобы разрешить загадку. Но содержание было скорее загадочным и гласило: «Многоуважаемый господин Плассек, почему именно вы? Много ли давали вы сами? Достаточно ли вы давали сами? Подумайте об этом не спеша. И передавайте дальше. Ваш преданный читатель».
Некоторое время я колебался, не ответить ли на этот мейл сразу же. Однако ничего больше, чем «Кто вы?», мне так и не пришло в голову. И я счел более благоразумным поначалу вообще не реагировать. Если у этой персоны есть что сказать более конкретного, она еще даст о себе знать.
Поворотный диск в карусели пожертвований
К тому времени, когда Мануэль пришел из школы, я уже управился со своим онлайн-обзором прессы, что, однако, не прибавило мне знаний о себе самом и о моей связи со спонсором. К одной и той же моей физиономии, которая пялилась на меня из всех публикаций, надо было еще привыкнуть, чтобы не пугаться. То было архивное фото, изготовленное года два назад, когда редакции «Дня за днем» взбрело в голову предъявить публике всех своих сотрудников. Фото сильно напоминало те снимки для розыска, которые обычно сопровождались текстом: «Внимание, этот человек представляет большую опасность и не остановится перед тем, чтобы применить свое огнестрельное оружие». Или походило на условное изображение с таким текстом: «Число людей с психическими отклонениями драматично возрастает».
«День за днем» даже разместил это фото на первой странице: «Журналист нашей газеты Плассек оказался в центре сенсационной серии пожертвований». В следующем далее тексте я был не только «нашим многолетним надежным сотрудником», но и «поворотным диском в большой карусели пожертвований» и «ключом к решению загадки вокруг неповторимой по своему масштабу тайной благотворительной акции». Большинство других газет, к счастью, накладывали мазки не так густо. Некоторые цитировали «Новое время», упоминая при этом, что я внезапно уволился из «Дня за днем», потому что там не стали публиковать репортаж о планируемом выдворении из страны чеченской семьи Паевых.
Краткая информационная врезка обо мне, составленная в «Новой газете» Кларой, оказалась, к счастью, не позорной, хотя и слишком лестной для меня, так что мои щеки подозрительно налились чем-то горячим, когда я читал эти строки. Она описывала меня как «уравновешенного, незакрепощенного коллегу с внутренним стержнем и гражданской совестью, который никогда не выставляет себя на первый план, избавлен от журналистского тщеславия и выгодно отличается от многих коллег тем, что в нем отсутствует цеховое важничанье и жажда власти». Она приводила мои слова о том, что журналистика для меня была такой же работой, как любая другая, но при этом умалчивала, что мне не с чем было сравнивать, потому что я, вообще-то, не был знаком ни с какой другой работой и даже не хотел знакомиться.
А чем я объяснял себе мою явно ключевую роль в серии пожертвований? «Ничем не объяснял. Я по-прежнему думаю, что это чистая случайность, даже если эта вера, признаться честно, как раз сейчас подвергается испытанию», – цитировала она меня. Портрет завершался моей благодарностью спонсору.
«А вас, бесценный благодетель или бесценная благодетельница, я хотел бы попросить поддержать и проекты, которые представлены в «Новом времени» моими коллегами. Я надеюсь, что рука дающего да не оскудеет. И от имени всех, кто уже был вами одарен: просто большое спасибо!»
* * *
Именно об эти фразы споткнулся Мануэль, что, конечно, ничего не изменило в его эйфорическом состоянии, поскольку в школе он теперь поднялся с позиции Махмутова спасителя до статуса племянника всемирно знаменитого журналиста.
– Зачем ты говоришь, что благодетель должен поддержать и других твоих коллег? – спросил он.
– Потому что я нахожусь под огромным давлением.
– Каким еще давлением?
– Ну, все смотрят только на меня и на мои очерки.
– Но это же хорошо! – сказал он.
– Нет, это совсем не хорошо, тебе этого не понять, Мануэль.
– Тогда объясни мне.
Вот никогда нельзя заявлять, что «тебе этого не понять» – по крайней мере, Мануэлю.
– Практически все в моих руках: назначить следующего получателя очередных десяти тысяч евро – в случае, если они еще не иссякли.
– Но это же здорово, тогда ты можешь выбирать, кому бы хотелось пожелать денег больше всего; или кто этого больше всего заслуживает; или кто в этом больше всего нуждается, – заявил он.
– Но я не могу судить об этом, да я и не хочу судить, я вообще не хочу, чтобы мне приходилось выбирать. Я же не бог.
– Моя мама тоже не бог, а всего лишь врач, но ей приходится иногда выбирать, кому она должна помочь первому, и она помогает в первую очередь тем, кто, по ее мнению, в этом больше нуждается.
– А я не только не бог, но и не врач, – сказал я в последней риторической конвульсии.
Мануэль уже отправил меня в аут своими аргументами. Но он еще не управился с этим.
– Кроме того, твои очерки ценнее, чем все остальные, и ты можешь требовать за это больше денег.
Марксиста мне из него, пожалуй, не сделать – вот что пришло мне в голову.
– Деньги значат для меня не так много, – признался я, хотя и находил, что эта фраза звучала как-то по-дурацки.
– Если деньги значат для тебя не так много, но у тебя их много скопилось, раздай их, тогда ты и сам можешь стать благотворителем.
Это была одна из классических Мануэлевых мудростей, на которые оставалось лишь кивнуть с признанием его правоты.
– Но перед этим купи себе, пожалуйста, хотя бы новые штаны, новую куртку, новый джемпер и новую рубашку, – посоветовал он.
– Ты забыл упомянуть ботинки, – ответил я.
– И три пары новой обуви, – сказал он и засмеялся.
А я легонько ткнул его кулаком в плечо.
Это вовсе не было бесстыдно
Что касается моей ротовой полости, то в ней пока отсутствовало окончание хроники объявленного керамического моста слева внизу в глубине. Итак, это был самый последний назначенный прием у Ребекки Линсбах, и сверхзадача моего посещения была крайне честолюбивой, а именно: чтобы это не осталось самым последним назначенным приемом.
Обычно безрадостная ассистентка при моем появлении неожиданно преобразилась, приветливо заглянула мне в глаза и дала понять, что узнала меня:
– А-а-а-а, добрый день, господин Плассек, – при этом «Плассек» она произнесла приблизительно так, будто имела в виду Клуни, Дэймона, Питта или по меньшей мере Удо Линденберга.
И мне впервые перепал некоторый бонус неознаменитости, который был существенно пополнен, когда открылась створчатая дверь – и улыбка Ребекки Линсбах просияла мне навстречу. Мы с особым старанием пожали друг другу руки, при этом я задержал ее руку в своей секунды на три дольше, чем этого требовало положение пациента.
– Однажды утром вы проснулись знаменитым, – сказала она.
– Да, вот такие шутки иногда разыгрывает с нами жизнь, – ответил я и улыбнулся.
Она, правда, не знала, чему тут улыбаться, но из солидарности улыбнулась в ответ.
А ведь когда отулыбаешься, гарантированно наступит такая пауза, которая заставит нас перейти к делу, то есть к керамическому мостику, и может так случиться, что предпоследний шанс на форсирование будущей встречи окажется упущен. Поэтому я сразу начал с той ключевой фразы, в которой сам знал в деталях лишь вводные слова. И они гласили:
– Я надеюсь, не будет слишком бесстыдно, если я вас спрошу…
Я уже дошел до слова «спрошу», а она и так не внушила мне необходимого чувства, что это слишком бесстыдно, поэтому я продолжил свой вопрос:
– Я надеюсь, не будет слишком бесстыдно, если я вас спрошу, не сходить ли нам с вами как-нибудь, может, выпить кофе…
Я, конечно, мог бы также сказать:
– …если я вас спрошу, не могу ли я, может, пригласить вас на кофе.
Но вдруг бы она тогда подумала, что я от нее чего-то хочу; что я, так сказать, собрался под предлогом кофе что-то у нее вымогать, а ведь это было абсолютно не так. Или как минимум она ни в коем случае не должна была думать в этом направлении, а женщины склонны к тому, чтобы думать в этом направлении, это я знал. Однако самое тяжелое мне еще предстояло, а именно – обоснование.
– Я надеюсь, не будет слишком бесстыдно, если я спрошу у вас, не смогли бы вы как-нибудь пойти со мной выпить кофе. Потому что мне бы хотелось познакомиться с вами поближе.
Нет, разумеется, я этого не сказал. Из этого бы просто ничего не вышло, ведь для того, чтобы ответить мне согласием, она должна была хотеть познакомиться со мной поближе не меньше моего, а поверить в такое я, признаться честно, не мог. Итак, правда не пускала меня в этом направлении дальше, мне следовало действовать тактично, и я наконец сказал:
– Я надеюсь, не будет слишком бесстыдным, если я у вас спрошу, не могли бы вы пойти со мной как-нибудь выпить кофе. Потому что мне хотелось бы с вами немного поговорить. Есть некоторые вещи, по которым меня интересовало бы ваше мнение. Может, вы смогли бы мне дать тот или иной совет.
Да, я сказал это так. Надеюсь, прозвучало нейтрально – каким был и взгляд, который я за это снискал, а такие нейтральные взгляды всегда опасны. Потому что с ними обычно сочетались фразы типа «В ближайшее полугодие я, к сожалению, очень занята».
Но мне повезло. Нейтральный взгляд Ребекки перешел в улыбку, и она сказала:
– Да, давайте так и сделаем! Это было бы даже очень кстати. Потому что у меня тоже есть один… как бы это сказать, один вопрос к вам, совершенно не обязательный, не так чтобы я хотела вас как-то притеснить.
– Притесняйте на здоровье, по отношению к вам у меня нет боязни прикосновений, – ответил я в первом порыве восторга от ее сенсационного ответа, то есть крайне спонтанно. Не спонтанно я бы никогда не допустил, чтобы с моего языка сорвалось такое неуклюжее заигрывание.
– У меня тоже по отношению к вам нет… боязни прикосновений, – произнесла она.
У меня на секунду закружилась голова, но она указала, увы, на один из своих зубовно-пыточных инструментов, и только тут я понял ее посыл. Значит, у нее было чувство юмора, и даже черного, я бы даже сказал, кариесно-черного. Только я вознамерился украдкой пробраться к осторожному вопросу о времени нашей будущей встречи, как она сказала:
– У меня сегодня прием до восемнадцати часов. Тут поблизости есть приятное кафе «У Маргарет», если вы хотите…
– Сегодня? Сегодня мне очень даже подходит! Завтра было бы немного трудно, но сегодня в восемнадцать – это, собственно говоря, идеально, – сказал я.
– Прекрасно, тогда договорились, – ответила она.
Обычно после такого успеха на переполненных стадионах скользишь на коленях тридцать метров в направлении экстатически ликующей зоны фанов, но я раз в жизни остался трезвым и ответил:
– Да, договорились.
И мы смогли спокойно предаться делу. Я занял уже привычное мне место в стоматологическом кресле, закрыл – чуть ли не в блаженстве – глаза и думал о том, что наше первое свидание теперь может быть сорвано разве что тяжелой катастрофой – например, крушением керамического моста с контузией зубов мудрости под завалами. Но предотвратить эту катастрофу было, так сказать, в ее руках.
Пациент и джентльмен
Между пережитым посещением зубного врача и свиданием со стоматологиней мне оставалось как раз полтора часа, чтобы от роли пациента перейти к роли офицера и джентльмена, или хотя бы к субкультурному варианту этой роли, что делало необходимой паническую покупку джинсов, жилетки и ботинок. Деньги, как уже говорилось, значили для меня не так много, но все же я был благодарен, что в столь необычной ситуации мог прибегнуть не к Подарочному центру, а к модному магазину. Чтобы сэкономить время, я указал продавщице на первый попавшийся мужской манекен в витрине, одетый приемлемо по виду и по цене:
– Все как на этом, только моего размера – и без головного убора.
– Что ты задумал? – немного испуганно спросил меня Мануэль, когда я появился дома с большим пакетом, полным обновок.
– Я встречаюсь со стоматологиней – приватно, – сказал я.
– Ты шутишь.
– Нет, я серьезно.
– Она с тобой встречается? Почему? – удивился он.
Это было, во-первых, наглостью, во-вторых, я и в самом деле не имел желания объяснять ему межличностные отношения.
– Когда встретишься с ней, спроси, не хочет ли она пойти с тобой через две недели в субботу, ну, ты знаешь, – на нашу игру против «Union CS», – добавил он.
Это была, вообще-то, фантастически хорошая идея. Или, может, это была не такая уж хорошая идея.
– Вряд ли у нее бывает свободное время по субботам, она наверняка счастлива замужем и ухаживает за своим мужем – или он за ней, – сказал я.
– Ее муж тоже может пойти, ведь чем больше зрителей, тем лучше.
В данном случае я придерживался решительно другой точки зрения.
* * *
– Привет, я Герольд, враги называют меня Гери, – сказал я, чтобы перекрыть стук собственного сердца. Она ведь еще не знала этой прикольной шутки.
– Ребекка, я рада.
Она была такой волнующей, а сама казалась на зависть невзволнованной, и это делало ее еще более волнующей, а меня – еще более взволнованным. В принципе, это был заколдованный круг.
– Тебе не будет неприятно, если я закажу себе пиво? – спросил я вместо того, чтобы хоть раз попробовать обойтись без него, но не вышло.
– Нет, мне не будет неприятно, если ты сразу закажешь пиво и для меня, – ответила она.
Это был первый большой сюрприз.
Второй обнаружился после взрывных минут биографических разоблачений: Ребекка оказалась свободна, говорю по буквам: с, в, о, б, о, д, н, а. У нее было много близких друзей, среди них и мужчины, однако все ее длительные отношения на тот момент изжили себя – притом что никто не почувствовал себя всерьез брошенным.
– Ведь в таких вещах не заставишь себя, – сказала она.
– Да, насильно мил не будешь, – подтвердил я.
– А я еще и разборчива, чтобы не сказать придирчива в таких вещах.
Ясное дело, иначе бы она тут со мной не сидела, подбодрил я себя.
– Но биологические часы, разумеется, тикают, и моложе я не становлюсь, – заметила она.
– Моложе мы все не становимся, но к тебе, Ребекка, это относится меньше всего, – ответил я.
Она улыбнулась. Почему такие фразы не приходят мне в голову чаще?
К сожалению, она потом воспользовалась первой попавшейся паузой сентиментальной задумчивости, чтобы сменить тему и поймать меня на слове – на слове, которое я уже и забыл. Слово было «совет».
– Ты ведь хотел со мной посоветоваться. Итак, о чем речь? – спросила она.
Это застало меня врасплох, и какое-то время я заикался и что-то судорожно лепетал, так что она наверняка подумала, что речь идет о жизни и смерти, приблизительно в таком ключе: как быстро и без бюрократии добраться до трансплантации печени или до свежего легкого, ибо одной целиком обновленной челюстью тут не обойтись. Пока я не огорошил ее полной противоположностью. Я рассказал ей, что тайком от Мануэля купил себе велосипед и уже почти приступил к тренировкам – с той целью, чтобы пригласить моего мальчика на велосипедную прогулку. И тут мы и подошли к вопросу… то есть вопрос состоял в том… Ладно, неважно, ничего лучшего мне просто не пришло в голову:
– Куда бы нам поехать, я имею в виду, в какое место, я подумал, ты выглядишь так спортивно, что наверняка знаешь, где в Вене можно покататься на велосипеде, особенно в середине ноября.
Она была достаточно вежлива, чтобы сообщить, что, будучи родом из Зальцбурга, она не особенно хорошо ориентируется в Вене и что мне следовало бы просто проштудировать пару популярных экскурсионных брошюр, которые дюжинами лежат повсюду на видном месте.
– Ах, очень хорошая идея, спасибо, я так и сделаю! – сказал я.
После этого разговор без околичностей перешел к делу.
– Почему бы тебе не сказать, что ты его отец? – спросила она.
– Как-то до сих пор не подворачивалось подходящего случая, уж лучше я еще немного подожду, – мялся я.
– Подождешь чего? Что он сам догадается? Я бы не стала этим рисковать, это может многое разрушить, потому что у него тогда возникнет чувство, что ты от него прячешься, – сказала она.
– Он вообще не хочет знать, кто его отец, он мне сам признался.
– Ясно. Потому что он боится разочароваться.
– Верно. И я тоже боюсь, что он разочаруется, когда узнает, что это я.
– Вот этого как раз не будет, совсем наоборот, – заявила она.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что это сразу видно, когда видишь вас вместе и когда слышишь, как ты о нем говоришь. Вы подходите друг другу, вы представляете собой единство. Тут задействована большая симпатия. Ты для него важен.
– Мне радостно слышать это, – сказал я и был рад слышать, что она так обо мне говорит.
– И мальчик для тебя очень важен. Знаешь, почему? Он захватывает тебя в свое распоряжение, он будит твое дремлющее чувство ответственности, он тебя расшевеливает.
Признаться, до сих пор мне редко приходилось слышать в связи со мной слова «чувство ответственности», пусть даже дремлющее. Мне захотелось тут же взять ее за руку, которая лежала на столе и постукивала по нему пальцами. Но это был все-таки неподходящий момент. К счастью, я был из тех людей, которые практически всю свою жизнь могли прождать подходящего момента.
И я побыл могущественным человеком
Естественно, Ребекка тоже хотела знать, есть ли у меня какие-то предположения, кто так впечатляюще и публично вовлек меня в свою большую тайную миссию.
– Нет, понятия не имею, но я уверен, что меня эта персона не знает. А если и знает, она совсем не собиралась сделать мне доброе дело. Поскольку публичность вообще не мой конек, – сказал я.
– Но и для этой персоны публичность тоже не ее конек, так что вы опять же очень хорошо подходите друг другу, – ответила она.
Вообще-то, мне совсем не хотелось сейчас обсуждать с Ребеккой серию пожертвований, ведь эту тему мы могли приберечь для одной из наших – надеюсь, многочисленных – дальнейших встреч. Что интересовало меня больше всего, так это ее пока что не заданный «необязательный вопрос», в связи с которым она заявила, что не хочет меня притеснять.
Когда я наконец заговорил об этом, она откинулась назад и принялась рассказывать о своей подруге, стоматологине Норе, которая с девятью коллегами – мужчинами и женщинами – на общественных началах ведет необычайную практику: зубоврачебную помощь для социальных случаев, для бездомных и нуждающихся – в многофункциональном так называемом Ценерхаусе в Шляйфмюльгассе.
– Я тоже там работаю раз в неделю и хотела бы еще увеличить свою нагрузку, – сказала она.
Мне разом стало ясно, почему она с самого начала не испытывала по отношению ко мне боязни соприкосновения.
– Это хорошее дело, – сказал я.
– Да, несомненно, – ответила она.
Возникла пауза, во время которой она смотрела на меня так, будто я должен был сам до чего-то дойти, но я только смотрел, как она смотрит на меня, и это забирало всю мою концентрацию.
– Нам нужно оборудовать лечебный зал, мы должны все обустроить по последнему слову техники, например, нам срочно нужны новые лазерные приборы и другие вещи, – объяснила она.
– Ага, – произнес я. Постепенно до меня стало доходить.
– Но для этого у нас, к сожалению, нет денег.
– Я понимаю.
– И когда я рассказала Норе про тебя – ну, что я тебя знаю, что ты мой пациент, – Нора сказала, а не могу ли я просто спросить у тебя… потому что спросить-то можно, сказала Нора…
– Спросить-то можно всегда. Спрос не стоит денег, – заметил я.
Правда, это было не так, в наше время спросить стало стоить довольно дорого, достаточно вспомнить психотерапевтов, или архитекторов, или налоговых консультантов, но неважно, к нашему случаю это не подходило.
– Не мог бы ты в «Новом времени» при случае несколько строк…
– Ну разумеется, – сказал я.
Не так много бывает моментов, когда ты не знаешь, то ли дела твои идут катастрофически плохо, то ли фантастически хорошо, то ли тебе считать себя переоцененным, то ли недооцененным, то ли тебя уважают, то ли используют. Вот как раз такой момент я и переживал, и инстинктивно решил вести себя так, будто это была золотая середина.
– Ты хочешь сказать…
– Вообще-то, скорее Нора.
– Ты хочешь сказать, что Нора имеет в виду, что вам, может быть, кто-нибудь пожертвует десять тысяч евро, если я об этом напишу?
– Да, как я уже говорила, Нора…
– То есть сама ты в это не веришь?
– Верю, но, понимаешь, мне бы не пришла в голову мысль…
– Я понимаю, это была мысль Норы, но ты находишь ее хорошей.
– Естественно, – робко призналась она.
Видимо, я как следует вверг ее в смущение, и от этого уши у нее приобрели цвет этих крупных экзотических фруктов, которые можно купить в супермаркете, но их еще никто никогда не надкусывал – по крайней мере, никто из моих знакомых. Их называют то ли «каки», то ли еще как? Странно, что мысль про надкусывание пришла мне при виде ушей Ребекки.
– А если пожертвование не последует? Ведь вы с Норой будете сильно разочарованы? – спросил я.
– Нет, вовсе нет, вообще нет, я бы сочла очень крутым уже то, что про нас написали в газете: что мы есть, и что к нам можно прийти, и что мы никому не откажем, даже если у человека нет медицинской страховки.
– Разумеется, я это сделаю, – сказал я.
Теперь ее руки, постукивавшие пальцами по столу, разом вспрыгнули на мои ладони и принялись их тепло массировать. Это было наградой наперед.
Ситуация была необычной. Меня еще никто никогда не ценил за то, что было в моих руках – в моих свежепотисканных, согретых ладонях: написать нечто весомое для улучшения чьих-то жизненных обстоятельств. И я внезапно ощутил прилив малознакомого чувства собственной власти. И видя, какими глазами смотрит на меня Ребекка, я должен был себе признаться, что раньше даже не представлял себе, что значит побыть на мгновение могущественным человеком.
Глава 11
В «Стране сказок»
В следующие недели я написал для «Нового времени» три больших социальных репортажа, это было как минимум в два с половиной раза больше, чем я мог ожидать от себя в нормальных обстоятельствах, но ведь обстоятельства больше не были нормальными, и даже не намечалось никакого поворота в сторону нормальности. Что касалось моей мотивации, то я сам удивлялся, откуда она бралась – до тех пор, пока я с ней не обвыкся, получив при этом отнюдь не плохое ощущение. Видимо, для этого достаточно было того, чтобы некие важные для меня люди чего-то от меня ожидали. Не то чтобы ожидали, а желали этого себе, ибо ожидания я вполне мог не исполнить, пока они не ослабевали и пока наконец люди не переставали от меня чего-то ожидать – уж в этом я с годами и с опытом наловчился. Но отбить у кого-то его желание – это давалось мне тяжело, тем более что такие желания состояли отнюдь не из слов, на которые можно было бы аргументированно возразить, а часто лишь из одних взглядов, которые на меня бросали и которые мне даже не приходилось ловить, потому что они просто прилипали ко мне. Чемпионом мира по метанию прилипающих взглядов, насыщенных желанием, был Мануэль. Он только посмотрит на меня – и я уже знаю, чего он хочет, а главное – как сильно он этого хочет. Иногда это было так проникновенно, что его желание просто передавалось мне – и я уже не мог различить, то ли оно еще его, то ли уже мое собственное желание.
Например, он рассказал мне о «Стране сказок» – детском хосписе в Бургенланде, где семья его школьного друга Пауля провела одну неделю. У девятилетней сестры Пауля – Лилли – была операция по удалению опухоли мозга. И хотя семья не могла себе позволить пребывание в лечебном центре, а медицинская страховка, естественно, такие расходы не покрывала, потому что медицинская страховка в нашей больной системе сама нуждается в лечении, ну так вот, хотя у семьи и не было средств, их приняли в «Страну сказок», и это стало для Лилли самым лучшим отдыхом – в первую очередь из-за Эстреллы, которая питалась исключительно грушами, из-за чего оставалась сравнительно стройной и держала свой вес на уровне четырех центнеров. Эстрелла – это была лошадь. Для Лилли то был, видимо, последний отпуск, но она все равно была счастлива, и теперь Пауль снова мог лучше спать, рассказывал мне Мануэль.
Непосредственно после этих выкладок, которые и без того доконали меня, потому что мои нервы не выдерживают красивых историй с трагическим концом, Мануэль метнул в меня этот прилипчивый взгляд невысказанного желания. И уже на следующий день мы ехали на поезде, а потом на автобусе в самый дальний уголок Бургенланда, где люди, кстати, прекрасно обходились сидром и косились на тех, кто требовал себе пива.
Итак, мы поехали туда и делали репортаж, который больно вонзался нам под кожу. Я испытал немалое облегчение, когда Мануэль однажды по-настоящему разревелся и я мог на время укрыться в роли утешителя.
По большинству больных детей и их родителей было совсем незаметно, как много они уже претерпели и что им еще предстояло. Чуть ли не в идиллической «Стране сказок», в окружении покоя и тепла они могли удержать стрелки часов, заставить время ненадолго остановиться, чтобы подумать о хорошем и скопить силы для финишной прямой. Каждая минута здесь была бесценна, словно она представляла собой концентрат из нескольких лет дальнейшей жизни. Уже по одному этому можно было судить, насколько ниже себестоимости продается время нам, в нашей мельнице повседневности. Или мы сами расточительно разбрасываемся им и даже не осознаем этого. Да, я и сам был таким транжирой, а то и показательным его образцом.
«Левая рука» в отстойнике
В «Новую газету» между тем была нанята специальная секретарша для того, чтобы вести переписку по делам спонсорских пожертвований и координировать ее. Ежедневно приходили дюжины писем, звонков и имейлов от мелких организаций, которые занимались помощью, от индивидуальных помощников или от самих жертв бедности или неблагоприятных условий жизни, которые надеялись через газету попасть прямиком в объятия благодетеля. Большинство челобитных посланий были адресованы господину Герольду Плассеку лично. Секретарша, а ее звали Ангелина – я бы не рискнул в Австрии называть ребенка Ангелиной, тем более с фамилией Шрек, но ее родители, видать, что-то при этом замышляли, – эта Ангелина была занята мной уже больше, чем я сам. То и дело появлялись новые слухи, кто был тем спонсором, где он – или она – был замечен и за каким свежим благодеянием был застигнут. В редакции царила атмосфера места преступления – разумеется, с позитивной, антикриминальной энергией. Уже в который раз – и это было примечательным феноменом – находились любители вскочить на подножку и попутно проехаться на чужой славе, подражая анонимному спонсору и раздавая денежные подарки – правда, уже не так щедро и не так тайно, да и они хотели быть упомянутыми по имени, но тем не менее.
Зайберниг рассказал мне по телефону о «Левой руке» – все более распространяющейся гражданской инициативе молодых людей, которые организовались в интернет-сетях и в свободное время безвозмездно помогали профессиональным работникам благотворительных организаций, занятых «детьми улицы». Они внедрялись в среду мелких дилеров, наркоманов и проституток, пытались разговорами втереться к ним в доверие и ненавязчиво вывести их из трясин и безвыходных тупиков – на еще не хоженную тропу, где однажды для них откроется, быть может, новый горизонт.
Меня не пришлось долго уговаривать на репортаж, посвященный «Левой руке». Мне стоило только подумать о Флорентине и представить себе Майка, эту белену из семейства пасленовых, этот дурман, растущий у нее под боком.
Во время предварительной разведки в пригороде – а этой разведке я как-никак принес в жертву полдня и три вечера – я имел то преимущество, что по внешнему виду был абсолютно вне подозрений: стритвокеры причисляли меня, скорее, к своим клиентам, а испорченные подростки принимали за своего, леворукого, поскольку моя левая рука не расставалась с пивной банкой. Я хотел ошиваться там предельно аутентично. Кроме того, теоретически мне представлялся шанс переориентировать одного из здешних мутных типов с героина на ячменный сок, то есть в ходе разведки я был готов к щедрому спонсорству и угощению. Некоторые сразу же привязывались ко мне настолько, что к ночи потащились бы за мной и в пивную. Но я не мог устроить Золтану такую подлость, чтобы заявиться в его бар с тридцатью потерпевшими крушение приверженцами наркоты, которые переживали одновременно пять реальностей, но только не свою настоящую реальность, от которой они отпихивались руками и ногами, отпивались, отнюхивались и откалывались – от глагола «колоться».
Мануэлю в такой обстановке, на мой взгляд, вообще нечего было делать. Но он, к сожалению, был противоположного мнения и горячо настаивал на том, чтобы сопровождать меня в этой разведке. Мы сошлись на том, что ему можно будет присутствовать один час, чтобы немного присмотреться к действиям социальных работников. Заодно он мог составить себе представление о том, как выглядели при свете дня подростки, зачастую лишь на пару лет старше его, если однажды попали в дурную компанию и ничего не смогли противопоставить спиральному скольжению вниз или не имели никого, кто бы их вовремя тормознул и дал им пинка в обратную сторону. Чем глубже они оказывались внизу, тем тяжелее им было когда-либо выкарабкаться наверх, так что от них часто ускользала даже последняя «Левая рука», которую пытались им протянуть. Об этом нам рассказывали социальные работники. И было ошибкой думать, что эти дети происходят из какого-то другого мира, а не из того же, в котором вращались Флорентина и Мануэль, защищенные со всех сторон.
Ценерхаус с бесплатным приложением
Следующая разведка была для меня в некотором роде сугубо сердечным делом, только мне приходилось это скрывать. Да и стоматологический кабинет для социально нуждающихся в Ценерхаусе, скажем прямо, служил не самым безупречным фоном для сердечного дела. Нас было трое, потому что Мануэль наперед отказался от осмотра места происшествия. Я сам себе временами казался беспомощным новичком, который угодил в лапы двух маклерш по недвижимости, опьяненных рабочим энтузиазмом. Весьма симпатичная Нора с остриженными под машинку висками, немного напоминавшая мне Бетти Герёлльхаймер из мультфильма про семейство Фойерштейн, впаривала мне один за другим каталоги зуботехнических приборов, когда мы осматривали скупо обставленные помещения. Ребекка больше концентрировалась на статистических основах работы на общественных началах и объясняла мне, какой маргинальной группе свойственно какое разрушение зубов, а Нора тут же для иллюстрации подсовывала нам изображение подходящего инструмента для борьбы с этим недугом. Указанным прибором срочно нужно было обзавестись.
Любезное предложение поприсутствовать при тяжелом случае я вежливо отклонил. Мой собственный опыт помнился мне еще достаточно остро. И от бесед с пациентами в комнате ожидания тоже лучше бы мне было отказаться.
– Сильные боли? – спрашивал я у этакого горного духа Рюбецаля с удвоенным размером щек.
Этот вопрос был из самых дурацких, когда-либо заданных на интервью. Он кивнул. Весь разговор уже этим был исчерпан в принципе.
– Не беспокойтесь, у них золотые руки. Мне выдернули оба ряда и вставили новые, ничуть не больно было, – соврал я.
Он кивнул.
– Через полчаса все будет позади, – добавил я.
Он еще раз поднял на меня взгляд, лицо его было перекошено от боли.
– А может, и через четверть часа, – пообещал я.
Он кивнул.
* * *
С тем неотразимым аргументом, что мне нужно задать еще пару дополнительных вопросов, мне удалось склонить Ребекку к завершающей «минеральной воде без газа» в ближайшем кафе. Нора бы тоже с удовольствием пошла, а может, и нет, это трудно было перепроверить, но она была связана своей посменной работой. Я старался произвести на нее впечатление, что я хороший, солидный, компетентный и серьезный человек. Мнения близких подруг и коллег избранницы играют в вопросах любви бесконечно важную роль, об этом я мог бы спеть даже несколько печальных песен. Подруги моих реальных или желанных возлюбленных редко меня терпели и никогда не могли чистосердечно рекомендовать меня, я слыл среди них человеком из плохого окружения или мужчиной без перспектив, что я находил особенно нечестным, потому что даже бесперспективность всегда являлась вопросом перспективы. Но на сей раз мне было однозначно легче, перспектива была вроде бы налицо, и в благосклонность Норы я стартовал с довольно высокой точки.
– Даже не знаю, как мне тебя благодарить, если ты сделаешь статью о нашем проекте, – сказала Ребекка.
Зато я знаю, подумал я.
– Зато я знаю, – все же рискнул я произнести вслух. – Ты доставила бы Мануэлю огромную радость – и мне, конечно, тоже, – если бы в следующую субботу, то есть не в ближайшую, а следующую после нее… – Фраза вышла у меня из управления, и я попробовал с полдороги выстроить ее по-другому: – Не будет ли у тебя во второй половине дня в следующую субботу времени и желания сходить на баскетбольный матч Мануэля, то есть пойти туда со мной? «Торпедо-15» против «Union CS». Это финал осеннего чемпионата, и Мануэль, как я уже сказал, был бы страшно рад, Мануэль и Махмут, ну, ты знаешь, маленький Махмут из газеты, и… ну и я, разумеется…
– На вечер следующей субботы у меня, к сожалению, договоренность, – ответила она.
Это было неприятно, и к тому же ее ответ промахнулся, на волосок не попав в суть вопроса.
– Игра начнется в пятнадцать часов и продлится вряд ли дольше двух часов, то есть в пять ты была бы уже, так сказать, на свободе, – сказал я очень сухо.
– С пятнадцати до семнадцати, и потом… это… да, это хорошо, это… чудесно, – ответила она, причем на слове «чудесно» она подвергла уголки своих губ опасности растяжения.
– Значит, ты пойдешь?
– Да, пойду, с удовольствием, и мы вместе подбодрим Мануэля и Махмута. Спасибо за любезное приглашение, – сказала она немного сдержаннее.
– И может, даже хорошо настроишься для твоей вечерней… договоренности, – сказал я, старательно придерживаясь братского тона. Она смущенно улыбнулась, и ее щеки, к сожалению, опять приобрели тот каки-оранжевый окрас. – Это что-то серьезное? – спросил я, движимый явно заразительным соблазном поковыряться в чувствительном нерве.
– Ах, серьезное, ну какое уж там серьезное? – ответила она, пожав плечами.
Значит, что-то серьезное. Ясное дело. Черт!
С мыслью о Ребекке
Репортаж про «Страну сказок» писался будто сам собой, а если я на чем-то стопорился, у Мануэля всегда находилось под рукой подходящее ключевое слово. На истории про «Левую руку» у меня временами кончались силы, поскольку накануне вечером я слишком поздно лег спать, но Петер Зайберниг в конечном итоге был доволен результатом, значит, мне это худо-бедно удалось.
Больше всего я мучился над описанием социальной стоматологической службы на общественных началах. Во-первых, тематически меня уже доконали разрушенные зубы. Во-вторых, между строк, а то и внутри строки мне часто вспоминалась Ребекка – как она пожимала плечами и говорила: «Ну что уж там серьезного?», и тут буквы расплывались у меня перед глазами. Поскольку я вдруг чувствовал доселе совершенно не знакомую мне склонность к мелодраматизму: ведь это было просто подло, что какой-то там ничтожный, бесхарактерный тип мешает мне выстроить отношения. Мужик наверняка настроен только на эротику, постоянно нацелен для своих свиданий на субботние вечера, чтобы обслужиться как следует, а днем в воскресенье перестелить постель свежим бельем и выкинуть лиловую зубную щетку своей очередной жертвы, а среди них бывают и хорошенькие, безгранично доверчивые дантистки. Да, в следующую субботу то же самое будет и с Ребеккой, и, к сожалению, не мне было суждено предостерегать ее и показывать логическую альтернативу. Я еще никогда в жизни не был по-настоящему ревнив, но тут заметил, что для этого никогда не бывает поздно, а в случае Ребекки даже не требует особых усилий.
О’кей, наряду с зубовным отвращением и смятением чувств была у этого социально-стоматологического репортажа еще одна проблема: анонимное денежное пожертвование. Никогда прежде я не спекулировал на этом. Но на сей раз поймал себя на том, что прямо-таки стараюсь подманить его, что приводило к омерзительным, похожим на пластиковые цветы формулировкам типа: «сострадательные врачи», «их добрые сердца» или «их жертвенное служение доброму делу». Время от времени у меня пальцы сводило от страха: а вдруг спонсорскую помощь получит совсем другой из трех представленных проектов, а вовсе не зубной кабинет Норы, Ребекки и Ко. И Ребекка отреагирует на это лаконичным и вымученным:
– Все равно спасибо за усилия, и привет от Норы.
– А как насчет нашей следующей встречи? – заикнусь я еще раз.
– Запись, пожалуйста, по телефону в приемные часы. Мне очень жаль, Герольд.
Нет, так:
– Мне очень жаль, Гери, но я не могу делать для тебя исключение.
Да, это были бы последние слова Ребекки. И поэтому я с отвратительным чувством уже в третий раз взялся переделывать репортаж под благотворителя.
Дар от Энгельбрехтов
Репортажи вышли один за другим в трех номерах «Нового времени»: в понедельник – «Ценерхаус», во вторник – «Страна сказок», в среду – «Левая рука».
После этого мне на короткое время стало получше. В среду я проснулся довольно рано, взял из подвала велосипед и поехал в Вильгельминенберг, расположенный на высоте почти четырехсот метров, но поехал не на самом велосипеде, а на автобусе, я ведь не собирался добиваться титула «горного козла» среди профессиональных велогонщиков. Но наверху я действительно сел в седло и катился вниз вдоль всей Йоханн-Штаудштрассе, это было тяжело, ведь то и дело приходилось резко тормозить на поворотах, чтобы не угодить в Дунай. Дома я высоко расположил свои натруженные кости и попытался не думать вообще ни о чем. Про меня, к сожалению, все забыли, Мануэль не появлялся из-за школьной экскурсии. Вечером я ненадолго нырнул в бар Золтана, потом снова вынырнул и в конце концов полностью ушел на дно.
В четверг – Мануэль где-то пропадал с друзьями после тренировки, а мне его теперь изрядно не хватало – я окопался дома, газет не читал, новостей не слушал, никакие гаджеты не включал, был недоступен, а после первых снежных хлопьев сезона, которые заплясали перед уличным фонарем, был считай что совсем отрезан от внешнего мира.
* * *
В пятницу я временами был недоступен даже себе самому. Я клялся больше никогда не отдавать в печать ни одного очерка социальной направленности, подписанного моим именем и спонсируемого десятью тысячами евро. Достижение было мучителем моего образа мыслей, давление – страшным врагом души. А уж если они объединялись в одно давление результативности, я переставал быть человеком и больше не мог выносить сам себя, так было со мной еще в школе. Последняя бутылка шнапса была, к сожалению, давно полупуста – нет, не полна наполовину, но однозначно полупуста. А ведь обычно я был скорее оптимистом, и уж при наличии спиртного – тут вообще могло дойти до самых розовых оттенков приукрашенной действительности. Но вот на сей раз ничто не удержало меня от того, чтобы по-настоящему мрачно глянуть в современность, в будущее, а поверх них – якобы свысока – в Ничто.
* * *
Из агонии меня вырвало в какой-то момент карканье дверного звонка. У Мануэля был свой ключ, но он его, видимо, забыл или потерял. Ни на кого другого я в принципе не мог подумать.
– Добрый день, дорогой сосед, я не хотела бы вам помешать, – сказала госпожа Энгельбрехт.
Господин Энгельбрехт стоял рядом с ней плечом к плечу и делал вид, что он тоже не хотел бы мне помешать. Из всех людей, на которых я в принципе не мог подумать, старые Энгельбрехты, живущие у меня за стеной, были теми, на кого я не мог подумать вообще никогда.
«Что я могу для вас сделать?» – хотел спросить я, но не смог. Энгельбрехты много раз писали на меня заявления за шум – только из-за того, что я спотыкался на лестнице, ну и, может быть, потом не совсем красиво комментировал это: должно быть, и не очень тихо.
– Да, слушаю вас? – сказал я.
Вид у обоих был какой-то просветленный, как у поздно призванных христиан, которые стали свидетелями явления Девы Марии.
– Господин Плассек, я только что услышала в новостях, и вот я подумала, я и мой муж, мы теперь должны высказать, мы должны сказать то, что уже давно думаем, а именно, как сильно мы восхищены и как счастливы и как горды, что мы с вами дверь в дверь…
– Что вы услышали в новостях? – перебил я.
– О новых пожертвованиях, – сказала она.
Она сказала во множественном числе: «пожертвованиях».
– Два новых пожертвования? – не поверил я.
– Три новых пожертвования, тридцать тысяч евро в общей сложности, не так ли, Оскар? В новостях об этом было много, и они шли первой строкой, еще раньше, чем про диверсию в Сирии, и вы, господин Плассек, вас опять называли по имени, с большой похвалой отзывались о ваших очерках, которые снова привели к спонсорским взносам, – поделилась она.
– О каких очерках? – уточнил я.
Теперь, разумеется, мне надо было знать это точно.
– Про больных детей в Бургенланде, про наркоманов на улице и… подскажи, что третье, Оскар?
– Может, про стоматологов? – спросил я.
– Да, верно, то были добровольные зубные врачи, – ответила госпожа Энгельбрехт.
– Очень хорошо, я рад, – улыбнулся я.
Они, естественно, не могли догадываться, как сильно и за кого конкретно.
– И теперь мы хотели вам просто…
– Это очень мило с вашей стороны, большое спасибо, – сказал я, немного забегая вперед. Во всяком случае, этим я их простил. Они вдруг показались мне восхитительными, они так трогательно жались друг к другу и были такими нетипично добрососедскими. А когда они писали на меня жалобы, они ведь не могли знать, что однажды я буду упомянут по радио в мировых новостях, да еще и с похвалой, и окажется, что местная, так сказать, знаменитость живет непосредственно рядом с ними – и это в самом обыкновеннейшем венском коммунальном доме, где друг друга взаимно характеризуют лишь по соблюдению общего порядка.
– И вот мы хотели вам… в качестве маленького знака, раз уж мы живем дверь в дверь…
Господин Энгельбрехт достал из кармана коробочку и протянул мне. Коробочка выглядела подозрительно похожей на конфеты «Моцарт», но когда я присмотрелся, там оказались пять золотых монет – так сказать, золотых дукатов.
– Они у нас уже почти пятьдесят лет, мы их берегли для особого случая, никогда не знали, кому они в конце концов достанутся. Мы, к сожалению, остались бездетными, потому и без внуков. Но теперь мы это знаем. В ваших руках им самое лучшее место.
– Нет, я не могу это принять, – отказался я.
– Примите, вы должны принять. Это наше пожертвование, наш маленький благотворительный взнос, – сказала она.
– У нас нет десяти тысяч евро, но у нас есть эти монеты. У вас они будут в надежных руках. Может, вы найдете им лучшее применение, с вашими-то статьями, – сказал он.
И хотя я точно не был волшебником, умеющим размножать золотые монеты, и мессией я тоже не был, но если это вселяло в них хорошее чувство, я не хотел быть мелочным и в конце концов принял подарок. После этого мы долго трясли друг другу руки, причем госпожа Энгельбрехт не преминула прижать меня к своему бюсту. Пока дело не дошло до выпивки на брудершафт, я сказал:
– Большое спасибо, я дам вам знать, кому достанется ваш благотворительный взнос, но теперь я снова должен…
То есть мне вдруг понадобилось довольно спешно продумать всю ситуацию заново. И я насилу мог дождаться, когда же наконец явится Мануэль, чтобы рассказать ему хорошие новости.
Мужчина минуты
Самым первым делом я включил телефон. Сорок два пропущенных вызова – столько звонков я обычно получаю за год. Большинство звонивших зашли и в мою голосовую почту. Клара Немец поздравляла меня, сказала, что я в одиночку пробудил «Новое время» ото сна, словно спящую царевну, и что теперь я могу рассчитывать на хорошие гонорары. Секретарша Ангелина поздравляла меня и передавала, что каждые несколько минут кто-нибудь звонит с поздравлениями, и что она раз в час будет пересылать мне накопившуюся почту, и что ей поступают дюжины вопросов ко мне, да она и сама хотела бы спросить, как ей вести себя в ответ на звонки и не сможем ли мы это как-нибудь обсудить.
Моя мама поздравляла меня, и ее при этом душили слезы. Она сказала, что соседки, которые тоже шлют мне свои поздравления, всегда приносят ей газеты с моими статьями, что она так гордится мной, и что ей очень жаль, что папа не дожил до этого дня, и что я должен следить за тем, чтобы не перерабатывать. Вот за этим я готов был последить.
Флорентина поздравляла меня и, пользуясь случаем, сообщала, что дома ей долго не выдержать. Гудрун поздравляла и сообщала, что меня поздравляет также и Бертольд, она приглашала меня на семейный ужин и просила как-нибудь все-таки поговорить с Флорентиной, потому что она в последнее время совсем отбилась от рук.
Несколько незнакомых мне людей, которых я, в знак протеста, поздравил бы с тем, что они раздобыли мой номер телефона, поздравляли меня и говорили, что я должен и впредь непременно работать в том же направлении, как до сих пор, и что нашей стране давно уже требовался хороший сдвиг в сторону милосердия и солидарности со слабыми.
Тетя Юлия поздравляла меня и передавала, что Алиса тоже поздравляет меня, и выражала радость, что в субботу мы увидимся на баскетбольном матче.
Несколько журналистов, которых я не знал, и несколько которых знал, а также парочка тех, кого я знать не хотел, поздравляли меня и просили перезвонить, чтобы договориться о встрече для давно назревшего эксклюзивного интервью или ток-шоу. Кроме того, я должен был выдать им наконец тайну, кто же был благотворителем, – разумеется, под гарантию секретности. И какая-то журналистка из популярного немецкого журнала для женщин Биргит поздравляла меня и выдавала потрясающий сюрприз, а именно, что она намеревается выдвинуть меня в своей редакции на звание «Мужчина года». Тут мне предстоял настоящий квантовый скачок, ведь до сих пор мне приходилось довольствоваться только тем, что для немногих важных в моей жизни единичных персон я мог стать лишь Мужчиной минуты, но даже и такие минуты я довольно часто упускал. Далее Биргит грозила мне, что приедет в Вену и устроит со мной домашнюю фотосессию. Это было самое абсурдное предложение, какое только можно было сделать. Во-первых из-за состояния, в каком находился мой мини-лофт, во-вторых, при слове «Homestory» у меня непроизвольно возникала ассоциация с «Замочной скважиной». Так называлась книжица про секс из моего детства, которую мы стыдливо передавали друг другу под партами, чтобы через нее приобщиться к чему-то запретному. Но, может быть, я ей все-таки перезвоню и соглашусь – при условии, что Биргит предварительно пришлет ко мне домой уборочную команду плюс команду по вывозу громоздкого хлама.
Одно из последних голосовых сообщений пришло от Ребекки. Я бы его слушал и слушал снова и снова, уже из-за одного того, что в нем присутствовало радостное волнение; у нее чуть не пресекался голос, что на слух было очень привлекательно, притом что, если честно признаться, в Ребекке вообще не было ничего, что я не находил бы привлекательным. Итак, ее голосовое сообщение я прослушал бы несколько раз подряд, но для этого мне пришлось бы заново проходить через все предыдущие сообщения, включая предложение с Homestory, а таким обширным досугом я не располагал. Ребекка среди прочего сказала: «Я так счастлива, я готова обнять весь мир».
Не лучше ли было бы вместо всего мира обнять меня, подумал я. Может быть, предложить ей это в субботу? Ведь в настоящий момент это было самое настойчивое мое желание – быть для Ребекки человеком особой важности, а для начала хотя бы Мужчиной минуты.
Два крайне подозрительных имейла
Вместо Ребекки и, опять же, вместо всего мира я обнял Мануэля, хотя ему – как четырнадцатилетнему – это было немножко неприятно, но тут уж ничем не поможешь.
Я рассказал ему про золотые дукаты Энгельбрехтов и про три новых анонимных благотворительных взноса, о которых он, естественно, был информирован уже лучше меня самого, ведь он был, в отличие от меня, человеком медийным, а в его школе пожертвования тоже были темой номер один, не в последнюю очередь из-за Пауля и денежного взноса для «Страны сказок». Я уже пользовался в его классе славой народного героя, кем-то вроде Че Гевары из Зиммеринга – к счастью, без фото и поэтому без портретов, отпечатанных на майках. Майки держались наготове для анонимного благодетеля.
– Кстати, ты еще не выяснил, кто это может быть? – спросил Мануэль.
– Нет.
– Какая-нибудь идея на этот счет есть?
– Нет.
– А подозрение?
– Нет.
– А предположение?
– Нет.
– Совсем никакой догадки?
– Никакой.
– Ты уже просматривал свои имейлы?
– Нет, а что?
– Может, он или она тебе написали.
– Для чего бы это ему? Или ей?
– Все время оставаться в тайне – это надоест, мне так представляется. Может, он или она хочет, чтобы ты догадался, кто он или она. Только ты и больше никто.
Это была типичная мысль Мануэля, то есть умная. И поэтому мы сговорились с ним на обмен: я не ропща пишу за него домашнее сочинение под названием «Домашняя работа делится поровну», эта тема была прямо-таки для меня. А он за это занялся моим почтовым ящиком в Интернете: сортировал запросы, отвечал на поздравления и отлавливал возможные скрытые сигналы и послания, которые содержали бы указание на благодетеля.
Когда мы управились с этим – я, кстати, вдвое быстрее, – он предъявил мне два подозрительных имейла. Первый был странно сформулированной просьбой об интервью для газеты-афиши «Люди сегодня» с таким текстом:
«Многоуважаемый господин Плассек, я хотел бы побеседовать с вами с глазу на глаз об анонимном «благодетеле». Если вы не захотите, воля ваша, это совсем не обязательно. Как бы то ни было, мы считаем, что было бы честно предоставить слово и вам. Само собой разумеется, наш разговор будет конфиденциальным, и состояться он должен самое позднее до понедельника. Касательно времени и места встречи выбор предоставляю вам, я подстроюсь. С дружеским приветом, Томас Либкнехт».
– Звучит так, будто он что-то знает, – сказал Мануэль.
– Или делает вид и хочет выпытать это у меня.
– Он поставил благодетеля в кавычки. Это выглядит странно. А то, что предоставить тебе слово он хочет только ради приличия, – вот это мне совсем не нравится.
Я напомнил Мануэлю, что «Люди сегодня» вовлечены в судебный процесс за клевету на собственников концерна PLUS и что из этого угла не приходится ждать ничего хорошего.
– Я его просто проигнорирую, – заключил я.
– А я бы на твоем месте встретился с ним, может, он и впрямь что-то знает, но, впрочем, как хочешь… – ответил Мануэль.
Второе подозрительное письмо было, на мой взгляд, куда более интригующим. Оно было анонимным и пришло с того же адреса, откуда я уже пару недель тому назад получил зашифрованное сообщение. Текст был такой:
«Многоуважаемый господин Плассек, почему именно вы? Было ли у вас время на то, чтобы погрузиться в себя поразмышлять об этом? Каково это – чувствовать себя переносчиком добра, посланником любви к ближнему, когда в твоих руках вдруг оказываются средства для этого. Должно быть, это чудесное чувство, так мне представляется. Я надеюсь, оно доставляет вам радость. Ваш преданный читатель.
P.S. А что, интересно, говорит по этому поводу ваша мама?»
Признаться честно, это послание взволновало, особенно фраза из постскриптума, у меня даже засосало под ложечкой.
– Знаешь, о чем я сейчас думаю?
– Ну, приблизительно, – сказал Мануэль.
– Что хотя пожертвования и не имеют ко мне никакого отношения, но зато, может быть…
– Имеют отношение к твоей матери? – предположил он.
– Да, это я могу себе представить. Потому что она действительно хороший человек и всем всегда искренне помогала.
– Может, он ее знает, – предположил Мануэль.
– Кто – тот, кто написал имейл, или спонсор?
– Может, один из двоих, или оба, или один и тот же, – ответил он.
И хотя это было для меня чуть-чуть заумно, но он, наверное, имел в виду, что автор имейла в самом деле мог быть дарителем и что он был связан с моей матерью. Как бы то ни было, мы тут же сформулировали ответный имейл и отправили ему:
«Многоуважаемый «преданный читатель», нет, я не знаю, отчего именно мне выпало быть посыльным этого щедрого дарителя и хорошего человека. Может, вы могли бы дать мне какую-то зацепку? Какое-нибудь ключевое слово, подсказку? И еще один вопрос: знакомы ли вы с моей матерью? Могу ли я что-то передать ей? Может быть, это было бы для нее радостью. Сердечный привет, Герольд Плассек».
* * *
– Знаешь, о чем я несколько раз задумывался? – спросил меня Мануэль чуть позже.
– Нет, – сознался я.
К сожалению, у меня не было дара читать чужие мысли.
– Только не смейся надо мной, – сказал он.
– С какой бы стати я смеялся, – слукавил я.
– Я тут подумал: если пожертвования не имели отношения к тебе, то, может быть… – Он сделал особенно длинную паузу, но до меня просто не доходило. – То, может быть, ко мне, то есть, собственно, к моей маме.
– Интересно, – сказал я, и мне и впрямь было интересно.
– Да, мне легко представить это. Потому что моя мама действительно очень хороший человек и уже многим помогла.
– Это точно.
– И пожертвования пошли с тех пор, как мы с тобой познакомились, то есть с тех пор, как я пришел к тебе в кабинет, именно тогда это и началось.
– Вообще-то верно, Мануэль, именно тогда все и началось, – осознал я.
Глава 12
Шоу-приложение на спортивной арене
Я был из тех людей, кто имел довольно ограниченное представление о вещах, с которыми предстояло столкнуться. Зачастую настолько ограниченное, что я даже не задумывался, чем это может быть чревато. И зря не задумывался, как оказалось во второй половине дня в субботу. Мне-то представлялось, что я буду зрителем на юношеском баскетбольном матче, в котором играл «мой» Мануэль, а рядом со мной, возможно, будет сидеть Ребекка. И еще я представлял, что команда Мануэля «Торпедо-15» забросит в кольцо мяч, решающий исход игры, и мы с Ребеккой вскочим на ноги и будем ликовать, а в ходе ликования бросимся в объятия друг другу – и я внезапно стану Мужчиной минуты. Но это, честно признаться, было скорее фантазией, чем реальной возможностью.
Но мне бы никогда не пришло в голову представлять себе, что история повернется так, будто я – это не я, а, скажем, Элвис Пресли, оживший из музея восковых фигур мадам Тюссо и в полном прикиде явившийся на трибуны центрального спортзала Оттакринга – правда, без сопровождения из пятидесяти быкоподобных телохранителей, вооруженных «калашниковыми», а всего лишь в окружении двух женщин – тренерши по фитнесу и стоматологини. Что я хочу этим сказать: практически все присутствовавшие там узнали меня, к тому же все разом от меня требовали автографов, хотели сфотографировать или сфотографироваться со мной, в то время как я давал им автографы, хотели поговорить со мной о серии пожертвований, хотели со мной сфотографироваться в тот момент, когда я давал им автографы и говорил с ними о серии пожертвований. И так далее. А в буфете к тому же было только безалкогольное пиво – эти спортсмены и любители спорта всегда промахивались выше цели.
Наконец, дело пошло к свистку, возвещающему начало игры, шум и оживление стихли, и я – в принципе уже полностью измотанный – мог опуститься на свое место. Между мной, Ребеккой и моей фантазией вклинилась, впрочем, еще и тетя Юлия. А на краю площадки теперь не терпелось поважничать и покрасоваться с микрофоном то ли референту по юношескому спорту, то ли даже президенту.
– Позвольте мне по столь особенному поводу сказать несколько вводных слов, – сказал он.
Потом он рассказал о Махмуте Паеве, о том, что как настоящее маленькое чудо можно расценивать то, что он сегодня будет участвовать в матче, что процесс легализации семьи в качестве беженцев начат сначала и есть хорошие шансы, что Паевы станут настоящими австрийцами; и что в сегодняшней игре не будет проигравших, потому что победила человечность – и все благодаря четырем персонам: добросердечной супружеской паре, которая приютила семью, щедрому спонсору, который предоставил в распоряжение Паевых средства, и – «last but not least…»[2]. «О нет, только не это!» … И поэтому мы очень рады иметь возможность поприветствовать господина Герольда Плассека, который удостоил этот матч своим присутствием. И теперь я могу попросить его спуститься сюда ко мне и сказать несколько коротких слов.
Моим первым словом было действительно короткое, и оно гласило: «Нет». Но оно утонуло в аплодисментах. Одновременно Ребекка, перегнувшись ко мне через Юлию, бросила на меня глубоко восхищенный, даже в чем-то взгляд побежденного и дала мне тем самым недвусмысленный знак, что я был ее Мужчиной минуты, который посредством короткой речи мог быть авансирован даже в Мужчину часа. Это было плохо, поскольку я питал отвращение к публичности и ненавидел говорить речи. Но ничего не поделаешь, мне пришлось на это пойти. Мне пришлось говорить публично.
* * *
– Я действительно могу уложиться в несколько слов, потому что предыдущий оратор в принципе уже сказал все важное, – начал я с присущей мне страстью к произнесению речей. – Единственное, что здесь, может быть, еще неизвестно, – это мой личный мотив прилагать особенные старания к делу Махмута и его семьи. – Эта фраза сорвалась у меня с языка непрошено и уж точно без участия моего мыслительного аппарата. После этого я запнулся и соображал, верное ли место и время выбрал и мог ли я сейчас взвалить на Мануэля мои признания в своем отцовстве. Нет, это совершенно никуда не годилось. То есть я должен был без всякой подготовки, так сказать, в одну секунду придумать что-нибудь другое.
– В детстве я был, к сожалению, никуда не годным баскетболистом, – начал я. – Даже если приставить к кольцу лестницу, я бы и то промахнулся или вырвал корзину из щита.
Кое-кто в толпе рассмеялся, это меня ободрило.
– Месяца два назад я впервые узнал из воодушевленных рассказов моего юного… соседа по рабочему кабинету, баскетболиста Мануэля, про его друга Махмута, в том числе и про то, что этот бедовый парень, этот вихрь команды «Торпедо-15», может с огромного расстояния забрасывать невероятные мячи. Тогда же Мануэль и рассказал мне, что этому четырнадцатилетнему мальчишке не полагается дышать воздухом Австрии и что он и его родители должны быть выдворены с их новой родины. И я подумал: нет-нет, так дело не пойдет, они должны остаться здесь, потому что мальчик непременно должен показать мне, как это делается, как он забрасывает свои сенсационные мячи. Так возник этот репортаж. Вот это и был мой мотив.
Аргумент оказался вполне пригодным, потому что публика горячо захлопала в ладоши.
– И теперь я, так сказать, ловлю удачу за хвост. Махмут, ты можешь сейчас выйти ко мне, чтобы мы сделали по одному броску. А именно: сперва ты, чтобы я смог наконец увидеть вблизи, как это делается. А потом я попробую повторить то, что увидел.
Тут поднялся веселый смех, ведь люди любят хлеб и зрелища, в которых проигравший – как в данном случае я – предопределен. Взволнованный мальчишка-недоросток с красными – на ощупь наверняка горячими – оттопыренными ушами взял мяч, встал на среднюю линию, элегантно размахнулся и запулил мяч, к сожалению, в щит рядом с корзиной. Это было понятно, психологическое давление было слишком велико.
– Это очень по-товарищески с твоей стороны, Махмут, ты, должно быть, даже слишком вежливый человек и не захотел, чтобы я совсем уж опозорился у всех на глазах, и этому тебе как австрийцу надо бы немного подучиться, – сказал я.
Отныне было уже безразлично, что я говорил, они все равно смеялись.
Я предложил Махмуту сделать еще одну попытку, тут напряжение уже немного отпустило его, и он забросил мяч точно в центр кольца под неистовое ликование.
– Спасибо, Махмут, я думаю, теперь я все понял, – улыбнулся я.
Я ненадолго передал мальчику микрофон, взял мяч, театрально присел, размахнулся и бросил. Под злорадный смех и рев публики мяч упал, не пролетев и половины пути.
– О’кей, Махмут, технике ты меня обучил. Теперь мне необходимо всего три недели интенсивных силовых тренировок. После того как я их пройду, я вызову тебя и потребую реванша, – сказал я.
За это я снял еще несколько сотен децибел прощальных аплодисментов, шагнул назад к трибунам и уселся – втиснулся прямо между Юлией и Ребеккой. Потому что я честно это заработал.
Совместное с Ребеккой ликование
Несколько слов про игру: она проходила высокодраматично, так что мой организм выбросил в кровь годовую норму адреналина. А из нервов, которые я то и дело терял, можно было бы скрутить канат для горного фуникулера. После первой четверти вело «Торпедо-15», после второй – «Union CS», после третьей – «Торпедо-15», после четвертой – «Union-CS» – а больше четырех четвертей, к сожалению, в принципе не бывает, по крайней мере, в математике, разве только в винном шинке. Тем самым матч закончился со счетом 105: 98 не в пользу Мануэля и Махи, но это было не так уж плохо, потому что «Union-CS» должен был выиграть с перевесом в одиннадцать пунктов, чтобы стать чемпионом. А так «Торпедо-15», несмотря на поражение, закрепило за собой титул победителя сезона, и ни один мальчишка не покинул площадку с поникшей головой.
Мой сын, замечу я при всей своей отцовской скромности, показал блестящую игру. Временами можно было подумать, что мяч был привязан к его рукам, потому что практически не отрывался от ладоней, пока не попадал в корзину. Сам Мануэль всегда оставался на ногах. Маленький Махмут был вертким, как ласка, и постоянно ускользал от своих преследователей. Несколько раз он подвергался довольно грубым фолам, в возмещение забивал один штрафной за другим и, сверх того, несколько раз живописно погружал кожаный мяч в центр кольца противника с большого расстояния.
98 очков «Торпедо-15» – это означало для меня добрых пятьдесят ликований, более того, совместных ликований с Ребеккой, хотя и совместных ликований с Юлией тоже, но совместное ликование совместному ликованию рознь, это был один из самых главных уроков, вынесенных мною из этой игры. Ибо если пятьдесят раз ликуешь вместе с женщиной, которую до этого горячо почитал, то после этого практически срастаешься с ней эмоционально. Великолепный фундамент для многолетнего партнерства уже заложен, я считаю. Поскольку ничто не делится пополам так интимно, как воодушевление.
– Мне, к сожалению, уже пришла пора прощаться, – подпортила картину Ребекка немного погодя.
Верно, ведь ей еще предстояло это совершенно ненужное рандеву в доме, который тем более никому не нужен, и она явно не смогла вытеснить это так же хорошо, как я. Конечно, для меня это было разочарованием, но и этому мужчине-для-субботнего-вечера сегодня придется с ней трудно, это я чувствовал. Правда, и мне оставалось довольствоваться пока лишь этим чувством.
Угрожающий разъезд
На пути от трибун к выходу со мной то и дело заговаривали разные люди – к счастью, они в основном хотели только пожелать мне хорошего дня, замечательной игры или удачных вкладов, или сказать, что бросок был никудышный, или они просили меня обернуться, чтобы сфотографировать меня. Фотографы ведь в принципе очень скромны в своих запросах: иногда, становясь туристами, они вообще снимают только статуи, то есть делают изображения изображений воображаемого – да с такой самоотдачей, что захватывает дух.
Мужчину в белом пиджаке я заметил еще раньше: мне почудилось, что он вроде бы наблюдает за мной, и еще потому, что ему удавалось казаться назойливым в плотной толпе на расстоянии в десять метров. Кроме того, кто же в свое свободное время носит белый пиджак – разве что он явился сюда прямиком из борделя в Бангкоке?
И вот этот человек теперь по шажочку пробирался к выходу неподалеку от меня, что экспоненциально усиливало впечатление назойливости.
– Прошу прощения, господин Плассек, могу я спросить вас кое о чем?
– Спрос не грех, как известно, – сказал я, потому что иногда некстати бываю вежливым человеком.
– Знаете ли вы некоего господина Бертольда Хилле?
Это был странный и поразительно неуместный вопрос, который сразу поставил меня в тупик, я даже остановился.
– Да, я его знаю. А почему вы спрашиваете?
– Верно ли, что между вами и господином Хилле существуют некие… близкие отношения?
Так, этот человек становился неприятен уже и физически.
– Близкие отношения? Трудно сказать. Что такое близость? Что такое отношения? Кроме того, почему вы спрашиваете? И кто вы вообще такой?
– Верно ли, господин Плассек, что господин Хилле второй муж вашей бывшей супруги и что вы часто встречаетесь приватно? – продолжал он наседать на меня.
– Я не думаю, что это вопрос, уместный на баскетбольной площадке. Я также не думаю, что вас это касается – или я ошибаюсь? – ответил я.
Но его нельзя было остановить.
– Известно ли вам, что против господина Хилле заведено дело из-за фиктивных сделок и из-за подозрения в отмывании денег и что у него в Лихтенштейне есть счета для черных денег…
– Кто вы такой и чего хотите от меня? – спросил я настолько враждебно, что на его месте уже бы устрашился.
Но он был не из пугливых и тут же объяснил почему:
– Я журналист газеты «Люди сегодня». Меня зовут Томас Либкнехт, вы получали от меня имейл. Я веду расследование по делу Бертольда Хилле…
О’кей, теперь я хотя бы знал, как с ним поступить.
– Тогда я дал бы вам совет как коллеге, что в таком расследовании вам лучше расспросить самого господина Хилле. А если вам придется когда-нибудь вести расследование по делу Плассека, тогда милости прошу ко мне, если я еще буду жив, договорились? – сказал я и повернулся к Юлии, которая смотрела на меня с некоторым испугом.
– Воля ваша! – с угрозой крикнул вдогонку этот человек. – Только, чтоб вы знали, я расследую не только дело Хилле, но и дело Плассека. Завтра я буду доступен еще целый день.
Милая, привет, хэлло, хай
В воскресенье, как и следовало ожидать, я не испытывал никакого желания дозваниваться до этого гнусного типа в белом пиджаке, даже если он уже сменил свой белый пиджак на что-то нормальное. Но я бы не сказал, что мне было безразлично то, что он сказал и о чем расспрашивал. Признаться, этот Либкнехт полностью лишил меня сна. Разумеется, более или менее бодрствуя, я мог бы предаться размышлениям о том, чего конкретно добивался от меня этот урод из «Людей сегодня». Но это не отвечало моей природе – заниматься рассмотрением вещей, которые наводили ужас. Например, на этого Либкнехта я уже насмотрелся на всю оставшуюся жизнь, а Бертольд был псевдосемейным особым случаем, и я мог выносить его только на расстоянии.
Совсем иначе дело обстояло с Ребеккой: мое сокровенное желание позвонить ей нарастало с каждым часом. Ведь теперь я был гордым обладателем ее личного телефонного номера, но не такой я был человек, чтобы долго держать это обладание при себе и никак им не пользоваться; к полудню я отправил ей эсэмэску. Я осознанно старался писать так, чтобы не было заметно, какая сила побудила меня к этому. Сперва я написал: «Милая Ребекка», потом исправил «милую» на «привет», «привет» исправил на «хэлло», «хэлло» – на «хай», потом снова на «хэлло», а «хэлло» в конце концов переделал в «привет», потому что «привет», собственно, было как раз чем-то средним между «милая» и «хай». Я написал:
«Привет, Ребекка, хорошо, что ты была вчера на матче, Мануэль очень обрадовался. Надеюсь, после этого у тебя еще был увлекательный вечер».
«Увлекательный» я исправил на «интересный», «интересный» исправил на «волнующий», «волнующий» – на «приятный». «Приятный» в смысле платонической оборотной стороны понятия «дерьмовый». «Приятный» я исправил в конце концов на «славный», это звучало еще именно как-то позитивно, и этого было вполне достаточно. Потом я приписал: «А мы еще как следует повеселились». Это была моя самая любимая фраза, потому что «мы» не расшифровывалось и тем самым могло разбудить фантазию Ребекки и потому что ей тоже было бы гарантированно весело «с нами», уж по крайней мере, веселее, чем тупо подвергаться ухаживанию этого субботне-вечернего-жиголо и выслушивать его самохвальство. В конце я еще приписал: «Хорошего тебе воскресенья, и я надеюсь, мы скоро увидимся! Герольд». Это было еще не совершенно, и я поправил: «Хорошего тебе воскресенья. Надеюсь, скоро увидимся. Герольд».
«Надеюсь» звучало небрежнее, чем «Я надеюсь», и больше походило на надежду, от которой надеющийся не очень-то и зависит. С этой точки зрения «Надеюсь» было, собственно говоря, неправдой, ну и пусть.
Мануэль доводит бабушку
Во второй половине воскресенья мы ездили в гости к маме. Мы – это не я и Ребекка, а я и Мануэль. Было даже удивительно, что он увязался за мной – но, может быть, включив глубоко скрытый родовой инстинкт, он почувствовал, что доставит мне тем самым огромную радость и что для моей мамы это будет совершенно особенная встреча, хотя ей еще не пришло время узнать почему, ведь сперва я должен был открыть это самому Мануэлю. Диалог, который привел к визиту, на слух воспринимался скорее лапидарно.
– Что ты делаешь в воскресенье?
– А что я должен делать в воскресенье? – ответил Мануэль вопросом на вопрос.
– Какой у тебя выбор? – тоже ответил я вопросом.
Теперь я редко попадался на удочку его ответных вопросов.
– Пока не знаю. А что будешь делать ты?
– Отправлюсь в гости к маме.
– Ага.
– Хочешь поехать со мной?
– Да.
– Да?
– Да.
– Честно?
– Да, честно.
– Почему?
– Потому что мне интересно: она такая же, как ты?
– Какая такая же? – спросил я.
– Пьет ли она так же много пива. – Он засмеялся.
* * *
Мы принесли ей цветущую розовым цветом пуансеттию в горшке, две упаковки кофе и мраморный кекс из магазина «Билла», этот кекс продавался со скидкой: видимо, перешагнул допустимый порог запыления тонкодисперсной пылью. Мама любила сдобу без начинки. Выглядела она хорошо, и я немедленно обратил на это ее внимание, а у нее и впрямь бывали раньше и более бледное лицо, и более ввалившиеся щеки.
– Это Мануэль, – сказал я, не давая никаких более подробных разъяснений.
Мама была вежливой, воспитанной женщиной, она бы никогда не стала допытываться, из какого рукава я вдруг вытряхнул четырнадцатилетнего мальчишку, чего ему здесь надо и кто он такой вообще. Кстати, последнее она и так знала.
– Это, должно быть, тот мальчик, который так увлекательно написал про другого мальчика, я все это читала, – сказала она и обняла его; и ему это, несмотря на трудный подростковый возраст, не было неприятно. Мне эта сцена казалась захватывающе красивой, я хотел бы ее запомнить – так сказать, для семейного альбома.
Потом мы с мамой какое-то время наперебой рассказывали друг другу, как фантастически хорошо у нас идут дела, и по этим рассказам я только теперь и заметил, что они у меня и впрямь идут очень хорошо, несмотря на некоторую любовную тоску: Ребекка все еще не ответила на мою эсэмэску. Мама на глазах расцвела, потому что собственное самочувствие всегда измеряла по самочувствию других – вообще-то, по моему самочувствию, она сразу перенимала его в двойном размере. А Мануэль благоговейно сидел рядом и наблюдал за нами с необъяснимым для меня интересом.
Естественно, мы быстро вышли на разговор о серии пожертвований и о том, что мне приписывалась в этом ключевая роль.
– Разве это не безумное предположение? – спросил я.
– Нет, я вовсе не считаю это безумным, Гери. Кто-то явно возлагает на тебя некую миссию, – ответила мама.
– А почему именно на меня?
– Вероятно, потому, что ты можешь ее выполнить, – сказала она.
– Это и без меня могли бы многие.
– В этом я не так уверена.
– А вы не знаете, кто бы это мог быть? – вмешался в разговор Мануэль.
У него вдруг появился этот взгляд главного уполномоченного комиссара, и теперь я понял, почему он непременно хотел пойти со мной. Он явно вбил себе в голову намерение расследовать этот случай.
– Кто бы это мог быть? Разве это так важно? – удивилась мама и улыбнулась, как улыбается мудрая женщина в возрасте, у которой хоть и нет причин улыбаться как женщине в возрасте, но которая точно знает, почему она улыбается мудро.
– Дело в том, что дядя Гери получил недавно один загадочный имейл, – объяснил Мануэль.
В этом он снова забежал вперед, я бы упомянул об этом лишь позже.
– Да, мама, кто-то прислал мне имейл, в конце которого своеобразно намекнул…
– Он у меня с собой. Я его распечатал, – перебил меня Мануэль, достал бумажку и протянул ей.
Это просто поразительно, как хорошо этот мальчишка оказывается ко всему подготовлен; может быть, мне все-таки стоит провести тест на отцовство.
Мама надела очки и пробежала текст глазами, не отменяя при этом своей расслабленной улыбки. Отдельные обрывки она бормотала себе под нос:
– Многоуважаемый господин Плассек… переносчиком добра… средства… чудесное чувство… доставляет вам радость. Ваш преданный читатель. Постскриптум: А что, интересно, говорит по этому поводу ваша мама?…
Мануэль наблюдал за ней, пристально сощурив глаза, но из ее реакции мало что можно было извлечь в дополнение к тому, что Мануэль уже и так знал.
– И что ты скажешь, мама, про это послание? – спросил я.
– Это преданный читатель, который хочет тебе добра и рад за тебя.
– И за тебя.
– И за меня.
– И кто? – спросил Мануэль.
– Если бы он хотел, чтобы о нем узнали, он бы уже сделал это, – уклончиво ответила она.
– Дядя Гери написал ему ответ и спросил, не передать ли вам привет от него, но он не ответил на это, – сообщил Мануэль.
Мне нравилось, как он называет меня «дядя Гери».
– Значит, он не хочет, чтобы его узнали.
– А ты правда не знаешь, кто это может быть? – спросил теперь я, но спросил скорее за нетерпеливого Мануэля.
– Если честно, я даже не хочу это знать, – призналась она.
– А почему? Ведь, может быть, он и есть даритель, – заметил Мануэль.
– Да, может быть. Но я не хочу знать также, кто даритель или дарительница.
– А почему нет?
– Потому что так лучше для нас всех, – сказала она.
– Что лучше для нас всех?
– Если мы не будем знать, кто это.
– А почему это лучше? – допытывался Мануэль.
– Потому что тогда это может быть кто угодно, – ответила она.
Глава 13
Предполагаемый благодетель разоблачен
«Привет, Герольд, спасибо за твою вчерашнюю эсэмэску. Часы, проведенные с тобой, с Юлией и Мануэлем, доставили мне большое удовольствие. С вами мой вечер был бы наверняка веселей. Что ж, еще один урок жизни. Я надеюсь, мы скоро увидимся, может быть, выпьем кофе? Сердечно, Ребекка».
К сожалению, «Новое время» дало мне лишь час времени, чтобы провести это необычайно радостное утро понедельника в постели с моим мобильником, носителем хотя бы известия от Ребекки, раз уж не разговора с ней самой. Затем позвонила Клара Немец, и я по ошибке нажал кнопку «принять» вместо обычного по понедельникам «отказаться», чем безвозвратно испортил себе день.
– Алло, Герольд, ты уже читал «Люди сегодня»? – спросила она.
– Нет, с чего бы вдруг?
Это действительно было гротескное предположение, гораздо вероятнее я мог бы оказаться случайным свидетелем неожиданного солнечного затмения.
– Они представили нам спонсора.
– Кого-кого?
– Анонимного спонсора.
– Да что ты? И кто же он?
– Бертольд Хилле.
– Кто?
– Бертольд Хилле.
– Бертольд?
– Хилле, – сказала она.
Я попытался рассмеяться, но этот прикол даже мне показался слишком мрачным.
– Анонимным благодетелем явно был Бертольд Хилле, – повторила она.
В первый момент мне ничего не пришло в голову, по крайней мере, ничего приемлемого для моего мозга. Итак, на какое-то время я оказался в шокированном состоянии и поклялся себе выйти из него не раньше, чем окажусь в баре Золтана. Правда, путь до этого спасительного берега был еще очень долгим.
– Ты можешь зайти к нам в редакцию?
– Когда? – спросил я.
– Лучше всего сейчас.
– Это обязательно?
– Я думаю, это действительно необходимо, – ответила она.
* * *
Титульная страница газеты создавала видимость, что раскрыта одна из величайших загадок криминальной истории. Самый жирный из заголовков гласил: «Предполагаемый благодетель обнаружен». На мой взгляд, тут было налицо грубое противоречие, поскольку либо предполагалось, кто был благодетелем, либо обнаружилось, а то и другое вместе было возможно только в СМИ, а именно – в такой грязной газетенке, как «Люди сегодня». Под заголовком был размещен огромный портрет Бертольда с надменной ухмылкой и сигарой в руке. Фото было – сообразно природе оригинала – крайне непривлекательным, среди прочего и потому, что сделать его более привлекательным было невозможно. У Бертольда было одно из тех немногих лиц, которым пошло бы только на пользу, если прикрыть их черным прямоугольником; было бы хоть немного симпатичнее. Но, может, я был в этом не вполне объективен.
Остальная полоса состояла главным образом из тревожных обрывков слов, набранных жирным шрифтом:
«Люди сегодня» – эксклюзивно: эффект разорвавшейся бомбы в серии пожертвований.
Не что иное, как подарки для бедных грязными деньгами.
Лоббист играл роль Деда Мороза.
Группа PLUS вовлечена в финансовое мошенничество.
Журналист «Дня за днем» исполнял роль курьера с деньгами. (Тут они имели в виду меня).
Подробные материалы и разъяснение мотивов к скандалу с пожертвованиями – см. на стр. 2–8.
Естественно, я не вчитывался в детали, да это было и не так легко – извлечь немногие факты из этой трясины дешевых выкриков, но одно было ясно: против Бертольда Хилле действительно ведется уголовное расследование по подозрению в уклонении от налогов. В ходе розысков органы наткнулись на его тайный счет в Лихтенштейне, с которого за прошедшие месяцы то и дело списывались крупные денежные суммы, несколько раз они составляли ровно по десять тысяч евро. Кроме того, денежные потоки и соответствующие разоблачительные телефонные разговоры связывали Хилле и Акселя Миттерайнера, члена совета директоров торговой сети PLUS.
То есть, если верить «Людям сегодня», от упомянутых лиц несло за сто километров против ветра и явствовало, что серия благодеяний была сговором и махинацией дельцов и лоббистов.
Вовлеченным в это мошенничество, как следовало из текста, оказался и Герольд Плассек, первый муж супруги промышленника. Тут же они разместили мое символическое фото, сделанное во время баскетбольного матча; на снимке я выставил перед собой ладони с десятью растопыренными пальцами – якобы защищая лицо. Подпись под снимком гласила: «Предполагаемый провозвестник счастья Плассек в разговоре с шеф-корреспондентом Либкнехтом был скорее скуп на слова.
А что же сказал Бертольд в ответ на обвинения? На запросы «Людей сегодня» получен ответ, что промышленник находится в деловой поездке в Дубаи и в настоящий момент не готов к комментариям».
Я пробежал глазами и заключение Либкнехта:
«УТРАТА ИЛЛЮЗИЙ. Это было как в сказке: беднейшие из бедных получают с невидимой руки огромные денежные подарки. 10.000 евро для бездомных, 10.000 евро для безнадзорных детей, 10.000 туда, 10.000 сюда. Чеченской семье дается возможность и дальше грезить о рае благополучия. Но тут час сказки миновал. Промышленник, на след которого вышли органы, не знает, куда девать свои черные деньги. Гигант оптовой торговли хочет спасти свою захиревшую бесплатную газету. Что делать? Заново изобретают доброго Деда Мороза. Ключевой фигурой в игре становится родственник промышленника, до сих пор ничем не проявивший себя журналист. Чтобы отвести подозрение от бесплатной газеты, большие спонсорские акции переносятся в левоальтернативную газету.
Еще не все загадки разгаданы, еще многие детали остаются под вопросом. И перед лицом закона неукоснительно действует презумпция невиновности. Но уже сейчас можно подвести отрезвляющий итог: добро в очередной раз оказалось расколдовано. Деньги грязные. И они правят миром».
Клара в растерянности, «Новое время» в осаде
– Герольд, вот о чем я хотела тебя спросить в первую очередь… Пожалуйста, не обижайся на меня, но мы должны это… Это просто надо прояснить… – мялась Клара.
– Ты хочешь сказать, знал ли я… Нет, у меня не было ни малейшей догадки обо всем этом, можешь мне поверить, – сказал я.
– Спасибо, – пролепетала она.
Она казалась очень расстроенной; на мой взгляд, ей следовало выпить шнапса, но до этого она должна была дойти сама. А то, в чем сейчас нуждался я, в обычные стаканы, пожалуй, и не разольешь.
– С Бертольдом никогда не было никаких разговоров. Откуда у него деньги, как он их наращивает, где они лежат, что он с ними делает – все это меня никогда не интересовало. Деньги меня никогда не интересовали. Бертольд меня никогда не интересовал. Он живет в другом мире, от которого меня тошнит. К сожалению, он живет там с моей бывшей женой. И с Флорентиной. Я уже рассказывал тебе про Флорентину? Это моя малышка. Ну, теперь она уже не такая и малышка…
Тут я предпочел замолчать, заметив, что мой голос больше не слушается меня. Только про маму сейчас не думать, или про Мануэля, или про Паевых, или про Ребекку, да и про Энгельбрехтов тоже, как они стояли у меня в дверях, с золотыми дукатами.
– Вот дерьмо, – выругался я.
Клара кивнула, она была совершенно того же мнения. Потом мы какое-то время просто сидели молча, потому что «дерьмо» стояло в воздухе само по себе и никто не нуждался в дальнейшем объяснении.
– Как ты думаешь, в этом деле действительно что-то есть? То есть можно ли ожидать чего-то такого от Бертольда Хилле? – спросила она наконец.
– От Бертольда Хилле можно ожидать чего угодно, – сказал я.
Хотя я не мог себе представить, чтобы он мог прийти к мысли назначить провозвестником счастья именно меня, разве что… разве что… разве что его попросила об этом Гудрун… Тут у меня в голове промелькнула недобрая мысль.
– Мне срочно надо переговорить с Гудрун, – я вскочил и бросился к двери.
– Стой, пока ты не ушел, скажи, пожалуйста, как нам реагировать. Что мы должны написать?
– Лучше всего правду, – пришло мне в голову.
– Очень хорошо. А что есть правда?
– Что мы ее не знаем, – сказал я.
Она смотрела на меня в отчаянии. Одно дело выдавать слухи за правду – для журналиста это было бы детской забавой. Но написать о правде, которую не знаешь, – это выходило далеко за пределы того, для чего предназначена журналистика. И это, к сожалению, относилось и к приличным газетам – таким, как «Новое время».
Гудрун отделяет личное от делового
Гудрун как будто ждала меня, хотя уже тринадцать лет я больше не являлся без предупреждения ни на ее порог, ни в ее жизнь. У нее были зареванные глаза, а сцена нашего приветствия напомнила мне о тех ужасных временах, когда мы жаркими объятиями пытались преодолеть крах наших любовных отношений – словно изнуренные боксеры, которые ищут спасения в клинче, поскольку сейчас грядет нокаут.
Правда, я тут же успокоился, поскольку почувствовал, что Гудрун не могла подложить мне такую свинью, какую я было заподозрил: будто она повелела своему помещику сделать из меня звезду журналистики и подсунуть мне под маской милосердного благодеяния его грязные деньги, чтобы в доме Хилле я больше не выступал в роли просителя и чтобы дочурке Флорентине не пришлось всю жизнь страдать оттого, что ей достались гены спившегося неудачника. Нет, Гудрун не могла меня так унизить.
– Хочешь виски? – спросила она, видимо потому, что сама его хотела.
– Да, с удовольствием, я ведь так и так еще не завтракал, – ответил я.
Подобные замечания она никогда не находила веселыми и в менее удручающих ситуациях, потому мы и не подходили друг другу. Не только потому, но и потому тоже.
Налив порядочную взрослую порцию, чтобы я какое-то время был занят самим собой, она приступила к пространному монологу.
– Герольд, поверь, я ничего про это не знала, на меня это все обрушилось как гром среди ясного неба. Я чувствую себя захваченной врасплох – так же, как и ты. Сегодня рано утром мне позвонил папа и все рассказал. Он обо всем узнал от старого Кунца. У них там тоже, естественно, черт знает что творится. Я думала, свихнусь, когда услышала, что напечатано в «Людях сегодня». Разумеется, я тут же попыталась связаться с Бертольдом, но попадаю только в его голосовую почту, это сводит меня с ума. Он по делам в Дубаи, то есть, я думаю, он как раз сидит в самолете на Франкфурт. Возможно, он еще даже не знает о том, что его ждет. Его хватит удар, когда он узнает…
– То есть ты не думаешь, что он как-то замешан в спонсорском деле?
– Нет. Это невозможно. Этого не может быть. Бертольд – не тот человек, кто делает такие вещи, – ответила она.
– А счет в Лихтенштейне? И крупные суммы, которые он с него снимал? Что, Бертольд не тот человек, кто делает такие вещи? – спросил я.
– Это наверняка не имело ничего общего с пожертвованиями.
– Собственно, это не мое дело, но для чего один-единственный человек снимает так много денег? Для чего они ему? Он что, хочет купить остров? Или собирается построить египетскую пирамиду?
– Послушай, Герольд. Меня никогда не занимали такие вещи. Мы всегда строго отделяли одно от другого – личное и деловое. Свои профессиональные операции он всегда совершал в одиночку и держал это при себе. Он не хотел грузить этим меня и семью.
– Весьма чутко с его стороны.
– Он всегда говорил, что такая уж у него работа, что он одной ногой автоматически стоит вне закона, что бы он ни делал. Все это – вопрос истолкования.
– Отличная работа, – сказал я.
– Это и есть цена.
– Цена чего?
Это был рискованный вопрос, ибо с Гудрун станется: она могла бы принудительно протащить меня с экскурсией по всем помещениям, где были собраны трофеи благосостояния – от китайского платяного шкафа – через жизненно необходимый электрический подогреватель тарелок – и до отмеченного антверпенской дизайнерской премией держателя для туалетной бумаги. Только сами рулоны туалетной бумаги были на удивление нормальными. Но она промолчала и еще подлила мне виски.
Проблемы, алкоголь и кофе
Когда я вернулся домой, Мануэль еще не ушел. А я боялся встретиться с ним. И он действительно скорчил мне более дружелюбную, чем обычно, рожу, задрав себе кончик носа. К счастью, я воспринял действительность довольно смутно.
– Где ты был? – спросил он.
– У Гудрун, бывшей жены.
– Ты пьян.
– Не говори такие страшные вещи, мне и без того плохо.
– Всякий раз, когда у тебя проблемы, ты пьешь алкоголь.
– Почем тебе знать, какие у меня были бы проблемы, если бы я не пил алкоголь, – сказал я.
– Совсем не смешно, – заметил он.
Теперь он не на шутку рассердился.
– Мне очень жаль, Мануэль, но у меня был плохой день.
– Ты думаешь, мой день был лучше? У меня в классе теперь все считают, что ты мошенник и врун.
– И ты тоже так считаешь? – спросил я.
– Нет, разумеется, нет. Но что от этого пользы, если все остальные думают иначе?
– Пусть думают что хотят, этого не изменишь, – сказал я.
– Ты никогда ничего не можешь изменить. И еще ни разу ничего не изменил. Тебе всегда все безразлично.
Когда он кричал, у него иногда прорывался высокий детский голос, как будто резали петушка.
– Нет, это неправда, что мне все безразлично, Мануэль, это не так.
– Тогда сделай что-нибудь, придумай, устрой, предприми!
– Что мне сделать? Есть ситуации, когда ничего не поделаешь, у человека связаны руки, и сейчас ситуация именно такая, – пробормотал я.
Тут он бросил в мою сторону едкий, презрительный взгляд, вскочил, собрал свои школьные принадлежности, натянул ботинки и куртку и вышел, хлопнув дверью.
* * *
Я отнюдь не гордился тем, что не придумал ничего лучшего, чем привычное, но дома я просто не мог находиться и переместился в бар Золтана. Мои собутыльники подгребли не сразу, а подтягивались по одному, и каждый выражал мне свое сочувствие.
– А что я тебе говорил? Вот на этом месте мы стояли, ты помнишь, и я тебе сказал, Гери, будь осторожен, это кто-то из твоего ближайшего окружения, причем тот, у кого есть деньжата. Это было ясно, – сказал Йози, кондитер.
– Денежки-то черные, оттого и засекреченность такая, – добавил Хорст, держатель тотализатора.
Я рассказал им о разговоре с Гудрун и о том, что она исключает участие Хилле во всех этих делах.
– Естественно, она будет его покрывать, – вставил Йози.
– С другой стороны, совсем не обязательно верить всему, что напечатано в какой-то грязной газетенке. У них вообще нет доказательств, это ведь только смутные предположения, а больше ничего, – возразил Франтишек, бронзовщик.
– Кроме того, у них вода уже к горлу подступила – из-за процесса против твоей бывшей газетенки, Гери. Если они проиграют, им, может, придется даже закрыться. Поэтому они состряпали более-менее складную историю, – сказал Арик, преподаватель профтехучилища.
– Так или иначе, зла они натворили. Дело с пожертвованиями доконали, больше ни одна душа не поверит в существование доброго самаритянина, – сказал Йози.
– Может, мне подослать домой к этому подлому писаке, этому Либкнехту, пару украинских мордоворотов? – спросил Хорст.
– Слушай, не будь таким простаком, – ответил Йози.
Тогда я рассказал им о том, что было для меня тяжелее всего: что Мануэль теперь держит меня за тотального неудачника и страшно зол за то, что я ничего не предпринял, – а что я могу сделать?
– Делать ты хоть так, хоть этак можешь только одно, – сказал Франтишек.
– Что? – спросил я.
Я ожидал, что он ответит: «Ждать, как будут развиваться события» – или что-то в этом роде.
– Писать, – ответил Франтишек.
– Я больше не напишу ни строчки, – заявил я. Или, может, просто слишком громко подумал, неважно.
– А ничего другого тебе больше не остается. Ты должен как можно скорее написать про какой-нибудь социальный проект и уповать только на то, что туда еще раз поступят десять тысяч евро, – произнес Франтишек.
– Он прав. Если не поступят десять тысяч евро, тогда действительно был замешан муж твоей бывшей. А если поступят – то тебе повезло, ты остаешься героем, спонсор жив, а мир еще не совсем пропащий, – сказал Йози.
– Точно. И твой мальчик снова сможет тобой гордиться, – довершил Арик.
Я как раз хотел взяться за свой стакан, но он, кажется, сам по себе подвергся странному процессу усадки, да еще и смене красок – или у меня так потемнело в глазах?
– Что это? – спросил я.
– Кофе, – ответил Золтан.
– А кто его заказывал?
– Это лишь доброжелательное предложение, – улыбнулся хозяин заведения.
– Шеф прав, пора понемногу трезветь. Завтра у тебя тяжелый рабочий день, – ухмыльнулся Хорст.
Йози засмеялся. Друзья тебе лишь те, кто остался после того, как откололись все, кого ты не заслужил.
– Мне еще одно пиво, – сказал Йози.
– Мне тоже, – поддакнул Франтишек.
– И мне, – дополнил Хорст.
– Мне тоже, – окончательно дорисовал картину Арик.
Глава 14
Человек дождя в Донауштадте
Ровно в семь тридцать четыре я добровольно встал, а время специально запомнил – для Книги рекордов Гиннесса. Проснулся я, кстати, даже на час раньше, и тут мне пришел в голову гениальный, экономящий время и справедливый метод добыть социальную историю, за которую я тут же собирался засесть, чтобы, так сказать, дать еще один шанс благодетелю или благодетельнице именоваться не Бертольдом Хилле. А именно: Ангелина из «Нового времени» составила для меня список из добрых двух дюжин проектов, нуждающихся в помощи или заслуживающих поддержки; эти проекты либо вызвались сами, либо были рекомендованы для репортажей читателями. Еще в постели я наугад назначил себе номер четырнадцать, это был возраст Мануэля, и позднее открыл файл с этим номером.
«Многоуважаемый господин Плассек, я многолетняя читательница «Нового времени» и хотела бы привлечь ваше внимание к одной семье, которая действительно заслуживает того, чтобы вы о ней как-нибудь написали. Речь идет о моих соседях, госпоже и господине Новотны, которые уже много лет самоотверженно опекают осиротевшего ребенка-аутиста. Девочке теперь шестнадцать лет, ее зовут Романа. Романа живет в своем мире, она практически не умеет выражать чувства, у нее нет друзей, совсем немного контактов с внешним миром, но она наделена огромным талантом: она рисует. Особенное в этом то, что она рисует только животных – как реальных, так и выдуманных. Картинки удивительные, я их однажды видела. Самым большим желанием Романы было бы учиться в Академии искусств или Высшей школе живописи, чтобы в будущем посвятить себя своей страсти. Хотя Новотны откладывают каждый свободный евро, они так и не собрали денег даже на необходимые подготовительные курсы, потому что очень много уходит на лечение. Соседи и друзья уже собрали кое-что, но этого недостаточно. А вдруг случится чудо…
Спасибо, что вы прочитали мое сообщение. На картинки Романы с изображением животных вам действительно следовало бы взглянуть!
С добром и любовью, Кристина Кронбергер».
* * *
Первым делом я написал эсэмэс Мануэлю. Я спросил, когда он самое раннее сможет улизнуть из школы, поскольку мы должны срочно приступить к совместной информационной разведке. После этого я позвонил Кристине Кроненберг, которая, к счастью, еще ничего не знала о разоблачениях в газете «Люди сегодня», так что я сэкономил много сил на обстоятельных объяснениях. Она пообещала мне тут же связаться с супругами Новотны и подготовить их к моему визиту. Немного спустя она перезвонила и известила меня, что можно прийти в середине дня, Эрика Новотны дома, Романа, правда, тоже, но мне не следует ожидать слишком многого, она, возможно, и на глаза не покажется, потому что как только порог дома переступает незнакомый человек, она в большинстве случаев прячется.
Когда я уже уверился, что Мануэль бросил меня в беде, он написал, что не мог ответить из-за контрольной по французскому: их заставили отключить телефоны на время работы; но теперь он в пути, а без физики и геометрии и так обойдется. Уж лучше он узнает что-нибудь о жизни. И да, он был очень рад, что я наконец что-то предпринимаю.
По дороге мы просвещали друг друга на тему аутизма: что он собой представляет и как с ним обходиться, при этом я должен признаться, что Мануэль был осведомлен лучше меня, потому что даже читал об этом книги, тогда как мне нечего было предъявить, кроме Дастина Хоффмана в «Человеке дождя».
Поселок-спутник в венском Донауштадте наилучшим образом подготовил нас к мрачной семейной истории: в этот промозглый ноябрьский день порывы ветра гнали по мостовой обрывки лица городского политика с рекламного плаката: лицо лоснилось благополучием. В этих обрывках отражалась вся беда большого города, который похвалялся тем, что числится среди самых блестящих и богатейших городов мира, но все это богатство, к сожалению, буквально на волосок разминулось с восьмьюдесятью процентами населения. А в этом поселке расхождение было даже заметно больше, чем на волосок. Практически на каждой второй калитке висела табличка, взывающая к психологической помощи. В бетонных многоэтажных домах по обе стороны улицы в ежедневном режиме случались приступы безумия, попытки суицида, супружеские драмы или традиционная поножовщина.
По виду Эрики Новотны было заметно, что ее годами терзают непрерывные заботы. Она рассказала мне – более или менее спокойно, – что ее собственный ребенок тринадцать лет назад погиб в автокатастрофе, что за рулем был ее муж Людвиг – и с тех пор его изо дня в день гложет чувство вины, он раскаивается, но вина от этого не становится меньше. Немного времени спустя после трагедии Новотны усыновили сироту Роману, которая потеряла родителей в результате автокатастрофы. То, что у малышки поначалу считалось чисто психологической травмой, со временем выявилось как тяжелое аутистское нарушение, которое выражалось, например, в том, что она чуралась своих приемных родителей даже после двенадцати лет ласки и заботы и обращалась с ними как с чужими людьми.
Приблизительно на этом месте мне пришлось перебить госпожу Новотны и сообщить ей, что я – особенно по рабочим дням – становлюсь чрезвычайно чувствителен и не могу без слез выслушивать такие истории, чего нам с ней желательно было бы избежать. Причина моего посещения куда как позитивнее, и об этом я и хотел бы с ней поговорить.
– Поскольку Романа, как я слышал, фантастически рисует.
Этой фразы было достаточно, чтобы лицо госпожи Новотны просияло – и она даже могла показаться радостным человеком, с которым может быть очень весело. Это, кстати, подтвердило мою личную теорию на тему счастья и несчастья. Об этом мы с Мануэлем всего пару дней назад провели одну из наших основательных бесед, а в моем случае это был даже самый основательный разговор за несколько последних лет.
Экскурс в теорию счастья
Мануэль находил совершенно несправедливым то, что у некоторых людей в этом мире дела шли отменно хорошо, тогда как у других все было ужасно плохо. Если бы тем, у кого дела шли очень хорошо, было чуть похуже, их дела все еще были бы весьма хороши. Но если бы тем, у кого дела были ужасно плохи, стало хоть чуточку получше, то им, вообще-то, сразу стало бы заметно лучше, у них была бы ощутимо более счастливая жизнь. Приблизительно таков был ход его мысли.
У меня же на тему счастья была несколько иная теория.
Допустим, два человека имеют в своем распоряжении по сотне мыслей, которые они могут думать в следующий момент. Человек А невезучий, девяносто пять его возможных мыслей были отрицательными и лишь пять позитивными. Ровно наоборот обстоит дело с человеком Б, исключительным счастливчиком. Ему в голову могли прийти девяносто пять радостных и лишь пять абсолютно безрадостных мыслей. И вот мое утверждение: если счастливчик Б предастся одной из своих пяти безрадостных мыслей, он в этой ситуации будет по меньшей мере так же несчастлив, как невезунчик А, если он будет предаваться одной из своих девяноста пяти горьких дум. И наоборот: если невезунчик А последует одной из своих пяти позитивных мыслей, то он будет в этот момент чувствовать себя таким же счастливым, как счастливчик Б, если тому придет в голову одна из его девяноста пяти позитивных мыслей.
– И что ты хочешь этим сказать? – спросил меня Мануэль, когда я закончил со своими математическими выкладками и выжидательно посмотрел на него.
– Что люди, у которых плохи дела, могут быть так же счастливы, как и люди, дела которых вполне хороши.
– Для этого им достаточно думать о хорошем? – уточнил Мануэль.
– Ну, примерно так, – сказал я.
– Знаешь, что в твоей теории плохо?
– Нет.
– То, что человек не выбирает, к сожалению, о чем ему думать.
– Кто это сказал? – спросил я.
– Я тебе говорю. Когда человеку плохо, ему в голову, естественно, плохое придет намного вероятнее, чем тому, которому хорошо. А если думаешь о чем-то плохом, то вероятнее всего вспоминаешь еще что-нибудь плохое. Ибо если ты о чем-то тревожишься, ты в тревоге, вот и все, – сказал он.
– Но если кому-то удастся, несмотря на заботы, подумать о хорошем, то забот автоматически станет меньше, потому что хорошее может распространяться в голове. А если ты можешь думать об одной хорошей вещи, то можно подумать и о другой хорошей вещи. И тогда заботы будут оттеснены в какой-нибудь темный угол, а потом и вообще исчезнут, – заметил я. При этом я должен был признаться, что теория содержала умеренные утопические извращения, и лучше было придержать ее для внутреннего употребления – для себя и Мануэля.
– Но заботы не исчезают сами по себе, даже если их вытеснить. Их из-за этого становится даже больше, – утверждал Мануэль.
– У меня нет, – коротко отвечал я.
Дискуссия утомила меня, и я уже хотел ее свернуть.
– Ты вообще феномен, – сказал он.
– Что ты имеешь в виду?
– У тебя может быть хоть сто забот, но ты, судя по всему, даже не замечаешь, что у тебя заботы, – сказал он.
– Ну вот. Разве я не счастливчик? Разве мне нельзя позавидовать? – спросил я.
– Разве что по твоей теории.
Он засмеялся. И я положил ладонь ему на плечо. Потому что он был не только умный, но и мой умный ребенок. В следующий раз я ему объявлю об этом. Или, в крайнем случае, через раз.
Слоны из мух и наоборот
Госпоже Новотны я, очевидно, дал идеальную подсказку – наконец подумать о чем-то радующем:
– Я слышал, что Романа фантастически рисует.
– Да, рисует она чудесно. Может, нам повезет, и она покажет пару своих картинок.
Она еще не успела договорить свои слова, как я заметил, что Мануэля с нами нет, он пропал.
Госпожа Новотны встала, на цыпочках прокралась к полуприкрытой двери, осторожно отворила ее и потом, несколько остолбенев, шепотом воскликнула, обращаясь ко мне:
– Вы только посмотрите на это!
Вид был действительно живописный. В маленькой комнатке, которую занимала в основном кровать, на полу были разложены картинки, а Мануэль ползал среди них на четвереньках и рассматривал одну за другой. На краешке кровати примостилась Романа, изящная белокожая девочка с рыжеватыми волосами и в прямоугольных очках. Казалось, она не могла для себя решить, то ли ей наблюдать за Мануэлем во время его исследования, то ли игнорировать его. Про меня она сразу решила, что будет меня игнорировать, но я не обиделся. Уже не раз так бывало, что люди чурались меня, впервые увидев, особенно дети.
– Как тебе это удалось? – спросила госпожа Новотны Мануэля сладким педагогическим голосом, по которому легко определялось, что прежде она была воспитательницей в детском саду.
– А что мне удалось? – ответил Мануэль вопросом, как и следовало ожидать.
– Что Романа показала тебе свои рисунки.
– Я у нее спросил, нельзя ли мне взглянуть на ее картинки с животными.
– И она сказала «да»?
– Нет, она не сказала «да», но и «нет» не сказала, она вообще ничего не сказала, и я просто взял папку. Как видите, она не имеет ничего против.
Я соорудил на лице пристыженную отцовскую улыбку, в том смысле, что «да, вот такие уж это дети, их ни на минуту нельзя оставить одних…».
– Смотри-ка, дядя Гери, вот это круто. Это всегда гибриды из совсем мелких и очень крупных существ, например наполовину паук, наполовину дикий кабан. Или взгляни, это вот особенно круто, тут голова тигра, ноги обезьяны, а тело… Это что, мышь? – спросил Мануэль, обращаясь к более или менее присутствующей художнице.
– Ондатра, – сказала Романа.
Это было вообще ее первое слово. Хорошее начало. Не так уж и плохо для девчушки, подумал я.
– У нее четкая фотографическая память, ей стоит увидеть изображение животного один раз – и она запоминает его до мельчайших деталей. Иногда она комбинирует четыре-пять существ в одном рисунке, – пояснила госпожа Новотны.
Картинки действительно были на свой манер впечатляющими, они немного напомнили мне живопись фантастических реалистов – Хуттера, Хауснера, Брауэра и других знаменитых мастеров. Но при всей высокой оценке – я бы никогда не повесил нечто такое у себя в спальне. Я и сам неплохо создаю себе видения ужаса, для этого мне не требуется подробная инструкция на стене.
– Здорово, хотел бы я так уметь, – сказал Мануэль, обращаясь не к Романе, а скорее к самому себе.
Но она все равно обрадовалась, потому что тут же спрыгнула с кровати, нагнулась, вырыла из кучи картинок одну и сунула ее в руки Мануэлю.
– Ого, ничего себе, а это что за монстр?
– Гадюко-пума-рыба-меч.
– Можно, я ее сфотографирую? Ее напечатают в газете, верно, дядя Гери? Может, ты с ней даже станешь знаменитой, – заявил самопровозглашенный господин шеф-корреспондент.
– Конечно, фотографируй, если хочешь, – пробормотала Романа.
Способность воодушевляться явно не была ее самой сильной стороной. Но и такого уж разительного отличия аутистки от неаутиста никак нельзя было заметить, глядя на этих двоих подростков. Естественно, я предпочел оставить это наблюдение при себе, чтобы не оказаться некорректным с медицинской точки зрения. Главное, что мы внесли в эту мрачную комнатку немного свежего ветра и в первую очередь – немного света.
Сердечный привет – и баста
Дома нам опять пришлось заниматься безотрадными журналистскими вещами. Мануэль рылся в Интернете и сортировал мою почту. Склонившись над моим ноутбуком, он оповестил меня о том, что некоторые читатели из-за меня, «мошенника на пожертвованиях», оскорбленно отказались от своей подписки на «Новое время». Но большинство писали, что доверяют моей совести и уверены, что я не имею к этому делу никакого отношения.
Я сам позвонил Кларе Немец и попросил ввести меня в курс происходящего. «Люди сегодня» в последнем номере еще раз прилежно подогрели и перемешали кашу скандала, но не привели ни одного нового факта. «День за днем» на титульной странице объявил о новом миллионном иске владельцев концерна PLUS против газеты конкурентов за клевету. Объявились и адвокаты Бертольда Хилле, они немного притормозили ход бурного пенообразования, заявив, что обдумывают правовые шаги против «Людей сегодня». От самого Хилле не последовало никаких комментариев.
Серьезные СМИ сообщали о разоблачениях дистанцированно, но временами насмешливо. Что касалось роли «Нового времени» и, в частности, моей персоны в серии пожертвований, то более или менее открыто признавалось, что у них нет никаких догадок на сей счет. «Что знал журналист Плассек?» – это была самая ходовая подпись под моими снимками, сделанными из-за угла. К счастью, они исходили из того, что я не готов ни к каким интервью, и в этом были совершенно правы.
Я рассказал Кларе о нашем странствии в мир аутистских рисунков Романы и сразу получил зеленый свет на репортаж.
– Ты прав. Продолжаем в том же духе, это единственное, что мы можем сделать в настоящий момент, – сказала она.
– Когда репортаж будет напечатан? – спросил я.
Это была ошибка, чреватая последствиями, поскольку Кларе не пришло в голову ничего лучше, как сказать:
– Разумеется, завтра.
– Завтра не получится, до сдачи номера остается только два часа, я не успею написать материал, – произнес я.
– Успеешь, – ответила Клара, скорее в приказном тоне.
– Ясное дело, успеем, – завопил за моей спиной Мануэль.
Итак, получилось как минимум два с половиной голоса против одного.
То есть мы успели.
* * *
В восемнадцать часов нам прислали верстку, на которой читателю сразу бросалась в глаза монструозная гадюко-рыба-меч на лапах пумы. Мануэль был в восторге и в награду принес мне без дополнительной просьбы пиво из холодильника. Репортаж нам и впрямь удался; Мануэль, как обычно, предоставил для него основную часть повествовательного материала, многословного и пенящегося через край, я его ужимал. Две трети работы, конечно, проделала редакция «Нового времени», предпослав действительно интересную фоновую информацию об аутизме и об острове гениальности, так называемом синдроме Саванта. Тут можно было прочитать, что люди с ограниченными возможностями или нарушениями в развитии зачастую могут проявлять необычайные результаты в частичных областях, то есть на своих когнитивных островках. Поэтому были не редкостью выдающиеся музыканты, слепые от рождения, или аутисты с аномальными свойствами памяти и специфической художественной одаренностью.
– Даже если больше не будет денежных пожертвований, твои статьи – просто находка для нашей газеты, они всегда волнуют и трогают, – похвалила по телефону Клара.
– Все это во многом благодаря нашему восходящему молодому коллеге Мануэлю, – ответил я достаточно громко, чтобы он мог слышать.
За это он мне, правда, не принес из холодильника еще одно пиво, но и не поморщился, когда я взял его сам.
– Кстати, тут в твоей почте еще два сюрприза, – сказал он.
– Негативные? Тогда оставь их, пожалуйста, себе.
– Нет, скорее позитивные, – ответил он.
– А именно?
– Опять написал тот мужчина, преданный читатель, который, может быть, и есть на самом деле благодетель, если это не Хилле, – доложил он. И зачитал мне текст: «Дорогой господин Плассек, я, конечно, не собираюсь вам здесь давать советы, но для себя я хотел бы, чтобы появившиеся абсурдные сообщения в СМИ не сбили вас с пути. А поскольку вы спрашивали, не знаю ли я вашу маму и не передать ли ей что-нибудь от меня, я с удовольствием отвечаю: да, я знал ее. И да, будьте так добры и назовите ей, пожалуйста, всего четыре цифры – в такой последовательности: 1, 9, 7, 4. Большое вам спасибо и сердечный привет, Ваш преданный читатель».
– Должно быть, он имеет в виду год – 1974, – сказал я.
– Ясное дело, а что же еще, – ответил Мануэль.
Он не мог хотя бы раз оставить меня более догадливым.
– В 1974 году мне было четыре года, – заметил я.
– Но он совсем не это хотел сказать.
– Разумеется, он не это хотел сказать.
– Тогда зачем ты об этом упоминаешь?
– Можно я буду упоминать то, что мне захочется? – попросил я.
– Но это лишь сбивает с толку, когда ты все время упоминаешь что-нибудь, не имеющее никакого значения в настоящий момент, – сделал он выговор.
Мы еще пораскинули умом туда и сюда, пока нам не стало ясно, что загадку мы можем решить, только если привлечем к этому маму. И лучше бы сегодня, чем завтра, по мнению Мануэля. Но на сей раз вышло по моему.
* * *
– А второе сообщение? – спросил я.
– Ах, оно не такое важное.
– От кого оно?
– Ты правда хочешь знать? – скучающе спросил он.
– Говори уже.
– О’кей, от стоматологини.
– От Ребекки? – Разумеется, я не выказал никакого волнения – по крайней мере, почти никакого. – Ну-ка, что она пишет?
– Ой-ей, кажись, я уже стер это сообщение, к сожалению, – сказал он.
– Ты с ума сошел!
Хотя вообще-то я не склонен к внезапным взрывам ярости.
– Мне очень жаль, я думал, это тебя не так уж интересует.
Тут я был близок к тому, чтобы залепить ему позднеотцовскую затрещину.
– А нельзя его как-нибудь снова извлечь из сети? – спросил я.
Только тут я заметил, что он весь побагровел и чуть не лопался от сдерживаемого смеха. Имейл он, разумеется, и не думал стирать.
– Очень весело, Мануэль! Ха-ха.
– А тебя ведь достало, а? – донимал он меня между приступами смеха.
– Ну, погоди, узнаешь, когда тебя самого достанет в первый раз!
– Меня это наверняка не достанет никогда! – поклялся он.
Только теперь я наконец смог улыбнуться свысока, потому что хотя бы в этом пункте я был гарантированно умнейшим из нас двоих.
Сообщение Ребекки гласило:
«Привет, Герольд, поскольку ты явно не прослушиваешь свою голосовую почту, я пытаюсь пробиться к тебе имейлом. Я всего лишь хочу сказать, что знаю тебя настолько хорошо, что уверена: ты бы никогда не стал участвовать в такой махинации. Я надеюсь, что это дело тебя не очень огорчило. Нора, моя коллега по Ценерхаусу, ты ведь ее знаешь, просила меня выяснить у тебя, должны ли мы теперь вернуть назад эти десять тысяч евро. Это было бы плохо, потому что аппаратура уже частично заказана, но что поделаешь. Пожалуйста, ответь. Я была бы рада встретиться. Вечерами у меня есть время. Большой привет, Ребекка».
* * *
После того как Мануэль ушел, а я от души нарадовался пока что самой любимой фразе за всю эру Ребекки – «Вечерами у меня есть время», – я написал ей ответ:
«Дорогая Ребекка…»
Поскольку всеми этими «приветами» я был уже сыт по горло.
«Дорогая Ребекка, десять тысяч евро вы ни в коем случае не должны никуда возвращать, я думаю…»
Это «я думаю» я немедленно стер…
«…никуда возвращать, об этом я позабочусь. Если у тебя еще не распланирован завтрашний вечер, а это среда, то я буду очень рад тебя видеть…»
Я исправил «тебя видеть» на «встретиться с тобой», это звучало бесхитростнее, ведь когда встречаешься, все равно видишь. О времени встречи я раздумывал дольше. Мне было бы лучше всего предложить ей двадцать один час. Но если действовать наверняка и исходить из принципов бесхитростности, то выбрать бы следовало вообще восемнадцать часов. И тут возникал вопрос, что мне написать – девятнадцать или двадцать часов. Поскольку я в таких вещах был человеком нерешительным, я написал:
«Время встречи я предлагаю 19.30. Кафе выбери по своему настроению…»
Из-за «настроения» я снова стер всю фразу и написал вместо нее:
«Кафе, пожалуйста, выбери сама: где ты себя хорошо чувствуешь. Сердечный привет, Герольд. P.S. Я очень рад!»
Нет, это звучало слишком назойливо. Я исправил:
«Сердечный привет, я очень рад, Герольд».
Баста.
Какой гешефт без денег
После этого я хотел вообще-то прослушать голосовую почту от Ребекки, вернее, услышать ее голос, но я завис уже на первом сообщении, а оно звучало скорее смущенно и было от Гудрун.
«Привет, Герольд, пожалуйста, позвони мне. Бертольд дома и хотел бы срочно с тобой поговорить. Может быть, вечером ты смог бы на минутку заглянуть к нам? Пожалуйста, отзовись!»
Я тут же перезвонил и сказал, что я практически на пути к ним. Я сказал это не подумав, потому что если бы подумал, то отказался бы или хотя бы отсрочил визит. А ведь некоторые визиты надо оставлять позади как можно скорее. Это понимал даже я, хотя в принципе был безоговорочным сторонником визитов на минутку, до которых дело так и не доходило, потому что они были все равно лишь пустой тратой сил и времени.
Мы расположились в его кабинете, где можно было даже побеседовать, потому что эта комната была наиболее удалена от комнаты Флорентины. А оттуда доносилась громоподобная музыка, оглашающая все триста квадратных метров их квартиры. На мой взгляд, можно было бы и попросить Флорентину немного уменьшить громкость, однако я не хотел вмешиваться в педагогические обыкновения семейства Хилле.
– Виски? – спросил Бертольд.
– Не откажусь.
Он казался подавленным и раскуривал сигару беспокойно и неловко. У него явно не было лишних сил на то, чтобы казаться надменным, так что мне снова стало почти жалко его. Мне всегда становилось не по себе, когда кто-нибудь больше не мог быть тем, за кого его принимали или за кого его следовало принимать. Для начала он несколько раз глубоко вздохнул, потом добавил к вздохам и слова.
– Да, налоговая полиция на нас насела, – сказал он.
– На нас? – спросил я.
– На семью. Попали все. Мы много чего понастроили, нам есть что терять, – поставил он в известность меня.
– Главное, много чего, – сказал я.
– Да, мой друг, насмехайся, шути, ты можешь себе теперь это позволить, ты ведь стал знаменитостью. Поздравляю, поздравляю!
Это был идеальный переход к теме, я считаю.
– Ты как-то замешан в спонсорстве? Это делал ты?
Тут он громко рассмеялся, или закашлялся, или выдохнул, или сделал все это одновременно, по крайней мере, дым при этом пошел.
– Ты это всерьез, Герольд?
– Нет.
– Ты считаешь это реальным хотя бы отдаленно?
– Вообще-то, нет, – ответил я.
– Тогда зачем спрашиваешь? Ты хочешь меня обидеть?
– Это что, обидно, если в виде исключения ты однажды отдаешь свои деньги человеку, который в них нуждается? – спросил я.
– Разве ты в них не нуждался все эти годы? – ответил он, тем самым однозначно поймав меня на лукавстве.
– Нуждался, и это мне тоже очень неприятно. Я бы тебе вернул их лучше сегодня, чем завтра, можешь мне поверить, – сказал я.
– Весьма похвально, Герольд, может, мне они еще необходимее.
Тут я невольно рассмеялся. Его чувство жалости к себе было даже больше, чем мое сострадание.
Затем он объяснил, что стояло за миллионными вкладами в Лихтенштейне. То были, так сказать, карманные деньги для его партнеров по бизнесу, для политиков и ведущих чиновников в Латинской Америке и на Дальнем Востоке.
– А я думал, ты являешься посредником в заказах на стальные конструкции, – признался я.
О’кей, я уже и сам почувствовал, что это звучало наивно, но ему не стоило из-за этого давиться сигарой и душить себя прокопченным кашлем.
– Герольд, я не посредничаю в получении заказов, я покупаю заказы. Чтобы их покупать, мне нужны деньги, очень много денег. И я не могу допустить, чтобы эти деньги у меня полностью сожрали налоги, я не могу себе это позволить, мы все не можем себе это позволить, понимаешь?
Нет. Эти вечные жалобы на слишком высокие налоги я никогда не понимал. Собственно говоря, жаловаться должны были те, кому не с чего было платить налоги, поскольку они почти ничего не зарабатывали. Но неважно. Его расчеты велись по-другому.
– Чем больше пирог, тем больше народу хотело бы им лакомиться. Чем крупнее заказы, которые я привлекаю в страну, тем дороже их выкупить. Без денег нет никакого гешефта, а без гешефта нет денег. Вот так все просто. Так функционирует экономика. Так функционирует мир.
К счастью, я никогда не интересовался тем, как функционирует мир. Самое большее – меня удивляло, что он уже так долго функционирует.
– А то, что это всегда было ровно десять тысяч евро, которые ты снимал со счета? Чистая случайность?
– Это наша единица. В супермаркете, когда ты берешь тележку для продуктов, ты суешь в щель один евро. В мире бизнеса это десять тысяч. Это наша основная расчетная единица.
Ну вот, теперь в нем опять промелькнул старый бонза. Последующая затяжка сигарой сразу же удалась ему чуточку лучше.
– А твои разговоры с владельцами концерна PLUS? Это не имело никакой связи с пожертвованиями?
– Ни малейшей.
– Тогда почему они такое пишут?
– Потому что это хорошая скандальная история. Потому что они могут обо мне писать сейчас все что угодно – и подлец-то я, и уклонист от налогов, – а мне нельзя оправдываться, у меня петля на шее. Ты понимаешь?
Это я понимал, по крайней мере, голос его звучал именно так, как если бы на шее у него была удавка.
– Вот что я хотел тебе сказать, – закончил он.
– Что именно?
– Что в настоящий момент я не могу давать официальное опровержение и заявлять, что это не я был великим благодетелем, иначе мне пришлось бы объяснять, куда же в таком случае утекли деньги, а этого мне делать никак нельзя.
Тут я прямо-таки обомлел.
– Это значит, что люди и впредь должны верить, что…
– Я ничего не могу против этого предпринять, мой адвокат велел молчать, мне очень жаль.
Я-то всегда полагал, что велят как раз адвокатам, а не наоборот, но в этом извращенном мире гешефта можно было ожидать чего угодно, к этому я уже привык.
– Герольд, мне правда очень жаль, что твое дело, само по себе хорошее…
– Не трудись.
– Тем не менее, и я говорю это совершенно честно, также и от имени Гудрун и Флорентины – мне настолько жаль тебя, что ты не поверишь…
– Не надо меня жалеть, пожалей себя, – ответил я.
Бедная Гудрун, после меня она действительно заслуживала чего-то лучшего, а не того, чтобы из огня да в полымя.
– И пусть наш разговор останется между нами, это ты должен мне обещать, – добавил он наполовину чистосердечно, наполовину униженно.
– О’кей, но при одном условии, – сказал я.
– И каково оно?
Я был бы рад помучить его дольше, но момент для этого был и впрямь не идеальный, когда он так на меня смотрел.
– Еще один виски, – ответил я.
Глава 15
От спокойствия не остается и следа
На следующий день я, к счастью, проснулся лишь к полудню и, почистив зубы, как раз успел прочитать два имейла из двух десятков непрочитанных. Причем ко второму – от Петера Зайбернига – я перешел скорее машинально, потому что мысли мои все еще оставались в первом. Который был от Ребекки.
«Дорогой Герольд, у нас гора свалилась с плеч оттого, что нам не придется возвращать пожертвование назад. Вечер среды, в 19.30, мне очень подходит! Как ты смотришь на то, чтобы встретиться в кафе «Хозе Антонио» в Фридмангассе? У них есть испанское пиво и на закуску замечательные тапас».
До этого места сообщение было просто превосходным, но затем произошел перелом:
«Я, кстати, спросила у Норы, не хочет ли она тоже пойти. Я надеюсь, тебе это не помешает. Дела у нее в настоящий момент не очень, и я подумала, что ей пошло бы на пользу немного отвлечься. Идея ей очень понравилась… ☺ Итак, пока, до вечера среды! Мы рады, Ребекка».
Это обескураживало, а если разобраться, было настоящей подлостью – да еще в комбинации с этим смайликом, относящимся к Норе, так что я уже подумывал, не взять ли мне с собой одного из моих приятелей – например, Хорста или Йози – в наказание – и не приставить ли его к Ребекке, но потом я счел это все-таки слишком жестоким. Но, так или иначе, она мне уже наперед испортила всю радость от нашего первого настоящего рандеву. Может, в зубах она что-то и понимает, но в романтике она лузер. Мысль о том, что она, возможно, вообще не испытывает ко мне симпатии как к мужчине и потому ищет спасения в невинной встрече втроем, я смог выносить не больше нескольких долей секунды – из-за слишком высокого градуса безутешности.
* * *
Итак, я соскользнул в имейл Зайбернига. Он поздравлял меня с чутким репортажем об аутистке Романе с ее рисунками; на этот репортаж уже поступали многочисленные положительные отклики. Даже одна якобы именитая венская галеристка, имя которой мне, естественно, вообще ни о чем не говорило, позвонила и завела речь о перспективах вернисажа «интересной юной художницы». Я уже было собирался закрыть имейл Зайбернига, не дочитав до конца, но тут наткнулся на следующее:
«А теперь о другом. Не знаю, говорила ли с вами об этом Клара Немец. Но мы хотели бы крепче связать вас с нашей газетой. Ваши социальные репортажи уже стали товарным знаком – тем, чего давно не хватало «Новому времени». И это совершенно никак не связано с серией спонсорских пожертвований. Может быть, вам стоит сначала подумать, хотите ли вы получить штатную должность, в январе она как раз освобождается. Тогда вы получите также рабочее место в редакции, однако регулярное присутствие на рабочем месте от вас не потребуется. Подумайте об этом в спокойной обстановке. На все вопросы я охотно отвечу. Сердечный привет, Петер Зайберниг».
Если смотреть объективно, это было долгожданное радостное известие, хотя меня и раздражало то, что в последнее время мне то и дело предлагали что-нибудь обдумать в спокойной обстановке. Если это больше двух вопросов одновременно, моя голова переполняется до краев, и через нее больше ничего не проходит, все застревает, и тогда от спокойствия не остается и следа.
Кроме того, я заметил, что по-настоящему обрадовался предложению лишь при мысли о Мануэле, потому что «Во-первых, я твой отец, а во-вторых, я теперь работаю в штате «Нового времени» звучало намного лучше, чем «Во-первых, я от случая к случаю пишу статьи, чтобы у меня были деньги на хлеб насущный и насущное пиво, а во-вторых, я твой отец».
Как раз в этот момент позвонил Мануэль, осведомился, какие уже есть отклики на наш репортаж, спросил, нет ли новостей из серии пожертвований, на что я ответил отрицательно, и сообщил мне, что сегодня он не сможет прийти, потому что договорился со школьными друзьями.
– Но тебе что-то хочет сказать тетя Юлия. Пока!
– Тетя Юлия?
– Да, привет, это Юлия. Слушай, Герольд, а мы не могли бы поговорить?
– Конечно, мы ведь говорим. Что там у тебя?
– Я имела в виду, не по телефону. Может быть, сегодня, не могли бы мы…
– Да, разумеется, ты можешь зайти ко мне, только это должно быть еще до вечера, потому что вечером у меня… мне надо… Вечером я… недоступен.
Да, к сожалению, «недоступен» – это было, пожалуй, единственно верное слово для того, что у меня ожидалось вечером.
Водка, увы, пресновата
– У меня сейчас, к сожалению, не прибрано, – сказал я.
Юлия кивнула, даже не оглядевшись по сторонам.
Мы пили фруктовый чай, то есть она пила фруктовый чай, к тому же без сахара, а я пил пиво, но она, несмотря на это, не бросила в мою сторону ни одного укоризненного взгляда. Мы говорили про Мануэля, про то, какой он замечательный мальчишка, какой разумный и интеллигентный – скорее как шестнадцати– или семнадцатилетний.
– Иногда он кажется более зрелым, чем я сам, – признался я.
К моему стыду, Юлия даже не сделала попытки возразить. Но зато я заслужил от нее и щедрые комплименты.
– Гери, ты хорошо на него влияешь, он по-настоящему расцвел. И Алиса счастлива, что ты так о нем заботишься и даже берешь с собой на репортажи, и что он тебе целиком доверяет, и что у вас все так хорошо складывается. Для него ты стоишь просто на пьедестале, – сказала она.
Я это проглотил, и оно вошло внутрь меня, о’кей, так сказать, как по маслу.
– При первой же возможности сознаюсь ему, что я его папа, – пообещал я.
В этот момент я действительно твердо вознамерился это сделать.
– Да, – сказала она, скорее даже: «Да?», то есть с вопросительной интонацией, что меня немного смутило.
– Я специально купил велосипед и хотел поехать с ним вдвоем покататься, как это делают все настоящие отцы, вообще-то, я давно уже собирался это сделать, но, к сожалению, эта дурацкая зима мне помешала, – рассказывал я.
После этого установилась пауза, в которой возникло чувство, что Юлия собирается сказать мне что-то неприятное.
– Я в постоянном контакте с моей сестрой. Я много говорю с ней по телефону, – сказала она ни с того ни с сего.
– Да? Это хорошо. Африка теперь не такая потусторонняя страна, не так ли?
– На Рождество она, кстати, приедет в Вену.
– Хорошо, Мануэль будет рад, – ответил я.
– Потом пройдет всего два месяца, и она вернется сюда уже надолго.
– Надо же, как быстро пролетели полгода, – удивился я.
– Да, ужасно быстро.
– С ума сойти, – сказал я.
И мы оба покивали.
– Она сейчас, кстати…
– Что?
– У нее сейчас есть постоянный друг, наконец-то настоящий партнер.
– В самом деле? Настоящий… то есть из Сомали? – спросил я.
– Нет, из Брауншвейга. Врач. Ее коллега. Йохен.
– Йохен, – повторил я по возможности нейтрально, без оценки. У нас в Австрии все-таки совсем другая культура имен: Вальтер, Гюнтер, Вернер, под этими именами легко представить себе тип человека. Но Йохен? По мне, так лучше бы он был какой-нибудь Курти, Карли, Франци – это хотя бы характеры. Или Мануэль – вообще-то, красивое имя, особенно когда знаешь человека под этим именем. Оно мне с самого начала нравилось, ну, почти с самого начала. Но Йохен?
– Они вместе… Они знали друг друга и до этого. Йохен был одной из причин, почему она решилась на африканский проект. А теперь это углубилось, и даже очень сильно углубилось.
– Хорошо для них обоих, – произнес я.
Юлия кивнула, но вид у нее при этом был какой-то кислый, что гарантированно не было связано с фруктовым чаем без сахара.
– Они хотят пожениться.
– Пожениться?
– Да, они приедут в Вену вместе и поженятся, вероятно, уже в мае.
– В мае. Май – идеальный месяц для женитьбы. Все женятся в мае. То есть все, кто женится, – сказал я.
– Правильно. Тогда им понадобится более просторная квартира, для… э-э… для троих-то.
– Для троих? Алиса беременна? – спросил я.
Она засмеялась.
– Нет-нет, еще нет, тогда бы уже было для четверых. Я пока что имею в виду Мануэля.
– Мануэля. Ах да. Разумеется, – согласился я.
Я ощутил покалывание или легкое жжение, как будто кто-то у меня в желудке только что открыл слишком теплую банку колы.
– А он знает? Он уже знает… э-э… Йохена?
– Еще нет, только по рассказам, – сказала она.
Во мне что-то шевельнулось, я точно даже не знаю, что это было, но касалось оно в первую очередь Флорентины и меня. И Бертольда. Это было что-то вроде дежавю, такой фильм из старого времени, в голове замаячили картинки, которые я давно уже стер – и не раз, а они снова проявились сами собой.
– Это будет для него совершенно новая ситуация, – сказала Юлия.
– Да, совершенно новая, наверняка, – ответил я.
– И трудная, Алиса этого заранее боится.
– Еще бы. А чего конкретно? – спросил я. Хотя, естественно, знал это.
– Ну, Йохен и Мануэль, как у них сложится. Как получится жить в одной квартире, всей семьей. Понимаешь?
– Всей семьей. Да, я понимаю.
Я вскочил, сбежал из комнаты и достал из холодильника еще одно пиво. Юлия воспользовалась моментом и крикнула мне вдогонку ключевое послание, во всяком случае, его начало.
– И поэтому, может, было бы лучше, так считает Алиса, было бы лучше для Мануэля, если бы он… чтобы его не смущать и не перегружать…
– Ты хочешь сказать…
– Алиса считает…
– Алиса считает, будет лучше, чтобы он не знал, что я его отец.
– Ну, может, хотя бы не сейчас.
– Я понимаю, – расстроился я.
Где-то еще должна была оставаться наполовину початая бутылка водки.
– А то у него окажется сразу два отца. То ни одного, а то вдруг сразу два, и он, может быть, будет чувствовать себя раздираемым на части, будет рваться туда и сюда. Понимаешь? Вот такие у нее опасения.
Я нашел ее, эту бутылку, она стояла за стиральной машиной, рядом со средством для чистки стекла.
– Это только поначалу, пока не устроится дело с Йохеном.
– Да, я понимаю. Я понял.
– Но это, разумеется, ничего не изменит в твоем общении с Мануэлем. Йохен тут наверняка очень…
– Очень толерантный. Это меня радует. Может, мы даже подружимся. И тогда будем все вместе ездить на велосипедные прогулки. Втроем. – Я улыбнулся.
Водка, к сожалению, оказалась пресноватой на вкус.
Чемпион мира по ожиданию
Приблизительно за час до нашей встречи я позвонил Ребекке, чтобы отменить свидание. Я чувствовал себя не в состоянии выслушивать от Норы во всех подробностях, почему дела ее плохи, а тем более развлекать ее. Кроме того, я выпил уже слишком много – слишком много или слишком мало, одно из двух. Вероятно, даже скорее слишком мало. Однако огорчение Ребекки оказалось больше, чем я ожидал.
– Это честно, ты правда не можешь прийти? Но почему? Ты заболел? Или что-то случилось? – спрашивала она.
– Нет-нет, ничего не случилось, это всего лишь просто не мой день.
– Но, может, он еще станет твоим днем, – сказала она.
– Вот это вряд ли. Практика показывает: если день не мой, то он так и остается не моим, а уж вечер потом точно всегда не мой.
– Ах, Герольд, значит, зря я заранее радовалась.
– Да, ты радовалась? Я, вообще-то, тоже, с самого начала, все эти недели, – признался я.
– К тому же Нора отказалась. То есть вы оба меня бросили, и мне это совсем не нравится.
– Как, Нора не придет? – переспросил я.
– Нет, она встречается с Ронни, это… ну, неважно. Она не придет.
– И ты бы меня, несмотря на это, все равно… то есть ты хочешь сказать, мы встретимся вдвоем?
– Да, разумеется, я хочу есть. А ты не хочешь?
– Хочу, немножко, вообще-то, я только что заметил, – соврал я.
– Ну, Герольд, тогда возьми же себя в руки, и встретимся, как договорились. О’кей?
– О’кей.
– Наверняка будет хорошо, вот увидишь, и у них там настоящие, чудесные тапас, – сказала она.
* * *
Вообще-то, я был не из тех людей, которые могут трезветь по приказу, но после холодного душа и свежей, хотя и неглаженой, белой рубашки – то была, вообще-то, моя единственная рубашка для выхода, а под выходом я теперь понимал не обязательно бар Золтана, – короче, я снова чувствовал себя почти в форме, и я был рад, что мне сейчас не нужно было думать о моем будущем с Мануэлем, вернее, без Мануэля, по крайней мере, думать непрестанно.
К счастью, в этом крайне изысканном «Хозе Антонио» были плотно исписанные, содержательно богатые меню, в которые можно было углубиться надолго и молча, ибо в первые минуты с Ребеккой я практически не мог выдавить из себя ни слова, настолько меня парализовало то, что было мне визуально явлено. Это было более чем впечатляюще: если женщина даже в белом халате так и просилась на миланские подмостки и даже в защитной маске имела такие пол-лица, что хоть сейчас на обложку Vogue, то можно себе представить, как она могла выглядеть вечером, когда практически ни один ее светло-русый волосок не был предоставлен случайности, да еще и свечи подыгрывали всему ансамблю. А ее тесно облегающий черный пуловер имел вставку от шеи вниз, представляющую собой тонкоплетеную вязку, вышивку, или москитную сетку, или фиг его знает что – я, к сожалению, не мог вглядываться туда достаточно долго, потому что при этом сразу забываешь поддерживать дыхание. В какой-то момент она оторвала взгляд от меню, посмотрела мне прямо в глаза – так, что голова пошла кругом, – и мягко сказала:
– Я возьму закуску с рыбой и овощами.
– Это хорошая мысль, – одобрил я.
С учетом моего состояния такой ответ можно было признать поистине находчивым.
* * *
Дар речи вернулся ко мне благодаря паре бокалов вина. Вначале мы обсуждали темы, лежащие на поверхности: ресторан, еду, зиму, Рождество, немного работу, немного зубы, чуть-чуть журналистику, очень много – пожертвования, очень много – загадки, очень много – открытые вопросы, общество, деньги, конец света и так далее.
Затем все больше говорили о личном. Оттолкнувшись от Норы, которая вот уже лет десять была несчастливо влюблена в Ронни, но лучше бы она усомнилась в своей влюбленности, а еще лучше – в самом Ронни, чем раздумывать, так ли уж она несчастлива, – мы перешли к представлению Ребекки об идеальном мужчине. Во всяком случае, недавний ее мужчина-для-субботних-вечеров им не являлся.
– И почему же?
– Потому что он женат.
– Это аргумент.
– Да, особенно когда впервые узнаешь об этом только на следующее утро.
– Ну, от меня ты узнаешь все с вечера: я разведен и, таким образом, свободен, – сказал я.
Она засмеялась. На это было приятно смотреть – и не только потому, что с зуботехнической стороны она могла демонстрировать себя как своего лучшего клиента.
– Мне нравятся мужчины с чувством юмора, как у тебя, – улыбалась она.
Мне было бы приятнее услышать «как ты». И еще: пора бы уже ей воспринимать мой юмор несколько серьезнее, а меня самого, может быть, несколько буквальнее, подумал я.
– А прежде всего мне нравятся мужчины, которые на меня не давят, – продолжала она.
– Что ты имеешь в виду под давлением?
– Ну, что они от меня чего-то ждут. Что они хотят чего-то определенного. Ну, ты знаешь.
– Да, приблизительно, – сказал я.
– Вот есть немногие мужчины, с которыми можно куда-то выйти без того, чтобы они сочли это за нечто, за некий сигнал.
– Я понимаю, – произнес я вопреки правде.
Ибо «нечто», вообще-то, присутствует всегда, а если бы не было ничего, то хотелось бы, естественно, чтоб оно как можно скорее стало этим «нечто», и мне точно так же, в особенности по отношению к ней, но ладно, неважно.
– Мне хотелось бы иметь возможность просто быть такой, какая я есть, а не взвешивать каждое слово на чаше весов.
– Да, у меня все точно так же, – ответил я.
Больше всего я желал взять ее руку и положить на чашу весов, но это было бы контрпродуктивно. Кроме того, Ребекка была еще не в той точке.
– У меня чувство развивается довольно долго.
Тогда она выбрала себе идеальную работу, подумал я.
– И есть не так много мужчин, которые достаточно терпеливы и могут ждать. И дают время, которое мне необходимо, – закончила она ход своей мысли.
Ну-ну, и тут есть риск: например, женщине, в которую ты безумно влюблен, даешь время, чтобы развились ее чувства, а годы спустя обнаруживаешь, что эти чувства так и не развились – по крайней мере, в нужном направлении. Но я поклялся себе в данный момент быть терпеливым. Я ведь и без того был чемпионом мира по ожиданию. Я мог продержаться дольше, чем кто бы то ни было. В ничегонеделании я был некоронованным королем.
* * *
Я не хотел затрагивать эту тему, а хотел скорее вытеснить ее, но ведь в вине, как известно, кроется истина, в том числе и неприятная, вот потому-то я предпочитаю пиво. Так или иначе, мы в конце концов заговорили про Мануэля, и тут я впал в депрессию. Ребекка сразу принялась допытываться, и я рассказал ей всю историю про Алису и про этого внезапного Йохена из Брауншвейга.
– Честно признаться, мне бы не хотелось снова терять своего ребенка, – сказал я.
– Мануэля ты не потеряешь, это точно, – заверила она.
– Но когда ты одиночка, против семьи ничего не сделаешь, уж мне ли не знать, с Флорентиной было то же самое.
– Разница только в том, что Флорентина тогда была маленьким ребенком. А Мануэль почти взрослый и сам может решать, с кем он хочет быть в контакте и с кем проводить время. А в этом отношении ты есть и наверняка останешься для него самым первым номером, – утверждала она.
– Ты так считаешь?
– Кроме того, когда-нибудь у тебя снова будет своя семья, и, может, быстрее, чем ты думаешь, – сказала она.
Именно на этих словах она положила свою ладонь на мою, которую я запоздало развернул, чтобы было ладонью к ладони: так можно больше ощутить.
– Так быстро у меня не получится, – усомнился я.
– Почем ты знаешь?
– Знаю. Потому что у меня есть обыкновение влюбляться только в женщин, которым требуется аномально много времени, пока у них разовьются чувства, это может длиться вечно, – ответил я.
Ребекка, правда, рассмеялась, но по оранжевому цвету ее ушей я понял, что мое послание на сей раз недвусмысленно дошло до нее.
Новотны в беде
В четверг Мануэль, взволнованный, ворвался в дверь после тренировки по баскетболу и хотел знать только одно: получила ли Романа спонсорское пожертвование. После нашей поездки в Донауштадт он вообще поразительно часто упоминал имя Романы, но я поначалу избегал заговаривать с ним об этом.
– Нет, к сожалению, пока нет, иначе бы меня уведомили, – ответил я.
После этого он горячо упрашивал меня позвонить Новотным и спросить, против чего я так же горячо возражал, пока мы, обоюдно изнурив друг друга, не достигли компромисса: я позвоню соседке, Кристине Кронбергер. Та сообщила мне разом две нерадостные новости. Во-первых, денежное пожертвование не поступило, но это было еще полбеды. Ибо, во-вторых, с Людвигом Новотны – видимо, из-за ажиотажа в прессе – случился инсульт, и он теперь лежит в больнице.
Романа с тех пор ни с кем не разговаривает, а Эрика Новотны находится на грани нервного срыва, да к тому же без денег.
Я заранее знал, какова будет реакция Мануэля, и она подтвердилась слово в слово.
– Мы должны что-то предпринять.
У меня на языке уже вертелся подходящий ответ – мое непременное «Не-так-уж-много-мы-можем-сделать», но я успел вовремя проглотить эти слова и сказал:
– Я подумаю, не придет ли мне что-нибудь в голову.
Таким образом я обеспечил себе хотя бы временной буфер. А Мануэль мог предаться воздействию того факта, что журналистика иногда достигает прямо противоположного результата, чем тот, к чему она стремилась.
* * *
Вечер я списал со счета и его остаток намеревался отдать бару Золтана. Я уже взял в руки зимнюю куртку, но тут заглянул в свой мобильник и наткнулся на новое сообщение от Ребекки. Это было несколько неожиданно, ведь я вел себя сдержанно и не отправил ей ни одну из эсэмэсок, черновики которых сохранил в папке.
«Дорогой Герольд, еще раз благодарю тебя за чудесный вечер. Не хочу, чтобы он был последним. Мне нравится, какой ты – прямой и открытый. Надеюсь, я наговорила не так много глупостей, вино слегка ударило в голову. Если у тебя будет желание еще как-нибудь выйти со мной, дай мне знать! Сердечно, твоя Ребекка».
Я знал, что даже не слишком близкие знакомые пишут друг другу в конце словечко «твоя-твой», но в данном случае разрешил себе воспринять «твоя Ребекка» совершенно лично и именно об этом хотел сейчас еще некоторое время поразмышлять. И в виде исключения я предоставил бар Золтана самому Золтану, открыл банку пива и остался дома, где мог без помех разбирать изображение «моей Ребекки» на все ее чарующие составные части и снова складывать их вместе.
Очень личная спонсорская акция
Днем в пятницу мне позвонила Ангелина из «Нового времени», чтобы сообщить, что к Новотным конверт с пожертвованием так, к сожалению, и не поступил. И мне стало ясно, что серия анонимных благодеяний закончилась – по каким бы то ни было причинам.
В этой связи Ангелина, естественно, хотела знать, как ей отвечать на многочисленные звонки и письма. Она попросила меня сформулировать ответы «на пять-десять, максимум пятнадцать» вопросов читателей, которые потом можно будет выдавать письменно или устно.
– Без особой охоты, но так и быть, – согласился я.
Мне все равно нечего было делать, и я сел за компьютер.
Один из последних вопросов касался непосредственно Новотных и гласил:
«Многоуважаемый господин Плассек, мы с большим недоумением прочитали о судьбе семьи с дочерью-аутисткой. Нельзя ли организовать в Вашей газете небольшую акцию по сбору пожертвований для этой семьи, чтобы она не была поставлена в зависимость от благосклонности одного-единственного благородного – или совсем не благородного – «большого спонсора»?»
Тут я вдруг вспомнил про пять золотых дукатов от моих соседей, Энгельбрехтов. И даже оживил в памяти, куда я их прибрал. И я сразу же отправился с ними в банк. На моем счете скопилось – более или менее без моего участия, если не считать полдюжины социальных репортажей – удивительные 7685 евро гонораров, 35 евро я оставил в банке, чтобы там и впредь значилась черная цифра, а не красная, как раньше, а остальное я снял. За золотые монеты мне дали 615 евро. Таким образом, в моем распоряжении было 8265 евро наличных денег, то есть до магических десяти тысяч недоставало еще 1735 евро. Времени до прихода Мануэля было ровно час, и мне не пришлось раздумывать, кому лучше всего позвонить.
– Алло, Гудрун, как дела?
– Спасибо, плохо. Флорентина заперлась в своей комнате, а Бертольд в настоящий момент недоступен для связи. Короче: мне не с кем поговорить.
– Есть с кем: со мной. Поскольку у меня к тебе важное дело. Ты могла бы одолжить мне 1800 евро?
Она присвистнула в телефонную трубку.
– Ну ты шутник. Где я возьму столько денег?
– О’кей, тогда всего лишь 1735. Прошу тебя. Мне срочно нужны деньги. Я верну через пару недель. Самое позднее в январе, тогда я буду работать в штате «Нового времени».
– Ты будешь работать в штате «Нового времени»?
– Да, это уже точно.
– Здорово, – сказала она.
– Я тоже так считаю. Я могу к тебе сейчас заскочить за деньгами?
– Сейчас?
– Да. Я же сказал, это срочно.
– Сколько, ты сказал? 1800?
– Да, 1800. Или две тысячи, если у тебя нет мелочи. Это неважно.
* * *
Должно быть, Мануэль пришел домой на пару минут раньше меня.
– Ну, что с пожертвованием? – спросил он.
– К сожалению, ничего, – ответил я.
Он казался пришибленным и смотрел на меня как на человека, от которого никакого чуда ждать не приходится. И хотя приблизительно так на меня все и смотрели последние двадцать лет, но только сейчас – от взгляда Мануэля – мне это стало по-настоящему неприятным.
Тем более я радовался сюрпризу, который мне еще предстояло ему устроить.
– У тебя много дел? – поинтересовался я.
– Ну, так себе.
– Давай навестим Роману и ее мать?
– Когда?
– Сейчас, – сказал я.
– Сейчас?
– Да, сейчас. Ну, так что, давай?
– Да. Давай. Конечно.
Он казался нерешительным.
– Но? – спросил я.
– Но что мы будем там делать, что им скажем?
– Мы могли бы попробовать их подбодрить, могли бы их немного утешить, – сказал я.
– Но как? Тем, что сообщим об отсутствии пожертвования? Это не особо утешительно. Да они и без нас это знают.
– У тебя есть идея получше? – спросил я.
– Ну, мы могли бы купить у Романы хотя бы один рисунок, если она согласится отдать. У меня есть двадцать евро. А у тебя?
Это была отличная подача.
– У меня есть десять тысяч евро, – ответил я.
Признаться, я находил себя по-настоящему крутым в этот момент, когда достал толстый конверт и бросил его на стол на глазах Мануэля – на его широко распахнутых глазах, – приблизительно такой же крутизны, как Майкл Дуглас в фильме «Уолл-стрит». При этом мой триумф состоял в том, что Мануэль в счастливом экстазе спонтанно бросился мне на шею. Так что мне уже было что предъявить пресловутому Йохену. На это и были рассчитаны десять тысяч евро.
– Значит, все-таки пожертвование поступило? – спросил он.
– Не совсем.
– Как не совсем?
– Я немного этому поспособствовал, я… собрал среди своих друзей, – замялся я.
– Вау. А я и не знал, что у тебя такие богатые друзья.
– Я тоже не знал, честно признаться, – ответил я.
Чудо второго конверта
Для Мануэля эта долгая поездка обернулась разочарованием, потому что Роману он не увидел. Но в ее папке было два новых рисунка животных, причем, судя по этим рисункам, нельзя было утверждать, что у художницы был творческий период, отмеченный внутренним покоем и теплом. Но кого бы это удивило.
Я сам поначалу был до полного изнеможения занят тем, что во всех подробностях выслушивал от Эрики Новотны историю болезни ее мужа с параличом правой руки, из-за которого он останется недееспособным на ближайшие несколько месяцев: какой может быть сантехник с парализованной рукой! Я рассказал ей об одном случае, как человек целый год после инсульта с односторонним параличом не только справлялся со своей работой, но даже выиграл полумарафон. На самом деле то был никакой не полумарафон и даже не четвертьмарафон, а международный шахматный турнир, если память мне не изменяла. Но я заметил, что госпожа Новотны была настроена цепляться за каждую соломинку.
Хорошую новость, то есть подарок, мы держали при себе до последнего, чтобы радость от него могла по-настоящему развернуться после нашего визита.
Когда мы уже стояли в прихожей, чтобы распрощаться, я наконец приступил к своей главной фразе – по крайней мере, к ее части:
– Анонимный благодетель на сей раз, правда, не объявился, но зато у нас в редакции, а также в ближайшем окружении мы собрали много, много мелких пожертвований, поэтому нам особенно радостно…
Дальше я не продвинулся, потому что на Мануэля вдруг снизошла неудержимая потребность высказаться, и он перехватил у меня инициативу.
– В этом конверте ровно десять тысяч евро, это для того, чтобы Романа могла посещать курсы живописи, потому что она так замечательно рисует и делает такие крутые картинки, – воскликнул он достаточно громко, чтобы его можно было услышать и в ванной, где Романа, по словам матери, заперлась и сидела уже несколько часов.
Хотя никто на это не рассчитывал, а госпожа Новотны еще не опомнилась от нашего сообщения, тут с некоторой робостью вдруг приоткрылась дверь ванной, бледная девочка юркнула мимо нас в сторону своей комнаты и на бегу крикнула нам:
– Погодите, не уходите!
А потом на наших глазах разыгрался истинный сюрприз этого дня. Романа набралась мужества присоединиться к нам – и это было связано с вещью, которую она поначалу прятала за спиной, а потом наконец гордо показала и повертела ею в воздухе. То был конверт, то есть уже второй конверт, который был здесь, в прихожей, так сказать, в обращении, причем она не могла решить, кому из нас его протянуть, пока Мануэль не перехватил у нее сразу и то, и другое – то есть конверт и решение. В уже распечатанном конверте находились ровно двадцать купюр по пятьсот евро каждая и газетная вырезка, на которой красовалась рыбо-меч-гадюко-пума.
– Это прислали мне, это мое, – заявила Романа, указав на свое имя на конверте.
– Анонимное пожертвование, – пробормотал Мануэль.
Он был огорошен не меньше моего.
– Да, но, детка, с каких это пор ты вынимаешь почту? И почему ты не сказала об этом мне? – заторможенно спросила Эрика Новотны.
Она явно еще не достигла того состояния, в котором могла бы осознавать столь быструю череду радостных сенсаций.
– Это прислали мне, это мое, – повторила Романа.
Как будто ситуация и без того не была достаточно суматошной, нам пришлось вести дебаты еще и о том, как теперь поступить с нашим денежным конвертом. Поскольку Эрика Новотны и даже Романа руками и ногами отбивались от того, чтобы принять его в подарок. Я же находил странным забирать назад пожертвование только потому, что уже поступило другое.
Характерно, что Мануэль снова взял инициативу на себя и принял Соломоново решение, которое так или иначе устроило всех: госпожа Новотны должна была отныне управлять пожертвованием, сделанным в пользу ее дочери. Романа же получала две тысячи евро наличными из нашего конверта – в качестве гонорара за рыбо-меч-гадюко-пуму, которая тем самым переходила в собственность Мануэля. А остальные восемь тысяч евро мы просто унесли с собой.
Глава 16
Первая помощь для приятелей
Лично меня не затруднило бы сохранить в тайне одиннадцатое благодеяние и не предавать его огласке через «Новое время». Но дело было не во мне, а в Мануэле, и так было даже лучше. Ибо последующие дни показали, насколько благодарным и счастливым был чуть ли не каждый читатель новостей. Складывалось впечатление, что эта новость коснулась половины Австрии. Лишь редакция газеты «Люди сегодня» железно держалась того тезиса, что за серией пожертвований стояли концерн PLUS и Бертольд Хилле.
И опять оказалось, что хорошие дела заразительны: как показали расследования «Нового времени», после известия об одиннадцатом анонимном подарке почти всем опрошенным организациям взаимопомощи поступило сверх обыкновения много спонсорских взносов, причем более высоких, чем поступали раньше. И лавина накатившейся на меня почты, которую Ангелина, спасибо ей за это, обезвредила, взяв на себя добрую ее половину, в немалой степени состояла из запросов, как помочь семье Новотны в частности и детям-аутистам в целом, а также детям, осиротевшим в результате несчастных случаев, больным-инсультникам, бедным художникам и так далее, и куда адресовать пожертвования.
* * *
Даже я стал в некоторой степени другим человеком, потому что вот уже несколько дней вставал не позднее десяти, ну самое большее в половине одиннадцатого и лишь в исключительных случаях имел при этом тяжелую голову.
Кстати: в среду, после долгой абстиненции я снова встретился в баре Золтана с моими приятелями. Позади у нас с Мануэлем осталась напряженная – по моим представлениям – работа: мы подготовили два разворота, которые должны были выйти в свет в ближайшие дни. Разумеется, я был в соответственно веселом настроении.
– Смотрите, кто пришел, наш герой оказал нам честь, почтив личным присутствием, – приветствовал меня Хорст, держатель тотализатора.
У него тоже давно назрела крупная починка зубов, однако у меня до сих пор рука не поднималась напустить его на Ребекку. Но рано или поздно придется это сделать, думал я, хотя я бы предпочел избавить ее от его высказываний.
– Привет, Гери, старина! Как минимум один среди нас, кто еще не разучился смеяться, – приветствовал меня Йози, дипломированный кондитер.
После полугода безработицы Йози стал умеренно гордым получателем дополнительного пособия, а то на прежние семьсот евро в месяц такому умельцу было уже трудно развернуться. Но я знал, что мой друг был страстным серфером, пусть и совсем без серфинговой доски, а всего лишь в Интернете. И я давно подумывал о том, что в будущем он мог бы иной раз поддержать меня и Мануэля в наших розысках. Ему бы это доставило удовольствие и принесло бы немного денег, полагал я.
– Гери, а почему бы тебе для разнообразия не написать душещипательную историю про бедного бронзовщика чешского происхождения? Это наверняка бы заинтересовало широкую публику, а то и благодетеля, – пошутил Франтишек.
Он был одаренным ремесленником и перебивался случайными заработками, держась таким образом на плаву. Но если однажды вода подступит к самому горлу, я уже припас для него большой заказ: пусть бы сделал из моей берлоги настоящую квартиру, такую, со свежепокрашенными стенами, со шкафами, к которым можно подойти, или хотя бы с комнатами, по которым можно передвигаться.
В конце концов слово взял и Арик, преподаватель профтехучилища:
– От ваших жалоб у меня слезы наворачиваются. Постояли бы вы в классе, полном полусумасшедших. Вот в Америке и где там еще почему-то именно ученики являются в школу с помповым ружьем и открывают огонь. А я буду первым учителем. И тысячи коллег по всему миру встанут на мою сторону, – пообещал он нам.
О’кей, ему помочь было трудно, но в газете «Новое время» наверняка подыщут для него хороших защитников, специализирующихся на приступах безумия.
Хотя бы за хозяина заведения нам тревожиться не приходилось. С такими посетителями, как мы, такой бар, как у Золтана, был просто золотым дном. Хотя к трем часам утра действительно наступала пора остановиться на последнем круге и отправляться по домам, если бы спросили мое мнение. Но мое мнение никого, к сожалению, не интересовало.
Флорентина выплакалась
Следующий четверг я собирался предоставить его собственному ходу без малейшего моего участия, как в старые времена. Но день воспротивился этому в первые же часы, как только я проснулся. Произошло нечто непредусмотренное, чему я годами препятствовал, отодвигая на потом по жилищно-комфортно-техническим причинам: ко мне в дверь не просто позвонили, на пороге возникла моя дочь Флорентина, причем было бы преувеличением сказать, что она там стояла; она едва держалась на ногах от страшной тоски и отчаяния. Судя по ее глазам, несколько литров слез она уже пролила, и мне потребовалось время, чтобы завести ее на кухню, отпоить водой и успокоить до такого состояния, чтобы она смогла вымолвить первое слово. К сожалению, это слово гласило:
– Майк.
– Что с ним?
– Он…
– Ну?
– Он… такая скотина.
Это было близко к реальности, звучало освежающе и лишь вполовину так сокрушительно, как можно было представить по состоянию Флорентины.
– Что случилось? – спросил я.
– Все кончено. Он меня бросил, больше не объявляется, знать про меня не хочет. А виновата во всем эта… Алекса.
– Кто такая эта Алекса?
– Шлюха, паскуда, оторва.
Разумеется, я мог бы и сам догадаться.
– Она к нему подлезла, и теперь он ходит с ней, я уже видела, как они…
Дальше она не смогла продолжить, потому что опять разревелась.
– Да, картинка могу себе представить, – сказал я.
Почему-то именно мне выпало здесь, за шатким кухонным столом, в окружении ящиков из-под пива пробиваться с дочерью сквозь несколько эмоционально перегруженных завалов. При этом мне как-то удалось избежать кардинальной ошибки всех родителей, пекущихся о благе своих детей, и не поздравить Флорентину от всего сердца с этим ударом судьбы, заверяя, что ничего лучшего с ней произойти не могло, и обещая отныне включать «шлюху Алексу» в свою ежевечернюю благодарственную молитву.
В данном случае требовалось нечто противоположное: чтобы распрямилась спина Флорентины, необходимо было сообща с ней строить планы, как снова завоевать этого Майка из семейства пасленовых, причем по возможности мучительно для Алексы. А как только Майк снова окажется у нее в руках, или где там еще, и как только он станет вновь преданным и покорным, тогда она в ближайший удобный момент в хорошо продуманной сцене прилюдно пошлет его к черту. Правда, такой образ действий был, по моему скромному мнению, весьма затратным и хлопотным – и все лишь для того, чтобы достичь той же цели, которой она и без того уже достигла, но эти подростки, видимо, действуют по образцу своих культовых телесериалов, которые только терзают эфирное время своими вечными туда-сюда-обратно. Ну ладно, главное, что самооценка Флорентины при одной мысли о новом, продуманном ею финале с Майком прямо на глазах вырастала сама по себе.
– Ты единственный из родителей, кто меня понимает, кто меня вообще слушает, – сказала она под конец, припала к моему плечу и всхлипывала в рукав рубашки, промочив его насквозь, и это благотворно сказалось на моей душе – я исхожу из того, что то была душа, но может быть, и сердце.
– Твоей маме и Бертольду сейчас тоже не так легко, – вступился я за них ради алиби.
Но это не вызвало у нее сочувствия к ним.
– И что теперь будет с Кубой? – спросила она чуть позже, собираясь уходить, потому что последние слезы уже высохли.
– А что должно быть с Кубой? – ответил я, чтобы выиграть время.
– Мы все равно полетим туда на зимние каникулы? – спросила она.
Мой страх перед полетами спонтанно нанес мощный удар в солнечное сплетение.
– Ты имеешь в виду мы вдвоем?
– Да, только мы вдвоем, – подтвердила она.
И при этом у нее был такой характерный «флорентинский» взгляд, на который ни один человек не смог бы сказать «нет», кроме разве что ее остальных родителей.
– Разумеется, мы полетим. А ты как думала? Мы не допустим, чтобы какой-то Майк ломал наши планы.
* * *
Только она успела издать крик ликования, как наступила ситуация, к которой я предпочел бы все-таки подготовиться, поскольку нечто такое отцы переживают самое большее раз в жизни – и то в большинстве случаев это происходит на четырнадцать лет раньше.
Мануэль ворвался как снег на голову, метнул свою тренировочную баскетбольную сумку, как обычно, на один из тарных ящиков и небрежно обронил в мою сторону:
– Привет.
Но потом вдруг снова бросил на меня быстрый взгляд и решил еще раз сказать: «Привет», причем этот второй «привет» прозвучал совсем в другом тоне и позволял сделать заключение об отчетливо возросшем интересе.
– Привет, – ответила Флорентина и постаралась быстренько смести с лица возможные следы любовной грусти.
– Привет, – теперь и мне настало время что-то неотложно предпринять. – Мануэль, это Флорентина, моя дочь, – сказал я ему.
Эта фраза однозначно была простейшей из двух, которые я должен был сформулировать.
– Флорентина, это Мануэль.
Точка, дальше дело не пошло.
– Привет, – сказал Мануэль теперь уже в четвертый раз.
Сначала Флорентина оторопело взглянула на меня, потом на него, потом снова на меня.
– И кто такой Мануэль? – спросила она наконец нас всех троих, но в первую очередь, пожалуй, себя саму.
– Я сын одной его подруги.
Ему сейчас хотелось быть особенно раскованным, оттого и сказал это небрежное «его подруги», хватая при этом из кухонного шкафа стакан и подставляя его под струю воды.
– И что ты здесь делаешь? – спросила она.
– Выполняю домашнее задание.
– Правда?
– Да, и помогаю Гери с его репортажами.
Тут он по-хозяйски распахнул холодильник, хотя в принципе ему там нечего было искать, потому что он совершенно точно знал, что ничего там не найдет.
– Мама Мануэля врач и работает в Африке, по контракту на полгода, – объяснил я.
– И потому я здесь, – дополнил Мануэль.
Тем самым все вещи были логично расставлены по местам. Я надеялся, что Флорентина не спросит, почему я никогда не рассказывал ей о нем. Но она спросила кое-что получше.
– Значит, ты и есть тот самый, кто написал в газете про этого мальчишку-беженца…
– Махмута, – подсказал я.
– Да, Махмута.
– Он самый. Махи мой друг, – ответил Мануэль, сделавшись примерно на метр выше, чем до этого.
Тут возникла пауза, во время которой они разглядывали друг друга.
– А ты, значит, дочка Гери, – сказал Мануэль.
Правда, об этом мы уже говорили.
– Да, она самая, – ответила она.
– А я представлял тебя совсем другой, – произнес он, и в комбинации с его восхищенным взглядом это прозвучало скорее как комплимент.
– И как же? – разумеется, ей было любопытно.
– Ну, скорее похожей на… Гери.
Это заявление имело полный успех, потому что оба ухмыльнулись на мой счет, да еще и очень похоже ухмыльнулись, но это могло броситься в глаза только мне. О’кей, на сегодня довольно. Конец воссоединения семьи, часть первая, подумал я. Мне просто больше не приходило в голову никакой объединяющей темы. К следующему разу мне надо бы подготовиться получше. Я проводил Флорентину к двери.
– Кстати, мы с папой только что решили, что на зимние каникулы полетим на Кубу.
Ей непременно надо было утереть нос Мануэлю.
– На Кубу? Вау. Правда? – спросил он и посмотрел на меня довольно мрачно.
Нет, это было не мрачно, скорее меланхолично или тоскливо – так люди, оставшиеся в аэропорту, смотрят вслед самолетам, которые как раз взлетают и в которых сидят их любимые.
– Да, Куба, есть такой проект, – сказал я, чтобы перевести это в глазах Мануэля на более деловой уровень.
Вот ведь чертов абсурд: сорок лет тебе вообще практически не приходилось быть отцом – и тут тебя рвут на части, чтобы ты был одинаково справедлив к обоим детям.
На прощание Флорентина обняла меня жарче, чем обычно, поблагодарила за душевный массаж и еще шепнула на ухо три слова:
– Малый ничего, хорошенький.
Мама хранит свою тайну
По настоянию Мануэля мы еще раз навестили мою маму, что было мне только кстати. Пусть познакомится с ней поближе, сидя за столом, за линцским тортом и за кофе-меланж с молоком по-венски, прежде чем в игру, возможно, вступит его неродная, приемная бабушка из Брауншвейга с тамошней нижнесаксонской свиной рулькой.
Маме в очередной раз удалось выдать свое одиночество за идиллическое состояние досуга, которое только и дает ей возможность по-настоящему – то есть сверх всякой меры – порадоваться вторжению таких гостей, как мы. По крайней мере, Мануэля едва не постигла смерть от удушения в ее долгих объятиях.
Беседа с мамой всегда радовала, поскольку она никогда не заводила речь о своих прибывающих болезнях, а лишь упоминала только свои остаточные здоровья, что для пожилых людей было абсолютно нетипично. Кстати сказать: характерно уже то, что правописание не знает множественного числа «здоровий», как будто тысячам болезней, от которых человечество страдает изо дня в день и которым медицина что ни день придумывает новые названия, может противостоять одно-единственное здоровье – и где ж ему устоять против такого давления, что, опять же, не делает здоровее общество в целом, если хотите знать мое мнение.
Мама обычно была готова к эпизодическим экскурсам в свое прошлое – всегда позитивно заряженное, – и Мануэль с особой сердечностью ее к этому подтолкнул. Я, разумеется, знал для чего. И вот она наконец в своем путешествии во времени оказалась близка к тому месту, куда он и хотел ее заманить, чтобы учинить блиц-опрос.
– А что у тебя было… ну, скажем, в 1974 году?
– В 1974 году? Я была молода, – сказала она, – но уже замужем. И у меня был Гери. Но в школу он еще не ходил, поскольку был маловат…
– А еще? Что еще было в 1974 году?
– Ну что еще, Мануэль? Мне надо подумать. Почему именно 1974 год? Почему ты спрашиваешь?
Вот к чему приводит нетерпение, теперь ему ничего не оставалось, как выложить карты на стол:
– Потому что этот человек, который тебя знает, ну, тот самый, что прислал дяде Гери имейл, он прислал еще один и просил кое-что передать для тебя.
Он порылся в кармане куртки, выудил листок и зачитал ей вслух соответствующий кусок текста:
«И да, будьте так добры и назовите ей, пожалуйста, всего четыре цифры – в такой последовательности: 1, 9, 7, 4. Большое вам спасибо и сердечный привет, ваш преданный читатель».
– Тысяча девятьсот семьдесят четвертый, – задумчиво пробормотала мама себе под нос и при этом возвела очи к потолку, где, как известно, воспоминания просматриваются отчетливее всего. И когда она начала покачивать головой, а уголки ее губ слегка поползли вверх, тут нам стало ясно, что ее мысли наткнулись на что-то особенное и что она очень хорошо знала, что случилось в 1974 году, или, вернее, кто у нее там случился. Таково было мое спонтанное подозрение.
– Ну? Ты вспомнила? Ты знаешь, кто это? – принялся допрашивать Мануэль.
Тут она рассмеялась.
– Слушай, Мануэль, я хочу тебя кое о чем спросить, – сказала она в ответ. – У тебя есть тайны?
– Не очень много, – ответил он.
– У меня тоже не очень много, – ответила мама.
Покататься на коньках – нет, спасибо
До того дня, когда мне позвонила София Рамбушек и сказала, что у нее есть для меня интересные новости, поступило еще два анонимных денежных пожертвования. Один конверт с десятью тысячами евро был адресован благотворительному христианскому объединению работников сферы социального обеспечения престарелых, второй поступил группе мусульманских студентов, которые занимались неотложной помощью во время стихийных бедствий и всего лишь несколько дней назад откопали половину деревни после оползня в Верхней Австрии.
К этим пожертвованиям – номер двенадцать и тринадцать – прилагались мои репортажи, написанные для «Нового времени» при усиленной поддержке, а главное, при ментальном попечении со стороны Мануэля. Благодетельница или благодетель, таким образом, по-прежнему были прочно привязаны ко мне и моим строчкам и косвенно вознаграждали практически всякое мое журналистское усилие.
Почему? Я не стал бы утверждать, что меня это совсем не интересовало, но ежедневно терзать этим вопросом свои мозги я уже утомился. Может быть, и правда этот благодетель был окутанный тайной знакомый моей мамы, от которого приходили загадочные мейлы, но у меня не было никакой охоты ломиться в запертые двери, которые, судя по всему, добровольно передо мной никогда не откроются.
Что касалось моих собственных сердечных дел, то был некоторый прогресс в стараниях мотивировать Ребекку к развитию ее чувств по отношению ко мне. Я писал ей по возможности в разное время дня и ночи, то есть при случае, короткие, сжатые, с ошибками из-за рассеянности имейлы или эсэмэски, содержание которых исчерпывалось тем, что я как раз о ней думал. В большинстве случаев она отвечала, но это никогда не совпадало с моментами моего ожидания, так что я быстро отвык ждать. Для ее ответов у меня выработалась шкала оценок от 1 до 100. 1: Очень мило, но так ли обязательно всегда оповещать меня об этом? 100: День и ночь я думаю только о тебе. По этой шкале она держалась плюс-минус на 55, в хорошие дни дело доходило до 60. Это звучало приблизительно так: «Привет, Герольд, хорошо, что ты обо мне думаешь. Всегда радостно знать, что кто-то настроен на ту же длину волны, что и ты. Хорошего тебе вечера, Ребекка».
В прошлое воскресенье – идеально ясный зимний день – она взяла инициативу на себя и спросила меня эсэмэской, не будет ли у меня желания покататься с ней и с Норой на коньках на льду замерзшего Старого Дуная. К сожалению, против этого проголосовало большинство в три четверти: Нора, замерзший Старый Дунай и в первую очередь коньки. Поскольку меньше всего в жизни я был создан для воздушной акробатики и даже в обычных ботинках без полозьев, а также без скользкого льда мне было не всегда легко удерживать прочное сцепление с почвой. Я немного поиграл с мыслью об объятиях с Ребеккой, но предпочел бы выполнять при этом несколько иную фигуру. А может, вовсе и не Ребекка, а Нора была приставлена туда специально для того, чтобы ловить меня, если я потеряю равновесие, подбирать меня, если я упаду, или разыскивать меня, если я потеряюсь на зеркально гладких просторах Старого Дуная. Нет уж, я не хотел подвергать себя риску. И я написал: «Сегодня, к сожалению, не могу, но, может, в ближайшие две недели нам удастся снова провести вместе хороший вечер».
В ответ я получил: «Жаль. Но вечер на следующей неделе с удовольствием. Мы могли бы снова приятно поужинать. Или ты придешь ко мне, а я что-нибудь приготовлю поесть. Я ведь очень люблю готовить, только не для одной себя!!» Это звучало баллов на 95, а с двумя восклицательными знаками даже на 96 по 100-балльной шкале развития чувства – во всяком случае, по моей шкале. К сожалению, не было никаких доказательств, что моя шкала полностью совпадала с ее шкалой.
Глава 17
София разгадывает спонсора
На звонок Софии Рамбушек я ответил невзначай.
– Герольд, я не буду долго ходить вокруг да около, – сказала она, что, по моему мнению, было выдающейся идеей. – Мы можем встретиться?
– К сожалению, в ближайшее время у меня с этим трудновато, – оборонялся я.
– Это было бы очень важно, – сказала она.
– В ближайшее время это, к сожалению, для меня трудновато, потому что…
– Одного часа мне достаточно, – настаивала она.
– Да, но один час в ближайшее время, к сожалению, было бы трудновато изыскать, потому что…
– Герольд, прошу тебя.
– А в чем дело-то? – спросил я.
– Во многом. Среди прочего, дело в моей совести и в моем профессиональном будущем. И в твоем, вообще-то, тоже, – сказала она.
Меня-то больше интересовало мое настоящее, причем не профессиональное.
– София, может, я смогу сделать это короче. Просто передай Кунцу и остальным: я по-прежнему не имею никакого отношения к пожертвованиям, и я также не знаю, кто их делает.
– Зато я знаю-ю-ю, – сказала она.
Это «ю-ю-ю» она тянула так долго, что это напоминало песчаную бурю в пустыне, по крайней мере, мне представлялось, что она звучит именно так, поскольку сам я не бывал в пустыне во время песчаной бури, я вообще никогда не бывал в пустыне.
– Ты? Откуда тебе это знать?
– Знаю. Поверь мне, я это знаю, – ответила она.
* * *
Мы встретились в «Закусочной века» во Флориани-гассе. В этой закусочной я век тому назад частенько прогуливал уроки, зависая у игрового автомата, в котором сравнительно легко можно было добиться бесплатной игры, потому что дополнительный рычаг на левой стороне постоянно погружал шар в углубление «супер-бонус». Я до сих пор так и слышу стрекот генератора случайных чисел и вижу триумфальные вспышки ярких огней, такое не забудешь за всю жизнь.
София сообщила, что собирается уволиться из «Дня за днем», вернее, быть уволенной, поскольку обстановка там день ото дня становится все хуже. Кроме того, у нее на примете есть очень хорошая работа в Германии. Шансы получить эту работу у нее высокие – занять место руководителя экономической онлайн-редакции в «Берлинер Бёрзенцайтунг». По крайней мере, она – одна из трех соискательниц, которые еще остались на дистанции в гонке за эту должность, с чем я ее и поздравил. Лучше стоять на цыпочках в немецкой экономике, чем обеими ногами по самые щиколотки погрузиться в болото австрийской бульварной прессы.
– Теперь надо, чтоб тебе просто немножко повезло, – сказал я.
– Да, а прежде всего я должна доказать им, что я серьезная журналистка, – заметила она.
– Что ты имеешь в виду под «серьезной»? – спросил я.
– Герольд, я знаю, кто стоит за серией пожертвований, – сказала она.
Одно это звучало не так уж несерьезно, если к тому же было правдой, в чем мое животное чутье сильно сомневалось.
– Я знаю, кто эта благодетельница, – добавила она.
– Женщина?
– Да. Но, пожалуйста, пусть это останется действительно между нами, ты должен это обещать.
– И кто она? – спросил я.
– Тут есть одна проблема. Я не могу выдать ее имя. Я ей это обещала. Она ни в коем случае не хочет, чтобы это стало известно. Она хочет остаться анонимом.
София, пожалуй, прочитала по моему взгляду спонтанную мысль о том, что я только зря теряю здесь время. Поэтому она – по тактическим соображениям – заказала сразу два пива. И потом поведала мне, не особо преувеличивая, с какой легкостью она якобы раскусила эту тайну.
– Поскольку никому, кроме меня, не пришло в голову просто искать там, куда пришли деньги, – сказала она.
Говоря конкретно, у нее было задание сделать репортаж о получателях тех пожертвований, которые были связаны с публикациями в «Дне за днем», чтобы продемонстрировать читателям, как хорошо теперь идут дела у этих людей – и все благодаря бесплатной газете. Среди прочих она встретилась с Эгоном Зайльштеттером, руководителем приюта для бездомных во Флоридсдорфе, который первым получил конверт с десятью тысячами евро. И он в какой-то момент разговора проболтался, что у них тут давно было известно, кто благодетельница, но эта женщина непременно хочет остаться анонимной. Под клятву о молчании Софии удалось в конце концов вытянуть из него имя спонсорши, так она уверяла.
– Ну и что потом? – спросил я.
– Я ей позвонила, и она с зубовным скрежетом подтвердила это, – сказала София.
– Честно?
– Да, Герольд, огромное честное слово. Она была страшно огорчена, что Зайльштеттер выдал ее имя. И мне пришлось торжественно обещать ей, что больше никто не будет ее донимать.
– О’кей, – сказал я, ничего тем самым не говоря.
Ведь я был не из тех людей, которые могут мгновенно перестроиться на новую ситуацию, про которую совершенно не знаешь, чего от нее ждать. Кроме того, я не совсем понимал, чего, собственно, София Рамбушек хотела от меня.
– И потом я допустила грубую ошибку, я все рассказала на редакционной летучке, даже по-идиотски назвала ее имя. Сама не знаю, что на меня нашло, – продолжала она.
– И что?
– Норберт вышел из себя.
– Кунц?
– Да, Норберт. Сперва он сказал, что мы немедленно сделаем специальный выпуск. Тогда я сказала, что мы не имеем права называть ее имя. На что он сказал: «Естественно, мы назовем ее имя». На что я ему: «Так не пойдет, она хочет остаться анонимом». Тогда он мне: «Если имя стало известно журналистам, оно уже не является анонимным». На что я: «Это несерьезно, она этого не хочет. Мы не можем это сделать». А он: «Мы обязательно должны это сделать, это наш журналистский долг…»
Я не хотел перебивать ни ее, ни Кунца, но пришлось сделать это, чтобы быстро заказать для нас еще два пива.
– Итак, на это он: «Это наш журналистский долг. Собственник газеты снесет нам головы, если мы этого не сделаем». На что я: «Но я это обещала». На что он: «Будучи журналисткой, ты ничего не можешь обещать. Естественно, мы напечатаем это. Причем подробно, во всех деталях, с биографией, карьерой, ее мотивами и так далее».
Она позволила себе небольшую паузу, чтобы перевести дух.
– Ну и? – спросил я.
– Я, естественно, полностью вышла из себя и сказала, что совершенно точно этого не сделаю. Тогда он: «Значит, сделает кто-то другой». Тогда я: «Тогда я увольняюсь». И с этими словами вышла вон.
– Браво. А что он? – уточнил я.
– Он еще раз пришел ко мне и сказал: «София, мы должны дать эту историю, уже из-за одних только «Людей сегодня» и из-за клеветнического обвинения. Благодаря тебе у нас в руках есть доказательство. Ведь речь идет вообще о существовании всей нашей редакции. Разумеется, ты получишь огромный спецгонорар».
– А ты что на это? – спросил я.
– На это я повернулась и хлопнула дверью.
– Браво. И что?
– И вот мы сидим теперь здесь.
– Ага, – сказал я.
Тут мне пришлось немного подумать, прежде чем в голову пришел ключевой вопрос:
– И чего ты ждешь от меня, что должен сделать я?
– Взять у меня интервью, – ответила она.
– Интервью?
– Да, именно. Ты напишешь об этом в «Новом времени» еще до того, как бомбу взорвут в «Дне за днем», то есть самое позднее в пятничном выпуске.
Она достала бумажку и зачитала готовый текст:
«Новое время»: Госпожа Рамбушек, вы интенсивно занимались серией анонимных денежных пожертвований. Пришли ли вы к какому-нибудь результату?
Рамбушек: Да, я со всей определенностью знаю, кто этот человек, который раздает нуждающимся и их помощникам чудесные подарки. Надеюсь, будет раздавать и впредь.
«Новое время»: Вы можете открыть нам, кто же этот человек?
Рамбушек: Нет, этого я, к сожалению, открыть не могу. Это настоятельное желание самой персоны – и впредь сохранять анонимность. Защита личных данных – одна из главнейших журналистских заповедей, и я безоговорочно хочу ее придерживаться. Ведь эта персона не совершила никакого преступления, а сделала только добро, которое уже помогло множеству людей.
«Новое время»: Не могли бы вы сообщить нам что-нибудь о мотивах благодетеля или благодетельницы?
Рамбушек: Это личность, которая сама однажды оказалась в тяжелом положении, и она бесконечно благодарна тем, кто ее тогда выручил. Она хотела бы за это расплатиться.
«Новое время»: Эта персона к настоящему времени раздарила самое меньшее 130000 евро. Как она может позволить себе такое в финансовом отношении?
Рамбушек: Тут я могу вас заверить, что речь идет о деньгах, которые находятся в ее владении легально. Эта персона имеет свободную творческую профессию, в которой она в последнее время была очень успешна, в том числе и на международном уровне.
«Новое время»: Вы являетесь редактором в бесплатной газете «День за днем». Можно ли будет что-то прочитать об этом в вашей газете?
Рамбушек: Это зависит не от меня. Я, со своей стороны, убедительно просила, чтобы анонимность этого образцового человека была защищена. Я чувствую себя ответственной за это.
«Новое время»: А если имя все-таки будет названо широкой публике?
Рамбушек: Тогда я сделаю соответствующие выводы.
«Новое время»: Госпожа Рамбушек, благодарим вас за этот разговор».
* * *
Ситуация была из тех, когда тебе нужно задать около сотни важных вопросов, но ни один из них не приходит в голову. Кроме того, я заметил, что раньше куда легче переносил три пива в обеденное время. Что-то я чувствовал себя совсем разбитым. Интервью само по себе я находил отличным, в первую очередь потому, что все уже было сформулировано в готовом виде. А что касалось Софии, то она меня приятно удивила, оказавшись такой несгибаемой, с таким крепким хребтом – и это несмотря на ежедневные массажи «Дня за днем». Ее позиция поневоле вызывала у меня уважение. К счастью, мне самому не приходилось принимать в этом деле решения.
– Я обговорю все это с Кларой Немец и «Новым временем» и тогда сразу дам тебе знать, – сказал я.
На что она:
– Да, пожалуйста, сделай это.
На что я:
– Сделаю.
На что она:
– Спасибо, Герольд.
На что я:
– Не за что.
На что она:
– И все-таки спасибо!
* * *
Въедливые дополнительные вопросы.
– И кто эта женщина? – спросила Клара Немец по телефону.
– Этого я не знаю.
– Почему ты этого не знаешь? Ты что, даже не спросил?
– Еще как спрашивал. Но София ничего не сказала. Ведь спонсорша хочет остаться анонимной, поэтому, я думаю.
– Это обстоятельство можно уважить. Однако мы все равно должны знать, о ком идет речь, если в самом деле будем публиковать интервью.
– Ты так думаешь? – спросил я.
– Разумеется. А вдруг все окажется не так, если коллега, как ее там…
– София Рамбушек.
– Если эта госпожа Рамбушек преследует совсем другую цель, если она варит здесь свой собственный супчик?
– В это мне почему-то не верится, с виду все было искренне, – ответил я.
– Или если все окажется большой ошибкой, если сама Рамбушек попала в ловушку?
– Я знаю Софию. Она не из тех людей, кто попадается в ловушки, – сказал я.
Уж это я знал, поскольку сам обладал как раз противоположными свойствами.
– Тем не менее мы непременно должны знать, кто это, если будем публиковать интервью, – настаивала на своем Клара.
– Ты хочешь сказать, чтоб я еще раз спросил у Софии…
– Вот именно, ты ведь можешь сказать, что это является условием публикации интервью. Тут мы просто обязаны себя подстраховать. Иначе можем опозориться. Ведь на нас смотрит вся общественность.
* * *
– И кто эта женщина? Как ее фамилия? Откуда она тебя знает? Почему для своих пожертвований она всегда брала только твои газетные заметки? – допрашивал меня Мануэль чуть позже.
– Понятия не имею.
Они уже начали раздражать меня своими въедливыми дополнительными вопросами.
– Ты что, не спросил у нее?
– Честно говоря, нет.
– Почему нет?
– Потому что я… потому что я просто не спросил. Было так много дел… Я просто не спросил – и все, и отстань от меня.
Мануэль скривил гримасу и жестами дал понять, что у него есть серьезные опасения относительно моего психического состояния.
– Но это же как-никак самое важное.
Он мог бы уже и перестать без конца трясти головой, даже если в принципе был не так уж и не прав, втайне признавался я себе, ибо, естественно, сам-то я тоже был не прочь узнать, что общего эта женщина имеет со мной – теперь, когда Мануэль мне об этом напомнил. Почему-то я тоже не на шутку встревожился за себя: с чего это я вдруг не мог перенести три пива в середине дня?
– И как можно было допустить такую ошибку!
Так, все, теперь достаточно. У меня возникло чувство, что пора бы и власть применить.
– Довольно. Прекрати меня дергать! Я сейчас позвоню Софии Рамбушек.
– Вот это хорошая идея, – сказал он.
Альма Кордула Штейн
Мне пришлось дать целый ряд обетов молчания самой высокой пробы, прежде чем София наконец решилась выдать персональные данные великой благодетельницы. Ее звали Альма Кордула Штейн.
– Альма Кордула Штейн? – переспросил Мануэль.
– Альма Кордула Штейн, – подтвердил я.
Как я и ожидал, это имя, при всей его звучности, ни о чем мне не говорило. Благодаря Мануэлю и Гуглу пару минут спустя я, конечно, знал все, что можно было узнать об Альме Кордуле Штейн, если интересоваться современными танцами. Я не интересовался ни современными, ни старомодными танцами, так что вдвойне срывался с крючка.
Альма Кордула Штейн, родившаяся в 1975 году в венском районе Нойштадт, то есть будучи на пять лет младше меня, раньше была танцовщицей в лондонской Dance Company, а ныне работала хореографом по всему миру, в том числе в Нью-Йорке, Ханое и Мадриде. Кроме того, она руководила известной студией Modern Dance Nr.1 в Варшаве, что не мешало ей жить в Вене и/или в Марселе. Танцовщицы хотя и славятся своей подвижностью, но как им удаются такие глобальные прыжки, для меня оставалось загадкой. В настоящее время она, кстати, репетировала в проекте театра перфоманса в Венском Art-Dance-форуме, о чем можно было прочитать в короткой заметке «Тагблатт-Online».
– Значит, ты ее не знаешь? – спросил Мануэль.
– Никогда о ней не слышал.
– И у тебя нет никаких предположений, что общего она может иметь с тобой?
– Понятия не имею, – сказал я.
Уж танцы, по крайней мере, тут никак не могли быть замешаны.
– Тогда у нас остается лишь одна возможность, – произнес он.
У меня было как раз на одно предположение меньше, но Мануэль всегда был горазд в сюрпризах.
– Какая же?
– Мы должны спросить у нее, и лучше всего прямо сегодня.
В другое время я бы громко расхохотался, во всяком случае, раньше, когда еще не был знаком с Мануэлем. Но теперь я знал, что его фразы, которые начинались словами «мы должны», имели претензию на стопроцентную осуществимость, кого бы они ни касались, а с середины сентября это в основном был я.
– Как мы можем у нее спросить? Она совсем не обязательно сидит и ждет нас, – сказал я.
– Тогда мы сядем и будем ее ждать.
– И где?
– Отгадай с трех раз, – сказал он.
– В этом Art-Dance-форуме?
– Умница, дядя Гери, – ответил он.
Встреча за сценой
План сам по себе был хорош, хотя придумал его не я (маленькая шутка). Если в суете из пятидесяти мышек-полевок одна мышка двигается втрое быстрее остальных, ее можно было бы назвать самой проворной. А в суете людей на театральной репетиции такое существо тоже резко выделяется, и его можно смело называть ассистенткой режиссера. Мануэль прямиком двинулся к ней и спросил, не может ли он в перерыве минут пять побеседовать с Альмой Кордулой Штейн, это очень важно, поскольку на карту поставлен вопрос существования или несуществования решающей темы его школьного реферата «Знаменитые деятели искусства и их работа» – темы «Танцы и хореография», ради которой он и разыскивает Альму Кордулу Штейн. Я на сей раз официально выполнял функции отца, который его сопровождает. И когда он меня, так сказать, при свидетелях впервые назвал папой, я испытал совершенно особенное, поистине возвышенное чувство.
Нам разрешили подождать в маленьком закулисном салоне, там даже стоял холодильник, содержимое которого меня очень интересовало, но я из вежливости туда не сунулся. Мануэль был намного более взволнован, чем я, и говорил, что госпожа Штейн опознает меня либо по виду, либо, самое позднее, по имени, когда я назовусь ей. И что она вряд ли обидится за наш обман, ведь я у нее точно на хорошем счету, иначе она не стала бы впутывать меня, хоть и косвенно, в свои благотворительные акции.
Мускулистая молодая женщина с короткими бело-голубыми – или как минимум покрашенными в бело-голубой цвет – волосами, вошедшая к нам, изо всех сил старалась казаться радушной, для чего ей пришлось окутать себя дымом половины сигареты, выпустив его с одной затяжки. Это же помогало скрывать следы репетиций – репетиций или жизни – или того и другого вместе.
– Что я могу для тебя сделать, молодой человек? – обратилась она к Мануэлю, беспокойно протянув ему руку, свободную от сигареты.
В ожидании ответа она поприветствовала и меня, при этом нельзя было утверждать, что мой вид произвел на нее сильное впечатление.
– Госпожа Штейн, меня зовут Мануэль, а это мой… мой дядя Герольд. Герольд Плассек. Журналист. Из «Нового времени».
– Ага, – сказала она, и сказала это так, словно уже где-то однажды слышала или читала это имя, но не помнит где.
То есть нам выпал, так сказать, самый тяжелый случай, потому что женщина явно не знала, что ей со мной делать, а я, в принципе, тоже не очень-то знал, что мне делать с ней, хотя по своему типу она была мне симпатична и с ней можно было бы пощебетать за пивом-другим, судя по ее виду.
На месте Мануэля я бы сразу понял, что тут нечего делать, а в качестве алиби пролепетал бы мои пять вопросов, старательно записал бы ответы на них и снова слинял отсюда. Но он в этом отношении уродился больше в Алису, поскольку сказал:
– Госпожа Штейн, настоящая причина нашего присутствия здесь та, что мы хотим знать, верно ли то, что вы являетесь тем самым человеком, который анонимно сделал несколько благотворительных взносов. Мы хотим это знать действительно лишь для себя самих, мы никому об этом не расскажем, честное слово.
Лицо Альмы Кордулы Штейн омрачилось, что было совсем не к лицу этому самому по себе мрачному лицу, на мой взгляд. Если тебе уже случалось видеть людей на пороге приступа ярости, ты уже мог живо представить себе, что этого приступа в данном случае долго ждать не придется. Ее взгляд в бешенстве метался от Мануэля ко мне и назад, пока она все-таки не выбрала меня – видимо, потому, что я из нас двоих был однозначно совершеннолетний.
– С чего вы это взяли? Кто вам это сказал? Ведь я эту женщину… эту журналистку специально просила, чтобы все осталось в тайне. Я работаю в искусстве, и я лицо публичное. То, что я жертвую частным порядком, никого не должно касаться.
– Извините, мы действительно не хотели вас прогневить, мы только хотели знать, почему вы пожертвовали так много денег, – сказал Мануэль, и его жалобный голос вовсе не был результатом высокого актерского искусства, а искренне извлекал слова прямо из чистого сердца, а горло выбулькивало эти слова наружу. Лицо его при этом залилось краской, он готов был провалиться от стыда сквозь паркет и землю. При этом он переминался с ноги на ногу и дергался, как маленький мальчик, которому срочно надо в туалет. Мне стало так жалко его, что я непроизвольно обнял его за плечи, и эта хореография настроила Альму Кордулу Штейн на чуть более примирительный лад.
– Нет-нет, я на вас вообще не сержусь, – мягко сказала она.
Это было, по моему мнению, хорошее ключевое слово, но Мануэль, этот воин, явно почуял шанс и пустил в дело весь свой детский шарм.
– Может, вы все-таки могли бы открыть нам, почему пожертвовали столько денег, мы правда оставим это при себе, никто не узнает, честное слово.
Она долго разглядывала мальчика, а потом заглянула и мне в глаза – глубоко, что отнюдь не было мне неприятно. Кончилось тем, что она предложила нам сесть. И потом рассказала.
Танцевать, воспарять, падать, подниматься
Еще маленькой девочкой она мечтала о том, чтобы стать знаменитой танцовщицей. Или об этом мечтали ее родители, а она в конце концов воплотила их мечту в реальность. Ради этого, увы, ей пришлось пожертвовать своим детством и юностью. В возрасте двадцати восьми лет она действительно завоевала все важные европейские сцены – и внезапно оказалась без цели, которой не было ни перед глазами, ни на достижимом расстоянии, да и на горизонте ее не маячило. Отныне у нее все пошло под откос: ссора и разрыв с родителями и друзьями, внутренняя пустота, изоляция, депрессии, таблетки, алкоголь, все по полной программе. Тут Мануэль бросил в мою сторону укоризненный взгляд, но я мог бы сказать ему в свое оправдание, что мне никогда не требовались наркотики для того, чтобы употреблять алкоголь. Кроме того, я никогда не падал так низко, поскольку начинал падение не с такой уж большой высоты, в этом практически и состояло мое преимущество перед госпожой Штейн.
Три года спустя в Вене она окончательно докатилась до дна, и если раньше она гастролировала с одной балетной сцены на другую, то теперь ее турне составляли переходы от одного наркологического отделения к другому – и потом снова на улицу, где, естественно, никто не уделял ей никакого внимания, потому что там каждый занят собственным падением.
В одну промозглую февральскую ночь в городском парке один бездомный, уснувший около нее, умер от переохлаждения. Это практически спасло ей жизнь, потому что какой-то милосердный самаритянин забрал ее оттуда и привел в ночлежку во Флоридсдорфе. Там она стала в некоторой степени свидетельницей собственного возрождения, потому что постепенно узнавала, что творит человечность, а именно: те, кто что-то имел, отдавали это тем, кто был этого лишен, будь то жилье, забота, тепло или внимание.
Еще через три года, в которые она среди прочего сама работала санитаркой, она почувствовала себя опять достаточно сильной и мужественной, чтобы вернуться на балетную сцену, где все так называемые прежние друзья повели себя так, будто она никогда никуда и не уходила. Никто не хотел вникать в то, что она пережила за эти шесть лет сценического воздержания.
Уже своими первыми хореографическими работами для скорее маленькой театрально-балетной сцены ей удалось привлечь к себе внимание, а потом – на одном фестивале современного танца в Марселе – удалось совершить международный прорыв во второй раз. В последние годы она едва успевала, так сказать, перебегать от одного успеха к другому и при этом клялась себе, и нам, и всему миру никогда больше не терять вновь завоеванную позицию. Видя, как судорожно она при этих словах сжимала сигарету, можно было только пожелать ей всего хорошего.
Так или иначе, когда в сентябре она после долгого перерыва снова оказалась в Вене и листала какую-то газету – то был явно «День за днем», – она наткнулась на заметку о безбожно переполненной ночлежке для бездомных во Флоридсдорфе, которой сократили финансирование. Она вырезала эту заметку, отделила от своих сбережений десять тысяч евро, купила конверт, вложила в него деньги и вырезку из газеты и отправила – не указав обратного адреса – Эгону Зайльштеттеру, управляющему ночлежкой, который все равно вскоре разгадал ее хитрость, поскольку они уже знали друг друга.
– Так я наконец смогла отдать немного из того, что получила, – сказала она и откинулась на спинку стула, как будто история была рассказана до конца.
– А потом? – спросил Мануэль.
– Что потом? Потом ничего, – сказала она.
– А остальные пожертвования?
– Остальные пожертвования?
– Да, остальные пожертвования, – повторил Мануэль.
– Ты имеешь в виду… эту анонимную серию?
– Да, еще двенадцать конвертов с деньгами.
– Я читала об этом однажды в самолете. Их что, двенадцать? Надо же, – сказала она.
– Это что же, значит, они не от вас?
Тут она впервые засмеялась. Увидев ее зубы, я неотвратимо подумал о Ребекке. Я и без того думал о ней непрестанно, пока Мануэль задавал важные вопросы.
По крайней мере, до меня стало доходить, что здесь собирается явиться на свет совершенно новая правда, которая, возможно, долго будет занимать как меня, так и Мануэля.
– Дитя мое, да кто же вам сказал такую несусветную глупость? К остальным пожертвованиям я не имею совершенно никакого отношения, – сказала она, отрицательно качая головой.
– Так, я думаю, мы и без того слишком долго злоупотребляли вашим вниманием, – сказал я и дал себе и Мануэлю по толчку, чтобы закончить наш внезапный визит-нападение.
А в качестве вознаграждения за то, что смогли прочитать ее мысли, мы вынесли оттуда два бесплатных билета на премьеру.
– Хочешь пойти с тетей Юлией? – спросил я Мануэля.
– Нет уж, спасибо, лучше ты сходи со своей стоматологиней, – ответил он.
– Или пусть идут Ребекка с тетей Юлией, – пришло мне в голову.
Танцы – не самое интересное для нас.
Глава 18
Суперстар Гери может писать дальше
Главные полуночные аналитики бара Золтана довели развитие последних событий по этому делу до точки.
– Итак, ясно, что есть два разных спонсора, – сказал Хорст.
– Или тринадцать, – заметил Йози.
Это он сказал, естественно, не всерьез, но и никто из нас над этим не посмеялся.
– Вероятно, дело было так: балерина пожертвовала десять тысяч – так, как ты и рассказал, Гери. Потом кто-то прочитал в газете или просто где-то услышал про это и подумал себе: а хорошая мысль, сделаю-ка я то же самое, деньги для меня сейчас вообще не играют роли, так что я создал даже целую серию пожертвований, – предположил Арик.
– Притом что балерина сделала это конкретно для ночлежки. В то время как другой спонсорше, если это была женщина, было все равно, на какое доброе дело жертвовать. Главное, чтоб газетная заметка была твоя, Гери, – сказал Франтишек.
– Не только если это была женщина, но и если мужчина – тоже, – довершил Арик.
– Умник какой, – заметил Хорст.
– То есть то мог быть и старик твоей бывшей, чтобы можно было показать задницу финансовой службе, – сказал Йози.
– Нет, Бертольд Хилле никак не мог быть благотворителем, его мы можем спокойно отсечь, – заявил я.
– Но он единственный, у кого был мотив привлечь к делу тебя, – возразил Йози.
– Единственный, кого мы знаем, – ограничил круг Арик.
– Как бы то ни было, главное, что наш суперстар Гери может и дальше писать, спонсорские деньги потекут и впредь, тогда у нас всегда будет о чем поговорить, а Австрия при этом не понесет никакого убытка, – сказал Франтишек.
– Верно, поэтому следующий круг, по моему мнению, за счет Гери, – предложил Хорст.
Против этого, естественно, никто не возразил.
– Маэстро Золтан, пять раз, пожалуйста, – довершил Йози.
* * *
К счастью, тайна Альмы Кордулы Штейн не увидела света ни в «Новом времени», ни где бы то ни было. София Рамбушек клялась мне в бесконечной благодарности, хотя я, вероятно, был не из тех людей, кто умел хоть что-то извлечь из бесконечной благодарности. Ее интервью, построенное на ложном выводе, потонуло в электронной нирване, благодаря чему она, возможно, избежала преждевременного окончания своей журналистской карьеры. Для «Дня за днем» эта история отныне была слишком незначительной, то есть они обошлись коротким сообщением о том, что хотя на одно из тринадцати тайных пожертвований и был пролит свет благодаря усердию шеф-корреспондентки газеты и было выяснено, кто явился инициатором, но все же главный серийный благодетель по-прежнему разгуливает на воле и в любой момент может настигнуть своим благодеянием кого угодно.
Контакт Мануэля с Квебеком
На четверг, на 19.30 – это время было подтверждено в последний раз, – я был приглашен к Ребекке домой на ужин. Моя главная проблема состояла в том, что шла всего лишь первая половина дня вторника и что я не знал, как мне убить время до вечера четверга, в то время как тяжелые снежные хлопья валились на улице слева сверху направо вниз.
Обычно в одиннадцать часов я с радостью поджидал Мануэля, который всегда привносил в мою одинокую берлогу жизнь, и это даже сильно преуменьшено, поскольку моя берлога в принципе была жива исключительно за счет той жизни, которую привносил сюда Мануэль. Без него бы здесь все стояло более-менее вмертвую, включая время. Например, лишь только я подумал об этом, не прошло и минуты, как я заставил себя быстро подумать о чем-нибудь другом, потому что совсем приуныл без Мануэля. Он не мог сегодня прийти, потому что должен отправиться с тетей Юлией за первыми рождественскими покупками. О’кей, тогда и я без помех предамся мыслям о надвигающихся праздниках. Но и этого я не смог выдержать дольше полуминуты.
Другие в такой ситуации, наверное, с головой погружаются в работу, но я и тут не мог служить образцом – не только потому, что в принципе преклоняюсь перед ней только в случае крайней необходимости. Точно так же было и добрых тридцать лет тому назад во время причастия, которое я не мог принять из-за необходимости опускаться на колени. К тому же мы только накануне сдали наш последний репортаж на разворот о недавно созданном попечительском центре для слепых и слабовидящих детей, и этот репортаж должен был появиться завтра. Не мог же я непрерывно столько работать.
Кстати: Ангелина из «Нового времени» старательно заботилась о том, чтобы я был постоянно занят, каждые пару часов пересылая мне в почту новую порцию имейлов. Поскольку я уже давно туда не заглядывал, теперь я наскоро просмотрел их, не собираясь ни во что вникать и пускаться в обстоятельные ответы. Любопытно, что я наткнулся при этом на сравнительно недавнее сообщение того таинственного знакомого моей матери, которое поначалу показалось мне вырванным из контекста. Сообщение гласило:
«Дорогой господин Плассек, да нет же, само по себе подозрение хотя и делает мне честь, однако я вынужден вас разочаровать, ибо таких больших сбережений я, к сожалению, не скопил. Я всего лишь вышедший на пенсию учитель, который преподавал немецкий язык в частной школе в Квебеке. Да, в 1975 году я немного поспешно, а точнее, очертя голову перебрался в Канаду – это было решение, в которое ваша бесценная матушка внесла не самую малую долю. Она бы никогда не оставила свою семью, и я ценю в ней в том числе и это. Итак, теперь я живу на удалении в 6200 километров и все еще ежедневно читаю новости из дома, что сделал для нас возможным Интернет. Меня переполняет радость, что ваша матушка сохранила меня, по крайней мере, в приятных воспоминаниях. Что же касается вас: пожалуйста, продолжайте писать и помогайте немощным и бедным. Выполняйте вашу миссию как посланник любви к ближнему! Я завидую, что вам дан этот чудесный дар. Ваш преданный читатель из Квебека».
Не говоря уже о том, что мне был вообще чужд пасторальный стиль письма этого человека и что я совсем не собирался расписывать себе, насколько близко он когда-то стоял к моей маме – а то и лежал, – итак, уже не говоря обо всем этом, я спросил себя, на что же он мне, собственно, отвечает этим имейлом. Прокрутив его имейл ниже, я действительно обнаружил текст, отправленный ему три дня назад, который я – видимо, в помрачении ума – написал, не приходя в сознание. Он гласил:
«Многоуважаемый преданный читатель, я передал моей маме цифры 1, 9, 7, 4. И она тотчас вспомнила о вас. Она сказала, что это хорошие воспоминания. Она надеется, что у вас все хорошо. Она также хотела бы знать: не вы ли тот крупный анонимный благодетель?! Поскольку, по ее словам, от вас можно такого ожидать. Она это допускает. Я тоже. Вы ли это? Сердечный привет, Герольд Плассек».
– Мануэль? – негодующе воскликнул я, с трудом дозвонившись до него в перерыве между уроками. – Мануэль, не хочешь ли ты передо мной кое в чем повиниться?
– А в чем это я должен перед тобой повиниться?
– На этот вопрос ты можешь ответить и сам. Ну, сознавайся.
– Мне не в чем сознаваться, – сказал он, подумав.
– Ты был в моей почте?
– Вполне возможно. Кто-то ведь должен читать твою почту, раз ты не делаешь это.
– Ты писал имейл от моего имени?
Тут возникла пауза, в которой до меня доносились лишь тихие шорохи. Должно быть, так работали угрызения совести.
– Ах вон что ты имеешь в виду, – сказал он виновато.
– Ты с ума сошел? Что это тебе взбрело в голову?
Я сам не ожидал, что могу впасть в такую ярость. Видимо, это было связано с отцовской ролью, в которую я только что втянулся.
– Извини, я хотел тебе сказать, но не успел.
– Еще и маму мою впутал в историю.
– Ну, это неважно. Человек все равно живет в Канаде, и спонсор не он.
– Как это неважно! И, опять же, откуда тебе знать?
– Оттуда, что я умею читать, – ответил он.
Тут он явно перешел в нападение. Но я и не думал идти на уступки.
– Мануэль, я не хочу, чтобы ты читал мою почту, не спросив у меня. Ты понял?
– Как не понять, если ты так орешь.
– И никогда не пиши имейлы от моего имени. Понятно? – наседал я.
– Да, но…
– Что но?
– Я был вынужден.
– Почему?
– Потому что… потому что мне надо было наконец узнать. Это всем надо – Махи, Паулю, всему моему классу, всем учителям и вообще всем нормальным людям. Всем, кроме тебя.
– Что знать?
– Ну а что же еще? – вернул он вопрос мне.
– Понятия не имею.
– КТО ЭТО!
– Не кричи так, я не глухой, – ответил я.
Скромные аплодисменты моей интуиции
Не прошло и трех минут, как я уже раскаивался в нашей перепалке и решил думать о чем-нибудь приятном – о Ребекке, о чем же еще, не такой уж большой у меня выбор. Мой читательский час за компьютером я хотел завершить чтением ее письма. Но наткнулся на еще одно неоткрытое сообщение, адресованное напрямую мне, минуя Ангелину и редакционную почту. Текст был такой:
«Господин Плассек, ваш адрес мне дали в редакции. Хочу вам всего лишь сказать, что у меня осталось только 19000. В следующий раз придет 9000, тогда вы будете знать, что это я. Затем я напишу вам еще раз. Никому не рассказывайте, пожалуйста! В том числе и… то есть действительно никому!»
После этого мне пришлось безотлагательно выпить пива. Ибо интуиция подсказывала: нереально высоки шансы, что за этим незатейливым, наспех сформулированным посланием скрывалась истинная благодетельница или благодетель. А отросток моей интуиции, таящийся в левом пальце, подсказывал мне сверх того, что Мануэлю лучше бы ничего об этом не знать. Пока не надо. И я на всякий случай переместил этот имейл в свою личную папку и пожелал себе, чтобы я оказался прав и чтобы Мануэль, может быть, уже скоро был огорошен такой крутой новостью.
Я бы, может, привязал этот сюрприз сразу ко второму, еще более ошеломляющему – без оглядки на всяких Йохенов и прочих нео-псевдо-глав-семейств этого мира, продолжал думать я. Я бы дождался особенного момента, лучшего из всех подходящих случаев – и сказал бы ему приблизительно следующее: «Мануэль, сейчас я открою тебе две тайны. Первое известие я бы запустил через спутник на околоземную орбиту, чтобы весь универсум узнал: я твой отец, и я очень горжусь этим». Нет, так патетически я бы это никогда не сформулировал, хотя это, в принципе, было абсолютной правдой. Но неважно, потом бы я продолжил и сказал: «Второе дело останется между нами, никто о нем не должен знать. Я говорю это тебе и только тебе, потому что ты мой сын и я тебе доверяю. Это навечно останется нашей тайной: дело в том, что я выяснил, кто рассылал большинство анонимных конвертов с деньгами. То есть эта персона созналась мне под условие молчания. Собственно, я не должен был рассказывать об этом никому. Но тебе я скажу, только тебе: это…» В эту секунду даже мне стало невтерпеж наконец-то узнать это.
В среду вышел наш репортаж о новом некоммерческом центре опеки над слепыми и слабовидящими детьми в Кёнигштеттене. В полдень четверга Клара Немец позвонила мне и надолго отняла у меня все мое волнение от предстоящего свидания с Ребеккой.
– Алло, Герольд, только что я говорила по телефону с некой радостной госпожой Биндер из Кёнигштеттена. Как ты думаешь, что она мне рассказала?
– Пришло пожертвование?
– Ты угадал.
– Хорошо, – сказал я.
– Да, я тоже так считаю. Они это заслужили. То есть все это заслужили, но они в особенности.
Все заслужили это в особенности, считал я.
– Но знаешь, что на сей раз было иначе?
– Нет.
Знаю, конечно.
– В конверте было всего девять тысяч евро, – сказала она.
– Честно?
Я это знал. Я это чуял. Ведь я как-никак человек интуиции. На мое внутреннее чутье можно было положиться. Если уж на что во мне и можно было положиться, так на мое внутреннее чутье, по крайней мере, иногда, по крайней мере, на сей раз.
– Да, честно, восемнадцать купюр по пятьсот евро, то есть девять тысяч. Они были перепроверены сотню раз.
– Вероятно, наш благотворитель ошибся при счете.
– Или у него постепенно кончаются деньги, – сказала Клара.
– Это, конечно, тоже может быть, – ответил я.
«Позволять» – вот мое царское дело
Хотя я не из тех, кто подолгу размышляет о том, что его ждет, но на этот раз я необыкновенно долго, а именно всю дорогу в Пенцинг, раздумывал о том, что мне предстоит сегодня вечером, вернее, к чему я сам и шел своими ногами. Я шел к Ребекке, это ясно. Но к какой Ребекке? Вернее было бы спросить: на что настроенной Ребекке? Почему она пригласила меня к себе домой? Чего она хотела бы от меня? А еще интереснее: чего она не хотела бы от меня? И самое интересное: что останется, если то, чего она от меня не хотела, отнять от того, чего она от меня хотела? Это ведь и был ключевой вопрос, и он проходил через все отношения, которые имели что-то общее с любовью, вернее, хотели иметь.
Первым делом я узнал, что она не из тех женщин, что принимают гостя в теплых шлепанцах, в коричневых леггинсах и в водолазке размера XXL. Мы бегло чмокнули друг друга в правую щеку – к сожалению, одновременно, так что из этого мало что вышло. Я протянул ей бутылку чилийского красного вина и какое-то зеленое растение, цветущее белым цветом.
– Красиво тут у тебя, – сказал я.
– Ах, Герольд, это же только прихожая, – скромно ответила она и улыбнулась.
– Да, но ты еще не видела мою прихожую, – ответил я.
Она довольно скоро и без моей просьбы сунула мне в руки пиво, и мы проделали небольшой обход ее квартиры в старинном доме, чрезвычайно приятной в том, что касалось цветовой гаммы и температурного режима. Квартиру наперегонки согревали старомодная бело-желтая изразцовая печь и светлый паркетный пол, что по зимнему времени в принципе было уже половиной квартплаты.
Когда мы остановились у входа в спальню с очень широкой кроватью, где могли бы разместиться тридцать Ребекк в ряд, если их плотно уложить, мне в голову пришла абсурдная мысль. Я спросил себя, есть ли мужчины, которые в моей ситуации напрямик двинулись бы к кровати и проделали рукой небольшой тест на жесткость матраца, чтобы затем фривольно и удовлетворенно кивнуть Ребекке или подмигнуть ей двусмысленно или недвусмысленно-призывно. И как бы она на это отреагировала? Этого мне так никогда и не узнать, поскольку я водрузил себе на лицо более или менее непроницаемую мину и сказал:
– А здесь, значит, ты спишь.
После этого кивать пришлось уже ей, хотя и не обязательно фривольно.
* * *
На ужин было несколько и впрямь чудесно приготовленных миниатюрных блюд, они следовали одно за другим, поставляя все новый материал для разговоров, выдержанных в интимно-тихом тоне – о рецептах, биологическом выращивании и здоровом питании, которое не обязательно должно быть при этом невкусным. Фоновая музыка тоже создавала атмосферу, наверное, то был Бах. Поскольку я уже по опыту знал, что сонаты для фортепиано и/или скрипки в такой ситуации почти всегда оказывались Бахом, но избави бог при этом ляпнуть: «Ах, как красиво, Бах». Незамедлительно последует: «Нет, это Вивальди». А если сказать наоборот, опасность будет так же велика, и я предпочел промолчать. Классическая музыка была не совсем по моей части.
После главного блюда возникла пауза для передышки, которую Ребекка использовала, чтобы зажечь несколько свечей и приглушить свет. Если бы это сделал я, случай был бы ясным, но у женщин ведь никогда не знаешь наверняка, что на самом деле означают жесты, сами по себе однозначные. Поэтому я предпочитал ждать какого-то подходящего ключевого слова, при этом обнаружив, что переношу красное вино лучше, чем оно мне нравится на вкус, и что мое желание быть к Ребекке ближе, то есть еще ближе, от глотка к глотку нарастает. Пиво и шнапс, кстати, такого эффекта могли достичь не всегда, ну да ладно.
– Мне с тобой просто приятно и всегда очень интересно, – сказала Ребекка чуть позже.
По телефону это было бы уже хорошим комплиментом, но сейчас мы сидели на диване у камина достаточно близко друг к другу, лицом к лицу, и свобода действий устремлялась вверх разве что вербально, так я думал.
Моя рука было собралась лечь ей на плечи, но она спросила:
– Знаешь, что в тебе совершенно особенное, Герольд?
Нет, но, честно признаться, хотел бы узнать, подумал я.
– Ты обладаешь бесконечным спокойствием и терпением. Ты все принимаешь и всему позволяешь быть таким, как оно есть. И вещам, и людям. В том числе и мне.
Это у нас уже было в предыдущий раз, видимо, «позволять» действительно было моим царским делом.
– Ты не ведешь никакую тактику, еще никогда ничего от меня не требовал, никогда ни на чем не настаивал, не давил на меня и не пытался ошеломить. Ты один из очень редких мужчин с такими качествами, можешь мне поверить.
Это было как бы последним доказательством того, что тест на жесткость матраца у нее в спальне не был бы оптимально уместным.
– Ах, да я бы рад был на тебя давить или ошеломить тебя, но у меня, к сожалению, нет для этого средств, – сказал я.
Это я хорошо ввернул, поскольку она действительно чмокнула меня за это в щеку, приведя на время в оцепенение.
– И вообще, ты самый нетщеславный мужчина, какого я знаю. Это так приятно. Обычно все хотят лишь доказать мне, какие они крутые. А ты совсем другой, ты настоящий, ты показываешь и свои слабости.
Что не удивительно, у меня их богатый ассортимент, есть что предложить.
– Так, а можно и мне сказать про тебя что-то приятное? – спросил я наконец в порядке самозащиты, а то я был уже полностью упакован в вату.
Она выжидательно улыбалась. Я немного подумал, не упомянуть ли мне какую-нибудь часть ее лица или тела – к примеру, каки-оранжевые уши, каких не сыщешь ни у одного известного мне художника, ни у Вермеера, ни у Гогена – и уж подавно не сыщешь у Ван Гога. Но потом я выбрал нечто более общее, что, может быть, звучало и бредово, но я сказал это архисерьезно:
– Ты совершенная женщина, о какой всю жизнь мечтает каждый мужчина. И именно мне выпало здесь и сейчас сидеть рядом с тобой, хотя ты даже чисто внешне играешь совсем в другой лиге, чем я. Это для меня какое-то везенье по ошибке.
Я ненадолго задумался, действительно ли «везенье» – идеальное слово, не элегантнее ли было бы употребить, например, «счастливый случай», но в ту секунду, видимо, «везенье» оказалось более кстати, потому что Ребекка преодолела последний остаток дистанции между нашими телами, и я на сто процентов знал, что поступаю правильно, обнимая и целуя ее, что я, конечно, не преминул сделать. Еще не закончив поцелуя, я заметил – по грандиозности ощущения поцелуя, – что он лучше всякого Рождества. Сейчас было интересно лишь одно: остановится все на этой сцене или все-таки дело дойдет до продолжения. Чтобы не изменить своей роли ангела терпения, этот выбор я целиком предоставил Ребекке. И она сказала – когда ее губам наконец снова была предоставлена свобода говорить:
– А что ты имеешь против того, чтобы немного полакомиться?
Она была не из тех женщин, что формулируют двусмысленно, поэтому было ясно, что ее предложение относится к области кухни; там и должно оставаться.
– Шоколадный торт собственного приготовления, – добавила она.
– Блестящая идея, – сказал я.
Этими словами я был горд, ибо они доказывали мое геройское владение телом. Другим мужчинам и впрямь было чему у меня поучиться. Кроме того, шоколадный торт, вообще-то, всегда был для меня альтернативой чуть ли не всему на свете. И с этим «чуть ли» я мог бы в данном особенном случае, надеюсь, еще хорошенько пожить некоторое время, подумал я.
Беспощадная последняя воля
Любовный хмель имеет то преимущество, что повседневность, которая обычно требует некоторого преодоления, прежде чем оказаться позади, вдруг осуществляется сама по себе, как в трансе. Например, в пятницу я встал так рано, что на улице было еще темно, помыл посуду – по крайней мере, вымыл чашку и ложечку для кофе, сделал себе кофе, сел к монитору и открыл почту с намерением написать Ребекке пару строк. Поскольку Ангелина наравне с другими еще спала, в папке у меня было одно-единственное сообщение. Которое, однако, было содержательно и по своему действию оставило далеко в тени двойной эспрессо. Оно гласило:
«Господин Плассек, как и было условлено, снова даю о себе знать. Дело обстоит так, что у меня есть еще 10000 евро, которые я могу отдать. Очень важно: я хочу навсегда остаться в безвестности. Почему я тем не менее пишу вам: поскольку это мое последнее денежное пожертвование, у меня есть мысль, кому его предназначить. То есть я вам подскажу, о чем вы должны написать. А вы напишете. И когда статья появится, я отправлю туда деньги. Пока что я жду вашего согласия, а потом скажу, для кого предназначается последнее денежное пожертвование. Пожалуйста, действительно никому ничего не говорите!»
Было бы весьма интересно, какой портрет этого благодетеля составил бы хороший психолог. Но мне-то нравилась прямота этой персоны: она не делала долгих вступлений, а сразу переходила к делу. Поэтому я тотчас ответил:
«Многоуважаемая госпожа или господин Икс, я нахожу, что вам более чем пристало назначить получателя последнего пожертвования. Если это организационно осуществимо и не связано с поездкой в Китай или Мекку, я охотно напишу репортаж.
Сам я имею к вам еще пару вопросов, которые занимают меня уже давно: почему вы делаете пожертвования только по следам моих публикаций? Почему вы оглядываетесь именно на меня? Кто вы? Я, разумеется, уважаю ваше желание остаться анонимным. То есть ваши ответы останутся между нами. Сердечный привет, Герольд Плассек.
P.S.: Большое вам спасибо от имени всех, кого вы одарили! И моя собственная жизнь, кстати, благодаря этому изменилась в очень хорошую сторону».
Не прошло и десяти минут, как я получил ответ. И он задел во мне одну больную точку, о которой я и заподозрить не мог, что она столь болезненна, пока не прочитал этот текст. Госпожа или господин благодетель писал следующее:
«Господин Плассек, мне бы хотелось, чтобы вы написали о «0,0 промилле». «0,0 промилле» – это стационар по реабилитации алкоголиков, а при нем группа самопомощи для семей, в которых кто-то заболел алкоголизмом или умер от него. У них есть центр на главной улице Зиммеринга. Туда наверняка можно прийти и написать о них. Таково было бы мое пожелание. Только так можно будет получить мое последнее денежное пожертвование.
А на ваши вопросы, кто я есть и почему именно вы: это не столь важно. Я тоже благодарю вас за то, что вы написали ваши очерки, хотя это было не всегда легко».
* * *
С моим любопытством можно было пока повременить. Поскольку стало, во-первых, ясно, что этот сердобольный человек и в самом деле мог меня не знать или хотя бы не воображал обо мне ничего хорошего, иначе бы он не поставил меня в столь дурацкое положение. Честно признаться, у меня не было никакого желания беседовать с алкоголиками и выслушивать их истории или, того хуже, истории их близких. Тут я был, так сказать, дважды обжегшееся дитя, поскольку я неизбежно вспоминал отца или, вернее, мать, которой приходилось долгие годы с ним мучиться.
Да и для меня самого алкоголь был прямо-таки табуированной темой, причем я отдавал себе в этом отчет, поскольку считал, что каждый человек имеет право на свои маленькие слабости, от которых не может или не хочет избавиться, и что было бы гораздо умнее и рациональнее возвести вокруг этого слабого места крепость, вместо того чтобы устранять его. У меня этой маленькой слабостью, скрытой от посторонних глаз, самодозволенной и табуированной, как раз и был алкоголь, то есть я ничего не хотел об этом слышать, и я ненавидел, когда кто-то это слишком драматизировал.
У меня была и еще одна проблема с этим приказом команде смертников по электронной почте: как я оправдаю такой репортаж в глазах Мануэля и всех остальных, кто хорошо меня знал? Меня бы стали справедливо упрекать, какой я апостол морали: проповедую воду, а сам заправляюсь вином, вернее, пивом. Меня же будут презирать приятели, а в баре Золтана пожизненно лишат права посещения.
Но больше всего меня разозлило то, что этот приказ чувствительно помешал думать о Ребекке и предаваться смакованию деталей и самых ярких сцен нашего вечера, а вечер был мирового класса. Я решил послать ей эсэмэс, чтобы и на ее долю выпала хотя бы выборочная проба частицы моих чувств. Само по себе послание должно было гласить неопровержимое «я тебя люблю». Но я был из тех, кто выражает такое в более завуалированном виде. И я написал:
«Милая Ребекка, из-за одного только шоколадного торта я бы прилетел к тебе снова в любое время. Но теперь моя очередь! Я уже работаю над моим меню:-)»
Смайлик я тут же стер, она и без него догадается об иронии. И я написал: «Я уже работаю над моим меню… Твой Герольд». И еще: «Ты чудо!» Заключительную фразу я преобразовал: «И еще: то, что было с тобой, – чудо!» Но по-настоящему ли верно слово «чудо»? Ведь чудо – дело единичное, которое не дано ни повторить, ни тем более превзойти. «Чудесно», может быть, все-таки лучше, потому что «чудесно» означает, что хотя это и было прекрасно, как чудо, но вовсе не значит, что это уже само по себе есть чудо. Кроме того, от «чудесно» есть естественный переход к следующему разу, тогда как от «чуда» нет. Итак, я написал: «Это было чудесно». Плюс два восклицательных знака.
Мануэль тревожится о будущем
Когда Мануэль пришел из школы, у меня все еще не было ни плана А, ни плана Б, ни плана В касательно анонимного задания. Мануэль показался мне каким-то подавленным, и я просто спросил его, не случилось ли чего.
– Нет-нет, все в порядке, – сказал он.
Значит, что-то было не в порядке.
– Тебя что-то угнетает?
– Почему меня должно что-то угнетать?
– Вопрос ниже твоего уровня, милое дитя. Никто не утверждал, что тебя что-то должно угнетать. Я только спросил, не угнетает ли тебя что-нибудь.
Он засмеялся. Ведь я уже стал чемпионом мира в отпасовке его глупых встречных вопросов.
– На Рождество приедет мама, – сообщил он.
– Вот и хорошо, – ответил я.
– Да.
– Разве ты не рад ее приезду?
– Ее-то приезду я рад, – произнес он.
Я ждал, не последует ли чего определенного, и оно последовало.
– Но у нее сейчас новый друг, и он приедет тоже.
– Да, я знаю, – сказал я.
– Ты знаешь? Откуда?
– От тети Юлии.
– Ага.
– Да. И в чем проблема? – спросил я.
– Проблема в том, что я его не знаю.
– Эта проблема разрешима, ты с ним познакомишься, – сказал я.
– А если я ему не понравлюсь?
– Ты ему понравишься. Ты не можешь не понравиться. Только не спрашивай меня, пожалуйста, почему ты не должен кому-то не понравиться.
Он засмеялся.
– А если он мне не понравится?
На это у меня не оказалось под рукой спонтанного ответа, но в любом случае это была забавная мысль.
– Ведь мама собирается даже, может быть, выйти за него замуж, и нам придется жить вместе. Что, если я не захочу с ним жить?
– Этого я не могу себе представить, – соврал я.
– А можно, я тогда буду жить у тебя?
Это был в точности вопрос моего тайного желания. Я тактически выразил ужас:
– Что? Хочешь жить тут? Да ты оглянись. Ты здесь подхватишь все болезни – от насморка вплоть до тифа и холеры.
– Ну и что? Моя мама – врач. И ее новый муж тоже. Тогда они смогут меня здесь навещать.
Теперь он заметно повеселел, и я взъерошил пятерней его волосы – правда, довольно грубо, чтобы он в свои четырнадцать с половиной лет не застеснялся.
– Кстати, что ты собираешься делать на Рождество? – спросил он наконец.
– Я? Понятия не имею. Скорее всего, то же, что обычно.
– А что у тебя обычно?
– Я позволяю Рождеству преподносить мне сюрпризы, – сказал я.
Теперь он ухмыльнулся от уха до уха. Ответ ему понравился. Я думаю, какие-то гены он от меня все-таки ухватил.
– Ты ведь можешь праздновать с нами, тогда будет хотя бы не так уныло, – заметил он.
Это было как шоколадный торт марки «Ребекка». Я чувствовал, как во мне поднимается что-то вроде растроганности, и я должен был воспрепятствовать тому, чтобы она добралась до глаз.
– Одна женщина и трое мужчин? Я думаю, твоя мама не будет от этого в восторге, – сказал я.
– Но ты ведь можешь привести свою… – Он осекся.
– Свою – кого?
– Ах, я так, – сказал он, чуть смущенно переминаясь с ноги на ногу.
– Да говори уж.
– Ты мог бы привести Флорентину.
– А, теперь понятно, откуда ветер дует, – ответил я.
Я сказал это с преувеличенной веселостью, но мне стало не по себе при этих словах.
– Нет, это не то, что ты думаешь. – Он тут же дал задний ход, но не смог подавить легкий смешок.
– А что я думаю? То есть я думаю, ты находишь ее просто симпатичной, потому что она такая непосредственная и раскованная, и потому, что она почти славный парень.
– Да, вот именно, – с облегчением ответил он.
Я тоже вздохнул с облегчением.
* * *
Наш доверительный тон непринужденной болтовни вселил в меня мужество перейти в наступление, поэтому я спонтанно составил план Г и сказал Мануэлю:
– Представь себе, чего требует «Новое время», куда они хотят меня заслать.
– Куда?
– К тяжелым алкоголикам.
– Правда? Но ты ведь имеешь право отказаться от этой, как ее… госпитализации?
Самым сокрушительным в этом было то, что он сказал это с полной серьезностью и с явной тревогой за меня. Я возмутился:
– Ты с ума сошел? Что за мысли у тебя в голове? Мне поручают написать репортаж о центре, где реабилитируют алкоголиков и помогают их близким, центр называется «0,0 промилле». Там у них действительно тяжелые случаи, а не такие любители выпить, как я.
Я рассказал ему кое-какие детали, которые уже были мне известны.
– И ты правда это сделаешь? – спросил он.
– Я еще не знаю.
– И все-таки.
– Что все-таки?
– Сделай это. Мне кажется, будет супер, если ты это сделаешь, – сказал он.
– Честно? Почему?
– Просто так, я нахожу это суперским. И я, конечно же, пойду с тобой.
– Конечно же, ты не пойдешь со мной, – горячо воспротивился я.
Я не хотел, чтобы мой сын увидел вблизи именно этот сорт экстремальных судеб, для этого он был еще слишком юн. Но в итоге снова оказалось, что у нас двоих в конце концов побеждает то мнение, которое исходило не от меня. Зато он пообещал мне свою полную поддержку в информационных розысках. Кроме того, ведь я знал, что это будет наше последнее совместное приключение, связанное со спонсорскими пожертвованиями. Итак, вопреки моим протестам ему было позволено пойти со мной, что означало вместе с тем, что я решился принять это задание – даже вопреки внутреннему протесту.
Глава 18
В диалоге с благодетелем
Мы договорились с «0,0 промилле» о визите к ним в воскресенье во второй половине дня. В первой половине у меня, с одной стороны, тяжело трещал череп из-за одного из этих – ставших редкими – вечеров субботы, которые завершаются только воскресным утром, или, вернее, незаметно переходят в сумеречный сон. С другой стороны, мой интерес к тому, чтобы некоторым образом подготовиться к визиту или настроиться на него, держал меня в рамках, и это можно было увидеть по таблетке-шипучке против похмелья.
Вместо подготовки я написал имейл человеку, который мне все это устроил и который все это время никак не шел у меня из головы.
«Многоуважаемая госпожа или господин Икс, сегодня во второй половине дня я приступлю к репортажу, который вы хотели. Очерк, возможно, выйдет во вторник. Если затем последует ваше пожертвование, за которое я вас уже заранее благодарю, то должны ли мы затем объявить в «Новом времени», что аноним известил нас об окончании серии пожертвований?
И вот еще что: вы написали, что не столь важно, кто вы и почему вы привязали именно ко мне вашу достойную восхищения серию даров. Пусть и неважно, но мне бы все-таки хотелось это знать. Сердечный привет, Герольд Плассек».
Ответ не заставил себя ждать.
«Господин Плассек, мне было бы предпочтительнее, чтоб газета не объявляла, что это был последний денежный дар. Иначе кто-нибудь наверняка начнет докапываться, и у меня не будет покоя. Но для меня эта миссия закончена, как мне ни жаль, ибо это были волнующие недели и у меня постоянно было чувство, что подарок делают мне, а не наоборот. А может, кто-то и придет мне на смену.
Я понимаю, что вы хотите знать, кто я и почему из газет вырезались и посылались именно ваши заметки. Может, это делалось и потому, что по моей оценке они просто говорили: «Так оно и есть, и все тут. Раз он хочет остаться в тайне, пусть остается в тайне». Не обязательно все раскрывать. Так что лучше не спрашивайте меня об этом».
Итак, кое-что я из него все-таки вытянул. И я сделал еще одну попытку.
«Многоуважаемый господин Икс, по крайней мере, формулировкой: «Раз он хочет остаться в тайне…» Вы выдали мне, что вы – мужчина, если, конечно, вы не сделали это нарочно, чтобы обмануть меня. Вы правы, я не из тех людей, кто любой ценой хотел бы что-то выжать из другого. И как вы это, собственно, узнали? Вы наводили обо мне справки? В «Дне за днем»? Я и в самом деле не хочу быть назойливым, но у меня есть одна существенная причина, почему мне так хотелось бы знать, кому я всем этим обязан. Итак, если это вам не будет слишком хлопотно, было бы действительно очень любезно с вашей стороны раскрыться передо мной. Для вас это ничего не изменит, и вы по-прежнему будете пребывать в покое, это вам обещает тот, для кого его покой так же свят. Сердечно, Герольд Плассек».
К сожалению, он не пошел на уступки. Его ответ гласил:
«Господин Плассек, именно этого я и хотел избежать – чтобы вы меня сейчас расспрашивали. Это действительно мало что даст, если вы будете знать, кто я. Вы даже, может, будете разочарованы, потому что представляли себе совсем другого человека. Может быть, я мог часами стоять подле вас, а вам бы и в голову не пришло, что я и есть тот пресловутый инвестор. Итак, лучше пусть и впредь все останется так же, ведь особенным в этих анонимных денежных дарах были они сами, поскольку они помогали конкретным людям. Теперь все знают, что можно делать такое и при этом оставаться в тайне. Я нахожу, что это хорошо. Как личность я или вы – мы оба неинтересны. Это все заменимо. Я надеюсь, вы поймете меня в том, что я имею в виду. Хорошего вам дня».
Визит в «0,0 промилле»
Мне было очень трудно сохранять молчание перед Мануэлем, ибо чем чаще этот спонсор подчеркивал, насколько он неприметен и заменим, тем больше мне не терпелось узнать, что за личность скрывается за всем этим.
В Зиммеринге по дороге к зданию, в котором размещалось «0,0 промилле», которое, кстати, находилось не так далеко от переулка, где я провел свое детство, я ненадолго задумался, с чего бы это спонсор под конец заслал меня именно к алкоголикам, и тут мне спонтанно пришли в голову два простых логичных объяснения. Либо он сам был когда-то в тяжелой алкогольной зависимости, либо все еще оставался в ней, или что-то еще связывало его с этим домом – может, он там работал врачом, может, мы его даже встретим, во всяком случае, я буду чутко держать нос по ветру – насколько это будет возможно в моем несколько пришибленном состоянии.
* * *
– Это первый раз или вы уже однажды у нас были? – спросила меня молодая женщина на приеме, в остальном производящая впечатление компетентного человека.
Я разъяснил ей ее ошибку, и она принесла тысячу извинений.
– Ты можешь сказать, что во всем этом такого уж веселого? – спросил я Мануэля.
Он хотя и не мог мне ничего объяснить, но продолжал ухмыляться. В некоторых ситуациях он был еще чисто дитя.
Наконец за нами явилась госпожа Барбара Дресслер, о чем сообщал бейджик у нее на груди, и повела нас по всему заведению, стилизованному под санаторий. Она старалась показать нам, какие лечебные и прочие возможности может предложить центр «0,0 промилле». К счастью, Мануэль все подробно записывал. Я же пристально вглядывался в персонал, но пока ничто не указывало на анонимного благодетеля. То, как он писал, тоже не сочеталось с этим местом, разве что он был тут пациентом.
– Хотите еще заглянуть в приемное отделение неотложный помощи или в отделение острых психозов? – спросила госпожа Дресслер.
– Нет, спасибо, – сказал я.
Я слишком хорошо знал, как алкоголики выглядят, когда трясут головой или содрогаются в нервной дрожи, как они то и дело облизывают пересохшие губы и трут заплывшие глаза, как они тупо сидят в углу, сжавшись, и пялятся в пустоту из опухших, красноносых, синюшных лиц. Когда-то мне удалось просто больше не смотреть на это, вернее, смотреть сквозь моего отца. К сожалению, это имело неприятное побочное явление: картины потом внезапно всплывали в моих сновидениях, да еще с необыкновенной четкостью. Так что насмотрелся я вдоволь.
* * *
Наконец мы добрались до консультационного центра, где нас дожидался специально прикомандированный к нам доктор Гюнтер Уланд, словно сошедший с телевизионного экрана, где рекламировал пену для бритья, дезодорант или продукты про-актив-виталь-анти-старения. Алкоголь был знаком ему, вероятно, лишь понаслышке, однако он чувствовал себя обязанным с ходу шокировать школьника – который, естественно, вытаращил глаза – ужасающими актуальными данными: в Германии ежегодно 40 тысяч человек погибают от алкоголя, в Австрии 350 тысяч больных алкоголизмом, в Германии 3, 3 миллиона алкоголиков, это на двадцать лет понижает ожидаемую продолжительность жизни, алкоголизм является причиной шестидесяти других болезней – печени, поджелудочной железы, мозга, – причиняя ущерб народному хозяйству, и так далее, и тому подобное.
– А когда считается, что человек болен алкоголизмом? – спросил Мануэль.
Господин эксперт заученно перечислил несколько пунктов, по которым я придерживался собственного мнения.
– Когда после употребления небольшого количества испытываешь настоятельную потребность в большем.
Ну да, когда организм требует большего, то он требует большего. С кусочком венского шницеля бывает то же самое, но никто же не считается после этого больным венскошницельной зависимостью. Кроме того, покажите мне человека, который, выпив полстакана пива, не испытает потребности во второй половине.
– Когда продолжаешь пить, хотя знаешь, что должен прекратить.
Это меня успокоило, поскольку со мной такого практически не случалось.
– Когда тебе требуется все больше алкоголя для того, чтобы добиться такого же действия.
Ну, мне никогда не приходилось ставить себе целью добиться определенного действия. Действие возникает как бы само собой, начиная с определенного количества.
– Когда пьешь тайком и еще в одиночку.
Тайком я никогда не пил, а в одиночку лишь тогда, когда рядом больше никого не оказывалось.
– Когда ты готов примириться с причинением вреда своим органам ради потребления алкоголя.
По моему мнению, вред своим органам ты готов причинять уже с рождения. Я бы даже утверждал: поскольку ты живешь, ты готов примириться и со смертью, но это была, пожалуй, аксиома.
– Когда из-за твоего питейного поведения портятся отношения с близкими людьми.
Тут я был скорее здоровый тип, который, наоборот, стремился установить отношения посредством своего питейного поведения. Правда, не всегда это удается с теми, кто вообще не пьет, как наверняка этот доктор Уланд.
– И когда твои мысли настолько заняты алкоголем, что другие интересы оказываются заброшенными, – заключил он свою экспертизу.
Ну, я-то – даже когда пил пиво – совсем не обязательно думал об алкоголе. А заброшенные интересы – да, они больше не интересуют человека, но я бы не стал такого человека считать непременно больным, подумал я.
– Но знаете, что является самой большой проблемой едва ли не всех людей, больных алкоголизмом? – обратился он ко мне, хотя до сих пор я успешно держался в стороне. – Вы верите, что алкоголь ничего вам не сделает. Вы найдете сотню отговорок, чтобы преуменьшить значение выпивки. Вы просто не хотите признать, что больны.
Вначале я кивнул, поскольку многоумные теоретики всегда должны одерживать верх в любом споре. Но потом мне кое-что пришло в голову.
– Если ты болен, а чувствуешь себя здоровым – не лучше ли это, чем быть здоровым, но чувствовать себя больным? Если, конечно, совсем отвлечься от этого пресловутого ущерба народному хозяйству, о котором вы говорили раньше и ценностью которого все больше измеряется наша жизнь? – подсунул я ему как можно небрежнее. Поскольку не испытывал нарастающего желания выслушивать дальше премудрости этого Мистера Чистая Печень в присутствии моего сына.
Он остался спокоен и насмешливо улыбнулся.
– Проблема в том, что человек, который отрицает болезнь, не в состоянии что-либо предпринять, чтобы затормозить процесс образования зависимости. А с какого-то момента он при всем желании не сможет больше чувствовать себя здоровым, будет уже слишком поздно.
О’кей, когда обрисовались такие устрашающие сценарии, мне больше ничего не приходило в голову: победа осталась за доктором, но симпатичнее он мне все равно не стал.
Я давно заметил, что Мануэль, для которого все эти версии и излагались, смотрел на меня со стороны с большим сочувствием, что мне было крайне неприятно. Наконец он наклонился ко мне и тоном мольбы прошептал на ухо – так, что мистер Уланд не мог это услышать, что я потом высоко засчитал Мануэлю:
– А ты не мог бы выпивать в день хотя бы на одно пиво меньше?
Этому высказыванию нужно было дать время, чтобы оно подействовало на меня.
– Я? – уточнил я потом.
Да, можно было не сомневаться, он имел в виду меня и сделал при этом скорбное лицо. А виной всему был доктор. И, собственно, еще и анонимный благодетель.
Превосходная командная работа
В понедельник, когда Мануэль пришел домой, я огорошил его тем, что уже сотворил в одиночку два коротких текста для нашего разворота. В одной статье речь шла о подушевом употреблении алкоголя в европейских странах – в среднем каждый гражданин принимал по тринадцать литров чистого спирта, что не казалось мне таким драматичным, если распределить это количество на весь год, потому что сюда ведь входил и шнапс с высоким содержанием спирта.
Во втором тексте я дал высказаться нескольким экспертам о влиянии алкоголя на уличное движение. Кстати, накануне я выпил как минимум на одно пиво меньше благодаря тому, что приступил к этому позже, а закончил раньше. Это была сама по себе вполне пригодная тактика. Кроме того, у меня создавалось впечатление, что я и без того с каждым днем переносил алкоголь все хуже и для достижения того же эффекта мне все меньше его требовалось, о чем я мог бы затребовать справку от гуру-доктора Уланда, чтобы он больше не смел меня порочить.
Большой репортаж о «0,0 промилле» мы потом обработали проверенным способом: Мануэль на основе своих заметок давал мне длинную версию, которую я сперва записывал под диктовку, а потом вычеркивал приблизительно каждую вторую фразу. То, что оставалось, я тут же переводил с языка школьных сочинений на журналистский. Кроме того, Мануэль заставил меня сделать информативную часть о последствиях для здоровья, то есть о пресловутом ущербе для народного хозяйства, и принудил к анализу злоупотребления алкоголем среди подростков. О’кей, я уже понял, что это важно.
Насколько я был в растерянности, не зная, как подступиться к основной теме, настолько же непринужденной оказалась наша совместная работа. Мне просто нравилось, с каким воодушевлением Мануэль брался за дело, с каким удовольствием он вырабатывал концепцию подачи материала, выбирал фотографии и графики и мастерил со мной заголовки и подписи под картинками, в этом он проявлял себя как прирожденный журналист. Чтобы быть с ним вровень, мне приходилось налегать на стилистику и выуживать из подкорки весь свой словарный запас. Результатом мы оба остались довольны.
Только бы не забыть испросить у Клары Немец разрешения по-прежнему пристегивать Мануэля в качестве соавтора, когда я потом получу свое рабочее место в редакции. Нам ведь не требовался второй компьютер, достаточно было второго стула. А уж о его гонорарах я позабочусь сам – так, чтобы ему не приходилось испытывать нужду в карманных деньгах или прочих дотациях со стороны Йохена. Честно признаться, я не мог представить себе свою работу без Мануэля. Или, вернее сказать, я вообще мог себе представить свою работу лишь с тех пор, как в моей жизни появился Мануэль.
Всего лишь ненадолго пересечься
Вечером я сразу же отказался от первого пива, чтобы это уже осталось позади, и написал анонимному благодетелю такой имейл:
«Глубокоуважаемый господин Икс, наш репортаж о «0,0 промилле» готов и будет опубликован завтра. Я говорю «наш репортаж», потому что мне, как всегда, помогал мой сын Мануэль. Он в значительной мере был причастен ко всем статьям в «Новом времени», которые вы вырезали и вкладывали в конверты с деньгами. Он тревожился и переживал за судьбы тех, о ком мы писали, – и прыгал от радости, когда они или их помощники затем были щедро одарены вами. Как вы думаете, что это может значить для четырнадцатилетнего подростка, какая картина мира у него складывается и какие ценности он возьмет с собой в будущее? Такое не под силу самой лучшей педагогике».
Этот пассаж хотя и был немного стереотипным, написанным в стиле социальной романтики и не вполне свободным от пафоса, но сам я от него расчувствовался и поэтому взял себе второе пиво, то есть в целом – первое. Затем я продолжил:
«Теперь я выдам вам еще кое-что, что для вас, возможно, прозвучит абсурдно: Мануэль не знает, что я его отец, потому что я сам узнал об этом лишь несколько месяцев тому назад и до сих пор не нашел подходящего случая, чтобы открыть ему это. Четырнадцать лет, которые я пропустил, мне уже не наверстать. Но за то короткое время, что мы знаем друг друга, произошло много чего, мы тесно сроднились, этим я тоже не в последнюю очередь обязан вам. Эта интенсивная фаза отношений, к сожалению, теперь подходит к концу, поскольку его мать возвращается из Африки и сможет предоставить ему полноценную семью, чего в моем случае, видимо, не случится никогда, насколько я себя знаю, но неважно».
На этом месте я сделал вынужденную паузу, и мне пришлось долго думать, как сформулировать заключительный пассаж. Я выбрал в конце концов вариант, в котором снова наносил мазки погуще, и написал:
«Но в завершение я выскажу еще одно действительно большое желание: я хотел бы разделить с Мануэлем нечто особенное, нечто такое, что связывало бы только нас двоих и заставило бы нас помнить эти месяцы вечно. А это особенное, наша большая и общая для нас тайна, как мне ни жаль, – однозначно вы! Мануэль просто горит желанием узнать, кто же этот анонимный даритель, который, например, вытащил его друга Махи из безвыходного положения. Да, я хотел бы иметь возможность сказать Мануэлю, кто вы такой, кто совершает такие поступки – по каким бы то ни было причинам, – и как вы вышли именно на меня».
Так, самое трудное осталось позади, теперь оставались лишь технические детали.
«Для этого я хотел бы ненадолго пересечься с вами и обменяться парой слов, не более того. Было бы хорошо, если бы удалось это устроить в один из ближайших дней, лучше бы до Рождества. Я еще раз обещаю вам, что после этого навсегда оставлю вас в покое. С дружеским приветом, Герольд Плассек».
Странные женские реакции
Как я и боялся, ответ благодетеля заставил себя ждать. Но он хотя бы не отказал мне тотчас. В первой половине вторника позвонила Клара Немец, чтобы сделать комплимент, а именно: как это было мужественно – взяться за тему алкоголизма, при этом я, честно признаться, не вполне понимал, что тут такого уж мужественного, ну да как ей будет угодно. По крайней мере, газетный разворот во всем многообразии аспектов мне действительно удался, считала она. В редакции «Нового времени», мол, конечно, уже настроились на то, что после девяти тысяч евро для Кёнигштеттена пожертвования больше не поступит, а если и поступит, то лишь остаточная небольшая сумма, что, конечно, ни в коем случае не умаляет моих достижений. На это я предпочел промолчать, чтобы не вызвать подозрения в осведомленности.
Под конец Клара спросила, не будет ли у меня времени в рождественские дни заглянуть в редакцию. Они хотели бы устроить в мою честь маленький праздник. Тиражи газеты на следующий квартал оказались хороши как никогда за всю историю «Нового времени», и этим они обязаны главным образом мне – как некоему продолжению руки анонимного дарителя.
– Ясное дело, если где-то праздник, я мимо не пройду, – сказал я скорее рефлекторно.
На самом деле я был из тех людей, которые предпочитают держаться с краю и уж никак не могут быть объектом чествования, чего за последние тридцать лет со мной ни разу не случалось.
* * *
Вскоре после этого последовал телефонный звонок, который мгновенно привел меня в такое состояние, будто кто-то включил во мне турбокнопку заблаговременно установленного кардиостимулятора.
– Алло, Герольд, я только что прочитала репортаж и подумала, что тут же должна тебе позвонить, – сказала Ребекка.
Мне понравилось, что она так подумала, и поэтому я ответил:
– Хорошо, что ты так подумала.
– Поскольку я просто должна тебе сказать, как я восхищаюсь тем, что ты поднял эту… щекотливую и… наверняка также тяжелую тему, я имею в виду тему алкоголя…
– Скорее это тема сама передо мной предстала, – перебил я.
– Что ты все это взял и открыто высказал.
– Что?
– Опасность, вред, зависимость – все, что алкоголь может сделать из человека, ну ты понимаешь, – прошептала она.
– Ах, конечно.
– И этот доктор, врач, которого ты интервьюировал, как его зовут?
– Уланд.
– Верно, доктор Уланд. Он очень умный человек, который все действительно довел до точки.
– Да, он безумно умный, – выдавил я.
По-настоящему сумасшедший умник, так сказать. То есть в людях Ребекка разбиралась не очень.
– По крайней мере, я хотела тебе сказать, что я нахожу просто замечательным с твоей стороны, что ты… что ты теперь… что ты хочешь над этим работать.
– Спасибо, – сказал я, при этом осталось открытым, над чем именно я хотел работать, главное, что тема была исчерпана.
– А в остальном? – спросил я.
– В остальном? Ах, в остальном у меня не так много новостей.
– Ты получила мой имейл? – спросил я и сам удивился, как человек может спрашивать такие глупости.
– Да, Герольд, имейл я, разумеется, получила. Та-а-ак мило! Спасибо, спасибо. Я тебе уже хотела ответить, но…
– Ну да, мы же говорим по телефону.
– Да, вот именно, – сказала она.
После этого возникла пауза, в которой мы, вероятно, оба раздумывали, о чем бы еще поговорить, раз уж мы говорим по телефону.
– А как насчет того, чтобы снова встретиться? – спросил, к сожалению, опять же я.
– Да, непременно, мы это сделаем, – произнесла она довольно взволнованно, по крайней мере, она старалась, чтобы это так звучало. – На Рождество я буду у своих родителей в Зальцбурге, но сразу же после этого, – горячо добавила она.
– Да, сразу после Рождества – хорошо.
– Отлично, – сказала она.
– Да, очень, – подтвердил я.
– Ну, тогда пока? – сказала она.
– Да, до после-Рождества.
– Да, я позвоню, – пообещала она.
– Я тоже, – ответил я. Только на всякий случай.
Маленький рождественский семейный ланч
Вечером я получил третий звонок из женской серии, на который рассчитывал меньше всего. То была Алиса, живьем из Могадишу. Когда во время глубокой зимы говоришь по телефону с Африкой, необходимо первым делом обменяться подробностями: о раскаленном зное и о метели. После этого мы быстро перешли на тему Мануэля.
– Гери, я так тебе благодарна, и я счастлива, что ты суперски все устроил с ним и что ты так о нем заботишься, – сказала она взволнованно, если то была не какая-нибудь мачта мобильной связи третьего мира, которая заставляла ее голос так дрожать.
– Не за что. Вообще-то, это как раз он заботится обо мне, – ответил я.
– Он, по крайней мере, совершенно влюблен в тебя и говорит, что это были лучшие месяцы его жизни. Тебе действительно удалось сделать с мальчиком нечто великое, Гери, – сказала она.
– Тебе тоже, – парировал я.
Но моя скромность на сей раз была не вполне искренней. Потому что больше всего мне хотелось бы попросить Алису, чтобы она слово в слово повторила эту фразу насчет великого, которое мне удалось, причем очень медленно, чтобы я успел записать. Поскольку я не мог припомнить, чтобы нечто столь же радующее хотя бы раз говорилось обо мне, да еще с другого континента.
– Ты ведь знаешь, что мы… что я через несколько дней приеду в Вену, на Рождество. Я и… э-э… Йохен. Тебе должна была рассказать об этом Юлия.
– Да, Юлия мне рассказывала, и Юлия, и Мануэль тоже.
– И я просто хотела тебя спросить, то есть мы с Йохеном хотели тебя спросить, не будет ли у тебя времени и желания в первый же день Рождества, если у тебя ничего уже не запланировано, во второй половине дня прийти к нам, на маленький рождественский семейный ланч.
– На маленький рождественский семейный ланч?
Это приглашение застало меня врасплох и спонтанно вызвало даже что-то вроде рождественско гусиной кожи. Поскольку меня вечность не приглашали на маленькие рождественские семейные ланчи, последний раз это случилось, когда мне было лет восемь.
– Да, было бы хорошо. Этого очень хочет Мануэль.
– Этого хочет Мануэль?
Моя рождественско гусиная кожа начала сильно согреваться.
– Да. И ты заодно познакомишься с Йохеном.
Теперь по коже опять побежали холодные мурашки озноба.
– Вы понравитесь друг другу, я знаю, – сказала она.
– Да, ты думаешь?
Я невольно вспомнил про доктора Уланда.
– Наверняка. Значит, ты придешь? Это был бы замечательный сюрприз для Мануэля.
– Если это будет сюрприз для Мануэля, то я не буду долго раздумывать и сразу, разумеется, скажу: спасибо, с удовольствием приду, – ответил я.
– Да? Очень мило, Гери.
– Очень мило, я тоже так считаю, – согласился я.
– Итак, до воскресенья.
– Да, до воскресенья.
– Когда я буду в Вене, я позвоню тебе еще раз – сказать точное время.
– Да, верно, точное время, – пробубнил я.
В Европе у человека есть часы, в Африке – время, спонтанно пришло бы мне в голову.
Понятия не имею, откуда эта мысль, но она показалась мне хорошей.
* * *
После этого я долго сидел перед первой – еще не открытой – бутылкой пива, прежде чем поставить ее обратно в холодильник и взять вторую. У меня внезапно возникло чувство, что судьба сейчас очень хорошо ко мне расположена. Если у судьбы вообще есть по отношению ко мне собственное мнение.
Рандеву с благодетелем
Мое везение продолжилось и в первой половине среды. При этом у меня уже иссякла надежда на позитивную реакцию анонимного благодетеля на мою просьбу, и это было хорошо, ибо зачастую приятные события случаются именно тогда, когда мысленно я от них уже отрекся.
В моей почте немедленно появилось короткое и внятное сообщение:
«Господин Плассек, ну, если вы хотите, встречаемся в субботу поздно вечером в Вене в каком-нибудь кафе».
Суббота была 24 декабря, сочельник. Если он не Санта Клаус собственной персоной, то он либо неженатый, либо безродный, либо как минимум бездетный. Поскольку я и сам был не из тех людей, кто в Святой вечер мог очутиться в непосредственной близости к празднично украшенной елке и задушевно завести под караоке «Тихую ночь», я ответил:
«О’кей, подходит. И в каком кафе? Есть у вас конкретное желание? Любимое кафе по вашему выбору?»
Ответ не замедлил последовать:
«Можете выбрать. Куда вы любите ходить».
Куда я люблю ходить? Но хорошая ли это идея? Я, конечно, знал одно место, которое открыто и в сочельник и при этом не является борделем. И я написал:
«Мое постоянное заведение называется «бар Золтана». Но не знаю, могу ли я вас туда направить. Поскольку это скорее веселая пивнушка, где алкоголь течет рекой, что, может быть, не придется вам по вкусу – памятуя о «0,0 промилле» и так далее. Мы могли бы встретиться и где-то в другом месте».
Не прошло и пяти минут, как я получил ответ:
«Договорились. Встретимся там».
Я поблагодарил его и получил еще одно короткое сообщение:
«Но я с вами не заговорю. Это придется сделать вам, господин Плассек!»
И я ответил:
«Не думаю, что с этим будет какая-то проблема. Уж я вас узнаю, в этом я не сомневаюсь! Хорошего вам дня, Г.П.»
Глава 20
Рождественский вирус милосердия
В четверг, 22 декабря, в «0,0 промилле» – так сказать, согласно договоренностям – поступило, вероятно, последнее денежное пожертвование в десять тысяч евро. В конверте, кроме того, находилась газетная вырезка моего актуального репортажа в «Новом времени». Эту новость еще тепленькой сообщил мне Петер Зайберниг – сообщил с неутомимой радостью.
Не кто иной, как доктор «0,0» Уланд написал мне в связи с этим имейл, даже в какой-то мере с сердечной благодарностью. В конце он, конечно, не мог удержаться от замечания, что я в любое время могу к нему обратиться, и если у меня лично вдруг возникнет «какой-то вопрос», он будет рад помочь советом и делом. Меня так и тянуло тут же ответить ему благодарностью и приписать: «Я с радостью воспользуюсь вашим предложением и спрошу у вас, какой бы крем для лица с автозагаром вы мне порекомендовали».
Но я не стал этого делать и углубился в прочтение огромного количества почты, которую мне переправила Ангелина. Явно все придурки, которые отмалчивались одиннадцать с половиной месяцев, к Рождеству вдруг дико активизировались и решили проявить свою социальную совесть. Я понимаю, получив импульс от средств массовой информации, люди по всей стране испытывают потребность сделать что-то хорошее или как минимум одобрить хорошие поступки других. Поскольку к великому идеалу современности – анонимному благодетелю – было не подступиться, мне выпадала честь быть первым адресом, по которому можно было выгрузить всю сезонно ограниченную сердечность. Поскольку я тоже человек некрепко сшитый, я довольно быстро и сам подхватил этот рождественский вирус милосердия и погряз в том настроении, в каком религиозные люди раздумывают, не баллотироваться ли им на папский престол, не пойти ли по стопам Ганди или – для обладателей более мелких стоп – хотя бы путем святого Иакова.
Для ответа на вопрос одной читательницы мне пришлось в конце концов обратиться к помощи Гугла – и при этом я сделал одно поразительное открытие. В ходе поиска мне сразу же вывалилась масса материалов по теме «Куба»: Куба время путешествий, Куба климат, Куба погода февраль, Куба еда, Куба цены, Куба страна и люди, Куба достопримечательности, Куба туризм, Куба ночлег, Куба культура и музыка, а также другие комбинации с Кубой.
Поскольку сам я никогда не вводил в компьютер запрос насчет Кубы; поскольку я, признаться честно, еще не думал о Кубе; поскольку Куба у меня была вытеснена из мыслей в будущее, которое по-прежнему казалось мне ирреально далеким, это мог сделать только Мануэль.
Когда он вернулся из школы, я хотел заговорить с ним об этом. Вопрос уже практически вертелся у меня на языке, но мне хватило ума снова загнать его обратно в мозг, поняв, что я могу его сэкономить, а заодно и пощадить Мануэля. Ведь вопрос звучал бы: «Почему ты так интересуешься Кубой?» Но ответ я мог бы дать себе и сам: «Да, почему?» Или на жаргоне Мануэля: «А почему я не должен интересоваться Кубой?»
Гудрун в Кубинском кризисе
Ночью я терзался чем-то вроде мук совести. Во-первых, накануне вечером я забыл выпить на одно пиво меньше. Нет, я не то что забыл, а просто не имел желания напоминать себе об этом. Во-вторых, в принципе, я был вдвойне плохой отец, потому что ни для Флорентины, ни для Мануэля я не приготовил по рождественскому подарку – у меня совсем не было традиции покупки рождественских подарков, поскольку годами от меня их никто и не ждал – и правильно делал. Но среди ночи я вдруг почувствовал, что в этом году я, так сказать, созрел для рождественских подарков детям, при этом проблема состояла в том, что я почувствовал это в самый последний момент.
* * *
Рано утром мне пришла в голову поистине грандиозная идея – вероятно, самая грандиозная в этом году. СМИ бы в этом случае даже говорили об идее века, по аналогии с наводнением века, которое происходило через каждые два-три года. Правда, осуществление этой идеи было сопряжено с некоторыми трудностями, но первый барьер я взял сравнительно самостоятельно: я пошел в банк, где меня раз от разу привечали все дружелюбнее и где меня действительно ждали деньги. И их вполне хватило, чтобы воплотить мою грандиозную задумку в жизнь. После банка я отправился в туристическое бюро «Зима», мимо которого проходил тысячу раз – и всякий раз озадачивался, такое ли уж подходящее название для туристического бюро – «Зима», или, может, у них еще есть где-то филиал с названием «Лето», а если дела у этой турфирмы пойдут хорошо, то можно будет расшириться в направлении «Весны» или «Осени».
Как бы то ни было, в турбюро «Зима» все прошло без сучка и задоринки, так что теперь я мог позвонить Гудрун, чтобы беспощадно изложить ей действующую часть моей идеи века.
– У меня есть превосходный рождественский подарок для Флорентины, – сказал я.
– У тебя? Рождественский подарок?
– Да, для Флорентины.
– А именно? – спросила Гудрун.
– А именно: я лечу с ней на две недели на Кубу.
– Что? Ты летишь? С твоей-то аэрофобией?
– Да. На Кубу. С Флорентиной. На две недели. У меня уже билеты на руках.
Тут возникла пауза, необходимая для просачивания в мозг и соразмерная весу новости.
– Ты не шутишь? – спросила она.
– Я не шучу.
– Безумие, – сказала она.
– Да.
– И когда? Летом?
– Зимой, – ответил я.
– Следующей зимой?
– Этой зимой.
– Что? Сейчас, зимой?
– Да, именно, на каникулы, первые две недели февраля.
– Но каникулы длятся всего одну неделю, – произнесла она тем особым гудруновским жалобным тоном, которого я боялся и который представлял собой как бы первое крупное препятствие для моей подарочной идеи.
– Да, я знаю.
– Гери, как ты себе это представляешь?
– Я представляю себе это так, что она возьмет на одну неделю освобождение от школы.
– Гери, нельзя просто так взять освобождение от школы. Сейчас такие вещи не допускаются. Да и Флорентина не может себе это позволить, с ее-то плохими оценками.
– Придется ей себе это позволить, – настаивал я.
– Почему?
– Потому что билеты на Кубу уже куплены.
– Гери! Как ты можешь так поступать? – жалобно тянула она.
– Мне приходится. Таково было мое непреодолимое желание. И это подарок. Это, вообще-то, даже мой подарок, мой первый настоящий подарок для нее и для меня. Поездка на Кубу с папой.
Не мог же я ей сказать, что мне эта Куба была совершенно безразлична, но что для ее дочери сейчас самое время выпорхнуть из гнезда.
– Хорошо, но ведь не в учебное же время. Это безответственно, я не могу это допустить.
Под этим «безответственно» она, видимо, имела в виду меня лично, но в этом мне уже не переубедить ее в этой жизни.
– Пятнадцать лет ты упрекала меня, что я ничего не делаю для своего ребенка. Теперь я что-то сделал, и ты упрекаешь меня за то, что я сделал, – пошел я в контратаку.
Мое волнение было скорее наигранным, но оно сработало.
– Ах, Гери, – сказала она.
Препятствие было, считай, преодолено.
– А со школой я все улажу, – пообещал я.
– Как ты собираешься это улаживать?
– Я поговорю с ее учительницей.
– У нее много учительниц.
– Поговорю с самыми важными.
– Ах, Гери, – вздохнула она.
Превосходное семейное приключение
Ближе к вечеру мы встретились с Флорентиной в «Трайблозе». Я-то предлагал более подобающее поводу кафе «Моцарт» на Аргентиниерштрассе, но мне не удалось добиться своего. Она хотя и выглядела чрезвычайно помятой и уставшей – будто только что выбралась из контейнера со старым тряпьем, – волосы торчали во все стороны, но лицо было лишь слегка подштукатурено и казалось живее, чем в последний раз, а глаза широко распахнуты, и это означало, что у нее наконец открылись глаза на мир после того, как были преодолены отношения с этим Майком из семейства пасленовых.
– Я окончательно вычеркнула его из своей жизни, – сказала она.
– Как тебе это удалось? – спросил я.
– До меня дошло, что он полный лузер.
Это мне понравилось, и я хотел знать подробности.
– Как это до тебя дошло? – продолжал допытываться я.
– Его бросила Алекса.
– Ага. И потом?
– Ничего потом. Человек, которого бросает даже Алекса, может быть только полным лузером, – заключила она.
О’кей, и хотя это было не особо логичное умозаключение, главное то, что она больше не хочет о нем знать.
Вскоре я перешел к делу, выложил на стол два билета и объявил:
– Веселого Рождества, поездка состоится, твоя мама благословила.
Она вскрикнула так громко, что стаканы чуть не затанцевали пасадобль. Затем она наклонилась ко мне и долго ластилась. Даже прослезилась слегка.
– Надо же, мы и впрямь летим, – бормотала она сама себе и при этом победно сжимала кулаки.
– А как иначе, ведь мы так и договаривались, – небрежно сказал я.
– Да, но я не думала, что ты это всерьез и что правда так будет.
– Дело чести, – сказал я, хотя, признаться, такой вид чести только что открыл.
Так, и тут я очутился перед решающим препятствием на пути своей подарочной идеи века. И осторожно взял разбег.
– Слушай, Флорентина, а ты была бы не против, если бы… если бы мы… если бы мы взяли с собой еще одного человека?
– На Кубу?
– Да.
– Кого?
О’кей, ясно, вопрос был справедливый, все дело ведь, собственно, к нему и сводилось.
– Мануэля, – выдал я.
– Мануэля? Того малыша, который выполняет у тебя свои домашние задания?
В ее зелено-медно-янтарно-желтых глазах активировались крошечные элементы солнечной батареи.
– Да, именно этого Мануэля.
Теперь она ухмыльнулась, но посмотрела на меня как-то весьма испытующе.
– Но почему он должен поехать с нами?
– Ах, просто так, потому что он… действительно славный парень, и потому что он ужасно обрадуется, и потому что это… потому что все наверняка хорошо сложится, потому что мы втроем были бы хорошей командой, – заикался я.
– Ты что, хочешь меня сосватать? – спросила она.
Сосватать? Что за абсурдная мысль, он же еще ребенок, да и она, в принципе, тоже. Так или иначе, мне пришлось тут же включить аварийное торможение, соразмерное пронзительному звонку тревоги, и я сказал:
– Сейчас же и навеки выбрось это из головы.
– Почему? – спросила она, при этом ее кокетливая улыбка показалась мне совсем не детской, а зловеще взрослой и приводящей в бешенство.
– Потому что…
– Ну?
– Потому что он твой брат.
Я не собирался, скорее она вынудила меня, но что делать, теперь это было произнесено.
– Мой – кто?
– Твой брат.
– Мой брат?
– Твой родной брат по отцу.
– Мой родной брат по отцу?
– Мой сын.
– Твой – кто?
– Мой сын.
– Нет.
– Да.
– Ты шутишь.
– Я не шучу.
– У меня есть родной брат?
– Да.
– Нет.
– Да. И именно Мануэль.
– Мануэль?
Так мы пасовались еще некоторое время – туда и сюда, – пока ее удивление постепенно не улеглось. Тогда я рассказал ей всю историю. Временами у меня на глаза наворачивались слезы, такой уж я сентиментальный тип, что имело следствием то, что и у Флорентины выступали слезы, потому что она, в свою очередь, тоже такой человек, что плачет всякий раз, когда рядом плачет кто-нибудь другой, это у нее от меня.
После этого я выложил на стол третий билет на Кубу. Таким образом, семейное приключение Плассеков подошло к стартовой линии, вернее, к взлетной полосе. И мы заказали два глинтвейна – один с алкоголем, другой без, чтобы чокнуться за брата Флорентины.
Сочельник у стойки
В субботу довольно скоро подступил вечер, и не только потому, что дням в это время года традиционно требуется не так много времени, чтобы состариться. Я тоже был сильно занят. В первой половине дня, например, прибирал квартиру – во всяком случае, добросовестно позаботился о том, чтобы всюду можно было свободно пройти.
В середине дня я по телефону пожелал Кларе Немец и всему «Новому времени» веселого Рождества, и мы обсудили детали посвященного мне редакционного праздника и моего официального вступления в должность. По этому случаю я спросил для верности, нормально ли будет, если на первые две недели февраля я возьму отпуск.
– Три недели работы – и после этого две недели отпуска? Да ты шутишь. – Она даже растерялась от такой наглости.
Мне пришлось клятвенно заверить ее, что такая ритмичность в моей работе – исключение и что дальше у меня в «Новом времени» все пойдет нормально.
Во второй половине дня я навестил, как практически всегда 24 декабря, маму. Наши с ней подарки носили, если не считать цветов, кофе и пирога, скорее вербальную природу: мы взаимно, очень убедительно и долго заверяли друг друга, что нам достались лучшие на свете мать и сын, после чего каждый из нас самокритично подвергал сомнению, так ли это на самом деле. Она на самом деле была лучшей матерью; на свой счет я, признаться, не был так уверен, но выбирать нам все равно было не из чего.
Когда стемнело, я неожиданно для себя начал испытывать некоторую нервозность, связанную с предстоящей встречей с мистером благодетелем. Этот человек подспудно занимал меня четыре месяца подряд и даже заново перестроил мою жизнь, пусть и невольно. Больше всего меня нервировало то, что мы забыли договориться о конкретном часе, хотя и условились о встрече поздно вечером. Еще до полудня я отправил ему имейл на сей счет, но так и не получил ответа. Мне оставалось лишь надеяться, что он не передумал.
* * *
В половине девятого я вошел в бар Золтана, это казалось мне достаточно рано для свидания вслепую в вечер сочельника. Я устроился на табурете – к счастью, еще никем не занятом – на дальнем конце барной стойки. С этим табуретом шутки были плохи, потому что у него не было спинки и он уже не раз под утро беспощадно ронял меня на пол. Но зато оттуда, из дальнего угла, открывался идеальный угол обозрения пивной.
Некоторые отказники Рождества уже заняли свои места. За столом у окна играли в карты, и оттуда исходило довольно сильное оживление. Большинство остальных производили впечатление скорее впавших в ступор или, вернее говоря, предавшихся созерцанию, выражая это по-рождественски, и были погружены либо в разговор, либо в себя, либо поглощены своим мобильником. С тех пор как эти аппараты вошли в обиход и стали задавать тон, а также вид всей общественной сцены, люди даже в абсолютном одиночестве и пустоте все еще казались занятыми на полную ставку.
Правда, я в своем поиске благодетеля мог сосредоточиться исключительно на одиноко стоящих или сидящих мужчинах, но среди них пока что не было никого, кто вызывал бы подозрение, что он и есть великий анонимный благодетель. Уже очень скоро я начал спрашивать себя, а каким я его вообще себе представляю. Конечно, он совсем не обязательно должен был явиться сюда в белом костюме с черным галстуком и в темных очках или в берете басков, но хотя он и заверил меня письменно, что абсолютно не будет бросаться в глаза, инстинктивно я все-таки ожидал, что он покажется мне нездешним, чужим, в чем-то экзотичным. Те же, что были здесь, все как один однозначно были здешние, а не какие-нибудь еще, если учесть особенность этого вечера.
– Веселого Рождества, Гери, рад тебя видеть, похоже, у тебя на сегодняшний вечер тоже не нашлось лучшего занятия, – приветствовал меня Золтан, хозяин заведения.
Мы обменялись парой незначительных фраз, при которых мне – по моему мнению – прекрасно удалось скрыть, что я здесь кого-то поджидаю, прежде чем я, хотя и запоздало, отказался заказывать мое первое пиво, но зато, признаться честно, быстро заказал второе и третье. Мне нужно было следить лишь за тем, чтобы вовремя остановиться, чтобы завтра я мог подробно рассказать Мануэлю о пережитом во время встречи. Кроме того, мне предстояло первое празднество с моим маленьким семейством – увеличенным на Йохена – и вручение сыну рождественского подарка – поездки на Кубу. Я, что называется, катился из одного спектакля прямо в другой.
Мой взгляд был устремлен в основном на входную дверь, при этом я, естественно, напрягался всякий раз, когда дверь открывалась. Но когда входящий показывался целиком, он тут же отсеивался, потому что в нем не было ничего особенного, что отличало бы его от остальных не-анонимных не-благодетелей.
Короткое время я подозревал одного посетителя – мужчину лет пятидесяти с бородой и лысиной, – поскольку он, войдя, долго озирался, как будто ожидая, что с ним кто-то заговорит. Но когда я двинулся к нему и уже хотел непринужденно сказать: «Добрый вечер», как он повернулся и вышел вон.
До полуночи оставался всего какой-то час, когда мобильник в кармане завибрировал. Эсэмэска оказалась верным средством от моей прогрессирующей сонливости, поскольку она была от Ребекки:
«Дорогой Герольд, я надеюсь, у тебя был хороший сочельник. У меня в кругу семьи и самых близких друзей в Зальцбурге было очень весело, но я хочу снова в Вену, где мы, надеюсь, скоро увидимся. Пока, и приятных праздничных дней, твоя Ребекка».
Это можно было интерпретировать и так, и эдак, но я был в таком настроении, что склонялся принять эту эсэмэску за объяснение в любви или как минимум за приступ рождественской тоски по мне. И поэтому решил ответить ей чем-нибудь особенно сердечным, как только здесь все закончится.
Жертвовать – ужасно огромное удовольствие
После полуночи я понемногу начал смиряться с тем, что благодетель жестко кинул меня на моем же кожаном барном табурете. Я еще раз оглядел лица всех присутствующих гостей, частями интенсивно расцвеченных иллюминацией, которые, правда, различал не слишком отчетливо, но достаточно для того, чтобы знать со всей определенностью: искомого человека среди них не было, насколько я разбирался в людях, пусть и в несколько помутненном состоянии.
Может быть, он давно мне написал и объяснил, почему не смог или не захотел прийти. Итак, я снова выгреб из кармана мобильник, открыл почтовый ящик – и там и впрямь нашлось во входящих свежее, несколько минут назад поступившее сообщение.
«Господин Плассек, мне очень жаль, что не сложилось, но я так и знал, поэтому заранее подготовил текст, который теперь и отправляю вам. Тогда вы сможете рассказать вашему сыну хоть что-то об анонимном инвесторе.
Я обыкновенный человек, такой же, как и вы, господин Плассек. У меня есть работа, хотя и тяжелая, но доставляющая мне удовольствие. К сожалению, в настоящий момент у меня нет времени завести семью, но нельзя же иметь все сразу. Я не миллионер, но у меня есть (были) сбережения, потому что я не успевал тратить все мои деньги. Я мог себе позволить все, что хотел, а в личном самолете нужды не испытывал. Не покупал также ни акции, ни золотые слитки, не тот я человек, не Дональд Дак. Для меня деньги существуют, чтобы их тратить, а не копить. То, что мне нужно на будущее, я снова заработаю, тут мне можно не бояться. Так я сейчас думаю. И вы меня хорошо поймете, потому что вы сами так же думаете, я это знаю.
Когда в сентябре поступил первый денежный дар в 10.000 в пользу бездомных, все так радовались, что я подумал: дай-ка и я это сделаю, это хорошее дело, потому что есть много людей, которым действительно неотложно требуются деньги. Для меня это было увлекательно, как детектив, может, это вообще было самое большое мое приключение в жизни.
А вы лично всегда играли для меня при этом большую роль, без этого все не прошло бы так гладко. Если вы расскажете все это вашему мальчику, я буду рад, но больше, пожалуйста, никому. Обещаете?
В заключение скажу вам еще, почему я хотел, чтобы последний денежный дар был сделан в пользу алкоголиков: чтобы немножко успокоить мои угрызения совести и из-за вас, господин Плассек, дорогой Гери. Веселого Рождества».
«Немножко и из-за вас, господин Плассек, дорогой Гери». В таких ситуациях хочется, чтобы твоя голова была немного трезвее или, лучше сказать, яснее, но если я понял это послание верно, то человек, должно быть, знает меня очень хорошо, и его слова странным образом кажутся мне очень знакомыми. Кроме того, у меня вдруг возникло подозрение, что в этот вечер он на самом деле был здесь, в заведении, иначе бы он не написал, что так и знал, что наш разговор не состоится. Может, он не один час дожидался, когда я с ним заговорю, а я его попросту проглядел?
Час закрытия
Понятия не имею, сколько раз я еще заказывал себе пиво и сколько раз вдоль и поперек разбирал по кусочку и перечитывал заново этот имейл. В конце концов буквы стали расплываться у меня перед глазами.
Между тем помещение пивной покидали последние голоса, и я слышал у себя за спиной лишь звук отодвигаемых столов и звон убираемых стаканов. Бар Золтана стоял вплотную перед своим устрашающим часом закрытия.
– Ну, Гери, опять ты пустил у меня корни? – спросил хозяин и выставил на стойку по прощальному стаканчику шнапса для нас двоих.
– Извини, я просто ждал одного человека.
Это объяснение сорвалось с языка без особых проблем, только слово «извини» преодолевалось в такое время суток трудно.
– И что?
– Он не пришел.
– Похоже на то, – сказал Золтан.
– Или он был здесь, но я его не узнал.
– Ага, – сказал он. После этого прошло несколько минут или секунд. – И кто же это должен был прийти?
– Это… к сожалению, я не могу проболтаться, – признался я.
– А, вон как.
– Я ему обещал.
– Ага.
Золтан никогда не был многословным человеком.
– Я могу сказать только моему сыну Мануэлю.
– Хорошо, – ответил он.
– Но знаешь, в чем проблема, Золтан?
– Нет.
– Я не могу ему ничего сказать, потому что сам не знаю.
– Ага.
Возникла пауза, которой я воспользовался для того, чтобы прокрутить несколько заключительных оборотов мысли. Кроме того, я решил, что напился здесь в последний раз, причем действительно в самый последний. Я задолжал это и Мануэлю, и Флорентине, и Ребекке, и кому там еще.
– Золтан? – окликнул я.
– Да, Гери?
– А можно еще один шнапс?
– Гери, я думаю, уже хватит. Я ведь правда закрываюсь.
– Если я получу еще один шнапс, я тебе открою, я выдам тебе…
– Что ты мне выдашь?
– Тогда я выдам тебе, кого я сегодня ждал.
– Но это в самом деле последний на сегодня, – строго ответил он.
– Ты хочешь это знать?
– Не обязательно, Гери.
– Я все равно тебе скажу, просто чтобы ты знал.
– О’кей.
– Я ждал анонимного благодетеля.
– Ага.
– Благодетеля. Ты знаешь, кого я имею в виду, Золтан?
– Анонимного инвестора?
– Инвестора, верно, именно так он всегда и писал.
– В самом деле? – спросил Золтан.
– Да, в самом деле, инвестор, это практически было только его словечко. Все остальные говорили «благодетель», но он говорил «инвестор», как и ты.
– Такое совпадение, – сказал Золтан.
– Да, – подтвердил я.
– Можешь завтра рассказать об этом своему мальчику, – проговорил он.
– Да, я расскажу Мануэлю.
– Если еще будешь помнить об этом.
– Буду, я вспомню, это точно.
Примечания
1
Католическое благотворительное заведение для бездомных в Вене. Gruft – склеп (нем.).
(обратно)2
Последнее по месту, но не по значению (англ.).
(обратно)





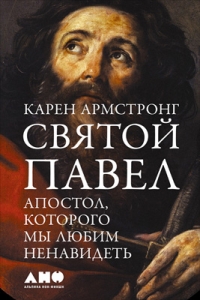





Комментарии к книге «Дар», Даниэль Глаттауэр
Всего 0 комментариев