АЛЕНА БРАВО Рай давно перенаселен
Повесть
Несколько раз в день, сняв рукавички, я отогреваю его в ладонях. Яйцо стеклянное, со множеством идеально отполированных граней. Если смотреть сквозь него на солнце, солнце кажется желтком внутри яйца. В обычных, куриных, сколько ни подноси их к глазам, не разглядишь ничего, кроме сгустка розоватой темноты. Мне они совершенно не интересны. Мне хочется, чтобы стеклянное яйцо ожило, и из него вылупился маленький солнечный птенец. Я дышу на яйцо, прижимаю к щеке, лижу языком. Но оно все такое же: прекрасное, золотое, мертвое.
Возле обледенелой бочки, до верха которой мне не дотянуться, даже если встану на цыпочки, я леплю пирожки из снега. Над бочкой — водосточная труба, по краям которой висят сосульки, похожие на нарциссы, растущие головками вниз. Именно сюда, в нору водостока, заползает ночь, когда Крокодил, проглотивший солнце (рисунок в моей детской книжке), разжимает по утрам зубастую пасть — конечно, для того, чтобы почистить зубы мятным порошком, — и солнце выкатывается из нее, ничуть не поврежденное, словно красный пляжный мяч из–под кровати. Есть еще одно солнце, о котором поют по радио: «Солнце нашей жизни, счастье поколений, сердце нашей партии родной…» Это солнце не заходит даже ночью, потому что сердце партии не может остановиться, говорит мой дед. На каждый камень найдется свой молоток, отвечает на это моя бабушка. Раньше у меня была прабабушка, тогда я еще плавала рыбкой в мамином животе. Баба Марфа, моя прабабушка, вернулась оттуда, где тучи кусачей мошки и зима длится долго–долго. Ее наказали и отправили туда потому, что она не верила в мудрость сердца партии. Сейчас она уехала от нас, взрослые не говорят куда, и на высокой железной кровати за печкой сплю я.
Сопровождаемая невидимой на снегу белой собакой по кличке Муха, я снова иду в курятник посмотреть на стеклянное яйцо. Все хозяйки на нашей улице подкладывают курам яйца–обманки, чтобы лучше неслись. У других и яйца другие: деревянные, пластмассовые. А у нас — золотое. Прозрачное. С холодным огнем в сердцевине. Я не умею его согреть. Не умею растопить лед и вызволить любовь, как сделала Герда из сказки про Снежную Королеву. От горя я съедаю все снежные пирожки и заболеваю воспалением легких.
Когда мне разрешат выходить на улицу, я немедленно брошусь посмотреть: вдруг, пока я болела, из яйца кто–то вылупился? Ведь даже в горячке я продолжала о нем мечтать, а значит, отдавала ему свою любовь. «Люди всегда так: красивую стекляшку найдут себе, за нею и солнца не видят», — скажет бабушка, вытирая мне передником слезы.
История со стеклянным яйцом повторится в моей жизни не раз.
А когда я, наконец, пойму, что чувство солнца может обманывать, бабушки уже не будет, чтобы разделить со мной это открытие.
В моей записной книжке после всех здешних телефонов и адресов нарисована схема, похожая на игру в крестики–нолики. Кладбище за городом разрастается быстро. Впрочем, и без этой подсказки я знаю, как пройти к двум чахлым голубым елям, растущим над тумбой из черного мрамора, после которой начинается ряд одинаковых серых надгробий, похожих на шкафчики в коммунальной бане, и в конце этого ряда я найду… Я стараюсь не бывать здесь по праздникам, чтобы не сталкиваться с родственниками, главным образом, с Коловраткой. Кроме того, в праздник обычно обновляется стандартный ассортимент кладбищенских украшений; меня удручает безвкусная пошлость ритуала, топорные венки, поставленные на поток корзинки с крашеными лентами. Человеку отказано в праве быть самим собой не только в жизни: после прекращения телесного существования его насильно втискивают в типичность, и на это уже не возразишь. Смерть — окончательная победа унификации над индивидуальностью.
Но какое дело до всего этого душе? Ей безразличны эти из ритуального «Детского мира» игрушки, ведерки–формочки, яркий и пестрый хлам, который люди–дети тащат сюда для того, чтобы самих себя подбодрить и успокоить.
Вот я и пришла. На сером камне грубо выбито неузнаваемое лицо и ее имя: Вера. И эта последняя попытка поймать и закрепить намертво ее земной образ также оказывается ложью.
Не она это! ЕЕ нет здесь!
Откуда же она является в мои сны?
На лестничной площадке — телефон–автомат с прорезью для «двушек», с увесистой, как якорь, трубкой на металлическом негнущемся проводе–тросе. Всплывает из бетонных недр, запаха хлорки, из стылого неуюта пустых пролетов. До того, как упереться в него взглядом, я шла по знакомому коридору нашей районной больницы, а теперь поднимаюсь по лестнице. Меня не покидает гнетущее ощущение, что именно такой, казенного образца, и должна быть лестница в преисподнюю. То, что я поднимаюсь вверх, значения не имеет: может быть, утомительная бессмысленность подъема, который на самом деле окажется спуском, — один из фирменных трюков устроителя Аида. Из голых окон тянет сквозняком, отсюда стылость. Безлюдность. Вероятно, в отделениях мертвый час, а персонал пользуется лифтами.
И вот — телефон. Возле телефона стоит мой дед Борис, на нем — коричневое пальто (верхняя пуговица болтается на одной черной нитке), подбородок в седой щетине трясется — так дед выглядел после первого инфаркта. Он держит пакет с вещами. Ну, конечно, старика только что выписали из кардиологии, вот и бумажки бесполезных рецептов торчат из кармана. Кардиология! Именно здесь умерли они оба: мои бабушка и дед… Увидев меня, старик беспомощно улыбается: он не может, никак не может дозвониться до такси — бросает «двушку», набирает знакомый номер, но попадает не туда, в какой–то антикризисный центр… И я не знаю, как объяснить деду, что по городу давно не ходят «Волги» цвета желтого домино, и в них не сидят чисто выбритые, благоухающие одеколоном таксисты, которые возили его совершенно бесплатно даже на пенсии. Дед еще шутил, что у директора таксопарка это пожизненная привилегия…
Но я‑то что здесь делаю в этот явно неурочный для живых час? Сейчас откроется дверь в отделение, выйдет санитарка с разбитой физиономией, один глаз у нее будет заплывшим, сизо–фиолетовым, и, угрюмо сверкнув покрасневшим белком, дохнув перегаром, тявкнет, что шататься по учреждению не положено.
Это и будет окончанием моего земного пути.
Но вместо санитарки входит моя бабушка Вера. Она деловито застегивает деду пальто, не забыв спрятать в карман оторвавшуюся пуговицу, берет его под руку и говорит мне ласково–сердито:
«Ну, чего столбом стоишь? Такси давно ждет. Давай–ка домой».
***
На сером кафеле печки силой моего горячечного взгляда расцветают фейерверки золотых шаров и георгин, как летом по всем углам нашего сада. Разлепив тяжелые веки, я беру цветные карандаши, бумагу и рисую круг: солнце. Одна половина его желтая, вторая синяя. У солнца есть обратная сторона, сказал мне отец. Когда на нашей стороне солнца жарко, на обратной наверняка идет снег, и солнечные жители надевают пальто и шубы. Я рисую солнечную девочку в каракулевой шубке и валенках, точь–в–точь как у меня. Она играет на той стороне солнца и лепит пирожки из снега. Вот она смотрит на голубую землю, где я тоже смотрю вверх, пытаясь увидеть девочку на обратной стороне солнца.
Бабушка Вера приносит мне чай, и я пью, панически боясь проглотить хоть одну чаинку. Два раза в день приходит медсестра из поликлиники делать мне укол. Услышав энергичный стук калитки, я прячусь под кровать, в самый дальний, к печи ближний, угол. Бабушка виновато оправдывается, но силу применить не умеет. Положение спасает случайное открытие: стоит начать читать вслух одну из моих любимых сказок, как я завороженно выползаю из–под кровати прямо в кроваволаковые коготки медицинского работника. И бабушка терпеливо читает про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, про дэвов и джиннов, про китайскую принцессу, которая брала в рот волшебную жемчужину и превращалась в лисицу. Огромная черная лисица носилась по округе, ее вздыбленная шерсть переливалась в свете луны, ощеренные клыки и глаза блестели. Лисицу нельзя было убить: луна защищала ее и отдавала ей свою силу. Я требую продолжать чтение, но бабушка откладывает книжку, ей некогда: до прихода со своих служб всех домочадцев она должна принести дров, растопить русскую печь на кухне, наносить воды из колонки, замочить в огромном корыте белье и долго стоять, согнувшись, в клубах пара, а из–под рук ее будут рваться тугие пузыри простыней. Ей надо успеть накрыть большой круглый стол в гостиной, на котором уже стоит кастрюля с золотистым бульоном, а на синем, в тон скатерти, блюде аппетитно лежит ладный кусок отварной телятины. За стеклом серванта темнеет изюмом испеченная с утра медовая коврижка. Неудивительно, что все члены семейства предпочитают обедать дома. После того, как близкие, насытившись, разойдутся по своим конторам, она нагреет воды, вымоет посуду, уберет в комнатах, спустится в погреб за новой трехлитровой банкой рубиновых помидоров, принесет дров, вынесет помойное ведро…
Подай, принеси, уйди. Дни похожи друг на друга, как пакеты для мусора разового использования, — удобство, о котором она представления не имеет; каждый доверху наполнен шелухой быта, и надо поскорее избавляться от этого сора. Деревянной лопатой она чистит снег от поленницы дров до гаража, где стоит «Победа» мужа (зимой шофер возит его на служебной), от гаража до отхожего места. Из снежного холмика между поленницей и старой сливой ребро лопаты извлекает на свет «секреты», которые внучка спрятала здесь, играя: обломок пляжных очков с единственным стеклышком, перламутровый колпачок от губной помады, янтарную бусину и похожую на ракушку клипсу. Она смотрит на эти хрупкие от мороза, разлученные с теплым женским миром вещицы, которые живы только в паре или среди множества себе подобных, и ей вдруг становится не по себе. Возвращаясь в дом, видит на дорожке неизвестно откуда взявшуюся здесь сосновую ветку; возле самого стебля желтые иголки заиндевели, точно крашеные седые волосы, которые отросли от корней, и сердце у нее снова болезненно сжимается. Она относит эти недомогания на счет нервов и усталости: после смерти долго болевшей мачехи ей плохо спится. Да и семейная жизнь сына в крохотной комнатке с кафельной печкой тревожит: после рождения внучки строптивый характер невестки проявился с полной силой. Других причин она не ищет, потому что знает: стоит поддаться беспричинной тоске или начать задумываться о чем–то, выходящем за рамки круга, который начертил для нее муж («Бабина дорога — от печи до порога» — так она сама определяет границы этого круга), как оказываешься словно бы в незнакомом городе, где на твое «Который час?» встречные враждебно молчат, как будто каждый из них — оборотень и боится, заговорив, утратить человеческий облик. В толпе собственных мыслей ею овладевает детский страх потеряться. Она знает одно лекарство от грустных мыслей: работу. Сделать то–то, а потом то–то, окружить себя множеством забот, возложить их, словно камень сестрицы Аленушки, себе на грудь.
Тяжел мой камень, братец, не всплыть мне со дна.
***
Бабушка Вера была тунеядкой, именно так называла ее моя мать. «Ты попроси, попроси — пусть покажет свою трудовую книжку!» — кричала мать сидя у телевизора, где на черно–белом экране сменяли друг друга Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и Муслим Магомаев: три олицетворения нескромной женской мечты на тему «Кабы я была царица». Кроме этого, бабушка была то «еврейкой» (мать произносила, со смаком напирая на «ж», другое слово), то «татаркой» — в зависимости от градуса человеконенавистнического настроения матери, кстати, пропагандиста школы марксизма–ленинизма. «А когда твои жиды уберутся в свой Изра–а–эль? — подавал голос с дивана неопохмеленный отчим, даже в таком состоянии чутко улавливая слово–код. — Хорошо бы и тебя с собой забрали!» Последнее относилось, конечно же, ко мне. «У тебя на столе грязно, как у твоих евреев!» «Опять посуду не помыла — переняла у своих татар!» Эти беспричинные нападки на людей меня возмущали. Национальная принадлежность в стране моего происхождения (а стало быть, и в семье средних размеров матрешке из общеупотребительного набора «Родина», матрешке, которая разбиралась на две последних: мать и дочь) являлась категорией не паспортно–генеалогической, но оценочной, поскольку ни еврейкой, ни татаркой бабушка на самом деле не была. Утверждая причастность бабушкиных предков к бесчинствам Орды, мать апеллировала к признанному авторитету — дворничихе Таньке, в прошлом стрелку ВОХР. Эта рисковая женщина после выхода на пенсию успела еще отстрелять пару легкомысленных «врагов», трудясь на посту охранника каких–то складов, а потом долго служила кондуктором в автобусно–таксомоторном парке, директором которого был мой дед. «Зайцы» ее боялись невероятно. Время от времени дворничиха приходила к моей матери пожаловаться на бесчинства детей; далее следовал апокрифический сказ о том, как Танька мылась вместе с моей бабушкой в душевой автопарка (старики жили в доме без водопровода, и бабушка иногда приходила на работу к мужу, чтобы воспользоваться благами горячего водоснабжения), — и вот, во время совместной помывки, Танька узрела нечто такое, что сразу убедило ее в азиатском происхождении бабушки. Чем одна национальность в голом виде отличается от другой, Танька умалчивала, однако это не мешало моей матери верить ее бдительному чутью. А «еврейкой» моя бабушка оказалась просто так, поскольку мать ее не любила. Должна ж была существовать у этой неприязни законная причина. В данном случае, причина легко меняла порядок со следствием. Впрочем, в стране моего рождения образчики такой логики редкостью не являлись — скорее, наоборот.
Сама же мать была женщиной, несомненно, трудящейся, а стало быть, доброкачественной во всех отношениях. Завод, где она с девяти до шести щелкала на счетах, специализировался на изготовлении колеса по собственной, социалистической технологии, то есть не так, как это колесо принято ваять у всего вражьего забугорного человечества. На заводе колесо выпускали квадратным, стесывали углы, затем длительно обкатывали по рационализаторской методике некоего Сизифова, по данным заводского музея — первого стахановца. После этого кругообразные изделия подсчитывались, а данные (сильно округленные) передавались наверх. Именно за процесс передачи данных и отвечала моя мать. Так что жизнь ее являла собой пример полного и беззаветного служения обществу, что давало ей повод считать себя женщиной передовой, даже прогрессивной, как Анжела Дэвис или Валентина Терешкова, а главное — презирать свекровь, пользы обществу не приносившую.
Вероятно, мать представляла себя женщиной свободной и в сфере семейно–брачной: после того, как ею и отцом была получена новенькая, с иголочки, квартира, мать выставила отца из комфортабельного элизиума с видом на центральную улицу, объясняя свой поступок несходством характеров. В переводе на бытовой язык это означало, что отец не матерился, не «злоупотреблял» и, следовательно, не мог, надравшись до положения риз и угрожая короткой расправой, выгонять ее на лестницу подъезда, где обсуждали последний футбольный матч курцы в трениках. А нож в руках отца, исключая цели сугубо хозяйственные, появлялся лишь в тех случаях, когда он, заочный студент юрфака и эксперт–криминалист, возвращался домой с места происшествия, суть которого состояла в том, что этим самым ножом, теперь окровавленным и упакованным в целлофан в качестве вещдока, кто–то кого–то ранил или убил. Следует считать, что отчим, через некоторое время занявший место отца, — как восторженно рассказывала завсегдатаям дворовых лавочек Танька, отчим с шиком подкатил к нашему подъезду на последней модели «Жигулей», — полностью сошелся с матерью характерами. Этот обладатель двух сакральных, наподобие жезла и державы, предметов (первый находился в дачном поселке и именовался «коттеджем», второй теперь парковался на газоне под нашими окнами) имел еще и брата, плодотворно носившего майорские погоны за пределами одной шестой части света. Оттуда брат отчима вывез количество добра, превышавшее его живой вес в десятки раз, как у муравья. От полного опустошения страны, где стояла Западная группа войск, спасло лишь то, что это трудолюбивое насекомое сменило свою дислокацию. Благодаря стараниям сородича, отчим опохмелялся исключительно импортным пивом, носил импортные вельветовые костюмы, а хриплые блатные ритмы, которые исторгались из окон его «коттеджа», неслись из японского магнитофона. По этим причинам полные, всегда влажные губы отчима застыли в гримасе высокомерного презрения ко всем, кто опохмелялся «Жигулевским», ходил в костюме производства швейной фабрики им. Н. К. Крупской и слушал пластинки фирмы «Мелодия». Он имел огромное, беременное пивом брюхо, знал толк в галстуках и имел их великое множество, умел изобретательно материться, знал бессчетное количество анекдотов про особенности национальных меньшинств, а также любил, когда матери не было дома, декламировать мне похабные стишки. Вваливаясь вечером в квартиру, Брюхатый некоторое время священнодействовал у одежного шкафа, пристраивая свои драгоценные костюмы и галстуки, после чего сразу же укладывался на диван перед телевизором. Его голые, неожиданно розовые пятки похотливо налезали одна на одну на ручке дивана. Единственное, ради чего солнце нашей вселенной отрывало утомленный взор от футбола, был священный ритуал жарки мяса. Брюхатый вершил обряд собственноручно, не доверяя матери, и сам же жадно съедал приготовленное прямо со сковороды, макая в нее горбушку.
Как такое существо могло вызвать любовь? Возможно, это было частным проявлением закона Стеклянного Яйца. А может быть, у этой страсти было и научное объяснение: периодически с охотничьим гиканьем затравливая мать, точно косулю в загоне, в ванной комнате, в дверь которой он при этом, грязно ругаясь, колотил кулаком, Брюхатый с бодрым энтузиазмом хорошо оплачиваемого гештальт–терапевта воссоздавал для нее изначальную обстановку ее детства. Когда я одним погожим летом провела каникулы у деда и бабки с материнской стороны, моим главным воспоминанием осталось не анемичное Балтийское море, не разукрашенный флажками корабль в порту военного городка, куда дед, в пахнущей нафталином форме капитана третьего ранга, торжественно вел меня за руку, и даже не кубик сухого концентрата какао, который я с наслаждением грызла. В моей памяти остался дед другой, страшный: в порванной на груди тельняшке, со струйкой крови на щеке, дико орущий что–то нечеловеческое и замахивающийся топориком для разделки мяса на испуганную, мелко крестящуюся бабку.
В тот год, когда была сделана эта фотография, моя робкая душа еще стояла в очереди за своим земным воплощением; самые нахальные с традиционным вопросом «Что дают?» (историческим правопреемником вопроса «Что делать?»), активно работая локтями, протиснулись вперед. Очередь, впрочем, довольно быстро двигалась, опережая темпы построения социализма в одной, отдельно взятой стране. На снимке мои будущие мать и отец кормят лебедей на экскурсии в Москве. Располневшую фигуру матери облегает короткое, по моде, платье, сшитое бабушкой по выкройке из журнала «Работница и крестьянка». В чем одет отец, не видно — видна только рука, обнимающая мать за плечи, и густые пышные кудри. В неуверенном положении этой руки, лежащей на плече женщины как–то боком, не по–хозяйски, читаются робкая нежность, зашкаливающая гордость обладания и мучительный страх утраты, которая — мы всегда знаем об этом, когда любим, — на каком- то другом плане уже произошла. Лицо у матери довольное; очевидно, программа уик–энда ее вполне развлекает.
Что мог мой астеничный отец, не выносивший громкой музыки и яркого света, бредивший философами античности и раздобывавший бог знает где полустертые ксерокопии Лао — Цзы и Ошо, найти в моей матери? Тишайшая отцова порода, которую я в полной мере унаследовала, столь презираемая матерью («Сидя–а–ат, кни–и–ижечки почи–и–иты- вают! Палец о палец не уда–а–арят!»), менее всего сочеталась с ее хронической взвинченностью и поставившей бы в тупик все портики древних Афин логикой умозаключений о достоинствах отдельных людей и целых народов. Вернувшись из турпоездки в Германию — о немцах, с удивлением: «Они водку не пьют — и что это за люди?!» В тех местах, где она выросла и где провела свою жизнь, исключая недолгий период брака с моим отцом, нормальными людьми считались те, кто мог выпить сколько угодно беленькой, не пугая санитарно–техническую посуду (чего нельзя было сказать о ее нестойких нутром подругах, о которых речь впереди). Итак, что мог отец, исключенный из университета за некий литературно–политический пассаж, который он позволил себе в стенгазете, им редактируемой, но восстановленный благодаря ходатайствам уважаемых профессоров, а скорее — веяниям хрущевской оттепели, — что мог он найти в моей матери? «Дорогая, где моя рубашка?» — «Ты же мент? Вот и ищи!» А ведь и годы спустя после развода он продолжал еще находить нечто в этом наделенном агрессивной витальностью существе; боль, обида и страсть перекипели и затвердели в сплав несколько мрачноватого оттенка. Как назвать эту амальгаму? Неужели все тем же доисторическим словом — по названию доминирующего компонента?
Вероятно, и мой отец глядел на солнце сквозь одному ему видимые граненые стеклышки.
***
Мать, между тем, говорила правду: трудовой книжки у бабушки не было. Она появилась на свет в крестьянской семье за год до того, как предсказанный классиком марксизма–ленинизма конфликт: «низы не хотят — верхи не могут» (мой остроумный однокурсник именовал его конфликтом фригидной женщины и импотента), перенесенный в масштабы истории, разрешился взаимным мордобитием. Отец Веры держал крепкое хозяйство; не удивительно, что одним хмурым утром в хату ворвались незваные гости. Но до того умерла ее мать, и Вера, старшая из дочерей, обшивала всю семью, а еще — плела фантастически красивые кружева из старого тряпья, вывязывала крючком половики, дивиться на которые приходила вся деревня. Рано научилась читать; учительница в школе усаживала ее за свой стол, и она читала классу вслух. Та учительница умоляла отца Веры отпустить дочь в город, в педагогическое («Девочка необычайно способная!»), но тот и слышать не хотел: «Коровам хвосты крутить хватит и семилетки».
«Жили мы у самой реки, а в реке две проруби: в той, что повыше, воду брали, в нижней белье полоскали, — рассказывала мне бабушка. — Полощу однажды простыни, а сама плачу, так рукам холодно. Подошла молодая соседка Марфа, красивая, коса длинная, бант в косе красный, посмотрела на мою работу–маркоту и тихонько так говорит: «Уговори папу взять меня за маму. Я буду белье полоскать, полы мыть, а тебе пошью платьице новое и в город отпущу». Я так обрадовалась — не могла дождаться папу! А он: «Мама бывает одна». Но я Михася, брата, подговорила — неделю упрашивали отца. Ну и женился он…»
Пошли малые дети; в город ей никак не выпадало. А потом пришли те…
«Беги к тетке», — коротко сказал ей отец и выпихнул в окно. Через лес, задыхаясь, она бежала восемь километров до деревни, где жила родная сестра матери. И спаслась. Семья у тетки была бедная, зато правильная: мужа убили белополяки. Вместе с двоюродными сестрами, Зинаидой и Тамарой, Вера работала в колхозе, имела одну пару ботинок на двоих с Зинаидой. До морозов ходили босиком. Зинаида из–за непосильного мужского труда так и осталась бездетной. Удивляюсь, как Вере удалось–таки вырваться в город и поступить в педагогическое училище: видно, разнообразная ее талантливость настойчиво просилась на свет, как вполне уже готовый к земной жизни ребенок.
Она жила в общежитии, научилась завивать свои коротко стриженные каштановые волосы, а губы держать бантиком. Пожалуй, она не красавица: слишком широкие бедра и большие, основательные ноги, словно выросшие из земли, но при этом неожиданно тонкая талия и хрупкие плечи — фигура жрицы богини Иштар (она никогда не знала имен даже православных святых). Была общительна и любила долго гулять под руку с подругами после нищенского обеда в столовке. На последнем курсе они подписали ей свои фотокарточки: «Дорогая Вера! Помни свою Зою и то, что «дружба, рожденная в юности, никогда не забывается» (М. Горький). «На память любимой подружке Вере от Вали! Пусть нежный взор твоих очей коснется карточки моей! И может быть в твоем уме возникнет память обо мне!» «Верочке от Настасьи! В память прошлого невозвратного, в честь будущего неизвестного!» Тогда у нее еще имелось некое неизвестное будущее.
Я все пытаюсь разглядеть ту точку, в которой человек ее пола, родившийся на необозримых пространствах страны, где завязла не одна великая армия, терял право на индивидуальное будущее, а стало быть, на собственную жизнь. Доверчивое существо, простодушно украсив себя детской мишурой дешевых блесток, стремится туда, где слад- кой–сладкой приманкой, карамельной улыбкой всесоюзной дивы Любови Орловой, приснившейся довоенной афишей новогоднего бала–маскарада сияет «счастье», и вот — клац! — ловушка лязгнула за спиной, и впереди уже нет никакого неизвестного будущего, все предсказуемо наперед: тело, которое тебе больше не принадлежит, узнает беременности, безропотные роды, болезни детей и свои. В тридцать пять она уже добавляет в воду для полоскания волос синьку, чтобы седина смотрелась «поизящней». Колесо ее швейной машинки с ножным управлением крутится, крутится, крутится, наматывает на себя бесцветное время. Зимними ночами она смотрит на жасминовый куст за окном — смотрит, смотрит, смотрит, словно проживая сразу все тоскливые вечера с мгновениями детской растерянности перед недоступной ее пониманию жизнью, когда подкрашенные розовым улыбки покойников на черно–белых портретах кажутся вампирическими, а знакомые предметы вдруг обнаруживают в себе какой–то тайный недобрый смысл. И самый непонятный из всех предметов — зеркало, в котором она знала себя девочкой, протягивающей ладошку за «счастьем», — да и осталась такой! — зеркало, которое когда–нибудь поднесут к ее неподвижным губам.
Краткий курс истории ВКП(б) 1938 года издания: будущее без единого неизвестного, о котором «великие учителя Маркс и Энгельс» уже разъяснили все, а именно: капитализм неизбежно падет от рук пролетариата, его могильщика. Краткий курс математики образца того же года: будущее, как уравнение с единственным неизвестным — неизвестностью смерти, и чего еще остается ждать наивной девичьей душе? Впрочем, на фоне пережитых ею эпохальных ужасов тихое, никем не замеченное умирание кажется почти что счастьем — все равно, как «бурные, продолжительные аплодисменты» брежневских съездов на фоне рева бомбардировщиков. А раз так, внимание: мы с вами сейчас присутствуем при рождении будущего, ведь, знаете ли, такая основательная вещь, как будущее, вполне может вылупиться из мелочей: крошечных, обернутых фольгой ореховых скорлупок и фонариков из цветной бумаги, которые старательные девичьи руки клеили всю ночь. На новогоднем вечере в училище она познакомилась с дедом, впрочем — каким дедом? Выпускник автодорожного техникума тридцать седьмого года, красавец с каштановыми кудрями и огненными очами, танцор и острослов, подхватил ее за талию, закружил в вальсе, умчал, засыпал стихами Светлова и ярким конфетти, да так, что очнулась она лишь в сорок первом, в оккупации, с тремя детьми на руках, младший — трехмесячный (дед не обременял себя заботами по планированию семьи). Младенец вскоре умер: пропало молоко. Жизнь превратилась в ожидание вестей с фронта, многочасовое сидение в болоте, где она пряталась с сыновьями, такими же темноволосыми, как отец, от набегов айнзацгруппы, в попытки хоть что–то уберечь из еды от дневных и ночных гостей. Она видела, как тонут в трясине, выбиралась, спасая себя и детей, из объятой пламенем чужой хаты. «Человек, когда в болоте захлебывается… за того, кто рядом, крепко так хватается, откуда только силы берутся, — говорила она, неохотно уступая моему привязчивому: «Расскажи про войну». — Помочь не можешь, он это понимает. А все одно за тобой, за ребенком твоим тянется, чтобы не одному уходить…»
Война закончилась, они по–прежнему жили у тетки. Однажды поздним вечером в дом постучались: явился ее родной брат Михась. Только тогда она узнала о судьбе сосланной семьи. Их привезли на берег таежной реки, где на многие километры вокруг не было ни одного селения. Ютились в земляной норе, затем построили хату; когда валили лес, мачехе на спину упала сосна, сделав ее пожизненным инвалидом: так и ходила с тех пор, согнутая пополам. Только справили новоселье — приехали все те же, в плащах и с портупеями. «Загружайтесь, кулацкое семя, — смеялись, пуская веселый дымок. — Едем дальше!» Но и в хакасской степи, где их выкинули под открытым небом, упрямый белорус сумел построить хату, вырастить урожай, обзавестись конем. Однажды приказал старшему сыну взять коня и ехать в райцентр. Михась сделал все, как велел отец: привязал коня у милиции, где зарегистрировался, а затем пошел на вокзал, купил билет на ближайший поезд и уехал. Отец рассчитал верно: конь в тех местах равнозначен жизни, стало быть, сына до вечера искать не станут. Война спасла его вторично: пятно «кулацкого» происхождения было смыто кровью трех ранений, прикрыто двумя орденами Красной Звезды. А отца тогда расстреляли…
На рассвете Михась вышел во двор и вернулся побелевший: «К нам — гэпэушник!» Вглядевшись в лицо под фуражкой с зеленым верхом и темно–синим околышем, она сама едва не потеряла сознание (от каких чувств?): «Не бойся! Это… мой муж…» После освобождения она получила от него только треугольник полевой почты, а сейчас узнала: он служил в пограничных войсках НКВД — начальником автомастерской, потом командиром автомобильного взвода. Звание капитана административной службы ему присвоила организация, которая отняла у нее отца. Михась так и не вышел к столу, а рано утром уехал, ни с кем не попрощавшись. Муж привез детям мандарины — невиданное лакомство; мальчики, отведав экзотический продукт, поминутно бегали до ветру. Он скомандовал жене собирать вещи. С этого момента ее отдельная биография заканчивается. (А была ли она вообще?) Вера никогда не ходила на службу, новенький диплом педагога хранился в серванте вместе с метриками детей; мой дед полагал, что женщина должна сидеть дома и заниматься исключительно семьей.
И он не прогадал: сказочно неприхотливой, за все благодарной, молчаливой, как рабочая скотинка, фантастически выносливой была Вера. Даже ее личные интересы были полезными для семьи: шитье, вязание, вышивка, плетение макраме, разведение цветов, кулинария — что там еще? — да все, чему она посвящала время единственной своей жизни, вписывалось в стандартное оглавление книги по домоводству. Других книг она не читала. Да и когда было ей читать? Ни на день, ни на час не могла она сбросить с плеч свою ношу — быт, всегда каторжный, поскольку дед, даже выбившись в начальники, в силу суровой принципиальности характера преимуществами положения не пользовался.
***
После развода родителей я, естественно, при всяком удобном случае стремилась уйти из квартиры, где с изобретательностью ласкового садиста бесновался отчим, к бабушке и деду. С одной стороны, мать, цементируя новую ячейку социума, была рада избавиться от «довеска» хотя бы на выходные, с другой — ее ненависть к генетически чуждому ей укладу жизни стариков, ненависть, прямо пропорциональная неудержимости моих побегов, переносилась на «их» внучку. Надо сказать, что после нашего переезда мои мать и бабушка никогда больше не встречались, но мать и на расстоянии продолжала изливать по адресу свекрови («Палец о палец не ударила, тунеядка!») мегатонны яда, способные выжечь все живое на десятки километров в радиусе ее местопребывания, не будь они исключительно ментального свойства. Думаю, эти заряды ненависти не уничтожили бабушку только потому, что не находили в ее мягкой душе, к чему бы прилепиться: Вера бывшую невестку прощала, как прощала всех и всегда.
…Я сижу на коленях у бабушки, и, по примеру фарфоровой рыбы, стоящей на столе, старательно разеваю рот, в который бабушка забрасывает то ложку изумрудного салата, то кусочек котлеты с румяной корочкой. Одновременно в разверстый щучий рот летят крохотные разноцветные свечки в юбочках, предназначенные для украшения торта: в дом стариков даже в эпоху суповых наборов по рубль двадцать сказочным ветром заносило такие вот чудеса.
«Ну и как она его называет?» — вопрошает бабушка.
На самом деле моя мать об отце вообще не вспоминает, как будто его никогда и не было. Но мне хочется сделать бабушке что–нибудь приятное, поэтому я даю волю фантазии:
«Черт болотный! Кощей Бессмертный!»
Доброе бабушкино лицо мрачнеет.
«А еще как?»
«Чмо недоделанное!» — вспоминаю обычное выражение Брюхатого.
Бабушка тяжело вздыхает. Рука ее с ложкой дрожит. Но меня уже не остановить — я выдаю все, что слышу дома:
«Сволочь! Выблядок! Зла на тебя не хватает!»
Бабушка спускает меня с колен и уходит на кухню. Минуту спустя до меня доносятся ее приглушенные передником рыдания. Я в недоумении: сама ведь спрашивала!
Теперь, обладая преимуществами взрослого зрения, я понимаю, что именно (кроме отвращения к сквернословию) так огорчало бабушку: ничего не умевшая для себя, она до последнего надеялась, что и в матери возобладает столь естественная, по понятиям бабушки, женская жертвенность, и она помирится с мужем ради ребенка. Наивная Вера!
На заводе, где работала мать, у нее появились подруги: это был неискренний альянс амбициозных особ, одержимых целью записаться в ходовой товар эпохи и занять место на полке, обозначенной биркой «активистка». До странности бедна секция для девочек в этом провинциальном универмаге! В основном товарками матери были одинокие или разведенные дамы того возраста, в котором человек обычно теряет зубы мудрости, но мудрости еще не приобретает. Попадались, впрочем, и семейные, которые забросили семьи за более важными — «государственными» — делами. Всегда истерически взвинченные, полные какой–то сатанинской энергии, которая с утра пораньше гнала их прочь от домашнего очага, в результате чего их близкие, питаясь всухомятку, скоро зарабатывали себе гастриты и язвы, а жилища зарастали застоявшейся, годами не убиравшейся грязью, они мчались вперед со свистом «Времявыбралонасссссс!» и прытью скачущей на дело конной пожарной команды. Товарищ Время, взяв под козырек, предоставляло им массу способов самовыражения. Они дежурили по религиозным праздникам возле церкви, бдительно высматривая лиц комсомольского возраста, направлявшихся в храм. С сознательной радостью кришнаита, толкующего неофитам «Бхагавад — Гиту», однако навсегда ограниченные низколобостью усвоенных ими истин, проводили в подшефных школах классные часы. С остервенением участвовали во всевозможных комиссиях, где, распаляемые данной им властью карать и миловать, еще больше укреплялись в своем превосходстве над ничтожными носителями мужского эго — сплошь алкоголиками и тунеядцами. Когда они произносили магическое «рекомендовать в партию», то возводили очи к потолку заводского клуба с уродливой гипсовой лепниной. На заседаниях товарищеских судов от них особенно сильно разило потом в сочетании с духами «Красная Москва». Им до всего было дело кроме собственной семьи, если таковая имелась; их родным следовало вручить главный приз ВДНХ за терпение. В обвисших на заду и коленях синих хлопчатобумажных тренировочных штанах (антиэротика коммунизма: выглядеть как можно отвратительнее) они выезжали в колхозы на уборку овощей и уже в автобусе обычно горланили песни, чему способствовало принятие на грудь бутылки беленькой, — согласно ритуалу, из горла: причащение «к великому чувству по имени «класс». Некоторые выблевывали слезу пролетариата на тряских районных дорогах, не добравшись до поля с бураками; мать над таковыми посмеивалась, считая их слабаками.
Она влилась в ряды этих передовых, востребованных эпохой женщин после того, как ее божок — Брюхатый — покинул ее ради более молодой и, надо полагать, более домовитой: мать совершенно не умела готовить (в ее первой семье это делала свекровь); между ее «общественными» бумагами я как–то обнаружила похожие на прозрачные засушенные растения выкройки платья, так никогда и не ожившего… Собственно, это была ее сознательная позиция («Я — не домашняя курица!»). Что ж, отчим быстро объяснил моей бедной матери разницу между мистификациями наподобие «Женщина — это человек», который «звучит гордо», и жизнью–как–она–есть, а чтобы вложить это знание в ее мозг навсегда, до елового веночка, оставил после себя ребенка, о котором, в отечественных традициях, больше ни разу не вспомнил, — оставил без мстительности и злобы, с очаровательной беззаботностью пернатых, что подкидывают свой приплод в любое гнездо, не брезгуя и соломенными шляпами осатаневших от солнца курортниц.
…Я, восьмилетняя, спускаю вниз по лестнице громоздкую коляску с гремучей сеткой пустых детских бутылочек: выгуливать сестру и ходить на молочную кухню — моя обязанность (при общем полнокровном здоровье у матери почему–то совершенно не было молока). С трудом выкатив коляску, возвращаюсь за сестрой: перед этим я, как умела, натянула на ее головку связанную мне бабушкой шапку, завернула в одеяльце. Сестра спит. Осторожно выношу и укладываю ее в коляску. Но — о, ужас! — я плохо закрепила корпус; коляска переворачивается, младенец шлепается на асфальт. Едва не теряя сознание, дрожащими руками приподнимаю одеяло. Сестра продолжает спать. Спасибо бабушкиной шапке!
Где же была в это время наша мать? Вероятнее всего, у Капы. Так она ее называла. Сама же Капа называла себя не иначе, как Капитолиной, и утверждала, что родители дали ей имя в честь «Капитала» Маркса. Капе удалось то, что считалось высшим социальным пилотажем и вожделенным газетно–журнальным хэппи–эндом: совместить карьеру (начальницы отдела и члена парткома) и «здоровую, счастливую семью» (муж — инженер, дети — хорошисты, машина — «Жигули»). «Копейка» та, впрочем, была разбита, когда муж названной в честь «Капитала», отправившись с любовницей на природу, встретил лося, который переходил дорогу в неположенном месте. В отличие от лося, чей труп и привлек внимание правоохранительных органов к этому факту из жизни «здоровой, счастливой семьи», водитель и пассажирка отделались легкими телесными повреждениями. Однако железобетонный имидж Капы, поскольку она сама в него верила, такие мелочи поколебать не могли.
Для матери она была образцом для подражания. Почему так? Женщины этого поколения, всю жизнь прозябавшие под холодными солнцами мнимых величин, не могли без образцов; мать не была исключением. Цветные портреты киноактрис из журнала «Советский Экран» (годовая подписка на «Политическое самообразование» в нагрузку), приклеенные с помощью хозяйственного мыла ко всем без исключения дверям нашей отдельной двухкомнатной квартиры, превратили ее в гибрид рабочего общежития и педикюрного кабинета. Даже справляя естественные надобности, невозможно было укрыться от томных, грешных, надменных, мечтательных очей Констанции Буонасье, Дульсинеи Тобосской, любимой женщины механика Гаврилова, любимых женщин прочих механиков, сантехников, водителей, строителей, фельдшеров и инструкторов по плаванию. Впрочем, Брюхатый, выловленный этой кинематографической сетью, ни к одной из перечисленных профессий не принадлежал. Именно свою женственность прекрасные дамы с экрана сумели превратить в штучный товар, за который готова была платить вся страна, выстаивая очереди к кассам кинотеатров; однако женские судьбы серийного разлива изначально вершились не по розово–леденцовому сценарию. Вот только предупредить чувствительных провинциалок о трагическом несоответствии между искусством и жизнью в титрах забывали. Не удивительно, что любовь у местных учительниц, продавщиц, бухгалтерш, библиотекарш воплощалась не в возвышенную сагу, как в ленте «Москва слезам не верит», а в нечто совсем иное. И вот тут–то, когда жертва мужского вероломства (и сладеньких широкоэкранных сказочек) готова была травиться йодом, лечиться сивухой–бормотухой или, если еще остался порох в пороховницах, искать в заплеванных пригородных электричках очередного обладателя нечистых ботинок и чистой души, на сцену строем выходили подкованные на «Капитале» доброжелательницы, всегда готовые помочь несчастной поверить в новое божество.
Названная в честь «Капитала» навещала мать обычно по календарным праздникам: снимала в коридоре модные сапоги на каблуках, под которыми неожиданно обнаруживались рваные чулки («Все равно люди не видят!» — говорила она мне, делая акцент на слове «люди»), и горделивой походкой, насколько позволяли расквашенные тапки, проходила в залу. Конечно, мы не были для нее людьми; мать же перед ней благоговела: «Вот у Капы муж сумки из магазина в зубах носит!», «Вот у Капы дети умные — не то, что вы!», «Вот Капа умеет общаться с людьми — ее везде приглашают!» и т. д. Эта Кассиопея житейской мудрости и Андромеда коммуникабельности — с нее моя бедная мать, прогорев с кинодивами, заново собралась «делать жизнь» — усаживалась за стол с минималистской снедью в духе Петрова — Водкина: селедка, картошка, сделанные из загадочной субстанции мясокомбинатовские котлеты, похожие на раздавленных жаб магазинные огурцы–переростки. После второй рюмки жидкости, которая еще вчера таинственно булькала в сообщающихся сосудах на кухне заводского электрика, Капа начинала щедро делиться своим богатым опытом: «Мужик — ему что надо? Койка да жратва, — учила она мою «второгодницу» — мать. — А ты — любо-о- овь… Нашлась мне тоже, Джульетта… Нет, вы послушайте дуру — он стихи ей читал! Он стихи читал — так он уже и любит!» После третьей рюмки наступала очередь узнать о политических идеалах Капы: «Я вам что — с хера сорвалась «Капитал» читать?! И вообще: это я вам здесь — названная в честь «Капитала»! А жила бы там — носила бы имя в честь Капитолия, был такой холм, на нем Рим построили, слыхали? Эх, девки, кто б меня только вывез в те Капитолии! А хотя оно и тут неплохо — надо только уметь устраиваться!» Умение устраиваться считалось символом веры этого продвинутого женского сообщества. В конце застолья, заканчивавшегося попойкой, кто–либо из участниц, обычно — особа гренадерского роста и веса, что работала начальницей швейного цеха и жила в однокомнатной хрущевке с целой кодлой болонок, которых по причине пятого этажа не выводила, а потому и жилплощадь ее, и одежда пропахли собачьей уриной, — эта ответственная дама, на своей работе легко ставившая подчиненных на четвереньки, сама склоняла могучие колена перед унитазом, облегчая нутро под сардоническим прищуром широкоэкранной Миледи.
Мне было двенадцать лет, когда я впервые шокировала названную в честь «Капитала». Мать, желая произвести впечатление, сообщила, что дочь «пописывает стишки». Дочь была немедленно поставлена в центр комнаты перед ареопагом мудрейших. Я прочитала стихотворение, первая строка которого была поговоркой, услышанной от бабушки:
Дрэвы не дарастаюць да раю.
Яны ў снах, як птушкі, лятаюць,
Спяваюць.
Мараць пра подых нябеснага саду
У час лістападу.
У вырай ляціць чарада залатая,
Нібыта гартае
Лясы закалыханы смерцю
Вецер.
Рты перестали жевать. Капа, презрительно взглянув из–под ядовито–зеленых век, посоветовала показать дочь «душевнобольному врачу», потому что нормальные дети такой чепухи, мол, не сочиняют. Да еще на языке колхозников, на котором «инцилигентные люди» не разговаривают! Откуда это у нее? Да от той, от иждивенки… нормального языка не знает… Ну так не надо пускать туда ребенка. Даже страшно представить, чему ее там еще научат. В нашем «вобшчастве» все должны трудиться! «Девочка, деревья — неразумные существа, из этого следует, что они не могут мечтать, видеть сны», — поучительно добавила другая, подхватывая вилкой жирный кусок селедки. Я промолчала, но записала в тетрадь загадку:
Не хаваюць біўняў, поўсці ды рагоў,
Ганарацца званнем першых едакоў.
«Хоч, дыван купі: у маю залу не ўлез».
Што гэта такое?
— Чалавечы лес!
Эмалированные губы красавиц долго еще дребезжали мне вслед, точно опрокинутые металлические миски.
Второй авторитетный совет звезды провинциального социума я сподобилась получить лет этак десять спустя. В ту пору я писала лирические этюды; их почему–то охотно публиковал редактор местной, еще партийной газеты. Капа перестала жевать (декорации все те же: самогон, огурцы, селедка) и, глядя на меня с брезгливой жалостью, как на человека, с ног до головы покрытого экземой, дала гуманный совет: «Если уж уродилась такая умная… дура… дак хоть людям этого не показывай… к тебе ж ни один мушшина положительный не подойдет, спужается…» По мнению Капы, ум для женщины был чем–то вроде рваных чулок, которые следовало прятать.
А еще несколько лет спустя к моим соответствующим возрасту прелестям вдруг воспылал директор строительно–монтажного управления (любопытно, читал ли он мои этюды?) и пригласил на корпоративный праздник в коллектив, где дорабатывала последние дни перед пенсией названная в честь «Капитала». Что двигало мной, когда я согласилась заглянуть на одиозное застолье? Желание доказать Капе ее неправоту? Но она, увы, не ошибалась. Будем считать, меня вела страсть коллекционера: в моем портативном паноптикуме уродств уже имелся десяток–другой экземпляров. Когда замолчала соседка, в течение двух часов осквернявшая мой слух бабьим бредом, а насытившаяся публика потребовала зрелищ, на середину комнаты, словно в зеркальной — обратной моему детству — перспективе вышла Капа. Она была по–прежнему с ядовито–зелеными веками и игривым начесом, который, судя по его подозрительному металлическому блеску, так же, как в эпоху дефицита, «закрепляла» краской–серебрянкой, предназначенной для придания жесткого глянца батареям отопления («Дешево и сердито!»), — вышла, похожая на маску смерти из Эдгара По. Сопровождал ее сильно пьяный шут с бубном. На мочалочный начес клоунессы был водружен колпак из фольги, увеличенные помадой губы неискренне лыбились. Шут извлекал из своего инструмента дребезжащие звуки, а его партнерша, задирая голые ноги, распевала корпоративные куплеты. На старых ногах набухли бурые вены.
И не то чтобы ей этого хотелось, нет. Но она, понизившись в статусе до полуидиотки, стала бы не только задирать ноги выше головы, — она стала бы выкаблучиваться по полной программе, лишь бы только отсрочить приход того, что древние философы считали самым большим счастьем в жизни человека, — момента встречи с собой. Ибо для того, кто пуст внутри, как футбольный мяч, и не имеет в себе ни любви, ни мудрости, нет ничего страшнее, чем быть отрешенным от призрачных «общественных дел», гнить заживо на магазинной полке. Универмаг закрыт, все ушли на фронт. Трудно представить себе каменное, беспросветное одиночество товара, на который не прельстились даже мародеры.
Но ареопаг теперь возглавляла не она. И большой директорский перст римским жестом выразил убийственный приговор: «НА ПЕНСИЮ!»
…Это они, неугомонные Капы, ошалев от страха смерти, который, как метастазы раковой опухоли, разрастается в торричеллиевой пустоте их души, это они, наделенные, как назло, несокрушимым здоровьем и все той же сатанинской энергией, бегают по общественным приемным, строчат анонимки, донимают бессмысленными звонками «правоохранительные органы» (при этом требуя непременно письменных ответов), бесконечно судятся с соседом за семь сантиметров забора. Это они терзают врачей ипохондрическими недомоганиями, сживают со света чиновников требованиями перенести автомобильное шоссе подальше от их жилища, потому что у них от шума закладывает уши, насилуют слух работников санэпидстанции жалобами на дурное качество воды, воздуха, света и вообще любой среды в ареале их обитания (что понятно). Это они осуждают, распинают, обличают, поучают, требуют, сплетничают, зубоскалят, охотно подписываются, гневно присоединяются, — словом, отнимают жизнь у других, пытаясь отчаянно ухватиться за них протянутыми из болотной жижи руками, чтобы не одним уходить.
Мне всегда бывает их жаль. Страшно умирать тому, кто не жил.
***
А как же насчет едоков–то? Неужели я ошиблась в свои двенадцать лет?
Нет, ошибки не было.
— Ну что это за поляну, блин, накрыли, даже икры нету, все, больше не буду деньги сдавать, пойду куплю себе конфет «Мишка в малине» двести граммов, слышь, Танька, ты че сегодня снила? Воды пить никто не просил? Спрашиваю: че снила? Воды пить никто не просил? Когда пить воды просят и даешь — это значит, денег не будет. Никогда не давай пить воды, когда спишь! Глянь, а эта–то, напротив, свинья поросная, жрет одни бедрышки, полная тарелка уже костей, а вон у той, толстомордой, дочка подцепила богатенького, дак на свадьбу, слышь, экипаж заказывали, кони белые, платье на невесте, как за полтора лимона, а стоило четыреста пятьдесят, я те точно говорю, мать голову сломала — все думала, что подарить, богатым–то стыдно дешевое дарить, богатым надо дорогое, это бедным можно дешевое дарить, а богатым — им нет, им надо дорогое, жених–то хороший, да, но без стержня, все родители за него, и он за родителями, ничего, жисть, она заставит, жисть, она такая, куды денется, главное для девушки — удачно выйти замуж, дык ты че, Таньк, сегодня снила? Пить воды никто не просил? Спрашиваю: че снила? И т. д. — по новому кругу.
На мой электронный адрес пришло «магическое» послание: нечто о Единороге. От меня требовалось переслать этот бред пяти моим знакомым, взамен же мне обещали «исполнение всех желаний». Письмо я отправила в корзину, и, надо думать, поэтому вместо «исполнения желаний» неожиданно оказалась в заводской столовке, где праздновался юбилей бывшего одноклассника. Классическая комедия положений: шла в одно место, попала в другое. Видимо, это была месть Единорога.
Мне отвратительны их разомлевшие рожи, оживляющиеся при звоне стаканов. Если бы мне в страшном сне приснилось, что мой организм подвергнется истязанию этой жирной хавкой, он не дожил бы до утра. Я не способна понять, как можно тратить жизнь на пустые, никчемные их разговоры, — вывернутая мусорная куча возбуждает во мне меньшее отвращение, чем эти байки, полные самодовольства и лени, байки «победителей жизни». Ну и демонстрировали бы друг другу шоколадное ассорти своих побед: кто — новую машину, кто — новехонькую должность, кто — новообретенные знакомства и связи, но нет, они — как тля на лист, как осы на сладкое — льнут со своими россказнями именно ко мне, хотя менее благодарного слушателя, пожалуй, трудно отыскать. «Что это за занятие, блин, по жизни — книжки писать? — мычит с набитым ртом юбиляр, удачливый директор рыбного магазина. — Я те точно говорю… у меня на сортировке больше, в натуре, заработаешь… приходи, не парься, возьму, пока я добрый!» — «А это платье на вас довольно секси!» — хором восклицают дамочки, мировая скорбь которых состоит в том, что глянцевые женские журналы в рубрике «Голос тела» слишком поздно указали им дорогу к оргазму. В годы их юности эти дамы в железных башмаках, панталонах с начесом и пилотках со звездой добросовестно месили грязь совсем другой дороги: к светлому будущему, и то время уже не вернешь. Слушая этот лесной шум («Колбаски в фольге просто бесподобны, воробьиные тушки — так, кажется, они называются?» — «А бутылочку джин–тоника кладите в сумочку, дома «Поле чудес» включите — вот он, кайф…» — «Я когда гуляла на юбилее у директора, нам потом разрешили взять со столов все, что осталось…» — «Положи мне отбивную, ну чего ты жидишься, точно последний х… без соли доедаешь…»), начинаю понимать: и то правда, бахвалиться друг перед другом им уже приелось. С безошибочным инстинктом профессиональных едоков они находят в этой толпе того, кому единственно и стоит завидовать. Но так как завидовать — это для них очевидно — в моей жизни нечему, они завидуют моему одиночеству, которое тут же и осуждают, а поскольку сами не способны извлечь из одиночества ничего, кроме алкогольного тремора, то живы не будут, если хотя бы не изгадят его слизью своих разговоров.
Но я уже не та девочка, которая стояла когда–то перед ареопагом сытых. И не уговаривайте, родненькие, не присоединюсь, да и вообще, я тороплюсь, — меня ждет книга одного автора, он для меня, в отличие от вас, живой, хотя давно уже не доставляет хлопот чиновникам по гражданству и миграции фактом обмена своего земного паспорта. Возможно, для вас это всего лишь вариант некрофилии. Но то, за что вы так колотитесь — как непременно когда–нибудь станет ясно даже вам! — копится и приобретается, вот смех–то, ради любопытства фельдшера скорой помощи, которая, держа носилки с вашей набитой всем, что вы успели съесть, тушей и не без труда выруливая к выходу среди ваших бархатных диванов и домашних кинотеатров, будет рассеянно скользить по ним взглядом.
Так кто же из нас некрофил?
Вероятно, я сказала что–то непристойное, потому что рты перестают жевать, смех скисает. За плывущими по воздуху жалкими гримасами проступают грязные стены с инструкциями по спасению утопающих. В прозрачных разбухших мешках колышется жирное месиво непереваренной пищи. Две разнополые особи, не замечающие того, что сквозь их черепные коробки просвечивает мозг, размером с грецкий орех, заняты типовой отработкой дыхания рот в рот. «На дорожку» мне суют коробку конфет — ассорти злобы, зависти и серости; эти черные сгустки отравили бы мой организм, вызвали бы в нем вспышку какой–нибудь болезни.
Спасибо, дорогие, кушайте сами!
***
Бабушка Вера до конца жизни сохранила какую–то юношескую застенчивость: терялась, когда на нее обращали внимание, избегала конфликтов, даже когда имела на то веское основание. Помню, лет в шестьдесят пять она сломала руку; эскулапы наложили гипс, и она, постеснявшись сказать про боль, мучилась целый месяц, а потом выяснилось, что гипс был наложен неправильно. После повторного заключения и освобождения руки она носила ее в поликлинику на массаж и рассказывала о медсестре с тихим удивлением: «Положишь рубль в карман — хорошо пожмякает, не положишь — только погладит». «Класть рубль» в карман работнику поликлиники ее научила, пожалев, соседка, — а то бабушка так и отходила бы положенное ей число сеансов без всякой пользы для себя. Впрочем, и на это у нее находились оправдания: «Наверное, им там совсем мало платят», — вздыхала она. Даже наглые обвешивания в магазине она сносила терпеливо, потому что испытывала неловкость — разумеется, не за себя, а за тертую тетку–продавщицу, которая вдруг будет выставлена воровкой перед всей очередью. Вера, мне кажется, вовсе не умела сердиться, требовать чего–то для себя, никогда не произносила оскорбительных и бранных слов; в этом можно видеть ее жизненную небитость — все взаимодействия с социумом, чреватые конфликтными ситуациями, разруливал дед, — в связи с чем к убийственным характеристикам, которыми моя мать награждала бабушку, прибавилась еще одна: «мокрая курица». Бабушка же, рассказывая мне о моей матери, сочувственно вспоминала, как перед свадьбой навестила ее на квартире, где будущая невестка снимала угол: «Она, знаешь ли, спала на сундуке в коридоре, небольшой такой сундук, ног не вытянуть, ни матраса, ни подушки…» Я потом, после загса, рассказала сватье, а та: «Ну и что такого? Подумаешь, барыня! Не сахарная, не растает!» Но чаще бабушка поджимала губы, смотрела прямо перед собой и произносила подчеркнуто твердым, как свежезаточенный карандаш, голосом, как бы отсекая дальнейшие рассуждения на эту тему: «Марию очень ценят на работе». И для нее эта характеристика искупала многое, если не все.
Бабушка наивно завидовала всем, кто по утрам вливался в мутный поток хмурых людей, растекавшийся по заводам и учреждениям. В минуты усталости (в последние годы они случались все чаще) она тихо жаловалась мне на то, что ее труд, труд заведенного механизма, не имеющего выходных и отпусков, никем за работу не считается. «Придут, одежки грязные скинут, а откуда они потом берутся чистые, знать не знают, — говорила она. — А вечером придут — и к телевизору: они устали, они работали! А то, что ты до ночи по дому крутишься и до света встаешь, так это не считается: ты же на работу не ходишь». Надо сказать, бабушка избаловала родичей, полностью освободив от всяких домашних нагрузок, в особенности по ращению малышей: дети, внуки, племянница и даже правнучка — моя дочь — всех она нянчила, кормила, пеленала, купала, на ночь забирала к себе, чтобы дать «молодежи» отдохнуть.
…С утра голова тяжелая, веки налиты болью. Плачет ребенок — сколько таких утренних плачей пришлось на ее жизнь? — ну здравствуй, моя радость, она торопится на кухню, варит кашу для маленького, остальным готовит омлет. Вот малыш уже сидит на высоком деревянном стульчике, подожди, моя радость, дедушка не может ждать, ему на работу, мама с папой не могут ждать, им на работу. Она кормит семью, моет посуду; преодолевая боль в пояснице, замачивает в ванне белье, моет полы. Не плачь, моя радость, а вот я тебе расскажу, как твоя баба полы в детстве мыла: доски белые, некрашеные, воды с речки принесешь — и давай шуровать, а к Троице, бывало, аиром посыплешь. Линолим этот, или как там его, помыть — разве это работа? Варит обед, посматривая на часы, кормит мужа. Тише, моя радость, дедушка уснул, он спит всегда ровно двадцать минут после обеда, видишь, шофер под окном ждет. Уложив и ребенка, она стирает и развешивает детские штанишки — снова целая гора! Болит сердце, закончились лекарства, но в аптеку некогда. Гладит белье тяжелым утюгом — и что это я сегодня вся мокрая, как мышь? Ну вот мы и проснулись, улыбнись–ка бабе, мое солнышко! Скоро мама придет, скоро дед придет, скоро папа придет, они устали, они работали, за столами сидели, по телефонам говорили, их надо покормить, за ними надо убрать, посуду перемыть, а там можно и нам спать ложиться. Вот тогда я тебе сказку и почитаю…
Бабушка Вера, конечно же, понятия не имела, что такое отечественное учреждение, то есть ристалище амбиций, унижения, интриг, фабрика по производству дыр, сквозь которые незаметно утекает твоя единственная жизнь и самое дорогое в ней — время, которое вынужденно отдаешь фальшивым, никчемным, всегда голодным людям, заедающим свою внутреннюю пустоту твоим горячим сердцем и легкими. А мать, с шестнадцати лет вынужденная работать, при всем своем благоговении перед коллективными формами существования ненавидевшая любое напряжение сил, так и не сумевшая захомутать готовенького мужа–начальника, бешено завидовала Вере. Именно в немеркнущей остроте этой зависти, в чем она через много лет после бабушкиной смерти призналась мне, — призналась с непередаваемой интонацией родственного бесстыдства, — именно в ней и коренилась причина ожесточенной травли свекрови. Бабушке же никогда в голову не приходило кичиться начальственным положением мужа и персональной «Волгой», подкатывавшей к подъезду (и это усиливало ненависть: не понимает своего счастья, идиотка, или прикидывается); стань дед в одночасье никем, будь он выброшен из всех потоков истории и человеческих потоков, Вера любила бы его еще сильнее.
Ее призванием было ухаживать за старыми и малыми, за умирающими и выздоравливающими. Справившись с обедом и присев помелькать спицами в ловких руках, она часто вспоминала, как я едва не умерла от осложненного аппендицита, когда мать, уехав в командировку, из принципа оставила меня не бабушке, а одной из своих отнюдь не чадолюбивых подруг: разве могла трудящаяся женщина унизиться перед иждивенкой? Вспоминая, бабушка простодушно переживала горе и радость, которые оказывались у нее всегда свежими, готовыми к употреблению; для того, чтобы сделать ей приятное, я слушала всякий раз как бы с удивлением и задавала уточняющие вопросы. На самом деле я прекрасно помнила, как, играя в чужом дворе одна, наелась одуванчиков, только проклюнувшихся, сочных, горьких. Зачем я это сделала? Возможно, старалась добиться от жизни ответной любви: вкус давал ощущение взаимности, которой не могло дать зрение. Утром «тетя», которой вполне можно было вручить медаль ВДНХ за достижение максимального поголовья клопов в ее жилище, поволокла меня в детский сад, хоть я и корчилась от боли; ввиду занятости воспитателей какими–то архиважными делами никто не обратил внимания на мои жалобы, а вечером мучительница снова поволокла дитя в свой клоповник. Дальнейшее из моей памяти стерто. По словам бабушки, «какие–то добрые люди» (очевидно, соседи «тети», которым мой плач мешал отдыхать) позвонили деду, и в полночь меня доставили в больницу — прямо на операционный стол. Здесь Веру ждал еще один удар: пожилой дежурный хирург оказался пьяным в хлам. «Я медсестре–то и говорю, а сама плачу, — рассказывала бабушка, — он же на ногах не стоит, он ее зарежет! А она мне: не беспокойтесь, мамаша, он на фронте руки–ноги отрезал, а тут какая–то слепая кишка».
Хирург не зарезал, а бабушка — выходила.
Я лежу в палате и адски хочу пить, я умоляю дать мне воды, вот же целый стакан стоит на тумбочке, полный до краев, мне не надо так много, дайте мне сделать глоток, всего один, разве у вас от этого убудет, рядом сидит бабушка, но ей запрещено давать мне воду, только смачивать губы влажной ваткой, которая лишь усиливает жгучий огонь в животе. Если я не выпью сейчас воды — я умру. На самом деле все наоборот: я умру, если выпью даже глоток воды, но я этого не знаю, не хочу знать, а если бы знала, все равно бы просила: «Пить! Пожалуйста!» И вот так же, повзрослев, я буду смотреть на лица, которые время от времени мое слепое сердце будет приравнивать к тому драгоценному стакану воды, на лица, золотые светильники моего сердца. Пожалуйста, один глоток! Но даже в мгновения сладчайшей слепоты я буду знать, что те прекрасные лица — лишь волшебные стеклышки–обманки…
Ни на час бабушка не покидала отделение, хотя места в больнице ей не нашлось: мне только что исполнилось пять, и считалось, что я в состоянии сама позаботиться о себе. Находиться в хирургии посторонним было запрещено, и бабушка почти не ела и не спала, вынужденная все время прятаться от моего спасителя, который оказался не только блестящим хирургом и выдающимся алкоголиком (сочетание в наших широтах не оригинальное), но и непревзойденным матерщинником. «Ну и куда рожали? Вам бы еще по ночам морковку сосать, а не кое- что другое», — громогласно провозглашал он (и немедленно уточнял, что именно «другое»), в сопровождении стерильного анклава входя в палату, где девочки–первородки, не вдаваясь в экзистенциальный смысл вопроса «куда?», спешно прятали в драные больничные халаты свои порезанные грудки, из которых до этого сцеживали молоко. В палату, куда моя мать жизнерадостно впорхнула, когда мой шов почти зажил — похорошевшая, в новом модном платье, с новой прической, — и даже привезла мне из столицы подарок: набор белых платочков с нанесенной на них схемой, чтобы вышивать крестиком, — очевидно, для того, чтобы дитя могло махать ей собственноручно вышитым платочком при отбытии в следующую командировку. И еще долго я, послушная девочка, старательно вышивала на тех кусках материи, похожих на агентурную шифровку…
Да, никто не мог сравниться с бабушкой Верой в заботливости. Никто не был ей за это благодарен. «А чем еще ей заниматься, неработающей?» Можно было бы сейчас утешить себя красивым словом «призвание». Но разве у нее когда–нибудь был выбор? Выбора у нее не было с той самой минуты, когда она появилась на свет. Тогда о каком же призвании я говорю? Ее роль была жестко задана, и она ей вынужденно соответствовала. Но для того, чтобы соответствовать этой роли, надо было иметь в себе сострадание и любовь — то, чего напрочь была лишена ее невестка, которой никакой менеджер по распространению белых одежд не помог бы превратиться в Царевну Лебедь. Если бы моей бабушке привести цитату из романа о невыносимой легкости, где журналистка–феминистка говорит героине: «Даже если вы всего лишь фотографируете кактусы — это ваша жизнь; если вы живете ради мужа — это не ваша жизнь», Вера не поняла бы, о чем речь. Не было у нее «гендерного сознания», как не было и собственной жизни; эту ее, отдельную от нас жизнь невозможно даже вообразить, — главное, она сама не знала бы, что с нею делать, свались вдруг такая жизнь ей на голову.
Недавно я получила письмо от бывшего подчиненного моего деда. Цель этого письма, написанного почерком, похожим на клинопись шумеров, была проста, как взятка: добиться от меня публикации текстов, которые он с большим оптимизмом именовал романсами. Шумер писал: «Я работал в 54 году шофером по хозяйству автоколонны. Я не был ни родней, ни знакомым вашего деда, но по долгу службы мы быстро сблизились. Я ездил с ним в Смоленскую область, купили там корову и привезли ее сюда. Однажды ваш дед подзывает меня и говорит: «Сходи ко мне домой, помоги жене». «А что делать?» — спросил я. Он говорит: «Сводить к быку в колхоз корову». Дал мне три рубля. Все это мы проделали с вашей бабушкой и вечером я ему доложил. Он сказал: «Спасибо, отвези меня домой». И вот он меня зовет в дом и, не говоря ни слова, достал с буфета бутылку, налил мне сто грамм и кусочек мяса положил закусить. И я понял, что не зря трудился…»
И хотя вознаграждение «шумер» от моего деда получил, за ту помощь моей бабушке я сложила в аккуратный пазл его безграмотный бред и опубликовала один из «романсов» в газете. А еще мне стало понятно, почему на фотографии, сделанной в провинциальном фотосалоне через год после моего рождения, бабушка выглядит измученной старухой, — а было ей тогда всего пятьдесят.
В послевоенные годы Вера, чувствуя вину за синий околыш дедовой фуражки, подкармливала одноклассников своих сыновей — мальчиков, чьи родители погибли на фронте или исчезли в репрессивной мясорубке; всегда мечтавшая о дочери, она шила карнавальные костюмы их девочкам. Вот тут–то и проявилась ее природная талантливость: умела из ничего создать потрясающую экипировку для застенчивых большеруких золушек пятидесятых. Цветная бумага, куски картона и марли, толченый мел и битое стекло превращались в нечто воздушное, сверкающее, струящееся, запредельное, — так Вера преподавала робким своим ученицам наглядный урок любви, ибо что есть любовь, как неумение «в месте прозревать пустом сокровища»? (И мне бабушка вязала удивительные, — по неизменному определению моей матери — «гандюльские», вещи: свитера, жилетки, рукавички. Где только брала она образцы? Явно не в журнале «Работница», скорее — переносила на полотно ромашковый луг, который начинался за ее родной деревней, тонкий росчерк ласточки в небе, окаймляла прозрачной речной волной, набегающей на влажный песок. Все эти вещи носила потом моя сестра, некоторые донашивала дочь; удивительно, но они оставались модными и эпоху спустя). Эти девочки были королевами на школьных балах, а одна из них влюбилась в старшего брата моего отца — Эдика, и вместе с Верой ждала его из армии; когда же он вернулся из северо–восточных краев с красавицей- женой, эта девочка плакала у бабушки на плече, и та плакала вместе с ней. Потом бабушка одна растила внуков; жена Эдика оказалась на удивление неприспособленной ни к чему, капризной и вздорной — и почему так не везло с женами выросшим в идеальной семье бабушкиным сыновьям? — правда, в отличие от моей матери, все ее звездные устремления были направлены на уход за оранжереей собственной красоты: больше эту флегматичную особу ничто в жизни не интересовало.
Вера забрала к себе из деревни больную раком тетку и, досмотрев, похоронила; вернувшаяся из Хакассии после смерти «вождя народов», мачеха приехала умирать тоже к ней. «Я перед Марфой виновата, — как бы оправдываясь, поясняла бабушка. — Уговорила тогда отца на ней жениться — очень уж мне в город хотелось!» С Верой сохранил связь и брат Михась, который до двадцатого съезда партии, гонимый страхом ареста, петлял, как заяц, по всей огромной стране, меняя республики и города, путая следы. У нее в доме выросла племянница, дочь ее двоюродной сестры Тамары. Племянница закончила педагогическое и, оттрубив лет пятнадцать пионервожатой, в возрасте девки–перестарка вышла замуж за вора–рецидивиста Петеньку, добрейшей души гражданина, который между ходками на зону успевал уверенно штамповать ей таких же вороватых детишек. А сколько добра моя бабушка, словно чувствуя вину за свою устроенную жизнь, сделала совершенно чужим людям: соседке с жестоко пьющими дочерьми, брошенной всеми одинокой старухе, которая повадилась приходить к ней «за хлебушком»! На нашей улице жила сумасшедшая, которая повредилась в уме во время войны: ребенком двое суток пролежала на пепелище хаты, обнимая трупы расстрелянных родителей. Сумасшедшая любила заходить к Вере: та ее принимала, поила чаем и терпеливо выслушивала быстрый, похожий на птичье чириканье, бред.
На подоконнике у бабушки всегда цвели самые яркие цветы, и завистливые соседки просили отщипнуть им отросток, надеясь выгадать и унести из этой семьи кусочек счастья; бабушка никому не отказывала, но счастье не убывало.
В одной стране, где каждая семья, часто не имея на ужин хлеба, непременно имеет белое кружевное платье и туфельки для маленькой принцессы или нарядный костюм для мальчика; где детей, несмотря на всеобщую бедность, принято по вечерам наряжать как кукол и выводить на прогулку; в той поистине экзотической стране, где нет ни одного детского дома, потому что осиротевших малышей забирают родственники, а за неимением таковых — соседи; где расстающиеся супруги отдают последнее адвокатам, чтобы оставить сына или дочь за собой (все это похоже на сказку, не правда ли?), — в той стране мне однажды сказали: «Вы, русские, не любите своих детей».
Наотмашь. По лицу.
Это «вы, русские» я часто слышала там по разным поводам и тут же вскипала: «Я из Беларуси! Это не то же самое!»
На этот раз я промолчала.
А ведь я могла что–нибудь возразить. Например, что апокалиптические ужасы, да вечный рабский страх, уже отложившийся в костях и створоживший кровь, весь наш далекий от теплично–оранжерейного климат воспитывают спартанскую суровость к отпрыскам: сильный выживет сам, а слабому туда и дорога — все равно держава–мачеха нежить–пестовать не будет. Лакомая до потрохов своих детенышей, она узаконенными зверствами высушила в душах любовь; ту любовь, растраченную попусту на поклонение мраморным болванам да «живым богам» параноидального розлива, теперь копить–собирать по капле не одному поколению и белорусов, и русских. Да и до сентиментов ли там, где то ночные десанты в сопредельные страны, то радиоактивные дожди, то еще какая «трасца», тут бы исхитриться выжить, не залечь раньше времени землю парить, как говорила моя бабушка.
«Не сахарные, не растают!» Не растают, конечно. Вот только почему–то среди этих без любви повзрослевших полным–полно невротиков и психопатов, по совместительству — алкоголиков; девочки, выросшие без любви, бросаются в нее, как в омут, торопясь ослепнуть и оглохнуть, — проще было бы купить бутылку горькой, они сами лезут тебе в руки, выставленные добрыми продавцами для твоего удобства прямо возле кассы, чтобы ты, не дай бог, не ушла из магазина без «бодрящего напитка», — хотя в крови влюбленных и так синтезируется его биологический суррогат. Бутылка потребуется потом, когда эти девочки, уже протрезвевшие, одинокие и остервенелые бабы, из–за неудавшейся судьбы станут измываться над своими детьми, передавая генетическую обреченность на поражение, как ножик в тюрьму, следующему поколению.
Откуда же у моей бабушки было столько любви? Невероятно! Ни война, ни клеймо дочери врага народа, ни голод, ни каторжный труд не высушили ее душу. Может быть, именно это экзотическое свойство и имела в виду моя мать, называя свекровь нерусской.
***
Мне нравилось гулять по нашему городу вместе с дедом. Тогда на улицах только начали появляться высокомерные «Икарусы», желтые, с длинными неповоротливыми телами, похожие на сцепленные паровозики. Впрочем, родными для меня все равно оставались добродушные ЛиАЗы; в огромном, насквозь продуваемом гараже автобусного парка, где все шоферы знали меня по имени и приветствовали как принцессу крови, я прижималась щекой к грустным конским мордам моих ЛиАЗов, гладила их пыльные бока и шептала в их железные уши: «Я люблю тебя, номер одиннадцать, за то, что ты отвозишь меня к бабушке»; «Я люблю тебя, номер два, за то, что ты останавливаешься возле кинотеатра, где показывают «Седьмое путешествие Синдбада»». Впрочем, я отлично понимала, что любовь — это не «за что–то», а просто так. И когда на городских улицах таксисты предлагали подвезти нас с дедом совершенно бесплатно, автобусы притормаживали на любом участке маршрута, стоило деду махнуть водителю рукой, для нас двоих открывалась передняя дверца, и мы гордо забирались в салон, а меня водитель впускал в свою кабинку–аквариум, и я, отделенная от остального тесно жмущегося друг к другу человечества толстым стеклом, восхищенно стояла около пульта с красными кнопками и рычажками, — к чувству избранности примешивалась неловкость: я понимала, что это — «за что–то».
Из тех, кто остался на темной стороне семьи, лишь деду было позволено входить в квартиру моей матери, забирать меня из детского сада, а потом и из школы на круглоспинной, с круглыми надкрыльями, похожей на майского жука «Победе». Мать перед дедом благоговела: его статус советского начальника внушал ей трепет. Именно дед нес посильную дипломатическую нагрузку, когда требовалось добиться временного изъятия меня у матери для поездки в деревню к бабушкиной сестре Зинаиде, в цирк или детский театр.
…Только что мы с дедом получили у матери разрешение на очередную прогулку. Дед в широких, светлых полотняных брюках и такой же рубашке навыпуск, в дырчатой шляпе; на мне — короткое ситцевое платье, конский хвост на затылке стянут аптечной резинкой так сильно, что ноет кожа на висках. Мы покупаем в гастрономе шоколадку с изображением девочки в красном с белыми горохами платке, а у цыганки возле гастронома — разноцветных петушков на палочках. Сегодня мы не идем в парк или в кино; дед приводит меня в незнакомый двор: «Поиграй тут, я скоро», а сам исчезает. Надолго. Мне скучно. Я, словно Архимед из мультфильма, рисую прутиком на песке цифры: складываю, вычитаю, умножаю, делю. На ноль делить нельзя, говорит наша учительница, а почему нельзя — не объясняет. Вот я сейчас возьму и поделю. Чем меньше число в знаменателе, тем больше результат. Значит, при делении на ноль получается… бесконечно большое число! Я люблю математику за абсолютную чистоту. Физкультура оскорбляет обоняние запахом пота в тесной раздевалке, в кабинете труда всегда стоит отвратительная вонь пригоревших оладий, которые нас же, девочек, заставляют есть. И даже родная речь нечиста: мы пачкаем ее своими грубыми прикосновениями. «Зла на вас не хватает! Когда вы уберетесь из моего дома, выблядки!» — как резаная, орет мать. Мы с сестрой прячемся от нее в ванной. Я чищу зубы жесткой щеткой так старательно, что десны кровоточат. Долго–долго, до жжения, тру мочалкой с черным хозяйственным мылом розовые складчатые места моего тела. И все равно кажусь себе мерзкой, нечистой, — а иначе почему я так противна собственной матери? Но вот бабушка — она не обращает внимания на казусы моей плоти. Это потому, что она меня любит. Но может быть, бабушка, по безграничной своей доброте, не замечает ужасной правды, не видит, что я — чудовище, и нет мне места среди людей? Кто же из двух близких мне женщин прав? Какова я на самом деле? Не знать этого мучительно. Я испытываю потребность в немедленном, математически четком доказательстве того, что чужой человек сможет посмотреть на меня без отвращения. Оглядываюсь — на качелях, тормозя ногами и поднимая пыль, лениво раскачивается рыжий мальчишка.
«Пошли», — говорит мальчишка, заметив мой взгляд.
Я бросаю прутик и иду за ним, не спрашивая куда. Мы приходим к полуразрушенному одноэтажному бараку, где недавно жили стеклозаводские: окна выбиты, вокруг мусор. Место безлюдное, сразу за бараком начинается заводской парк. Мой провожатый вдруг исчезает; через несколько минут рыжая голова мелькает в пустом проеме окна, расположенного довольно высоко над землей. Мальчишка залезает на подоконник, чтобы прыгнуть оттуда прямо на груду битого кирпича.
«Теперь ты».
Я послушно обхожу барак, пробираюсь между ободранной стеной и ржавыми спинками детских кроватей, вкопанными в землю вместо забора и обмотанными колючей проволокой; запутавшись в проволоке, падаю и быстро встаю. Пол внутри провалился, стены изъедены грибком, маленькие тесные комнаты–клетушки бесстыдно выставляют напоказ свое развороченное нутро. Вот и окно. Мне страшно, но прыгнуть необходимо. С улыбкой я приземляюсь на груду битого стекла и кирпича. Я больно ударила копчик, до крови расцарапала колено. Но королевское достоинство моей улыбки некому оценить: рыжая бестия словно испарилась. С трудом нахожу дорогу назад. Мальчишка развалился на качелях в той же ленивой позе, зачерпывая сандалиями пыль.
«Это твой папашка?»
«Нет, дед».
«Врешь».
«Это мой дедушка. Он знает все–все про автобусы и машины».
«Опять врешь, все–все никто не знает. А папашка у тебя кто?»
Что–то подсказывает мне: о месте работы отца распространяться не следует.
«Папа работает в лаборатории».
«Ясненько… А мамаша?»
«Мама сидит за столом и говорит по телефону», — честно озвучиваю то, что видела.
«Значит так, антиллигенты, — ласково уточняет рыжий. — Мой папа работает на стеклозаводе, в горячем цеху. Мой папа говорит, вас, антил- лигентов, давить надо…»
Песок перед моими глазами начинает медленно плавиться, превращаясь в горячую стеклянную массу. Я поворачиваюсь, чтобы уйти в какое–нибудь укромное место и там дождаться деда.
«Антиллигентская вошь, куда ползешь? — шипит мне вслед мальчишка. И, кривляясь, гнусаво выпевает, точь–в–точь как Брюхатый: — На гумно, клевать говно…»
Дед вернется в хорошем настроении и не заметит моих потерь: коленки со свежей царапиной, порванного платья, и других, более существенных. Как всегда, я отправлюсь провожать его к автобусной остановке — оттуда как раз отъедет одиннадцатый номер; дед махнет рукой, желая задержать автобус, но то ли водитель будет новый, то ли не заметит директора, и автобус не остановится. Дед бросится неловко бежать следом, с его головы свалится и упадет в пыль шляпа, на которую он, кажется, даже наступит ногой. И я почему–то не подниму ее. Горячая стеклянная масса будет жечь мне глаза. А час спустя, услышав в очередной раз истеричное «Убирайся!», я выбегу из квартиры матери и в сумерках, истекающих желчью фонарей, буду мчаться, задыхаясь, через весь город, через все предательства и обиды к извилистой трубе экспериментальной многоэтажки. Я поднимусь на третий этаж по темной лестнице, где лампочка как будто выгрызена из металлического колпака («Выкраду вместе с решеткой» — пел в те годы по радио главный цыган советской эстрады), протяну руку к звонку, но тут же отдерну. Прильнув щекой к двери, я буду ловить среди квартирных уютных шумов бабушкин голос, а потом стоять и слушать его, как музыку. И только тогда я позволю себе заплакать — тихо, чтобы не услышали там, за дверью. Я буду вслушиваться в дорогие звуки, приглушенные болтовней телевизора, чтобы затем осторожно, стараясь не шуметь, уйти умиротворенной, почти счастливой…
И потом, продираясь сквозь колючую проволоку моих подростковых влюбленностей, приземляясь — всегда! — на битое стекло, надменно улыбаясь обидчикам и проливая горькие слезы в одиночестве, я буду точно знать: земля для меня не пуста. Потому что по крайней мере одно существо на ней любит меня. Любит, не замечая недостатков, в изобилии приписываемых мною себе, и реальных. Любит, не понимая моих достоинств, не умея оценить построение фразы или поддержать «умную» беседу.
Любит ни за что, без всяких условий.
И без объяснений понятно, почему я весь год ждала каникул, особенно летних, когда мы с бабушкой Верой уезжали в деревню, где так и продолжала жить ее бездетная двоюродная сестра Зинаида. Бабушка Зина была замужем за местным ветеринаром, но давно похоронила мужа: черно–белый портрет мужчины колхозного бухгалтера, с виду страдающего ожирением, с рыхлыми волнообразными подбородками и гладко выбритыми щеками (фотограф неустановленного пола кокетливо выкрасил розовым губы и подсинил не только глаза, но и веки), висел над допотопной этажеркой с книгами. Сама Зинаида, не получившая образования, работала при муже помощником, а потом так и осталась жить в крохотной пристройке к ветеринарной лечебнице, с закопченной кухонькой без окон, с керосиновой плиткой и единственной комнатой, почти все пространство которой занимали две отличающиеся лишь размерами, словно разнополые, кровати. В открытое окно, похожий на порыв кипучего снежного ветра, врывался куст жасмина. Покойный ветеринар, к моему удивлению, оказался любителем галантных французов: на доисторической этажерке обнаружилось полное собрание утонченных скабрезностей Золя, Мопассана, Бальзака, и, словно для противовеса, изумрудно–зеленый томик Кемеровского книжного издательства «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки. На самом нижнем этаже хранились сосланные в каземат, но предусмотрительно не отправленные в печку журналы пятидесятых с лубочными портретами генералиссимуса на обложках. Здесь же я откопала нервно разрисованный обнаженными девичьими прелестями блокнотик с душераздирающей сентенцией:
Любви ведь нет, товарищи, на свете!
Запомните и расскажите детям!
Блокнот принадлежал Нинке, племяннице обоих моих бабушек, дочери их младшей сестры Тамары. Нинка в пятнадцать лет родила неизвестно от кого; ребенок воспитывался у Тамары в соседней деревне, сама же сопливая давалка, как называла племянницу бабушка Зина, дала стрекача в Москву, где вела жизнь сообразно своим предпочтениям.
В день приезда мы с бабушкой обычно выкладывали в истошно ревущий холодильник городские гостинцы: дорогую колбасу, консервы, шоколад. Сами же переходили на местный, в зависимости от сезона, корм всех цветов и видов: алую клубнику, рассыпчатый золотистый картофель, изумрудные огурчики (переехав в двухкомнатную панельную квартирешку, бабушка с дедом оставили свой чудесный дом с садом, курами и собакой отцу и его второй семье, впоследствии оказавшейся столь же непрочной, как и первая, хотя и по другим причинам). Закавыка была лишь с хлебом: его привозили в деревню дважды в неделю, и к вожделенному моменту прибытия хлебовозки у магазина на деревенской «площади», где в апокалиптическом противостоянии сошлись двухэтажный бетонный «нивермаг» и превращенный в отхожее место полуразрушенный храм, собиралась огромная очередь. Моей обязанностью было несколько часов сидеть на корточках в вытоптанной пыли у магазина — больше присесть было некуда — слушая разговоры баб, изучая черты похмельного синдрома на лицах мужчин. И те, и другие с тупой животной покорностью и терпением вглядывались в клубы пыли вдалеке, равнодушно провожая глазами очередную расхристанную телегу. Наиболее слабые духом дезертировали в кусты: водку в магазине можно было взять без всякой очереди. Машина, наконец, приезжала. Грузчики, ленясь таскать поддоны, выкликали добровольцев из числа ожидающих (обычно — местных мальчишек), которым хлеб потом отпускался без очереди. В первый раз тупое сидение настолько вывело меня из себя, что я опрометчиво подняла руку. Когда мне, четырнадцатилетней городской девочке, на вытянутые руки лег поддон, на котором были тесно утрамбованы штук двенадцать еще теплых буханок, я чудом устояла на ногах. Но в спину уже толкал, торопя, кто–то из носильщиков, и я понесла непосильную ношу в магазин, а потом вернулась за следующим поддоном. Несколько дней после этого у меня сильно болел живот; бабушка Зинаида даже водила меня в местную «булаторию», подозревая заворот кишок.
Во всем же остальном наша жизнь протекает без происшествий. Днем бабушка Вера отправляется со мной на луг, который начинается сразу за изгородью ветеринарной лечебницы. «Вот это, Люся, смотри, цикорий… а это — пастушья сумка, женская травка… ну, ромашку ты знаешь…» По вечерам, если стоит сухая и теплая («огуречная», по определению Зинаиды) погода, обе мои бабули, распахнув окна, устраиваются за столом. В чайных чашках с привезенной мною индийской заваркой «Три слона» (отступной щедрый дар матери) плавают ягоды необычайно крупной земляники, которую я, благоразумно не афишируя этот факт, днем собираю на круглых облизанных солнцем холмах за березовой рощей, что является одновременно и кладбищем; прочитав спустя несколько лет у Марины Цветаевой: «Кладбищенской земляники вкуснее и слаще нет», я вспомнила именно эти ягоды. Словно шаманский бубен каменного века (по звучанию и по функции), вгрызается в мозг старенькое радио, вулканически грохочет холодильник, вызывая резонансное дребезжание алюминиевого настенного рукомойника.
«После войны–то Акимовна, помнишь, за жменю колосков в тюрьму пошла», — вспоминает Вера.
«Да, а страху–то сколько терпели люди, — откликается ее сестра. — Вот, помню, на сенокос бежавши, во дворе на ржавый гвоздь наступила, ногу — насквозь, кровищи…»
«И что?!» — ужасаюсь я.
«Что–что, посикала на тряпочку, ногу обмотала и пошла девок догонять. Бригадир–то у нас злющий был!»
Вера понимающе кивает.
«Это нонешние–то страху совсем не знают, — продолжает Зинаида то ли с осуждением, то ли с завистью. — Мужики вон распилися, а бабы сгулялися. Нашему человеку воли давать — нет, нельзя!»
В качестве доказательства этой сентенции (и в благих воспитательных целях) вспоминается племянница Нинка:
«Она смолоду такая была, — говорит Зинаида, косясь на меня. — Как- то раз иду огород полоть, а она стоит в окне веранды в полный рост — в чем мать родила. Окно–то на флигель выходит, там практиканты жили из ветеринарного института. Я и огрела ее тяпкой по ноге, да не рассчитала: рассадила бедро, зашивали потом в булатории… ну на ней как на кошке… Меня муж за сорок лет нагой ни разу не видел, — непонятно отчего вздыхает бабушка Зина. И опять в мою сторону: «Береги, Люська, нижний глаз пуще верхних двух!»
Вот повеселились бы буддисты такой версии местонахождения третьего глаза у женщины.
«Человек, он должон завсегда дисциплину держать, — подводит итог Зинаида. — Сам–то он что же? Ноль!»
«А баба — она еще меньше ноля», — вздыхает Вера.
Обреченно–назидательный мотив многократно повторяется.
Что может быть меньше ноля, я уже знала из уроков алгебры: отрицательная величина, минус–пространство. То есть нечто, чего не просто нет, а что располагается ниже уровня отсутствия чего бы то ни было. Странно! Ведь две мои бабули читали газеты, видели по телевизору, как первая космонавтка на всемирной конференции женщин в Праге раздавала негритянкам да китаянкам черно–белые фотопортреты Женщины–в–Скафандре, видели шедевры визуального искусства в духе «Доярка, метающая бидон с молоком в агента мирового империализма». Видеть–то видели, но кто бы смог их обмануть? Прожив на одной шестой части света по шесть десятков, собственными натруженными хребтом и лоном они знали, что все это только «картинки», а «жисть» на самом–то деле «такая», в смысле совсем другая. Исключения существуют не для того, чтобы подтверждать правила; исключения существуют для того, чтобы под бравурные ритмы вознести их на пьедестал и лживо, напоказ выдавать за подлинные правила. И вот это их знание об изнанке жизни, которое таинственным образом сочеталось с тупым сидением в пыли в ожидании хлебовозки (на фоне льющихся на телеэкране рек золотого зерна), мучило меня своей непостижимостью. Авторы, которых я читала теми июльскими ночами, внушили мне, что все можно перебороть одной лишь силой характера, асфальтовый каток жизни превратить в квадригу, запряженную крылатыми — а как же! — скакунами, надо только обладать каменноугольной серьезностью и регулярно употреблять жевательную резинку книжной премудрости…
После чая обычно включался телевизор, бабули просматривали какой- нибудь фильм, который показывался до программы «Время», вытирали лирическую слезу, затем с тем же вниманием смотрели детскую передачу «Спокойной ночи, малыши», где обаятельная тетя Валя, обнимая Хрюшу и Степашку, оптимистично приглашала зрителей к очередному мультфильму. И надо было видеть, с каким детским любопытством мои бабушки реагировали на похождения экзотических друзей Чебурашки и Крокодила Гены! При первых же бравурных позывных информационной программы сестры, точно их сглазили, начинали зевать, тереть веки, выключали телевизор и укладывались: Вера — на высокую кровать, Зинаида — на узкую девичью лежанку за печкой.
Выработанное годами умение выключать в себе, словно телеканал, нежелательное направление мыслей, забываться сном или работой… И вскоре до меня уже доносилось их сонное дыхание — честное, ровное дыхание утомленных праведным трудом людей. А я не могла заснуть на кровати подпольного галломана. Запахи ночных цветов проникали в открытое окно; я вставала, отгоняя нахально явившийся из пенного жасминового куста образ беспутной Нинки, пробиралась на кухню, включала керосиновую лампу и доставала заветную тетрадочку, в которую добросовестно, с ученической старательностью — пай–девочка, готовящаяся прожить жизнь правильно, а как же! — заносила высказывания великих людей, выуженные мною из книг. «Все наше тупоумие заметно хотя бы из того, что мы считаем купленным лишь приобретенное за деньги, а на что тратим самих себя, то зовем даровым. Всякий ценит самого себя дешевле всего. Кто сохранил себя, тот ничего не потерял, но многим ли удается сохранить себя?» — каллиграфическим почерком отличницы выводила я сентенции римского стоика. Если жизнь — игра, правила в которой выдуманы для отвода глаз (от истинных механизмов жизнеустройства), то как же быть с этими «жемчужинами мысли»? Нет, я не дам себя убаюкать, не стану слушать на ночь сладенькие сказки, как другие!
Спокойной вечной ночи, малыши!
Кстати, моя драгоценная инструкция к предмету под названием «жизнь» была уничтожена одной весенней ночью, когда я проснулась от беспричинного счастья, зажгла настольную лампу и села за стол, чтобы кое–что записать. Но тут мать, разбуженная светом, фурией ворвалась в зал, где я спала на продавленном диванчике, выхватила у меня из–под руки тетрадь и разорвала на клочки, сопровождая свои действия, как пишут в протоколах милиционеры, громкой нецензурной бранью. Впрочем, и бабушка Вера относилась к моей ловле философского жемчуга неодобрительно; она прозорливо чувствовала в этом враждебную семье стихию и со вздохом подсовывала мне вязание, учила кулинарии. Благодаря ее педагогическому дару я, вполуха слушая, идеально освоила хозяйственные премудрости, но что толку? Как мало пригодились мне умения, которые для моей бабушки были краеугольными камнями бытия!
***
Чертово колесо «общественной активности» вдруг заскрежетало всеми своими эксцентриками и встало. Подруги матери почувствовали, что целая товарная группа в секции «Для женщин» сначала подвергается уценке, а затем — подумать только! — и вовсе списывается. Причем — на–все–гда! Да и кто бы стал теперь слушать воинствующих агитпропщиц под предводительством Капы? Застолья, после которых они, щеголяя односторонне понятым богатством языка межнациональной ненависти, любовно обнимали санитарно–техническую посуду в нашей квартире, сами собой прекратились как бы в интуитивном предчувствии нового социума, в котором «слеза пролетариата» будет выдаваться исключительно по талонам.
К несчастью, некоторые «талоны», так сказать, романтического свойства не были отоварены нашей матерью до конца. В серванте хранились пустые коробки от когда–то употребленных отчимом конфет; пыльные банки из–под импортного пива, до которого он был большой охотник, украшали буфет на кухне; в спальне, похожие на нечесаные пряди на старческой голове, торчали жутковатые «икэбаны» из высохших цветов, приобретенных в эпоху Брюхатого, а в шкафу неистребимо водились багрово–фиолетовые черви его галстуков. Время от времени я воровато пробиралась с выуженным из буфета или шкафа барахлом на соседнюю улицу, чтобы там выбросить его в мусорный контейнер, сверяясь при этом с маршрутом матери с работы или из магазина: выброшенное в непосредственной близости к дому могло быть ею обнаружено и с проклятьями водворено на место. Возможно, это были магические приманки для легкомысленного духа, который не испугался бы и «святой троицы» с обложки журнала «Политическое самообразование».
И он появился — не дух, конечно, а товарищ Брюхатый собственной персоной; будучи на сильном подпитии, однажды он живым призраком ввалился в оккупированную призраками квартиру. Наделенный властью карать и миловать, он временно восстановил родительницу предыдущего ребенка — в новой семье у него рос новый — в попранных правах. Победителей не судят! Кстати, даже при таком раскладе ребенок как таковой — то бишь моя сестра — данного провинциального мачо совершенно не занимал. Некоторое время спустя этот герой–любовник отправился покорять новые рубежи: ведь в провинции так много женщин, которые в синхронном ритме грусти, сверяясь с сюжетами повестей о любви (их время от времени «выбрасывали» в нашем книжном, и тогда милые паломницы в жадной женской очереди с шести утра дышали друг другу в затылок), — в сентиментальном ритме «Здравствуй, грусть!» они протирают тряпками свои типовые дээспэшные кухоньки и млеют в ожидании Одного — Единственного, который принесет им в загрубевших от трудовых пятилеток ладонях счастье, — и всех надо успеть осчастливить! (После вторичного отбытия Брюхатого мои мать и отец на кратком отрезке своих матримониальных поисков совпадут по результату: отец разведется со второй женой и окажется без пары. Но теперь бабушка Вера уже не будет мечтать, как когда–то, что они помирятся «ради ребенка»; напротив, она будет, болезненно морща лицо, говорить мне: «Ох, не дай бог, опять сойдутся…» Впрочем, ни матери, ни отцу такая мысль в голову не придет: разгребать руины — сама по себе тяжкая работа, а уж на руинах строить…)
А пока в нашей квартире стал появляться свежий реквизит в виде банок из–под пива, в шкафу завелись новые, похожие на бледных ленточных глистов модные галстуки, а на журнальном столике прописался немецкий иллюстрированный каталог, отражающий жизнь в потребительском ее формате. «Унитаз из Гамбурга, с подсветкой! — самозабвенно врал Брюхатый зачарованной матери. — В виде трона! Покрывало шелковое, под леопарда!» Отчасти я даже была благодарна ее божку: в его присутствии мать, изображая кроткую горлицу, не обрушивала ежедневно на наши с сестрой головы небоскреб ругательств, и нам не приходилось прятаться в ванной от припадков ее агрессии. Снова стал включаться по вечерам приемничек с заезженными грампластинками и петь томным голосом:
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка —
То, что ты уходишь от меня.
Вваливаясь в квартиру, отчим некоторое время священнодействовал у одежного шкафа, пристраивая свои драгоценные костюмы, оставался в вытянутых трениках и майке, как и Капа, — нас он людьми, я полагаю, не считал, — после чего немедленно принимал горизонтальное положение перед телевизором (теперь — цветным). Голые розовые его пятки, как и прежде, похотливо налезали одна на другую на ручке дивана. Впрочем, кое–что изменилось: в городской бане отчим мылся теперь как начальник, хоть и мелкий. Десять лет мылся как заместитель начальника — надоело; элегантно–подлыми интригами скинул своего непосредственного и теперь хлестал пузо веником в кругу директоров. Громогласный, с ростом под стать голосу и беременным пивом огромным брюхом, он потреблял так много воздуха и света, что в нашей квартире сразу же стало нечем дышать. Проходя мимо меня, этот видный мужчина, который теперь руководил целым коллективом счетоводов и секретарш, вдруг становился на цыпочки, бесшумно подкрадывался сзади и, наклонившись к моим метру пятидесяти шести с высоты своего роста, произносил нарочито гнусавым, тоненьким голоском: «А когда твои баба с дедом уберутся в свой Изр–а–а-эль? Хорошо бы, и тебя с собой забра–а–али!» Если шутка удавалась, и я вздрагивала от неожиданности, а потом — от отвращения и ненависти, он громко и удовлетворенно ржал.
Названная в честь «Капитала» и Брюхатый, два мелких демона моего отрочества! Достигнув тогдашнего возраста моих обидчиков (а их уже отнесло к широкому устью), я могу позволить себе саркастическую усмешку. А тогда? У меня не было ни мужества, ни независимости, ни знания о себе; у меня не было ничего своего. У меня была только бабушка, но бабушка была далеко, и она не могла защитить, потому что сама зависела от других. Я понимала это уже тогда. Впрочем, моя семья была в городке самой обычной. Дело, однако, в том, что не все имеют глаза, способные разглядеть зло в самом распространенном его варианте — зло обыкновенное, житейское, бытовое. Спасительного «замыливания глаз» (безусловно, удлиняющего жизнь) я так и не приобрела.
Что же до Брюхатого и Капы, я не стала бы поминать этих неказистых кочегаров преисподней ради банального (хотя по–человечески и вполне понятного) сведения счетов. Тогда для чего я вызываю эти тени? А вот для чего: метаморфозы, ведущие к великому оледенению или, напротив, всеобщей паровозной топке, не в состоянии уничтожить их тараканью породу. Похоже на то, что именно эпохальные катаклизмы на землях от Байкала до Буга и послужили теми условиями естественного отбора, в которых сия порода закалилась, расцвела и дала обильный приплод.
Вокруг них — неизменно яркий электрический свет, накрытый стол, громкая музыка. Они всегда в хорошем расположении духа и, шутя, снисходя к твоей малости, тычут в тебя ногтем указательного пальца, точно дворовую считалку повторяют: «Куколка, балетница, воображуля, сплетница…» Они уверены в своем праве потреблять и пользоваться, сами же ничего не дают жизни: ни музыки, ни хлебного колоса, ни заботы о ребенке; даже профессия их связана с какой–нибудь благоглупостью и ахинеей, убери их — и в мире лишь воздух чище станет. Эти человеческие ничтожества уселись прямо на загривок жизни, крепко так оседлали жирными своими задками. Как можно посметь взять здесь хоть крошку, если сам ничего не создал? А ведь они хватают пригоршнями. Ненасытный инстинкт заставляет их пожирать все, что не есть они сами, а то, что невозможно сожрать, — уничтожать. Они агрессивно внушают всем свое «я», и люди поддаются гипнозу, но Всевышний… Неужели и Он на стороне заскорузлых? «Кто смел, тот и съел», «наглость — второе счастье»…
Да, но чем же тогда Он отличается от хозяина коммерческого ларька? Торгаш любит потребителей пустоты, с удовольствием спихивает им свой копеечный залежалый товар, свое пластиковое барахло. Может быть, и Он, давно уставший от индивидуального, запускает автоматическую линию и наблюдает, как выскакивают фигурки из соленого теста, партия за партией: бездушные, настроенные на грубые вибрации желудка и низа живота. Вот с этими милыми созданиями Он и забавляется (и не надоело!): то в одну, то в другую позицию поставит («куколка… балетница»), то перессорит на коммунальной кухне («воображуля… сплетница»). Ну покидают они друг в друга сковородками, ну подвесят друг другу супружеские «фонари», а то и более существенные телесные повреждения нанесут «после совместного распития спиртных напитков». А вообще–то цель их жизни — «счастье», к которому, надо отдать им должное, они стремятся вполне последовательно: по головам всех, кто попадется под ноги.
Взять Брюхатого и Капу: эти два героя вполне могли бы составить идеальную пару. Только мне недосуг тратить на них время, да и неинтересно. Жаль, что, работая живыми куклами, они не знали друг друга. Наверняка они даже сподобились бы изведать «счастье». Помню случай: ехала в метро, людей было много; и вот на фоне снующей туда–сюда толпы передо мной вдруг медленно, словно во сне, проплыл пустой и ярко освещенный, точно аквариум, вагон. В вагоне сидело лишь одно человеческое существо: молодой, лет двадцати, дебил в спортивном костюме, очень толстый, с румяным круглым лицом и яркими плотоядными губами, какие бывают у рекламных едоков. Дебил радостно смеялся, глядя на людей на перроне и хлопая себя руками по пухлым, широко расставленным коленям, раскачивался в такт движению поезда, его заплывшие жиром глазки излучали умиротворение. Ему было очевидно плевать на то, что сообщество двуногих дружно его игнорирует: он был в состоянии абсолютного, фантастического блаженства! С тех пор, когда произносят слово «счастье», мне представляется этот божок, сжавший жатву большую, чем все мировые религии, вместе взятые, божок, чье земное воплощение я увидела тогда в метро.
Так, может быть, наш мир — просто следствие автоматизации? Но соскучится иногда Создатель по штучному, зачерпнет желтенького речного песочка, промытого криничной водой, — так рождаются поэты и чистые душою люди.
***
В те годы я, как на пожар, выскочила замуж, чтобы как можно скорее покинуть родительский дом. Брак мой оказался одним из союзов, которые распадаются с той легкостью, с какой утром в понедельник развеивается воскресный сон, — так гул самолета еще слышишь после того, как далекая точка исчезла в небе (а я опять никуда не улетела!). Сон окончательно исчезает, когда запах кофе — лучшее, на что способна жизнь утром, в понедельник — восстанавливает действительность в ее правах. Моя дочь — единственное отличие брачного союза от сновидения — родилась в то сумрачное время года, когда женщины клянут идолищ отопительного сезона, а мужчины привычно компенсируют упущение властей алкоголем, который заменяет им все, чего у них нет, и помогает забыть про то, чего у них в избытке.
Дочь, привезенная из роддома, спала на двух креслах, поставленных друг к другу впритык. Каждый час я просыпалась, чтобы посмотреть, дышит ли она во сне. Малышку следовало сразу же выкупать; прошла уже неделя, а осуществить эту простую гигиеническую процедуру не удавалось. Во–первых, из–за дикого холода в квартире, во–вторых, из–за того, что я не представляла, как это следует делать. Я заранее приобрела в магазине металлический каркас с натянутой на него сеткой, предназначенный для поддержания головки младенца и заменяющий вторую пару рук — приспособление, явно придуманное неким тонким знатоком отечественных реалий специально для одиноких матерей. Пожалуй, я ухитрилась бы изобрести и собственную методику применения этого предмета, но в первый раз выкупать младенца должна была прародительница — таков обычай. В семьях моих друзей эту функцию выполняла бабушка ребенка. Моя мать принять участие в ритуале наотрез отказалась, ссылаясь на нехватку времени.
И тогда я позвонила Вере.
Могу себе представить, что означало для нее войти в дом бывшей невестки — дом, откуда был изгнан когда–то ее сын. Моя мать, узнав о готовящемся «вторжении», в гневе ретировалась. Бабушка Вера вошла молча. Молча разделась, вымыла и согрела руки. В натопленной газом кухне, где на двух табуретках (сакральный элемент отечественного быта, равно приспособленный для обоих таинств — рождения и смерти) стояла ванночка — розовая купель, бабушка распеленала правнучку и бережно опустила в воду. Передача души рода — через голову стоящей рядом меня — произошла.
И еще раз бабушке Вере пришлось переступить порог жилища своей бывшей невестки. Я кормила и перепеленывала дочь в комнате, где температура не превышала таковую на продуваемой октябрем улице; хлипкий обогреватель с единственной спиралью мало помогал, — в результате хронического переохлаждения и подхваченной в роддоме инфекции тельце ребенка покрылось гнойниками, и такие же гнойники образовались на моей груди. Боль была невыносимой, молоко затвердело и не сцеживалось. Голодная дочь кричала днем и ночью. Медсестра, заходившая взглянуть на младенца, сказала, что кормить грудью в таком состоянии нельзя. «Кто–то из взрослых должен высосать плохое молоко», — посоветовала медсестра.
И я снова позвонила Вере.
Молоко — сама жизнь — оказалось для моей дочери чуть ли не с рождения смешано с ядом. Но потом пришла Праматерь и приникла к отравленному сосцу, и выпила яд. И тот не причинил ей вреда. И молоко вновь сделалось чистым.
Где, в каком эпосе найдешь такой миф?
После этого бабушка сказала деду, уже больному сердечнику: «Вызывай такси. Больше они здесь не останутся». Так я и моя маленькая дочь оказались в благословенном месте: в бабушкиной квартире, где ничего плохого случиться с нами уже не могло. Рай этой защищенности был последним в моей жизни, но я еще не знала об этом. Сколько раз мне его будут показывать в снах! Моим многократно сновиденным, а значит, единственным, по–настоящему родным на земле домом осталась та панельная квартирка с двумя крохотными, согласно очередному эксперименту на выживание, комнатками окнами на север, со встроенными дээспэшными шкафами, с холоднющими, в сырых осклизлых трубах, ванной и туалетом, с гремучим раздолбанным лифтом за стеной, — квартирка, где до сих пор все полнится ее присутствием. Сейчас там живут чужие люди; проходя мимо того дома, я не могу избежать соблазна поднять голову и посмотреть на наш балкон. Хотя этого как раз делать и не следует; разве мои сны не свидетельствуют о том, что время, агрессивно навязывающее себя, словно пьяный хам в автобусе, — не линейно, и где–то там, в настоящем незавершающемся, продолжает мягко ходить по комнате в своих вязаных тапках бабушка Вера?
Свою внучку мать не навещала: разве могла свободная женщина, член профсоюза переступить порог дома, где нахально существовала тунеядка без трудовой книжки?
***
Зато порог дома стариков слишком часто, на мой взгляд, переступала третья жена моего отца; этот тип женщин при наличии некоторого воображения можно сравнить с коловраткой, или живой пылью, в изобилии обитающей в водоемах нашей родины и паразитирующей на тростнике. «Песнь об эмпатии Коловратки», возможно, еще будет написана каким- нибудь изобретательным поэтом, в мою же задачу такое легендарное деяние не входит. Отмечу лишь, что «коловратки», как правило, бывают вторыми или третьими женами и сами имеют в пассиве по два–три брака; когда мужчина, этот тростник, изрядно побитый жизнью, печально клонится под тяжестью обид, тут–то и подбирается к нему живая пыль. Внешность этих женщин трудно назвать привлекательной: цепкие и зоркие, несмотря на маленькие глазки, с обесцвеченными локонами, из–под которых выглядывают неряшливые темные корни, они и не нуждаются в каких–то там чарах, о коих пекутся рафинированные дамы, ибо природа сполна позаботилась об их, «коловраток», боевом оснащении. Они обладают выдающейся способностью имитировать эмпатию — способностью, посильной лишь профессионалам: священникам, психоаналитикам и проституткам. Не ведая сомнений, в любом возрасте лихо раскручивают демографическую спираль, если вдруг находится лох, готовый за все платить. Таким и оказался мой интеллигентный, инфантильный отец.
Вместе они смотрелись прекомично: миниатюрный, как японец, в джинсовом костюмчике отец (он уже был довольно преуспевающим адвокатом), от которого веяло не просто моложавостью, а какой–то безнадежной подростковостью, и объемистая лжеблондинка. Отдельные пряди на ее макушке были выкрашены в ярко–розовый, напоминая оперение ощипанной жар–птицы. Она выглядела его мамкой независимо от того, что, копируя его манеру одеваться, старательно втискивала свой зад в джинсы.
Женщина–ребро, женщина–зеркало, женщина–копия, не имеющая своего лица… И вот уже мужчина, ошалевший от самодовольства, чувствует себя Богом, лепящим собственное подобие. Разумеется, именно ее он и искал всю жизнь! Недаром она так на него «похожа»! А между тем, мартышкин прием, которым пользуется умелица, технологи по пиару называют, кажется, экранированием: по возможности точно копировать манеру поведения объекта. Повторять жесты, окончания фраз… Сегодня из нимфы Эхо получилась бы успешная содержательница брачного агентства.
Так можно ли уважать мужчину, который до конца жизни со стоном болтается убогим выкидышем на пуповине безмозглой, но «практичной» и цепкой мамки? Неужто настолько зудит хронический псориаз самооценки, неужто боится порфироносное мужское эго вдруг да и не встать рядом с равной ему по разуму женщины? Неужто честь для него — сиять светочем интеллекта на фоне планктона? Коловратка пленяет его «возвращением домой», но что есть тот «дом»? Включи же мозги, дорогой, догадаться нетрудно, что такое обратный путь к беззаботной жизни до рождения, сладость которой воспевает тебе эта ощипанная сирена.
А где же отец ее подцепил–то? Догадаться не трудно. Мой «уголов- ник» — отец (он специализировался, в отличие от адвокатов–цивилистов, на уголовных делах), фанатично погруженный в броуновское движение убийц и воров, как энтомолог в жизнь каких–нибудь чешуекрылых, цеплял баб, что называется, где стоял. Вернее, это они впивались в него мертвой клещеобразной хваткой. Вторая его жена служила буфетчицей в диетической столовой, где обедали районная милиция, адвокатура и суд; третья же… Муж Коловратки сидел. Старший сын сидел тоже. То есть они, конечно же, время от времени выходили подышать, так сказать, воздухом свободы, но вскоре садились опять. В последний раз Коловраткин супруг отправился за решетку за поистине легендарное деяние, перед которым меркнут такие фантастические поступки, как переплывание океана на льдине или переход пустыни без воды; исходя из этого случая, я даже думаю, что ученые не там ищут резервы человеческих возможностей. Сей тщедушный с виду гражданин, путем свободного доступа проникнув в садоводческое товарищество «Мечта» вблизи деревни Замужанье, обворовал два дачных домика, похитив при этом: немецкую металлическую печь, электрический самовар, два надувных резиновых матраца, электроплиту, дорожный велосипед, мойку из нержавейки, пружинный матрац, два настенных зеркала, телевизионную антенну, силовой кабель длиной 50 м, восемь стульев, пляжный зонт и шесть керамических тарелок. Вопрос о том, как одно человеческое существо, ограниченное во времени и не обладающее транспортным средством, оказалось способным на такой масштабный криминал, всерьез заинтересовал отца, хотя он и не был региональным представителем книги рекордов Гиннесса. Это было, безусловно, интересней, чем однообразные миграционные процессы (сел — откинулся — сел) в среде рецидивного элемента. Отец взялся защищать этого криминального Геракла и привлек к процессу в качестве свидетельницы его жену.
Предсказать дальнейшее было легко.
Кстати, муж Коловратки вскоре сел — благодаря услугам адвоката — на максимально возможный срок.
Итак, Антонина (имя Коловратки) взяла отца преимущественно эмпатией — именно этим термином именуют ушлые ловцы душ и кошельков свой служебный навык: умение слушать сочувственно, вдохновенно, как бы полностью перевоплощаясь в собеседника, чтобы у того, кто исповедуется, создавалась иллюзия, что он наконец–то нашел «родственную душу». Безошибочно вычислив, чего именно не додала жизнь этому конкретному (хорошо оплачиваемому) мужскому экземпляру, Коловратка принялась льстиво изображать восхищение (его умом и талантами), сострадание (его «мукам») и всячески превозносить себя, «добрую и понятливую», на фоне его предыдущих жен. На самом деле эмпатия Коловратки мало имеет общего с состраданием: это всего лишь великолепно отутюженный эволюцией инстинкт выживания. Такие дамы обычно водятся в сферах обслуживания (хотя встречаются повсюду); третья жена моего отца работала медсестрой в госпитале, и он был рад после красавицы, которая его не захотела, и пьяницы, которую не захотел он, обрести сестру милосердия.
К сожалению, получил он нечто принципиально иное.
Первое, на что положила глаз Коловратка, — это двухкомнатная квартира моих бабушки и деда. В ее коллективном сознании (планктон на самом деле обладает не индивидуальным, а коллективным разумом, — этот научный феномен еще ждет своих исследователей) созрела гениальная комбинация, которую она начала осуществлять, активизировав все свои способности: прописка у стариков ее незамужней сестры с детьми, которую следовало для этой цели как можно скорее выписать из деревни; скоропостижная кончина стариков — окончательное завладение квартирой. Но для этого следовало не выпускать родителей мужа из виду ни на час; проявив чудеса «коловращения», она уговорила соседку совершить с моим дедом обмен. Версия для публики звучала цитатой из знаменитой телепрограммы «От всей души»: «Дорогие мои! Я согрею вашу старость!»
Надо сказать — и вот она, сила воздействия живой природы, сравнимая с грозой, снегопадом, жарой, — и бабушка, и дед, не говоря уже о моем отце, совершенно подпали под влияние Коловратки. Помешивая поварешкой борщ, бабушка повторяла мне с гордостью: «Тоня называет твоего отца Са–а–шечка! Ты представляешь?! Са–а–а-шечка!» И мне вспоминалось, как она устраивала мне, пятилетней, допрос на ту же, очевидно, больную для нее тему наименований и плакала от обиды на мою мать. Мало же надо было моей бабушке: слова, а не сути, имени, а не поступка! Любимым ее высказыванием в тот период было: «Видела я Марысечку, видела я Зоечку, увидела и Тонечку!» Имена моей матери и второй жены отца произносились с максимальной степенью сарказма, на какую только была способна ее добрая натура. Что ж, мне оставалось готовиться к переезду в пригород, где обитала Коловратка.
Как и следовало ожидать, эта рисковая женщина, которой было уже за сорок, немедленно родила от моего отца, дабы стратегически закрепить взятую с боя высоту. Дети для «коловраток» — нечто вроде строительного раствора, который должен намертво сцементировать кирпичную кладку их гнездовья. (До тех пор, пока у деторождения не будет одна цель — деторождение, не придет счастливый род на эту землю; вот и младшая дочь отца, моя сводная сестра, едва оперившись, попала в плен наркотического кайфа, а затем и вовсе пропала). Моя бабушка, конечно же, согрела и эту малышку, утром отводила в детский сад, а вечером забирала. «Тонечка могла умереть в родах! У нее совсем плохо с почками!» — трагическим голосом пересказывала наивная Вера очередную хитрую выдумку Коловратки. При этом бабушка, чьи мозги, похоже, были начисто заморочены, словно бы забывала о том, что эта «мать–героиня» пренебрегла своими старшими детьми, не выполнившими возложенные на них функции гнездоустройства.
Не помню, кто автор забавной теории, согласно которой все женщины делятся на два типа: матерей и проституток. Сдается мне, автором ее мог быть только мужчина. Что ж, сочувствие лучших из мужчин с библейских времен было на стороне именно проституток. Это и понятно: проститутка выгодно оттеняет мужское благородство, проявляемое к ней, «падшей», а добродетельной да работящей — кто ж ей сочувствовать–то будет? Пусть и крутится сама, раз такая разумная. Гении русской литературы обессмертили тружениц панели, а с легкой руки одного из великих фраза «Она много страдала» превратилась в манифест отечественной давалки. И если простоватая Коловратка трудилась на батально–постельной ниве, так сказать, без затей, встречается разновидность предприимчивых дам, которые умело используют мужские предрассудки.
Во время учебы в университете мне довелось познакомиться с такой особой. Днем она работала в столичном Доме мод, но не моделью и не дизайнером, — она была, как это называется… подносчицей, что ли, — в ее копеечные обязанности входило приносить портнихам рулоны с тканью, а потом подбирать обрезки. По вечерам же эта дама занималась своим основным ремеслом. Свою неутомимую вахту она несла в нашем студенческом общежитии, в мужском блоке, одну из комнат которого единолично занимал черный, как земля, Эфити с Г аити (а может, Ананду из Уганды — не все ли равно?), а в соседней комнатушке кантовалось трое нищих студентов из стран социалистического лагеря, в том числе и мой будущий муж. В крохотной прихожей, где Эфити установил электроплиту, что, кстати, строжайше воспрещалось пожарными инспекторами, а также комендантами, дневным и ночным, — впрочем, правила те существовали для босоты, но не для платежеспособных угандийцев, — именно там, в процессе приготовления ужина, я взяла свое первое в жизни интервью у проститутки. Красиво пуская кольцами дым, она рассказала мне душераздирающую историю своих страданий: разумеется, она когда–то любила отечественного Колю (Васю?) и отдала ему цветок своей невинности, а потом этот Коля (Вася?) ее вероломно бросил. После этого несчастная заливала свое горе портвейном, забывала коварного в бесчисленных самцовских койках, но в итоге, исключительно по причине непреходящего страдания, оказалась в интернациональном блоке, где с утра раздавались бодрые ритмы африканского тамтама, а по ночам стенки между комнатами сотрясались от праведных трудов Эфити в том же ритме тамтама. «И теперь я, чем с нашим мужиком, да лучше с хромым ослом!» Однако при этом непрерывно страдающая жертва не забывала хищно, регулярно, педантично пополнять свой банковский счет.
Между прочим, после отъезда «хромого осла» на его жаркую родину эта дама надела хомут на осла отечественного (подвид «мужчина интеллигентный»), которому опытно развесила лапшу о своих непрерывных страданиях — и он поверил. Но даже если и не поверил: какая разница? Он разве лох какой — Льва Николаевича, что ли, не читал? Потом ему пришлось очень сильно попенять на «зеркало русской революции».
Возможно, кто–то обвинит меня в субъективности. А пишущий, по совместительству — живущий, и не может претендовать на всеохватность зрения, которой обладает лишь Единый в трех ликах. Знавали мы уже человеческие попытки объективности такого рода, например: председатель революционной «тройки»…
***
В это время деда свалил первый, довольно тяжелый инфаркт. Коловратка, подстегиваемая угрозой естественного уплывания из ее цепких ручек чужой собственности, бешено искала связи в исполкоме, куда уже были сданы документы на обмен. Моя дочь качалась в прогулочной коляске (на колыбель места не хватало) в крохотной спальне между кроватью и столом, на котором громоздились дедовы лекарства, детские бутылочки и мои учебники. Бабушка Вера, надо сказать, сбивалась с ног, бегая от малого к старому, поскольку я, презрев блага законного академического отпуска, вышла на работу да еще решила сдать экстерном экзамены за пропущенный курс. И вот тут–то с бабушкой, то ли от запредельной усталости (ей уже исполнилось семьдесят), то ли по иным причинам, стало происходить нечто невероятное. Это тихое, покорное, ни разу не повысившее голоса создание, излучавшее любовь и терпение, устроило бунт. Бунт тишайшего создания пришелся на время абсолютной дедовой немощи; теперь он был полностью зависим от нее, она же, сохранившая силы и, как мы ошибочно думали, здоровье, с автоматизмом заведенного механизма продолжала готовить, стирать, убирать, но при этом позволяла себе еще кое–что неслыханное: она заговорила. То есть она говорила не то, что все привыкли от нее слышать: «Возьми чистую рубашку», «Обед готов», «Выпей лекарство», а нечто абсолютно новое. Валаам, когда заговорила его рабочая скотинка, был изумлен, по–видимому, не меньше деда, коему эти речи были непосредственно адресованы. Я стала их невольной потрясенной слушательницей; вулканической лавой выходило на поверхность нечто немыслимое: идеальная для детей, внуков, родных семья вовсе не была таковой! Подступая к лежащему деду (одной рукой он держался за сердце, другой, дрожащей, пытался забросить в рот таблетку нитроглицерина), грозно возвышаясь над ним с правнучкой на руках, она с деланным сарказмом вопрошала, куда же подевалась его любовница. Та, с которой он ужинал в ресторане «Панская охота» и ездил отдыхать в Сочи, где она? Которую навещал по выходным, даже гуляя с внучкой — люди видели! Той, между прочим, он покупал золотые украшения, а у нее, у законной жены, полюбуйтесь–ка, люди добрые, — за этим следовало, к большому удовольствию младенца, переворачивание свободной рукой бедной бабушкиной шкатулочки с дешевыми побрякушками, которые ее внучки и племянницы превратили в игрушки, все парное сделав штучным, все непарное — располовинив; ту он одевал в меха, а у нее — распахивался настежь шкаф — одно самодельное! И это было правдой: все бабушкины одежки, вплоть до шубы и пальто, были сшиты, перелицованы, связаны ею самой, как и все скатерти, салфетки, шторы, покрывала, половички, тапочки, варежки, носки, свитера и куртки в доме. «Где же она теперь? — со злым торжеством, так не идущим ее добродушному лицу, вопрошала бабушка, сама уже держась за сердце. — Кому ты теперь нужен?!» Дед молча сыпал в рот таблетки.
Это было жестоко и не соответствовало действительности. Видела я, выходя на балкон, где, за неимением у бабушки сил, у меня — времени, «дышала свежим воздухом» в семь шуб закутанная моя дочь, видела стоящую под окном дедовой спальни одинокую фигуру, а потом соседка приносила в дом дефицитные лекарства и аппарат для измерения давления — тонометр, который достать в ту пору было едва ли под силу простому смертному. Но осудить бабушку я не могу. Сколько же десятков лет, забитых в глотку, как куски льда, она копила этот груз обид — столь горьких, что даже ее великая доброта не смогла их растворить?
Помню, как Коловратка на бабушкиной кухне учила свою сестру, толстогубую простоватую деваху, уму–разуму: «Аборт — и сейчас же! Пока срок не пропустила, дура! Ишь — рожать! А если его там убьют? Кому ты с хвостом нужна будешь?!» Речь шла о муже девахи, офицере, месяц назад отправленном в Афганистан. Младшая Коловратка тогда безропотно повиновалась, но с благословения мудрейшей целенаправленно зачала и произвела одного за другим двоих, когда муж вернулся в чине майора, с видеомагнитофоном и зеркальными очками корейского производства. Позже от бабушки я узнала о дальнейшей семейной жизни этой пары. Муж младшей Коловратки работал в другом городе, где и встретил свою любовь. Старшая (о гениальном инстинкте самосохранения этого вида я уже говорила) учуяла угрозу и подбила сестру выследить «негодяйку». «Представь, они приехали ближе к вечеру, позвонили в дверь, он, знамо дело, не открыл, ну они стали кричать, кулаками стучать, — спокойно, без эмоций рассказывала бабушка, и мне трудно было понять ее отношение к поступку берегинь нравственности. — Ну а мороз был — градусов под двадцать. Открывает, наконец, он им, Тоня по лицу его сразу поняла: та здесь, а потом и запах учуяла чужих духов… Квартирку–то он снимал однокомнатную — где спрятаться? Ищут–ищут, найти не могут, что за чудо, уже и в туалете смотрели, и в шкафу, и под диваном… Антонина–то и сообрази: шасть к балкону! И — настежь! А там — та, босиком, в норковой шубе на голое тело… Тут они ее за волоса–то и выволокли…»
Мне кажется, эту норковую шубу Вера присочинила для пущей яркости демонического образа разлучницы. От этой истории у меня до сих пор мороз по коже, но бабушка, бабушка! Почему, рассказывая, она так старательно отводила глаза? Она никогда не выслеживала дедовых любовниц, не интриговала в союзе с опытными фуриями в благих целях сохранения семьи. Лишь однажды был случай, о нем Вера рассказывала с трогательной гордостью. О том, как почтальонша по ошибке отдала ей телеграмму какой–то дедовой курортной пассии: «Деньги высылаю сама приезжаю среду тчк Раиса». И она в тот же день отбила ей ответную: «Деньги высылай сама не приезжай тчк Вера». Но в те дни ей чаще вспоминался послевоенный купейный вагон, мелькание фонарей в нефтяной черноте ночи… Они возвращаются домой из Москвы, красавец–офицер муж и она с детьми. У мальчиков от непривычных столичных деликатесов разболелись животы. «Разберись!» — бросил он ей, отправляясь пить шампанское в соседнее купе, а она всю ночь бегала то с одним, то с другим сыном в тряский туалет, всякий раз физически спотыкаясь о полоску света на полу возле неплотно закрытой двери, откуда тянуло дымком дорогих сигарет, раздавались женский смех и мужские возбужденные голоса.
О том, что муж ей неверен, она знала, конечно же, давно. Как и о том, что у той, другой женщины, растет сын от него. Но заговорила об этом, то есть позволила себе показать ему, что знает, лишь теперь, когда он уже не мог оставить ее. Возможно, так в ней проявился инстинкт не самосохранения — сохранения родового гнезда, которое было единственным в мире домом души для детей, внуков, племянников, — потому что она понимала, не могла не понимать: если бы она раньше устроила мужу сцену, он просто собрал бы вещи. Так что если и имел место поединок между дедовыми женой и любовницей, то это был, в противоположность коловраточьей расправе, бессловесный поединок фантастических терпений.
Мне трудно вообразить, как это бывает.
Молча терпеть тридцать, сорок, пятьдесят лет — срок, несоизмеримый даже с тюремным заключением! — чтобы отравить ядом упреков дни последней, мужней и своей, старческой немощи. И ведь она видела, что эти разборки на краю отпущенного им земного времени лишь приближают смерть обоих, но, по–видимому, ничего не могла с собой поделать. После таких сцен к деду обычно вызывалась «скорая». А утром на кухне, где жизнерадостно подпрыгивало на высоком деревянном стульчике дитя, бабушка сожалела о своей несдержанности и плакала: «А если вдруг он… я же не смогу без него!» Но там, где лицевыми и изнаночными петлями вяжутся узоры судьбы, проявили к ней милосердие, очевидно, поняв, что «тунеядка» устала больше, чем ее трудолюбивый муж.
Квартирка, куда после обмена перевезла стариков Коловратка, оказалась маленькой и грязной; типовой отечественный гарнитур «Ольга» не вмещался в габариты кухоньки, являя некий изъян в логике Системы, задуманной по принципу детского конструктора, все элементы которого обязаны подходить один к другому. В пригороде не было нормального продуктового магазина, а до ближайшей поликлиники надо было добираться с пересадками. Зато теперь все происходило под бдительным оком Коловратки, все шло по плану, помехой была только я — нежелательная конкурентка. Коловратка медлила, прицеливаясь, с какой стороны лучше подплыть к деду на предмет прописки. Но на сей раз чуткий, как сейсмограф, инстинкт подвел.
В тот день я собиралась на очередной университетский экзамен. Ночью опять была «скорая», деду лучше не стало, и сейчас бабушка Вера стояла в тяжком раздумье над стареньким телефонным аппаратом, выбирая между страхом за деда и резонным опасением, что в диспетчерской ее обругают. Я ничем не могла ей помочь, да и опаздывала на электричку; два часа спустя в старинной минской квартире–сталинке моя велеречивая преподавательница литературы, восторженно обмерев, поставила мне в зачетку высший балл.
Вернувшись, я застала бабушку в необычной позе: она полулежала в кресле. Моя дочь, которая еще не ходила, стояла рядом, держась за ее колени. Бабушка пожаловалась, что очень болит сердце. В это мгновение дочь, оторвавшись от кресла, сделала несколько неуверенных шагов на кривоватых ножках, обернулась и с любопытством посмотрела на нас. «Ты пробовала валидол?» — спросила я. «Смотри, Ирина пошла», — ответила бабушка. Стараясь не думать о привычном медицинском хамстве, я позвонила в «скорую». Усталый врач, взглянув на кардиограмму, сказал, что надо обязательно в больницу, а до машины надо на носилках. Бабушка посмотрела на врача с брезгливым удивлением, поднялась с кровати и, отстранив медиков рукой, направилась к двери, но в коридоре опустилась на табуретку. «Найду я в этой квартире сапоги или нет?» — с необычным для нее требовательным раздражением спросила бабушка. Я бросилась за сапогами, и, заглянув в зал, увидела, как моя дочь, в суматохе оставленная без присмотра, сосредоточенно топает по комнате хорошими, крепкими шагами. Бабушка с усилием встала и прошла мимо меня к выходу, не взглянув в мою сторону, не попрощавшись, словно шла за хлебом или молоком.
В ту ночь мне приснилось: я поднимаюсь по лестнице многоэтажного больничного корпуса. Стекло, кафель, запах хлорки. Голые окна. Беззвучие. Стылый неуют казенных пролетов. Безлюдность. Возможно, в отделениях мертвый час, а персонал пользуется лифтами.
Для чего я здесь? Кого пришла навестить, навеки опоздав?
Утром я отправилась зачем–то к матери. Дверь мне открыла сестра. «А твоя бабка умерла», — сказала сестра. Сказала с торжествующе–удо- влетворенной интонацией застарелой детской ревности. У нее такой бабушки не было. Теперь не стало и у меня.
Старик, младенец и женщина — мы осиротели. Внезапность беды оставляла надежду: то, что с нами происходит, — не взаправду. Думаю, когда дед, сев около телефона и поминутно забрасывая в рот таблетки, набирал далекие города и громко говорил срывающимся голосом: «Твоя мама умерла…» или «Твоя тетя умерла…» — в глубине души он не верил в то, что речь идет о Вере. А иначе почему ни разу не назвал ее имени? Умерла чья–то мать, сестра, тетя, но не его жена. Не моя бабушка. Ибо моя бабушка не могла вот так по–предательски разлечься посреди комнаты, бросив в раковине немытую посуду, а в ванне — замоченные детские штанишки. Моя бабушка не могла без нас! Спокойное лицо старухи с желто–синими страшными руками, связанными бинтом, которую обрядили в пошитое бабушкой к юбилейному дню ее рождения платье и, словно в насмешку, намазали губы свекольного цвета помадой, — это безмятежное лицо под варварским гримом было совершенно и обращено не к нам. Я вдруг поняла смысл стихотворной строки Пастернака, до того от меня ускользавший: «Лицом повернутая к Богу…» Я чувствовала ревность к этому Богу, забравшему у меня бабушку, обиду и гнев: время боли еще не пришло. На тумбочке лежало начатое вязание — спицы воткнуты в клубок, несколько петель спустились — и ее очки. Я механически их надела, чтобы довязать ряд до конца. Предметы расплылись.
«Вера меня опередила, без очереди влезла», — говорила моя деревенская бабушка Зинаида, обращаясь ко второй сестре Тамаре. «Она попадет прямо в рай», — убежденно отзывалась Тамара и крестилась на свечку в рюмочке с песком. Криминальный авторитет Петенька слонялся по квартире, в которой уже расположилась Коловраткина сестра со своими отпрысками, предлагал мне «перекантоваться» в какой–то воровской «малине» и вполголоса материл моего отца. Бабушкина племянница Нинка, ровесница моей матери, на кухне кормила с руки восемнадцатилетнего фавненка кавказской национальности, которого привезла с собой из Москвы. Чужие люди в полушубках топтались в прихожей, кашляли, ждали священника, священник задерживался, потом прибыл, близким родственникам раздали тверденькие от мороза свечи, батюшка торопливо бубнил, люди вокруг крестились, я не могла креститься, не могла смотреть на бабушку, воск капал мне на руки, я ничего не чувствовала…
В день похорон было минус двадцать пять. Лоно земли пришлось раздирать железом, как при трудных родах или хирургической операции.
В свидетельстве о смерти, которое и сейчас хранится у меня, сказано: «повторный инфаркт миокарда». А когда же был первый? Не могу вспомнить. Кажется, в кардиологии она не лечилась ни разу.
…Бабушка — говорила мне в детстве: «Сестра в пять лет умерла от скарлатины. Очень я тогда испугалась, прямо на кладбище сомлела. Не ела, не спала. Тогда мама придумала сказку, чтоб меня успокоить: живет, мол, в Москве Великий Иосиф, и есть у него машинка вроде швейной, с большим таким колесом. Умрет человек, Великий Иосиф крутанет свое колесо — тот и вскочит живехонек! Когда через год хоронили маму, я хваталась за гроб, не давала опускать, кричала: «Великий Иосиф, Великий Иосиф! Оживи мою маму!»
Великий Иосиф не помог, и бабушку опустили в стылую землю. И во мне все смерзлось в железный ком. На кладбище я не вытиснула из себя ни слезинки. На фоне тщательно продуманной истерики Коловратки это выглядело звериной черствостью. Родственники поражались моей неблагодарности. А на следующее утро ясный, как зимний день, и такой же холодный ужас жизни (ни малейшей надежды не оставляющий именно потому, что ясный и холодный) стиснул мне сердце до невозможности дышать. За одну ночь мое время из золотой лодочки, плывущей в Вечность, превратилось в смрадную тюрьму. Разве можно сравнить это с олитературенным до последнего удара пульса, а потому совершенно не страшным страхом смерти!
ОНО черное и заостренное, как достигающий звезд колпак карлика, попросившего у властелина асуров кусочек земли в три шага, а затем с дьявольским хохотом принявшего свой настоящий вид и в три гигантских шага накрывшего всю Вселенную. Через НЕГО совсем нельзя дышать, можно только слышать, как где–то рядом, на непреодолимом расстоянии вытянутой руки, монотонно шевелит плавниками будущее, точно рыбьи стаи о днище затонувшего корабля, в котором ты жадно глотаешь последние пузырьки воздуха. Начнешь задумываться о жизни и оказываешься словно бы в незнакомом городе, где на твое «который час?» встречные враждебно молчат, как будто каждый из них боится, заговорив, утратить человеческий облик. Кем они окажутся, когда примут свой настоящий вид: рептилиями? волками? обычными маленькими детьми, пугливыми и жестокими? С тех пор я так и не научилась жить среди них. Но приспособилась делать вид, что умею это. Возложила множество забот, словно камень сестрицы Аленушки, себе на грудь, как это делала ОНА. Бабушка Вера спасает меня и оттуда своим жизненным примером.
Дед Борис умер через два месяца после бабушки. Оказалось: это он без нее не мог. Был апрель, земля лежала расслабленная, готовая легко принять в себя и легко отдать. Когда мы ехали на кладбище на стареньком, выделенном автопарком ЛиАЗе, следом торжественно плыли такси, и в каждом горело по скорбному зеленому оку. Я не знаю, сколько их было. Прохожие останавливались, глазея на диво. Когда подъезжали к кладбищенским воротам, все водители одновременно дали сигнал. Пронзительный вой вспорол тишину, ударился о низкое замурованное небо и, не найдя ни щели, чтобы пробиться в обитель света, осыпался серой штукатуркой дождя.
Дед умирать боялся. Он глотал множество таблеток, заваривал какие- то коренья и часто перебирал маленькие, не больше спичечного коробка, черно–белые фотографии. Однажды в детстве, открыв ключом сервант в поисках лекарства для бабушки, я обнаружила эти бережно припрятанные, крепко пахнущие корвалолом снимки человека в военном френче, чей облик ни о чем мне тогда не сказал. А потом, когда я узнала, какому это солнцу тайно поклоняется дед, и высказала ему свое дерзкое подростковое негодование. Помню, как он жалобно защищал своего кумира, не отступая ни на йоту, словно умоляя: «Не трогай!» Сейчас мне стыдно за свою тогдашнюю наступательную категоричность. А тогда я считала, что он предает бабушку тем, что хранит портреты человека, полстраны сгноившего в лагерях. После бабушкиной смерти дед уже открыто носил снимки в нагрудном кармане вместе с таблетками, на ночь клал на тумбочку в изголовье, и я не препятствовала.
Великий Иосиф не крутанул колесо своей машинки, молитвы генералиссимусу не спасли от второго инфаркта. А я всей тьмой своего искаженного зрения с удивлением смотрела на деда: как он может бояться смерти? Если бы я в те годы была способна сделать вывод из бабушкиной пожизненной обиды, из дедовой растерянности перед небытием, тогда я, перескочив некую промежуточную стадию, немедленно стала бы тем, кто есть теперь. Но хитрая природа не позволяет октябрю прийти раньше апреля: она впрыскивает тебе под кожу наркотик любви, поит вином иллюзии, пока еще может использовать тебя для ее, природы, божественных детских игр. Но как только с этим кончено, одним холодным утром ты внезапно просыпаешься на обломках своей фертильности, лишенная всех роз и радуг, просыпаешься той бесполой «тварью», которая «ревела от сознания бессилья» в гениальном стихотворении Гумилева.
Христианский Бог оттого так многотерпелив, что понимает, какое это великое искушение и какая боль: родиться на Земле человеком. И это понимание Его не позволяет наступить возмездию немедленно по свершении нами всех наших гнусностей (не терплю фарисейское слово «грех»). И, заранее за нас болея, ибо, в отличие от нас, видя наше будущее, видя всю нашу жизнь со своей высоты, — а если бы мы все это Его глазами увидели, то жить бы уж точно не смогли, — Он за нас вместе с нами страдает и нас прощает. Бабушка была наделена состраданием Распятого, состраданием ко всем детям человеческим, состраданием, от которого и разорвалось в конце концов ее бедное сердце.
«За нас», «с нами», — что ты все про себя да про себя? «А она, она», — кричит во мне тонкий жалобный голос. У нее–то не было ничего «для себя»! Разве я, двадцатилетняя, вдруг получившая в жадные протянутые руки непомерную гору даров — молодости, свободы, неизвестного (эге ж…) будущего, вконец ошалевшая от стольких богатств, — разве могла я понять ее? Я просыпалась с легкой головой, я подводила глаза и сварганивала прическу, я убегала, звеня браслетами, туда, где меня ждали, а она оставалась дома готовить еду и мыть детские бутылочки, и ее прохладные вялые щеки, и сморщенные мочки ушей, в которых посверкивали единственные ее сережки — рубиновые капельки, и ее руки в гречневых пятнах вызывали у меня лишь одно желание: почаще смазывать свои лицо и руки импортным кремом, чтобы они никогда не стали такими. Мне казалось это естественным: ее абсолютная, полная жертвенность.
Да и что еще может делать со своей жизнью женщина, которой уже не нужно любви?!
Я ошибалась. Любовь была ей тогда необходима еще больше, чем прежде, ведь ее слабость с каждым днем возрастала.
В ее экспериментальном доме — во всех домах, где она жила! — были тесные и темные комнатки — настоящие каморки: сколько ни драй окна старой газетой, солнца больше не становилось.
Но она родила двух прекрасных сыновей! А дедов незаконный отпрыск ничего не унаследовал от его роскошной самцовской красоты: вот вам и дитя любви. Мне как–то показали его: ничего в нем, лысом, как колено, с покатыми узкими плечиками и гнилыми зубами, не оказалось от бабушкиных сыновей, густоволосых, белозубых. Говорили, что этот внебрачный сын переехал впоследствии куда–то в Евпаторию, сдавал отдыхающим комнатку, очень грязную и запущенную. Говорили еще, что имел он слабое сердце, как все дедово потомство, и был не чужд искусству: рисовал моментальные портреты курортников на залитой солнцем набережной. После первого инфаркта картинки забросил и занялся какими–то хитроумными дыхательными упражнениями, в которых достиг большего успеха, чем в малевании.
Вода без отдыха поит деревья, цветы и травы. Без нее они не могли бы расти. Нужна ли эта непрерывная работа самой воде? И когда она отдыхает? Детские, то есть самые серьезные, вопросы…
Мое тело — часть того мира, от которого я хотела бы зависеть как можно меньше. Тело мне даже не сообщник, а притворяется другом. Ему невозможно втолковать, что его хитрости напрасны. Нет способа достучаться, заговорить с телом и добиться взаимопонимания, его язык — не мой язык. Возможность прямого контакта между нами давно утрачена. Сейчас я научилась противостоять произволу этой биомашины, а в юности она управляла мной и творила, что хотела, да еще заставляла мой разум видеть сны наяву. Теперь этого нет, но тело с упорством механизма продолжает со мной свои игры, цикличные, как Вселенная. На каком языке возразить снегу или жаре? И я с улыбкой говорю телу на своем, иностранном для него, языке: «Больше ты меня не обманешь, я не попадусь в расставленные тобою сети, нежные, как прикосновение паутинки, и крепкие, как колючая проволока. Здесь, где человеческие ничтожества нагло уселись на загривок жизни, я не стану близоруко подносить к глазам твои волшебные стеклышки, по–детски воображая их вместилищем солнца. Я не стану во второй раз смотреть навеянный тобою дивный сон и не обреку на страдания невинное существо, вызвав его из золотой скорлупки Вечности. Женщина, став матерью, уже отдала свой голос за этот мир; она не может забрать его назад, не пожелав смерти собственному ребенку. Я не хочу больше невольно способствовать укреплению жестокости и лицемерия, которые творятся в мире именем всех матерей. Прилежный ловец жемчужин вселенской мудрости, я догадывалась, что когда–нибудь даже кассирша общественного клозета, похожая на старшую Мойру, грозная баба с пронзительно–кровавым облупившимся маникюром, особенно разящим в сочетании с перчатками, в которых для удобства счета денег отрезаны пальцы, откажется принять в уплату за свой сомнительной чистоты сервис те давно вышедшие из употребления тугрики. И поэтому вещество усталости, от которого кровь делается вязкой и медленной, откладывается на сосудах сердца, срывая его привычный ритм. Так, я больше не хочу никого вынуждать приходить в этот мир, смотреть грезы других спящих и притворно рукоплескать белым одеждам псевдозначительности, которые напяливают на себя хозяева жизни».
А если бы моя бабушка променяла свой честный ночной сон на подобные размышления? Лишись она иллюзий, только и делающих жизнь женщины выносимой, позволь себе проснуться, как ее слишком разумная внучка; начни она смывать с глаз сентиментальный кисель, который варится на крахмале традиций, устрой бунт против своей доли, рабской и убогой (безусловно!) и, устремляясь в пространства внутренней свободы, отбрось вместе с атрибутами суеты и свою внучку, просто предоставь меня моей собственной судьбе — что тогда? Вместо того, кто пишет эти строки, было бы другое существо: искалеченное и озлобленное; а может, я закончила бы свои дни еще подростком в сладостном полете с крыши многоэтажки или эмигрировала в веселую страну наркотического кайфа — кто знает? Из той любви, которую подарила мне Вера, я и появилась на свет, как из капель крови убитого Озириса выросли земные цветы.
Ее любви хватило и на мою дочь, ее правнучку.
Но разве стоит моя жизнь той цены, которой она была откуплена?
Римский стоик считал, что истинный человек добра рождается раз в пятьсот лет, как Феникс. Вот только временной промежуток, определенный воспитателем Нерона, вызывает у меня сомнение: земля, что лежит между Россией и Польшей, таких женщин способна рождать чаще, чем раз в полтысячелетия. Именно здесь они и приходят в мир: фениксы добра и запредельного, другим народам непостижимого, до хруста позвонков и крошения зубов, терпения.
А как же с наградой за сверхтерпение? «Она попадет в рай», — сказала Тамара. Думаю, мегаполис Рай давно перенаселен — не то, что во времена Адама и Евы. И потому тамошняя администрация вынуждена ограничивать прописку всяческих лимитчиков, а может, даже отселять вновь прибывающих за сотый километр. Резко уменьшить количество праведников на этой земле — тоже неплохой антикризисный ход.
***
Человек слишком поздно просыпается от золотого сна детства — поздно относительно краткости его земного срока. Проснувшись, человек видит перед собой ночь, похожую на огромное чернильное стекло. Далеко не у всех имеется просвет между тьмой золотой и тьмой черной; и если этот промежуток ясности зрения тебе дан (точнее — ты сама отвоевала его, сознательно отбросив иллюзии и усилием воли отодвинув наступающий мрак), хочется расширить просвет для идущих за тобой. Эта надежда никогда не сбывается. Каждое поколение начинает с начала, и люди обречены повторять все ошибки, совершенные до них.
Но я все же продолжу свой рассказ.
Теперь понимаю, что даже по советским меркам жили старики очень скромно; а учитывая, что дед был все–таки начальником, суровая простота их уклада и вовсе была загадкой для родственников: скромный комод, плюшевый ковер на стене, на котором бессмертные сородичи Актеона зависли в трагическом прыжке над артемидиным ручьем, телевизор — на нем стояли два величественных фарфоровых тигра с лицами фараонов, подаренные деду на пятидесятилетие коллективом автопарка. Родные подозревали экстраординарную страсть к накопительству. После смерти деда из разных углов «единого и могучего» слетелась родня, до этого известная мне лишь по открыткам: делить богатство. Приехала даже год не встававшая с постели дедова племянница из Тбилиси. Но делить оказалось нечего: старая мебель, чайный сервиз, ковер, телевизор, бабушкина швейная машинка, горка с никому не нужными стекляшками… Старики все отдавали детям, не оставляя себе ничего на черный день. Распоряжалась процессом дележки Коловратка. В итоге цирковых манипуляций с флаконом корвалола, истерических выкриков и угроз немедленно «уйти навсегда», которые могли обмануть лишь моего доверчивого отца, ковер с актеонами забрала местная племянница, чайный сервиз — племянница из Тбилиси, а все остальное поглотила Коловраткина утроба.
Следует сказать, что суперприза — квартиры — Коловратка не получила. Сразу же после смерти бабушки она принялась обрабатывать деда, чтобы тот как можно скорее прописал на жилплощадь давно запланированную деревенскую сестру. Дед же неожиданно заартачился: может, начал прозревать относительно характера невестки, а может, печалился сердцем о правнучке, которая уже обживала коленками и ладошками крохотную комнатенку под самой крышей рабочего общежития без удобств. Зато там разрешалось повесить книжную полку и можно было читать и писать ночи напролет, что и явилось главным удобством для ее матери. Коловратка гоняла моего оказавшегося подкаблучником отца в исполком, требовала «поднять все связи», изливала в атмосферу мегатонны яда, но тщетно: без согласия деда нельзя было сделать ничего. Грубое давление, безусловно, ускорило его смерть; старик так и не успел оформить свою последнюю волю по всем правилам советской административной казуистики, и двухкомнатный улов заграбастало своей вездесущей сетью государство. После этого пришла очередь моего отца свалиться с инфарктом: Коловратка таки отыгралась на нем за упущенный кусок пирога.
Мне, в дележке сознательно не участвовавшей, родичи доставили в казенный дом настольную лампу с желтым абажуром (при ее золотом свете мне и сейчас так уютно пишется по ночам!) да картонную коробку с семейными фотографиями: эти вещи никому не понадобились. Лучшего наследства, притом достаточно компактного, чтобы сопровождать меня в моих скитаниях по свету, я и желать не могла.
Через двадцать два года после тех событий я перекладывала старую коробку в другое место и нечаянно оторвала картонное дно, оказавшееся двойным. На пол упали неизвестные мне фотографии моей матери. По- видимому, их успешно прятал от глаз своих ревнивых жен, посвященный в тонкости криминальных тайников, отец.
«Моей матери», — написала я. Но хорошо знакомый мне образ и этот никак не совмещались. Не амбициозная эгоистка, сама Женственность взглянула на меня с тех черно–белых карточек. Брови–ласточки, предгрозовое облако темных волос, капризные пухлые губы, но главное — глаза, вернее, их выражение: мечтательное, доверчивое, беззащитное. Длинное светлое пальто с отложным воротником — и это там, где идеальной одеждой считается «немаркое». Одна ножка в модном ботинке с высокой шнуровкой грациозно отведена назад. Да ей, кажется, идет любой наряд! Вот, играя с младшим братом, выглядывает из–за забора, сложенного из плоской гальки, а улыбка! При нас, детях, она никогда не улыбалась, мы не были достойны ее улыбки, от которой, оказывается, сразу же вспыхивает, словно подсвеченное изнутри, пышное облако волос. Простой черный сарафан, тонкий кожаный ремешок вокруг осиной талии, тяжелые косы за спиной — сидит на прибрежном камне сама Ассоль, ожидающая свою единственную любовь; а вот, прижимая к груди букетик полевых цветов, склоняется в шутливом поклоне. И откуда у дочки пьянтоса–моряка такие позы? Крохотный букетик фиалок в волосах. А это уже в городе, в техникуме: модный джемпер с пуговками на плече, волосы забраны в тугой узел. Вот и фотография с экскурсии в Москве; на той, что хранилась у нас дома, мать сфотографирована сбоку. Здесь же она обернулась: детски ясный лоб, гладко зачесанные назад волосы, лакированная сумочка прижата к большому круглому животу. Отец со счастливым видом поддерживает ее под руку.
Так вот какой она была! И что же с ней случилось? Передо мной фотографии, сделанные после развода: возле подшефной школы, заводского клуба, на фоне цехов и лозунгов. Она пытается держать марку: высоко поднятая голова с модным начесом, в глазах целеустремленная непреклонность. Ее наивность — лакомая пища для вдохновителей ТВ и газет, задуривающих мозг штампами–образами: партийной активистки, простой свинарки, женщины с веслом, работницы и крестьянки; в команде обманщиков играют и ее хитрые подруги с их липкой дружбой, в первую очередь, названная в честь «Капитала». Мечты закончились; теперь она — разведенка с двумя малышками. Раздавленная неожиданным результатом, она просит других, «умных», научить ее жить. Но как ни старается вписаться в их ряды, в ней чувствуют чужую. На какой–то конференции ее посадили под огромным, в четверть стены, портретом Карла Маркса. Среди махнувших на себя рукой товарок с тройными подбородками и мужиков в мешковатых пиджаках она смотрится как чужеземная птица, случайно залетевшая в курятник. Новая модная стрижка «а-ля гаврош», глаза с французистыми «стрелками», короткая замшевая юбка — уже вызов. У нее крохотная, как у Золушки, ножка. Она всю жизнь страдала из–за неходового размера, но хрустальных башмачков на местном стеклозаводе не производят. Что ж, даже резиновые сапоги можно носить элегантно, держа при этом под руки двух явно нетрезвых охломонов в помятых шляпах и пальто. А этот снимок сделан на сельхозработах: склонилась над разложенным на газете все тем же нехитрым натюрмортом, сопровождавшим ее всю жизнь, как родимое пятно, — огурцы, селедка, самогон. Рожи мужчин и женщин, жадно хватающих руками еду, одинаково безобразны в своей тупости. На ней уже вытянутые на коленях треники, грязный свитер и уродливая, похожая на распухшего паука, мохеровая шапка — как у всех, как у всех, как у всех…
Быть как все. Повторять чужие жесты, старательно заучивать иероглифы очередного дацзыбао, и тогда тебе выдадут нужную бирку в скромно декорированном гетто, позволят быть инкубатором для двух слившихся гамет (изолятором для двух сумасшедших гамет!); а потом, когда у тебя окончательно отнимут волю, ты выйдешь из поезда на станции Маятник, — туда–сюда, туда–сюда, — но это будет все то же оцепенение, чтобы не помнить себя, все та же каталепсия.
Но началось с того, что она не захотела приносить себя в жертву, как делали ее мать и свекровь. Вздумала поиграть в варианты. Она же такая молодая и красивая! Найти свою любовь вместо того, чтобы жить с положительным, но нелюбимым мужем. Анне Карениной можно, а ей нет? Разве ее вина в том, что в ней от природы заложено больше жадной витальной силы, чем требует от нее существование в заданных рамках? Целый мир желаний разлагается в ней, отравляя кровь. Сжигать трупики убитых желаний помогает водка — это она хорошо усвоила по родительскому дому, да и в этих местах, где ей предстоит прожить всю жизнь, люди поступают точно так же. Ничего другого нет. Где набралась она этой дури: мечтаний о красоте? Вот она в своем светлом пальто с отложным воротником, в грациозных сапожках, за которые переплачено фарцовщику втридорога, идет на работу по окоченевшей ноябрьской листве. Ее голубые перламутровые клипсы конкурируют с небом (потом она спрячет их в шкатулку и уберет подальше). Ржавая перекрученная колючая проволока над бетонным заводским забором — о, каким бесконечным! — словно вздыбленная в агонии чешуя на спине мертвого чудовища. Ржавое «солнышко» решетки на окнах административных зданий. Два господствующих цвета: ржавчина и серость. За окном ее кабинета — отбеленная заводскими выбросами, когда–то голубая ель кажется уменьшенной копией вышки электропередач. Окно, в которое она смотрит, с обеих сторон зажато выступами стены, и поэтому взгляд упирается в кирпичный зарешеченный мешок. Щель почтового ящика, грубо изнасилованная толстыми скрутками газет. Ни глотка чистого воздуха, живого чувства. А как же любовник, которого она боготворит? Она наряжает его, как новогоднюю елку, в благородство и рыцарство, каковых за ним сроду не водилось.
А что же по воскресеньям? Непробиваемо самодовольные супружеские пары идут с сельскохозяйственного рынка, похожие на откормленных свиней. Вон и тот, который, хватив лишку на заводском сабантуйчи- ке, признавался ей в любви, вон он семенит за своей грозной коровистой «мамкой», преданно несет авоську с помидорами. В честном бою захомутавшие самцов жены злобно косятся на нее, вспоминая, в каком ящике стола хранятся партбилеты их дрессированных мужей. Система на их стороне: красота опасна, а потому нужно сделать всех одинаково уродливыми. В магазинах — длинные панталоны с начесом, серые пиджачные костюмы, ортопедическая обувь. Красота и притягивает, и отпугивает местных донжуанов: краснорожих вояк, пьяненьких работяг, громил из пожарной команды, потных строителей, гориллообразных электриков.
Не влезай — убьет!
Не разжигай!
Не дыши!
Другие не живут — и ты не смей!
Она продержалась дольше, чем эти «другие», уже после первых родов грубо оплывшие и покорно принявшие вид окружающего пейзажа. Возможно, она была более жадной к жизни, чем они, умерщвленные еще в колыбели. Она, как умела, противилась, не смогла смириться сразу; а потом, когда смирилась (а что ей еще оставалось?), вымещала горечь поражения на детях («Зла на вас не хватает!»). Была слишком эгоистична, чтобы дать отчаянию тихо тлеть внутри нее, постепенно превращаясь в рак матки или груди, как это происходило с другими женщинами городка. Ей требовалось распахнуть свое нутро, вывернуться наизнанку и залить своим отчаянием всех: в первую очередь — детей, а потом и тех, кто пытался под видом сочувствия устроить из ее несчастья распространенный аттракцион под названием «кому–то еще хуже, чем мне». Аттракцион, неизменно поддерживающий грошовую дозу оптимизма в тех, кому жизнь чего–то не додала.
Была ли она хоть немного счастлива со своим божком? Вряд ли, поскольку продолжала стыдиться своего тела, этого принадлежащего «обществу будущего» придатка, который имел достаточно развитые тазовые кости, чтобы рожать легко и безболезненно, но был, несомненно, виновен в ее беззаконных снах, напоминающих неприличные картинки из немецкого журнала, который приволок ей однажды Брюхатый. Те картинки она успела увидеть лишь мельком, поскольку демонстративно разорвала у него на глазах вражеский глянец, как и подобает партийной женщине.
«Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу». Она тоже хотела выбрать для себя. Ей показали ее место.
Как это? А вот так: мой умный, образованный отец, отстрадав сколько положено, по своей первой невзаимной любви и будучи вольной птицей и в матримониальном полете, во всех (всех!) черновых, неудавшихся семьях покидал не только жен, но и детей, мальчиков и девочек. Бросал с концами, так топят следы преступления в болотной жиже: ни звонка дитятку в день рождения, ни встреч по выходным, и лишь бабушка Вера своей бесконечной любовью выплачивала те долги за сына; при этом отец считался в провинциальном социуме достойным человеком и сделал великолепную карьеру. И точно так же поступал отец моей сестры, и сотни других мужчин. А моя мать? Какой «полет» оставался ей под нашими с сестрой взыскательными взглядами исподлобья?
Ты что, вчера на свет родилась? «Женщину, религию, дорогу» выбирают только мальчики, для девочек и стишка соответствующего нет. Мальчики могут сами выбрать вариант контрольной работы по предмету под названием «жизнь», девочки должны тихо ждать, пока учитель соизволит ткнуть в них указкой. Вот, дети, типовой набор вариантов для девочек, что вам достанется — не ваше дело: а) неработающая домашняя хозяйка (редкость); б) работающая домашняя хозяйка; в) мать–одиночка; г) партийная активистка.
Она попробовала все роли, кроме первой. Возможно, потому–то ей и казалось, что в недосягаемом для нее положении свекрови заключено некое небывалое блаженство. Никто не взвешивал чужих крестов; ей ни разу не пришла в голову эта простая мысль. Ей выпал наиболее типичный в провинции вариант «в». В качестве дополнительного задания к контрольной работе (успевают сделать только отличницы) — стандартные потуги ощутить, что ты все–таки не полностью превратилась в бессмысленный, отупевший от грошовой службы механизм: принять отца своей младшей дочки, забежавшего из новой семьи (и кто он ей теперь — муж, любовник?), потом долго стоять под душем, смывая липкий мужской пот предательства. Чувства зрелой женщины — это адская смесь из модельных сапог, которые к вечеру уже не застегиваются в голенищах, отеков, возникающих от передозировки импортных ночных кремов; а у любовника дома имеется собственный агрегат, генерирующий женские гормоны в опасной для его здоровья концентрации, для него и это чрезмерно. Что ж, осознание своей ущербности без мужчины как раз и есть прямая от него зависимость, хоть она и считается самостоятельной женщиной, способной содержать себя и дочерей.
А что же еще, дети, преподается в той школе–то, а? Да нехитрая наука: минимализм желаний. Единственный способ получить хоть какое–то удовольствие от жизни при рабской доле. Встать в полшестого. Выпить чашку кофе (она заваривает кофе так, что ложка стоит в гуще). Кофе и шоколад — нехитрые антидепрессанты в краю, где хронически не хватает солнца, а оттого у всех от рождения серотониновый голод. Путь на нелюбимую работу спиной к спине в тряском автобусе, саму работу и, с заходом в гастроном, обратный путь опустим. Дома с удвоенным остервенением мыть полы, готовить еду, орать на детей. И, наконец, заслуженная награда в конце трудового дня — выпить чашку чаю с припрятанной плиткой шоколада… Что–о–о?! Кто из вас, сучонки, сожрал шоколад?! Да пропадите вы обе пропадом! Да когда же вы, наконец, уберетесь из моего дома?! Да когда же я, наконец, сдохну?!
Три десятилетия тратит человек на то, чтобы выгрызть себе минимум житейских благ. Выгрызает. Ну и? Теперь он (из–за возраста, нажитых болезней) прикован к заданным обстоятельствам прочнее, чем шуруп, загнанный с размаху молотком пьяного слесаря. Но одна–един- ственная точка и загнанность человека в нее и есть прообраз смерти. Так формулировать свои мысли она, конечно же, не умеет, да и боится так чувствовать. Поэтому гонит от себя прочь горькую догадку, предпочитая оставаться полуслепой. Но горечь возвращается снова и снова — тупой тоской калеки, страдающего от фантомных болей в культе. Она делит сумму прожитых лет на ноль шансов найти в этой жизни саму себя и получает в итоге бесконечность разочарования. И от того, что все вокруг старательно делают вид, что «нам счастье досталось не с миру по нитке», пытка не до конца понятного ей самой отчаяния еще сильнее. Нет, она вовсе не хочет отличаться от других — она, половину жизни положившая на то, чтобы соответствовать! Но подражание плакатным образцам больше не спасает.
Фотография с какого–то заводского застолья. Ей лет сорок пять: в толпе танцующих фотограф навел резкость на нее одну — опасный эксперимент. Полные, очень белые руки, стиснувшие голову, искаженное гримасой отчаяния лицо состарившейся нимфы…
Декольте, туфельки на каблуках, вельветовая юбочка. Партконференция, вакуум–аспирация, уксусная эссенция. Воодушевление, разочарование, депрессия. Водка, тазепам, сигареты. Ранний климакс, дряблая кожа шеи, одиночество. Вот и все, нехитрая женская программа выполнена. Что дальше? Все. Все?! Ну да, а ты чего хотела? Еще осталась пенсия со своим типовым набором: варикоз, остеохондроз… метампсихоз. Старость не приносит ни мудрости, ни умиротворения, лишь ядовитую зависть по отношению к тем, кто молод и еще может прожить свою жизнь как–то иначе. Вот только как это — иначе? Об этом в сентиментальных книжках и фильмах ничего не сказано, а государственные бонзы, точно попугаи, перенимают один у другого заученные песенки.
Под поезд бросаются только в романах. В жизни ты продолжаешь все это, даже если тебя давно нет. «Кончена жизнь», — говорит мать, с ненавистью глядя на нас, дочерей. Мы с сестрой поедали, как гусеницы, зеленый листок, ее единственную жизнь. Мы не были в этом виноваты. Фатальные враги (или друзья по несчастью), спутницы по навязанному кем–то безрадостному маршруту.
В одно из тех редких мгновений, когда она не молчала, сжав губы, и не кричала, в одно из тех, повторяю, крайне редких мгновений она призналась мне: в школе, в эвакуации, ее главным страхом был гардероб. Не война, которая шла где–то далеко, а закуток со множеством железных крюков, где она постоянно что–нибудь теряла: то голубой шарфик, то варежки (за что бывала нещадно бита своей матерью). Догадывалась ли она, что эти потери были лишь предвестниками грядущих утрат? Кто–то носил голубую утреннюю тень ее последнего довоенного лета, донашивал узорчатые варежки, и она замирала от нехороших предчувствий: если этот дьявольский ветер потерь станет дуть непрерывно, что останется от нее? У нее есть тело, но принадлежит ли оно ей? О душе и вовсе говорить не приходилось, у души обнаружилось вдруг множество хозяев, начиная от гипсового болвана в пионерской комнате до учителей, комсоргов, партогов, которые нахально черпали шеломами неисчислимой рати ту живую сверкающую среду, в которой ее душа резвилась, словно маленькая рыбка, словно будущий ребенок в околоплодной жидкости, — ее время. Ее прошибал пот от мысли, что в толкучке и тесноте гардероба кто–то по ошибке заберет ее пальто, и ей придется влезть в чужую вещь, как будто вместе с одеждой ей могут подменить судьбу и выдадут не ту, которая ей предназначена. Она будет жить чужой жизнью и сама не будет понимать, что с ней не так. Этот навязчивый страх вернулся через несколько лет, в техникуме: она панически боялась перепутать свое пальто с таким же самым ее сокурсницы Иры по прозвищу Ириска, дочери продавщицы из продмага. Некрасивую девочку с ее судьбой, торчащей за плечами, словно горб, она не раз видела в магазине, где та помогала своей матери.
Хочешь, Ириска, расскажу, что будет дальше? Ты закончишь техникум и сядешь за кассу, скорей всего, в этом же гастрономе. Мимо тебя будет ежедневно течь бесконечная серая река покупателей, обтекая с двух сторон твою кассу, и так же незаметно будет течь время. Вон я стою с пакетом молока в длинной очереди в кассу, что справа от твоей, гляжу на кассиршу — твою товарку — и вижу тебя через десять лет: уже расплывшуюся, с маленькими злобными глазками. У тебя двое сыновей, муж–работяга на химкомбинате, тебя поколачивает, — а где, кстати, твои передние зубки, Ириска? Заведующая магазином, прекрасно осознавая твою беспомощность, заставляет тебя регулярно перерабатывать, и ты терпишь, потому что другой работы в городке нет, да и к дому близко, а младший, паразит, уже нюхает клей. Теперь я перейду к кассе слева от твоей (там очередь поменьше) и в кассирше снова увижу тебя, но уже через тридцать с лишним лет, перед пенсией: злобная растрепанная бабища с лицом в багровых прожилках, старший сын в тридцать пять — спившийся инвалид, у младшего третья ходка в ЛТП. А потом у магазина будет юбилей, заведующая позвонит в местную районку и заискивающим голосом зазовет корреспондента, и он придет, и заведующая, проведя его по торговому залу, ради этого случая образцово–показательному, ткнет в тебя маникюром: «Вот наш ветеран труда!» И он станет задавать тебе вопросы. И тебе нечего будет сказать, кроме одной фразы, которую ты будешь тупо повторять в диктофон: «Да… сорок лет… вот за этой кассой…» Ты усердно наморщишь лоб, пытаясь вспомнить хоть что- нибудь, но вспомнишь только засаленные бумажки дензнаков, и серую, без лиц, толпу, текущую мимо тебя, огибающую тебя, как река — сгнившее бревно. И озадаченный корреспондент при всей своей лихости сможет выжать из себя только десять строк, заключающих в себе всю твою скудную биографию, десять строк, набранных на первой полосе газеты под твоим одутловатым портретом; если отойти подальше и взглянуть на тот жирный шрифт, он покажется сплошной горизонтальной чертой, вроде прочерка, который ставят между датами рождения и смерти.
Так что же, страх моей матери сбылся? Ей подменили судьбу?
Ведь ей было назначено совсем другое, когда она, сидя на валуне и целеустремленно вглядываясь в морские волны, мечтала о любви…
Но ведь я, я любила ее! Любила как никто в мире и бешено страдала от ревности, потому что ее не интересовало ничто, кроме горечи ее несбывшейся жизни, горечи, которой она отравила наше детство (только к яду мы с сестрой оказались чувствительны по–разному, как, впрочем, и бывает у разных организмов). Разве могло удовлетворить ее жажду обожание рожденного ею существа? Во мне она с отвращением видела саму себя. А именно себя–то и приучена была ценить «дешевле всего», оттого так яростно искала подтверждения собственной значимости то в брачных играх, то в социумных бирюльках.
Не нашла, да и не могла найти.
Кто научил ее голыми руками тянуть нить из костра? Может, ее собственная бабушка? Пряди свою пряжу, внучка. Но я же сгорю! Не сгоришь, а если и обожжешься, это ничего, заживет. Огонь ласкал ее ноги и бедра, а она пряла и пела высоким голосом от боли, ведь когда у тебя нет других способов почувствовать, что ты живая, единственным способом становится боль. Правда, от слишком сильной боли наступает все та же оцепенелость, и в конце концов вовсе перестаешь что–либо чувствовать.
Из огненной пряжи ее старшая дочь, которая искала любовной зависимости, но слишком дорожила своим одиночеством, выткала мужскую рубаху. Но подарить ту рубаху оказалось некому, и она стала носить ее сама.
***
Недавно на одном из американских сайтов по гелиосейсмологии я увидела изображение Солнца. Половина светила была синей, половина — желтой, точь–в–точь как на моем детском рисунке. Сообщалось, что ученые разработали метод наблюдать за тем, что происходит на темной стороне Солнца, и даже предсказывать, какая там будет погода. Я очень рада за американских ученых, для которых Солнце — всего лишь пылающая гелием звезда, распространяющая рентген и ультрафиолет в межпланетном пространстве.
Но мне по–прежнему кажется: на обратной стороне стоит нетронутая тишина только что выпавшего снега. На той стороне Солнца живет Тот, Кто давно не смотрит на нас. Что мы прочитаем в Его глазах, когда Он обернется? Презрение? Гнев? Эмпатию? Или равнодушие белого, нетронутого снега?
А пока моя дочь продолжает анализировать структуру планктона (Rotifera), ассоциированного с тростником (Pragmites australis), — именно из этого научного исследования я почерпнула имя для своей «отрицательной» героини. «Ты не точна в определениях, — замечает дочь. — Коловратка для тростника не паразит. Это называется комменсализмом живых организмов». Пусть так. Я не стану спорить с моей разумной дочерью. Лучше я сниму с книжной полки блокнот с атласной, экологически чистой белой бумагой. Этот блокнот сестра привезла мне из Парижа. Привезла два года назад. До сих пор я не осмелилась что–нибудь написать на этих шикарных страницах. Именно сейчас я сделаю это, преодолев комплекс национальной неполноценности.
«Возможно, мир стоит на комменсализме живых организмов, одни из которых со вкусом пожирают других, а тем, другим, от рождения назначена роль жертв», — напишу я. (Пока со мной была бабушка Вера, я твердо знала: мир стоит на любви). Я хотела бы жить вдали от его трубящих горнов и скрежета челюстей, ведь только на обочине растут простые и добрые цветы: ромашка, пастушья сумка, цикорий, которые так любила она. Мой труд неблагодарен, как и ее труд, и мое слово, написанное на ее родном языке, неслышимое грохочущему миру, уходит, как вода, без отклика в эту оглушенную землю, поит ее деревья, цветы и травы. Хватит ли мне любви до конца моего земного срока, чтобы противостоять той силе, которая сожрала жизни дорогих мне женщин, а теперь пытается уничтожить мою, той силе, которая превращает мир в гекатомбы и устанавливает длину прокрустова ложа, чтобы отрубить
в конечном счете и голову, той силе, в безликую фатальность которой я не верю? Но, может быть, я ошибаюсь, и это всего лишь сила энтропии, приводящая все к единому знаменателю: живое — к застывшему, каталепсию — к смерти.
На моем рабочем столе рядом с компьютером — одна из унаследованных мною фотографий. Это место называется Пески; наша река, совершающая здесь плавный изгиб, похожа на зеркальное дно огромной чаши, краями которой являются высокие, покрытые чистейшим белым песком берега. Кроны сосен создают узорчатый край чаши, почти уже сливающийся с небом. Сосны отбрасывают длинные тени на крутой берег, тени тянутся к самой воде, где влажный песок становится медовым, а потом переходит в чистое светлое дно. И вот чуть дальше этой отмели, ближе к дну чаши на воде покачивается лодка с широкой полосой по борту. В ней сидят мои молодые родители и бабушка, а дед, лихо зажав в зубах папироску, бредет по воде, толкая лодку все дальше и дальше от берега. Моя красивая мать поправляет прическу, на коленях у нее лежит букет только что срезанных кувшинок. Бабушка в простом ситцевом платье с повязанной вокруг головы косынкой не сводит озабоченных глаз с кормы, где мой загорелый отец держит на коленях девочку, очень похожую на него, одетую в матросскую рубашечку и белые сандалики.
Я хотела бы знать, куда плывет та лодка.
Перевод с белорусского автора.





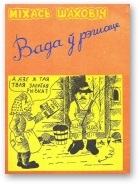

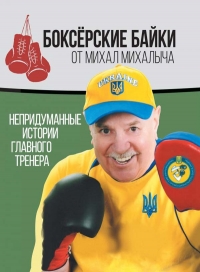

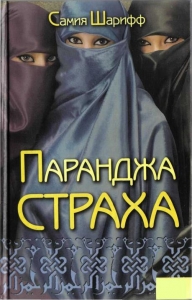
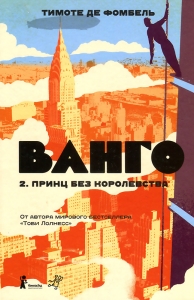
Комментарии к книге «Рай давно перенаселен», Алена Валерьевна Браво
Всего 0 комментариев