Кешка очнулся от дурного сна и предчувствия каких-то изменений в мире. Дрыгнув ногой, он сбросил с себя ворох старых фуфаек и пиджаков, которыми укрывался. Сел на раскладушку и болезненно дернул кудлатой головой, взбалтывая застоявшиеся за ночь мозги. Но от этого в голове не прояснилось, там по-прежнему — плотный, колючий туман. Утреннее состояние для бича вполне привычное — оно побуждало не к бесплодному самосостраданию — его ум и воля подчиняются одной цели: раздобыть любое бухло и вырвать бедовую головушку из тисков похмелья.
Не тратя времени на мучения совести, Кешка сунул цыпастые тощие ноги в безразмерные ботинки без шнурков и пинком распахнул дверь котельной. По привычке сиганул через высокий порог, и правый ботинок «с головой» ушел под воду. Наличие лужи перед порогом было для Кешки полной неожиданностью.
— Бляха-муха! Я балдею! — изумился он, ошалело оглядываясь по сторонам.
Нагло, не спросив его, Кешкиного соизволения, в Жаксы ворвалась весна. Из-под грязных сугробов выстрелили ручьи, понеслись вниз по улицам поселка, мимо претенциозного торгового центра к убогому вокзальчику и дальше, к искусственному степному озерцу, сотворенному полстолетия назад руками врагов народа; по пути следования ручьи сливались, образуя бурные и мутные потоки, в которые закручивался прошлогодний мусор: солома, щепа, бумага и бог весть что еще.
Это апрель. Обычный апрель в тургайских степях. Сразу зло, жарко загорается солнце, и через дней десять о буранной, лютой зиме будут напоминать разве что бурые латки снега на южных склонах балок.
Кешка неуклюжим воробышком перепорхнул через лужу, вылил из ботинка воду, подпрыгивая на одной ноге, несколько секунд с недоумением рассматривал свою обувку, словно в облезшем, убогом ботинке мог заключаться какой-нибудь жизненно важный смысл. И все же в его гудящей с похмелья голове родилась мысль о том, что пора сменить ботинки на резиновые сапоги, которые он предусмотрительно отыскал на мусорной свалке. Сапоги не ахти какие — с дырочкой у щиколотки. Нужно будет обходить лужи. А зачем ему в них лезть, спрашивается? Кешка давно уже не пацан, чтобы с телячьим восторгом скакать по лужам.
— Лужу меряешь, голубь сизый? — подколол Кешку Сашка-кочегар, с настроением кативший пустую тачку от шлаковой горки.
Сашка, Сашок — так и никак иначе звали в Жаксах этого сорокапятилетнего белобрысого мужика. Причиной тому, видимо, были его синие, по-детски невинные глаза и незлобивый характер. Кешку болезненно поражало Сашкино «фраерство» — этим словом он называл умение кочегара поддерживать интеллигентный форс среди угольной пыли и копоти. На Сашке всегда была чистая сорочка, выглаженные брюки. И еще — вымытые руки с длинными, изящными пальцами, будто он работал не кочегаром, а пианистом в областной филармонии. Кешка не больше трех раз в день выползал на свет божий из опрятной Сашкиной «конуры» и вымазывался так, что его можно было принять за шахтера, поднимающегося на-гора после смены. Впрочем, у Кешки, в отличие от кочегара, не было даже сменной рубашки.
— За утро, что ль, развезло? — продолжал поражаться напору весны Кешка.
— За утро, голубь! — Сашка улыбнулся. Бережно приставив к стене тачку, он вытащил из кармана пачку «Астры», закурил. — Чего квелый?
Кешка взглянул на него, как на душевнобольного.
— Спрашиваешь, бляха-муха! Чан разваливается!
— На столе под газеткой стакан бормотухи. Поди полечись!
— Свистишь? — не поверил Кешка, а когда понял, что Сашка не шутит, без лишних слов рванул в кочегарку, не обращая внимания на лужу и на отстающие от его ног ботинки.
Через несколько минут он вышел на улицу уже в сапогах и относительно счастливый. Попросив закурить, снял с себя грязную фуфайку, расстелил на шлакоблоке, сел. Глубоко затянулся, щуря на солнце серые прояснившиеся глаза. Сашка с необидной усмешкой и с интересом смотрел на своего сожителя, будто впервые видел его. Длинные русые волосы Кешки сбились в колтуны, и немудрено — он не имел расчески. Не было у Кешки и бритвенного прибора, отчего впавшие щеки и острый подбородок его заросли дикой щетиной. Невысокий и худой, теперь еще и сгорбившийся, он походил на подростка, сбежавшего из детского дома.
— Где взял с утра, Сашок? — спросил Кешка ради спортивного интереса.
— «Де взял, де взял» ?! Купил! Пока ты дрых, я у Нюрки в «Сельхозпродуктах» выдурил. Ломалась, стерва: до одиннадцати, мол. Но дала.
— В долг, что ли?
— Ты что, очумел вчера? С твоего червонца осталось. И на курево хватило. — Сашка сходил в котельную, принес табуретку, сел напротив Кешки.
После нескольких минут молчания Кешка, скривившись, будто кольнуло у него под селезенкой, сказал:
— Вспомнил! Я же, бляха-муха, вчера сортир в типографии чистил. Заведующий, Мажит, щедрый. Потюкал полчаса — червонец на лапу.
— Оттого щедрый, что некому, кроме тебя, тюкать!
— Фуфло не гони, Сашок! Это калым — что надо! Зева дашь— Булат Длинный перехватит.
Сашка добродушно усмехнулся.
— Я и говорю, что, кроме тебя да Булатки, в Жаксах золотарей не осталось.
— С кем ты меня сравниваешь?! — завелся Кешка. — С Длинным? Это же дерьмо собачье! Я с ним на одном километре не сяду. Он не бич, он, сука, в кафе ошивается, недоедки подбирает! Вчера, пока заврайоно за компотом ходил, он у него шницель спер.
— А я и не сравниваю. — Сашка лениво, как кот на завалинке, млел под солнцем. — Ты с голоду сдохнешь, а объедков не возьмешь. Одно слово — благородный бич!
Кешка расчесал грудь под грязно-серым свитером прямо через прореху, словно сам прорвал ее для удобства. Он не понял: с одобрением или осуждением сказал это кочегар.
— Обидно Сашок. За бичей обидно. Какую только шваль, вроде Булатки. к нам не причисляют! Возьми ворюгу того... как его? Ну... что овощной ларек накрыл...
— Ты о Вездеходе?
— О нем. Ты хоть знаешь, откуда у него кликуха такая?
Сашка равнодушно пожал плечами.
— А что ты знаешь, бляха-муха?! Машине-вездеходу любая грязь — до фонаря. И ему тоже. Бутылки по всем парашам собирал в любую погоду. Один раз, бля, за пятнадцать километров стеклотару пер. Кто его видел хоть раз без мешка?
— Не припомню. — Кочегар зевнул. Разговор с Кешкой его мало интересовал, и участвовал он в нем лишь потому, что утро выдалось замечательное, и дел особых не было.
— Слышь, ведь и его бичом называли, как порядочного. Свалили в одну кучку Мурку и Жучку! Толковый бич никогда не украдет, не обманет, не падет до попрошайничества. Он — свободная личность.
Сашка засмеялся, как в Жаксах может только один он — светясь изнутри.
— Ну заливаешь! Как их называть-то? На себя посмотри, толковый! Бутыль со спиртом в ветаптеке спер? — Кочегар начал загибать пальцы. — Директора общепита с ремонтом наколол? У замредакторши трояки клянчишь? Вот и вся твоя свобода.
Кешка в возмущении сорвался со шлакоблока, уронив на землю фуфайку.
— Бляха-муха! Не равняй кой-чего с пальцем! Спирт Мукан, что ветаптекой заведует, по пьянке в лесопосадке забыл. Он же, падло, меня смеха ради накачал и бросил среди акаций и фиников.
— А я слышал, что ты во время застолья спирт увел. Они тебя потом, как зайца, по лесопосадке травили, да не нашли.
— Не было такого — век бормотухи не видать! — поклялся Кешка.
— За что же тебя Мукан с Сериком били?
— Это национальный вопрос — не для твоего ума.
— Ну ладно. А общепит?
— С общепитом опять же стечение обстоятельств, грипп, подлюка, осложнение дал. Думал — парализует
— А на шабашке у армян паралич работать не мешал?
— Бляха-муха! — рассердился Кешка, артистически воздев руки в небо, как жрец Солнца. Ты чисто баба жаксынская! Насобираешь сплетен полон короб и загоняешь по рублю штука!
— Может, и про замредакторшу сплетни?
— Брехня, понятно! Я у нее в долг беру.
— А когда в последний раз отдавал?
— Осенью, — ответил Кешка и, предупреждая Сашкин смех, заверил: — Но ты не боись! Пошабашничаю летом рассчитаюсь. Ей не привыкать.
От второй подряд сигареты, выкуренной натощак, Кешку начало тошнить, выворачивать внутренности, а блевать нечем было. Наконец накашлявшись до слез, побуревший лицом, он со злостью швырнул окурок в лужу.
— Бляха-муха! Из навоза эту «Астру» делают, что ли?
— А ты не кури натощак.
— Ладно!.. — отмахнулся Кешка. — Пойду по поселку прошвырнусь. Может, надыбаю чего, а то кишка с кишкой перестукиваются.
— Ступай. А я пока картошечки в мундирах отварю, — согласился кочегар.
— Не вздумай слопать без меня! Авось на бормотуху у замши своей разживусь.
Кешка сменил фуфайку на старый милицейский плащ без погон, который подарил ему прошлой осенью сердобольный начальник медвытрезвителя, лейтенант Пашкин, и без внутренних сомнений взял курс на редакцию районной газеты.
В Жаксах его звали Кешкой, или Кешкой-бичом, даже не задумываясь о том, что у него есть фамилия, имя, отчество, любой жаксынец удивился бы, если бы вдруг у Кешки-бича оказалась какая-нибудь пристойная фамилия, да еще с именем-отчеством. Есть на свете вещи, которые не могут называться иначе, как столб или лужа, ибо кто додумается первый именовать лесом, а вторую — морем? Но Кешка-бич не рождался Кешкой, когда-то он был Геннадием Михайловичем Мануйловым. Пристойность и благозвучие этих трех слов больше всего поражали его самого, он с трудом убеждал себя, что они, эти слова, каким-то образом относятся к нему, как и то, что ему тридцать лет и по национальности он русский. Не имело бы для него значения, если бы он вдруг оказался евреем или казахом, эскимосом с Аляски или негром из Сенегала.
Кешка не очень расстроился бы, вдруг узнав, что ему сорок или пусть даже сорок пять лет.
Разве это он когда-то давно — и вспомнить даже трудно — возглавлял спорткомитет в задрипанном районном городке и по понедельникам приходил на планерку к председателю райисполкома в отглаженном костюме, накрахмаленной рубашке и галстуке? Разве у него была красавица жена Вера и мальчуган, только-только выговаривающий первые слова? Он ли мечтал о квартире со всеми удобствами?
Соединить себя, Кешку бича, и Геннадия Михайловича Мануйлова представлялось ему по меньшей мере кощунством. Невозможно есть сахар с солью, видеть день и ночь одновременно, слышать абсолютную тишину в грохочущем на стыках поезде. Но откуда он знает о накрахмаленной рубашке, красавице Вере и смешном бутузе Вовке? Может быть, все это рассказал ему в жаксынской закусочной подвыпивший председатель райспорткомитета?
Он не представлял себя Мануйловым, но ему изредка снилась жизнь Геннадия Михайловича. Во сне он видел обнаженную Веру, он обнимал ее и целовал, не чувствуя при этом неловкости, которую всегда испытывал, сближаясь с другими женщинами. Он ласкал ее большую и по-девичьи упругую грудь, касался поцелуем ее сосков, и у него появлялось ощущение привычной и постоянной страсти, какая бывает только у давно любящих друг друга людей. И еще он помогал Вере купать маленького Вову (это уже в другом сне), и все отыскивал под крохотной его левой лопаткой коричневую родинку, какая была и у него самого. Когда Кешка просыпался, то долго не мог унять колотящегося, как после крепкого чифира, сердца. Закусив губу, думал о том, что Кешке-бичу не могла присниться чужая жизнь с такими подробностями, и в редкие минуты с пробуждением после таких снов он не только допускал соединение в единое целое Кешки и Мануйлова, но и ощущал себя прежним — молодым и красивым, жаждущим жизни и любви; он боялся открыть глаза, потому что чувствовал: едва он их откроет — и исчезнет тот прекрасный и недоступный мир, навеянный сном, возвращенный на мгновение ему, а надвинется убогая реальность с закопченными ли стенами котельной и угольной гарью, с жесткими ли вокзальными лавками и пассажирским гамом, с прелым ли стогом соломы и шуршащими мышами. В минуты пробуждения после таких снов его неудержимо тянуло в прошлое — он хотел птицей пролететь по лыжной трассе на хороших лыжах, хотел увидеть светящиеся любовью синие Верины глаза, хотел, хотел, хотел... Но кто-нибудь из вчерашних собутыльников, тоже проснувшись, окликал его «Кешка!», и он забывал о Мануйлове, о приснившемся, о терзавших его еще минуту назад желаниях. И если рядом с ним в это время не оказывалось кого-то другого, кто мог окликнуть его, все равно надо было вставать, мучительно думать: как опохмелиться.
Кешка шел по весенним Жаксам и, запрокинув голову, подставив лицо солнцу, ловил кайф. Он не замечал луж и грязи, из которой силой приходилось вырывать сапоги, не замечал прохожих, чуть не сталкиваясь с ними на узкой улочке; его тело, вся плоть его полностью отдавались блаженному теплу, простуженный, насморочный нос жадно всасывал терпкий весенний воздух. Ничему так не радовался Кешка — ни на дурняк добытой бутылке бормотухи, ни редкой бабенке, согласившейся с ним переспать в копне соломы, ни ливерной колбасе с булкой, — как пробуждению природы. Кто живет в теплой уютной квартире и нежится с женой на мягкой перине, кто съедает за обедом полкурицы и запивает ее шампанским, кто получает сумасшедшие деньги только за то, что умеет расписаться на ценных бумагах, — тот никогда не поймет Кешкиной радости. Такой человек не знает, что такое — найти ночлег, что такое — прилипший к позвоночнику живот, что такое — наколотый на иголку чинарик и разламывающаяся с похмелья башка. Конец зимы для Кешки — событие, потому что летом постель для него приготовлена под каждым кустом, калыму — сколько душа желает, а значит, на кормежку, выпивку, курево всегда заработать можно. Ну а если и не всегда, то все равно здорово, потому что лето, и бич почти независим от капризов погоды.
Вокруг Кешки бурлила жизнь и жили люди. Но ему глубоко плевать на них и их жизнь, ему не было до них дела, и взаимно — у них до него. Его радовало, его устраивало мирное сосуществование двух общественных систем — деловых людей и свободных детей природы, одним из которых он был сам. Он мог независимо идти по улице в милицейском плаще, в сапогах сорок четвертого размера (при его сорок первом), в кортовых брюках серого цвета с зеленой латкой на колене, в облезшей и скатавшейся кроличьей шапке с болтающимися по сторонам ушами. И если кого шокировал его экзотичный вид, Кешка лишь мудро усмехался, потому что их галстуки и шляпы он ненавидел не меньше, чем они его зеленую латку и кроличью шапку. Про ненависть это громко сказано. Кешка был просто равнодушен к окружающим и их суете. Он даже к себе был часто равнодушен, когда зимняя тоска и голод загоняли его в угол, как шар-подставку в бильярде. Но сегодня он радовался жизни и любил себя за то, что живет.
От избытка чувств Кешка мурлыкал песню — не понять какую, скорее всего попурри из нескольких бодрых мелодий сразу. Ему нравился ненавистный еще вчера поселок, не казавшийся уже грязным и убогим со своими однообразными одноэтажными домишками, с нелепыми хрущевскими двухэтажками, обшарпанным кинотеатром и тесными магазинчиками. Сегодня Жаксы казались уютными и светлыми, и вообще красавцем — огромный розовый элеватор в туманной дымке, возвышающийся над поселком, как Гулливер над городом лилипутов.
Кешка расшалившимся пацаном подпрыгнул, гикнул — распугал стайку воробьев, засмеялся. Нет, сегодня ему определенно должно повезти, тем более, что для полного счастья нужно совсем немного — всего три рубля. Не может отзывчивая душа Федосьевны отказать, по всем законам природы не может — в первый день весны даже угрюмые и нелюдимые ощущают приток свежей крови к сердцу. Вот обрадуется Сашка, когда он, кроме хлеба и консервов, притащит еще и бутылку бормотухи!
Кешка ценил Сашку-кочегара, хотя порой поступки того расходились со здравым смыслом. Почему солидный, самостоятельный мужик жил один в котельной детсада, работал без помощников и, получая приличную зарплату, испытывал постоянную нужду в деньгах — это для Кешки долгое время оставалось загадкой. Он не очень-то и стремился разгадывать ее, руководствуясь неписаным бичовским правилом: сам не трёкай о своем прошлом и поганой судьбе и в чужую душу нос не суй. Сашка, можно сказать, спас его в эту даже для тургайских степей лютую зиму — приютил, предлагал работу. Правда, с некоторым сомнением и нерешительностью, но все же предлагал. Кешка наотрез отказался. Влезть в постоянку, запродать свои свободные руки и душу начальству, вставать по часам и тянуть смену — это было для него невинного дитяти природы, примитивным фраерством.
Ну да — сначала постоянка, потом приличный костюм и шляпа, а в завершение всего — какая-нибудь хваткая бабенка затянет в загс.
Сашка его не уговаривал — мировой при всех странностях мужик. Но то, что он, зашибая до трехсот колов в месяц, часто полагался на Кешкины инициативу и изворотливость, очень даже волновало бича. Кешка никогда не считал чужих денег, не завидовал тем, у кого башлей больше, чем вшей в пышной шевелюре Булата Длинного, но это был совсем другой случай. Вместо того чтобы балдеть на раскладушке перед «ящиком» в относительной сытости за Сашкин счет, Кешка вынужден был промышлять золотарством и перекидкой снега. Исключительно по этой причине однажды в получку он решил пошпионить за Сашкой. Кочегар, выйдя из поссовета, где получал зарплату, прямо на крыльце пересчитал деньги и разделил их на две явно неравные части. Кешка сидел у него на хвосте до самой почты и видел через окно, как Сашка оформлял перевод и радостно расставался с пачкой ассигнаций.
Вечером, сделав самое невинное лицо, он поинтересовался у кочегара:
— Кому деньги отсылаешь?
Сашка вздрогнул и впервые недобро, как на сукиного сына, посмотрел на Кешку.
— Не твоего ума дело! Живешь себе — живи. Будешь много интересоваться — выгоню взашей!
— Че ты, бляха-муха, взбеленился?! Я от нечего делать спросил, — ретировался Кешка, справедливо полагая, что лучше не проявлять интереса к тайне кочегара.
— От нечего делать лучше бы за вином сбегал! — миролюбиво сказал Сашка, отстегнув с зарплаты целый пятерик.
Свернув в проулочек, ведущий к редакции, Кешка предавался неназойливым воспоминаниям-размышлениям, которые не напрягали размягченные стаканом вина мозги. Последние две зимы у него шла полоса везухи. В позапрошлом году в начале декабря его, пьяного в доску, замерзающего, подобрал за гастрономом начальник медвытрезвителя Петр Иванович Пашкин. Еще бы час пролежал на морозе Кешка, и хоронили бы его за казенный кошт. А так направили на три месяца в наркологическое отделение в Арлкалык. Лечили от алкоголя, заботились, кормили. Правда, работать пришлось. Да что это за работа — целлофановые мешочки клеить?! Забава для детсадовцев. Зато перезимовал в тепле, в чистых простынях, и на обратную дорогу двадцать целковых выдали. Алкогольная «стипендия» у Кешки не задержалась — он ее пропил прямо на вокзале с аркалыкскими бичами. До Жаксов добирался привычной заячьей плацкартой. Где бы ни носили его черти в последние четыре года, все равно возвращался в этот поселок — прижился здесь.
До появления в Жаксах Кешка был бичом-кочевником. Есть в кочевье своя прелесть, свои преимущества. Стоянки-то по большим городам, а там и разворот больше и с легавыми меньше контактов. На товарных разгрузках всегда можно чирик зашибить. Но и неудобств всяких — до чертовой матери! Раз — ночевки. Не зная город, трудно отыскать крышу. Спать на вокзалах и не нарываться на голубенькие мундиры — надо несколько приличных шмоток иметь. Два — узок круг знакомств, отчего и калымить трудно, и подстерегает тьма опасностей. В кочевьях Кешка был бит гораздо чаще, чем на постоянном месте жительства. В Жаксах он знает, от кого подлянки ждать. Три — частые ночевки в медвытрезвителе. В крупных городах на мойку свозили, не взирая на капитал в кармане. Не можешь расплатиться —ломовая лошадь на пятнадцать суток. Плюс постоянная угроза залететь по статье за тунеядство.
Понабравшись ума, Кешка Жаксы на любое жирное кочевье не поменяет.
А попал он сюда благодаря Арнольду Раткевичу. Четыре года назад кочевал Кешка между Харьковом и Гомелем. Легавые свирепели, и он метался как волк, обложенный флажками. Остановившись в Гомеле, он решил зашибить башлей, чтобы доехать до Дальнего Востока, где, как он слышал от других бродяг, — бичовский рай. На вокзале Кешка встретился с Арнольдом, и тот опытным глазом шабашника определил в нем нужного человека. Раткевич разбавлял свои бригады бичами, ценя их дешевый труд. Так Кешка оказался в Казахстане, а после шабашки застрял в Жаксах, стакнувшись с местными миролюбивыми бичами. И не жалеет, что застрял.
Домик, в котором в поте лица своего трудились жаксынские щелкоперы, стоял на краю проулочка, а дальше, за домиком, начиналась степь. Любые госучреждения вызывали у Кешки противоречивые чувства: что-то между боязнью и презрением. Вечно суетящиеся, галстучные седеющие мальчики, высокомерные дамы на постах, сам дух этих учреждений, когда еще за сто метров от них мерещилось шуршание бумаг, рождали в желудке Кешки дискомфорт, и он старался держаться от них подальше. Совсем по-иному он относился к редакции и ее сотрудникам — ребята здесь работали простые, любящие поболтать и не воротящие носов от падших и угнетенных. Корреспондент Степа Лупатов — тот вообще был свой в доску, пьянь и рвань на государственной службе. С ним Кешка лечился в наркологическом отделении.
Попал туда Степа при совершенно анекдотических обстоятельствах: допившись до зеленых чертиков, он искал любовника жены в кроличьих клетках. И еще раз судьба сводила вместе Кешку и Степу, когда они калымили в ПМК после очередного увольнения корреспондента по известной статье. Лупатов работал в редакции от запоя до запоя, пользуясь дефицитом на мастеров пера.
Степа был своим парнем, с ним можно было приятно поболтать о том о сем, но взять с него что-нибудь в материальном смысле было бесполезно. Поэтому больше -других Кешка уважал замредактора Надежду Федосьевну. За то уважал, что она без всяких нравоучений могла раз в месяц ссудить троячок бедствующему бичу.
В семье не без урода — так отзывался Кешка о редакторе газеты, которого боялся и внутренне презирал не меньше суетливых мальчиков из госучреждений. Редактор платил ему тем же и несколько раз бесцеремонно выставлял за дверь. Поэтому, когда редактор был на месте, Кешка в редакцию не заходил. Вот и сейчас он спрятался за сарайчик, в котором редакция хранила уголь, и стал выжидать. Он был уверен, что долго ждать не придется: Степа был неисправимым курильщиком и через каждые четверть часа, если не бывал в разъездах, выбегал на улицу с неизменной беломориной в зубах.
Корреспондент, действительно, вскоре вышел, зажег трясущимися руками спичку, прикурил. Кешка свистнул, замахал руками, подзывая Степу.
— Шеф твой на месте?
Степа Лупатов улыбнулся, показывая гнилые зубы.
— Торчит. Но ты не дрейфь — его в райком вызвали. — Степа угостил Кешку папиросой. — Если Федосьевна пожертвует трояк, не забудь про меня — в получку рассчитаюсь.
— Да я не на бормотуху беру. Жрать нечего,— ответил Кешка.
В его планы никак не входило угощать Степу. На троих бутылка вина, что лошади таблетка аспирина, к тому же он не брал на веру ни единого слова корреспондента: тому пообещать — что плюнуть. Сколько раз Кешка, как добрый дурень, приглашал Лупатова в котельную, поил его, но ответной щедрости не дождался.
— Не строй из себя прижимистую женку. Чтобы бич жратуху предпочел бормотухе — в это даже наш редактор не поверит!
— При чем здесь редактор? — не вник в сложную мысль корреспондента Кешка.
— А он во все верит — в «Малую землю» и «Целину», «Правде» и «Гудку», и даже в ту ерунду, что сам пишет. — Степа на всякий случай оглянулся. — Ну так как?
— Понимаешь... — замялся Кешка.
— Да не дрейфь! Я на хвост не падаю. На вот рубль! — Корреспондент протянул рублевку. — За трояк пузырь выйдет, а за четыре — два. Давно у Надьки брал?
— Еще в марте.
— Тогда даст.
Степа вздрогнул, словно его укололи иголкой, толкнул Кешку в плечо.
— Редактор!.. Через полчаса у Сашки встречаемся! — Корреспондент поспешно бросил недокуренную папиросу и виновато потопал к редакции.
Проводив редактора взглядом, дождавшись, пока тот скроется за углом, побежал в редакцию и Кешка.
Через десять минут он в блестящем настроении шагал по центральной улице Жаксов, засунув руки в карманы плаща и насвистывая модный шлягер на осеннюю тему. В правой руке его были зажаты четыре рублевки, которые адекватны двум пузырям «Вермута» и банке «килек в томате». Удивительным сегодня выдался день! Весна нежданно-негаданно нагрянула, «замша» с улыбкой трояк отвалила, и даже Степка в складчину сыграл. Чем не жизнь интеллигентному бичу!
Сашка-кочегар и Степа-корреспондент в нервном ожидании сидели в каморке котельной у маленького телевизора марки «Весна». Сашка мог спокойно прожить и сутки, и трое без сигарет, но только не без телевизора. И в пьяном, и в трезвом виде он мог часами смотреть любую передачу, будь то «Сельский час», «Музыкальный киоск» или «Спокойной ночи, малыши!». Его поклонения «ящику» не разделял Кешка, который от нечего делать мог посмотреть исторический фильм или эстрадный концерт, но если по телевизору показывали киношку из современной жизни, он отворачивался к стене или уходил бродить в степь. Непонятной и чужой была для Кешки жизнь, которую изображали артисты. Уютные квартиры (о такой мечтал он в далеком своем прошлом), жены, дети, производственные конфликты (чего ради?!), любовь—все это было из другого мира, в котором для Кешки не находилось места, которому он не верил и не доверял. Он не завидовал счастливым и несчастным людишкам из кино, суетящимся и копошащимся, страдающим ради сомнительных идеалов жизни. Он не принимал идей, которые заставляли людей мучить друг друга, бессмысленно рисковать жизнью, жертвовать личной свободой. Вскрывать себе вены из-за того, что директор завода ретроград и не принимает твой проект, — это абсурд, страшная гримаса нового времени, обесценивание человеческой жизни, как вышедших из моды товаров. А разве в этой бездонной Вселенной стоит чего-нибудь отдельно взятая человеческая жизнь? Разве в силах такая букашка, как Кешка, изменить этот жестокий мир, в котором человек, спасающий ценою своей жизни трактор — герой, а спасающий свою жизнь — самое уникальное, что есть во Вселенной, — трус и подонок в глазах общества? Не сделать ему мир добрее, а людей счастливее, потому что он ничтожен от природы. Стоит ли суетиться, страдать, жертвовать во благо абстрактного будущего, которым все прикрываются и для которого никто ничего, кроме вреда, не делает? Кешка со своей бездеятельностью считал себя честнее энергичных и деловых, пусть не честнее, но, по крайней мере, безвреднее.
Он был бы совсем доволен жизнью, если бы природа не наградила его таким большим неудобством, как желудок. Ради этого проклятого мешка в животе приходилось суетиться, унижаться, вкалывать, тогда как нормальное состояние его души — тихое созерцание течения жизни.
Сашка-кочегар и Степа-корреспондент теряли терпение и не знали того, что Кешка еще не дошел до магазина, что, проходя мимо элеваторских складов, он остановился у кучи половы, в которой копошились голуби.
Бывший голубятник Кешка любил этих красивых птах и мог часами наблюдать с размякшим от любви сердцем, как они живут-воркуют. Голуби были для него воплощением простой и великой истины: мир стал бы добрее и уютнее для человека, если бы в основу своего существования заложил голубиную философию жизни.
Но суров закон природы. Кешка в угоду плотским вожделениям в голодные дни ловил голубей, откручивал им головы, варил и ел. Он всегда страдал при этом, но голод убивает в человеке самые прекрасные чувства. И все равно, ощущая в настоящий момент голодные спазмы в желудке, Кешка смотрел на голубей не как на мясо, и из серых задумчивых глаз его струился теплый свет.
Без укоров совести он вспомнил о том, когда впервые изменил своей сути голубятника. Три года назад, скитаясь с Васей-фотографом по джайляу, они застряли в целинном совхозе и, пропившись, устроили охоту на голубей в пустом зерноскладе. Тогда-то и заставил его Вася откручивать головы этим птахам.
— Учись, пока я жив! — говорил он, брал сизого за голову между указательным и средним пальцем, взмахивал резко рукой. Безголовое тельце птицы отлетало в сторону, лихорадочно чертило крыльями по земле, сучило в конвульсиях тоненькими красными лапками.
С отвращением смотрел Кешка на вареных голубей и глотал слюни, когда Вася, ехидно усмехаясь, вгрызался крепкими лошадиными зубами в нежное мясо. И только опрокинув в рот стакан мутной, вонючей самогонки, Кешка решился съесть голубя.
Тот же Вася-фотограф научил его есть собак и сурков. В то лето жирных байбаков было в изобилии, они колониями грелись на солнышке по мелким сопочкам. Хорошо вываренных, поджаренных да под «Тройной» одеколон их можно было есть. А вот с собаками хуже — мясо отвратительное, вонючее. Они с Васей, было дело, когда потерпел крах их фотобизнес, три дня скрывались по скирдам и, как голодные коровы у председателя колхоза-пьяницы, жевали перепревшую за зиму солому. На их счастье, к скирде прибрела бродячая собака, которую Вася, приласкав, прирезал. Собаку поджарили в костре из соломы. Кешка с жадностью, почти не пережевывая, проглатывал кусок-другой этой гадости и тут же рвал. Проглатывал и рвал.
Рвоты у него выворачивались внутренности, но в конце концов желудок принял и эту пищу. Следующей весной, когда Кешка помогал корейцам засевать луковую плантацию в одном из совхозов Жаксынского района, они научили его вкусно готовить мясо собаки. В исполнении Кешки собачатина была деликатесным блюдом. И только Сашка-кочегар наотрез отказывался отпробовать его.
— Где тебя хрен носил?! — заругался Степа, когда Кешкина шевелюра просунулась в Сашкину конуру. — Ты что, Жаксы по периметру обходил?
Степкиного гнева хватило до тех пор, пока он не увидел в карманах Кешкиного плаща две бутылки вина.
— Из-за тебя меня опять из редакции попрут! — уже без злости буркнул он.
— Невелика потеря для Жаксов, — защитил Кешку кочегар.
Кешка возмутился уже после того, как «раздавили» бутылку.
— Бляха-муха! Бабки найди, в гамазин сгоняй — да еще и виноват!
— Да ладно тебе! — Степа с наслаждением потянулся. — Наливай, бо поедять!
Через полчаса корреспондент с разочарованием переставил на столе пустые бутылки.
— Разве это бухло для настоящих джигитов?!
— Не бухло, — согласился подвыпивший Кешка — два стакана вина на голодный желудок ударили по мозгам.
— Отсюда резюме: нужно искать деньги, — сказал Степа. — Вы с Сашкой как угнетенный пролетариат и советский безработный отпадаете. У меня, как всегда — вошь на аркане. Кешк, может, еще раз к Надьке сходишь?
— Больше не даст, — уверенно ответил Кешка.
— Не даст, — согласился корреспондент. — Придется воспользоваться служебным положением. На что не пойдешь ради своих генацвале!
Сашка с Кешкой оживились, ибо служебное положение Степы как сотрудника районной газеты внушало уважение не только им двоим. Кочегар, угадав желание Лупатова, вырвал из тетради листок и подал ему ручку.
«Нюрочка, голубочка! — размашисто начертал Степа. — Не откажи в милости, отпусти 2 бут. вина в долг подателю сего послания. Буду премного обязан. Корреспондент С. Лупатов».
— Гони, Кешка! — приказал он, сложив записку вчетверо.
— А почему я? — искренне удивился Кешка.
— Потому что мы с Сашкой при исполнении служебных обязанностей, а ты — свободная личность.
— Логика — класс! — обреченно вздохнул Кешка, нахлобучивая шапку на голову. — Пошел, бляха-муха!
И снова Кешка шагал по весенним Жаксам. Вино ударило в голову, перепутав и перемешав в ней все мысли. Сытно и тепло было в желудке. Кешка жмурился от яркого солнца и весело топал по лужам, забыв о дырявом сапоге. В правом было полно воды, но она уже согрелась от тепла закаленной Кешкиной ноги. Он бы не обращал на это никакого внимания, если бы вода не чавкала так противно. Разуться бы да вылить воду, но стоит ли такая мелочь трудов? Несмотря ни на что он чувствовал себя прекрасно и светился глупой улыбкой — так улыбается шестимесячный ребенок.
По пути к гастроному Кешка сделал солидный крюк — не ради наслаждения весенними запахами, а в целях конспирации, чтобы обойти подальше отделение милиции. Особых причин бояться этого грозного заведения у него не было, потому что медвытрезвителю, имеющему план по доходам от алкашей, Кешка помочь ничем не мог, а раз так — он редко интересовал милиционеров. Но всякое случается в жизни, а быть гостем Петра Ивановича в такой расчудесный день Кешка не желал.
Не к добру вспомнил сегодня Кешка о Васе-фотографе и не плюнул через плечо три раза, когда радовался удачному дню, он забыл о непреложной в жизни бича истине: если день начинается слишком хорошо, обязательно должно произойти препротивное — подходя к гастроному, он на полной скорости врезался в полного казаха, которого сразу же узнал. Это был парторг Алибеков из соседней области, который три года назад содействовал их с Васькой фотобизнесу и имел основание запомнить их гнусные рожи на всю жизнь.
«Зачем черти принесли его в Жаксы?» — холодея, подумал Кешка и попытался проскользнуть мимо Алибекова.
Кешка уже минул парторга, когда почувствовал тяжелую руку, сжавшую его плечо.
— Стой, овец паршивый! Где фотокарточка?!
— Какая фотокарточка? — Кешка возмутился, дернулся, пытаясь вырваться. — Вы меня с кем-то перепутали!
— Я не путал. Ты фотограф!
— Да я, бляха-муха, фотоаппарата в руках никогда не держал! Говорю, что перепутали с кем-то!
— Мы помним твой противный морда! Зачем честный народ дурил?
— Отпусти, бляха-муха! — Кешка ударил Алибекова по рукам, но тот еще больнее сжал плечо, закручивая за спину Кешкину руку. — Больно, гад!
— Терпи. Милиция пойдем.
Кешка обмяк и послушно поплелся с Алибековым, время от времени пробуя: крепко ли тот держит его руку и нет ли возможности смыться? Алибеков, схожий комплекцией с докером, пыхтел рядом с ним и не мешал Кешке вспоминать о том, как они с Васей-фотографом околпачили этого парторга и все население совхоза «Кокдалинский» в глухом районе Целиноградской области.
Три года назад жарким июльским полуднем Кешка отдыхал под сенью привокзальных тополей и акаций голодный и злой от того, что не пристроился к какой-нибудь шабашке. Перебивался он случайными заработками да собиранием по кустам пустых бутылок — этого иногда хватало на бухло, а на жратву не оставалось. Бичом, в тоске отгоняющим мух, заинтересовался интеллигентного вида молодой человек в берете, обвешанный фотоаппаратами и фотовспышками. Он присел на скамеечку, у которой на травке возлежал Кешка, элегантно выбил из пачки сигарету с фильтром, будто между прочим предложил закурить и ему.
Едва Кешка закурил, как незнакомец без обиняков спросил:
— Бомж?
— А что, заметно? — съязвил Кешка.
— Не хорохорься. Выпить хочешь?
— Не откажусь, — обрадовался Кешка.
— Отойдем, — предложил незнакомец.
За бутылкой вина фотограф, представившийся Василием, предложил Кешке стать компаньоном в фотобизнесе.
— Я никогда не занимался фотографией.
— Я тоже, — ошарашил Кешку Василий. — Это неважно. Фотоаппараты списанные, через них можно только смотреть, а не запечатлевать в истории коренное население. Зато вспышки фурычут, как настоящие.
— Не понимаю.
— Понимать нечего. Можешь валять дурака? По глазам вижу — можешь. Дело несложное: ставить коренное население группами и поодиночке, щелкать, как толковый фотограф, выписывать квитанцию и смываться. Вот только внешний вид твой не удовлетворяет.
Васька-фотограф посвятил Кешку в подробности своего авантюрного предприятия, принес из камеры хранения сумку и выдал ему «казенное» белье — чистые брюки, рубашку, яркие красные носки и штиблеты.
Приличная одежда, сигареты с фильтром, зажигалка Васьки-фотографа были не чем иным, как атрибутами его «дела», потому что до Целинограда они ехали по одному билету (Кешка скрывался от контролеров в ящике под нижней полкой) и обедали холодными, черствыми пирожками с ливером. Кешке не нравилась эта затея, он старался не ввязываться в дела, к которым проявляют интерес блюстители Уголовного кодекса. Но его убедила подлинность квитанций целиноградского Дома быта, которых у Васьки в достатке. Была возможность заработать бабки без изнуряющей пахоты, как это бывало в шабашках.
Две недели они мотались по джайляу — летним пастбищам овцеводов, — «фотографировали» засвеченной пленкой многодетные казахские семьи, которые снимались охотно, расставались с деньгами без сожаления, щедро угощали заезжих фотографов бешбармаком. Квитанции с печатью делали свое дело, и никто не усомнился в их профессионализме.
Затем Василий со своим помощником перебрался на центральную усадебку в Кокдалы, поделив заработанное: себе — 700 рублей, Кешке —200. Для бича это было целое состояние, и в такой дележке он не видел несправедливости. В Кокдалах они быстро перефотографировали семьи местных начальников и простых смертных, попутно уничтожив все запасы спиртного в сельском магазинчике.
Их авантюра завершилась бы успешно, если бы Кешка не нарвался на бывшего фотолюбителя, который заметил три неточности в Кешкиной работе: во-первых, заезжий мастер фотографии снимал с закрытым объективом, во-вторых, не переводил кадры, а в-третьих, даже не изображал наведение резкости, пользуясь фотоаппаратом «Зенит». Своими сомнениями фотолюбитель поделился с Алибековым, тот позвонил в целиноградский Дом быта и узнал, что фотографы от их конторы в Кокдалы не посылались.
Когда в Кокдалы прибыл наряд милиции, фотографов-гастролеров уже след простыл. У Васьки был поразительный нюх на неприятности.
И вот теперь Алибеков притащил Кешку в Жаксынское РОВД. Просто удивительно, как он мог узнать его через три года?!
На месте дежурного сидел капитан Аджиев — седеющий, добродушный кавказец. Это обстоятельство обрадовало Кешку, так как капитан не любил лишних хлопот, не любил дел неясных. Он работал заместителем начальника милиции по политчасти, не терпел чернухи и, если сталкивался с чем-то путаным, непонятным его гуманитарному уму, — запирал любого в камеру предварительного заключения до появления следователей. Что касается случаев, подобных нынешнему, он, как правило, посылал к черту на рога обвинителя и обвиняемого, если первый тут же, на месте, не мог убедительно доказать вины второго.
Кешка воспрянул духом и внутренне перестроился.
— Товарищ капитан! — обратился Алибеков к дежурному, все еще не отпуская рукава Кешкиного плаща. — Этот подлец фотографировал у нас в совхоз, брал много денег, давал квитанций и убегал!
— Вы кто будете? — строго спросил Аджиев.
— Сектретарь парткома совхоза «Кокдалинский».
— Это где?
— В Целиноградской области.
— Почему не Хабаровск? Совсем хорошо было бы! — усмехнулся капитан. — Если квитанцию выдавал — должны и фотографии быть.
— Они обманывал! Все квитанций недействительный. Пустой фотоаппарата щелкал — много денег брали.
— Товарищ капитан! Я никогда не был там. Я его впервой вижу! Перепутал он меня с кем-то! — закричал Кешка.
— Помолчи! — оборвал его Аджиев. — Как звали фотографов, номера паспортов, квитанции, удостоверение... И вообще: когда, что и почему?
Парторг растерялся.
— Три года назад приезжали вот этот сукин сын и другой. Этот Юра зовут, тот — Костя.
Кешка, отвернувшись, улыбнулся. Правильно — так они с Васькой представлялись для конспирации.
— Фамилий не знаю - паспорт их не видали. Они квитанций писали — думали честно.
— Покажите квитанцию.
Нету квитанция. Я не знал, что Жаксы его встречу.
— Как же вы, дорогой мой, облапошить себя позволили? У нас страна широкая, просто огромная страна — шестая часть суши. В нашей огромной стране Кость и Юр, как в Дагестане Магомедов. Понятно?
Парторг не знал — сколько Магомедов в Дагестане, поэтому капитан не убедил его.
— Но этот сукин сын я узнавал! — Алибеков дернул Кешку за рукав. — Признавайся: я узнавал тебя или нет?
— Да Кешка я, а не Юра! — Кешка посмотрел на парторга, как на недоразумение.
— Видишь, он — Кешка. Признавайся, Кешка, облапошил парторга?
— Впервой вижу, товарищ капитан! — Кешка ел Аджиева невинными глазами.
— Вы уверены, что это тот Юра, о котором вы говорите? — еще строже спросил капитан у Алибекова.
Парторг с недоверием и подозрением посмотрел на Кешку.
— Кажется, это он...
— «Кажется!» Уже кажется! — Аджиев по-кавказски вспыхивал мгновенно. Вскочил со стула, забегал по дежурке. — А вы хорошенько посмотрите! Может, не он?
— Похож, — пролепетал Алибеков и вконец растерялся.
— Я на Кикабидзе похож! А сижу здесь, песен не пою. — Капитан решительно оторвал Кешку от намертво вцепившегося в него парторга. — Гуляй, Кешка! Да не пей сегодня больше, не то — закрою!
Кешка не заставил себя долго уговаривать.
В этот день ему еще раз улыбнулась удача: по дороге в гастроном, куда вынужден был снова возвращаться, он встретил ингуша Ахмеда, который промышлял унтами, отстреливая для сырья бродячих собак. Сегодня Ахмед подстрелил огромного, но еще молодого пса и сказал Кешке, чтобы тот через час явился за тушей.
Бережно прижимая две бутылки бормотухи к бокам, Кешка помчался к котельной, чтобы взять саночки.
Степа изошел нетерпением, ожидая Кешку, и готов был разорвать его на части, но известие о собаке обрадовало его — он уважал фирменное блюдо Кешки. Корреспондент запретил пить вино и побежал домой за специями. Кешка с саночками отправился к Ахмеду.
— Нелюди! — сплюнул в сердцах Сашка. — А я себе пару голубков изловлю!
Кочегар вытащил из котельной лестницу и полез на чердак детского сада.
В тот вечер они попировали на славу. Пьяный и сытый Степа не пошел домой, а улегся на узкой раскладушке в обнимку с Кешкой. Сашка, будто и не пил вовсе, смотрел по телевизору эстрадный концерт, изредка поглядывал на своих собутыльников и ругался:
— Нехристи! Собак жрут! Тьфу!
Кешка проснулся от страшной жажды — от вермута и крепко наперченного мяса горело нутро. Он в один присест выпил литровую банку тепловатой воды и вышел на улицу по-малому.
Стояла глубокая весенняя ночь. Легкий морозец схватил лужицы тонкой корочкой льда, затвердела и хрустела под ногами грязь, и лишь неподалеку журчал ручей, набирая силу, утверждая необратимость смены времен года в природе. Поселок затих, заснул и светился только редкими огнями уличных фонарей. Крупные и чистые, словно вымытые в весеннем ручье, звезды пульсировали холодным светом в черном небе, но Кешке было не до них. От тупой обложной боли раскалывалась голова, казалось, что она сейчас вскроется изнутри, как лед на реке в апрельский день. К тому же пакостно, как после сосания насвая, было во рту. И тошнило. Засунув два пальца в рот, Кешка вызвал рвоту и вылил на шлаковую горку выпитую перед этим воду. Стало легче лишь на минуту. И опять запекла изжога. Без соды тут никак не обойтись, а у них с Сашкой ее ни щепотки.
Икая, он присел на шлакоблок, откинул голову к стене котельной. «Который час?» — лишь на этот прозаический вопрос он смог расшевелить свои больные и ленивые извилины. Течение времени редко интересовало его, но сейчас ему важно было знать: долго ли мучиться до утра? Было мучением встать и посмотреть на будильник, но еще большим — сидеть с изжогой и похмельем. "А вдруг?" — распалил себя надеждой Кешка и осторожно прокрался в каморку, в которой дуэтом храпели Сашка со Степой. На четвереньках в темноте он нащупал бутылки, звякнул ими.
— Не ищи, выжрали все! — буркнул спросонья Сашка и повернулся на диванчике.
Кешка зажег спичку, взглянул на будильник: половина первого. С ума сойти!
Оттолкнув к стенке Степу, он прилег, но уснуть не удавалось. Только закрывал глаза, как странные, фантастически изогнутые и громадные, безликие фигуры людей и животных начинали плясать перед ним шаманские танцы. В страхе размыкал он веки, и ему казалось, что сердце останавливается.
Он поднялся, выпил воды еще, но не погасил изжоги. Совершенно непроизвольно Кешка вспомнил, что совсем недалеко, в элеваторском бараке, живет рыжая Любка, у которой они с Сашкой однажды выпивали и у которой Кешка оставался ночевать. Правда, он не смог помочь ее женской беде по случаю опьянения, но разве можно за это обижаться?
У Любки обязательно должна быть сода, у нее, может быть, даже найдется опохмелиться — пусть не водка, не бормотуха, не самогон, но хотя бы одеколон. За спрос не бьют в нос, — решил Кешка и сдернул с корреспондента свою фуфайку.
К Любке он стучался долго и боялся лишь одного: как бы не спала она с мужиком. Распахнется дверь — и просунется кулак в глаз. Поэтому, стукнув несколько раз, Кешка отступал от двери на безопасное расстояние.
— Кто там?» — минут через пять услышал он хриплый, прокуренный Любкин голос.
— Это я, Люба! Кеша.
Какого тебе? — недовольно пробурчали за дверью.
— Изжога замучила. Сода у тебя есть?
Люба щелкнула запором, зажгла свет, пропустила Кешку в неубранную комнатенку, служившую и кухней, и столовой. Воняло испражнениями от открытого детского горшка (у Любки была пятилетняя дочь), никотином и еще бог знает чем. Под закопченным потолком тускло светилась шестидесятивольтовая лампочка.
Ходят по ночам — покоя нет! — не слишком недовольно упрекнула Люба, сняв с гвоздя на стене старенький, выцветший халат. Накинула его поверх комбинашки не первой свежести.
Хозяйке было лет двадцать пять, но выглядела она на десять лет старше. По полному одутловатому лицу, густо усыпанному веснушками, размазалась тушь от ресниц. Люба даже рукой не поправила раскудлаченных, торчащих в разные стороны огненно-рыжих волос.
— Пережрал вчера? — спросила она, пододвигая Кешке табурет.
На замызганном столе стояла грязная посуда, пустые стаканы, в пепле валялись куски хлеба, сала, огрызки огурцов, вилки. Но Кешка сразу ожил, увидев ополовиненную бутылку самогона, от которого несло дурным и таким приятным в эту минуту духом.
— Было дело, — подавившись хрипотой, ответил Кешка и умоляюще посмотрел на Любку.
— Да не ешь ты меня глазами! — засмеялась хозяйка, прикуривая сигарету. — Я же не изверг!
Она сдвинула посуду на другой край стола, обмахнула столешницу тряпкой.
— Выпьем. У меня тоже башка трещит.
Кешка с трудом удержал в себе полстакана диковинно вонючей самогонки, Люба же прихлопнула свою порцию с удовольствием, как стакан лимонада.
Допили эту бутылку, у хозяйки нашлась еще одна. Но налив из нее по сто граммов, Люба спрятала в шкафчик стола остальное.
— Хорошего помаленьку. Надо и на утро оставить.
Обтерев ладошкой пепел с огурца, Кешка закусил.
— Ну как изжога? Соды развести? — заботливо спросила хозяйка.
— Не надо. Полегчало вроде, — ответил повеселевший гость. — Мировая ты баба, бляха-муха!
— Будет дуру травить, я спать хочу! — Люба задавила окурок о край стола. — Вы, милорд, у меня остаетесь или восвояси?
Кешка словно только сейчас разглядел, что выпивал с женщиной, что у нее крутые, довольно соблазнительные бедра, высокая грудь, распирающая тесный халатик. Забытый инстинкт самца проснулся в нем, и ему сделалось вдруг жарко, легкий туман поплыл перед глазами.
— Остаюсь, если ты не против, — поспешно ответил он.
— Ну, тогда в люлю, — обыденно сказала хозяйка.
Она отдалась ему сразу, без ласк и нежных слов, словно делала привычное, как мытье посуды, дело. Ни одной мышцей крупного своего тела не подалась она навстречу проснувшейся Кешкиной страсти и, едва он оставил ее в покое, сразу же захрапела, отвернувшись к стенке.
Кешка лежал рядом, ощущая коленом ее крутое, горячее бедро, какая-то тоска начала накатываться на него. Он давно не имел женщины, ему казалось, что он не имел женщины с тех пор, как покинул свои Липяны, но эта близость не принесла ему удовлетворения, наоборот, оставила на душе дурной осадок, будто он, поскользнувшись, голым упал в грязь.
В постели с женщиной, которая после физического облегчения не вызывала теперь в нем никаких чувств, кроме неприязни, он вдруг вспомнил о Вере, вспомнил первую их ночь в студенческом общежитии, когда они, одурев от поцелуев, безрассудно бросились навстречу друг другу. Какие возвышенные чувства переполняли его, когда они отдыхали с Верой, бесстыжими любовниками лежа поверх одеяла, какая нежность проснулась в нем к светлой и святой в своем пороке женщине! Он покрывал ее благодарными поцелуями, прижимал к себе, будто боялся, что кто-то может отнять ее.
Сегодня с Любой было все по-другому — обыденно, а от этого — пошло и грязно.
Зажав голову руками, он уткнулся в подушку лицом и едва не заплакал от досады. Прошлое вывернулось из-под его тяжелой, неповоротливой памяти и навалилось на него всей своей горечью.
В комнате назойливо и нудно зудела муха. За стеной непримиримо ругались женщины — молодая и старая. Старая монотонно бубнила и бубнила какие-то нравоучения, молодая отвечала резко и высоко, срывая голос. На кухне что-то упало и разбилось — тарелка или фарфоровая чашка. Бабий скандал взметнулся с новой силой, как пламя в костре, когда в него подбросят хворосту: голос старой угрожающе задребезжал, молодой — взбросился до визга.
Геннадий Мануйлов обреченно вздохнул и повернулся в кровати со спины на бок — спрятал одно ухо в подушку, другое зажал рукой. И все равно тупо пробивались звуки скандала.
— Съедем мы от вас! И за тарелку заплатим, и за чашку, и кран отремонтируем! — вскрикивала жена Геннадия, Вера.
Что ответила Лимоновна — их квартирная хозяйка, Мануйлов не слышал — ее слова слились в сплошное брюзжание.
«Куда ты съедешь, дура?! — подумал про себя Геннадий. — В городе ни одной толковой квартиры для семейных не найдешь!»
Тоска слесарными тисками зажала его сердце. Сегодня был выходной день, но он его не радовал. Хотелось сбежать из этого сумасшедшего дома куда-нибудь в поле, в лес, к черту на кулички, упасть в траву и слушать тишину, забыв обо всем на свете: о самодуре-начальнике, нервной жене, больном ребенке, нехватке денег, скупой и ворчливой Лимоновне. Но до леса нужно ехать на автобусе, а у него на «Астру» двадцати пяти копеек нет. Нет порока хуже, чем нищета. Его ста десяти рублей чистыми не хватало и на три недели. Да и какие там сто десять! За квартиру тридцать — раз, долги — два, пеленки, распашонки и прочее — три. Пропил, к тому же, больше червонца. Копейки остались Вере.
Геннадий со страхом ждал появления жены в комнате, ждал очередного разноса за деньги, за вчерашнюю выпивку, бог знает еще за что — она всегда найдет причину покричать и повоспитывать. Он при чем? Платят столько инструктору ДОСААФ. Не пойдет же банк грабить! Если и выпивает когда, то больше на халяву. Ну пропил вчера червонец — спасет он их, что ли?
Прислушавшись, убедившись, что ссора Веры с Лимоновной пошла на убыль, Мануйлов вскочил, путаясь в штанинах, оделся, распахнул окно и выпрыгнул на улицу. Убегая к калитке, услышал в спину:
— Алкаш! Скотина! Вернись! — Вера едва не застукала его тепленьким в постели.
Геннадий, не обращая внимания на ее вопли, продолжал побег.
— Чтоб ты захлебнулся! Чтоб мои глаза тебя не видели!
«И не увидят!» — Мануйлов со злостью хлопнул калиткой.
Быстро прошмыгнул мимо окон дома, в котором они снимали комнату, чтобы, увидев его, не злорадствовала Лимоновна, спустился в овраг, разрезающий Липяны надвое, сел под буком, не обращая внимания на зловоние, исходящее от мусорных куч. Геннадий перебрал, перещупал карманы брюк и пиджака, нашел десять копеек, сломанную пополам сигарету и спички.
С наслаждением закурил. Сидел безвольно, время от времени посматривая на тропинку: не бросилась ли в погоню жена?
Мануйлов горько усмехнулся. Как перевернулось у них все с ног на голову за три года! Приехали в Липяны влюбленные, полные надежд — он после окончания физкультурного техникума, она, получив диплом медсестры. Председатель райисполкома принял их с распростертыми объятиями, как родных детей. Год на квартирке, мол, поживете, а там свою получите. Молодые, красивые, — потерпите. Три года уже терпят — и никакого просвета.
Геннадий засмотрелся в ручей, журчащий по дну оврага, несущий к реке мусор, щепу, солому, закручивая на поворотах. Их с Верой вот тоже так закрутило, понесло в мутной воде. Остановиться бы, зацепиться за корягу, осмотреться. Нет, мчатся сломя голову, бьются друг о друга, и все больше грязи налипает на них.
А ведь неплохо начинали. Он на хорошем счету в детской спортивной школе был, Вера в райбольнице работала. Геннадия вскоре председателем райспорткомитета назначили, зарплата увеличилась. Когда же сорвалось все? Не с его ли бесполезных попыток поднять физкультуру и спорт в глухом районе на небывалую высоту?
Он мечтал о хорошем городском стадионе, о спортивных праздниках, победах районных спортсменов. Бегал, суетился — коту под хвост все старания. Никому до его забот не было дела. Председатель райисполкома требовал, чтобы райспорткомитет обеспечил хорошее место в областном соцсоревновании, и очень не любил, когда Мануйлов просил содействия или тем паче денег. Вот и делал Геннадий показатели на бумаге: тысячи разрядников ГТО, активно занимающихся спортом. Такие отчеты научился сочинять — райисполкомовские бюрократы могли завидовать. Махнул на все рукой — больше всех надо, что ли? Большинство соревнований — тоже на бумаге. Деньги на судейство и призы пропивал с такими же дельцами от спорта, как и сам.
С того времени и раскололся их с Верой материк, отплывать они начали друг от друга. Не спасло и рождение Вовки. Разве что сблизило на короткое время. Уговаривал Веру уехать на село — там и с квартирой проще, и зарплата поприличнее, но ей хоть и задрипанный, но город подавай. В один прекрасный день Геннадий в медвытрезвитель попал, с должности слетел.
Что-то не так в его жизни, а может быть, не только в его. Если присмотреться, многие живут — лишь бы день до вечера — выпить, вкусно поесть, чужую бабенку соблазнить. Только другие как-то крутились — квартиры получали, деньги умели делать, родители их баловали. Мануйлов не умел этого и на помощь не надеялся: мать его шесть лет назад умерла, унеся в могилу тайну об отце. А Верка — вовсе детдомовка. Нервничала, когда из-за тряпок, копеек, из-за убогой жизни, в единственном липяновском развлечении — кино — они себе отказывали, и приказала долго жить их страстная любовь.
Неужели финиш? Может быть, фальстарт? Вернуться на исходную и стартовать снова? Но жизнь — не бег на стометровке, ее не перебежишь заново.
Геннадий бросил окурок в ручей. Куда пойти? Домой — как в суд на бракоразводный процесс, на котором перетряхивают грязное белье жизни. К друзьям? А есть ли они у него, кроме собутыльников? Мануйлов почувствовал, как вокруг его шеи затягивается удавка, как сперло ему дыхание. Матюгнувшись в сердцах, он вышел из оврага и пошел к стадиону. В выходной там собираются бывшие спортсмены, стукают в «попу» (игра с коллективным пробитием пенальти) на выпивку. Опять напиться — ничего ему больше не остается.
И теперь, когда Кешка лежал в чужой постели рядом с содрогающейся от храпа потаскушкой, у него было точно такое же паршивое настроение, как и в тот день — шесть лет назад. Ему захотелось напиться до потери сознания, чтобы забыть обо всем на свете, чтобы не докучало прошлое, после путешествия в которое ему всегда было так тошно, будто он полыни пожевал.
Кешка осторожно выбрался из-под одеяла, тихо оделся и на цыпочках ушел от Любы. Пошел в степь, за элеватор, к сопочке, к любимым карликовым березкам, которые тонкой белой кожицей своей напоминали ему высокую развесистую березу у дома Лимоновны в Липянах.
Но до любимой рощицы, по-местному — колка, где прятал тоску время от времени, он не дошел: за поселком ухнулся в воду, глубоко — выше колен, забредя в темноте в балку. Вернулся назад и, чтобы срезать путь, пошел мимо центральной котельной. Вход в нее освещал фонарь, и Кешка увидел взбегающего с тачкой на дорожку, покрытую жестью, жаксынского бича Митяя. И удивился этому. Митяй не состоял в штате кочегаров, от работы бегал, как тушканчик от лисы — прыжками, кормился больше за счет мелких авантюр и не более крупного воровства.
— Митяй, ты, что ли? — словно обознавшись, спросил Кешка.
Митяй бросил тачку, испуганно оглянулся.
— Напугал, растуды твою!.. Я, кто же еще?!
— А чего ты здесь, среди ночи, с тачкой?
— Помоги лучше, чем спрашивать — котел затухает!
— Так ведь за спасибо даже в психушке не вкалывают! — попытался отвязаться от столь незаманчивого предложения Кешка.
— Я тебе не «спасибо» в стакан наливать буду!
— Это уже интеллигентный разговор! Погоди, портянки повешу сушиться — по самые влез.
Митяй подхватил тачку.
— Ты возле котла жди. Уголь шухлевать будешь.
За пятнадцать минут они подбросили топлива и в один и в другой котел. Запыхались с непривычки, сели на табуретки отдыхать.
— Чуть не прозевал. По новой растапливать пришлось бы, — объяснил Митяй.
— А где сожитель твой, Ваня?
— А-а!.. — Митяй в досаде махнул рукой. — Я чего здесь... Примчался ближе к вечеру в нашу развалюху председатель поссовета. Спасайте, говорит, ребята. Кочегар напился, сменщик его тоже. Даю, мол, червонец. А я ему: нема дураков за червонец смену горбатиться! Накинул пятерик, мы с Ваней ноги в руки — и сюда. По пути в гастроном забежали, бормотухой затоварились. Я Ване приказал: по сто граммов, и до утра — сухой закон. Когда он, сука, бутылку спер и как, не исчезая с глаз моих, умудрился вылакать — сплошное удивление. Лежит в отрубоне за котлом. Я ему завтра клизму вставлю!
Кешка вздрогнул — взгляд его упал на топчан с грудой лохмотьев. Митяй в недоумении посмотрел в ту сторону, куда, был направлен взгляд Кешки.
— Чего ты? — шепотом спросил он.
— Померещилось, — ответил Кешка.
— Как ты думаешь, сколько времени?
— И думать нечего — сереет уже. Значит, около шести.
Митяй засуетился, полез под топчан, зазвенел бутылками, вытаскивая грязную парусиновую сумку.
— Можно бабахнуть по стаканцу. До конца смены не отрубимся, я думаю...
— Бляха-муха! — восторгнулся Кешка, пересчитывая про себя горлышки бутылок. Их оказалось пять штук.
— У меня еще сюрпризец имеется, — довольно засмеялся Митяй. Он любил ощущать себя богатым и щедрым, что редко случалось в его бичовской жизни. — Мы с Ваней полкастрюли голубков сварили.
— Вы с Ваней просто графья!
Выпили по стакану, потом по второму, но на том и придержались. Кешке и этого хватило: повело его — не прошло еще от Любиного угощения.
— Слабак почище Вани! — подметил его состояние Митяй._
— Як тебе не после недели воздержания пришел. Три часа не прошло, как самогнет у Любки-рыжей глушил, — вяло оправдался Кешка.
— Пока не отрубился, навози уголька. Заодно и проветришься!
У Кешки заплетались ноги, не справлялся с равновесием вестибулярный аппарат, но он привез-таки несколько тачек угля, чем раздобрил милого в минуты легкого опьянения Митяя.
— Ну давай еще по одной — и на топчан. Сосни часок — я сам подброшу.
— На какой топчан? — Кешкины глаза округлились от ужаса. — Нет, нет! Пошел он к черту! Я не буду спать!
— Чего переполошился? — удивился Митяй.
Больше года, с позапрошлой зимы не заходил в центральную котельную Кешка. И на то у него были весьма веские причины.
В начале декабря 1978 года из бегов - «гастролей» по Дальнему Востоку в Жаксы возвратились Васька-фотограф и Кешка. Лето и осень они прокантовались в городке Белогорске, что в Амурской области, у Васькиной бабы — какой-то очень давней знакомой и не знакомой даже, а сожительницы. При всей интимной нежности к своему фраеру Люси (так звали Васькину бабу) не желала кормить двух дармоедов, которые боялись сунуть нос в город и целыми днями резались в подкидного или буру. И однажды в первозимок она поперла их к чертовым матерям, благословив на дорожку десятком милых русскому сердцу матюков.
По прибытии в Жаксы они, за неимением более комфортабельного места жительства, остановились в центральной котельной, дабы переждать морозы и временное отсутствие гениальных идей в голове Васьки.
Были на подхвате у кочегаров, а Кешка ко всему прочему заделался почти штатным гонцом в магазин.
Однажды буранным вечерком, незадолго до Нового года, наверное, недели за две, они — кочегар Жаманкулов, Васька и Кешка играли в «очко» на спички и горевали по поводу коллективной своей нищеты, когда втроем не могли наскрести даже на бутылку «Агдама». И вдруг, как в сказке, дверь распахивается. Заходит мужик в полушубке— здоровый бык, ряха красная, как томат, маринованный в собственном соку. Идет смело к ним, как к дружбанам закадычным — глаза веселые. И дураку ясно — основательно за воротник заложил.
— Здоровеньки булы, хлопцы! — Мужик поздоровался, как в рупор прогудел.
— Салям! — ответил Жаманкулов — верткий крепыш с холодными, почти неподвижными карими глазами.
— Потапенко я, с Украйны. Сдав вашему совгасу племенну скотину. Собрався йихать, а поезд у ничь. На вокзале холодрыга. Тоди я купив в гастрономи пляшку горилки и гадаю соби: пийду-ка я до брата-кочегара, у його и тепло, и побалакать можно. Як вы? — со словоохотливостью пьяного рассказал о себе гость.
Ну кто же будет против, когда дармовая водка сама пришла?! Правда, увидел Потапенко, что их в котельной трое — погрустнел слегка. Но одному нальешь, другого не обнесешь — одна компания. Выпили жаксынцы с украинцем за здоровье его племенных телочек.
— И быка! — уточнил гость.
— И быка, — согласились с ним остальные.
Мужик заводной попался — по-царски червонец на стол бросил. Не спорили — кому бежать. Кешка, как пионер, всегда готов — стартовал в гастроном. Через полчаса с двумя бутылками «Русской» вернулся. Жаманкулов карты со стола сгреб, еще одну беленькую раздавили. Потапенко этого хватило: поклевал-поклевал мясистым носом — и на топчан спать полез. Тут и Кешка не выдержал, рядом с ним примостился. Обнялись, как родные братья.
И очнулись вместе. Может быть, чуть раньше заезжий мужик — Кешка слышал, как он через него перелазит, от этого и проснулся. Потапенко с топчана слез, а Кешка лежать остался - сил не было оторвать от фуфайки, под подушку приспособленный, голову.
Кочегар с Васькой, пьяные в дым, в буру режутся и на украинца никакого внимания не обращают, словно видят его впервые.
— Айда, хлопцы, горилку допьем, и я пийшов! — сказал им мужик. — Де ж пляшка ще видна?
— Какая пляшка? — невинно спросил Жаманкулов. — Бутылка? Мы же ее вместе с тобой выпили. Не помнишь?
— Щё ты вякаешь? Або у Потапенко голова половой напханая?
Кешка почувствовал, что конфликт назревает — глаза закрыл, лежит, не шелохнется.
— Говорим же: с тобой выпили! — возмутился и Васька. — Нажрутся до потери пульса — потом как звать себя забывают!
Потапенко с похмелья, видно, скорый на расправу был. Подошел к Ваське — и хрясь со всего размаху в ухо! Так крепко приложился, что Васька к Кешке на топчан приземлился. А мужик уже на кочегара надвигается. Тот задом, задом, схватил в углу топор — и украинцу острием между глаз. Потапенко не охнул даже — мешком осунулся.
— Ты что наделал?! — от страха завопил Васька. А Жаманкулов — на него с топором. — Не дури, не дури, Кайрат!
Васька сначала заверещал, а потом уговаривать кочегара начал.
— Не убивай. Ни одна живая душа не узнает. Я тебе схоронить помогу.
Кешка все это слышит, но не видит. Поджилки трясутся — боится глаза открыть.
Слышит, вроде как успокоился Жаманкулов. Только дышал часто и шумно, как стайер после финиша. Через некоторое время кочегар спросил у Васьки:
— А Кешка спит?
И после паузы:
— Если не спит, ты его кокнешь!
От одних этих слов Кешка едва не умер.
Подошел к нему Васька, стал тормошить. Осторожно это делал боялся, что Кешка проснется. Он и проснулся бы, если бы спал. А так притворился, будто в полном отрубоне, даже промычал что-то невнятное для убедительности. Артистично сыграл — Жаманкулов поверил.
— Давай вынесем мужика на улицу и шлаком забросаем, — предложил кочегар Ваське. Голос Жаманкулова дрожал видно, доходить начало, что натворил.
— Ты что?! Весной шлак убирать будут — найдут. Тогда нам с тобой хана! — Кешка понимает, что Васька суетится, говорит скороговоркой, старается выслужиться. — Лучше в топке его сожгем — до утра сгорит.
У Кешки от этих слов волосы на голове миллионами змей зашевелились, руки-ноги отнялись — не меньше, как паралич разбил. Центральная котельная за поселком, на улице ночь. Кричи, не кричи — кто услышит?
Не видел, не слышал Кешка, как они свое черное дело сделали. Опомнился, в себя пришел, когда Жаманкулов начал деньги делить, что из карманов у Потапенко вытащил. Протянул он Ваське несколько ассигнаций и говорит:
— Сматывай удочки! И чтобы тебя в Жаксах больше не видели. Расколешься — под землей найду!
Васька ушел, а Кешка лежит на топчане — ни живой ни мертвый. Жаманкулов взял топор, подошел к нему, думу думает. А Кешка уже со светом белым прощается, у всех, кого в жизни обидел, мысленно прощения просит. Но слышит: отошел Жаманкулов. И вдруг боль острая в бок, будто нож туда воткнули. Закричал Кешка как резаный, вскочил. Перед ним кочегар с вилкой в руках стоит, смотрит испытующе. Кешка зажал рану рукой, всхлипнул.
— Ты чего, Кайрат? Больно ведь!
— Дрыхнешь, шакал вонючий! Уголь привези!
— А где Васька? — продолжал играть под «дурачка» Кешка.
Жаманкулов еще раз с подозрением взглянул на него, но начал все же успокаиваться — не так нервно уже играли желваки на скулах.
— Ваську хохол сговорил на Украину ехать. Оба ушли часа два назад. А ты меньше разлеживайся — не в санатории Пицунда!
После той злополучной ночи Кешка, чтобы у Кайрата подозрений не возникло, еще неделю околачивался в центральной котельной, а потом от греха подальше на вокзал перебрался. Через несколько дней начальник медвытрезвителя подобрал его за гастрономом пьяного и замерзающего. Оформили документы в наркологическое отделение, а когда Кешка из Аркалыка вернулся, Жаманкулова след простыл.
Второй год живет Кешка с этой тайной, десятой дорогой обходя центральную котельную. Искали, не искали Потапенко — того он не знает, но все тихо в Жаксах, никаких страшных слухов об убийстве. Первое время мучился Кешка: а ну как докопаются — и ему не поздоровится.
«А при чем здесь я? — успокаивал он себя. — Спал пьяный, ничего не видел, не слышал».
Когда давила тоска, что особенно часто случалось в последнее время, с ним начинала играть в пятнашки совесть.
«Не будь барахлом — заяви в милицию!» — подзуживала она его.
«А пошла ты ?!.. — отвечал он ей. — Я никого не убивал. Надо легавым — пусть сами ищут».
Она не унималась:
«А если тебя, как Потапенко?»
«Ну и хрен с ним! — злился Кешка. — Мне от этого потом ни холодно ни жарко».
Не совести своей он боялся, а Жаманкулова — пока милиция того найдет, он Кешку скорее сыщет. Убрать бича — чего проще? Кто его искать станет?
— Наливай, Митяй! Чего му-му тянешь?! — проворчал разозленный на весь свет Кешка.
«Вальты вразбежку пошли», — решил про себя Митяй и налил Кешке вина граненый стакан до краев.
Незаметно пролетела весна, и к концу мая было так жарко, как обычно бывает в этих местах в июле. Вся страна готовилась к Олимпиаде, на которую так мечтал попасть Мануйлов. Но Кешке было наплевать на все это с высокой сопочки, он и не вспомнил бы об этом, если бы не купил ситцевое кепи с эмблемой «Москва-80», спасая голову от яростного солнца. Что-то похожее на жалость к себе шевельнулось в нем, когда он в магазине вертел дешевенькое кепи в руках, но не дал тоске разрастись, потому что дел стало невпроворот.
После зимней спячки Кешка с необыкновенной легкостью брался за любую работу: редакцию побелить — пожалуйста, на элеваторе воду из нижних галерей таскать ведром — кто против, ежели в стране на насосы дефицит, сортир почистить — почему бы и нет — деньги не воняют. Сашка, закончивший отопительный сезон и севший на девяносторублевую ставку, был рад Кешкиным заработкам и несколько раз сам бегал в гастроном. Жаксынские начальники и начальнички, которым позарез нужны были безотказные трудяги без больших запросов, весной обращались к нему ласково: «Кешка, сделай, пожалуйста!», «Кеша, друг, выручи!»
Но с наступлением времени весеннего призыва у Кешки пропал всякий трудовой энтузиазм, словно он сам собирался служить в армии. Имея новое кепи, ему неприлично стало ходить в рванье, он всего за полтинник купил в магазине уцененных товаров белую рубашку фасона времен освоения целины, там же — за пять рублей туфли с невообразимо широкими и круглыми, загнутыми, как у клоуна, носами. Брюки же, почти новые, с небольшой дырочкой под коленом подарил ему Сашка.
Принарядившись, критически оценив себя в зеркале, Кешка решил, что вполне сойдет за фраера, и переехал на новое место жительства — на железнодорожный вокзал.
Время от времени — раз в неделю, а то и чаще — отправляли отсюда партии призывников. Проводы после домашних застолий переносились на перрон с морем бухла и горами закуски — от такого богатства и от щедрой по пьянке русской души перепадало и Кешке. Проводы пускались в пляс, слезы и драки, но в этих трагикомических мероприятиях Кешка участия не принимал. Он скромненько пристраивался к семейному торжеству под акациями или в салоне автобуса, говорил одну-единственную фразу: «Я тоже служил», и этого было достаточно, чтобы стать полноправным участником застолья или даже членом семьи.
«Выпей за нашего сыночка!» — исходя пьяными слезами, предлагала какая-нибудь мамаша.
«Напутствуй солдата!» — требовал папаша, покачиваясь на неверных ногах, как подсолнух на ветру.
Кешка выпивал и напутствовал от имени жаксынской общественности.
Но не только этим вокзал для Кешки был привлекательнее Сашкиной конуры. Главным образом — обилием пассажиров, которые отличались от обычных людей коммуникабельностью и щедростью: Кешке перепадало и поесть, и закурить. Если и бывали неудачные, голодные дни, он не переживал. Соберет десяток бутылок по кустам и шикарный обед в кафе. А летней квартирой ему служил стог соломы на краю поля в километре от вокзала.
Любимым местом Кешки в окрестностях станции был скверик возле железнодорожной водокачки. После одиннадцати утра там собирались похмельные мужички. Всем, кто хотел выпить, нужен был стаканчик. А уж солененький огурчик как нельзя кстати приходился в этой ситуации. Стаканов Кешка сколько угодно мог натаскать из кафе, а целое ведро огурцов ему безвозмездно ссудила вокзальная буфетчица, так как огурцы у нее к весне заплесневели. Кешка старательно вымыл их под колонкой и хранил на «летней квартире» в рассоле. В сквер носил огурцы в целлофановом мешочке, сам не съел ни одного, потому что они были предметом его бизнеса. Он предлагал мужикам стаканчик и огурец, за что те оставляли ему кто сто, а кто и двести бормотухи. К Кешке так привыкли, что чуть не принимали его за официального содержателя сквера и не возмущались бы, если бы Кешка вдруг ввел гривенник пошлины за вход в скверик.
К полудню у Кешки кончались запасы огурцов, а сам он с трудом добирался до стога. Путь от скверика до своей «летней квартиры» был самым большим неудобством в его безоблачной майской жизни.
Он не рисковал спать в скверике или на вокзале, не желал жертвовать в пользу милиции хотя бы одним майским днем, милым сердцу бича. Обычно после дежурства в скверике, с которого возвращался на заплетающихся одна за одну ногах, он часа три отсыпался в стогу. Возвращался на вокзал расстроенный похмельными последствиями, с тусклым взглядом, в измятых в гармошку брюках и соломой в волосах. Кешка бежал в скверик, вытаскивал из тайника в кустах грязный мешок с бутылками, которые насобирал за день, и вприпрыжку — аж бутылки позванивали — летел в посудоприемный пункт, чтобы успеть до закрытия. Получив деньги за бутылки, он причесывался огрызком расчески, стряхивал с одежды пыль и с достоинством шел в кафе, где брал двести вина, выбивал чек на котлету и четыре кусочка хлеба, сидел долго, с независимым видом потягивая бормотуху из граненого стакана, с толком закусывая — до самого закрытия, пока его не просили очистить помещение.
Летели дни, похожие друг на друга. Незаметно пришел июнь. Уходили на службу последние призывники, Кешкин бизнес в скверике беззастенчиво перехватила проворная бабка, живущая у гастронома, и Кешка уже подумывал о смене дислокации. Еще несколько дней он по инерции жил на вокзале, будто ждал какого-нибудь особенного случая.
И дождался. В субботний день случилась в Жаксах свадьба с купеческим размахом. Жених с невестой уезжали то ли к ее, то ли к его родителям. Кешка попался на глаза подвыпившему жениху, и тот заставил его пить за здоровье носатой своей невесты, пока Кешка не свалился с ног, едва добравшись до кустов акации. Он впервые потерял бдительность, но милиционеры, дежурившие на вокзале, узнавали известного в Жаксах бича, равнодушно проходили мимо. Бич Кешка не был социально опасным и никогда не угрожал общественному порядку.
Кешка проснулся, когда уже рассветало. В здешних местах даже летние ночи — прохладные, поэтому у Кешки зуб на зуб не попадал. На перроне пели, вернее, пел кто-то один, и Кешке почудилось — очень знакомым ему голосом. Он прислушался к этому голосу с искусственной хрипотцой, который надрывался под простенькие аккорды на гитаре.
Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого света отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
«Арнольд! — вздрогнул Кешка. — Откуда он здесь взялся? Опять в шабашку приехал?»
На четвереньках он стал выбираться из акаций. Шатаясь, вышел на перрон, и все поплыло перед его глазами: земля и небо, железнодорожные составы и дома. Разламывалась голова, будто кто-то хватил его ломиком по темени, когда он спал. В минуты глубокого похмелья на него накатывала такая безысходность, что он ненавидел себя, ненавидел свою беспутную жизнь, ненавидел все на свете; от великой ненависти этой возникало желание повеситься, утопиться, броситься под поезд, чтобы одним махом покончить и с болью в голове, и со смертной тоской. Он уже как будто решался на что-то, стоял между путей, когда приближался к станции на большой скорости сквозной товарняк, но страх останавливал его.
Без того чтобы не опереться на что-нибудь, Кешке трудно было стоять, и он спустился на несколько ступенек вниз, сел на лестницу, ведущую к перрону, в стороне от вокзала.
За спиной прогромыхал на стыках поезд, набирая скорость, после того, как локомотив миновал станцию, и стук этот болью отозвался в сердце. Кешка помнит, Кешка хорошо помнит, что жизнь его кочевая началась с тревожной тоски, когда он стоял у железнодорожного моста за Липянами в тот самый злополучный день, начавшийся утренней ссорой жены с Лимоновной и его бегством через окно из дома. Только тогда мимо него пролетел пассажирский поезд, в котором сидели люди, уезжающие в незнакомые Мануйлову места, где, может быть, совсем не так тоскливо и безысходно, как в Липянах.
Он пришел на стадион как нельзя вовремя: любители спорта сбрасывались в круг, вытряхивая из карманов кто что имел в наличии: мятые трешки и рубли, мелочь — утаенные от жен деньги, выклянченные едва ли не на коленях на опохмелье или просто для того чтобы чувствовать себя равноправным членом тесной мужской компании. С этого по выходным начиналась выпивка — с двух-трех бутылок вина на пятерых-шестерых. Потом проигравшие в «попу» бегали по Липянам, занимали у знакомых деньги — и так до вечера, пока никто из пенальтистов не попадал уже по мячу, а вратарей самих надо было ловить, чтобы они не упали за черту ворот.
— Гена!— обрадовались друзья-спортсмены. — Вытряхивай карманы!
Мануйлов сделал жалобно-безнадежную гримасу, разводя в стороны руки, что означало: с меня нечего взять, кроме быстрых ног, но друзья-спортсмены были в курсе его семейного положения и не обижались.
— Тогда тебе бежать!
Геннадий, возвратившись из гастронома, был удивлен, увидев разминающихся на поле футболистов. В кои века липнянцы собирали команду! Воскресные планы их компании несколько менялись, но неплохо было вместо надоевшей «попы» посмотреть футбол.
— Что за игрушка предстоит? — спросил он у друзей.
— А ты не знаешь, что ли? На кубок области с заводом «Дормаш».
Мануйлов как-то равнодушно, без всяких внутренних эмоций вспомнил, что с командой «Дормаша» работает его однокурсник и друг Леша Аксентьев. Он еще не знал, что Леша, сам того не подозревая, сыграет в его судьбе роковую роль. Конечно, не впрямую, косвенно. Да и при чем здесь Леша?
После игры, в которой победила Лешина команда, Мануйлов с Аксентьевым отошли за вагончик-раздевалку, чтобы поговорить по душам, вспомнить студенческие годы. Геннадий рассказал другу о своих мытарствах, незадавшейся жизни, и Аксентьев расстроился
— Вот уж не ожидал! — удивился он. У тебя-то, думал, все в ажуре.
— Не пофартило, —уныло ответил Геннадии.
— Завяжи с этим делом. — Леша щелкнул пальцем по своей шее.
— Толку... Я на такую мель сел, что никаким буксиром не вытащить.
— Что ты отходную себе играешь?! Мне не легче было — выкарабкался. Квартиру получил, кое-какие деньжата завелись.
Геннадий усмехнулся.
— Тебя же паханы на весу держали, теща подкидывала. А мне нужно своим горбом.
— Но ты же мужик, елки-палки!
— A-а!.. Надоело все до едрени-фени. Уехать куда глаза глядят! — Мануйлов безнадежно махнул рукой.
— И езжай. На БАМ, к примеру. Три года попашешь — из нужды вывернешься.
— За какой я туда поеду? У меня денег дома — рубль с полтиной!
— Вот что, Гена. Если надумаешь ехать, я тебе с деньгами помогу. Займу рублей двести — через год вернешь. Адрес мой знаешь? — Аксентьев засобирался — ему посигналили из автобуса.
— Знаю. Спасибо, Леша, на добром слове!
— Заезжай! — убегая к автобусу, крикнул Леша. Под вечер у железнодорожного моста, где Геннадий под сенью ив выпивал со своими друзьями-спортсменами, он твердо решил, что поедет в Тынду — уж очень обнадеживающе выстукивали на стыках колесные пары пассажирского поезда.
Мимо Кешки, взявшись за руки, прошла молодая пара. Худенькая черноволосая девушка посмотрела на измятого, похмельного бича с испугом, ее спутник, розовощекий блондин — с презрением. Кешка не рассерчал, не обиделся даже на юношу; он лишь подумал, постучав ладонью по лбу, отгоняя боль к затылку: «А как посмотрел бы он, Гена Мануйлов, если бы лет восемь назад проходил бы под ручку с Верой мимо такого бича? Неужто с меньшим презрением?»
И представил эту картину: он с Верочкой проходит мимо бича, ну, скажем, мимо Митяя или Булата Длинного, и засмеялся, перебивая смех кашлем и иканьем. Он смеялся не оттого, что ему было смешно, — разыгрались нервы. Он вскоре проглотил смех и всхлипнул, словно собирался заплакать. Подлетел со стороны степи ветер, лизнул его в лицо, будто собака, пожалевшая хозяина. Кешка оперся руками о колени, пытаясь подняться, и ему показалось, что его грязные руки с обкусанными ногтями покрываются густой рыжей шерстью. Он испуганно сбросил руки, вскочил.
«Вот так, наверное, сходят с ума», — подумал он.
Кешка спустился с лестницы, пошел к колонке. Как долго ни держал он голову под ледяной струёй воды — большого облегчения это не принесло. «Отчего заболел — тем и лечиться должен», — повторил он уже давно усвоенную истину и стал вычесывать обломком расчески соломинки и сухие травинки из волос, потом снял с себя рубашку, выбил ее о ствол тополя. Он знал, для чего это делает: сейчас пойдет на перрон, подойдет к Арнольду (он был уверен, что пел Раткевич), может быть, у него найдется сто граммов вина или водки для старого друга. Кешка усмехнулся про себя: уж кем-кем, а другом он Арнольду не был.
Арнольд, а он, верно, приехал в шабашку — иначе ему в этих степях нечего делать, — мог в любую минуту исчезнуть с перрона. Он ждет, видимо, попутного транспорта до какого-нибудь совхоза, может быть, до Кендыктов, где они шабашничали четыре года назад. Раткевич и его бригада могли уже уехать, потому что не слышно было бренчания гитары и его голоса, а вместе с Арнольдом исчезнет надежда и на раннюю опохмелку. Но Кешка не спешил, он будто нарочно истязал свою плоть, истерзанную похмельной болезнью, — сел на лавочку, с трудом раскурил влажный, подобранный у колонки бычок. Он уверен был, что придет на перрон, но оттягивал эту минуту — ему было страшно, он боялся Арнольда — об их приятельских взаимоотношениях напоминал выбитый бригадиром зуб.
Кешка сам искал шабашку на это лето, и вот сейчас, когда случай подвернулся попасть в нее, он не горит желанием, потому что и за четыре года не стерлись в его памяти те унижения, побои и каторжное вкалывание ради двух сотен в месяц и штуки бормотухи ежевечерне. Лучше он пойдет к армянам или ингушам, лучше он лето прогорбатится на луковых плантациях у корейцев но только не с Арнольдом.
«А что, меня на аркане к нему тянут? Откажусь — и всех делов, бляха-муха!»
Кешка сосал бычок, пока не обжег губы. От курения ему сделалось совсем дурно — затошнило, закружилась голова, и, когда он поднялся с лавочки, его повело в сторону.
«Будь проклята эта дурацкая жизнь! Или повеситься, или жить по-человечески!» — промелькнула в его голове мысль, которую Кешка принял за свою. Не из-за угла ли станционного склада, мимо которого он проходил, кто- то шепнул ему эти слова?
«Похмелиться? Найти бухло, если даже придется ползти за ним по-пластунски до Киймы!» — эта мысль, похоже, принадлежала ему.
Он почему-то подумал, что до Киймы 42 километра — марафонская дистанция, и ему, пожалуй, не доползти и за трое суток. Лезут же черт знает какие мысли с похмелья!
«Уехал Арнольд или еще на перроне?» — только об этом теперь мог думать Кешка, увеличивая ширину шага.
Ах, где был я вчера,
Не сыскать днем с огнем,
Только помню, что хата с обоями,
Помню Клавка была И подруга при ней —
Целовался на кухне с обоими.
Нет, Арнольд еще здесь! И что с того, если Кешка ненавидел его всем нутром, всей плотью своей?! Пусть черт, дьявол, шайтан или еще какая-нибудь гадость — перед кем угодно молился бы он на коленях, чтобы дал опохмелиться. И не только молился бы — пятки лизал бы, скулил собачонкой, ластился котиком.
— Кешка! Жив бичуга! — Арнольд с размаху приложился огромной пятерней к плечу Кешки, который от такого проявления нежных чувств присел и охнул. Раткевич будто бы обрадовался появлению старого знакомого, во всяком случае маленькие стального цвета глазки его слегка потеплели. Розовощекий, курносый толстячок Арнольд производил впечатление добряка, но Кешка знал истинную цену его доброжелательности.
— Поворотись-ко, сынку! — захохотал Арнольд, не без интереса рассматривая бича. — Так ты, значит, здесь, в Жаксах? Женился? Нет?
Кешка страдальчески сморщился — не этого вопроса он ждал от Раткевича. А тот, поглаживая аккуратную свою бородку, начал строить предположения.
— На женатика ты не похож — приятной бабой не пахнешь. Да и видок! Видок у тебя, Кешка, совсем неважнецкий! Не заболел ли ты часом?
Кешка мудро молчал, разглядывая приехавших с Арнольдом. Вот этого — круглолицего, веснушчатого крепыша в штормовке он знает. Борька Ефименко — правая рука Раткевича, которого бригадир в прошлой шабашке ставил старшим над бичами. Знаком Кешке и высокий, худой. Имя его он запамятовал, а фамилия при его почти двухметровом росте запоминающаяся — Короткий. Еще один компаньон Арнольда — маленький, щупленький очкарик. Это из новеньких, таких хлюпиков в прежней Арнольдовой шабашке не было. Поредели ряды «войска» Раткевича — в прошлый раз их шестеро приезжало.
Наконец Арнольд понял, что Кешка сегодня пока не расположен к светским беседам, и задал интересующий его вопрос:
— Полечиться не желаете, сэр?
Кешка разволновался, облизнул сухие губы.
— Не мешало бы...
Арнольд переглянулся с шабашниками, расхохотался.
— Похмелю тебя, Кешка! Однако при условии.
— Каком? — нетерпеливо спросил бич.
— Идешь ко мне в шабашку и приводишь пяток бичей.
Кешка нерешительно переступил с ноги на ногу.
— У меня другие планы, Арнольд.
— Планы у бича? Оригинально! — веселился от хорошего настроения Раткевич. — Серега, вытащи-ка из рюкзака пузырек портвейну!
Очкарик передал бригадиру «бомбу» бормотухи, от одного вида которой у Кешки заурчало в желудке.
— Утолим жажду, други мои! — ехидно сказал Арнольд. Он открыл бутылку, сделал несколько глотков, пустил по кругу. Очкарик отказался, а Ефименко с Коротким приложились. Кешка протянул руку за бутылкой, но Раткевич перехватил вино.
— Ну... Жду вашего решения, сэр!
Раткевич поболтал перед носом Кешки искрящейся на солнце жидкостью.
Кешка почти с ненавистью взглянул на него. Старые Арнольдовы штучки: унизить, затоптать, а потом великодушно бросить подачку. Больше всего Кешке хотелось сейчас сказать Арнольду: «Подавись ты своим пойлом!» — и, насвистывая, независимо уйти с перрона. Но бутылка в руках бригадира гипнотизировала его. Он уговаривал себя: да плюнь ты, пусть выкаблучивается! Пообещай, глотни бормотухи и смойся. Ради опохмелиться и честного человека обмануть не грех, а Арнольда — бог велел. С другой стороны — почему в шабашку к Раткевичу не пойти? Чем она хуже пахоты у армян или ингушей? Тем, что в закавказских и кавказских бригадах бичи получают подзатыльники, а в Арнольдовой — зуботычины? Зато Раткевич платит щедрее. Корейцы тоже не любят зарплатой делиться. Нет, двести колов в месяц и бутылка вина к ужину стоили одного-двух выбитых зубов.
— Ладно, — выдохнул Кешка.
— Что «ладно»?
— Согласен.
— Глотай и пойдешь с Борькой за бичами. — Раткевич бросил Кешке бутылку.
Кешка ловко перехватил ее, не пролив ни капли. Отвернувшись от шабашников, словно стеснялся их, он вылил не менее пол-литра вина в рот. Бормотуха прошла через горло, как через воронку — ни разу даже не вздрогнул кадык.
— Упало! — засмеялся Арнольд. Заулыбались и Борька с Коротким. И лишь очкарик брезгливо отвернулся от Кешки.
«Пижон!» — про себя обругал Кешка очкарика.
Бригадир, удостоверившись, что в бутылке не осталось ни капли, зашвырнул посудину в кусты.
— Топайте, Боря! Автобус в восемь ноль-ноль. Только придурка того, Булата, не берите!
— Без Булата нас всего трое бичей в Жаксах осталось, — ответил Кешка.
— Да... — ухмыльнулся Арнольд. — Вымирает ваш благородный род!
— Возьмем Булата. Я из него если не человека, то окончательного придурка сделаю! — посоветовал Ефименко.
— На безрыбье — и рак рыба, — равнодушно согласился бригадир.
Кешка почти точно знал адреса жаксынских бичей, Митяй обычно ночевал в заброшенном общежитии ПМК. Там же, если не ссорился с Митяем, должен быть и Ваня. Найти Булата еще проще: он далеко от кафе не отходил и ночевал в вагончике, служившем когда-то стрелковым тиром.
Уговаривать бичей долго не пришлось — им хоть и в зону, лишь бы там бухло выдавали. Правда, Булат не понял, куда это его полусонного, полупьяного тащат, но присутствие Кешки с Митяем успокоило его.
— Условия прежние: бесплатный стол, бутылка бормотухи к ужину и полтораста колов в месяц, — сказал перед посадкой в автобус Арнольд.
— В прошлый раз двести было! — заспорил Кешка.
— При хорошем поведении и ударном труде — накину! — успокоил его Раткевич. — А пахать будем в благодатном Клондайке, что в переводе с английского означает Кендыкты.
В автобусе Кешка задремал, и приснился ему мимолетный, странный сон, будто возвращается он в Липяны с Байкало-Амурской магистрали с аккредитивом на пять тысяч, в новенькой тройке и фетровой шляпе.
Будучи бичом-кочевником и потом, осевши в Жаксах, Кешка думал, когда память возвращала в прошлое, что вся его жизнь пошла наперекосяк со слов московской кассирши:
— На поезд «Москва — Владивосток» билетов нет! Если хотите, берите с пересадкой в Свердловске.
Больше суток торчать в Москве Мануйлов не захотел и взял билет с пересадкой.
В Свердловск он приехал утром, а нужный поезд шел только в семь вечера. Пройдясь по привокзальным улицам, отметив, что Свердловск представляет из себя среднестатистический областной российский город с коробками пяти- и девятиэтажных домов, с копотью, мусором на тротуарах и в скверах, он потерял интерес к его достопримечательностям. Пообедать, набрать в киоске газет и где-нибудь на лавочке почитать — так решил он проблему оставшегося свободного времени.
Солнечным воскресеньем он напрасно пытался найти открытые кафе или столовые, будто в выходные свердловчане соблюдают пост и питаются исключительно хлебом с водой. Благо — пивбар на пути попался.
Мануйлов взял пару пива, селедку, вареное яйцо, поискал свободный столик. Хотелось пить, и он жадно, как с похмелья, осушил кружку пива. В это время к нему подошел молодой человек интеллигентного вида — в очках, при галстуке, в шляпе, с черным дипломатом в руках.
— Разрешите? — вежливо спросил он, ставя на стол кружку.
— Пожалуйста, — ответил Геннадий, отодвигая ногой мешавший молодому человеку чемодан.
Молча пили каждый свое пиво, как и полагается незнакомым людям, случайно встретившимся за одним столиком в пивбаре. Но интеллигентик, оглянувшись на дверь, вытащил из дипломата бутылку «Вермута», посмотрел заискивающе на Геннадия.
— Составите компанию?
Мануйлов был в нерешительности: в дороге пить опасно, да еще будучи транзитным пассажиром в чужом городе, но жаль было интеллигентика, наверняка какого-нибудь инженеришку, который, как и всякий истинно русский, не привык пить в одиночку.
«Что мне сделается от стакана вина?!» — махнул он рукой на сомнения.
И подвинул пустой бокал.
— Понимаете, одинокий пьяница, что самоубийца. А я, знаете, перебрал вчера на банкете. Друг кандидатскую защитил, — оправдывался очкарик.
— Понимаю, — улыбнулся ему Геннадий в знак мужской солидарности. — За знакомство!
— Меня вообще-то Валерием Михайловичем зовут. Но для вас — просто Валерий.
— А я — Геннадий, — ответил Мануйлов, очищая яйцо.
— Разрешите? — смущенно спросил Валерий, прикоснувшись к селедке.
— Закусывайте, закусывайте! — Геннадию нравился интеллигентик. Он подумал только: «Зачем такие тихони пьют? Напившись, верно, плачут в тряпочку».
От выпитого стало веселее. Мануйлову захотелось выпить еще, в свою очередь отблагодарить очкарика — он не привык быть должником, когда деньги есть.
— Где тут у вас, Валерий, гастроном? Теперь я тебя угощаю!
— А не много? — испугался тот.
— Да что там бутылка на двух мужиков!
— Знаете, у меня еще одна есть, — робко предложил Валерий.
— Я ее покупаю и угощаю тебя.
— Ну как вам не стыдно! — Новый знакомый покраснел, — Деньги вам пригодятся. Вы, вижу, проездом?
— Да. Поезд вечером. На БАМ еду.
— Все нынче на БАМ едут, — ответил Валерий, украдкой разлив вино.
Выпив, Геннадий и Валерий вышли в скверик напротив пивбара — перекурить.
— Вы говорите — поезд у вас вечером?
— Да.
— А не могли бы вы оказать мне маленькую услугу?
— Какую? — насторожился Мануйлов.
— Понимаете... Я вечерней электричкой еду к родителям в Первоуральск. Купил им стиральную машину хорошей марки. Не помогли бы до вокзала ее довезти?
— Господи! О какой мелочи просишь. С удовольствием!
Они долго ехали в автобусе, затем пересели на трамвай. Приехали куда-то в пригород. Между частных деревянных и кирпичных домов тянулись узенькие улочки и переулки. Возле трамвайной остановки — приземистый черный домик с выцветшей вывеской «Продовольственные товары».
Зашли в магазинчик, взяли две бутылки водки. На немой вопрос Геннадия Валерий ответил:
— Одну у меня дома выпьем, а другую отцу отвезу.
— Так дело не пойдет! — возмутился Мануйлов. — Дома у тебя выпьем мою.
— Как знаете, — согласился новый знакомый. — Вы ведь мне поможете...
— Помощь по дружбе. А жена у тебя не того?.. — с опаской спросил Геннадий.
— Что вы, Гена! Она милая женщина, вот увидите.
Они еще долго петляли по улочкам-переулочкам, пока не подошли к длинному кирпичному дому, похожему на казарму. Вошли в дом, пошли по темному, грязному коридору.
«В каких условиях интеллигентные люди живут!» — возмутился Мануйлов за Валерия и за себя.
— Меня зовут Света, — представилась некрасивая девица в замызганном халатике. Девица села на стул, выставив худые коленки, и задымила сигаретой. Геннадий начал сомневаться, что она приходится женой Валерию. В комнатенке с подслеповатым окном царил беспорядок — на стульях и спинке односпальной кровати висело белье, из-под которого вызывающе выглядывал розовый лифчик, не убран был стол, на единственном светильнике из искусственного стекла — слой пыли.
«А что я удивляюсь? Я тоже не изгой, а живу многим лучше?» — успокоил себя Мануйлов.
Света поставила на стол хлеб, соленые огурцы, нарезанные продольными дольками, чесночную колбасу. Выпили одну бутылку, может быть, и вторую — Геннадий потом вспомнить не мог.
Мануйлов пришел в себя ночью у некрашеного забора возле какой-то стройки под тусклым фонарем, который скрипуче раскачивался на ветру. Сначала он просто пытался вникнуть в ситуацию: как он оказался здесь? Потом почувствовал, что у него замерзли ноги, что он продрог до костей, — вскочил, недоуменно уставился на ноги, на которых не было новеньких модельных туфель на высоком каблуке. Он лихорадочно начал выворачивать карманы, а их осталось немного — только в брюках, потому что и пиджак исчез. Но в карманы брюк он не клал документов и почти двести рублей денег.
Оглянувшись по сторонам, он увидел пустырь, а за ним — светящийся фонарями и редкими окнами в домах огромный, чужой город. Холодный уральский ветерок сквозняком пробивался через щели забора, высвистывая тоскливую мелодию. Равнодушная Галактика склонилась над Свердловском, безразлично светясь многомиллионными зрачками звезд. Пятачок глинистой земли, на котором стоял Мануйлов, показался ему необитаемым, пустынным островом в океане, куда его забросило каким-то фантастическим образом. Геннадий прислонился спиной к забору и заплакал.
— Че ревешь-то, мил человек? — услышал он голос справа от себя.
Мануйлов вздрогнул, повернул голову на голос — перед ним стоял старик с ружьем за плечом.
— Ограбили вот!.. — Геннадий отвернулся, вытирая рукавом рубашки лицо — именно за слезы ему было особенно стыдно перед незнакомым человеком.
— С виду, гляжу, приличный человек, а перегаром шибает, как от пивной бочки! — буркнул дед. — Собутыльники раздели, али как?
— Приезжий я, дедушка,— по-детски всхлипнул Мануйлов.
— Эх, водочка!.. Пойдем-ка, мил человек, со мной.
— Куда? — испугался Геннадий.
— Ботинки у меня в сторожке есть. Иль ты желаешь босиком по Свердловску гулять?
Мануйлов послушно поплелся за сторожем.
— У тебя какой размер-то? — спросил старик.
— Сорок первый.
— Сгодится. Ботиночки, правда, не прямо с магазину, но удобней, чем в носках-то. Ты по какому делу к нам?
— Транзитом я. На БАМ ехал.
— Вот те и БАМ по голове. Поди, и документы и деньги вытащили?
— Все, — обреченно вздохнул Геннадий. — Даже билет на поезд.
— Ишь ты! Денег много было?
— Двести рублей.
— Немало! — сокрушался старик. — Вот до чего водочка-то доводит! Ты уж не обессудь, мил человек, деньгами помочь не могу.
В сторожке дед предложил Мануйлову ботинки с потрескавшейся кожей, но еще крепкие.
— Вот что, мил человек! Устраивайся к нам на стройку. Как без копейки в кармане-то?
— Куда мне без документов! На товарную пойду. Пару вагонов разгружу — и назад, домой.
— Ну как знаешь!
На товарной под разгрузкой стояли только вагоны с углем, и, хотя Мануйлову выдали халат, рубашку и брюки он испачкал до неузнаваемости. И это ладно, но работать пришлось с бичами, которые взяли его в свою компанию. После шабаша, как водилось у бичей, все скинулись по пятерке на водку. До второго вагона у Геннадия дело не дошло. Попало сто граммов в рот — и пошло-поехало.
Вот почему неприятен был Кешке новенький, Серега, — похож он был на Валерия из Свердловска. Такой же интеллигентик с виду, а внутри, наверное, — сволочь из сволочи. Неспроста же в Арнольдовой шабашке оказался.
Кешка сидел сзади новенького и с неприязнью смотрел на его детский затылочек — розовый, прикрытый светлыми, жидкими волосками. Из-за него, новенького, и сон такой привиделся Кешке, и о Свердловске он вспомнил.
«Ну его к черту! Что мне, детей с ним крестить?!» — ругнулся про себя Кешка. И забыл о новеньком, похожем на ненавистного Валерия, тем более, что автобус подъезжал к Кендыктам.
В первый день шабашники не работали — устраивали свой быт, но все равно Раткевич вручил Кешке четыре бутылки яблочного вина «Алмазар», столько же банок килек в томате, буханку хлеба. По части своих обещаний бригадир был большой педант, и за это ценил его Кешка.
Но только за это, потому что выдачу бичовского пайка он сопроводил ехидными словами.
— Прошу угощать своих бичей за пределами нашей гостиницы. Можете трапезничать в своем отеле!
Как и четыре года назад, бригаде шабашников выделили для жилья домик из трех комнат: в одной разместились Арнольд с Борькой, в другой — Сергей с Коротким, в третьей — кухня и столовая. Бичам полагалось жить в тамбуре коровника — им не привыкать спать на соломе, да к тому же Арнольд выделил подушки и одеяла, предупредив: «Если пропьете — вычту из получки».
Кешка и его друзья не стремились в арнольдовские апартаменты — там духота и постоянное нервное напряжение. В коровнике спокойнее: никто не кричал, не пинал, не давал дурацких поручений вроде — принести из фельдшерско-акушерского пункта климакс. Правда, после работы Раткевич иногда вызывал к себе кого-нибудь в качестве ординарца или мог Борька Ефименко заявиться, когда за воротник переложит, — повеселиться, поиздеваться.
С ужином бичи управились за несколько минут — много ли надо, чтобы осушить бутылку бормотухи да умять рыбную консерву? От пол-литровой дозы сразу же отрубился Ваня — безобидный, спокойный, как умное дитя, бич. Может, оттого он был безобидным, что росточку в нем всего ничего — чуть больше полутора метров. Он не брился, его никогда не видели рядом с женщиной и подозревали, что Ваня не способен по мужскому делу. В отличие от Митяя, Ваня никогда не шумел, не повышал голоса, но зато классически мог обижаться: надует свои полные губы, как капризная девочка, заалеется щечками и уходит прочь. Четыре года назад он ушел из шабашки за несколько дней до расчета после того, как его жестоко избил Ефименко. Между Борькой и Ваней тогда сложились какие-то странные отношения: шабашник чего-то добивался от него, а бич не уступал. Впрочем, Кешка догадывался, чего хотел Борька от импотента — карманы Ефименко были забиты порнографическими открытками, и однажды бич был невольным свидетелем его анонимных забав.
Булат сидел, скрестив ноги, как сильно исхудавший Будда, раскачивался из стороны в сторону, тянул вполголоса какой-то заунывный, незатейливый мотив. Это естественное состояние Булата: бухнуть и шаманить, распустив по плечам сосульки длинных черных волос, полузакрыв свои неазиатские — широкие и голубые глаза.
Рваные брюки и узбекский халат на голое тело — все одеяние Булата.
А Митяй злился, и от злости узились его зеленые кошачьи глаза. В эту минуту он, наверное, скрежетал бы зубами, если бы не было их во рту наперечет — даже щеки впали. То ли выпали его зубы от плохого питания — ведь бичует Митяй, по его словам, с лет юных и незапамятных, то ли их выбили шабашники или кочегары, возле которых часто ютятся бичи, — это никому неизвестно. Митяй злился; казалось, что вот-вот он рванет рубаху на груди и закричит: «Всех перережу!», но никто, даже бичи, не боялся его гнева. Причин злости у него могло быть много, но главная — одна: выпил мало. «Лучше перепить, чем недопить!» — это его крылатая фраза. А раз он недопил, то со злостью зашвырнул пустую бутылку в степь, затем то же самое проделал и с консервной банкой и, чтобы разрядить нервы, набросился на Булата:
— Заткнулся бы ты, акын жаксынский! Не трави душу!
Булат с сожалением взглянул на него, не прекращая мычать свою шаманскую песню. Редко кто слышал его голос, кроме тех моментов, когда он пел. Говорил он не больше двух-трех слов в самом крайнем случае, и, казалось, весь его словарный запас состоял из «дай», «не надо», «не хочу».
У Митяя был трудный для бича характер — он ничего никогда не просил. Он мог украсть, обмануть, мог за буханку хлеба пахать полдня, но просить для него было хуже зубной боли. Такие, как Митяй, гордо умирали от голода на полатях в тридцать третьем и сорок седьмом, но не шли по селам с холщовым мешком за плечом. Зная такую тонкость характера Митяя, Кешка понял, что тревожит нервы бича. Митяй хотел курить, искоса поглядывал, как сладко затягивается Кешка, и злился. И не дай ему сигареты, он до утра будет злиться, страдать, но не попросит, лучше бычок твой подберет, высасывая из него дым, пока не обожжет пальцы.
У Кешки в пачке оставалась одна сигарета, и он великодушно пожертвовал ее Митяю.
— От одной консервины песен не запоешь! — пробурчал Митяй, жадно, как наркоман, курящий анашу, прикуривая сигарету.
— Есть предложения? — спросил Кешка.
— Может, собаку прибьем? Вон их сколько по Кендыктам бегает!
— Сказал, бляха-муха! — Кешка лениво потянулся на соломе, — Собаку приманить нужно, а мы даже хлеб сожрали.
— Свистни какую болонку, она и прилетит!
— Вот ты и свистни! — предложил Кешка.
— Пошел ты! — разозлился Митяй. — Это тебя они уважают, а меня, елки-палки, как увидят — за зад! Ладно, у Арнольда сиденье — на два стула, а у меня-то — кости одни.
— Так собаки — они кости уважают! — захохотал Кешка.
Митяй вдруг подхватился, поднял с земли кусок кирпича и запустил его под крышу коровника. Оттуда камнем свалился голубь.
— Один готов! — победно закричал он, отрывая голову птице.
На радостях он обляпался кровью сам, обрызгал и Кешку с Булатом, но никто внимания не обратил на такую мелочь — стали собирать камни, четвертинки кирпича. Когда метательные снаряды были сложены в кучки, бичи закрыли ворота коровника и устроили охоту на голубей. Митяй меткими бросками снял еще двоих, а Кешка с Булатом лишь записали на свой счет разбитый светильник да разлетевшееся вдребезги окно.
У входа в коровник разложили костер из старых досок. Между тем стемнело, стих ветерок. С Красного озера, образовавшегося на старице Ишима, доносилось хоровое кваканье лягушек. Тишина, костер, лижущий темноту, голуби на прутиках — чем не благодать? Никаких волнений, никаких переживаний: не надо думать о том, что завтра будут есть твои жена и ребенок, как выкрутиться, чтобы купить жене платье, а себе костюм, где найти новую квартиру и сколько еще стоять в бесконечной очереди на нее, как собрать на соревнования по стрельбе хотя бы пять команд?
Обо всем этом и многом другом может не думать Кешка, а блаженно лежать у костра, слушая простенькие напевы Булата. Никто не лезет к тебе в душу, нет у тебя обязанности говорить и слушать — молчи в свое удовольствие, смотри, как гаснут, умирая, искры в ночи. На небе нет звезд, и кажется, больше они никогда не загорятся, может быть, одна-единственная твоя звездочка, потому что ты чувствуешь себя на планете совершенно одиноким, и от этого тебе хорошо. Не за эти ли минуты ценил свою свободу Кешка-бич?
Кешка и Митяй еще дожаривали голубей на углях, а Булат уже слопал своего полусырым и жадными, голодными глазами пожирал то, что законно принадлежало им. В другое время не получил бы Длинный ни шиша, но в такой располагающей к доброте душевной обстановке и у бичей размягчились сердца: Кешка с Митяем, не сговариваясь, отломали ему по ножке. Булат сгрыз их вместе с косточками.
— Во жрет! — восхищенно причмокнул Митяй. — Мне бы его зубы, я бы сено жевал.
Невелика птица-голубь, а все же мясо — и в желудке вроде сытно, и в зубах поковыряться можно. Затушив костер, бичи, удовлетворенные течением жизни, пошли укладываться спать.
— Закурить бы сейчас! — подталкивая под себя солому, размечтался Кешка. — Сходил бы, Булат, попросил у шабашников.
— Сама иди! — огрызнулся тот из темноты.
Захихикал в углу Митяй.
— Разговорился, елки-палки!
Со стороны села (коровник стоял в отдалении от него) послышались шаги. Бичи замерли — они знали, что шабашники взяли себе по бутылке водки и могут устроить представление с мордобитием. Чаще других такие концерты организовывал Ефименко. Построит в шеренгу и вызывает из строя, как строгий прапорщик, кого-нибудь.
— А па-ча-му у тебя, нехристь, ширинка расстегнута? — дико вращая зрачками, вопил он на Булата. — А ну, Митяй, врежь ему!
И Митяй резал, правда, жалеючи, ибо в обратном случае — откажись он — и ему и Булату досталось бы хуже. Иной раз по приказу Ефименко Булат мутузил всех троих — Кешку, Ваню и Митяя. Борька аж захлебывался от восторга на таких концертах. Раздобрившись, угощал всех сигаретами, даже некурящих Булата и Ваню, командовал отбой. Не было большой беды в этих представлениях, кроме унижения, к которому бичи давно привыкли. Но все же они боялись Ефименко. Кто знает, что у него на уме именно сегодня?
Шаги приближались. Бичи затаили дыхание.
— Где вы там? — голос явно не Борькин и не Арнольда. Скорее всего — новенький.
«Этому-то чего надо?» — удивился про себя Кешка, а вслух ответил:
— Здесь мы.
Новенький вошел в тамбур, посветил фонариком.
— Шикарно устроились. Не холодно?
«Ишь ты, брат милосердия!» — с неприязнью подумал Кешка.
— Все на месте? — поинтересовался Серега, высвечивая каждого.
— Убери свет — глаза режет! — попросил Митяй.
Борька после таких слов самое меньшее — пнул бы бича, а этот отвел фонарик в сторону. «Душевный человек!» — усмехнулся Кешка.
— Спокойной ночи! — пожелал им новенький, а Кешку передернуло: вот, скотина, издевается — сам на простынях дрыхнуть будет, тут же, в коровнике, сквозняки из всех щелей свищут.
— Угости сигареткой! — попросил Кешка.
— Держи! — Новенький бросил ему нераспечатанную пачку «Примы». — Между прочим, меня Сергеем Петровичем зовут.
— Пошел ты на хрен, уважаемый Сергей Петрович! — выругался Кешка, когда шабашник уже удалился от коровника. — Ползи ко мне, Митяй, покурим!
Молча курили, но Кешку не покидало какое-то непонятное беспокойство, злость на новенького. Ничего тот ему плохого не сделал, а бич ненавидел его.
— Прислали, бляха-муха, шпионить! Ну и противная же рожа, этот Сергей Петрович! — не унимался Кешка.
— Да брось ты нудеть! Вполне интеллигентный человек, — отозвался Митяй.
— Нюхом чую — падло он большее, чем Борька.
— Твой нюх только для сортира годится! — подкузьмил Митяй.
— Врежу, Митяй! — пригрозил Кешка. Но Митяй-то знал, что он не врежет — жаксынские бичи пальцем друг друга не трогали и гордились своей солидарностью. Впрочем, солидарности у них хватало лишь на то, чтобы бутылку вместе распить и не подраться. Жили они каждый сам по себе.
Кешке не спалось. Уже давно похрапывали Митяй с Булатом, Ваня так и не просыпался, а он ворочался на соломе, будто не вина, а чифиру напился. Никогда не страдал он бессонницей. Чего это сегодня вдруг? Уж не новенький ли душу растравил своей внешней схожестью со свердловским пройдохой Валерием?
Он вышел на улицу, сел на тюк соломы у стены коровника. В ясном ночном небе заигрывала с яркими звездами полная луна. На такую с особым усердием воют волки и выходят на карнизы лунатики. Что притягивает их к этой холодной, блестящей тарелке? Может, была там когда-то жизнь и на луне обитали предки волков и лунатиков? Как же тогда они на землю попали?
«Лезет же хреновина в голову!» — подумал Кешка, но чувствовал: чем дольше он смотрит на луну, тем сильнее ему выть хочется. Неужто его предки были лунатиками? Или волками? Тоска. Вот отчего выть захотелось. Так хорошо было у костра — принесли же черти новенького!
Пытаясь возвратить прежнее приподнятое состояние души, Кешка разжег небольшой костер. Дым ел глаза, и он отвернулся в сторону Кендыктов, на месте которых светилось несколько огоньков. Одно название, что село. Кендыкты — казахско-немецкий поселок дворов в тридцать, стоит у сопочки и продувается всеми ветрами. В поселке с десяток деревьев — и больше никакой зелени. Дальше, за Кендыктами, — Ишим. Хорошая река, химией в верховье не запоганенная. Потому и рыбы в ней много. А раз так — не умрут бичи с голоду, не будут зависеть от Арнольдовых щедрот. Наплетут мордушек из тальника — вот тебе и уха и жаркое.
Закурил Кешка Серегину «Приму», опять усмехнулся, сказал тихо:
— Ишь ты, бляха-муха! «Сергей Петрович»! Учителишка, наверное.
А ведь они, Кешка и новенький, могли коллегами быть. И чего Верка так за Липяны ухватилась?! Жили бы в деревне, как люди. Он — физруком в школе, она — заведующей ФАПом. Можно подумать, что в Липянах, кроме обшарпанного кинотеатра, сходить было куда. Эх, Верка, Верка! А ведь это ты, если разобраться, во всем виновата!
— В чем она виновата? — опять заговорил вслух Кешка.
Он что, не по собственной воле бичует? Верка его заставила? Еще час назад свободе своей радовался, жизни без забот и хлопот. Чего вдруг расхныкался — Верка виновата. Что не случается — все к лучшему. О чем жалеть?
«А я и не жалею!» — ответил себе Кешка. Ради каких таких высоких идеалов он распинаться должен? Чтобы догнать и перегнать? Перегнали — жрать нечего. Строить коммунизм? А это что такое? Когда секретари райкомов в особняках живут, а Кешкину семью еврейка Лимоновна из квартиры выживает? Плевал Кешка на такие идеалы!
Он вспомнил Федора Ивановича, или, как звали его свердловские бичи, Профессора. Именно со встречи с ним на товарной в Свердловске и нужно отсчитывать Кешке свой стаж бича. В первый же день из Геннадия он превратился в Гешку, а к вечеру — ив Кешку.
После разгрузки вагона, в тесном кругу бичей за стаканом водки Профессор вел философские беседы. Казалось, говорил он больше сам с собой, поправляя очки в тонкой оправе, похожие на чеховское пенсне, но бичи, занимаясь выпивкой и трапезой, слушали его, посмеиваясь. Так Как Кешка был среди них новичком, то Профессор в своих проповедях обращался непосредственно к нему.
— Бич, Геша, — не есть опустившийся на социальное дно общественный субъект. Так думают примитивы, погрязшие в сосисках и тряпках. Впрочем, где ты видел в Свердловске сосиски? Это к слову. Бич, если хочешь, — высокая идея. Так сказать, искра человека коммунистического будущего, — не спеша говорил Федор Иванович, отпивая из стакана водку, как чай. — Что такое есть коммунизм вообще и социализм в частности? Это есть многовековая человеческая мечта об осуществлении принципа равенства. Но это утопическая мечта. Принцип равенства реален лишь на низших ступенях развития общества, то есть в обществе, подобном тому, которое составляем мы, бичи. Мы не владеем средствами производства, личным имуществом, мы ничем не владеем, кроме своей свободы. У тебя сейчас в кармане сколько целковых?
— Двадцать, — ответил Мануйлов.
— У меня тоже двадцать. И у него, и у него, и у него, — Профессор показал на нескольких бичей. — У тебя одна сорочка и брюки, и у меня тоже. Мы равны. Но как только ты возьмешься за ум, пойдешь на работу, приобретешь велосипед — ты уже богач по сравнению со мной. Человек по своей природе индивидуален: один умнее, другой глупее, один трудяга, другой — лентяй. Значит, неравенство заложено самой природой. Против природы, брат мой, не попрешь, потому что природа — это не букашка, не былинка Вселенная. У нее свои, незыблемые законы. Подводим итог: коммунистическое общество — абсурд.
Единственные коммунисты на Земле — бичи и хиппи, потому что они на деле осуществили принцип равенства.
— Извините, Федор Иванович... — испуганно прошептал Геннадий. — А что же мы строили 57 лет?
— Мальчик мой! Мы строили бюрократический капитализм. Или нет, это неточное определение, хотя и появились два привилегированных эксплуататорских класса — партийный и бюрократический. В социализме нынешнем, или, как мы его называем, — развитом, легко отыскать звенья всех исторических формаций — от первобытнообщинного до капиталистического общественных идеалов. Ждете доказательств, молодой человек? — Профессор протер очки подолом рубашки. — Во-первых, первобытнообщинный лозунг: «Я, как и все советские люди!», во-вторых, лозунг бюрократически-рабовладельческий: «Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак», в- третьих, феодальный принцип: «В своем районе, в своем колхозе я — царь и бог».
— Демагогия все это! — отрезал Кешка — тогда еще Гешка, который, хоть и с неохотой, но посещал школу марксизма-ленинизма. — Социализм — хорошая идея, если ею пользуются умные люди.
— Я кандидат исторических наук, дорогой! — Профессор поднял вверх указательный палец. — Вопрос: почему же я среди вас, а не на кафедре? Отвечаю. Я от природы честен да к тому же воспитан в старых и дурных интеллигентских традициях. Я не могу, я не научен лгать. Быть историком в нашей стране и не врать на каждом шагу — это не только абсурдно, но и опасно для жизни. Если мне не угрожали Соловки, то отлучение от профессии — жестокий реализм.
— Хватит трепаться, Профессор! Водка кончилась! — перебил его рыжий бич. — Пусть новичок сгоняет!
— А это уже нарушение равенства, — не согласился Федор Иванович. — Будем тянуть спичку. Отвернись, Геша! Ты тянешь первый в порядке поступления предложения. Если длинная — побежал в гастроном.
Геша, конечно же, вытянул длинную.
— Не обижайся, брат мой. Я тебе на практике продемонстрировал основной принцип сталинского социализма: все спички были одинаково длинными, но страдать кто-то должен. Во имя светлого будущего, так сказать.
— Я иду, Федор Иванович. Но ответьте мне: где же альтернатива? — пытался хоть как-то осмыслить услышанное Геша.
— Ты такое слово знаешь? Скоро забудешь! Альтернатива в одном: во всеобщем походе в бичи. Бич работает только на себя. И когда народ будет работать только на себя, партийные и бюрократические эксплуататоры сдохнут с голоду. Беги, Геша!
И тогда не разобрался Кешка в умозаключениях Профессора, а сейчас, вспомнив о нем, еще больше запутался. В его, Федора Ивановича, философии, правда и демагогия переплелись так крепко, что с Кешкиным умишком это не распутать. Но когда его заедала смертельная тоска, когда суетная жизнь мира казалась интереснее и значительнее его никчемной жизни, он обращался к философии Профессора и лечил свою хандру. Приятно было сознавать, что бичовство — это не твое личное падение, а исторически обусловленное явление.
Кешка давно уже не дружил с интеллигентной лексикой и даже удивился, что так складно вытекали воспоминания о свердловском теоретике бичовства Федоре Ивановиче, который окрестил его Кешкой и благословил скитаться по свету свободным дитятей природы. Умел пудрить мозги Профессор — ничего не скажешь!
Костер догорал, и Кешка подбросил несколько щепок, чтобы продлить жизнь огню. Почему люди любят смотреть на огонь и воду? Может быть, потому, что они — начала начал жизни и, возвращаясь к своему началу, люди очищаются душой? «Философ!» — обругал себя Кешка и стал затаптывать костер.
Заворачиваясь в старое байковое одеяло, Кешка подумал, что не доведут его до добра сентиментальные думы. Всякие мысли, кроме тех, как достать бухло, где найти пожрать и переночевать, он считал сентиментальностью, а по-русски говоря — плаканьем в тряпочку. И еще он подумал, что сегодня ему обязательно приснится какая-нибудь галиматья. Но Кешке ничего не приснилось.
Казалось, едва он уснул, как его разбудила сильная боль в боку: кто-то ударил ногой больно, не жалеючи.
«Скотина! Шакал! Пес вонючий!» — ругнулся он про себя. Ему хотелось вскочить и впиться в горло Ефименко. Что ударил Борька — в этом не было никаких сомнений — его почерк. Но размышлять об этом и накручивать без толку себя не было времени: второго пинка долго ждать не придется. И все-таки дождался. После него Кешка выпрыгнул из своей постели, как с батута.
— Дрыхнешь, падло! Бормотуху любишь хлестать, а кто за тебя пахать будет?!
У Борьки с похмелья глаза, как у быка разъяренного, а морда — темно-красная, словно отваренный бурак, и Кешка поспешил выскочить из тамбура коровника, забыв обуться. А там охнул жалобно Ваня и выполз на четвереньках, испуганно тараща глаза на дневной свет.
— Боря, не бей! Я выметаюсь! — взмолился в тамбуре Митяй.
На улицу он вылетел с ускорением, которое придал ему Борькин ботинок, отпечатавший пыльный след на тощей Митяевой заднице. Без «оха», без стона, прихрамывая, выбежал Булат — видимо, Ефименко угодил ему в колено.
— Становись! Равняйсь! Смирно-о-о! — Борька построил бичей по ранжиру — Булат — левофланговый, затем Кешка, Митяй, Ваня — и пошел навстречу Раткевичу, держа ладонь у виска.
— Товарищ генералиссимус! Армия ударников труда для решающего сражения с коровником построена!
— Кончай комедию! — отмахнулся Арнольд. — Будем передислоцироваться!
— Что так?
— Местные бугры вешают в нагрузку к ремонту строительство двухквартирного домика.
— Ну и что такого? вмешался Сергей. — Пусть дом. Что мы, домов не строили?
Арнольд взглянул на него, как на сумасшедшего.
— В вопросах шабашки ты, Курлович, полнейший дилетант! На капстроительстве полное отсутствие оперативного простора. Смета, что тюрьма, на волю не вырвешься. Хрена без масла заработаем!
Раткевич уселся на тюк соломы в философском раздумье. Борька, как верный ординарец, держал за руль его велосипед — пронырливый Арнольд успел уже где-то транспортом обзавестись.
— Серега — бывший коммунистический стройотрядовец. Его мы слова лишаем, как психически неполноценного шабашника. Твое мнение, Яша?
— Мне, Арнольд, один хрен! — Короткому, действительно, было все равно, он не любил размышлений и рассуждений, делал, что прикажут. Ждать от него какой-нибудь инициативы, что от петуха яйца, но зато «пахарь» он был отменный.
— Очень умное соображение! — подколол его Раткевич. — А ты, Боря?
Ефименко жалобно посмотрел на бригадира.
— Уволь, Арнольд! В голове с похмелюги — космический вакуум.
— Опять Арнольд! Все Арнольд! Арнольд доставай! Арнольд думай! Скоро Арнольд вас на горшочки станет сажать! Писайте, детки, в горшочек, в штаники незя! — возмущался-рисовался Раткевич. — Значит, так, дети мои! По проверенным данным, конкурирующая с нами армянская фирма не прибыла для ремонта свинарника в Куандык. Это недалеко, за сопочкой. Бросаю клич: бросим все силы на дальнейшее развитие материальной базы самой скороспелой отрасли животноводства! Кешка, собирайте свое приданое!
Услышав эти слова, изменился в лице Булат. Испуганно и с недоверием он посмотрел на бригадира, а когда понял, что тот не шутит, вприпрыжку, как раненный в ногу страус, рванул в степь.
— Боря! Догнать! — приказал Раткевич.
Ефименко лениво побежал за бичом.
— Аллаха испугался! — засмеялся Арнольд. — Ничего, свиньи — тоже божьи твари!
Борька не только не догонял длинноногого бича, но и с каждой секундой все больше отставал от него.
— Пьяный боров! — выругался Раткевич и ловко, несмотря на полноту, вскочил на велосипед.
Через минуты две-три он нагнал Булата. Сильный, хлесткий удар — и бич отлетел от него на несколько метров. Одной рукой ведя велосипед, а другой — за шиворот бича, Арнольд вернулся к коровнику.
Булат вытирал ладонью бежавшую из носа кровь и затравленным зверьком зыркал исподлобья на шабашников и бичей.
— Без мордобития нельзя было? — упрекнул бригадира Курлович.
— Не нервируй меня, Серега. Понял?
Курлович понял и молча пошел в село собирать к отъезду вещи. Кешка с интересом посмотрел ему вслед. Он точно определил, что новенький — учителишка, если даже Арнольду пытался мораль прочитать. Ничего, Раткевич его быстро обломает — бригадир не терпел, когда в шабашке перечили ему. Тут, как выразился когда-то Профессор, он царь и бог, он один мог наказывать и жаловать.
Свиноферма так свиноферма — уж кому-кому, а Кешке было совершенно безразлично, где работать. Ему бы забашлять рублей триста, чтобы погулять пару недель на полную катушку, отвести душу: бухла вволю, чинарики не собирать. Все, как у людей.
На свиноферме шабашники устроились с тем же комфортом — в отдельном доме на три комнаты. Бичи тоже не прогадали — заняли фуражный склад, набили в мешки соломы. Получились матрасы — почти перины. Правда, пыльно, тяжелый дух прелого зерна, но он все же лучше едкой вони навоза. Зато есть электричество.
Кешка сразу же нарезал из плотных бумажных мешков 36 открыток, нарисовал на них королей, дам и прочую карточную братию и до полночи резался с Митяем в «дурачка» на щелбаны.
Чем уступала свиноферма Кендыктам — это отсутствием магазина. Бухловые деньги, выдаваемые Арнольдом, бичи должны были отоваривать сами. Сегодня он после переезда зашел к ним в фуражный склад.
— Шикарно устроились, дети природы! Выпить желаете?
— Поесть бы... — пробормотал Митяй. И то верно — время к обеду.
Арнольд элегантным движением вытащил из кармана штормовки червонец.
— Барствуйте, бичи! Пошли, Кешка, кого-нибудь за бормотухой в Кендыкты. Только не сына Аллаха!
Раткевич боялся, что Булат сбежит. Чудак человек этот Длинный! Сало наяривает за обе щеки, а свинофермы как огня боится. Ладно бы свиньи здесь проживали. Так их ведь, как юных пионеров, в летние лагеря отправили. И свинарок-пионервожатых вместе с ними.
За бормотухой и закусью бегал незаменимый в таких вопросах Митяй. Впрочем «бегал» — громко сказано, если до Кендыктов не больше трех километров, а вернулся он через четыре часа изрядно захмелевшим. Притащил полный мешок фруктово-ягодного пойла и буханку хлеба на четверых. Кешка со злости вскинулся:
— Ты что, шут гороховый, притащил?
— Бухло, — икнул Митяй.
— А жрать мы что будем, бляха-муха?!
— Не боись! Держи вот! — Митяй вытащил из мешка домашнюю утку со свернутой шеей.
— Стибрил? — помягчел Кешка.
— He-а. Бесхозная. По степи гуляла! — Митяй сиял от гордости за себя.
— Не получится из тебя путевого бича! —сказал Кешка, забирая у Митяя мешок. — Бормотухи больше не получишь — ты свое выжрал.
— Елки-палки! Что за фуфло гонишь?! Нас сколько? Четверо. А бухла было девять. Как бы ты делил, математик?
— На опохмелье бы оставил.
— А аккордно-премиальные мне за то, что ходил? А за утку?
Переубедить Митяя с его железной логикой почти невозможно. Кешка вручил ему удочку и отправил на озеро рыбачить.
— Где удочку раздобыл? — на этот раз удивился Митяй.
— Бесхозная. Хозяева в сарае забыли.
Ваня за каких-нибудь двадцать минут ощипал утку. Сварили ее в ведре с вермишелью, которую Кешка у Арнольда выпросил. Кликнули с берега Митяя. Ужин получился на славу, и Кешка в душе злорадствовал: шабашнички-то — умники, он видел, консервами закусывали. Куда им до бичей! У них под носом поросенок будет гулять, а они голодными спать улягутся.
Выпили по бутылке вина. Кешка заставил Ваню варить на утро уху из Митяевых карасиков, а сам с Митяем за карты засел. Поставили рядом с собой по пузырю бормотухи. Чем не королевская жизнь: сгонял партейку, глотнул из горлышка. Почему бы и не пошиковать, если завтра с шести утра в «пахоту» впрягаться.
— Так... Один сбежал! — злился утром Раткевич, не обнаружив на месте Булата. — Убью эту мусульманскую морду! Убью, закопаю, и никто искать не будет. Поняли?
Это он бичей предупредил, чтобы не брали с Булата примера. Дорожит Арнольд бичами — не дурак. Где он еще дармовую силу найдет — не военком, не директор школы, тем более — не начальник лагеря. Они, бичи, за одну зарплату на четверых половину работы в шабашке делали. Кешка уже давно раскусил эту химию — много ума не надо, — да против ветра не того... На других условиях в шабашку не брали ни Арнольд, ни кавказцы.
— Они поняли! — сказал, усмехнувшись, Ефименко.
— Хватит лясы точить! Я в совхоз поехал, а вы приступайте. Митяй с Ваней под руководством Борьки свинарник чистить, а вы, Серега, — обратился он к Курловичу, — берите Кешку — и на штукатурку кормоцеха. Да не ковыряйтесь в стенах, как в носу! Врезал кулаком — где осыпалась, там и замазывай.
— Меня чего учить?! — сердито ответил Короткий.
Работали Курлович, Короткий и Кешка молча, да и о чем было говорить, если Яша познакомился с Серегой на гомельском вокзале перед отъездом в шабашку, а Кешку в смысле душевных бесед они в расчет не брали: замешивает раствор, подтаскивает его в ведрах — и добро.
Кешка опытным глазом оценил работу шабашников, когда они по первой латке заштукатурили. Мастера. Все ровненько, все зализано — не придерешься. Ефименко такого бы наляпал, что на его латке можно было бы устраивать тараканьи бега по пересеченной местности.
«Я мог бы и не хуже», — подумал он, и у него руки зачесались — так захотелось мастерок взять, шлепнуть растворчику, и затиркой, затиркой, чтоб ни единого рубчика. Но шабашники для того и брали бичей в бригаду, чтобы они всю черную, пуповую работу на себе тащили.
Почти до обеда не сказали они друг другу ни слова. Разве что, когда раствор кончался, Сергей или Яша кричали: «Кешка!», и он подтаскивал ведра, вываливал раствор в деревянные ящики на ножках.
Конфликт возник из ничего: Кешка отлучился по нужде, а Короткий разнервничался, ожидая его. Когда бич наконец притащил ведра, Яшка в сердцах зачерпнул полный мастерок раствора и, вместо стены, шлепнул его в лицо Кешки. Ему, Кешке, разве привыкать к этому — он без лишних эмоций вытерся подолом рубашки и пошел умываться. Но за этой сценой внимательно наблюдал Курлович.
— Ты думаешь, это украшает тебя?
— Чего? — не понял Короткий.
— Такое обращение с человеком?
— С кем, кем? — засмеялся Яшка. — Это Кешка — человек? Да я плюну тому в глаза, кто заставит меня назвать бича человеком!
— А кто же он? — Курлович отложил мастерок, подошел к Короткому.
— Бич.
— Странная трактовка. А сумасшедшие, заключенные — тоже не люди?
— Слушай, Серега. Не капай на мозги! Я тебе не школяр, и мне плевать на твои интеллигентские штучки-дрючки. Он не принес вовремя раствор — я наказал его. В другой раз спать не будет. Все очень просто.
— Но ты же унизил его.
— Слушай, отстань, а!.. — разозлился Яшка.
— Не пойму я вас. — Курлович отошел от него. — Тебя, Арнольда, Борьку. Вы же себя до их уровня опускаете. Лично я тоже бичей презираю, но вместе с тем не отказываю им в праве называться людьми. А любого насилия над человеком не терплю.
— Пошел ты!.. — ругнулся Короткий. — Посмотрю я на тебя через месяц, как ты их пинать будешь!
Разговор у двух шабашников явно не клеился, а Кешка злился на Курловича. Ну что он сует нос в мужские отношения?! Будь Кешка шабашником, а Яшка бичом, он не с меньшим удовольствием влепил бы в харю Короткого полкило раствора. Действительно, все очень просто. А этот шибзик в очках накрутит сейчас Яшку, что тот придираться начнет и, вместо безобидного растворчика, — кулаком в зубы. Если ты такой чистоплюйчик, что от мата морщишься, как девица из пансиона, — чего в шабашку поперся?!
И все-таки при возникшей с первой встречи неприязни к Курловичу в глубине Кешкиной души шевельнулось что-то похожее на благодарность. Глянь-ко ты! Его, Кешку-бича в человеки произвели!
«Слюнтяй в очках!» — опять завелся Кешка. — «Презираю!» А если я, бич, тебя презираю? Если я с тобой, благополучным и интеллигентным, на одном гектаре не сяду? Чистенький, честный, сказочки детям рассказывает, что им все двери для счастья открыты — берите, мол, пригоршнями. Они потом эти двери радостно распахивают, а на них грязи — полный ушат. Да я тебя насквозь вижу, бляха-муха!»
— Кешка! — прервал его размышления Курлович. — Раствор!
И Кешке вдруг захотелось подразнить этого паршивого интеллигентишку. Он не подхватил ведра с раствором, не побежал со всех ног в кормоцех, а преспокойненько сел на край ящика, закурил.
— Кешка! Раствор!
«Поори, поори! Посмотрим, что ты делать будешь!» — усмехнулся про себя Кешка. Он уверен был, что Курлович терпеливо дождется его, потом минут пять будет читать нравоучения: мол, нехорошо так поступать, Кеша, так порядочные люди не поступают, нужно честно относиться к своим обязанностям...
— Кешка! Раствор! —еще раз крикнул Сергей.
А Кешка представил, как ехидно усмехается в свои мулявинские усы Яшка, — ему-то видно из кормоцеха, что бич сидит на ящике и курит, он тоже, наверное, злорадствует над Курловичем. Кешка ждал, что сейчас Сергей сорвется, если не ударит, то наорет на него, он хотел, чтобы с Курловича слетел интеллигентский форс. Почему у него возникло желание досадить этому человеку — он сам не понимал.
Все произошло совсем не так, как предполагал Кешка. Курлович молча, сердито поблескивая стеклышками очков, подошел к ящику с раствором, наполнил ведра и унес их в кормоцех, по пути насмешливо взглянув на бича. Он, конечно, все понял, и Кешке вдруг стало стыдно, как нашалившему школьнику перед справедливой и строгой учительницей, он подумал, что забастовка против вежливости Курловича — глупость, достойная пацана.
— Эдак Кешка тебе завтра на загривок сядет, а ты его носить будешь! — подкузьмил Курловича Короткий, но тот промолчал.
Забрав от Сергея пустые ведра, Кешка принялся готовить раствор. Монотонно орудуя лопатой, он подумал, что нельзя, наверное, ненавидеть Курловича только за его внешнюю схожесть со свердловским пройдохой Валерием. Сергей, может быть, и неплохой мужик, лучше других шабашников, во всяком случае, не хуже его, Кешки.
А с кем вообще Кешка может сравнить себя? С Митяем? С Ваней? И нечто, похожее на обиду, зашевелилось под сердцем. Чего ради он колупается в этом корыте, чего ради просыпается утром? Жизнь ради собственного удовольствия? Какое там удовольствие жить подзаборным псом! Свобода? Какая к чертям собачьим свобода, если он зависит от своего желудка, от низменных своих потребностей еще более, чем несвободные Курлович, Короткий?!
Неужто он сам, по собственной воле выбрал жизнь бича, неужели он думает, что живет праведно, не принося зла другому?
Паршивые мозги — они докучают ему больше, чем все людишки, окружающие его, вместе взятые! Ему захотелось напиться, напиться до полного отрубона, до бесчувствия, чтобы ни зла, ни обид не помнить, чтобы черный провал без картин прошлого и настоящего, напиться так, как он пил в Свердловске после ограбления, когда боялся возвращаться в Липяны еще более горьким неудачником, чем уезжал оттуда, а без возвращения, без документов, без бумажек бездушных он не мог считаться нормальным гражданином страны, «где так вольно дышит человек». Он может быть только бичом Кешкой без роду и племени, свободным ребенком природы, до которого никому нет дела. Ведь даже как злостного неплательщика алиментов его не будут разыскивать, потому что он знал гордый характер Веры — она измучает себя работой до смерти, но не станет ждать от него подачки.
«Ну как же они будут без меня?» — думал он там, в Свердловске, в перерывах между запоями, пока не решился возвратиться в Липяны. Он собрал около ста рублей, но любезный Федор Иванович, проповедовавший всеобщее равенство, не потерпел Кешкиного богатства и по идейным соображениям спер все его деньги. Это был финиш, конец всех благих намерений Геннадия Мануйлова. Он устал бороться с обстоятельствами и решил больше не зависеть от них.
Во время обеда возвратился с центральной усадьбы совхоза Арнольд. С кузова машины он сбросил избитого и связанного Булата. Сбросил, как куль с песком.
— Оттащите этого джигита в свой отель — пусть оклемается! — приказал он бичам. — Я же сказал, что под землей найду!
Булат стонал и смотрел на Раткевича с такой ненавистью, как его древние предки-мусульмане на неверных. Казалось, дай сейчас этому бичу топор, и он надвое рассечет Арнольда. Никогда не видел Кешка Булата таким.
Что же случилось — мало ли кто в Жаксах пинал этого безответного и очень нечистоплотного бича? Как паршивый шакал жил Булат, но в нем хранился маленький огонек, пусть не огонек — искорка веры в сурового мусульманского бога Аллаха, по которой потоптался Арнольд. Как много значит даже маленькая вера, если такой тщедушный, никчемный человечишко восстал. А во что верит он, Кешка, и способен ли бросить кому-нибудь вызов?
К нему пришла шальная мысль: подойти к Арнольду и не ударить его, нет, — врезать смачную пощечину на глазах верного ординарца его Борьки, на глазах дружбанов своих — бичей и смуглой толстушки, которая приехала вместе с Раткевичем, видимо, в качестве повара. Он представил, как ошалеет от неожиданности бригадир, как откроет в изумлении свой противно-слащавый рот. Кешка подойдет и врежет ему пощечину, и пусть потом его пинают, убивают, это даже хорошо, если его убьют, потому что он хотел бы умереть после того как даст пощечину Арнольду.
Кешка так думал, но в это время тащил вместе с Митяем Булата в фуражный склад и боялся посмотреть на Раткевича, чтобы тот, не приведи господь, не угадал его мысли.
И снова тяжелая и невыносимо нудная работа: набросать в ящик песка, перемешать его с цементом, натаскать из бочки воды, а потом замешивать раствор, надрывая пупок, гонять из края в край ящика тяжелую массу, засасывающую лопату. Простенькую бетономешалку бы сюда, но ее днем с огнем не сыщешь в этих степях, и Кешка вынужден строить светлое будущее для свиней, наживая трудовой горб. Вот она, бича свобода, в полной своей красе. А он мог бы несчастные эти полтораста рублей в месяц заработать, играя с детишками в футбол.
Волочась с ведрами в кормоцех, Кешка подумал, что ночью тоже, как Булат, сбежит в Жаксы. Будет жить на вокзале, собирать бутылки, калымить по мелочам — много ли ему надо? Но он знал по собственному опыту, что на вокзале он будет скучать без шабашки и ругать себя последними словами. Нет, шабашка, пусть даже с ее изнуряющей «пахотой» — какая-то заразная болезнь, которая каждый раз дает рецидив, как только наступает лето.
В кормоцехе, сидя на перевернутых ведрах, курили Короткий и Курлович.
— Сергей Петрович, дайте закурить, пожалуйста! — попросил Кешка.
Яшка захохотал, едва не свалившись с ведра.
— Во дает! «Сергей Петрович»!
Курлович смутился, поспешно протянул Кешке сигарету.
— Пошутил я давеча. Серегой меня зови.
А Кешке — один черт. Он может Курловича и Его Превосходительством звать, если тому так нравится — от бича не убудет. Он присел у дверей кормоцеха на кирпич. От ворот тень падает, из-за угла свежий ветерок налетает — хорошо. С запада, со стороны Аральского моря тучки сизые подплывают, может быть, к вечеру соберется дождь — редкий гость в июльской степи. Кешка любил степные дожди — короткие и бурные, они всегда были кстати, потому что изнемогала от жары земля, умирали травы, а людям и зверью надоедало перемалывать песок на зубах.
— Ты чего полез на рожон? Это дерьмо, Булата, пожалел? — услышал Кешка голос Короткого.
Кешка насторожился: к чему он такой вопрос Курловичу задал? Значит, во время обеда между шабашниками произошел крупный разговор.
После паузы Серега ответил ему:
— Дело не в биче этом. Надо уважать чужие национальные традиции. Не захотел Булат на свиноферме работать — ну и бог с ним.
— Ты хоть кумекаешь, для чего нам бичи нужны?
— Дешевая рабсила — для чего же еще?
— Эх ты, голова — два уха, хоть и педагог. Да на хрен нам их работа! Они нужны, чтобы главному экономисту наша зарплата поперек горла не стала. Раздели шесть тысяч на четверых — по полторы будет? Кто тебе за месяц столько отвалит? А на восемь? — объяснил Яшка.
— Пусть так. Но уподобляться зверю...
— Ты чего в шабашку погнал? За башлями? А их ты своими ручками не сделаешь, если Арнольд мозгами не пораскинет. Так уж молчи в тряпочку!
— Если бы тебя Арнольд так отделал, что бы ты сказал? — спросил Курлович.
«Ну и дотошный!» — уже без неприязни подумал Кешка.
— Пробовал как-то раз, — засмеялся Короткий. — С тех пор зарекся.
— Ты можешь за себя постоять, а Булат не может.
— Ну и пусть его метелят, если он — дерьмо! Здесь шабашка, а не детский сад.
— Шабашка, но не концлагерь.
— Кончай, Серега, политучебу. Ты, как свояк, знаешь нрав Раткевича. Зря запасных очков не взял.
Хотел бы Кешка сейчас увидеть лицо Курловича — ему-то, видно, по очкам редко доставалось.
— Допустим, я Арнольда не боюсь. Хотя бы потому, что свояк его. Но то, что он скотина, не сказать ему не мог.
— Не понимаю я тебя. Стоит ли из-за бича нервы тратить, портить отношения?
— А ради чего их стоит тратить?
— Ради башлей. Кешка, раствор! — оборвал философский спор Яшка.
Но он лишь паузу сделал, чтобы практическим примером добить Курловича. Когда Кешка пришел с ведрами, Короткий спросил у него:
— Кешк! Если бы тебе сказали: прощаем тебе подзатыльник, но вечером остаешься без бормотухи?
— Нет уж — пусть лучше подзатыльник, — честно ответил Кешка.
— Вот и вся их философия, — злорадно подытожил Короткий.
Кешке показалось, что Курлович смотрит на него с таким удивлением, будто инопланетянина увидел. Эх, дорогой Сергей Петрович! Чистеньким-то легко жить. А ты попробуй, в грязи вывалявшись! И все-таки Курлович — случайный человек в шабашке, это уж точно. Не для фраеров это занятие.
К вечеру Курлович заметил, что Кешка еле ноги таскает, и совершил поступок, одинаково неожиданный и для бича, и для Короткого.
— Штукатурить можешь? — спросил он Кешку.
— Еще как!
— Давай я тебя сменю.
Яшка лишь присвистнул, изображая этим — какой безнадежный дурак Курлович, а у Кешки руки задрожали от волнения, когда он взял мастерок. Непонятно ему все то, что говорит и делает Сергей, не привык он к таким людям, которые ради другого — себе во вред, но он был благодарен Курловичу. А может, тому просто надоело махать мастерком да теркой шуркать? Может, ему разнообразия захотелось?
Кешка давно не верил в добро и считал Сашку-кочегара самым лучшим человеком на этой планете. А ведь раньше, лет восемь назад, он и сам мог поступить подобно Курловичу. Нет, не поставил знака равенства между собой и ним, Кешкой, Серега, но он дал понять, что жалость, сострадание — не худшие из человеческих качеств. Он пожалел Кешку, но бич не разозлился, не полез в бутылку, как было с ним еще вчера, сегодня утром, потому что сделал это Курлович естественно, ничем не подчеркнув своего превосходства.
Вечером, выпив по бутылке бормотухи, измотавшиеся за день бичи мгновенно уснули. В фуражном складе стоял храп.
Кешка, спавший с поджатыми к груди коленками, был похож на большого ребенка, которого сон застал врасплох, во время игры. Он и на самом деле в эту минуту был ребенком, потому что снилась ему мама. Будто пришел он откуда-то голодный и уставший к себе домой, и дверь ему открыла еще молодая мать со своей извечно грустной улыбкой. «Господи! Исхудал-то как!» — всплеснула руками мать. Кешка прошел в хату. В ней все, как и раньше было: стол, кровать, диванчик, шифоньер, печь. На печи в нижней рубахе и кальсонах, свесив босые волосатые ноги, сидел знакомый Кешке мужик. «А это кто на печи сидит?» — спросил он у матери. «Так Потапенко это. Я с ним живу теперь. Ты не узнал разве?» — «Проходь, проходь!» — приказал ему Потапенко. Кешку парализовало от страха — он вспомнил вдруг, что и мать, и Потапенко — мертвые. Он хочет закричать, хочет из хаты выскочить, а мать крепко за руку держит его, ведет к столу, ласково выспрашивая: «А как там внучек мой, Вовочка? Не хворает ли? Я ведь его не видела совсем, ты приведи его». Кешка вырывается и не может вырваться. «Пойдем, сыночек, я тебя в бадейке искупаю. Весь-то грязью зарос, а еще взрослый мужчина!» А Потапенко на печи хохочет: «Грязный! Грязный он!»
— Кешка, Митяй, подъем! — разбудил его громкий голос.
Это Ефименко с фонариком стоял на пороге фуражного склада. «Ну, счас начнется!» — с тоской подумал Кешка, еще не совсем отойдя от дурного сна.
— Поспать не дадут! — заворчал в пороге Митяй и за это получил пинка. Кешка предпочел по-армейски выскочить из постели — все равно этого не минуешь.
— Дрыхнете, стервы задрипанные! А у Бориса Ивановича голова раскалывается! — возмутился Борька и спросил почти ласково: — Бормотушки не осталось?
— Откуда? Все выпили, — ответил Митяй.
— Вот скоты! Ни стыда, ни совести у людей! А еще выпить не желаете?
— Не хотим, — сказал Кешка. — Нам бы поспать — завтра на работу.
— А Борис Иванович что, груши околачивает? Ему тоже на работу, но он выпить хочет. Обувайтесь!
— Зачем? — недоумевал спросонья Митяй.
— Вот вам шесть рваных. Митулем — в Кендыкты, постучите к бабе Марте, возьмете два пузыря самогона. Один — вам, один — мне. Честно?
— Честно, — ответил Кешка. Он понял, что от Борьки им не отвязаться. Хорошо еще — кулачищи свои в дело не пустил.
Кешка с Митяем поплелись в степь. Свежий ночной ветер быстро согнал с них сонливость. С вечера прошел небольшой дождь, идти по влажному ковылю было приятно. Кешка обут был в старенькие штиблеты на босу ногу, и роса обжигала пальцы ног. Он теперь уже не злился на Борьку, это даже неплохо, что они прогуляются по свежему воздуху, а потом выпьют по полбутылки самогона. Время, судя по беззвездному небу, еще раннее — где-то около полуночи.
Митяй шел рядом молча, похлестывая таловым прутом себе по икрам, а Кешке вспомнился сон. Он показался ему вещим, потому что в нем очень причудливо соединились две несовместимости — его мать, умершая десять лет назад, и Потапенко, убитый позапрошлой зимой.
Неужели покойники приходили за ним, неужели они почувствовали близкую его смерть? У Кешки холодные мурашки пробежали по спине. Он боится смерти? Он, не однажды почти решавшийся на самоубийство? Разве ему есть чем дорожить в этой жизни, что он боится умереть? А вот этой упоительной ночью, летним дождем? Чем еще? Господи!
А не укором ли приснилась ему мать? Она укоряла его за то, что бросил сына, за то, что скрыл убийц Потапенко. Она оставила свою неухоженную могилу в Липянах, чтобы прийти и отмыть его от грязи. Боже мой, видела бы она его сейчас, вдруг воскреснув! Мать тут же умерла бы во второй раз от горя и стыда.
Вспомнив сон, он испортил себе настроение, и уже роса казалась холодной и гадкой, ветер — занудливым, а беззвездное небо — зловещим. Кешка ненавидел эту ночную степь, ненавидел Митяя, шмыгающего где-то рядом, справа, простуженным носом, ненавидел себя.
Вернулись они скоро, потому что старая немка Марта, делавшая небольшой ночной бизнес, не ломалась, с готовностью всучила бичам две бутылки самогонки молочного цвета, вежливо пожелала приходить еще, когда «совсем» захочется выпить.
Борьки, как он обещал, возле дома, в котором жили шабашники, не было. Кешка с Митяем в нерешительности топтались у двери, совещались. Разбудить шабашников — это значит получить пару крепких тумаков от бригадира, но и Ефименко назавтра мог наказать еще хуже.
«Долго ли я буду перед ними налимом извиваться?! — разозлился на себя Кешка. — Я же, бляха-муха, не лучше шестерки паршивой!»
С каким удовольствием он сейчас хрястнул бы бутылку об угол и ушел в степь, чтобы никогда больше не возвратиться на свиноферму. Нет, за что бутылку гробить? Бутылку он, пожалуй, с собой бы забрал, назло свинье этой — Борьке.
Пока он думал, Митяй тихонько, больше для алиби наутро, постучался. Как ни странно, но открыли быстро, и сделал это Курлович.
— Случилось что? С Булатом плохо? — удивленно спросил он.
— Да не возьмет Булата шайтан! Нам Борьку нужно — он за самогонкой посылал, — ответил ему Кешка.
— Понятно, — усмехнулся Сергей. — Гонцы прибыли! А Борька, не дождавшись, уснул. Давайте, я утром отдам.
— На, — обрадовался Кешка — ему не улыбалось встречаться с Ефименко.
— Эх вы, мужики! Да что ж вы помыкать собой позволяете?!
«А пошел бы ты! — ругнулся про себя Кешка. — Тебе хорошо выпендриваться — свояк Арнольду как-никак!»
Но ведь прав Курлович — дерьмо они с Митяем.
Подходя к фуражному складу, они услышали плач. Тоненько подвывая, давился слезами Ваня. Митяй рванул с места, заскочил в склад, зажег коптилку, которую сам смастерил из консервной банки — Арнольд в первый же день выкрутил все лампочки, чтобы бичам жизнь малиной не показалась.
В углу, сгорбившись, сидел Ваня; острые лопатки его, прокалывающие грязную майку, вздрагивали.
— Что, Ваня? Что случилось? — забеспокоился Митяй, который, несмотря на частые ссоры, был привязан к своему сожителю.
— Борька, гад! — всхлипнул тот. — Вы ушли — он явился.
— Что он сделал? — допытывался Митяй, но Ваня не ответил, расплакался, как ребенок, размазывая грязные слезы по лицу.
— Понятно. Ну, скотина! — Митяй скрипнул зубами.
— Мне ни хрена не ясно. Бил его, что ли? — спросил Кешка.
— Какой нафиг — бил! — закричал на Кешку Митяй, будто в случившемся был виноват именно он. — Он же, падаль вонючая!.. Не дошло, елки-палки?
До Кешки дошло, и чувство брезгливости — такое непривычное для бича, — тошнотным комком подкатилось к горлу.
— Козел, падла, боров нелегченый! — Кешка от злости заскрипел зубами. Тошнота подступила к горлу. Он понял, что никогда уже не избавится от этого чувства брезгливости, не сможет встречаться с Борькой, проходить мимо него без презрения. — Это скоту даром не пройдет!
— Напугал бабу толстым!.. Положил он на твои угрозы! — горько усмехнулся Митяй. — Не плачь, Ванюша! Завтра мотаем отсюда!
Нет, подумал Кешка, мало уйти из шабашки — это они могут сделать хоть сейчас. Кто же тогда отплатит Ефименко за его свинство? Он, Кешка-бич, презренный отброс общества, почувствовал сейчас себя неизмеримо выше Борьки, ибо осталось в нем, биче, что-то человеческое — доброта, сострадание, пусть не в той мере, в какой должно быть, но все-таки...
Он не хотел сейчас ковыряться в своей душе, он, может, тоже жил грязно, подло, по-скотски. Если кому судить по высшей мерке его, то только ему самому. И ему захотелось сейчас же пойти к шабашникам, пинками разбудить Ефименко и харкнуть ему в рожу. Только так он может выразить свое презрение. И только ночь помешала сделать это.
Утром следующего дня Кешка проснулся рано — еще не рассвело. Лежал, укрывшись с головой байковым одеялом — согревался. Июньские ночи в тургайских степях холодны, особенно промозгло туманными рассветами. Мало что холодно — так еще и сквознячок по фуражному складу разгуливал.
Не меньше часа еще до подъема, но Кешке не спалось. Он проснулся с неясной тревогой, и с каждой минутой она нарастала — от тревоги ли, оттого, что укрыт был с головой, становилось все труднее дышать. Он отбросил одеяло, сел, подобрав колени к подбородку.
Что-то сегодня произойдет. Сегодня обязательно что- то произойдет. Он почувствовал рождение в себе какого- то нового состояния; что-то тяжелое, гнетущее его долгие годы, оборвалось в нем, ему вдруг сделалось легко и понятно все, не мешала даже тревога, наоборот, — от нее возникли такие ощущения.
Кешка был уверен, что сегодня ввяжется в неравную схватку с Ефименко. Неизвестно, чем все это кончится, но он не боялся ее, не готовил себя к ней, потому что был готов уже вчера, то есть уже сегодня ночью. Как мало нужно такому, как он, чтобы почувствовать себя человеком, — всего лишь осознание, что кто-то пал ниже тебя, что ты не последняя гнида на земле.
От этих мыслей он успокоился, и тревога прошла. Будто ненароком, будто случайно прыгнула память в прошлое, в самое светлое, самое дорогое ему воспоминание. Он вспоминал медленно, не спеша, смакуя подробности. Он вспоминал, как бы разговаривая сам с собой; нет, не с собой, а будто доверительно рассказывал самому близкому другу — такому другу, о котором мечтал всю жизнь, исключая дурные, на сон похожие, шесть последних лет, но так до сих пор и не встретил его.
«В теплую майскую ночь звезды можно было собирать пригоршнями и гасить их в прохладных волнах реки. Но мне жаль было их — беззаботных и теплых; я представил, что после того как утоплю лодочку своих ладошек с жемчугом звезд под воду, они превратятся в горку черной и холодной окалины, и на Земле станет меньше радости. Я решил не касаться звезд руками, потому что они зажигаются вечером в высоком-высоком небе, чтобы ими любовались. Звезды нужно любить и не трогать их без нужды, потому что они любили людей, не задумываясь срывались с небосклона, когда кто-нибудь загадывал желание и хотел, чтобы оно исполнилось.
Мне в ту пору было четырнадцать лет, и я еще любил звезды и жалел их. И еще я любил Риту — девочку из параллельного седьмого класса с рыжими косичками- хвостиками. Ей, промучившись ночь, я признавался в любви первыми в жизни стихами; признание это украдкой на перемене подбросил в ее портфель. Я назначил ей свидание здесь, у чистой речушки Липянки, с останавливающимся от тревоги сердцем ждал ее третий час кряду, загадав десяток раз желание по сорвавшимся звездам. Но не всесильны, видно, добрые звезды, или не для исполнения моих желаний гасли они; надо было, наверное, отыскать свою звезду и попросить ее упасть в реку — и тогда, конечно, пришла бы Рита.
Я сидел на теплом валуне, жонглировал в обиде камушками-голышами и никак не мог выбрать из миллиарда звезд свою: как только пытался угадать ее, срывалась другая — рядом или на противоположном краю неба; от волнения я не успевал прошептать своего желания — звезда, прочертив в космосе яркую линию, гасла. А может быть, она и была как раз моей звездой?
И тогда я подумал, что камушки-голыши в моих руках — это погасшие звезды. Значит, исполнилось чье-то заветное желание, значит, обязательно — придет время — исполнится и мое».
Царь небесный! Неужто это было с ним? Неужто в его голове живут эти романтические воспоминания? Куда все уходит, кто виноват в этом? Время? Разве оно превратило романтичного юношу в задавленного реальностью бича? Кто, кроме тебя одного, отвечает за твою судьбу?
Проснулся Митяй, разбудил Ваню. Оба сидели на матрасах у стены — взъерошенные, не выспавшиеся, обиженные — словно два птенчика, вывалившиеся из гнезда, заполошенно прижимались друг к другу, беззащитные перед этим огромным и жестоким миром. О чем они думали, что у них за душой — постичь ли это Кешке, и надо ли постигать?
Жизнь катится по земле огромным колесом; кто-то вскочил на него и, посвистывая, ловит свежий ветер жадным и плотоядным ртом, а кто-то, как он, Кешка, Митяй, Ваня, Булат, попали под него; раздавило их, расплющило — не распрямиться, не поднять голову. Но разве человек немощнее былинки, которая, вдавленная в землю колесом, гордо затем поднимается к солнцу?
Митяй начал собирать в холщовую сумку нехитрые свои пожитки. Сейчас они уйдут, успеют уйти до того времени, как появятся шабашники. Митяй с Ваней сядут на автобус, идущий первым рейсом в Жаксы, а он, Кешка, останется вдвоем с Булатом против четверых шабашников. Если учесть, что Булат не способен даже пальцем пошевелить — вчера его пришлось кормить с ложечки, как годовалого ребенка, — то Кешке придется вступать в бой одному. Но честно ли это со стороны Митяя и Вани, если за Ванино унижение должен подставлять голову один Кешка? А они, Ваня с Митяем, его об этом просят? Стоит ли вообще ввязываться в эту историю, не лучше ли собраться вместе с ними и уехать? Но в Кешкиной душе родился азарт мести — такого давненько не бывало с ним.
Оттого, что он способен на риск, оттого, что решается идти по лезвию ножа, ему сделалось хорошо и спокойно.
— Ты чего лежишь, елки-палки?! На автобус опоздаем! — разозлился Митяй.
— А я не собираюсь ехать с вами! — легко и весело ответил Кешка.
— Не проспался, что ли?! — Митяй закружился по складу, будто потерял что-то ценное и никак не мог найти. — Ради паршивых башлей и бормотухи дерьмо жрать?
— Нет, Митяй. — Откуда мог знать бич с «дореволюционным» стажем, как любил говаривать он сам, что творилось в душе Кешки? Молчаливый протест Митяя — это не урок для такого подонка, как Ефименко. В соседней Кийме шабашники найдут других бичей, также будут издеваться над ними. В кои лета решился Кешка хоть на какой-то поступок и отступиться? Нет уж — кукиш тебе, Митяй! — Или я плюну в рожу Борьке, или останусь последним фуфлом.
— Тебя же отделают почище Булата!
— Ну и хрен с ним!
— Вальты вразбежку! Посмотрите на этого пижона!
— Ладно, Митяй, не нервничай. Поезжай себе с богом! Если к вечеру не вернусь в Жаксы — выпей за упокой. — Кешка понимал, что красуется перед бичами, упивается своей независимостью, но этим он накручивал себя, глушил страх, который уже рождался в нем и противно посасывал под сердцем.
— Вот дурень! Уперся, как баран! — Митяй недоумевал и злился.
— Да выматывайся ты, бляха-муха! Не капай на нервы!
Митяй в сердцах зашвырнул сумку с пожитками в угол.
— Елки-палки из-за этого пижона придется с последними зубами расстаться!
Кешка не обижался на брюзжание Митяя, лишь взглянул благодарно на него.
Ефименко пришел их звать на работу один. Лохматый и небритый, но против обыкновения — добродушный. Оттого, наверное, что похмелился. Сивухой от него шибало на версту.
— Цуцык у лесе сдох! — удивился он. — Пролетариат готов к трудовым подвигам!
«Че ж ты, гад, один заявился? — думал Кешка, не решаясь подойти к Борьке. — При свидетелях оно бы красивше было!»
Как там в красивых русских романах прошлого века? Подлец! Потом: бах! — пощечина. Потом: извольте, я к вашим услугам! Могли же люди! Деньги, шампанское, балы, женщины — а они на дуэль. Чего им не хватало? Честь берегли? А на кой честь, если безусым землю парить? Тебе-то, бич, что терять, кроме своих цепей? Подошел — и плюнул в рожу. Плюнул? Да еще в рожу! Тьфу, как не интеллигентно! Это совсем по-Борькиному: затрещину врезать, в морду плюнуть. Он, гад, пощечину ни от кого не получал, наверное.
Кешка усмехнулся про себя: играет в какие-то детские игры — подлец, пощечина. Кому это нужно? Что изменится от этого? Отметелят шабашники его, еще и почки отобьют. На кой ему такие приключения?! Себя утешить? Мол, и у бича гордость имеется! Плюнул бы на все это, на все эти гусарские дела Кешка, если бы Митяй так ехидно не смотрел: что, пижон — вот он Борька! В штаны наложил?
Кешка ли, не Кешка подошел к Ефименко, выдавил хрипло, едва не проглотив голос:
— Ты — ублюдок!
Пока Ефименко недоуменно пережевывал наглость бича, Кешка врезал ему пощечину — красиво, с оттяжкой, как делали, наверное, гусары в прошлом веке. И внутренне сжался весь, ожидая удара. Борька рот открыл в удивлении, пытаясь сообразить: не приснилось ли ему в дурном сне, что гнида Кешка не дулю показал, не камнем швырнул, а, как порядочный, дал леща по щеке?
Налившись кровью, Ефименко выбросил свой волосатый, огромный кулак к подбородку бича, вложив в удар всю злость, накопившуюся за тридцать лет жизни. Охнув, Кешка отлетел к стенке фуражного склада, но и Борька опомниться не успел, как оказался на земле — подсекли его ноги Митяй с Ваней, навалились на него. Разбросал бы их здоровый, как бугай, Ефименко, если бы ожидал этого нападения. Но пока он сообразил, что произошло, в глазах у него потемнело от удара под дых ботинком.
Бичи его били с яростным остервенением, били ногами, как по мешку с опилками. Кешка, бросившийся на помощь Митяю и Ване, совсем потерял голову — злоба, ненависть, стоявшие горячим туманом в голове, заставили его забыть обо всем на свете, он наскакивал на не сопротивлявшегося, корчащегося в пыли Ефименко и с наслаждением погружал носок ботинка в мягкий его живот.
— Хватит! Хватит, елки-палки! — Митяй оттягивал его за рукав и со страхом смотрел на перекошенное, озверевшее лицо Кешки.
До Кешки тоже дошло, что так недалеко и до мокрого дела. Он остановился, тяжело перевел дыхание — мелко дрожали его руки, все тело его вздрагивало, отходя от возбуждения.
— Смываемся! —закричал Митяй, увидев, что к фуражному складу бегут Короткий и Курлович.
Митяй рванул в степь, за ним — Ваня, но Кешка сел на землю, обхватив голову руками. Митяй оглянулся, увидел сидящего рядом с Ефименко Кешку, его вздрагивающие плечи — и непонятно было: плакал он или смеялся? Матерясь про себя на чем свет стоит, последними словами проклиная Кешку, Митяй вернулся назад, а следом за ним приплелся и Ваня, как раз в тот момент, когда подбежали шабашники.
— Что за кипиш?! — Яшка схватил за грудки Митяя, начал трясти его, а тот от испуга и слова произнести не мог.
Спокойно поднялся с земли Кешка.
— Что вы сделали с Борькой, подонки?!— Короткий отшвырнул Митяя и схватил за волосы Кешку — так больно и крепко, что корни затрещали.
— Не ерепенься! Давай разберемся, — остановил его Курлович.
— Я счас с ним разберусь! Я с него скальп сниму!
— Снимай! — усмехнулся ему в лицо Кешка, совсем не обращая внимания на боль. Ему было все равно: изобьют или убьют его — на душе стало пусто, как в космосе. Нет, в космосе холодно и черно, а у него просто пусто, как в новой квартире, в которую еще не завезли мебель, как в душе новорожденного, не знавшего еще жизни, а значит, и цены ее.
Усмешка бича, его равнодушно-гордое «снимай!» сбили Короткого с толку, он выпустил волосы Кешки и подбежал к Борьке. Он удивился: почему не сделал этого раньше — ведь Ефименко могло быть совсем плохо. И ненароком мелькнула мысль: отчего это в человеке месть просыпается раньше сострадания? Потом он зациклится на этой мысли, будет ругать себя последними словами, но она не будет давать ему покоя. А сейчас она просто промелькнула, как хвост кометы в небе.
— За что они тебя? — Короткий перевернул Борьку на спину. Бичи не били его по лицу, оно лишь исказилось от боли. Ефименко застонал, испуганно вращая зрачками.
— Он Ваню того... — подал голос Митяй.
— Что «того»? — не понял Яшка.
— За бабу приспособил.
Короткий с недоверием посмотрел на Ваню, Митяя, потом на Курловича. Брезгливо скривились его губы, когда он встретился с затравленным, как у загнанного животного, взглядом Ефименко.
— Подонок! — прошептал Яшка, вставая с колен. И не удержался, чтобы не пнуть Борьку.
Удивленно, как будто видел впервые в жизни, смотрел на Ефименко Курлович. Тошнота подкатила к горлу, и Сергей, резко развернувшись, пошел к кормоцеху. Никогда еще не было у него так гадко на душе.
Шабашку лихорадило два дня. Бичи хотели уйти, Арнольд призывал воздать им по заслугам за наглость по отношению к Ефименко, но веско сказал Короткий:
— Тронешь хоть одного — я тебя горбатым сделаю!
Узнав подробности драки, он вдруг привязался к Кешке, стал опекать его и уговаривать бичей остаться. Курлович был солидарен с ним. Борька отлеживался в своей комнате, и Раткевич остался бы в полном одиночестве, если бы не повариха Соня, с которой он развлекался по ночам. Арнольд думал, что с этой шабашкой ничего хорошего не выйдет. Борька дней на десять не работник, Булат тоже еще не оклемался. Митяй с Ваней без контроля Ефименко будут чистить свинарник до второго потопа. Трое же на такую орду только и заработают, чтобы с бичами рассчитаться да на дорогу обратную хватило.
А ведь он рассчитывал на три-четыре куска, уже о покупке черной «Волги» договорился с одним гомельским маклером.
«Все из-за козла этого, Ефименко! — злился Раткевич. — Знал же, что голубыми делами занимался. Надо было сунуть кулак в морду, чтобы зарекся!»
Знать-то знал Арнольд, но не думал, что бичи способны поднять бучу. В прошлую шабашку их, как гнид, давили — и молчок.
«Однако еще не вечер!» — решил не паниковать Арнольд и целый день крутился в совхозе на строительном дворе, пробивая пиломатериалы. После ужина и вовсе утешился, уведя Соню в красный уголок.
Раткевич был опытным бригадиром, не первый год скитался по шабашкам, умел ладить с местным начальством, потрафлять коньячком и щедрыми посулами. Вот и задумал завтра, в воскресенье, устроить пикничок на природе с главным экономистом, прорабом, мастером и завфермой. Они и так уже клюют на обещанные «куски», но подстраховаться — не помеха делу. Заодно и бригаде выходной устроить: отдохнут, попьянствуют, порыбачат — и забудут, глядишь, о Борькином скотстве. Угощать же дорогих гостей будет сам — в таких делах лишние свидетели ни к чему.
Назавтра с утра Арнольд закупил шесть бутылок коньяка, четыре водки, у кендыктинского аксакала выторговал за шестьдесят рублей жирного барана. Третью часть барана, две водки и червонец на бормотуху пожертвовал бичам, а с ними — и Курловичу с Яшкой.
С десяти утра прижаривало так, будто солнце хотело высушить и без того мелкий Ишим до самого дна. Прозрачным маревом клубился над рекой парок. Все живое в выжженной июньской степи словно вымерло: не тренькал кузнечик, не журчал в высоком небе жаворонок, попрятались в прохладные норы сурки, суслики, полевки. Трава под ногами хрустела и обламывалась, как после степного пожара. Вокруг — бледно-желтое царство с седыми прядями заколосившегося в ложбинах ковыля. И лишь у берегов Ишима зеленели пойменные луга с ярко-желтыми фонариками одуванчиков и белоголовыми кашками.
Короткий с Курловичем, бичи и среди них оклемавшийся, наконец, Булат, дойдя до реки, сразу же бросились в воду, едва сбросив с себя одежду. Впрочем, среди них не было Вани, назначенного гонцом за бормотухой.
Кешка нырнул с невысокого берега, как в детстве в липянский омут, сильно оттолкнувшись ногами; долго, пока хватало дыхания, шел под водой, впитывая каждой клеткой тела прохладу реки. Вынырнул у противоположного берега, у самых камышей — Ишим в этом месте был не шире полсотни метров. Фыркнул, ударил ладонями по воде.
— Благодать, бляха-муха! — закричал Митяю, копошившемуся на середине реки, испуганно-восхищенно таращившему глаза, как щенок, впервые брошенный в воду.
— Кайф! — подтвердил Митяй, загребая по-собачьи.
На берегу, зайдя в воду по щиколотку, мыл острые свои коленки Булат. Пока бичи плескались, шабашники, обсохнув на солнце, взялись за дело: Сергей стаскивал в кучу сухой тальник и прошлогодний камыш для костра, а Яшка приложился к бутылке и, закусывая горбушкой хлеба, равнодушно уставился на неподвижный поплавок. Скоро ему рыбалка надоела, и он, подогнув под себя длинные, худые ноги, спрятав голову под рубашку, через несколько минут уже похрапывал на прибрежном песочке.
Наплескались и бичи. Кешка подошел к Курловичу, терзавшему мясо тупым ножом.
— Да не так это делается, Серега! — отобрал он у него баранью ляжку.
Бич ловко стал вспарывать острием ножа сухожилия и мышцы, отделяя мясо от кости.
— Мастер! Будешь за шеф-повара, — похвалил его Курлович. Кешке его похвала ни шла, ни ехала — не ребенок.
— Поди шампуров из талы нарежь!
Ефименко или Короткий возмутились бы, еще и подзатыльник врезали бы, а Курлович пошел к кустам без лишних слов. «Интеллигентное все же воспитание!» — весело подумал Кешка.
Сегодня ему было весело просыпаться, завтракать, идти на речку, купаться, готовить шашлык. Весело от того, что сегодня бичи впервые сидели за одним столом с шабашниками — так Сергей с Яшкой решили, что одновременно с ненавистью осторожно поглядывал на него Борька — весь измятый и осунувшийся. Митяй с Ваней слушались его с полуслова — зауважали, значит, разговаривают с ним, как с равным, Курлович и Короткий.
Прибежал Ваня, когда Кешка и Сергей уже развешивали шампуры над углями, схватил удочку — помчался рыбачить, будто понимал в этом толк. Скорее всего сачкануть захотел, чтобы не гоняли за кизяком да камышом. Раскусил его Кешка: сидит, на поплавок вылупившись, и не видит его. Клюнуло несколько раз — ноль внимания.
— Клюет, Ваня! — крикнул Кешка.
Тот вздрогнул, с испугу рванул удочку за себя, голым крючком камыш поймал. Пошел в воду леску отпутывать, а Кешка хохочет — весело. Жить, блин, хочется — у реки сидеть, вино пить, шашлык есть. А что? С друзьями рванул на реку в выходной — порыбачил, покалякал, песню под гитару погорланил, молодку потискал — здоровая жизнь. Не то, что в соломе, облевавшись, лежать. Как ты думаешь, педагог? Что лучше?
Откуда тебе, Сергей Петрович, это знать! Ты по помойкам не шастал, людей похмельной рожей не пугал — у тебя все чистенько да пристойненько, как на кладбище. Исключительная благодать! Так вроде у Высоцкого?
О чем думает Курлович, неумело протыкая шампуром мясо? Чего гадать — есть, наверное, о чем думать. В шабашку неспроста погнал. Верно, сидит на бобах, как Кешка когда-то. Квартиры нет, раз дом решил строить. Жена тоже пилит: у других мужья, как мужья! Ученики нервы поедом едят, директор школы по части плохой дисциплины на уроке недоволен, какая-нибудь перестарка-коллега с кукишем на голове, не дождавшись ответных чувств, промывает косточки по всем углам. Хреновая твоя жизнь, Серега Курлович, извините — Сергей Петрович! Я — грязный и запойный, — но свободный. Башли мне до фени, лишь бы выпить пофартило да пожрать нашлось. И жена — не указ, и директор, и министр с Генеральным секретарем. Куда захотел — туда и пошел. А чего же я тебе завидую, бляха-муха?
Митяй — мужик азартный. Увлечется чем-нибудь — не оторвешь. И чего бичует? Мог бы жить припеваючи — азартом брать. Только ли мало их, азартных, начальнички пузатенькие, спокойненькие, самодовольные — к ногтю, к ногтю, чтобы не рыпались! Он, Кешка, что? Не крутился на первых порах? Еще как! Кому его кручение надо было, если от него одно беспокойство!
Азартный и везучий Митяй — бич отпетый. За час в жару почти каракумскую с десяток плотвичек и двух окуней выудил. Поплавок пожирал глазами, будто золотую рыбку поймать хотел.
«А если бы поймал ее Митяй, что загадал бы?» — подумал Кешка.
— Митяй! А если бы бац — и золотая рыбка на крючке? — вслух спросил он.
Бич оглянулся, посмотрел на него, как посетители жаксынского кафе на Булата смотрят — брезгливо и с жалостью: живут же, мол, несчастные слабоумные на земле!
— Ляпнешь не подумавши! Не пацан, чтобы в сказки верить.
Заинтересовался Кешкиным вопросом Курлович — почувствовал, что есть здесь воспитательный момент.
— Ну а если представить себе? — пристал он к Митяю.
— Вот елки-палки! Да мало ли что! — отмахнулся Митяй. Но вдруг оживился. — Я бы ящик бормотухи попросил. И жратвы побольше. Покейфовали бы!
— И кроме этого — ничего? — удивился Курлович.
— А что еще? Биллов мне не надо, лапсердаков тож.
Кешка усмехнулся: не для Серегиного ума Митяева философия. Сам Курлович всеобщее благоденствие запросил бы, счастья для всех людей планеты. А то, что человеку просто выпить хочется, — куда ему докумекать!
— Ваня, а ты? — не успокоился Курлович.
— Я при чем? — невинно улыбнулся бич.
— Про рыбку золотую спрашиваю, чудак-человек!
— А на кой мне золото?
— Ты что, сказку эту не знаешь? — изумился Сергей.
«Сам ты — чудак-человек! — подумал Кешка. — Откуда Ване Пушкина знать, если он всего два класса с коридором кончил. Он из детского дома чаще бегал, чем ты на свидания!»
— Не-а... — подтвердил мысли Кешки Ваня.
— А кто такой Пушкин?
— Начальник вытрезвителя, что ли? — прикинулся Ваня.
— Во придурок! — боднул головой Митяй. Это у него было ласковым обращением к своему сожителю. — Его фамилия Пашкин.
— Хорошо, — терпеливо, по-учительски, согласился Курлович. — Что бы ты пожелал, если бы твое одно желание могло непременно исполниться?
— Пусть бы Ефименко издох! — сказал Ваня и испуганно оглянулся по сторонам.
Короткий будто и проснулся для того, чтобы услышать это — так неожиданно прозвучал его голос.
— От кого не ожидал — так это от Вани. Дай ему нож — прирежет Борьку и глазом не моргнет!
— Нельзя! — возмутился Ваня — аж щечки заалели. — Нельзя человека убивать! Если бы сам издох...
— А кабы тебе государственный указ: «Убей Ефименко — тебе ничего не будет»? — не отставал от Вани теперь уже Короткий.
— Нет, не убил бы. Нельзя.
— Видал! — обрадовался неизвестно чему Курлович. — Бич и тот — гуманист. А что свояк мой говорит? «Человек по натуре своей — убийца. И если бы ему разрешалось убивать безнаказанно, все споры разрешались бы бритвой по горлу».
— Дерьмо он, твой Арнольд! — сплюнул Яшка и отошел к костру. — Пошли есть, философы!
Никого уговаривать не надо было. Только Булат бесцельно бродил вдоль берега, уставившись в землю, будто искал вчерашний день. Как всегда, Длинный чуть слышно тянул казахскую песню.
— Иди жрать, акын! — крикнул Митяй.
Булат очнулся и поскакал вприпрыжку с горящими надеждой глазами — он был голоден через каждые полчаса после приема пищи.
После выпивки, после шашлыков Кешку потянуло на сон. Он отыскал себе тенечек за камышовой стеной, под кустом ракитника, подложил под голову рюкзак, блаженно растянулся на траве. Казалось, веки слипаются, и он вот-вот уснет под приглушенный говор Короткого и Курловича, оставшихся сидеть у потухшего костра. Но не шел сон, хоть тресни.
О чем они там спорят? Опять о смысле жизни? Достал Серега Яшку со своими морализмами. Ну чего пристал? Не хочет Яшка детей заводить — его личное дело. Ради башлей себя по шабашкам гробит — может, ему так нравится, может, он по методу кентавра живет: пахать, как лошадь, чтобы жить, как человек.
Кешка открыл один глаз, посмотрел в сторону спорящих, улыбнулся, увидев, как нелепо и смешно размахивал длинными руками Яшка. Похож он был на большую, нелепую и бескрылую птицу, тщетно пытающуюся оторваться от земли. Увы, мы тут, Яша, абсолютно равны с тобой — никто из нас взлететь не может. А хотелось бы? Зачем? Летать — всегда риск. Уж лучше надежненько по земле — шажком, ползком. Вверх не полетишь — не разобьешься. Как Митяй вон: ему рыбку золотую, а он — ящик бормотухи мне. И весь полет мечты высокой.
Но Ваня, Ваня-то!.. Что, Ваня? Он — молоток. Есть конкретный подонок — пусть сдохнет. Но сам, добровольно, чтобы ни ручек, ни совести не замарать. Ване, понятно, Ефименко досадил так, что здоровья ему желать — самому скотиной надо быть. А за что Жаманкулов Потапенко уложил? Самозащита? Да ведь тот на него с голым кулаком шел! Как нелепо жизнь наша устроена, если из-за пузыря водки тебе могут череп раскроить и в топке сжечь.
«А если Потапенко живой был?» — впервые за полтора года предположил Кешка и испугался этой мысли. Получается, что Кайрат с Васькой могли его живьем в огонь?
Кешка поежился, как от озноба, задержал дыхание, словно затаился от инспектора угрозыска, спрятавшегося в камышах и подслушивающего его мысли. Живьем — как инквизиторы. И бродят где-то, водку кушают, баб лапают, балдеют, в общем. А может, и нет? Если с совестью после школы расстались, то страх быть разоблаченными с ними, верно, постоянно ходит? С ним не жизнь, а мука вечная. Если бы они догадывались, что Кешка — единственный свидетель, разве не боялись бы еще больше, разве не нашли бы его и не утопили бы в Ишиме? А что ему делать? К прокурору идти? А тот ему: где ж ты, милок, раньше был? Ты, милок, теперь не свидетель, а соучастник, выходит! Чего ему-то, Кешке, суетиться? Он не убивал, не сжигал.
Но Потапенко... Хорошо еще, что нет на свете этом ни бога, ни черта, ни душ усопших человеков. Иначе отрыгнулось бы Кешке молчание. Он уверен в том, что нет? Почему же не отрезало в памяти этот случай, почему Потапенко все чаще и все настойчивее преследует его? И, наверное, не только его. Жаманкулова с Васькой — еще больше. Хватает же одной души умершего, чтобы испортить жизнь троим живущим!
Да пошло все оно к черту! Так и рехнуться можно или броситься в Жаксы к прокурору.
Он понял, что не уснет, поднялся, пошел к Короткому и Курловичу.
— Ты после шабашки куда, Кешка? — спросил Серега.
«Ну вот, мало ему Яшки — за меня взялся!» — разозлился бич.
— У бича дорога одна: во мраке и к полной свободе.
— Ладно, брось ты!.. — поморщился Курлович. — Я серьезно.
«И до всего тебе есть дело, бляха-муха!»
— В кочегарку на полати. И в спячку, как медведь, до весны.
— Слышь, Кеша. Ты человек вольный, тебе один хрен, где кантоваться. — Яшка дружелюбно положил ему руку на плечо. — Есть предложение подмогнуть Сереге хату достроить. Наварим горилки, поживем на природе. Как?
Кешка растерялся. И в самом деле — не все равно ли где?
— Я что... Если надо...
— Ну и добро, — сказал Короткий. — Пойдем купаться, а то я от жары так завялился, что пиво со мной можно пить.
Кончалось короткое степное лето. Последними августовскими ночами заявлялся морозец, посыпал инеем ковыль и однажды — даже лужицы тонюсенькой корочкой льда прихватил. Спать под одним байковым одеялом в складе бичам был не сезон, и они натаскали свежей соломы с убранного поля за сопкой. Заползали под стожки и шуршали всю ночь, как мыши.
Шабашка работала как надо, даже лучше, чем четыре года назад, и Арнольд мог быть довольным. Бичи вкалывали, как на себя. Что подействовало? То ли добавка на сотню в месяц (Раткевич уступил требованиям Кешки, которого поддержали Короткий и Курлович), то ли человеческое обращение. Борька теперь их побаивался, а Арнольд решил не связываться.
Что-то происходит в подлунном мире, если даже бичи гонором обзаводятся. Но чихать ему на все эти перемены — его одно волновало: осенью он прикатит в любезный свой Петриков на черной «Волге». Не менее семи-восьми кусков он привезет, не будет он Арнольдом Раткевичем — единственным и любимым сыном своих родителей. Аферку он придумал — себе боялся лишний раз напоминать: облапошит он местных хапуг-начальничков, заберет кровно заработанное, а им кукиш покажет. Друзья-шабашники знают, что он начальникам по куску пообещал. Раткевич их разуверять не станет. Дело без проигрыша — хапугам жаловаться некому, а Арнольд в Кендыкты — больше ни ногой.
Последние дни работал Курлович — у него кончался отпуск. Кешка собирался ехать с ним. Он устал, осунулся. Шабашка, что ли, вымотала? Или думы о грядущих переменах в жизни? А какие перемены? Поможет Сереге с домом — и назад, в Жаксы. Почему назад? Почему не в Липяны? Кто его там ждет! Не такая Верка никудышная баба, чтобы одной мыкаться. Но разве на ней одной свет клином сошелся? Восстановит документы, найдет какую- нибудь разведенку-лахудру, может, даже с квартирой и будет жить-поплевывать. Хорошо решил, да вот неугомонная, неприкаянная душа Потапенко по пятам ходила, скулила бездомным щенком — сердце разрывалось.
Все чаще Кешка уединялся, уходил по вечерам с удочкой на Ишим. Сидел на берегу, думал. Плохо ли, хорошо думалось, а тянуло его на берег. Не хотел с бичами оставаться, боялся вино пить — от него тоска наскакивала, кусалась больно. Не хотел к шабашникам идти — там Яшка со своим участием, Серега с расспросами, Арнольд и Борька с презрением. Одному — лучше, одному — спокойно, особенно, когда есть о чем подумать.
С поздними закатами в степи не сравнятся никакие другие. Пока солнце, коснувшись горизонта, не спрячется за ним, на западной стороне неба сменятся десятки самых разных оттенков красного цвета — от бледно-розового до темно-вишневого. Затихал ветер, затихала природа, и в камышовых заводях Ишима устанавливалось зеркало воды, в котором отражались редкие светло-фиолетовые облака и зловеще-кровавая тень заката.
Кешка рыбачил, но за поплавком следил рассеянно, то и дело зевая поклевку. Шло время — и это главное, потому что сегодня, в эти последние дни ему особенно надо было, чтобы шло время минута за минутой, час за часом; от течения времени, которое неумолимостью своей, безвозвратностью пугало других, ему легче было жить, дышать, думать; ему казалось: пройдет определенный отрезок времени и все изменится, все станет по-другому, жизнь его обретет какой-то смысл. Каков он, этот смысл, Кешка не знал. Ни он сам себе, ни кто-нибудь другой не мог раскрыть его в той достаточной полноте, чтобы просыпаться по утрам с уверенностью, что на этой планете кто-то ждет твоего пробуждения, кто-то надеется на твою помощь, доброе слово. Как долго он просыпался по утрам просто так, даже не ради себя — плоти ради, которой зачем-то надо было передвигаться в пространстве, чувствовать холод и жару, бороться с голодом и болячками; и, если бы он однажды не проснулся, никто не сожалел бы об этом, никому это не принесло бы горя, ни один человек на земле не подумал бы, что без него, Кешки, ему будет горше жить.
— Что, Кеша, тоскуешь? Клюет ведь!
Это подошла Соня — маленькая, плотно сбитая, аппетитная. Казалось, она никогда не унывала — всегда задорно был вздернут ее курносый носик, насмешливо поблескивали серые глаза.
Кешка иногда завидовал поварихе — так легко она воспринимала жизнь. Мурлыкая песенки, делала тяжелую работу у печи, смеялась беззаботно в ответ на оскорбления и легко соглашалась на любовь. Как бабочка, которой все равно где летать, лишь бы побольше солнца и цветов. И все вокруг хорошо, и мотыльки все одинаково хороши — пока держат крылышки, можно резвиться, ни о чем не думая. И время для нее, наверное, летит так быстро, как и для бабочки-однодневки.
Впрочем, много ли знал о ней Кешка, кроме того, что она внешне весела и беззаботна?
Кешка вытащил пустой крючок, насадил червяка, снова забросил удочку. Он не ответил на Сонин вопрос, не подумал: почему она пришла, что ей нужно от него? Кешка был недоволен, что повариха помешала его покойному одиночеству, после которого легко засыпается в ворохе соломы.
Соня не случайно шла берегом реки, она специально пришла к нему, потому что села рядом, спустив загорелые ноги с обрывчика и обдав жаром нерастраченного тела тридцатилетней женщины. А может, она просто пришла посидеть на берегу, и, если тут оказался Кешка, то почему бы не поболтать с ним?
— Что-то ты похудел, Кеша. Смурый стал. Не приболел? — с участием спросила она. Или просто так — завести беседу.
— Нет, — неопределенно ответил Кешка. Ему сделалось неспокойно от тепла женского тела, какая-то смута проникла в душу — он хотел отодвинуться от Сони, но побоялся насмешливых ее глаз.
— Хорошо как, тихо!.. — прошептала она. — И глаза у тебя красивые.
«Ну вот! Захотелось бабе нежностей!» — подумал он.
— Глаза как глаза.
— Нет, добрые и грустные.
«Хреновый, видно, из Арнольда любовник, раз к бичу ластиться пришла!» — с некоторым злорадством усмехнулся он про себя. Будто в подтверждение этих мыслей, Соня и голову на плечо его склонила.
Кешка свободной рукой обнял ее за талию, а затем жадно сжал мягкую грудь.
— Не надо, — тихо попросила она. — Давай так посидим.
«Бодает, бляха-муха! С Арнольдом запросто валяется, а со мной вздохи разводит!» — Он и сам себе не хотел признаться, что ему было приятно сидеть на берегу реки и ощущать на своем плече доверчивую голову женщины.
— Кеш, давно хотела спросить. Чего по свету мыкаешься? Обидел кто?
— Сам себя обидел, — недовольно ответил он.
— А то гляжу — мужик ты хороший, спокойный, а неприглаженный, заброшенный.
— Будет тебе! — перебил ее Кешка. — У каждого своя дурь. Ты тоже — не цаца.
— Да уж верно сказал. Кукушка я. А ты — сыч. Не гляди на меня, Кеш, как на дурочку. Дуреха — верно, но уж не дурочка. Я ведь от горя веселая, слезами ведь судьбу не сыщешь.
— Уж не с Арнольдом ли ты ее сыскать захотела?
— Да плюнь ты на Арнольда-то! Он для баловства. А баловаться-то уже и надоело. Мужичка бы тихонького, чтоб ходить за ним, жалеть. Как ты вот. Бойкие-то надоели. Я ведь все больше бойких любила, чтобы помял, побил. Только никто замуж не взял.
Кешка насмешливо посмотрел на нее.
— Сильно хотела?
— Замуж? А какая баба не хочет? У меня дом в совхозе есть, огород, скотина. Мать еще нестара, с внуком забавляется. Шел бы ты ко мне — я бы тебя не обижала.
— Нет, Соня. Сыч с кукушкой — не пара. Да и женат я.
Повариха ничего на это сказать не успела — за спиной послышались шаги.
— Воркуете, голубочки! — узнал Кешка голос Арнольда. — Чего ж ты бичей совращаешь, Сонька?! Зря! Неспособны они к бабе из-за пьянки.
Соня подскочила, схватила Раткевича под руку.
— Пошли, пошли! И тута сыскал! — притворно-ласково залепетала она.
— А Кешку чего? Захватим с собой. Я не жадный — поделюсь.
— Мелешь, абы что! — потянула его Соня. И уже отойдя на несколько шагов от реки, обернулась, сказала с горечью:
— Эх ты, Кеша-балбеша!
Не ее жалел Кешка, а себя. Видно, искренне Соня с ним говорила, а он подвох искал. Интересно, если бы он крикнул вдогонку, что согласен, мол, — вернулась бы? Но Кешка не крикнул, стал сматывать удочку. Он понял — почему не крикнул. Маленькая, совсем крохотная надежда искоркой засветилась в нем: а вдруг в Липянах его ждут?
Час до поезда, в кармане билет до Гомеля — полный порядок. Через день Кешка будет уже далеко от Жаксов — от грязного степного поселка с хорошим названием (Жаксы с казахского переводится — «хорошо»), в котором прошли четыре года его жизни. Не пролетели, не минули, а именно прошли, как проходит равнодушный прохожий мимо валяющегося на тротуаре пьяницы. Что вместили в себя эти четыре года — если закрыть глаза, если вспомнить? Нет, не хочет он закрывать глаза и вспоминать, потому что это было вчера, а вчерашний день не вспоминается — припоминается. Наверное, нужны были эти четыре года, чтобы он сегодня взял билет до Гомеля и через час сел в поезд.
Он хотел бы дождаться поезда на вокзале, чтобы ни с кем не встречаться, не травить душу, но он должен был отдать долг Федосьевне, попрощаться с Сашкой, которому купил в подарок рубашку. Он боялся, что на него, когда он надел костюм, галстук, шляпу, будут обращать внимание, смотреть с любопытством и недоумением, узнавая и не узнавая его. Кешка желал бы исчезнуть из поселка незаметно и навсегда, чтобы никто никогда не вспомнил, что жил такой бич, бродил грязный и пьяный по улицам.
Однако он напрасно боялся, потому что кто в наше время обращает внимание, если идет по улице человек в шляпе и галстуке — в шляпах и галстуках сейчас даже банщики ходят. Навстречу ему спешили по своим делам люди, попадались и знакомые, но никто не поздоровался, даже на секунду не приостановился, не вгляделся в него — кому придет в голову, что прилично одетым человеком может быть Кешка-бич? Ему стало немного обидно от этого, он почувствовал себя растворенным в этой спешащей массе приличных людей, ощущал себя почти бесплотным облачком среди сотен и тысяч похожих друг на друга облаков, казалось, вместе с заплатанными штанами он лишился имени и клички своей, превратился в мистера Некто в шляпе и галстуке. Он раньше не думал, как это страшно — не отличаться от других. Может быть, он неправильно поступил, что надел этот костюм и взял билет до Гомеля, может быть, он должен был оставаться Кешкой-бичом, который отличался от этой толпы тем, что был хуже их? Его узнавали, его ни с кем не могли перепутать. Нет, эго все с непривычки, люди в галстуках и шляпах тоже отличаются друг от друга, надо только присмотреться, заглянуть в их душу — в каждом из них есть непроснувшийся Кешка-бич, и все они до поры до времени геннадии мануйловы, думающие о зарплате и тряпках, проклинающие начальство и жен, мечтающие о квартирах и машинах. И где гарантия, что они никогда не устанут думать, проклинать и мечтать, что не окажутся однажды возле свердловской стройки без денег и документов?
Он один из них, только с Кешкой это уже произошло, а с ними еще нет. Ему было неудобно и жарко в цивильном костюме, но надо привыкать жить в тесноте и в массе, застегнутым на все пуговицы. Надо привыкать думать, проклинать и мечтать, бояться потерять и стремиться приобрести, молчать и говорить, когда надо, любить и ненавидеть, быть бдительным и никогда не занимать денег, чтобы ехать на БАМ. Как мало ему надо было хотеть и делать вчера и как много — сегодня. И никто, кроме него одного, не может сделать выбор между этими «мало» и «много». Но он потому и взял билет до Гомеля, что для человека естественно желать многого, хотя от этого ему живется гораздо беспокойнее.
В редакции было тихо — видно, все в разъездах. Но в кабинете замредактора стучала машинка. Кешка подумал, что, если бы сейчас вышел редактор, он бы не прогнал его — он скорее всего не узнал бы. Люди плохо узнают тех, кто похож на них.
Кешка осторожно постучался.
— Можно?
— Заходите! Что угодно, молодой человек? — Федосьевна не узнавала его.
— Вот... Долг пришел отдать... — замялся Кешка.
— Кешка! — закричала она. Вскочила — давай вертеть его. — Кешка! Какой красавчик! Кешка, замуж за тебя хочу! Возьмешь, Кешка?
Он смутился от того, что женщины так легко могут врать.
— Извини, у меня жена есть, — почему-то сказал он ей то же самое, что говорил позавчера Соне.
— Ну даешь!
В отличие от замредакторши, Сашка не удивился, сразу узнал его и не стал вешать восторженной лапши на уши.
— Проходи, Кешка. Только не испачкайся — ремонт в котельной.
— Я подарок вот... тебе... на память... — Кешка почему-то снял шляпу, потом надел ее. — Уезжаю я, Саша.
— А у меня радость! — Кочегар просветлел лицом. — Дочка ко мне приезжает. Со мной жить будет.
— Поздравляю! — Кешка был рад, что и в Сашкиной жизни появилось светлое пятнышко. Теперь он догадался, кому посылал кочегар деньги. Господи! Сколько вместе жили, куском хлеба делились, а ведь Сашка не знает, что были и, может быть, есть у Кешки жена и сын, как он не догадывался о существовании его дочери. Неужели не хотелось Сашке поделиться с ним, когда у него болела душа? Почему Кешка никогда не рассказал ему о себе? Ведь и он, Кешка, понял бы. И Сашка. Как же не понять, если боль у них от одной раны?! Люди, люди! Когда вы научитесь не бояться жалости и сострадания к себе?
Распахнулась дверь котельной. Вихрем ворвался корреспондент Степа.
— Ты глянь! Истинная правда — Кешка-бич! В шляпе!
— Да будет тебе! Нормально.
— Оставляешь аллахом благословенные Жаксы?
— Уезжаю. — Кешка взглянул на часы. Так давно у него не было часов, что он через каждые пять — десять минут смотрел на них, как на чудо. — Ну, ладно, ребята. Спешу я.
Он вытащил из портфеля бутылку коньяка, поставил на стол.
— Выпейте за меня. И не поминайте лихом!
— По-барски! —восхитился Степа. — А ты?
— Я свою норму давно перевыполнил.
Кешка резко повернулся и пошел из котельной. Он не хотел слышать никаких напутствий и добрых пожеланий. Из такого прошлого не уходят — из такого прошлого убегают не попрощавшись.
Вот и скверик с четырьмя тополями у железнодорожной водокачки. Здесь три месяца назад Кешка угодливо подавал огурчики похмеляющимся мужикам, заискивающе заглядывая в глаза, чтобы оставили ему на дне бутылки.
Он сел на лавочку, прикурил сигарету, закрыл глаза. Дернул же его черт пойти по центральной улице мимо прокуратуры. Уходя от котельной, он думал, что рассчитался со всеми долгами в прошлом и ничто теперь не держит его в Жаксах. Нет, не все долги, — показалось ему, — сказал большой и лысый прокурор, стоявший в задумчивости у окна. На короткое мгновение случайно они встретились взглядами — ничего особенного, прокурор, наверное, думал о чем-то своем, но Кешка съежился, вжал голову в плечи и прошмыгнул мимо прокуратуры.
Он почти бежал к вокзалу, чтобы не догнало его назойливое желание вернуться в прокуратуру, рассказать о Потапенко, Жаманкулове и Ваське-фотографе, свалить с плеч тяжелый камень, с которым он не сможет распрямиться ни завтра, ни через год, ни через десять лет.
Ему вспомнился сон о матери и Потапенко, соединивший двух умерших людей, никогда друг друга не знавших. Это мать вызвала к себе душу убиенного, чтобы вечным упреком стала для сына его трусость. Но ведь она еще и за Вовика, сына, упрекала, за то, что он бросил его. Странное дело — Кешка не сможет вернуться к сыну, если расскажет о Потапенко. Его же посадят за соучастие или, в лучшем случае, за сокрытие убийства. Неужели душа матери не понимает этого?
Кешка усмехнулся: вот так додумался — в переселение душ поверил! Не в этом суть. Сон, конечно, — плод его воображений. Но он не может уехать из Жаксов, не рассчитавшись со своим прошлым.
«Ну и что? — подумал он. — Помогу Курловичу с домом. До следующего лета, надеюсь, управимся. И вернусь в Жаксы. Там видно будет: к прокурору идти или еще выждать. Может быть, все само собой раскроется — зачем на рожон лезть?»
Кешка вроде как успокоил себя, посмотрел на часы: до поезда оставалось пятнадцать минут. Серега, наверное, переживает, мечется по перрону, выглядывая его. На поверку он оказался совсем неплохим мужиком. Дотошный, правда, но это терпимо. Ничего, Серега, успеем — тут ходу всего три минуты! Успеем... успеем... успеем...
Непонятно — чего он тянул? С Потапенко решено: вернется от Курловича — расскажет. Но ведь возвращаться потом каково? В облике чьем? Мануйлова или Кешки-бича? Да хоть в образе Льва Лещенко вернись, все равно его в Жаксах как Кешку знают и другим не скоро примут. Людям обязательно нужно, чтобы кто-то был хуже их — так им легче жить, и они с неохотой впустят его к себе, как равного.
Разве только этого боится он? А жизни в голубином гнездышке Курловича, за одним столом с его женой, детьми? Возможно ли нормальному несчастному человеку рядом с чужим счастьем жить? Он будет им мешать, они будут испытывать неловкость перед ним, стесняться своего счастья. Но Кешка съездит в Липяны (они от Гомеля совсем недалеко), восстановит свои документы... Он представил, как это будет трудно. Бесконечные хождения по инстанциям, писание объяснительных — на это уйдет не меньше полугода, и неизвестно, чем еще кончится. Сможет ли он выдержать суматоху новой жизни, новые унижения, совсем неравноценные подзатыльникам и пинкам шабашников, кочегаров и милиционеров? Ведь в этих инстанциях будут по душе его топтаться, ноги о нее, как о коврик перед порогом, вытирать.
— Выпьем, земляк? — вывел его из задумчивости чужой голос.
Перед Кешкой стоял мужик в грязной клетчатой рубашке, в мазутных брюках — видимо, железнодорожный рабочий. Кешка машинально взглянул на часы: восемь минут до отхода поезда. Но выпить вдруг захотелось, потому что муторно было на душе.
— Давай! —согласился он. — Только по-быстрому — я на поезд могу опоздать.
— Мы мигом! — обрадовался мужик, вытаскивая бутылку бормотухи из-за пазухи. Ох, уж эта русская душа! Ну никак ей не идет выпивка в удовольствие без компании.
По старой привычке Кешка нашарил под кустом грязный стакан. Мыл его, разливал вино в горячечной спешке.
— Спасибо! Я побежал! — сказал мужик-русская душа и скорым шагом пошел в депо.
Кешка испуганно оглянулся в сторону вокзала. Он знал, он был уверен, что уже опоздал. Отбросив стакан в кусты, он побежал, спотыкаясь, к вокзалу, но через несколько секунд его остановил протяжный гудок электровоза.
Кешка вернулся к водокачке и сел на лавочку.
Все. Поздно. Вон уже и состав в просвете между домов показался. Зеленое тело поезда медленно проплыло мимо него. О чем думал сейчас Серега, в полном недоумении сидя в купе? Открылось ли ему все, что было у бича на душе за четверть часа до отправления поезда? Нет, конечно. Откуда ему знать, да и нужно ли? У него своя жизнь, свои заботы.
Может, это к лучшему, что Кешка не успел на поезд?
— Ну что за жизнь, бляха-муха! — выругался бич и заскрежетал зубами.
Со злостью он сорвал с головы шляпу и зашвырнул ее в огромную лужу перед водокачкой. Шляпа плавно пролетела по воздуху и спланировала в самый центр лужи, качнулась несколько раз и застыла, как шлюпка, бросившая якорь. И не было течения или слабого степного ветерка, способных сдвинуть ее с места.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

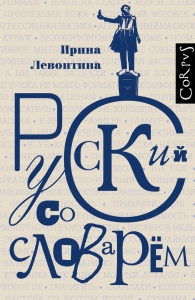


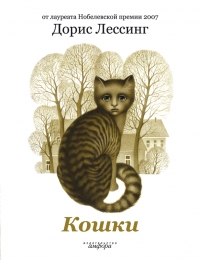


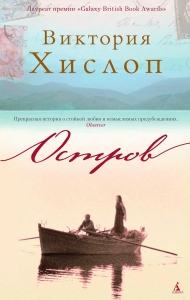

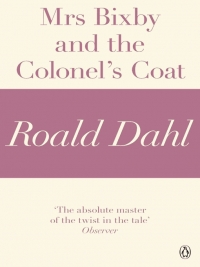


Комментарии к книге «Кроме тебя одного», Сергей Иванович Стешец
Всего 0 комментариев