МАРТА ШРЕЙН ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬОН
РОМАН
От автора
Приятно ли это, когда у тебя воруют сюжет? С одной стороны плохое не украдут. А с другой — всё–таки неприятно. Поэтому, если читатель найдёт книгу с похожим сюжетом, под другим названием, богато оформленную и под фамилией какой–нибудь русскоязычной «писательницы из Калифорнии» — Знайте это у меня стащили и подарили ей.
Деньги делают всё. А я увы, их не имею. И спонсора для издания романа тоже не могу найти. И потому, дорогой читатель, предлагаю тебе электронный вариант бесплатно. Уверена, тебе понравится; молод ли ты, в зрелом ли возрасте, или в почтенном.
Желающие стащить роман для экранизации — не старайтесь. Это тоже бесплатно. Ссылайтесь на автора и спите спокойно. Потому что, когда я пишу свои произведения, за моей спиной стоит Господь. Одной из его заповедей было: «Не укради».
Автор.
«Когда караван поворачивает,
последний верблюд
становится первым»
(восточная пословица)ПРОЛОГ
Шел 2003 год. Так уж сложилась моя судьба, что мне приходилось много времени проводить в дороге и выслушивать истории попутчиков. И потому я брала с собой диктофон, на тот случай, если рассказ того обещал быть интересным и, ещё один экземпляр своего романа «Эрика».
Книгу я подбрасывала на столик, чтобы от нечего делать попутчику захотелось ее открыть и дальше, уже с удовольствием, наблюдала, как он увлекается сюжетом, делится со мной прочитанным. И только тогда признавалась, что произведение принадлежит мне. Не скрою, всегда приятно, когда читатель, закрывая последнюю страницу, вздыхая, говорит: «Я бы хотел видеть продолжение романа или фильм, снятый на эту тему».
В этот раз до Москвы мне ехать долго, трое суток. За окном однообразный сибирский зимний пейзаж, а попутчики попались не разговорчивые, да и о чем говорить, о времени перемен, о том, что будущее неясно, что страна и без войны разрушена и разграблена, о разгуле преступности, беззаконии, безработице, море нищих и бездомных детей? Я направилась пообедать в вагон–ресторан, прихватив с собой сумку, в которой лежали документы, книга и диктофон. Все столики были заняты, только за одним в одиночестве обедал пожилой господин. Попросила разрешение присесть. Двое мужчин крепкого телосложения загородили мне дорогу и бросили на меня взгляды полные возмущения, мол «ты куда лезешь?» Но сидящий за столом, сказал: «Все в порядке.» И мне: «Присаживайтесь, мэм», бросив своим спутникам: «Вы свободны». Я поняла, что посмела присесть к столу «нового русского», а может и олигарха. А эти двое — его телохранители. Наспех, без аппетита перекусила. Захотелось скорее рассчитаться с официантом. В поиске кошелька, копаясь в сумке, невольно выложила на стол и книгу, и диктофон.
— Журналистка? — спросил мужчина.
Я подняла голову и не сразу оторвала от него взгляд. Лет ему было под шестьдесят. Черные с медным отливом и проседью волосы, черные еще брови и ресницы, зеленые глаза, прямой римский нос, волевой подбородок и все это украшено небольшой с проседью бородкой и небольшими усиками. Прежде, чем ответить на его вопрос, с неприязнью подумала: «Конечно же оставил свою прежнюю жену, с которой прошел не легкий жизненный путь, чтобы она своими годами не напоминала ему о бедном советском прошлом. Теперь у него, наверняка, юная спутница жизни. Чтобы привязать к себе этого красивый мешок с деньгами, она быстро родила ему ребенка. Телохранителями обзавелся» — и ехидно ответила на его вопрос: «Нет, не журналистка, писательница. У меня роман и несколько повестей. А диктофон…он нужен в дороге. Меня интересуют люди. Сейчас хотелось бы написать повесть «Герой нашего времени», о новом русском. Как он, мошенник и садист, грабил всевозможными способами население страны, заказывал убийства, разбогател, построил церковь, чтобы от грехов откупиться. Как деньги переправлял за границу, как обзавелся двойным гражданством. Только кто признается в этом? Вот вы, смогли бы исповедоваться на диктофон, душу облегчить, помочь мне в написании этой повести. Грехов, наверное, много набралось? Ааа! У Вас уже нет грехов. Вы пошли в церковь приняли христианство, так сказать грехи спихнули на Иисуса и царство небесное уже уготовлено Вам. «На тебе Боже, что нам не гоже «
Мужчина посмотрел на меня с интересом и ответил:
— Мне нравится ваш сарказм. Но почему вы решили, что я новый русский? Скорей старый, восстановивший свой статус–кво. А охрана? В наше время береженого бог бережет. О чем ваш роман? — взял он в руки лежащую на столе книгу.
Усмехнувшись я ответила:
— О совести, чести и достоинстве, которые удалось сохранить людям в бывшем государстве, занимавшимся все годы советской власти уничтожением порядочных людей. А сейчас и того лучше, как перемены, так обязательно в худшую сторону. В общем моя книга — это своеобразный тест на порядочность. Вряд ли сюжет придется вам по вкусу.
— Можно мне ее взять почитать? — игнорируя мой тон, спросил он.
— А за одно диктофон, — предложила я. — Очень уж интересно знать ваше мнение. А может, действительно, вам есть, что мне ответить. Мы ведь больше не увидимся. Рискните. Да и кто за прошлое накажет Вас?
— Спасибо. Скажем, меня зовут Григорий Томилин. А ваше имя на обложке. Как прочту книгу — верну. Вы в каком купе?
— Здесь и встретимся, — уклончиво ответила я.
Томилин поднялся с места. Высокий и плечистый он выглядел еще импозантней. Наверное бывший партийный работник, или министр, сделала я для себя вывод. Его «противные» телохранители заняли свои места рядом с ним. Взяв со стола книгу и диктофон, Томилин покинул ресторан.
То ли это красавец, мой ровесник, с большой харизмой, на мое мировоззрение все–таки как–то повлиял, только уже в купе мне хотелось выругать себя. «Может и в самом деле пора менять мышление, приспосабливать его к новой жизни, признать правоту этих бандитов — новых миллионеров, ставить на первый план и возвести в достоинство отсутствие совести, превозносить такие качества, как мошенничество, которое теперь называется предприимчивостью, ложь во всех ее проявлениях и уничтожение подобных себе. Выжившие таким образом, в этих битвах «новые русские» обеспечат себе, а главное потомкам райскую жизнь во всех уголках планеты. За деньги можно реализовать все свои материальные потребности. А главное, поправлять здоровье. А остальные люди уже не люди, а запасные почки, печени, сердца для вновь разбогатевших, для того, чтобы они могли продлить свои годы. И никого из их потомков не будет мучить совесть, никто не спросит, сколько крови и жизней стоит их благополучие, переданное им предками». — И жить мне на этой земле вместе с этими сволочами уже не хотелось.
С Томилиным мы встретились через два дня. Он сам присел ко мне за столик и сказал:
— Здравствуйте, госпожа Шрейн. Прочитал вашу книгу, отзывы о ней и остался доволен. В моей жизни было что–то сходное с жизнью героя вашего романа Гедеминова и в то же время, все по–другому. Я ведь тоже потомок уничтоженных дворян. Конечно, не было за моей спиной участия в гражданской войне в юном возрасте. Я родился в 1940 году, перед второй мировой войной. А позже воевал на политическом фронте, физически никого не убивал и тоже получил срок пятнадцать лет лишения свободы в раннем отрочестве, в четырнадцать с небольшим. Правда…
Я перебила его и подозрительно спросила:
— Что, участвовали в групповом убийстве?
— Нет, — отвечал он спокойно. — Мой старший товарищ, вор в законе, ухаживал за женщиной, заведующей ювелирным магазином, выкрал у нее ключи и «почистил» прилавки магазина. Килограммов семь золотых изделий унес и спрятал у нас, у меня в сарае… Мою жизненную повесть можно было бы назвать так «От Дворца до сарая, от сарая к Замку», но назовите ее «Золотой медальон».
Томилин протянул мне мой диктофон со словами: «Я записал свою исповедь. В отзывах молодежь хочет видеть продолжения романа. Думаю, в Ваших планах этого нет. А моя повесть похожая тема. Через три часа я прибуду на место. А книгу? Если не возражаете, куплю ее у вас. Вот адрес моей электронной почты. В своей исповеди я не называю своей настоящей фамилии, да и другие тоже. А мои потомки поймут, что эта история обо мне и их предках. Рано или поздно у человека появляется потребность припасть к своим корням, особенно, когда это связано с любовью. А я любил…. Как говорится: «кто не любил, тот не жил». Почему «Золотой медальон»? Жизнь моя связана с этой вещью. По названию я найду книгу в интернете. Но сначала коротко о прочитанном романе «Эрика». Меня всегда в произведениях поэтов и писателей удивляло то, что они ставили себе одну задачу, а вдумчивый читатель делал еще и много побочных выводов. И, если сказать об этом автору, он очень удивится. Вот Ваш, на мой взгляд, главный герой романа князь Гедеминов, он «стоик». Наверняка Вы ничего не слышали о философской школе стоиков. Все знать не может никто. Эта школа зародилась в Греции в III веке до н. э. Стоики рассуждали о человеческой душе и добродетели, напоминая этим Сократа. Но Сократ, искавший добродетель через красоту, был человеком жизнерадостным. А стоики, полагавшиеся во всем на разум, отличались суровым характером. Они считали, что человек, разумно познавший добродетель, стоит выше всех страстей: он не боится смерти, не знает гнева, не знает сострадания. Если, например, он творит людям добро, то делает это не из жалости к ним, как слабые женщины, а по разумному пониманию того, что милосердие полезно. Они отличались еще и тем, что умели мужественно умирать. Именно таким Вы описали характер князя Гедеминова. Таких как он, я имею ввиду дворян, ушедших при советской власти в подполье, в стране оставалось не мало, но и не много.
Поезд остановился.
— Удачи Вам. — Пожал он мне на прощание руку и сошел с поезда.
— Ох, как мне нужна была удача. Может быть этот «новый богач», так называемый Томилин передал ее немного через пожатие руки. — В надежде подумала я И ещё, почему он заговорил о дворянском сословии? Неужели правда из бывших?
Попутчики из моего купе вышли на ближайшей станции. Мне не терпелось включить диктофон. Когда поезд вновь тронулся, включила его и с удовольствием выслушала исповедь Григория Томилина. Она начиналась так:
ЧАСТЬ I
— Детство мое прошло на территории военного санатория, для советского генералитета. Это был красивый большой трехэтажный Дворец с колонами и львами у входа и прилегающим к нему огромным парком, спускающемся к морю. Но и на территории парка с давних времен был небольшой пруд, где всегда обитали несколько пар лебедей. Моя матушка, во всяком случае, до тринадцати лет я считал ее своей матушкой, Томилина Мария Генриховна жила со мной во флигеле и работала в санатории уборщицей и добровольно сметала листья в парке. Время было послевоенное, голодное. Но сотрудники санатория, их было немного, питались там хорошо. За питание высчитывали с моей матушки половину зарплаты уборщицы. Нам хватало, чтобы выжить в голодное послевоенное время Я даже имел приличную по тем временам одежду. Матушка из чего–то что–то кроила, перешивала… Надо сказать, во флигеле, где мы жили с ней, было огромное количество какой–то поломанной стариной мебели и вещей, которых после всех грабежей барской усадьбы и устройства санатория там сваливали. Стоял даже клавесин, который был в полном порядке. И граммофон тоже. Матушка ставила пластинку, и во флигеле звучал старинный романс. Помню такие слова…. «К нам приехал на побывку генерал, весь израненный он жалобно стонал…» Когда мне исполнилось десять лет, я нечаянно разбил эту пластинку и матушка так расстроилась, что у нее некоторое время были красные глаза. Вероятно, она незаметно для меня всплакнула. Я ее очень любил, и с этого дня стал помогать ей во всем: и в уборке помещения санатория, и в парке. Матушка доверила мне уборку прекрасной аллеи «Унтер ден Линден», то есть аллею вдоль лип.
Однажды, заметив мое старание, она погладила меня по моим темно–медным волнистым волосам и сказала: «Молодец, Гришенька! Не за чужим хозяйством следишь — за собственным». Мог ли тогда я, советский зомбированный школьник, уловить смысл ее слов?
У моих сверстников было передо мной два преимущества. Первое — матери молодые, а моей было за сорок. И второе, она дворник. А мои ровесники — дети рабочих или крестьян. Советская литература постоянно прославляла эти два класса, хотя они на самом деле были мало оплачиваемыми и люди нищенствовали, но при этом гордились своим сословием. Впрочем не Советская власть придумала влиять на сознание людей через литературу, а еще император Август.
Несмотря на возраст, матушка моя была стройная и красивая. Я любил расчесывать ее густые пепельные волнистые волосы. В доме она наряжалась, но как только ей выходить наружу, надевала какие–то балахоны, которые скрывали ее фигуру и накидывала платок на манер монашек. Еще раньше, когда мне исполнилось семь лет, она научила меня нотам и играть на клавесине. Я разучил вальсы и по праздникам исполнял их в санатории на фортепьяно в большом зале. Это давало мне возможность упражняться в игре, когда санаторий пустовал, а заведующая меня еще и подкармливала.
Некоторое время в диктофоне была пауза. И далее Томилин обращался ко мне: «Вот Вы, госпожа, сочинитель. Вероятно, у Вас рассеянная память эрудита и потому возите с собой диктофон. А у меня очень хорошая память, и потому всегда был в школе отличником. Устные предметы мне было достаточно один раз прочитать, а письменные делал сразу, на свежую голову. Так что оставалось много времени на помощь моей дорогой матушке. Да, забыл упомянуть, она знала иностранные языки и научила меня сначала латыни, еще до школы. А когда я сносно читал уже на латыни, по старым дореволюционным учебникам, которые вместе с другими «ненужными» сложены были во флигеле стопками до потолка, стала учить меня и французскому алфавиту. Еще до школы я выучил и немецкий язык. На этих языках зубрил, по настоянию матушки, произведения европейских классиков…
Первые сорок лет советского периода, знание этих языков на прямую, мне ни разу не пригодились. Разве только с Аристархом Андреевичем беседовал по французски. Но о нем немного позже. И только сейчас, когда приходится часто ездить по Европе, по делам службы, я с большой теплотой и благодарностью вспоминаю свою дорогую матушку…
Уже, будучи взрослым, вспоминая детство, понял почему она меня нагружала учебой так, что у меня не оставалось времени на игру со сверстниками. Она сознательно огораживала меня от них. Конечно, мне тоже приходилось драться, когда меня обзывали рыжим или делали намеки на то, что моя матушка дворник. Но моя воспитанность не могла не бросаться в глаза учителям. Они относили это к тому, что я живу при военном санатории, и моя культура идет от соприкосновения с генералитетом и маршалами. На этом месте остановлюсь поподробнее.
В школе мы изучали биографии этих прославленных советских военных. В учебниках и стенах школы мы видели их портреты и я гордился тем, что знаю их в лицо. Один из них, нет смысла называть его имя, однажды, взъерошив мои волосы, задал мне дежурный вопрос: ««Ну, как учишься?» и, не дождавшись ответа, тут же произнес пословицу: «Учись казак, атаманом будешь». Вот как я, в твоем возрасте, два класса церковно–приходской школе закончил, а вот, поди же, до маршала дорос. Учись, рыжик».
Рыжим, в смысле красных волос и конопушек на лице, я не был. Волосы мои были почти черные, если бы не отливали медью. Вечером я похвалился матушке вниманием к своей персоне этого маршала. К моему удивлению она снова изрекла что–то такое, смысл которого тогда был мне не понятен. Но это запомнилось:.
«Когда караван поворачивает, последний верблюд становится первым.» Нарядить в мундир маршала можно любого. Есть магия в одежде. Вот бы еще воевали не числом, а умением, как должно маршалам».
Я почти пропустил эти слова мимо ушей. У моей матушки было много других странностей. Но в этот вечер меня заинтересовала жизнь заведующей нашего санатория Пелагеи Степановны, которая, как я знал, в гражданскую войну была то ли кавалеристкой, то ли пулеметчицей на тачанке, тоже мало образованная, но теперь всеми почитаемая. Я любил свою матушку, но она уступала Пелагее Степановне, пулеметчице, верней проигрывала ей в моих глазах хотя она ходила красивой походкой и была стройной, а Пелагея Степановна широкоплечая носила сапоги и гимнастерку поверх юбки. Широкую ее талию охватывал тоже широкий солдатский ремень и походка была тяжелая в развалку, и волосы ее стрижены, как у мужчин, и еще курила, а над верхней губой пробивались усы–пушок. Иногда мне в голову приходила мысль что она мужчина, но все это оправдывалось ее героическим, как мне казалось тогда, прошлым. Иногда я ревновал ее к этому героическому прошлому. Лучше уж бы матушка была пулеметчицей и лихо скакала бы на лошади. Тогда бы Пелагея Степановна убирала помещение и двор, и ей это было бы к лицу. А матушка нарядная ходила бы в туфельках по санаторию. Поэтому однажды не выдержал и спросил ее, почему она не воевала с красными. Она не удивилась моему вопросу. Вероятно, ждала его и ответила:
— Воевать — мужское дело. Достаточно того, что твой дед воевал с ними и погиб. Подумала немного и добавила, — в свои 35 лет.
Тогда я еще не понимал двоякого смысла выражений: «Он воевал с Буденным», «Он воевал с Котовским». Считалось, ни как по–другому, как на их стороне. А значит мой молодой дед отдал жизнь за советскую власть и некоторое время гордился этим. Но как только разговор приближался к вопросу о моем отце, каким он был, матушка умело ставила между нами стенку. А мне хотелось услышать, что он погиб на фронте в отечественную войну, если уж его все равно нет, то хотя бы оставил после себя героическую память. И, еще одна загадка. В дальнем углу парка, с восточной стороны, у самой ограды, находилась могила и обелиск с красной жестяной звездой. Этот уголок всегда цвел и был ухожен лучшими цветами. Там стояла скамеечка, где матушка часто отдыхала, пока я сгребал, скажем, осенью желтые листья, которые ветер забрасывал с близстоящего дуба. Однажды, машинально подняв голову и посмотрев на матушку, заметил, что сидя на скамье рядом с обелиском она левой рукой гладит край могильного холма. И на ее лице такое выражение печали и нежности, что я заподозрил, именно под этим обелиском лежит мой героический дед–красноармеец. А то зачем бы она и утром и вечером ухаживала за этой могилой. Когда в санаторий приезжали новые высокопоставленные постояльцы, Пелагея Степановна обязательно приводила их к обелиску неизвестного красноармейца. И, естественно, часто заставала там мою матушку. Перед мартовским праздником она, как всегда, привела посетителей. И кто–то из них предложил перенести прах героя гражданской войны на центральную площадь поселка, перезахоронить с почестями, чтобы, проходя мимо, пионеры–школьники могли отдавать герою честь. В то время я был рядом с матушкой. Помню, когда кто–нибудь обращался к ней, она чаще не отвечала. Пелагея Степановна оправдывала ее: «Работящие люди мало разговаривают, зато много делают». Но в этот раз, услышав разговор о переносе праха, матушка подняла голову. Лицо ее было бледным. Она твердо сказала: «Пусть лежит на том месте, где расстреляли. Ему хорошо здесь в парке».
Догадливый высокопоставленный военный удивленно спросил: «Не твоего ли любезного здесь в расход пустили?»
— Моего, — спокойно ответила матушка.
Пелагея Степановна ахнула и, показав, на нее рукой произнесла:
— Посмотрите на наших людей, какие они скромные! Вдова героя гражданской войны, а скрывала. Маша, — это она моей матушке, — готовь бумаги. Мы тебе оформим помощь. И люди должны знать о скромной вдове героя–красноармейца.
На что матушка уже спокойней ответила:
— У меня сердце слабое, если умру, похороните рядом. Ничего другого мне не надо. Да, об Грише моем позаботьтесь, образование ему дайте. А что касается геройства моего мужа, на то он и солдат, чтобы умирать за Отчизну.
— Да, да. — согласился высокопоставленный военный. И заведующей:
— Пусть будет, как она хочет. А слова ее хорошие: «На то и солдат, чтобы за Отчизну жизнь отдавать». И услышал, как он говорил Пелагее Степановне: «Помогите семье героя, чем можете.»
Они удалились. Бледность сошла с лица матушки. Она пробормотала: «Не хватало еще, чтобы они обнаружили в могиле золотые погоны».
— Почему золотые? У Красноармейцев тогда не было еще погон, — напомнил я, но матушка промолчала.
Мне исполнилось тринадцать лет. В этом возрасте мнишь себя всезнающим, а у взрослых находишь то пробелы в памяти, то нехватку тех знаний, которые ты усвоил в школе. В первую очередь каких–то советских исторических фактов. И авторитет старших падает и падает в твоих глазах, хотя ты и продолжаешь их любить, но уже с долей пренебрежения. И моему изумлению, по поводу того, что здесь, под обелиском, лежит муж моей матушки, а значит мой отец, не было границ. Я напомнил ей:
— Сейчас 1953 год. Я родился через 20 лет после того как погиб мой отец? Ты перепутала что–то.
Опершись на лопату, матушка в задумчивости ответила:
— Видно, Гришенька, пришло время тебе узнать всю правду о себе. Не матушка я тебе, а бабка родная, мать твоего отца. Мой муж — генерал, князь Григорий Томилин. Его фамилию ты носишь и имя тоже. Здесь он, дед твой молодой лежит… И этот Дворец — его А значит наша с тобой собственность. Пойдем–ка домой, поговорим.
По дороге к флигелю она молчала, а мне и вовсе трудно было переварить ее слова. Когда мы перешагнули порог нашего бедного жилища, я не выдержал и с обидой спросил:
— А как же обелиск с красной звездой?
Матушка положила мне руку на плечо и ответила:
— А это так, не фамильный же герб вешать, попросила плотника сделать звезду, чтобы открыто ухаживать за могилой. Мой Гришенька не в обиде. Отец твой, наш с Гришей сын Алешенька, был на него похож, такие же темные медные волосы. Да и ты их унаследовал. Это от предков по женской линии династии Штауфенов. Ну, садись уже. Поговорим, а то не успеем. Зовет меня мой генерал… Да и родители тоже торопят. Во сне приходят… Не успела тебя на ноги поставить. Когда тебе в жизни уж очень трудно придется, подними голову к небу, попроси энергии и разума у светлого бога и совета у предков. Они всегда рядом.
Матушка молча накрывала на стол, я с тоской ждал, как ей удастся оправдать в моих глазах деда — белого генерала да еще князя, который вовсе не был героическим красноармейцем. Но в этот день она мне ничего не сказала. Дня два она молчала, наверное, собиралась с духом. А тут умер Сталин. Люди плакали на улицах, плакали наши учителя, девчонки в классе ревели. Все думали, что теперь Америка не побоится на нас напасть и забросает в отсутствие вождя атомными бомбами. Но когда я вернулся из школы, к моему изумлению, застал матушку в хорошем настроении в нарядной одежде. Я думал она не слышала ничего о смерти вождя. Радио у нас не было, но оно имелось в санатории. Мне даже показалось, она накрыла праздничный стол. Сроду на столе не стояла бутылка вина. И еды, может, накопила из того, чем ее кормили в санатории? Откуда–то взялись старинные рюмки. Она налила себе полную и мне тоже, сказав при этом:
— Ну, Гришенька выпей первый глоток вина из любящих рук, чтобы оно приносило тебе в жизни только радость и никогда горе. Сегодня великий день. Твою родную мать выпустят второй раз на свободу, и надеюсь, больше не арестуют. И я уйду из жизни с легким сердцем. Выпей, выпей! Потом будешь размышлять над моими словами. Этот день…. То, что ты услышишь от меня, сделает тебя взрослым раньше срока. Слава Богу, ты не болтлив. Но с этим райским уголком придется тебе распрощаться. После лагеря мать твою оставят на поселении в тех морозных, безводных краях. Ни этой весны там не увидишь, ни этих птиц не услышишь и своего поместья не скоро увидишь.
Я выпил вино, но весть о таком позоре, что моя незнакомая родная мать сидела в лагере, да еще два раза, а значит, преступница, обрушилась на меня так внезапно, что вино никак не подействовало. Сначала дед — генерал, а теперь еще…Расстроившись в сердцах крикнул:
— Почему, почему ты хочешь умереть и бросить меня? Я знаю, тот, который в могиле лежит, хочет за тобой прийти, а мне значит в Сибирь к незнакомой женщине–преступнице?! — по щекам у меня текли слезы.
Матушка не стала меня, как всегда, утешать, только подала платок и предупредила:
— Гришенька, другого дня может и не быть. У меня сердце все чаще останавливается. Мне уже не под силу тяжелая работа. Но отсюда я не могла уйти. Успокойся. Лучше слушай и ничему не удивляйся, только запоминай.
Я с грустью подумал: «Что еще плохого услышу?». Но рассказ матушки перевернул мое сознание. Она продолжала:
— Помнишь, ты разбил пластинку с моим любимым романсом и тем очень огорчил меня? Так вот, тогда давно шла первая мировая война, в четырнадцатом году, а в следующем мне исполнилось пятнадцать лет. Я была красивой барышней и жила с родителями в нашем поместье в Кисловодске. Это не далеко отсюда, километров сто, где минеральные воды. В первую мировую войну там раненых подлечивали. Однажды я возвращалась с прогулки и увидела, как к нам заезжает открытая машина и санитары снимают кого–то с нее и заносят в дом. Это был раненый генерал, князь Томилин, в очень тяжелом состоянии. Думали, не выживет. Мне стало страшно. В один из дней я услышала, как доктор сказал за обедом моей матушке:
— Сегодня ночью у князя будет кризис. Или он уйдет из жизни, или пойдет на поправку. Теперь, как Господь распорядится.
Матушка в отчаянье воскликнула:
— Ну, молодой же организм! Неужели сдаст позиции?
Тогда я встала из–за стола, и смело заявила:
— Пойду к нему и не дам умереть. Есть один способ.
— Да какой же? — в отчаянье спросила матушка, но доктор меня понял.
— Да, — согласился он, — вы правы барышня, спасите жизнь герою, Это в ваших юных силах. Если он хоть на миг придет в себя и увидит вас, умирать уже не захочет.
Сразу после обеда я заставила себя уснуть, чтобы бодрствовать ночью. и пришла к постели раненного в десятом часу, когда врач сделал все, что мог. С мужчиной мне ни разу еще не приходилось быть наедине, да еще с полураздетым, обвязанным бинтами. Было непривычно и стыдно, но любопытство взяло вверх
Князь жалобно застонал раз, другой. Я испугалась, что он сейчас умрет. Его стал бить озноб, пришлось накрыть одеялами. Потом его снова бросало в жар, и я вытирала ему лоб и сбрасывала одеяла. В первом часу ночи зашел доктор, покачал головой и ушел. Тогда во мне проснулось материнское чувство, которое сидит в каждой девочке, другого я еще не знала. А может и не материнское. Мне доктор доверил жизнь героя. Он верил мне. И нельзя было дать раненному умереть.
Один раз князь пришел в сознание, посмотрел на меня, еле слышно прошептал:
— Так–то оно лучше, — и опять потерял сознание.
Он умирал и знал это, и я знала. Тогда мне пришли в голову слова любви, которые я вычитала из книг:
— Пожалуйста, очнитесь! Я люблю вас. И всегда, всегда буду любить. — говорила я горячо как актриса, вошедшая в роль и готова была полюбить, лишь бы он не умер, и пристально вглядывалась в его лицо. Оно показалось мне очень красивым. Я уже более искренне приговаривала:
— Я люблю вас!
И, чтобы он поверил мне, полагая, что раненный совсем без сознания, впервые в жизни припала к мужским губам и раз, и второй. Его губы были такие горячие! Во мне проснулось чувство к нему. От жалости я заплакала, мои слезы покатились ему на лицо. Я плакала и просила:
— Боженька, не забирай его. Я буду его очень–очень любить!
С этими словами прижалась к его колючей щеке. Мне показалось, он зашевелился. Я подняла голову, посмотрела ему в лицо, ресницы его дрогнули. Тогда снова поцеловала его и почувствовала, как его губы мне едва, едва ответили. Это значило, что он услышал меня, и будет стараться жить. С одной стороны мне стало очень стыдно, а с другой — гордость за себя, что мои усилия, слова и поцелуи вернули его к жизни.
Два раза приходил доктор. В последний приход он попросил:
— Барышня, будьте здесь на рассвете, чтобы не случилось. Кажется, генерал спит. Сейчас уже нет смысла что–то предпринимать.
Рассвет был уже недалек и с первой зарей раненый снова застонал, но не так жалобно, как ночью. Я сидела на его кровати и всматривалась в его лицо, не бледнеет ли, не умирает ли, и вслух сказала ему:
— На улице весна, все цветет. А Вы хотите умереть.
Глаза раненного приоткрылись и он, едва слышно, прошептал:
— Спасибо, ангел мой.
Я обрадовалась и дернула за шнур колокольчика. И вот у постели больного собрались все, кто в эту ночь не спал.
— Он жив. Он не умрет! — шепотом объявила я.
Доктор улыбнулся и предупредил нас:
— Теперь тихо, пусть спит, кризис миновал. Откройте окна. Барышня, и вы все идите отдыхать. Когда понадобитесь, вас разбудят.
На этом месте моя матушка замолчала, наверное, вспоминала подробности. Помолчав продолжила:
— Вот так, Гришенька! Остальное ты поймешь, малыш, когда станешь взрослым. А через месяц мы обвенчались. Батюшки моего уже не было в живых. А матушка с удовольствием нас благословила.
— Ну, хватит рассказывать, ты устала, остальное потом, — поспи немного, а я в парке вместо тебя поработаю. И пожалуйста, не вставай сегодня, в санатории никого нет, никто не заметит твоего отсутствия.
В первую очередь я направился к могиле деда–генерала и сказал ему:
— Все это интересно про тебя и матушку, но сейчас другое время. Если ты меня слышишь, не забирай ее от меня, я еще не вырос, и люблю ее. — И весь оставшийся день думал о том, что рассказала мне матушка и о любви. Что это такое, если прямо тянет умереть, чтобы только встретиться с любимым. Но кроме тех слов, что слышались с пластинки в романсе о раненном генерале, ничего не приходило в голову. Впервые пришла и печальная мысль, что жизнь — это вранье. И матушка на самом деле бабушка, и могила красноармейца дутая, и санаторий не санаторий, а мое наследный Дворец Но коль это так, то почему мы живем во флигеле, а в наших комнатах ходят красные маршалы, которые непечатными словами ругаются. Может ругаются по привычке, потому что были в детстве подмастерьями у сапожников? Мне вспомнилось, как стоя за кустами, один из этих «великих» маршалов справлял нужду у куста лавра и громко портил воздух, как это делают пьяницы. И все мне стало противным.
Отдохнув, матушка продолжила свой рассказ или, сказать больше, трагедию своей жизни. Но я, с ее слов, должен был знать все, и рассчитывать при этой власти только на себя и никому не доверять.
— Так на чем мы остановилась? Делюсь с тобой, малыш, своими чувствами к моему генералу, потому что ты его кровинка.
Часов в десять утра я, со страхом за вчерашние поцелуи, зашла к нему. У двери стояли и шептались мои матушка и тетушка.
— Да, иди Маша к Григорию Николаевичу. Даст Господь, сегодня все пойдет на выздоровление, — шепотом говорили они, подталкивая меня дружно к двери.
Я подумала про себя: «Генерал был в таком тяжелом состоянии, что почтет мои поцелуи и свой ответный за бред, или сон. И думать нечего бояться». С этими мыслями вошла к раненому, встала рядом с кроватью, потом присела на стул, ожидая, когда он проснется. Было время цветения, начало апреля. Как и сейчас пели соловьи, цвел жасмин и сирень. Ветки цветущей абрикосы качались за растворенным настежь окном. Я сидела и разглядывала спящего… Его лицо казалось мне таким родным! Широкие плечи не были прикрыты, лишь белая повязка охватывала грудь поперек. Да, раньше я мечтала: закончится война, а когда мне исполнится шестнадцать, впервые буду танцевать на балу с героем войны. О–о–о! Его образ давно сидел в моей головке. И мне ли не узнать моего героя с первого взгляда? И вот он явился мне раньше времени. Он лежит здесь беспомощный, и можно любоваться им сколько угодно. В душе моей пробудилось не объяснимое чувство. Еще не любовь. Это как еще не восход солнца и даже еще не заря, а мгновение перед зарей. Совсем рядом, с моей рукой, лежала его рука с перстнями на пальцах. Мне представилось, как он в бою сжимает шашку этой сильной, теперь ослабевшей рукой и захотелось приложиться к ней щекой. Я оглянулась на дверь, никого, и погладила его горячую руку. Подняла глаза на лицо спящего и вздрогнула. Он разглядывал меня. Я испугалась, покраснела и хотела уйти, но не ушла, только потупив глаза, сказала:
— Как хорошо, что вы проснулись. Позову кого–нибудь из взрослых. Но генерал взял меня за руку и с нежностью произнес слабым баритоном:
— Не уходите, прекрасное виденье. Своим вчерашним поцелуем, ангел мой, вы вернули меня к жизни.
— Вам это приснилось, — покраснев до корней волос, торопливо ответила я.
— Конечно же приснилось, но если Вы явились мне в чудесном сне, не оставляйте же меня и наяву, или я умру, — пригрозил он.
— Вам действительно полезно еще поспать, — не глядя на него, ответила я, забрав из его горячей ладони свою руку и, позвонив, добавила, — Вам будет полезно покушать. Вы три дня не ели. Для выздоровления необходимы силы. И поспешно вышла из комнаты.
И занялась заря! И грянул восход, с громким птичьим хором в душе. И наступил праздник жизни. И от волнения вечером я не могла уснуть.
Через неделю доктор попросил меня вывезти раненного в парк, сказав при этом князю: «Это пойдет Вам на пользу».
Я не знала, как мне быть. С одной стороны, юная барышня не должна проводить время с мужчиной, в которого влюбилась, но с другой, он нуждается в моем присутствии и имеет право на внимание с моей стороны. Что там говорить, я не могла прожить и пол дня, не увидев его. Молодой могучий организм выздоравливал. Еще через неделю мы с ним уже медленно гуляли по аллеям нашего парка, и отдыхали на скамейках. И не было весны прекрасней этой. Нам не возможно было скрыть нашу любовь. Ему тридцать пять, а мне пятнадцать. Перед выездом на фронт князь попросил у моей матушки моей руки. Мы обвенчались, и он привез меня не надолго в свое поместье… А сейчас здесь…
— Дальше, дальше, что было? — торопил я.
— Мы приехали сюда. Григорий Николаевич составил на меня завещание, оставив мне все фамильные драгоценности и ценные бумаги. Я пожелала вернуться в родительский дом. Он отвез меня и уехал на фронт. Два раза приезжал мой князь в отпуск. У меня уже родился его сын Алешенька, твой отец. Нашим сыном занималась кормилица Глаша и няньки. Признаюсь, не было у меня к маленькому того материнского чувства, которое должно быть от природы. Я знаю, у многих восточных народов первого ребенка отдают родителям мужа. Он у них последний и самый любимый, потому что молодым не знакомы еще родительские чувства, они заняты друг другом. А я любила только его, моего князя, и жила в ожидании весточек от него. Наши встречи были сплошным счастьем Потом все рухнуло… Случился переворот. Большевики силой захватили власть, началась гражданская война. Царя и его детей расстреляли… Мир раскололся на белое движение и красное. Красные желали разрушить, сжечь все до основания, не оставив камня на камне, убить, уничтожить всех успешных и образованных людей, чтобы потом на этом пожарище, на этих обломках, неизвестно с кем и как, построить новое государство со всеобщим равенством. Они выдвигали ожидаемые чернью лозунги, «Земля, фабрики заводы, Дворцы и поместья будут ваши «и заманивали таким образом людей в свои ряды, а других силой заставляли, Как видишь, Гришенька, никакого равенства нет и не будет. И народам России стало во сто крат хуже, чем при царе.
В девятнадцатом году нашему Алешеньке исполнилось три года. Белые отступали к морю. Муж передал мне через адьютаната сообщение, чтобы я захватила с собой все ценное и с маленьким Алешенькой и Глашей, Глаша кормилица моего сына Алеши, приехала в его поместье и ждала дальнейших распоряжений. Еще он велел мне переодеться крестьянкой, переодеть Алешеньку и из секретера забрать ларец с его фамильными драгоценностями.
Мы ждали. Уже слышалась канонада. Нам с Глашей было очень страшно. Белые войска во главе с моим дорогим князем отступали в сторону поместья. Наверное, он хотел в родных стенах занять оборону. Снова прискакал его адъютант с двумя оседланными лошадьми. Только мы сели на лошадей, как я увидела моего генерала на минутку. Он был разгорячен, только что из боя. Его дивизия уже занимала оборону во Дворце и в парке. Но силы были не равные. Им оставалось два выхода: или всем умереть, или уйти морем. А корабля все не было. Гришенька обнял меня и сына в последний раз, расцеловал, сказал, что портреты предков в большой зале за второй стеной, и приказал адъютанту вывести нас к пустой избушке рыбака, а самому срочно возвращаться. Я знала, что больше не увижу его, и хотела умереть с ним. Но он показал на Алешеньку и сказал:
— Вот он, гарант продолжения нашего рода. Сохрани мне сына. Если что, Машенька, с небес буду следить за тобой, как ты выполняешь мой наказ. И спросил меня все ли я взяла с собой. Я показала на узел, в котором лежал саквояж.
Адъютант погнал лошадей. Маленького Алешу он взял к себе в седло, и мы с Глашей поскакали к избушке рыбака. Она была метров семьсот от поместья. Там, в избушке адъютант оставил нас, показав, где припасена пища и вода. Но нам было не до еды. Всю ночь шел бой, и мне оставалось только молиться за жизнь моего князя. Когда на рассвете стрельба раздалась ближе, я почувствовала огромную пустоту. Я знала, знала, на земле нет больше моего любимого.
Дверь с петель у нас сорвало взрывной волной. Мы с Глашей прикрыли Алешеньку собой, когда к нам ворвались красноармейцы. Посмотрели на двух бедно одетых, испачканных женщин, ничего не сказав, ушли и расположились у берега отдыхать и готовить еду. Я попросила кормилицу разведать, что же с князем?
Глаша была бабой молодой, довольно бесстрашной. Она ушла, но вернулась со слезами на глазах, убитая горем.
— Через два часа эти снимаются и уходят, — прошептала она, плача.
— Что, что с Григорием Николаевичем?! — торопила я ее, в надежде, что он, пусть раненый, в плену у красных, но живой.
Глаша разом выпалила:
— Говорят, все погибли, а князя расстреляли в парке. Крепитесь, барыня, вы теперь вдова в девятнадцать лет. Горюшко–то какое!
Глаша еще говорила:
— Эти после привала уйдут и мы пойдем хоронить_ не успел он уйти. Взрывом снесло часть ограды. Там, где его лошадь ждала…
Плакать я не могла. Его не было на земле. Увидеть в последний раз…
Глаша продолжала:
— Вы здесь побудьте одни с Алешей. Дайте мне монет золотых, штук пять, больше не требуется. Найду негодных к службе мужичков, чтобы быстрее могилку выкопали. Я вернусь за вами, когда все будет готово.
Она ушла. Луна все светила в дверь полуразбитой рыбачьей избушки…
Матушка замолчала, по–видимому, заново переживая смерть мужа. Потом продолжила:
— Ненавижу полную луну. Ненавижу, как пособницу убийства. Если бы она хоть за тучи тогда зашла, он бы ушел через ограду.
Красные шумно снялись с места, и ушли берегом делать далее свои черные дела. А для меня время остановилось. Глаши все не было. Я не дремала, когда ясно увидела у открытого проема двери своего мужа. «Иди ко мне, простимся», — сказал он тихо и растворился в лунном свете. На его месте возникла фигура Глаши. Она взяла на руки сонного Алешеньку, и я молча пошла за ней.
Кругом валялись трупы белых и красных. Я еще верила в чудо, а вдруг все–таки как тогда, еще живой…
— Через несколько часов красные вернуться своих хоронить. Надо спешить, — донесся до меня голос няни моего Алешеньки.
Пуля попала моему Гришеньке прямо в сердце. Он лежал среди зеленой травы такой могучий и прекрасный… Я встала на колени перед ним и поцеловала его в губы, которые были всегда такими горячими, а теперь совершенно ледяными и поняла, что хочу умереть вместе с ним, здесь и сейчас.
По–видимому, я потеряла сознание. Когда очнулась, никого, кроме Глаши, со спящим Алешенькой на ее руках, не было. А рядом свеже насыпанный холм, под которым лежал мой генерал. Тогда мне стало понятно, что далеко от его могилы не уйду. И спросила Глашц о ее родителях. Она ответила, что они живут в километрах десяти от нас, в деревне и предложила ей:
— Возвращайся домой. Забирай с собой Алешеньку. Если красные узнают, что он сын князя, в живых нас и его не оставят. Как твоя фамилия?
— Кузнецовы мы, — ответила Глаша.
— Вот и хорошо. Родителям скажешь, что это твой сын. И в школу пусть идет под твоей фамилией. Ни о чем не заботься. Для жителей деревни и твоих родителей я сестра твоего погибшего мужа. Алешеньке — родная тетка. Кем он был, матросом? Теперь так и говори всем. У нас достаточно средств, чтобы ты с Алешенькой не бедствовала. Я буду периодически вас навещать. Отправляемся прямо сейчас. Провожу вас и вернусь сюда. То, что у меня имеется, хватит и прокормить вас, и выучить Алешу, — уверенно сказала я, теперь уже навеки другая, в другой стране и другой жизни.
Нянька, прижимая к себе спящего Алешеньку, заверяла меня, что отдаст за него жизнь. И я ей верила. Она кормилица, а это тоже мать. Отныне мы волею судьбы стали родными И предложила ей:
— Называй меня просто Машей.
Так закончился прекрасный период моей, нашей с Григорием Николаевичем весны. Мне оставалась его могила, да его сын, который рос первое время в деревне, а я их только навещала. Но там не было школы. Потом мне удалось купить им прочный дом на окраине маленького городка, где была школа семилетка. И в преподавателях не трудно было разглядеть высокообразованных людей дворянского сословия, скрывающиеся от репрессий из родных мест. Среди них были люди со знаниями иностранных языков и знатоки музыки. Люди эти тоже все потеряли и каждому из них я дала по два десятка золотых монет, которые честные люди не хотели брать, и мне стоило большого труда убедить их, что это на поддержку их здоровья и здоровья их детей и на обучение моего «племянника» Алеши. Даже им я не доверяла.
Глаша взялась добровольно убирать помещение школы. После ей уже платили зарплату. В округе того городка, в разграбленном помещичьем доме обнаружился рояль. Мужики перевезли его по моей просьбе в школу. Нашелся и мастер, который наладил его. Так что Алешенька получил хорошее образование. Но в то время, когда он закончил семилетку, в тридцатых годах, молодежь все бредила полетами на аэропланах. Алешенька тоже мечтал поступить в какой–то Осоавиахим. Я не возражала. После семилетки он прибавил себе год, поступил в этот самый Освиахим, закончил его, потом школу летчиков, а курсы командного состава — в Москве в 1939 году, за два года перед второй мировой войной.
Сын мой, Алешенька, твой отец, вырос высоким, плечистым весь в своего отца, князя Томилина. А биография крестьянского парня открывала перед ним все двери для служебного роста. Мне же оставалось радоваться за него. Но и горько было от того, что он не носил фамилию отца и ничего не знал о своем происхождении. Однажды мы с Глашей открылись ему. У него как и у тебя сделался шок от услышанного. Главное, что теперь он все о себе знал. Потом он познакомился с твоей мамой Еленой. Это было уже в Москве, в Большом театре. Она была красавицей–балериной, дочерью профессора консерватории. Они полюбили друг друга. Но от жены он вынужден был скрывать свое истинное происхождение. А я, чтобы не навредить Алешеньке, даже на свадьбе не была, хотя он меня очень звал.
После окончания военно–воздушной академии в 1939 году отца твоего, моего Алешеньку, направили работать в Киев. А в сороковом у них родился ты. Тебя назвали Григорием в честь деда князя Томилина. Правда твоя мать этого не знала. В свой отпуск он повез твою маму в Минводы, чтобы она могла оправиться после родов. Глаша оставалась с тобой как твоя бабка. Вернусь назад к тому времени, когда мой маленький Алешенька жил еще в деревне и рос, как Кузнецов Алексей, а не Томилин. C тех пор поселилась во флигеле и устроилась на работу в во Дворце, прозванном санаторием стала присматривать за могилой мужа. Меня здесь никто не знал. Поместье стоит особняком от близ лежащих деревень. Люди в этих деревнях в старые времена были крепостными князей Томилиных и потому многие семьи носили такие же фамилии. Я одевалась крестьянкой и платок повязывала, как они, то есть как сейчас. Поэтому новая власть сочла меня за работницу бывших хозяев, и не обратила внимание на сходство фамилии. Они долго не могли определиться, что же делать с Дворцом и сначала назвали его домом отдыха для красных командиров, героев гражданской войны и только в 38 году он стал санаторием для командирского состава высшего ранга, а в нынешнее время, чтобы сюда попасть на отдых, нужно иметь не меньше генеральского звания.
Матушка некоторое время молчала. Я даже задремал. Она почувствовала это и попросила:
«Не спи, Гришенька. Сейчас о тебе речь пойдет. Когда встретишься со своей матерью, она расскажет тебе об отце, о том периоде, когда они уже были семьей, и ты родился. и Глаша поселилась с вами, и выхаживала тебя, как когда–то твоего отца. Так вот, твой отец был очень заметной фигурой. Так похож на твоего деда! А после Октябрьского переворота, который называется на французский манер революцией, прошло еще только двадцать лет, и многие знали князя в лицо. Опасаясь, что вдруг кто–нибудь из этих людей признает в моем Алешеньке его сына, я запретила Глаше с Алешей наезжать ко мне. А сама, по возможности, изредка приезжала в Саратов, где он учился в летной школе, а потом встретилась с ним два раза в Москве. И однажды Глаша познакомила меня с родителями твоей мамы. Представила как сестру Алешиного отца, то есть опять же ему теткой. Я совсем недолго у них была. Надо сказать, все золото и драгоценности фамильные мне пришлось потратить на содержание Алешеньки, чтобы он ни в чем не нуждался. Да и Глашу нужно было выучить, поднять из школьной уборщицы до учительницы начальных классов. Она этим очень гордилась. Я же была плохо одета и плохо обута, но своего вида не стеснялась, так как знала себе цену. В тот приезд домработница твоей матери, вернее ее родителей, провела меня на кухню, и предложили еды. Отказавшись, я сидела в ожидании хозяев. Услышала звонок и мужской голос спросил домработницу:
— Феня, ты хоть напоила гостью чаем с дороги?
На что та ответила:
— Она не желает ни чаю, ничего другого.
И снова тот же голос:
— Пригласите гостью к нам в гостиную.
Твоя бабка по матери измерила меня взглядом с ног до головы, но когда дошла до лица, запнулась. Наверно, потому, что встретила мой, еще более высокомерный взгляд. Эту сцену наблюдал твой дед, отец твоей матери, крупный музыкант Востриков Николай Васильевич. Он, в отличии от жены, смотрел на меня широко раскрыв глаза, потом слегка поклонился, представился и представил свою супругу, чем немало удивил ее. Жена его, людей из простого сословия презирала. На это у нее была веская причина. И потому, как я узнала от Глаши, отца твоего она считала недостойным своей дочери Элен — так звали твою маму дома и в театре. А Николай Васильевич, наоборот, сразу полюбил твоего отца и простая фамилия Кузнецов (фамилия его кормилицы Глаши), которую носил мой сын, не пугала его.
Николай Васильевич провел меня в столовую, и я не знала, как мне быть. Честно говоря, хотелось оставаться самой собой и не играть роль крестьянки. Она, твоя бабка, ей не было еще и сорока, расспрашивала меня об Алешином отце: какое у него было образование, кем он работал. Я отвечала однозначно, как научила Глашу:
— Образования у него не было. Работал грузчиком в порту, потом матросом. Погиб в гражданскую войну.
— Да, что ж, не всем быть культурного происхождения, — с явным пренебрежением заметила она мне.
С пренебрежением потому, что у нее на примете был жених для дочери повыше рангом. Но диалог между мной и Николаем Васильевичем все же состоялся, глазами. В конце обеда он сказал мне:
— Когда–нибудь, настанет время, и этого можно будет уже не скрывать, то есть не стыдиться своего происхождения. Он явно имел в виду дворянского. Уж он–то не обманывался по этому поводу.
Я дождалась молодых. Твоя юная мать Елена, мне понравилась. Видно было, сына моего она любит. А Алеша хотел проводить меня на поезд. Элен ни на минутку не оставляла мужа, но отец ее меня понял, что нам с Алешей нужно побыть наедине, и попросил дочь остаться дома под предлогом, что ей пора собирать вещи в дорогу.
И вот матушка начала рассказ обо мне:
— Ты, Гришенька, родился 14 апреля 1940 года. Назвали тебя в честь деда Григорием, а твоя мама звала тебя Гошей. Твое рождение было счастьем для всех нас! Но Советская власть не позволяла людям быть счастливыми. Без устали искали врагов народа. Тебе исполнилось только два месяца, когда арестовали твоих родителей. Нет. О княжеском происхождении твоего отца никто не знал. Но странное дело, Алеша уже и в их партии спрятался. Сто раз проверяли биографию, но от смерти это его не спасло. Да, он стал военным летчиком и вполне мог погибнуть в бою, защищая новую страну, этот ужасный строй. Но его обвинили в шпионаже в пользу Германии и в организации заговора в полку. Не знаю, кого уж там пытали. Кто вынесет пытки? Специально подсказывали, кого шпионом назвать. По плану нужно было на любом предприятии, даже среди крестьян, находить врагов народа, а среди военных и подавно…. Как рассказывала Глаша, ночью в квартире раздался телефонный звонок. Незнакомый голос предупредил: «Сегодня за вами приедут». И положили трубку. Отец твой велел быстро всем собираться в дорогу, ехать ко мне. Пока Глаша в вещмешок кидала твои вещи, Алеша собрал все деньги, какие нашел и отдал их Глаше. Элен, твоя мать, в одной ночной сорочке металась по квартире. Она отказалась оставить мужа. Кидалась, то к нему то к тебе. Алеша выпроводил Глашу с тобой на улицу. Велел идти скорей за угол и к вокзалу. Садиться на любой поезд и с любыми пересадками добираться до меня, его матери. Он отлично понимал, арестуют даже Глашу. А ты в приюте окажешься. А приют — это конец. У человека нет будущего. После приюта ребенок оказывается на дне жизни.
Алешенька просил Глашу передать мне горячие заверения в своей любви и пообещал, что если останется жив, даст знать. Но я и в этот раз знала, что теперь не увижу больше и сына. Будь проклята эта бандитская власть!
Матушка проглотила комок в горле, помолчала и спросила:
— Гришенька, ты спишь?
— Нет. Но как бы мне хотелось узнать каким он был, мой отец.
— У меня есть альбом с их фотографиями. Завтра ты его увидишь. Там и снимки твоих предков…. Я не говорила еще, что раз в год Глаша по моему настоянию фотографировала Алешу и передавала мне его карточки? И свадебные тоже. Но ты спи, малыш. Я себя чувствую не плохо. Даст Господь, не останешься сиротой. Договорим на днях, — вздохнула матушка.
Но я попросил:
— Рассказывай дальше, как няня до тебя добралась?
— Глаша пришла с тобой на руках и с тяжелым рюкзаком за спиной, рано утром, в шестом часу. Был июль месяц. Погода стояла прекрасная. Я, как всегда, пошла к могиле моего князя, посидеть рядом с ним, когда услышала детский плач у самой ограды. Повернулась и вскочила со скамьи. С другой стороны, с тобой на руках стояла Глаша. Она знала, что найдет меня у могилы мужа. Сквозь прутья разбитой ограды Глаша протянула мне тебя и оглушила известием об опасности, которая ждет моего Алешу и невестку. Подсказала, чтобы ребенка подкидышем своему начальству, назвала. Затолкала мне за ограду твои вещи и назначила встречу на колхозном рынке.
С тобой на руках я села на скамью у могильного холма и сказала мужу:
— Ну вот, Гришенька, у нас с тобой есть внук, а Алешенька, ты свидетель, я его берегла, как могла. Ради него отказалась от материнского счастья видеть его каждый день. Какой же был крутой переворот, если после него хорошим людям нет больше места на этой земле. Чего ты Гришенька молчишь? Что мне теперь делать? — и в эту минуту меня осенило, как будто свыше — усыновить внука.
В девять часов утра, как всегда, со своим портфелем, пришла на работу Пелагея Степановна, и я принесла ей тебя в кабинет уже чистенького переодетого, сытого и положила на кожаный диван. Мне нужно было быть очень дипломатичной, из расчета с кем имею дело, чтобы ты остался со мной, не то пришлось бы уйти с этой работы, то есть оставить твое родовое гнездо и могилу моего мужа. Поэтому как можно спокойней объяснила:
— Пелагея Степановна, смотрите, подкидыш, через прутья ограды просунули. Убираю я парк, слышу, кто–то пищит. Смотрю сверток. Вот, Господь ребенка Вам послал.
Ребенка? — не сводя глаз с тебя, удивилась она. — Никакого бога, конечно, нет. Просто это какая–то девка гулящая подбросила. Нужно его в приют определить.
Делаю вид, что соглашаюсь, и предлагаю:
— Давайте хоть посмотрим, мальчик это или девочка?
Пелагею Степановну взяло любопытство, она подошла к тебе и говорит:
— Одежда, конечно, богатая, — и неумело развернула пеленки.
— Мальчик, — сказала она. И тут ты мне помог. То ли тебе щекотно стало, но ты вдруг заливисто засмеялся и сердце грубой женщины смягчилось.
— Возьмете его себе, или мне его усыновить? — спросила я и продолжила:
— Если есть бездетные женщины, которые могут заменить ребенку мать, зачем же ему в приюте без любви расти. Молоко здесь, в столовой, всегда есть. Он будет вас больше меня любить, потому что Вы героиня. А я могу его растить здесь, вам на радость Нам же в санатории и заведующая хозяйством нужна. Одна учительница, Кузнецова Глафира, просила меня поговорить с вами о работе. Она будет нашего ребенка учить (я имела ввиду Глашу). Неужели мы, три женщины, еще не старые, не поднимем на ноги этого советского ребенка? С Вашей помощью, когда вырастет, сможет красным командиром стать.
Я нажимала на все ее советские струны и Пелагея Степановна согласилась. Особенно, ей понравилось, что она в твоих глазах будет героиней. И тут я поразилась, когда она предложила назвать тебя Григорием, якобы в честь ее героя гражданской войны Григория Котовского. Ведь это имя твоего деда. Тогда я преложила свою фамилию, Томилин.
Через месяца два, когда Глаша уже жила с нами во флигеле, мы по очереди нянчили тебя, а Пелагее Степановне приносили чистенького, сытого, чтобы она могла полюбоваться. И она дала мне справку на твое усыновление.
Так здесь, в поместье, под небом, где лежал мой князь, рос его внук, ты — маленький Григорий Томилин.
Когда началась война с Германией, у нас в поместье стоял штаб румынской армии. А Пелагея Степановна где–то пряталась. Я продолжала работать здесь и ухаживать за могилой своего мужа, только временно сняла с обелиска красную звезду. Население встречало вражескую армию с хлебом и солью. Все радовались избавлению от большевиков. А когда стали красные наступать, люди — беженцы, отступали вместе с неприятелем.
Два дня было очень тихо. Румынский штаб срочно эвакуировался. Я водрузила красную звезду на могиле моего Гришеньки, и вовремя. Вместе с красным штабом вернулась и Пелагея Степановна. Не знаю, за какие заслуги ей дали орден, только и меня в 1946 году представили к медали за то, что не побоялась во время вражеской оккупации ухаживать за могилой красноармейца.
Глаша работала здесь, пока тебе исполнилось шесть лет, до 1946 года. Потом перевелась на другую работу, экспедитором, чтобы оставалось время на поиски следов твоих родителей. Мы так решили. Но у меня уже не оставалось никаких ценностей, чтобы давать взятки руководству. А без денег и без связей, что можно сделать? Глаша, якобы искала своего сына «Кузнецова Алексея». Навестила в Москве родителей твоей матери, которых тоже допрашивали в 40 году, когда Алешеньку с женой арестовали. Они–то и сообщили Глаше горестную весть, что отца твоего расстреляли, как изменника Родины по 58 статье. А Элен, твоя мать, отсидела в лагере свои пять лет, как член его семьи. В 1944 году она приехала в Москву к родителям и через них узнала наш адрес. Но вскоре ее снова арестовали. Просто так, план по аресту неугодных нужно было выполнять. А сейчас Сталин умер, будет амнистия. Что–то должно измениться к лучшему. Если твоя мать выйдет живая из лагеря, даст знать.
Когда матушка закончила свою горькую повесть, на мгновенье я почувствовал себя взрослым и, отбросив все патриотические чувства, которыми меня пичкали в школе, решил, когда вырасту, буду жить сам по себе, верить советской власти ни когда не буду и просто уточнил московский адрес матери. На что матушка ответила:
— Деда твоего по матери в живых уже нет, а бабка серьезно больна и вряд ли дождется возвращения дочери. Да и после освобождения из лагеря, Элен как и других, прошедших через лагеря оставят на поселении в Азии. Гришенька, здесь твоя Родина. По этой земле ходили твои предки. Она, эта земля, если будет трудно, спасет тебя. Да и Пелагея Степановна привязана к тебе, всегда с работой поможет. И от нас с дедом, от наших могил не отрывайся. Возвращайся сюда при первой возможности.
Школа от санатория стояла в трех километрах. И по дороге я все размышлял об услышанном от матушки, верил ей, жалел, все больше любил ее и берег как мог. А домой со школы возвращался не как в санаторий, а в собственное поместье, изучая каждый его уголок.
Однажды матушка снова заговорила о скорой своей кончине. Я обиделся на ее слова о смерти и приказал:
— Не смей умирать!
Через два месяца мы получили весточку от моей матери. Ее выпустили из лагеря и теперь, как она нас уверяла, уже навсегда. Сообщала, что больна, и приехать за Гошей, то есть за мной, не сможет еще и потому, что разрешение ей не дают, она состоит на учете в комендатуре. Дочитав письмо до конца матушка посочувствовала ей: «Бедная Элен». и на следующий день показала мне альбом для фотографий, переплетенный телячьей кожей с красивыми застежками и посоветовала спрятать его где–нибудь в парке до поры до времени и не только его, а ещё старинные вазы, тарелки, пострадавшие от сражений «Они принадлежали твоим предкам. А вот это детская кроватка из орехового дерева. На ней спал еще твой прадед, а потом и дед. И отец твой некоторое время, и ты…. Да и много всего найти можно здесь. Все целое, как свалили все, так и лежит. А не дай Бог, сгорит все.» — забеспокоилась матушка. «Как в воду смотрела» Но об этом впереди. Я предложил:
— А если в железную бочку и в саду закопать. Да рогожей завернуть все, а кроватку разобрать и туда же. А может она уже и не нужна будет? У меня не будет детей. Я не хочу, чтобы они пострадали, как наша семья.
— Это хорошая идея с бочкой, — согласилась матушка, пропустив мои слова по поводу детей. И снова сказала, — Особенно альбом сохрани. Там в обложках упакованы какие–то ценные бумаги. Они золотом обеспечиваются в Европе. Так мне муж объяснял. Может, когда–нибудь попадешь в Европу тогда бумаги эти тебе пригодятся. И еще…. Принеси–ка альбом.
— Тяжелый — сказал я взвешивая его на руке.
— Да, переплет из телячьей кожи, видишь, золотом тесненный, вензеля…. Жаль, ты еще не понимаешь.
Она расстегнула пряжку и, показав на толстые обложки, объяснила:
— Сейчас разглядывать эти бумаги нет смысла. Они хорошо упакованы. Хорошо бы вода и воздух не попали на них. Откроешь в свое время, когда сможешь выехать за границу. Всякие перемены случаются. И незачем тебе сейчас фотографии рассматривать. Вот эти, в конвертах, пожалуйста.
На что я возразил:
— Хочу все посмотреть. А ты объяснишь мне, кто есть кто.
Разглядывая фотографии, слушал комментарии матушки, как завороженный. Меня поражала одежда, достойная одежда предков. И с сожалением закрыл альбом, когда матушка достала конверт с другими.
— На этих твой отец, — пояснила она. — А вот и свадебная — отец с матерью. Это ты новорожденный. Вот твои московские дед с бабкой. А вот здесь няня Глаша с нами. Конечно и качество фотографий другое. У хороших фотографов тоже аппаратуру конфисковали для нужд революции. Да, ты прав. Нужно все это схоронить до поры, до времени. Выкопать ров вдоль решетки и еще сверх бугра рогожу и снова утоптать, чтобы вода не проникала. Жаль, никаких других ценностей передать не могу, кроме этой. С этими словами матушка сняла с шеи золотой медальон и раскрыла его. Из середины шло ослепительное сияние. Я засмеялся и сказал:
— Как в сказке про кольцо, которое Иванушка тряпицей завязывал, чтобы никто не обнаружил его свет. — Она закрыла медальон и подала мне. Я покрутил его в руке. Пробовал открыть, не получилось. Матушка пояснила:
— Секрет в том, как и куда пальцы приставить. — и где–то, нажав четырьмя пальцами обеих рук — снова открыла его.
— Медальон этот, несмотря на огромную ценность, здесь вмонтирован чистой воды голубой сапфир, продавать нельзя. Как бы трудно не пришлось, забудь о его стоимости. Ценность в том, что он — семейная реликвия и принадлежал еще твоим пращурам. Может он еще с самой Византии? Страны такой давно нет, а память — вот она. Сбереги его, Гришенька, прошу тебя. Возьмешь с собой, когда к матери поедешь. Я зашью его тебе в брючки, а мать найдет возможность сберечь его, пока ты женишься. Он достался мне по праву жены, а теперь принадлежит жене моего сына, твоей матери. И ты его своей жене передашь. Ну–ка, потренируйся открывать его. Вот так пальчики поставь, теперь одновременно надавливай. Так, так. Еще раз, — приговаривала, улыбаясь, матушка.
— Есть, получилось! — воскликнул я. И весь вечер старательно упражнялся в открывании медальона. Она вынула из шкатулки деньги и сказала:
— Гришенька, сбегай к фотографу и сделай себе снимки: один по пояс, другой — в рост. Матери пошлешь. И еще купи в аптеке пару грелок. Старые вещи полусгнившие уже не сохранить, но для коллекции нужно срезать все пуговицы. Сбросишь их в грелку и тоже закопаешь в землю. Пуговицы эти с орлами или без. Они были на вещах твоих предков.
Сделав все как велела мне матушка, вечером сел писать письмо незнакомой своей матери.
— Пиши, что здоров, что хорошо учишься и помогаешь мне в работе, и хочешь быстрей увидеться с ней.
Но мне не хотелось врать и я ответил:
— Совсем не хочу ее видеть. Я не знаю ее. Не хочу от тебя уезжать. Что ты меня гонишь? — и едва не плакал.
— Однако, твоя мама этого не знает, поверит тебе и на душе у нее станет теплей. Она достаточно настрадалась. Иногда, нужно лгать В детстве я слышала историю, которая, кажется, произошла в Испании. Король велел казнить богатого юношу Его любили девушки, и он совсем не хотел умирать во цвете лет. Мать пришла к нему в камеру и пообещала пойти к королю, вымолить у него свободу для сына. Она сказала ему: ничего не бойся,
помилование может прийти даже в последнюю минуту. Когда поведут тебя на казнь посмотри на башню. Там на верху увидишь меня. Если я буду в черном платье, значит, король мне отказал. Если в белом — тебя помилуют».
Король был неумолим. Когда юноша вышел из темницы, то посмотрел на башню. Там, в белом платье, стояла его мать. Страх покинул его. Юноша был счастлив. — знал, с ним ничего не случится, шел и смеялся. Девушки, видя такое мужество, бросали ему под ноги цветы. Жители города встречали его с восторгом. Он положил голову под гильотину, но все еще верил, сейчас зачитают помилование. Он не почуствовал, как ему отрубили голову. отрубили голову, а с крыши башни рухнула вниз его мать. Вот она — сила материнской любви и сила святой лжи. Поверь, Гришенька, никто, кроме твоей матери, не пожелает отдать за тебя свою жизнь. А все потому, что жизнь твоя зародилась в ее лоне. Ты — ее кровь и плоть.
Тогда мне думалось, что понимаю смысл того, что пыталась мне передать матушка.
Все последующие дни, я как археолог копался в старых вещах. Весь в паутине вытаскивал что–нибудь интересное на свет и бежал, показывал это матушке. Оказывается, и в карманах можно было что–то сыскать. Так я нашел горсть серебряных монет Петровских времен, нашел пару курительных трубок и, однажды, плюшевого медвежонка откопал. Оказалась эта копилка медных и серебряных монет семнадцатого века. Их, вместе с пуговицами я тоже высыпал в грелку и закопал в парке у ограды. Мне нравилось прятать, закапывать
Однажды, когда в санатории не было даже Пелагеи Степановны, матушка повела меня в один из трех залов. Показала на стенку, на которой висели портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Ленина и Сталина и сказала:
— За этой стеной — другая. На ней полотна твоих предков. Видишь круглые отверстия, симметричные и золотистой краской обведены. Они не только для красоты здесь. Это вентиляторы воздуха. В 1917 году, когда государя вынудили отречься от престола, твой дед Григорий Николаевич распорядился закрыть эту стенку. Наверняка, там еще что–то есть. Кроме драгоценностей, конечно. О своих потомках думал мой генерал. Там, на портрете он в рост, его родители и деды, и мы с ним. И портреты царей там. И все кисти великих художников. Им цены нет. А пока, до поры до времени, забудь про эту стенку. Кажется, я тебе все сказала, что должна была сказать. А теперь пойдем отсюда. Мне воздуха не хватает. Пойду, посижу со своим Гришей, — она имела в виду скамейку у обелиска.
Матушка моя тогда не умерла. Но в начале мая, не задолго до праздника «Победы», разразилась ужасная гроза. Я бежал со школы, с репетиции, на которой готовился к празднику и до нитки промок. Во флигельке матушки не было. Переодевшись побежал по мокрой лужайке в санаторий Но и там ее не видели. Солнце выглянуло из–за туч, образовалась радуга на все небо, и ветер быстро уносил остатки туч. Меня осенила догадка, должно быть, она у своего обелиска. Сначала Я обрадовался увидев ее сидящей на скамье. Но она вся вымокла от дождя и сидит как–то странно, наклонив голову, держась рукой за железный прут парковой решетки.
— Матушка! — воскликнул я, и в следующую минуту понял — она мертва. Ее убило молнией. Прижавшись к ее мокрому и холодному телу, я кричал в адрес обелиска, где лежал дед:
— Это ты, ты виноват! Это ты! Ты забрал ее у меня! Ненавижу тебя! Верни, верни мне ее!
Я так громко кричал, что мой крик услышали в усадьбе. И первой прибежала повариха, за ней Пелагея Степановна. Мне, казалось, и птицы кричат, громко жалея меня.
А природа между тем кипела в своем цветенье, возможно приветствуя уход моей матушки к своему возлюбленному. Мне казалось, что она нарочно схватилась за прутья железной решетки. Ей не терпелось отправиться к своему генералу. А может, у нее с сердцем плохо стало, она взялась за прут, а тут удар молнии. Но они, мои дед и бабка, теперь далеко в моих мыслях вечно на той радуге, которая появилась в тот день на небе. Какими праздничными были в этот день и сад, и небо. Но это был не мой праздник, а праздник моих предков. А для меня наступили совсем иные дни, о которых расскажу во второй части.
ЧАСТЬ II
После похорон матушки Пелагея Степановна помогла мне уложить в фанерный чемодан вещи, снабдила официальной бумагой с печатью, что я еду в город Караагач к матери, зашила мне часть денег вниз рубахи. Ей хотелось, чтоб я надел в дорогу новые брюки, но мне необходимо было их беречь, в заплате матушка зашила золотой медальон. Положи я их в чемодан, мог бы быть ограбленным, а семейная реликвия утрачена. Мне удалось убедить Пелагею Степановну, что новые брюки истрепятся в дороге, их нужно поберечь.
Сажая меня в вагон, она просила:
— Гриша, ты пиши мне. И обязательно приезжай, если тебе там будет плохо — и, даже, как мне показалось, смахнула слезу.
— Да, — вслед напомнила мне она, — когда будешь в Москве билет компостировать, не забудь дать матери телеграмму, чтобы она тебя встретила.
И так, я в тринадцать лет остался один, и вынужден был покинуть могилу своей бабки и деда, свой Дворец, мраморных львов у входа, цветущий парк с прудом, его лебедей и ехать в южную Сибирь к неизвестной мне матери, где говорят, полупустыня и еще лежит снег и ни какой растительности. Детство кончилось, начиналось унылое отрочество. вспомнились строчки из сказки «Еду туда, не зная куда, за тем, не знаю чем».
Я сошел с поезда и, оглядываясь по сторонам, пошел по перрону. Ни какой женщины на перроне не было. Ко мне подошел высокий седой мужчина. Он спросил:
— Ты Григорий Кузнецов?
— Григорий Кузнецов? Это меня Вы спрашиваете? — удивился я. Но вспомнив что это фамилия матери, ответил, — Да.
Мужчина представился:
— Меня зовут Иван Иванович. С твоей мамой мы соседи. Я получил телеграмму и решил тебя сам встретить. Мать в больнице и не знает о твоем приезде. Подожди меня здесь, нужно нанять какой нибудь транспорт. И он ушел, оставив меня разглядывать унылый пейзаж. Минут через пятнадцать Иван Иванович издали махнул мне рукой, стоя около брички. Мы сели в нее и поехали. Здесь и снег еще толком не сошел, около низеньких землянок вообще виднелись сугробы, а ветер уже гнал пыль. И небо не привычно высокое, бездонное, как огромная дыра от горизонта до горизонта Даже страшновато стало Вот на низкой лошадке проехал местный житель. Еще через километр, человек на верблюде попался нам и снова невзрачные землянки, но уже чаще попадаются.
Мы остановились. Иван Иванович расплатился с хозяином брички, и мы пошли во двор. Несколько плохо одетых мальчишек, посмотрели нам в след.
— Мои новые друзья. Как–то я с ними сойдусь? Может и драться придется, — подумалось мне довольно равнодушно.
Мы зашли с Иваном Ивановичем в коридор. Он сказал: «Вот ваша дверь, а это наша. Я здесь с женой Лидой живу». И отворив дверь, пропустил меня вперед. Комнатушка, в которой жила мама, была совсем крошечной. Две кровати, между ними столик у окна. У стола две некрашеные табуретки. В одном углу печка, рядом умывальник и ведро с водой. В другом углу за занавеской какие–то вещи.
Иван Иванович снова сказал:
— Поставь чемодан, возьми ведро и пойдем. Сарайчик ваш угольный покажу и удобства, верней, неудобства. Печь уже две недели не протапливалась. Поставим чайник и ужинать будем. Молчишь, удивляешься условиям, в которых живет твоя мать? Я тоже не здесь родился, а в Петербурге, судьба завела сюда.
Пока я набирал уголь в ведра, а он собрал охапку дров. Когда мы зашли в помещение и сложили все это у печи, он повел меня к колодцу.
Принесли воды, Иван Иванович разжег плиту и поставил чайник. Я разложил чемодан на кровати, вытащил комковой сахар, молоко сгущенное в двух банках, консервы мясные и рыбные, сухари и выложил все это на стол.
— О–о–о! Да ты богач! — удивился Иван Иванович. Это хорошо, а то мать вернулась бы а в доме ничего. У меня есть хлеб и немного картошки. Пенсию еще не дали, — смущенно оправдывался он, категорически отказываясь открыть консервы и банку с молоком, и только снова смущенно сказал:
— А кусочек сахара с твоего разрешения, возьму. Приятно попить чай с сахаром. Недавно карточки отменили. Теперь, если деньги есть, то свободно покупать все можно.
— У меня много денег, — похвалился я.
— Много, денег не бывает. Но я рад за Элен. Извини, Гриша мне приятно твою маму Елену, так называть. Ты вот что, умывайся, попьем чай и ложись спать. Небось, устал с дороги. А завтра утром с 10 до 12 часов посетителей в больницу пускают. Я тебя отведу. Только бы она не очень разволновалась. Ляжешь спать, закройся на крючок, а уходишь, вот замок висит, закрывай дверь с другой стороны. И от общей двери у каждого из нас свой ключ. Вижу, он здесь на гвозде висит. Дверь мы всегда закрываем. Ну все, Гоша, так тебя твоя мать называет, доброй ночи тебе.
— И вам тоже, — ответил я и в первую очередь снял брюки, распорол двойную заплатку, достал медальон, осмотрел комнатенку, куда бы его спрятать и без труда нашел у окна, под потолком расщелину, удостоверился, что она не очень глубокая и сунул тут заветный узелок, впервые подумав, вот мама обрадуется. Женщины любят все блестящее. А главное, придется привыкнуть к тому, что я теперь Гоша, Гоша Кузнецов.
На следующее утро Иван Иванович зашел за мной и повел меня в больницу. На мое удивление это было огромное одноэтажное здание с широким огороженным двором, в котором росли и кусты и деревья. Но на них еще едва проклевывались листочки. Иван Иванович объяснил:
— Госпиталь здесь был во время войны, а сейчас областная больница. Тяжелобольных сюда привозят. Ты, Гоша, присядь на скамейку, я выведу твою маму, подготовлю ее к встрече с тобой и позову тебя.
Ждать пришлось не долго. Иван Иванович бережно вел в мою сторону маленькую худенькую, как мне показалось, девочку–подростка. На ней был теплый халат, она радовалась солнцу и слабым голосом говорила:
— Какое счастье, что я дожила до весны и есть Вы и Аристарх Андреевич, и что навещаете меня. В больнице только от одной скуки помереть можно.
Иван Иванович посадил ее на скамейку, в десяти шагах напротив меня.
— Вот моя мама, — подумал я. — Что — то сейчас произойдет.
Иван Иванович, между тем, радостно говорил:
— Элен, Вас ожидает еще одна радость. Вчера я встретил с поезда вашего сына.
— Как встретил? — изумилась мать.
— Ну, я перехватил телеграмму, которую он с Москвы вам отправил.
— А где же он, где же мой сын? — разволновалась мать.
— Элен, если успокоитесь, скажу где.
— Я спокойна, пожалуйста, Иван Иванович, где он?
— Недалеко от вас, сидит на скамье.
Мать посмотрела на меня. Лицо ее покрыла еще большая бледность. Она поднялась с места и шагнула в мою сторону. Я тоже встал и пошел к ней — к незнакомой маме, не зная как себя вести.
— Гошенька, сынок мой! — прошептали ее губы.
Я поспешил ей навстречу, боясь, что она упадет, не дойдя до меня. И она упала на меня. Наверное, ее охватило оцепенение. Она не могла говорить. Иван Иванович нас обоих отвел на скамью, посадил рядом. Мать вцепилась в меня, как будто меня кто–то хотел у нее отнять. Иван Иванович радостно произнес:
— Какой шикарный у вас мальчишка! Я уже чай с ним пил. И вам нужно мобилизовать все силы, чтобы выздороветь и вернуться домой к сыну.
— Теперь выздоровлю, выздоровлю — прижимаясь ко мне, твердила мать. Повернула меня лицом к себе жадно всматриваясь, повторяла, — Похож, похож на отца, на моего Алешеньку! Сыночек!
Слезы навернулись, было ей на глаза, но Иван Иванович сказал:
— Все, Элен, идемте в палату. Ваш Гоша уже никуда не денется, завтра придем к Вам снова, волноваться вредно. Мы с Лидой позаботимся о нем. Выздоравливайте быстрей.
Но мать не отпускала меня, боясь, что я снова потеряюсь.
— Как уже!? Он же может побыть со мной в палате.
— Иван Иванович объяснил ей, что меня сейчас в палату к ней не запустят, что ей сейчас необходимо принимать процедуры и с трудом оторвать ее от меня. Мы с ним проводили ее до дверей больницы. Я не знал, что сказать. Мать снова было обняла меня со словами:
— Гошенька, какое счастье! Я скоро вернусь домой. Ну, от силы, еще неделю, приходи, сынок, завтра, — поцеловала она меня в обе щеки.
Иван Иванович толкнул меня в бок, я понял, нужно хоть что–то сказать в ответ и пробурчал: «До свидания, мама!» И это далось мне не легко.
— Голос начинает ломаться, — с нежностью заметила мать. Но Иван Иванович загородил меня от нее и уже твердо сказал:
— До завтра, Элен. Завтра он придет к вам и уже всегда будет с вами.
Утром во дворе я познакомился с рыжим веснушчатым Колькой. Он тоже шел в больницу.
— Побежали, кто быстрей, — подзадорил он меня.
У меня был, первый детский разряд по бегу и хотелось похвастать этим перед новым товарищем. Бегал Колька хорошо, но я его легко обогнал. Потом сделал вид, что выдохся и дал ему меня обогнать, сказав:
— Зачем бежать, прием посетителей с 10 до 12 часов успеем.
— А я так, для себя. Мне для дела нужно быстро бегать. Потом расскажу. Твоя мать — тетя Лена? Моя тоже в лагере с ней была. Да ты не стесняйся. Здесь же поселение для таких же, как наши родители. Там, в лагере, они и надорвали свое здоровье. Только мать моя не виновата ни в чем. Я бы еще хуже поступил на ее месте.
— А что она сделала? — заинтересовался я.
— У вас в школе висел портрет Зоси Малининой?
— Ну, конечно.
— Этой сволочи восемнадцать лет только было, но поступила она хуже фашистов. Представляешь, германцы ушли вперед, а в нашем селе оставался маленький гарнизон, из десяти солдат и коменданта. Их разместили в больших избах. А в больших избах, ясно, жили большие семьи. У моей мамки шестеро сестер и три брата. Старшие имели много детей. А у одной из них еще жили родители матери, старики. И солдата туда поселили. А дети все маленькие, их много. Партизаны, сволочи, нет, чтобы подловить этих солдат и убить, они дали задание этой комсомолке сжигать дома, где солдат на постое был. Она, эта Зося, сожгла уже шесть домов. Вместе с солдатами: тридцать малых детей и шестеро матерей, и пять стариков. Не только родню и родителей моей матери сожгли, а у других тоже. Никак не могли поджигателя поймать. Односельчане выследили его, оказалась переодетая в парня девка–паскуда. Сдали ее коменданту и сами ей казнь назначили — повесить прилюдно. И не кричала она: «Сталин придет», а ревела как белуга, это уже в кино вставили, что хотели.
— Так она, вроде, только конюшню подожгла, — усомнился я.
— Врут. Не верь. А если и поймали на конюшне, чего же партизаны не пришли и не увели лошадей? Зачем жечь животных? Разве после этого она человек? Жаль, ее повесили, а не сожгли саму. Как только Красная армия вошла в это село, всех же пострадавших от этой сучки сразу арестовали и в лагеря. Мы с сестрой у родни росли. А каково у них, когда им своих детей кормить нечем? В прошлом году маму освободили, она нас с сестрой и вызвала. Да только не жильцы они, что в лагерях побывали. Перетрудились, надорвались на тяжелых работах, потому все время в больнице лежат. Инвалид — моя мама. Пенсию такую платят, что на нее не хватает, не то, что на нас. Но в больнице она радуется. Там кормят хорошо. Она даже нам еду запасает. Только я так жить не хочу, вот и ворую.
— Ты воруешь? — удивился я его признанию.
— Ну, да. Все знают. Поймать не могут. Я быстро бегаю, а ворованное сдаю Витьке. Он — вор в законе. Ему уже 22 года. Витька мне за это деньги дает.
— Но воровать не хорошо, как можно…
— Не хорошо? — прервал меня Колька. — А на какие деньги ты со своей мамой жить собираешься? Это в газетах капиталисты используют детский труд. А я бы лучше работал, а не воровал. Да ты не думай, у бедных ничего не беру, и у работяг тоже. Богатые только спекулянты, да продавцы. У них за день столько денег набирается. Вот продавец сметану разводит водой, да еще обвесит тебя, да еще обсчитает. И другие продукты тоже, весы подтолкнет пальцем и все. А себе золотые перстни, сережки и цепи на шеи. Мы с ребятами снимаем с них все, они и не жалуются. Спросят ее в милиции, на какие деньги купила, еще хуже будет. А мамка придет с больницы и не голодает. Мамка малограмотная. Я вру, что нам с сестрой помощь продуктами оказывают, она верит.
— Ты мне поверил насчет этой Зоси?
— Да я знаю, что вся печь и фильмы — всё враньё. Верить нужно только близким, они нас любят.
— А ты как мать нашел?
— Она нашла меня. О, мы уже пришли. Тебе в какое отделение?
— Мне девятое, а тебе?
— Второе. Буду тебя за воротами ожидать, — кивнул мне Колька.
Я не знал, о чем буду говорить наедине с матерью. Она ждала на вчерашнем месте и, завидев меня пошла навстречу раскинув руки, готовая снова обнять. Но только радостно воскликнула:
— Гошенька, какой сегодня теплый день. Как хорошо, что я тебя вижу. Вчера все было как сон. Скажи Ивану Ивановичу, меня завтра выписывают. Правда, все равно приписывают постельный режим.
Она взяла мою руку, прижала ладонь к своей щеке. Я успокоил ее, сказав, что сам буду все делать дома, а она может долго спать, почувствовав себя сильным против ее такой маленькой и слабой.
— Сынок, у меня здесь, в газетке бутерброд для тебя. Дома ведь ничего нет, — смущаясь, протянула мне мать сверточек.
Помню, мои щеки покрылись краской. Больная мать недоедала, оставляя часть пищи мне.
— Матушка, то есть бабушка, дала мне денег, — буркнул я.
Мать не знала, о чем говорить с сыном–подростком. Возникла пауза. И тогда она заговорила об Иване Ивановиче. Как ей жаль его, он профессор и раненый и он никак не найдет свою единственную внучку. А другой родни у него нет.
— А куда он раненый? — поддержал я разговор.
— Пуля блуждает по телу, это очень опасно. Гошенька, все, что он посчитает нужным, он сам расскажет. Спрашивать об этом не принято. Он друг мне, а теперь, надеюсь и тебе. А ты, ты расскажешь мне, как жил без меня у бабушки Марии, когда домой вернусь?
— Конечно, — согласился я.
В это время медсестра стала звать больных в палаты.
— До завтра, — отпуская мою руку, не отрывая взгляд от моего лица, с нежностью сказала мать. И я впервые разглядев ее лицо, подумал: «А она красивая, только бледная и худая».
Вечером Колька познакомил меня со своим окружением. Все были ко мне дружелюбны. Но мне не понравилось, что они постоянно сплевывали сквозь зубы и ругались матом. Наверное, чтобы показать свою особенность, взрослость.
Дома меня поджидал Иван Иванович. Он предупредил:
— Гоша, мать возвращается из больницы, но она не здорова. Ты ее не расстраивай. Не надо тебе связываться со шпаной. К добру это не приведет. А вообще мне в конкретной жизни трудно давать тебе советы. Извини, — вздохнул он.
Но я нуждался в управлении собой и решил спросить его мнение, пересказав ему историю рыжего Кольки.
— Понял, — ответил Иван Иванович, — ты сомневаешься в его словах, потому что до этого получил более мощные сведения об этом факте через органы образования и печать. Никогда не верь тому, чем хочет забить твою голову власть и, особенно тому, о чем пишут газеты. Один и тот же факт можно падать по–разному. В одном случае, совершившего мерзкие поступки можно восхвалять, оправдать, и вознести его имя в статусе героя, в другом же, оболгать невинного и его расстреляют как твоего отца. Да, о чем я с тобой? Ты лучше, Гоша, скажи мне, какие успехи в учебе имеешь, в точных науках? Какой иностранный язык в школе проходил? — Я ответил:
— В школе я хорошо учусь. Со мной матушка занималась, то есть бабушка. Пишу, читаю по французски и на латыни. А в школе не было преподавателей иностранных языков. Зачем? Готовили нас в рабочий класс.
— Тебе нельзя забывать языки. У меня друг есть, Аристарх Андреевич, он — полиглот. С ним и будешь разговаривать. И в старом городе много ученых людей и библиотека есть. А я мог бы подогнать тебя по алгебре и геометрии, пока жив. Кто знает, сможешь ли продолжить образование. А для того, чтобы достичь благополучия, научиться лавировать и выходить из любого положения, нужы знания. Математика, точные науки, сейчас для тебя важней всего. Остальные, устные предметы, не трудно выучить. Вот именно, выучить и сдать экзамен. А усвоить девятнадцатый век, как историю и литературу, достаточно с карандашом в руке перечитать «Войну и мир» Толстого и да поэму Пушкина «Евгений Онегин». Заодно и память натренируешь. Хватит тебе занятий на это лето? Все–таки три месяца.
Я понял, он, как и моя матушка при жизни, пытался отвлечь от дурного влияния и проникся доверием к Ивану Ивановичу. А с другой стороны, зачем ему тратить на меня собственные дни? Значит, он тоже хочет со мной дружить. А почему бы нет? И, подумав, ответил: «согласен».
— Тогда договоримся заниматься у меня, чтобы не мешать твоей маме, привезем ее завтра с больницы, отметим вашу встречу. Днем можешь гулять, а вечером — ко мне.
— По рукам, — улыбнулся я и похвастал, — а я еще играю на рояле и клавесине.
Иван Иванович застыл, было в изумлении, потом с горечью воскликнул: «Господи! Гоша, что же тебе с твоими способностями в нашей нищенской дыре делать?». Тебе же нужно в музыкальное училище, а его здесь нет. Вот в ресторане есть рояль. Но кто вечером туда тебя пустит? — и подумав пообещал:
— Достанем тебе для начала, хотя бы старенькую гитару. Вот мать–то обрадуется! Дед твой, родитель матери, был большим музыкантом. Видать, ты в него, да отлучен судьбой от культуры. Ее и в столице нет, одно искусство осталось, а это разные понятия.
На следующий день, ближе к вечеру, Иван Иванович пошел в больницу На дворе стоял июнь месяц, а к моему удивлению по воздуху кружил легкий снежок. Я носился, то в сарай за углем, то к колодцу за водой, и встретил Кольку.
— Давай помогу, — предложил он. Я отказался и радостно сообщил — Маму сегодня из больницы выписывают. Колька посоветовал:
— Не сиди все время дома, — и я пообещал ему завтра вечером выйти к ребятам.
Растопив печь и сварив суп, нагрел воды, помыл пол и вымыл голову. Только накрыл на стол, как мать с Иваном Ивановичем вошли в двери. Я хотел, было, помочь ей снять старенький плащ, но она обняла мою мокрую голову и сказала:
— Иван Иванович рассказал мне о твоих музыкальных способностях. Я так рада, сынок! Если бы мои родители остались живы, тебя ожидало бы блестящее будущее.
— Ну, ну, Элен, — остановил ее Иван Иванович, — жить нужно настоящим. А настоящее таково: вы дома, сын позаботился, чтобы в доме было тепло, и накрыл стол. Ваша задача сейчас лечь в постель. А моя, за вином сходить и позвать Аристарха.
Я помог матери лечь поверх одеяла, укрыв ее другим. А она, не сводив с меня счастливых глаз, говорила:
— Гошенька, какое счастье, что мы вместе, что ты заботишься обо мне, как взрослый. А какой богатый стол! Откуда столько?
Я ответил:
— Продукты мне сухим пайком в санатории выдали. И денег надолго хватит.
Мы не успели поговорить, как вернулся Иван Иванович. Но не с другом, как обещал, а с женой Лидой, очень молодой, светловолосой. Она ходила по комнате танцующей походкой. Сюсюкать по поводу нашей с мамой встречи она не стала, и это мне понравилось. И мы сели за стол
— Элен, — обратилась Лида к матери, подняв бокал с вином, — пью за твое здоровье и счастье твоего сына. Выпей и ты немного. Это придаст тебе силы.
Мать моя предложила встречный тост за то, чтобы Иван Иванович поскорей отыскал свою внучку.
— Есть одна зацепка — медленно ответил он.
— Вот как найдешь ее, сразу вези сюда. Не бойся, не мачехой, подругой буду ей, — заверила Лида и встала из–за стола. — Ладно, у меня вечером кружок танцев в «Доме горняков». Пока, Ваня, — похлопала она мужа по плечу и ушла.
Некоторое время после ее ухода стояла тишина. Потом Иван Иванович попросил:
— Элен, расскажите о себе, своей юности, если конечно вам это не трудно. Гоше все знать полезно.
— С удовольствием, — отозвалась мать. И начала рассказывать свой рассказ.
— Мне недавно исполнилось восемнадцать лет и я, как и мои ровесники, была влюблена в летчиков. Шел 39‑й год, июнь месяц. Как сейчас помню. В большом театре «Лебединое озеро» дают, с моим участием. А в зале выпускники военно–воздушной академии. Мы, молодые балерины, разглядываем их сквозь занавеси. Вдруг вижу, по ряду идет уверенной походкой высокий, широкоплечий, красивый командир. И я влюбилась в него с первого взгляда. Такой подъем ощутила, такую радость испытала, а он в антракте исчез. И во втором отделении его кресло тоже пустует. Грустно сделалось мне. Выхожу из театра, а он там с букетом цветов. Даже не знаю, как приняла от него цветы. Он представился: «Кузнецов Алексей» — и проводил меня домой. А после, было самое счастливое время; свидания в парках Москвы, катание на катере по Москве–реке. Веришь, Гошенька, отец твой носил меня на руках. О себе рассказывал, что он — сын матроса, который погиб, мать — простая крестьянка. А он — крестьянский сын. И еще тетка Мария есть. Все это так не вязалось с его внешностью и манерами, что когда я представила его своим родителям, отец изумился:
— Значит потомственный крестьянин? — переспросил он.
— Потомственный, — подтвердил Алексей.
— Ваше лицо мне кого–то напоминает. Вспомнил! — воскликнул отец и попросил Алексея пройти с ним в его кабинет.
С полчаса они там разговаривали. Я же в это время объяснялась с матерью. Рабоче–крестьянских детей она считала хамами и потомками хамов, и не верила, что образование, этот вершок знаний, может «окультурить чернь», вызволенную из глубин 1Х века. В этом- я была согласна, но мой Алеша исключение из правил. И приводила примеры того какой он культурный и внимательный ко мне и обняв ее, прошептала: «Маменька, я люблю Алешу больше жизни». Тут и отец с Алешей вошли к нам. И он предстал перед матерью. А скажу, у Алеши была такая хоризма, ну обаяние, что мать сразу стала учтивой и сказала:
— Приятно познакомиться. — меня мама любила. И, пригласила его к столу. За столом она все наблюдала за ним. И не удержавшись, все же съехидничала, заметив ему:
— И когда же вы, крестьяне, научились так управляться за столом ножами и вилками?
На что Алексей на полном серьезе ответил:
— А вот, когда Зимний Дворец брали, увидели Венеру Милосскую и сразу поняли, нельзя хватать еду грязными руками, можно этих самых рук лишиться.
Отец мой расхохотался. А мать, дождавшись, когда он успокоиться, недовольно передразнила Алешу:
— Брали Зимний Дворец. Женский батальон из двадцати девяти человек охранял его Забежали тридцать пьяных матросов, разоружили женщин, изнасиловали и выгнали их из Дворца. Вот и весь ваш подвиг. И переворот тоже делался бандитами, на бандитские деньги. А уж фильмы про революцию сочинять, новая власть мастерица. — И отцу — скажем, соберется наш круг и что же.? Возникнет вопрос, как и о чем говорить с Алексеем.
Отец: ответил:
— Во первых попридержи язык по поводу советской власти. Знаешь что творится. Прислуга может донести. А во вторых, когда бы ты знала, Алексей, так называемый крестьянин, оказывает нам честь прося руки нашей Элен. И пусть рассказывает гостям о коровах и лошадях — и усмехнулся.
Алеша на полном серьезе ответил:
— Мадам, мы крестьянские дети, не знакомы с вашими буржуйскими манерами. Откажете мне, посажу Элен силой на поезд и увезу в Киев. — чем снова развеселил отца. Он смеялся до слез, и это было мне не понятно. И сейчас, вспоминая эти сцены, не понимаю, что происходило. Какие–то странные отношения.
Мать замолчала. Я не выдержал и, несмотря на присутствие Ивана Ивановича, сказал:
— Мама! От вас все скрывали. Отец мой не был крестьянским сыном. Глаша не мать ему. Она его няня. А матушкой как раз являлась Мария Генриховна, которую называли сестрой матроса Кузнецова. Это фамилия Глаши. А мы — Томилины, князья.
Иван Иванович, как мне показалось, вздрогнул, а мать с удивлением спросила:
— Как это князья? Что ты говоришь, Гошенька? Кто тебе такое сказал?
— Матушка, то есть мать моего отца, у которой я рос.
— Нет. Наверное, она что–то перепутала. Не молодая уже была, — засомневалась она.
— Да нет же, фамилия моего отца Томилин, а не Кузнецов. — уверенно возразил я. — Отец твоего мужа — князь, генерал Томилин. Его красные расстреляли в парке собственного Дворца. Жена его, княгиня Мария Генриховна, там его и похоронила А над могилой попросила плотника сделать деревянный обелиск с красной звездой, чтобы открыто ухаживать за ней. И ее, когда она умерла, рядом с ним похоронили. В нашем Дворце сейчас санаторий для всяких советских маршалов. Вы их знаете по портретам, а я их видел в лицо. Как были в юности сапожниками, так и похожи до сих пор на сапожников, только в мундирах советских маршалов. Так моя матушка о них говорила.
И я рассказал все изумленной матери и не менее изумленному Ивану Ивановичу, то, о чем узнал от матушки, перескакивая с одного на другое:
Твой отец признал в нем сына князя Томилина, но скрывал это от своей жены, твоей матери. А по тому времени нельзя было, чтобы слабые женщины знали правду и волновались. По этому и сказа ей, что Алексей оказывает честь, прося твоей руки, но твоя мама не поняла его.
Слушая меня, Иван Иванович, подставив руку под подбородок, внимательно вглядывался в мое лицо. И он, и мать и некоторое время молчали. Я подумал, что они мне не верят, вскочил с места, протянул руку к тайнику над окном, достал узелок с медальоном. Открыл его и полу темная комната озарилась сиянием синего цвета.
— Что это?! — тихо воскликнула мать.
— Медальон. Семейная реликвия. Он передается по наследству жене старшего сына. Вам его передала мама моего отца. Она сказала, что вещь эта необыкновенно дорогая сама по себе, чтобы я ее берег.
Но, глядя на слабенькую мать, подумал: «Ее здоровье мне дороже». А может медальон на продукты обменять? Маме хорошо питаться надо.
Мать взяла в руки медальон, закрыла его, поднесла к губам, поцеловала и сказала:
— Он мне предназначен. А когда Гоша женится, он перейдет к его жене. Так будет всегда. Нас не станет, а медальон свидетель того, что мы были и не только, но и любили. Вот так же держали его в руках предки моего Алеши.
И, немного помолчав, взволнованно уточнила:
— Значит мы — Томилины, а Мария Генриховна была матерью моего Алешеньки? — и мне — Продолжай Гошенька
— А еще я держал в руках наш семейный альбом, где отец сначала маленьким был, со своими родителями, нарядный такой, потом, когда уже у няньки рос, одежду простую носил. Альбом завернул в рогожу и закопал в нашем саду. Еще кроватку деда и многое другое закопал. Коллекцию старинных монет, ну копилку с его детских лет. Все что после грабежа осталось, матушка перенесла во флигель. Будто склад поломанных вещей. Мама, если бы вы знали, как они любили друг друга, ну родители моего отца, бабушка юная и дед–генерал.
— А я как любила твоего отца! Меня с одного ужасного лагеря направляли в другой, но разбуди ли бы меня в любое время ночи и спроси ли бы, чего бы я больше всего хочу, ответила бы: «Видеть его». А потом уже умереть можно.
— И бабка моя так любила своего генерала. И ей не терпелось умереть, чтобы встретиться с ним. Для чего? — удивился я.
— А затем, — ответил Иван Иванович, — любовь есть смысл жизни. Если она тебя посетила, значит, ты жил. А если ты жил, то и умереть не страшно.
— Можно же и без любви жить, — возразил я.
— Зачем, — спросил Иван Иванович, — чтобы кушать? Впрочем, у вас все впереди, Гоша, или как мне называть теперь вас в связи с вновь открывшимися фактами? Вы же князь? А я простой столбовой дворянин. Вам теперь Аристарх Андреевич компания. Он граф по рождению.
Я промолчал. Тогда Иван Иванович вновь обратился уже к нам с матерью, показав на медальон:
— Спрячьте его, и подальше. Терять эту вещь вам никак нельзя.
Но лицо матери вдруг преобразилось, она с жаром воскликнула:
— Нет, я его хоть под кофтой поношу. Он по закону мой. Правда, сынок?
Любуясь моей матерью Иван Иванович говорил:
— Как же вы, женщины, загадочны. Что же вас так прельщает все блестящее, в то время как нам нужны только вы?
И последние слова: «Нам нужны только вы», были сказаны с особой нежностью.
«Он что же, любит мою маму? — удивился я. — А как же жена Лида?»
Но Иван Иванович после этих слов собрался уходить. Мать смутилась, но, справившись с собой, спросила его:
— Что же вы не позвали к нам Аристарха Андреевича?
— Я заходил к нему, его дома нет. А сейчас уже поздно. Вам, Элен, и Вам, мой юный друг, отдыхать пора. Добрых снов, — пожелал нам Иван Иванович и ушел к себе.
После его ухода мать пояснила:
— Ты, сынок, не смотри на то, что он худой и плохо одет. По его учебникам преподавали в университете. Но теперь его фамилию кто–то вычеркнул. А другие фамилии, ничего не значащие, остались там, украли его труд.
Мы долго еще говорили обо всем, и впервые засыпая с мамой под одной крышей в маленькой землянке, подумал — жизнь не так страшна как кажется, я не один; со мной и мама, Иван Иванович, еще какой–то Аристарх Андреевич и ребята со двора.
В середине лета я уже был «своим» в Колькиной компании и оббегал с ними все окрестности. Однажды, повел он меня на Холодное озеро и пояснил:
— Оно бездонное и здесь никто никогда не купается, может в колодец засосать.
Действительно, озеро было круглым, диаметром не менее двухсот метров. И вода очень чистая, снеговая с холмов стекала, как в чашу.
— Сюда метеорит, должно быть, упал, — заметил я вслух.
— Хочешь искупаться? — спросил Колька.
— Нет. Место не исследованное. Но когда вырасту, обязательно организую экспедицию, чтобы измерить глубину и достать образцы того, что туда с неба свалилось.
Ребята с удивлением слушали меня, пока кто–то не пожаловался вслух:
— Есть охота, пошли на Летовку — квасу попьем.
— Туда на лето коров и лошадей сгоняют пастись, потому и называют это место Летовкой, — объяснил Колька. — У них там большая бочка с родниковой водой. Они бросают в нее ржаной хлеб, и от жары квас образуется. Пастухам не очень нравятся наши набеги. Мы весь хлеб обычно из бочки выгребаем. Но квасу попить разрешают.
Мне показали и скалы и небольшие пещеры. Там мне очень понравилось. Не верилось, что в голой холмистой степи вдруг такой живописный уголок. А километров в пяти, текла речка с неровным дном. Пересыхая летом, она образовывала озерца, которые ребята называли солянками. У них даже номера были. Но купались и ныряли в воду мы обычно на третьей солянке, где на дне не было валунов.
Хорошо мне было носиться с ребятами по степным просторам. Иногда бы и ночевал там, среди мягких ковылей. Но о больной матери и обязанностях по дому не забывал. Да и Иван Иванович требовал выполнения нашего договора, по которому четыре раза в неделю он занимался со мною по алгебре и геометрии. Колька, зная наше расписание занятий, однажды сказал:
— Завтра ты свободен. Не хочешь поехать на попутках в старый город? На трамваях покатаемся.
Я согласился.
Помню, в трамвае было тесно. Кондуктор требовала оплачивать проезд, но люди старались уклониться от платы. Колька держался меня и почему–то подталкивал людей в мою сторону. Падая на меня, женщины подозрительно косились и перекладывали свои ридикюли на другую руку, где стоял Колька. Еще потолкавшись, он потянул меня за руку к выходу. Трамвай остановился, мы сошли и побежали. Из трамвая, когда он снова тронулся, мы услышали возмущенные крики.
— Чего мы бежим? — удивился я.
Когда добежали до окраины, Колька остановился, отдышался и показал мне, зажатую в кулаке, золотую цепочку, а из кармана вытащил помятые несколько сотенок. Деньги по тем временам большие.
— Хорошо сегодня заработали. За цепочку Витька мне еще столько денег отвалит. Ты мне помог — две сотенки твои, — протянул мне Колька деньги.
— Не нужны мне чужие деньги, я не вор — возмутился я.
— Дурак ты, Гоша. Один я ничего бы не смог взять. А деньги бери. Мать больную чем кормить будешь? Мы у нечестных незаработанные деньги воруем. В жизни каждый за себя. Никто твоей маме не поможет. А хочешь, научу тебя, как бритвой пользоваться? Чик и держи ридикюль, а он уже пустой. У сестренки два ридикюля. У одного из них замок поломался. На нем и потренируешься.
Нет, я не шел на поводу у Кольки. Но он был прав, никто кроме меня не принесет продукты матери. Теперь старый профессор преподавал мне точные науки от и до, а молодой «профессор» учил резать сумочки. Главное не перепутать, и грабить только тех, у кого перстни на пальцах — учил Колька. Мне удалось преуспеть сразу у двух профессоров, и в конце лета в сарае, в железной коробке лежала уже годовая пенсия матери. Однако, тратить их открыто на продукты не получалось. Но вместо пол килограмма чайной колбасы, я покупал килограмм, съедал по дороге граммов четыреста. Тоже делал со сметаной, с хлебом. Остальное приносил домой. Экономил на том, что дома ел мало, чтобы матери больше досталось. Она уже поднялась с постели, часто выходила на улицу и сидя на завалинке, грелась на солнце, поджидая меня. Иногда ходила в магазин, но чаще прогуливалась под руку с Иваном Ивановичем, с удовольствием выслушивая его похвалы в мой адрес.
Однажды мы втроем пошли в гости к Аристарху Андреевичу, о котором я уже слышал ранее. После возвращения на Родину из Харбина он работал бухгалтером на какой–то фабрике. Иван Иванович уверял меня, что Аристарх исключительно порядочный, редкий человек и встреча с ним, несомненно, обогатит мой кругозор. Аристарха я уже видел ранее, мне ребята на него показали, назвав его иностранцем. Он казался мне стариком. Впрочем, для подростка все люди старше сорока уже старики. Аристарх обратил на себя мое внимание тем, что, будучи, совершенно седым, он имел довольно молодые черты лица, хорошую выправку и отрешенные от мира глаза. Наверное, в то время ему было не больше 55 лет. Я пошел к нему по настоянию матери.
Аристарх Андреевич обрадовался нам. Увидев мою мать, растерялся. Я снова подумал: «Что, и он влюблен в мою мать?». Стало приятно, что они оба, и Аристарх, и Иван Иванович, обращаются с ней так бережно, как с хрустальной статуэткой.
Аристарх, так я буду теперь за глаза называть его, поцеловал ручку матери, а Иван Иванович показал ему на меня.
— Знакомься, внук его Сиятельства князя Григория Алексеевича Томилина. Я тебе говорил о нем.
— Рад, очень рад, — подал мне руку Аристарх, — наслышан о вашей семье. Лично не был знаком с генералом Томилиным, но знаю, его жена — родственница адмиралу Колчаку. А дед по линии матери — профессор консерватории.
Он снял со стены гитару и протянул ее мне:
— Дарю. В честь первого знакомства. Вас ведь музыка интересует?
Видя, мою растерянность, настаивал:
— Берите, берите, молодой человек, мне она ни к чему. И еще вот, впридачу, — взял он папку с нотами и протянул мне. — Знаю, справитесь. А коль заинтересуетесь подшивкой дореволюционных газет, верней, их вырезками, так можете присесть здесь за стол. Приятно знать, что в России сохранились потомки великих родов, — волновался Аристарх, но я‑то уже понимал, волнение его не по поводу встречи со мной, а с моей матерью.
Подержав гитару в руках, я с сомнением произнес:
— Аристарх Андреевич, она почти новая, ни как не могу ее принять. У меня нет денег, чтобы ее у Вас купить.
— Да разве, юноша, я не сказал, что это подарок? Сделайте мне приятное и освободите меня от нее. А то она мне, только воспоминаниями, душу надрывает. Может быть, когда и повеселите старика игрой на этом инструменте. — И тут же спохватился:
— Да что же мы стоим? Элен, присаживайтесь, пожалуйста. — Он подал матери стул, затем достал еще с полки папку, которую тоже протянул мне.
Пока взрослые разговаривали, я рассматривал вырезки из журналов и газет, фотографии, в основном, военно–морской тематики дореволюционного периода. И нашел знакомое волевое, одухотворенное лицо, в адмиральской форме.
— А этот человек мне знаком, — громко сказал я Аристарху.
; — Да ну? — усомнился он. — Вы не ошиблись, юноша? Для знакомства с этими людьми вы слишком юны.
— Да нет же, уверяю вас. Это же Александр Васильевич Колчак. Вот внизу надпись подтверждает мои слова.
Аристарх подошел ко мне.
— И как же он вам знаком? — спросил он.
— Не он сам. Его фотография в нашем семейном альбоме. В альбоме моей матушки, вернее ее отца. Только там он совсем молодой. Ей Колчак приходится каким–то двоюродным дядей.
— Да, — тихо заговорил Аристарх, оглядываясь на дверь, — это адмирал Александр Колчак, который получил от географического общества за открытие золотую медаль, а за японскую компанию — золотую саблю. Адмирал Колчак, под командованием которого мы одерживали на Балтийском и Черном морях блестящие победы. Это великий человек и яркая личность. Талантливый адмирал Советам не нужен был. Его расстреляли в 20‑м году. Перед смертью он попросил дать ему возможность проститься с любимой женщиной. Но люди, вернее худшая ее часть, расхохотались ему в лицо. Им это чувство было неведомо. Убивали лучших.
Иван Иванович сказал ему:
— Ну, граф не скромничай, покажи Гоше и о себе в тех вырезках.
— Здесь и про вас написано? — удивился я. Мать подошла к столу и наклонилась к альбому.
— Может это никому не нужно, — вздохнул Аристарх.
Но Иван Иванович тоже подошел к столу, переложил несколько листов, нашел нужную страницу журнала и, ткнув пальцем на фотографию.
На ней я увидел совсем молоденького морского офицера. И надпись: «Гордость Балтийского флота мичман граф Аристарх Вершинин».
— Это вы? — удивился я.
— Да, молодой человек, как видите, до адмирала, как это должно было быть, так и не дослужился. В Харбине, а до этого в скитаниях по миру в поиске новой родины, проходила моя дальнейшая жизнь. Вот и сейчас, старый дурак, поверил советской пропаганде в Харбине и вернулся. Таких как я в Россию–то и не пустили. А сюда, на не пригодные для жилья места поселили, в полупустыне, на азиатской земле. Эту папку, Григорий, я бы тоже подарил вам, но вы возрастом не вышли. А где ваш семейный альбом?
— Рогожей обмотал и закопал в нашем парке под ведром, перед смертью бабки, — ответил я.
— Вот, вот. Советам только это нужно. Закопать память молодых. Вернее, чтобы вы ее глубже закопали. Все богатства Великой империи они собрали в единый котел, и теперь распределяют его между собой. Они накопят их еще и для своих внуков. И вы, Григорий, не будьте дураком, учитесь, пробирайтесь в эту власть, чтобы своих детей и внуков обеспечить И пусть Боги хранят Вас.
Я ушел тогда от Аристарха раньше, чем мать и Иван Иванович. С собой унес не только гитару, но и чувство глубокого уважения к старшему поколению. Аристарх показался мне намного интереснее, чем Иван Иванович. И я стал часто навещать его. Нас роднила любовь к истории греков, римлян. И просто мне было с ним уютнее, чем с Иваном Ивановичем. Тот всегда серьезный, неулыбчивый. А Аристарх в разговоре со мной часто еще и переходил на французский. Да и любил он нас с матерью.
В сентябре мать записала меня в школу, как Кузнецова Гошу. Это посоветовал ей Иван Иванович. Он наказал нам скрыть по возможности все, что касается Григория Томилина. Дальновидным был старый профессор, прозорливым.
Директриса обрадовалась мне — отличнику и бумаги из прошлой школы как–то не запросили.
После школы я делал что–то по дому, учил главу за главой из поэмы Пушкина «Евгений Онегин» и, действительно, радовал этим мать. Потом убегал на улицу к ребятам. К тому времени наша маленькая шайка научилась довольно быстро перемещаться. Школа еще не знала, какие подвиги совершает их отличник в свободное от занятий время. Однако, я по прежнему ломал голову, как с помощью награбленных денег купить себе приличную обувь. Просто стыдно было ходить в рваных ботинках в школу, и к тому же надвигалась зима.
Некоторое время, зимой я бегал в подшитых валенках. В них ходить на «дело» было не удобно. Ноги росли катастрофически быстро, быстрей тела.
Закончилось первое полугодие. Наш седьмой «Б» класс готовил какую–то программу к Новому году, но я уклонился от участия. Классная руководительница предупредила меня:
— Кузнецов, тебе в апреле исполняется 14 лет, захочешь в комсомол вступить, а от общественной работы уклоняешься. Одной хорошей учебы не достаточно. Хоть бы свою больную мать пожалел.
— Я думаю о ней больше, чем вы думаете, — дерзко бросил ей в лицо.
— Так вот какой ты грубиян, Кузнецов! — удивилась классная руководительница и многозначительно проговорила, — Ну, ну.
Я постоянно думал о новогоднем подарке для мамы, как бы мне ухитриться истратить краденые деньги. Случай скоро представился. Буквально утром 31‑го декабря к нам зашел Иван Иванович. И с его приходом, верней с тем, что произошло накануне Нового 1954 года у меня снова, уже третий раз, начиналась жизнь сначала.
Да, к нам зашел Иван Иванович, он был взволнованным. Оказалось, ему идти на вокзал, встречать внучку. За окном намело сугробы, около сорока мороза, да еще с ветром. До вокзала далеко, транспорта в такую погоду не найти. Мать, конечно, засуетилась. Она отдала Ивану Ивановичу свое пальто, чтобы он надел его девчонке поверх того, в чем она приедет. Собрала какие–то шали. Велела Ивану Ивановичу не стесняться и накинуть еще и одеяло на свои плечи. И наказала сразу с вокзала прийти с внучкой к нам, для обогрева.
Как только Иван Иванович ушел, я без лишних слов принес уголь, раскочегарил печку. Железная плита накалилась докрасна. Потом сбегал за водой и поставил ведро на одну заслонку, а на другую чайник. Мать достала последние деньги и попросила меня купить булку белого хлеба, молока и пряников к чаю. Она не знала, чем мы будем питаться завтра, но по–другому поступить сегодня не могла. Зато у меня были деньги и не малые, которые лежали в угольном сарайчике, в железной коробке. Нужно было их употребить и теперь случай представился. Я взял бидон для молока, побежал, якобы в магазин, послушно опустив у шапки уши, чтоб не отморозить, как попросила мать, а сам зашел в сарайчик, достал 2000 рублей из коробки и минут пятнадцать переждал. Забежав, в дом, прямо от двери радостно закричал:
— Мама, смотрите, и половину пути не пробежал, вижу, метелью деньги метет. Наполовину замело, как я достал их.
— Ах! — воскликнула мать, — Кто–то потерял их. Надо бы поспрашивать людей в магазине. Это несчастье для кого–то!
— Хорошо, поспрашиваю, — не замечая мороза, помчался в магазин.
Вкуснейшая чайная колбаса, каких уже сейчас не встретишь на прилавке, стоила один рубль двадцать копеек. И я, конечно, тут разошелся и купил два килограмма этой колбасы, два килограмма сырокопченой, килограмм весового шоколада, несколько банок рыбных и мясных консервы, пряников, два литра молока, две булки белого хлеба, два килограмма масла. Затолкал все это обилие в сетку и поволок по сугробам, опасаясь за бидон с молоком, который держал в другой руке, чтобы не разлить его. Потому что горячее молоко нужно будет для внучки Ивана Ивановича.
Когда я вернулся, в нашей землянке было уже жарко. Не моргнув глазом, я соврал:
— Никто денег не терял. И вот, накупил. Мама, сегодня же Новый год наступает. Лучше посмотрите, сколько всего я принес. — И не раздеваясь, стал выкладывать на стол содержимое. Мать не поверила, что я спрашивал в магазине, но не стала меня ругать, только грустно заметила:
— Сынок, присваивать чужое должно быть стыдно.
Я не выдержал и высказал вслух то, о чем раньше молчал:
— Значит, истратить чужие деньги должно быть стыдно! А отнять у моего отца родителей и целое поместье не стыдно! Отца расстреляли, тебя арестовали. Теперь ты болеешь, и мы должны жить в этом курятнике, умирать с голоду? Это нормально?
— Тише, сынок! — глядя на дверь, умоляла мать.
Я пожалел о своем резком тоне и уже ласково попросил ее:
— Маменька, вы только не расстраивайтесь, это вам вредно. Давайте лучше смотреть, что послал нам случай к Новогоднему столу. Скоро Иван Иванович с внучкой вернуться. Она, небось, голодная. В приютах плохо кормят.
Мать машинально достала белую скатерть. Постелила ее на стол, а я разбирал продукты. Она, казалось, наконец, увидела это изобилие. На глаза у нее навернулись слезы.
— Мама, — напомнил я, — Сколько раз Иван Иванович и Аристарх Андреевич приносили вам в больницу передачи. Нам нужно поделить это на три семьи.
— Конечно, сынок. Как они обрадуются! Наверняка им тоже нечего кушать, — согласилась она.
Я вынул сдачу и отдал ей со словами:
— Спрячьте эти деньги или купите себе платье на лето.
Мать только молча обняла меня. Я не выдержал и тоже обнял ее. Мне показалось, она такая худая, что состоит из одних ребер. Ведь она так мало кушала. Тогда я окончательно понял, у нее нет другого кормильца, кроме меня. И грабить буду, пока это нужно.
Мы аккуратно разделили продукты на три части. Мать связала их в узелки, чтобы в качестве новогоднего подарка вручить друзьям.
— А сколько лет внучке Ивана Ивановича? — поинтересовался я.
— Тебе, Гоша, ровесница, — ответила мать и попросила, — Ты не сбегаешь за Аристархом Андреевичем? Негоже ему одному Новый год встречать, — и смутилась. Наверное, из двух своих друзей она его больше выделяла и я с удовольствием выполнил ее просьбу.
Аристарх, как мне показалось, по детски обрадовался приглашению к новогоднему столу. Взял пачку печенья с полки, смущенно объяснив:
— У меня больше ничего нет.
— Не надо, не берите. Я нашел деньги. У нас все есть на столе. Мы ждем Ивана Ивановича с внучкой. Она поездом приехала, — сообщил я и увидел, как осветилось лицо Аристарха, и подумал «Как они, старики, умеют дружить и радоваться счастью другого».
Чайник закипал уже третий раз, когда за дверью послышался шум. Там отряхивали снег. Дверь открылась, и в клубах пара, увидел две фигуры. Одну высокую — Ивана Ивановича, и еще одну, в виде укутанного, замотанного со всех сторон, колобка. Чувствовалось, что Иван Иванович жутко продрог. У него, как говорится, зуб на зуб не попадал. Все одеяла были на колобке. Мать принялась помогать Ивану Ивановичу раздеваться, а мне сказала:
— Гоша, помоги девочке.
Я стал крутить колобок, развязывая узлы, освобождая его, то от одного, то от другого. И вдруг, из многочисленных платков на голове и лице, выглянули, как из норы, черные блестящие влажные глаза. Иней таял на густых пушистых ресницах. Я оторопел. Это были настоящие, очень красивые глаза, какие не встречались мне раньше. И не глаза сверстников и, даже, не одноклассников. Я не мог оторвать от них взгляда. В них появились искорки, они смеялись. Наконец, я оторвался от них и продолжал развязывать узлы. Колобок таял, таял… И вот уже передо мной тоненькая девчонка, действительно моя ровесница, с длинными толстыми каштановыми косами, которые заканчивались синими атласными бантами. Все. Я ее размотал. Но она жалобно сказала не деду, не матери, не Аристарху, а мне:
— Руки сильно замерзли.
Я взял ее руки в свои, они были словно ледышки. Потом спрятал их себе под мышки.
— У тебя там тепло, — радовалась девочка.
Странно, но ледяные пальчики под моими руками волновали меня. Я посмотрел девчонке в лицо. У нее были красивые, густые брови, немного высоковатый нос, и губы красные, бантиком. Мне было трудно оторвать от них глаза. Девчонка засмеялась, и я с удовлетворением заметил, что ее зубы еще недостаточно выросли, в отличие от моих.
— Эля, внученька, иди к заслонке, погрейся, — позвал ее Иван Иванович.
Я убрал ее руки и подтолкнул к печи:
— Иди, грейся!
— Ах! Мои валенки на печи, они горячие, — спохватилась мать и бросилась переобувать Элю.
Иван Иванович, согревшись и разглядев продукты на столе, с удивлением посмотрел на меня. Он уже догадывался, чем я занимаюсь в свободное время. Но натолкнулся на мой взгляд, который ответил ему: «Да, краденое».
Он грустно сказал матери:
— Жаль, шампанского нет на столе.
Мать тут же достала деньги и, пересказав историю появления их, попросила:
— Как согреетесь, сходите вдвоем с Аристархом Андреевичем в магазин. Купите, что посчитаете нужным. Люди уже старый год провожают. Слышите, поют. И нам пора за стол.
Иван Иванович отнес Лидии записку, в которой сообщал: «Элю привез. Мы все у Элен». Затем, безобидно усмехнувшись, изрек про жену:
— Не вернется она сегодня домой. Знает, кроме черствого куска хлеба, да двух луковиц, в доме ничего нет. Где–нибудь будет гулять Новый год. Но обязательно с того стола нам что–нибудь принесет.
Это были странные проводы Старого 1953 года. Они запомнились мне еще и потому, что как мне показалось, что взрослые хотели все лишения и невзгоды оставить в прошлом году и навсегда. Только не верилось им в это.
Иван Иванович налил и нам с Элей в стаканы коньяк, который едва покрывал донышко. Взрослым налил водки. Шампанское оставалось для встречи Нового года. Мать первая подняла свой стакан и сказала:
— За вашу с внучкой встречу, Иван Иванович, и за вас Аристарх Андреевич, чтобы всем нам хоть немного повезло в Новом году.
— Спасибо, — отозвался Иван Иванович и погладил Элю по голове, потом за плечи привлек к себе.
Мы все выпили. Эля ела колбасу, призналась, что впервые в жизни и уплетала ее с хлебом за обе щеки. Я подвинул ей тарелку с кусками шоколада. Она не знала, что это такое. Узнала и очень удивилась, что это шоколад, да еще в таком количестве.
— Можно попробовать? — спросила она меня.
— Конечно, — ответив, положил перед ней кусок размером со сто грамм и, взяв другой, стал его кусать.
— А еще его можно в кружке нагреть и он растает.
— Нет, мне лучше его грызть, — ответила Эля и вонзила свои, еще не совсем взрослые зубы, в кусок шоколада и запачкала губы.
Странно, но мне захотелось слизать с ее губ шоколад. Кажется, я немного опьянел, и потому у меня появилась такая странная мысль. Еще ощущение того, что Иван Иванович привел Элю мне в качестве Новогоднего подарка. И, сидя рядом с ней, любовался «своим приобретением». Поскольку мы оба занимали угол стола, у меня появилась возможность разглядеть ее профиль. Мне хотелось погладить ее тонкую, как крыло птицы, бровь, потрогать косу. Ну, просто тянуло к «своей игрушке» изучить. Кто–то внутри меня, новый говорил мне: «Этого нельзя делать». и волновал мне кровь.
Элю стало морить в сон. Заметив это, мать отвела ее на свою кровать. Девчонка тут же уснула и проспала наступление Нового года.
Мать налила мужчинам еще водки со словами:
— Иван Иванович, вас проморозило насквозь. И не надо никаких тостов. Выпьем просто так, за то, что живы, есть вино, еда, друзья и главное наши дети.
— Нет, надо, Элен! — возразил Иван Иванович и, подняв стакан, произнес, — За самую прекрасную женщину. За вас, Элен. Вы мое единственное светлое единственное пятно в жизни.
— Но, но! Не только Ваше, — возразил Аристарх.
Старый год плавно перешел. В Новый 1954‑й. Эля сладко спала, и будить ее не стали. Иван Иванович разлил по стаканам шампанское, а мне сказал:
— А вам, юноша, только капельку, чисто символически, вам достаточно.
Мы пожелали друг другу счастливого Нового года. Мать взяла гитару и, к моему изумлению, сыграла на ней что–то грустное, мне не знакомое и очень хорошо. Потом несколько романсов к ряду. Я понял, она вспомнила о моем отце.
— Мама, я не знал, что вы так хорошо играете на гитаре? — удивился я.
— Играла, сынок, и на гитаре, и на рояле, и пела не плохо, а танцевала так, что твой отец не удержался и побежал за цветами. Но все это в прошлой жизни. Я еще и наглядеться на твоего отца не успела, а его уже отняли у меня, — и тяжело вздохнув, передала мне гитару. Потом обратилась к Ивану Ивановичу:
— Ну, а мать Эли, она–то как потерялась? Погибла в Ленинграде? Впрочем, если вам тяжело об этом говорить, не надо.
Меня клонило ко сну, и я побрел к своей кровати, и лег поверх одеяла, не раздеваясь. В полудреме услышал, как Иван Иванович с горечью ответил матери:
— Я, мирный человек, ученый. Не думал, что воевать придется, что озверею до такой степени, и в упор убью человека, верней человекоподобного. Да не на фронте, а в квартире собственной дочери. Бедная моя девочка! Мне нужно перед кем–нибудь излить душу. В этом вы, Элен, правы. Но простите меня, я не вовремя, праздник все–таки.
— Да, пожалуйста, Иван Иванович, мы слушаем. Говорите обо всем, что на сердце накипело, — попросил Аристарх.
А мать ласково тронула его за локоть:
— Говорите.
— Нет, не подумайте, что я раскаиваюсь. Если бы этот гад вдруг ожил, или оживал, я бы его раз за разом расстреливал. Внучка моя сироткой настрадалась из–за него. Отец ее погиб в 41‑м году. А у ее матери, моей дочери, хранились все наши фамильные драгоценности, а их было не мало. Отец мой был купцом первой гильдии. Прадед еще со знаменитым Афанасием Никитиным «За три моря ходил». Из самой Индии понавез украшений. После революции нас уплотнили, и я оставил себе кабинет. Он был большой, а камин посредине стоял. Вот туда я все замуровал. Жена моя поехала навестить своих родителей и по дороге заразилась тифом. Так я остался на руках с двухлетней дочерью. Трудно было. А в 1939 году ей исполнилось восемнадцать, и встретила она на своем пути хорошего человека. Да прожила с ним только до начала войны, когда он погиб. И голод доченька моя пережила бы. Всех драгоценностей хватило бы до конца блокады. Но к несчастью заболела двусторонним воспалением легких. Соседка Вера врача ей вызвала. А приехали вороны–ликвидаторы. Такие стервятники. Человеческую жизнь ни во что не ставили. Только бы мародерствовать на законном основании.
Я слышал, как Иван Иванович всхлипнул. Но потом продолжил:
— Эля–то еще грудничок была. Этот чекист–фашист велел дочь мою на носилках в мороз на улицу вынести да там, на снегу, оставил ее замерзать. Соседке ее, Вере, отдали ребенка. Написали записку, куда отвезти, в какой приют и она уехала. Приехала часа через три, а доченька моя все еще лежит на носилках, где ее оставили. Потом машина–труповозка подъехала, ее туда и погрузили.
— Иван Иванович, не нужно больше тяжелых воспоминаний, — попросила мать, но тот продолжал:
— Нас ученых записали в добровольцы и отправили воевать под Ленинград. Через год мне дали отпуск на два дня. Я к дочери, а двери не открывают. К соседке Вере, она мне все и рассказала. Внучку мою в приюте она навещала, пока сама не устроилась туда няней работать. На днях их должны были эвакуировать в тыл, куда, Вера не знала. Навестил я мою маленькую Элю, переночевал у Веры. А утром она на работу собирается, и я ухожу вместе с ней. Она в одну сторону, а я в другую. Зашел за угол, подождал, когда она из вида скроется, и вернулся. Стучу в дверь своей квартиры. Верней квартиру дочери, потому что перед самой войной мне отдельную квартиру, как ученому, выделили. Дверь открывается и стоит он, гад, в кальсонах. Спрашивает: «Вам кого»? Молодой, мордатый, сытый и говорит:
— Хозяин квартиры, погиб, дочь его умерла, а ребенок — в приюте. Теперь нам с женой выделили эту квартиру. — И еще утешает меня, — Ничего, отец, немцы нам за все ответят, потерпи.
После этих слов я подумал: «Хорошо все валить на неприятеля, а сам–то ты не фашист?».
Смотрю, камина нет, где драгоценности хранились.
— Да, — поймал он мой взгляд. — Мешал камин, мы его разобрали. — И эта сытая морда глаза отводит.
— А где же жена ваша? — спрашиваю его.
Отвечает:
— На работу побежала. И я уже тороплюсь, извини, машина сейчас за мной приедет.
Я ему в ответ:
— Стой, где стоишь, большевицкая сволочь. Вот тебе за дочь и за внучку.
И спустил в него всю обойму из трофейного пистолета. Мне было все равно, что со мной будет. Вышел из дома, никого. Тихо. Только где–то слева мотор слышен. Я вправо и снова за угол. Не далеко ушел, перешел улицу и уже оттуда наблюдал, как труп этого мерзавца выносили из подъезда накрытого с головой простыней. Только тогда мне полегчало.
Иван Иванович посмотрев на кровать, где спала его внучка, продолжил:
— Предки заработали блага, чтобы потомкам жизнь облегчить. А она, моя Эля, теперь сирота, голодная, раздетая и разутая. Ладно, валенки подошью ей. А весна придет, во что я ее обую? Может зря сорвал ее из приюта?
— Не зря, Иван Иванович, — тихо отозвался я, — у меня есть еще деньги. Сразу после праздников пойдем все вместе обувь покупать. Нам всем ботинки, и калоши к ним, а маме и Эле — полуботиночки и боты.
Аристарх с удивлением повернул ко мне голову, а Иван Иванович ответил:
— Спасибо, малыш, у тебя доброе сердце. Храни его. Берегись этой власти. Выживи. Может эта гидра, — он имел в виду тоталитарный режим, — сдохнет еще при твоей жизни. Иди за стол, коль не спишь.
— Иван Иванович, не нужно с ним так откровенно, — попросила мать, но тот не согласился с ней:
— Гриша должен иметь собственное суждение обо всем и уметь делать выводы. И потому я спрашиваю вас, молодой человек, — обратился он ко мне, — как вы думаете, почему французы сдали немцам Париж? Может, было бы лучше, если бы он был в блокаде три года, население его уничтожено, уморено, а потом схоронить их всех на каком–нибудь их Пискаревском кладбище, чтобы совершать там свои ритуалы, травя сердца людей? Вот и я ездил на это кладбище к своей дочери. А, не будь этой власти, и войны бы не было. Европа боялась Красной заразы. А тут под руку это чудовище Гитлер вовремя появился, и толкали его на разжигание войны те невидимые сволочи, которые обогащаются на войнах.
Послышался шум открываемой наружной двери. Иван Иванович вышел в коридор и позвал:
— Лида, мы здесь. Входи быстрей, а то холод внесешь.
Лида вошла. Она явно была пьяна и с порога звонко поздравила нас с Новым годом.
— Ну, лагерные доходяги, — обратилась она к взрослым. — Я вам продуктов принесла. Вот, целая буханка белого хлеба, картошка и кусочек сала. Пировать будем. — Подошла к столу, увидала изобилие на нем и онемела было, но потом произнесла:
— Ошиблась я с гостями. Нужно было дома остаться. Оказывается здесь пир горой.
— Тише, не видишь, ребенок спит. Привез я внучку, — показал Иван Иванович на кровать, где спала, разрумянившись от тепла, Эля.
— Какая девочка! — нагнувшись над ней, прошептала Лида, — Мы подружимся, мы обязательно подружимся. Я ее танцевать научу.
И Иван Ивановичу:
— Ну, наливай же скорей. Откуда это изобилие, не спрашиваю, в гостях наелась, а выпить выпью.
Я поспешил усадить Лиду на свое место, а сам снова перебрался на кровать, улегся и теперь уже крепко уснул.
Проспав до часу дня, проснулся оттого, что мать возилась с плитой. Никогда я еще не просыпался с таким праздником на душе. «От того, что праздник Новый год», — подумалось мне. Но тут же вспомнил про девчонку. От нее, от того что она есть — праздник. Поднявшись на локоть, посмотрел на кровать матери. Эли там не было. Праздник отхлынул от души, и я спросил:
— Мама, а где Эля?
Мать поняла и засмеялась:
— За ней Иван Иванович пришел и к себе увел. А ты решил, что это твой Рождественский подарок? Все может быть, все может быть. Нас в гости ждут. Только вот печь не потухла бы окончательно, уголь сейчас подсыплю, — весело говорила она и подошла ко мне.
— С Новым Годом тебя, сынок! Пусть судьба будет к тебе милостива каждый год! — села рядом, обняла, поцеловала в макушку и сказала:
— Иван Иванович нас в гости ждет. А потом еще к Аристарху Андреевичу пойдем.
— Я принесу уголь, за водой к колодцу схожу, а вы, мама, пока себя в порядок приведите, волосы свои красивые уложите. Они мне очень нравятся. Вернусь и тоже умоюсь, переоденусь, возьмем гитару и пойдем в гости. Только, чур, не петь грустных песен и ничего плохого как вчера не вспоминать. Праздник ведь!
— Согласна. Праздник двойной. Иван Иванович внучку привез. Будем и мы ей семьей. Я ее шить научу, только бы на швейную машинку накопить денег.
— Мама, когда купим обувь, останется и на машинку для вас. Это, считайте, подарок от меня.
— Ах, как бы это было хорошо! — обрадовалась мать и продолжила, — Мы теперь одна семья. Договорились с Иваном Ивановичем, если что со мной случится, они тебя к себе возьмут. А если с Иваном Ивановичем, мы Элю берем к себе. А если с нами обоими, вас с Элей Аристарх Андреевич не оставит.
— Мама, вы опять о плохом? — удивился я, — С вами ничего не случится. А девчонка мне нравится. Пусть будет наша, а то я все один в семье. Это скучно. Мама, правда, эта Эля забавная?
— Беззащитная она, сынок, — вздохнув, ответила мать.
Пока носил уголь, воду, думал об Эле: «Как же беззащитная? У меня деньги в сарае спрятаны, кормить буду ее. И еще в кино буду водить, защищать стану. Никакой драки не побоюсь». Я строил планы, собираясь в гости. Мне не терпелось увидеть Элю снова.
У Ивана Ивановича уже был Аристарх. Нас с мамой они дружно приветствовали. Аристарх обрадовался и своей гитаре. Взяв ее из рук матери, он заиграл что–то разбитное, вероятно, взятое из его юных лет. Сразу стало весело. Я посмотрел на Элю и подумал: «Вот смотреть на нее тоже праздник. И почему мне хочется делать это снова и снова. Вчера же уже видел, а сегодня снова все в ней мне нравится. Может потому, что она теперь наша?»
Однажды вечером меня нашел Колька и сказал:
— Собираемся сегодня у меня. Мамка снова в больнице. Витька что–то придумал.
Витька придумал новую разновидность грабежа богатеньких прохожих. Эстафету. Нас уже было семеро. Четверо окружают, снимают шубы, шапки, драгоценности. Кладут в карман и бегом отдают Кольке, который убегает в это время метров за сто пятьдесят. У него мешок. Мне, как самому быстрому, необходимо от Кольки еще на таком расстоянии быть. Получив по эстафете награбленное, Колька передает мешок мне. Я тащу его в свой угольный сарай, где уже ждет Витька и его команда, или я их жду. Витька — честный вор. Он всегда выдаст аванс, а когда реализует через третьих лиц вещи в комиссионке или на базаре, еще подбросит денег. Нам с Колькой добавляет на передачи продуктов в больницу для больных матерей. И мы ему преданы особо. Но зимой Витька осторожничал. На дело мы ходили в метель или снегопад, чтобы не привести след к моему угольному сараю. В эти дни я возвращался поздно. Мать не спала, волновалась. И, однажды, в такой удачный вечер нас выследил Иван Иванович, который тоже частенько за меня волновался и успокаивал мать:
— Придет мальчишка. Ну, заигрался с ровесниками.
Когда Витька с товарищами ушел, я спрятал в коробку деньги, которые получил. На душе было особо хорошо от мысли, что денег у меня много, а главное, о моей заначке никто не знал. Наполнил углем ведро и вынес его наружу, собираясь замкнуть сарайчик. И тут Иван Иванович, весь в снегу, предстал передо мной. Я вздрогнул, но Иван Иванович успокоил:
— Не бойся, они далеко ушли. Давно хотел с тобой поговорить, да все случай не представлялся. Сегодня самый раз. Посадят тебя, малыш. Я давно знал. Ты мне несешь продукты в больницу и говоришь, что от матери, ей помощь оказали. А когда она в больнице, ссылаешься на меня. Тебя Советская власть загнала в угол. Работы для твоего возраста нет, и никак вам с матерью по другому, без твоего воровства, не выжить. А в школе ты кто, Кузнецов Гоша? На фамилии матери?
— Да, — ответил я.
— А там, в той школе на юге, ты был Томилин?
— Да, — подтвердил я.
— Кто–нибудь знает об этом?
— Нет, никто, кроме вас и мамы.
— Дай Бог, чтобы ты продержался до совершеннолетия и смог зарабатывать себе на жизнь. Я знаю, тебе хватит ума оставить этот опасный промысел. Хочу дать тебе совет. Если тебя осудят, постарайся убежать. И убежать туда, где ты жил с бабкой. Там тебя устроят и на работу, и в вечернюю школу. Начнешь расти. Станешь неузнаваемым. Я полюбил тебя, как люблю твою маму. А пока, в свободное от «твоих дел» время, налегай на учебу. Я могу подтянуть тебя по алгебре, геометрии, физике, вплоть до десятого класса, за одну эту зиму. У меня времени в обрез. Знания всегда пригодятся в жизни. У моей Эли нет таких способностей к точным наукам, как у тебя. Вот поэму «Евгений Онегин» и учите вместе. Это полезное занятие. Кстати, какие у тебя оценки за первое полугодие?
— Как всегда, — засмеялся я, — все пятерки. А поведение — три. Это за пропуски. Вставать в школу не хочется.
— Ну, да! После ночных–то дел, — сказал Иван Иванович и взял мое ведро с углем, — Пойдем. Я уже замерз.
В это время я ему был благодарен и, не зная, как это выразить, сказал:
— Иван Иванович, вы за Элю не переживайте. Я ее не дам в обиду. И о моих делах она не узнает. Я ее ни во что не вмешаю.
— А вот это меня утешает. В твоем благородстве я не сомневаюсь. Обещай мне, что не оставишь Элю в беде, поддержишь по жизни. И еще вот что, Гошенька, если выкрутишься из своих дел, влезай в их партию. Благ там много. Не все сволочам пользоваться ими. Отнимай у них власть. Только сам не сильно пачкайся. Оставайся человеком, чтобы самому себе не опротиветь. Знаю «бытие определяет сознание», а ты думай о предках. И еще, если со мной что случится, Аристарха Андреевича держись. Он тоже к тебе привязался. Человеков много — людей мало. Дружбу не со всякими води. Некоторые еще только с виду люди.
Мы прошли с Иваном Ивановичем намеченную программу по математике только по девятый класс. В конце февраля, блуждая по телу, пуля обнаружила его доброе сердце, и он умер. Светлая ему память.
Эля осталась на наше попечение потому, что Лида редко появлялась дома. Она гуляла где–то, танцевала. А если и приходила к нам, то всегда с новым мужчиной и нетрезвой.
Я не голодал. Покупал продукты и съедал их тайком. Наедался, чтобы дома больше досталось маме и Эле. Конечно, меня мучила совесть. И, однажды, не выдержав всего этого, я соврал Эле:
— Знаешь, я везучий. В январе, перед твоим приездом, побежал в магазин за хлебом и вижу, снегом деньги заметает. Много денег было. А вчера, веришь, кошелек толстый, набитый деньгами подобрал на тропинке. И никого, кто бы его искал. Как много денег у некоторых людей. Откуда? Колька говорит, такие деньги нечестные у продавцов и спекулянтов.
— А покажи кошелек, — загорелась Эля.
— Понимаешь, я его спрятал в угольном сарае. Мама не поверит мне во второй раз. Слушай, Эля! А давай, ты его найдешь по пути из школы, а?
— А я не умею врать. Я люблю твою маму.
— Я тоже люблю, но ее скоро снова положат в больницу и ей нужно хорошо питаться, да и нам. Зная, что мы с тобой не голодаем, ей будет спокойней за нас. Соглашайся.
Я повел Элю в сарайчик. Достал кошелек, в который запихал все деньги из своей железной коробки и раскрыл его перед Элей.
— Ой, сколько денег! — воскликнула она, — Давай посчитаем их?
Посчитали. Оказалось двадцать тысяч. В то время, как матери за инвалидность платили четыреста рублей в месяц. Мне до сих пор стыдно за государство, которое выделяло такие крохи больному человеку, у которого сын — подросток.
Я предложил Эле:
— Давай отложим половину в эту железную коробку? Она волшебная. В прошлый раз положил сюда немного денег, а вышло, вон сколько нашел.
Эля согласилась, и мы отложили десять тысяч. В это время я думал о ней. Меня могут действительно отправить в детскую колонию, тогда она будет знать, где взять деньги на пропитание ей и моей матери.
— А что мы купим на эти деньги? — спросила она.
Я по–хозяйски ответил:
— Сначала уголь и дрова на следующую зиму. А остальное, как мама решит. Вот тебе один ключ от сарая, спрячь его в карман.
Вообще–то этим маневром мне хотелось, чтобы она запомнила, где ей помощь найти в случае чего.
На следующий день в школу я проспал. Мать не ругала меня. Она любила меня с сознанием обреченного на смерть человека. Я слышал, как она налила в кастрюлю воду и поставила на плиту, чтобы сварить жидкий супчик, когда Эля, широко распахнув двери, закричала:
— Тетя Лена! У меня хорошая новость. Я нашла кошелек с деньгами, но не посчитала их еще.
— Как же так! — Искренне удивилась мать. — Я никогда не находила денег. А перед вами они прямо валяются. То в кошельках, то по ветру катятся.
Мы посчитала деньги, и мать уверенно сказала:
— Гошенька, их нужно отнести в стол находок!
— Чтобы работникам стола находок было хорошо? — ехидно заметил я. — Да ни один умный человек никогда им ничего не приносил, присвоят. Мама, мне ребята говорят, что их родители воруют там, где работают. Честные деньги в кошельках, в таком количестве не водятся, — и твердо заявил, — Деньги будут наши! У нас нет ни одежды, ни обуви, ни продуктов.
Мать с удивлением выслушала меня. Ей нечем было возразить. И мы в этот же день закупили продуктов, а через день пошли на рынок закупать летние и зимние вещи и обувь. Сначала Эле, маме, и в последнюю очередь мне. Мне и Эле покупали на вырост. И, несмотря на покупки, денег оставалось еще много. Купили на радость матери и швейную машинку, и материал на платья.
В апреле мне исполнилось четырнадцать лет. Эля между тем уже выросла, как это всегда бывает с девчонками. Она была чуть выше меня и гордилась этим. Мама, смеясь, сказала ей:
— Девочка моя, ты даже не представляешь себе, каким высоким и красивым вырастет Гошенька. — Но тут же ее лицо стало грустным и она, немного подумав, посмотрела на меня и, как бы спрашивая моего согласия, сказала:
— У нас есть фамильная вещь… Гошенька, нужно этот золотой медальон передать Эле на хранение, она девочка. У тебя не получится его сохранить. — с этими словами сняла с шеи медальон и Эле:
— Сейчас тебе Гоша покажет место, где он будет храниться. Мы с ним просим тебя сохранить его. Это наша фамильная вещь. Гоша, мальчик. У него это вряд ли получится. Медальон будешь потом носить на шее.
И мать положила Эле медальон на ладонь.
— Красивый, — улыбнулась она и передала его мне.
Я спрятал медальон, а мать продолжала:
— Теперь ты, Эля, знаешь, где он лежит. И еще, если со мной что–то случится, ты Гоше и себе вари супы, не питайтесь в сухомятку.
— Тетя Лена, ничего не случится с вами, — горячо заверила маму Эля и я почему–то поверил ей. Мать была такая живая и уже веселая, и еще такая молодая. Ей далеко до старости.
Помня наказ Ивана Ивановича, мне не хотелось компрометировать Элю и потому нигде не показывался с ней вдвоем.
Барак наш стоял на краю поселка. За его стеной простирались овраги и холмы. А далее Холодное озеро. Я смастерил нам с Элей деревянные коньки, которые крепил к валенкам кожаными шнурами и мы с ней, ни кем не видимые, по одному, для конспирации, убегали за угол барака. Я догонял ее, мы шли на замерзшее озеро, где катались, любовались чистым, метровым, не меньше, слоем льда.
Однажды в марта, мы возвращались домой и упали в засыпанный снегом небольшой овражек. Причем я, нечаянно, упал на Элю. Она хохотал. Наши губы оказались в опасной близости и меня потянуло к ним. Она это почувствовала и, перестав смеяться, спросила:
— Ты хочешь поцеловать меня, как целуются взрослые в кино?
Вместо ответа я осторожно прикоснулся к ее губам.
— Вкусно, — сказала Эля и предложила, — А давай всегда так целоваться.
Мне стало жарко от неведомого мне ранее чувства, которое поднялось внутри меня и уже не покидало во все другие дни.
Снова наступил апрель. И он уже не казался мне таким жалким, как в прошлом году. Эля приходила со школы, а я ждал ее, чтобы бежать за подснежниками. Там можно было целоваться сколько угодно.
В воскресенье мне исполнилось четырнадцать лет. Эля пошла в сарай за деньгами, чтобы купить продукты. Матери нездоровилось, она лежала в постели. Я взял железную лапу, надел на нее материн ботинок и ловко подбил его гвоздями.
— Спасибо Ивану Ивановичу, лапу нам оставил, молоток и гвозди, — сказал я матери, наблюдавшей за моей работой.
— Это он тебя научил обувь чинить? — спросила она.
— Да, хочешь я тебе туфельки на высоких каблуках куплю? Только ты выздоравливай, пожалуйста.
Но мать ответила:
— Гошенька, если бы ты знал, как я беспокоюсь за тебя. Где ты носишься до самой ночи?
— Мам, не надо волноваться за меня. Я — уже взрослый. Со мной все хорошо.
Мать, удивленная моим ответом, сказала:
— Кажется ты, сынок, выйдешь сухим из воды в любых ситуациях. Когда вы с Элей вырастите, я хотела бы, чтобы вы поженились. Лучшей жены ты не встретишь. Этого и Иван Иванович хотел.
Но тут вернулась Эля и она замолчала.
В этот день мать, было, встала, но ей стало хуже, она легла в постель. Эля укрыла ее и занялась торжественным обедом. Весело орудуя у плиты, она говорила моей матери:
— Тетя Лена, наступила весна, и теперь вы точно выздоровеете. Я буду вас вкусно кормить.
— А деньги где брать? — спросила мать, и я удивился, как Эля ловко придумала:
— А здесь есть одна старушка. Я буду за ней ухаживать, стирать, убирать. Ее сын ездит в дальние рейсы, не бывает дома. Когда приезжает, дает ей много денег. Она мне платит за уход.
Конечно, никакой старушки не было. Деньги в железной коробке не кончались и Эля, однажды, пересчитав их, спросила меня:
— Гоша, ты воруешь? Откуда здесь все больше и больше денег?
— Это не твое дело, — отрезал я и заметил, как она сначала вздрогнула, потом по ее розовым щечкам потекли слезы.
Я обнял ее, поцеловал мокрые щеки и попросил:
— Никогда не вмешивайся в мои дела. Я умру за тебя, если надо. Но это мои, это мужские дела.
— Хорошо Гошенька. Но я боюсь жить без тебя. Давай никогда, никогда не расставаться. Вот, клянись, что ты меня никогда не оставишь.
И я поклялся не потому, что она об этом попросила. Я и сам не мыслил жизни без нее.
В середине мая Эле исполнилось четырнадцать лет. Мы с ней, якобы, уходили в школу, сами же запирали наши сумки в сарае и убегали на холмы по единственной дороге наших ранних открытий. Однажды мы ушли особо далеко. Степь преобразилась, цвела сон–трава. Такие маленькие разноцветные тюльпаны. Только в это время года трава здесь и зеленела. Мы сидели на траве, и Эля плела венок, а я рассматривал ее и мне казалось, что никогда не насмотрюсь на нее. Дотронувшись пальцем до ее брови, провел вдоль и сказал:
— Если бы ты видела себя со стороны. Но тебе это не дано.
— А зачем мне это? — удивилась она.
Мы проголодались. Я протянул ей руку и сказал:
— Хочу показать еще одно место, прямо рай в этой степи. Как будто природы кусочек заблудился. Местное население перегоняет сейчас туда свой скот. Там такие сочные травы и такие скалы! Даже есть пещерки с летучими мышами. Только это не близко. Опоздаем к обеду, что мама подумает?
— Скажем ей, собрание у нас было, — нашлась Эля.
Взявшись за руки, мы заторопились. Солнце пекло все сильнее. На нашем пути попался колодец. Отгоняя букашек, мы набирали ладонями воду и поили друг друга. Небо стало потихоньку заволакивать. Мы не обратили на это внимание. Показалась зеленая лагуна, где паслись коровы. Вышли голодные к пастухам и с удовольствием напились у них хлебного кваса. Мы направились к пещерам. Когда мы зашли в одну из них, сотня летучих мышей пролетели над нами. Эля, испугавшись, спряталась на моей груди. К тому же, послышались раскаты грома. Вот они ближе и ближе.
— Гроза будет. Нужно здесь переждать, — обнял я подругу.
Оказалась грозы она боялась еще больше, чем мышей. Мы сели за выступ, чтобы молния не достала нас. Эля рассказала, что ее знакомую девочку убило молнией. Я обхватил ее дрожащее тело двумя руками. Тучи гремели над нашими головами, Эля всякий раз вздрагивала и только сильней прижималась ко мне.
— Не бойся, — приговаривал я и предложил, — Давай лучше целоваться. Это отвлекает.
Сначала мы целовались в губы. Нам обоим становилось все жарче и жарче. Моя рука непроизвольно опустилась к ее маленькой грудке, это было незабываемое блаженство. Мне захотелось целовать ее всю. Но так мы не договаривались. И, кажется, мы оба не понимали, почему должны сдерживать себя.
Гроза закончилась внезапно. Весенний ветер разгонял тучи. Солнце выглянуло сразу и на весь остаток дня. Мы поспешили домой, крепко держась за руки.
Пришли к сараю за своими сумками. Мы оба не желали расстаться даже на мгновение. Эля пошла домой к себе первая, переждав минут десять, и я пошел домой. К своему удивлению застал дома вместо мамы Элю и Лиду. Они были расстроены. Лида спросила:
— Гоша, где ты был? Маме стало плохо, ее увезли в больницу. Прием там, как всегда, с пяти до шести вечера.
— Я только продукты куплю.
— Гоша, можно мы с тобой в больницу к тете Лене вместе пойдем? — спросила Эля, буд–то мы и не провели весь день вместе.
— Хорошо, вы сегодня, а мне лучше завтра с утра прийти к ней, — закивала головой Лида. И Эле, — Сегодня не жди меня. И не забудь двери на ночь закрыть. А ты, Гоша, проверяй за ней.
Эля побежала в магазин за мясом и луком, я начистил картошку. Приготовив жаркое, прямо горячее понесли матери в больницу. Рядом с ее кроватью мы застали Аристарха. Он держал ее за руку. Увидев меня, смутился, отпустил руку матери и сказал:
— Григорий, мама чувствует себя уже лучше. — И пересел к окну.
Эля села кормить маму, но у той не было аппетита. Эля притворно ругалась:
— Что такое, тетя Лена? Хотите болеть, не хотите домой? Ну–ка, кушайте быстрей! Аристарх Андреевич, ну скажите тете Лене, может, хоть Вас послушает.
Мать улыбнулась и стала старательно глотать, можно сказать, давиться едой. Эля напоила ее еще теплым молоком. Потом накрыла одеялом и сказала:
— Мы каждый вечер будем приходить к вам. Только скажите, что принести.
— Ничего не надо, сами себя приносите, — грустно, улыбаясь, ответила мать.
А Аристарх сказал ей:
— Мне нужно что–то сказать Вам, Элен. — И нам. — Ребята, вы идите, я здесь еще побуду.
По правде сказать, мне не терпелось остаться с моей девочкой наедине. Вспомнив, что оставил на кровати матери свою кепку, поспешил назад за ней, оставив Элю в больничном дворе. Когда открыл двери палаты, предо мной возникла такая картина: Аристарх стоял на одном колене перед кроватью матери и просил ее руки и сердца. Глубоким грудным голосом он просил:
— Элен, станьте моей женой. Я не мыслю жизни без вас!
— Да когда же я Вам буду женой, если жизни уже не осталось, — грустно отвечала мать.
Осторожно закрыв дверь палаты с другой стороны, я побежал догонять Элю.
Если уж весной трава прорастет через асфальт, могли ли мы на заре юности думать о ком–то другом, как не о нас самих, о наших чувствах.
Придя домой и набросив на дверь крючок, мы стоя целовались. Потом я отнес ее на кровать. Расстегнув кофточку до пояса, с восхищением рассматривал ее небольшие грудки. И уже не мог не притронуться к ним губами. Меня тянуло все ниже и ниже к животику. Но Эля остановила меня, сказав:
— Дальше нельзя.
И мои губы снова и снова возвращались к ее груди, шее, плечам, к щекам–персикам. И это мне не надоедало, что было для меня удивительным открытием.
— На сегодня все, — скомандовала Эля.
— Как все? — обиделся я, — Разве тебе плохо, когда я тебя целую? Ты жадничаешь? Имея все эти прелести. Ты просто зазнаешься.
— Нет. Я растягиваю удовольствие. Завтра нам тоже захочется этого, — и пошла к себе.
В этот вечер уснуть мне не удалось. Пришли Колька с Витькой.
— Где ты был? Мы искали тебя. Тебе что, денег не нужно?
— Мать его в больницу увезли, — ответил за меня Колька.
— Но не до ночи же он там был, — проворчал Витька. — Слушай, нам твой сарай нужен. Погреб выкопаем там, склад устроим. Дома у меня уже опасно. Чуть что, и придут с обыском. Я уже сидел в тюрьме. А тут никто не догадается. Завтра ночью приведу ребят, работать начнем. Там у тебя много угля?
— Но если у входа копать, а потом углем присыпать, а остальное место занято, — ответил я.
— Значит, завтра ночью стукну в окошко, а ты откроешь нам сарай. А, может, сейчас ключ отдашь?
У меня был еще один, материн, и я его отдал, не имея еще никаких посторонних мыслей, кроме как об Эле.
— Тогда до завтра. Намечается большое дело. Все будем богатыми, — пообещал Витька.
— Когда? — спросил Колька.
— Дело готовить надо. Это вам не часики и не костюмчик снять. Здесь нужны долгие шуры–муры. Вам, соплякам, этого не понять еще.
Они ушли, я остался недоволен собой. Почему у меня все награбленное прятать? Нужно было возразить. Но Витька взрослый и, все равно, решил бы по–своему. Вот паук! Затягивает в паутину. А мне уже не хочется принимать в этом участие. Лучше бы мы с Колькой вдвоем срывали сумочки. Что делать? Витька настоит на своем. А наши с Элей деньги нужно где–нибудь у нее в комнате спрятать. А заодно и медальон. Витька не знает меры. Если его поймают на краже, он нас всех сдаст. А еще он жадный. Заберет спрятанное, сарай сожжет и свалит от нас.
И я решил быть на стороже. На всякий случай проверил комнату Эли и нашел место на дне тумбочки, где прятать наши денежные запасы и медальон.
Погреб в сарае Витька вырыл. Повесил новый замок на крышке погребка и на сарай тоже. Один ключ отдал мне, другой оставил себе. Это значило, что я могу и не узнать, когда он появится в сарае. Ясно, это будет глубокой ночью или на рассвете. Но когда?
На следующий день внимательно осмотрев сарай, увидел толстый моток тонкой медной проволоки и подумал, что нужно соорудить сигнализацию. Тотчас прибил гвоздь к внутренней стороне двери, привязал проволоку, оставив дверь открытой, и потянул проволоку к балке, на которой держалась крыша нашей землянки. Оставил моток проволоки на земле, принес из дома катушку от ниток, вдел в нее гвоздь, провел по ней проволоку и под козырьком ввел ее в форточку. Теперь нужно сходить на свалку, найти жестяную банку, продырявить ее и привязать к ней какую–нибудь гайку.
Еще до темноты нехитрая сигнализация была готова. Я попросил Элю принести из сарая деньги. Как только она потянула на себя дверь сарая, «колокольчик» из жестяной банки и гайки в комнате загремел. А когда Эля закрыла дверь, банка снова загремела. Теперь можно было спать спокойно.
На следующий день Колька пришел за мной и позвал на «сбор». К нашему удивлению, Витька приготовил нам деньги в конвертах и сказал:
— Все, шкеты. Я завязываю. Забудьте про меня. Женюсь, буду честно жить.
Витька ушел, а я спросил у Кольки:
— Для чего он дал нам такие деньги?
Колька ответил:
— Зачем мы ему теперь? Он женится на заведующей отделом ювелирного магазина. У него теперь золотая жизнь начнется. Но я не брошу свое дело. А пока с этими деньгами хорошо пожить можно.
Сказав Кольке, что хочу спать, выпроводив его, стал размышлять. Ювелирный собирается обчистить, а у меня, у «честного» хранить это до поры, до времени. Ха–ха! Посмотрим кто умней. Бросил бы все это, но нет никакой возможности заработать деньги другим путем. Как бы было хорошо прийти с работы усталым, а дома меня бы ждали мама и Эля.
В этот вечер у меня состоялся с Элей откровенный разговор. Я признался, чем занимаюсь, какой опасности подвергаюсь.
Эля заплакала:
— Как я буду одна без тебя? А если тебя посадят в тюрьму?
— Не волнуйся ты так, постараюсь быть осторожным. Ты меня не правильно поняла. Мы поженимся. Станешь моей женой, но тайной. Не хочу, чтобы милиция знала о тебе.
— А мама твоя? Она согласится на нашу женитьбу?
— Мама выздоровеет, и мы скажем ей.
— А когда мы поженимся?
— Когда стану богатым.
— Это долго будет, — грустно отозвалась Эля.
— Может не долго. Не думай об этом. Завтра встретимся в овраге и снова пойдем на Летовку, к нашим скалам.
Мы вместе легли на ее кровать и стали мечтать, как будем жить. И потом, обнявшись, крепко уснули.
Прошел месяц. Витька в сарай не наведывался. А солнце грело все сильней, но мама никак не выздоравливала. Я совсем забросил школу, хотел все время быть с Элей. Часто навещал мать, сидел с ней на скамейке и, чтоб отвлечь ее от болезни, рассказывал о своем детстве, о матушке, о жизни в поместье. И обещал ей:
— Когда выздоровеете, увезу Вас, мама, на юг. Там заведующая санаторием. Она считает меня, вроде, как за сына и примет на работу, а учиться буду в вечерней школе. Мама, на юге море и вы совсем выздоровеете. — Но не понимал и сам, каким образом мне удастся это предприятие.
Мама только держала мою руку, и рука ее была такая слабая и худая, что мне хотелось плакать от бессилия. И все потому, что у нас все отняли, а я еще не взрослый, у меня нет никаких прав.
— Как жить собираешься, сынок? — грустно спросила однажды мать, а я, вспомнив советы Ивана Ивановича, уверенно ответил:
— Получу высшее образование и стану богатым, в партию вступлю, пост большой будет у меня.
— Гошенька, ты так уверенно ответил, что я тебе поверила. У тебя все получится. Только девочку эту, Элю, ведь ты ее любишь, не оставляй однц. У нее золотое сердце. Я бы спокойно оставила этот мир, если бы знала, что вы когда–нибудь поженитесь и ты будешь с ней счастлив.
— Мама, обещаю сделать так, как Вы мне советуете, — ответил ей я и потихонечку повел ее в палату, куда уже в белом халате мне на смену входил Аристарх.
Лида стала нам с Элей помехой. Теперь она ночевала дома, а нам ничего не оставалось, как встречаться днем за угольным сараем, убегать на Холодное озеро или на Летовку. Возвращались как всегда порознь. Но даже в разлуке моя любовь всегда была со мной. Мне казалось, я слышу, как она за стеной тихо дышит, и радость поселялась в моем сердце.
Однажды в воскресенье, на рассвете, «зазвонила» моя сигнализация. Бывало, что кто–нибудь пытался украсть у кого–нибудь из сарая уголь или дрова. Но я почему–то сразу решил, что это Витька открывает сарай и уснуть уже не мог.
— Интересно, что он там спрятал? — спрашивал я себя, и как только окончательно рассвело, взял угольное ведро, спички и пошел в сарай. Ломом сбил замок с двери сарая, потом с его погребка, чтобы он не на меня подумал. Мне же он дал ключ. Открыв крышку погребка, зажег лучину и посветил во внутрь и обнаружил старый рыжий портфель, перевязанный ремнями. С трудом, развязав ремни, открыл его. Как мне и думалось, в нем были ювелирные изделия. Завтра откроется магазин и начнут искать вора. Найдут Витьку, а он признается, где прячет, т. е. у меня. Нет уж, — решил я, — у меня уже есть опыт закапывания вещей. Нужно перепрятать. А куда? Где не догадаются искать? На берегу Холодного озера. Пришел ответ. Не задумываясь больше, прикрыл крышку погребка, взял штык лопаты, портфель, и затворил дверь сарая, оглянулся, нигде, никого и направился к Холодному озеру. Прежде, чем спуститься в его кратер снова оглядел прилегающую местность. Похоже, люди в воскресенье высыпались. Выбрав ориентир от валуна, с этого берега до противоположного, выкопал в твердом грунте яму до 80-ти сантиметров и, прежде, чем спрятать портфель, открыл его. Меня не интересовало все то, что там блестело, сверкало. Было ясно, мы с Элей теперь богаты. И судя по тяжести, там было не менее семи килограммов. Очень хотелось что–нибудь подарить моей девочке, но я понимал, делать этого никак нельзя. Закопав портфель, притоптал грунт, излишки грунта разбросал, и место клада присыпал песком, и даже сходил к озеру, и несколько раз принес в ладонях воду, побрызгал, чтобы скорей проросла там хоть какая–нибудь растительность. А лопату спрятал на противоположном берегу озера напротив закопанного клада и насыпал над ней горку гравия для приметы. Ступая по холмам, спустился к оврагам совсем с другой стороны.
Теперь нужно было вернуться к сараю и затем в дом, чтобы убрать следы сигнализации. Справился с этим я довольно быстро. На всякий случай выбросил наружный замок. Вернулся в дом и услышал, как Лида протопала на каблуках к нашей общей наружной двери. Вот только не знал, ушла Эля в школу или нет. Оказалось, ушла. Наверное, Лида проследила за этим. Я пошел в магазин, купил молока, булочек и пошел на утреннее свидание к матери.
Никогда не думал, что нечаянно свалившееся на человека богатство, может так преобразить его. Конечно, я не мог им воспользоваться, но сознание, что ты богат, придает уверенность. Думать, что будет, если Витька сам захочет перепрятать награбленное, или попытается проверить, на месте ли оно, мне не хотелось. В конце концов не станет он меня трогать. Витька вор, а не убийца. Да и другие из нашей шайки знали, что он погреб в моем сарае выкопал. Но тревога за себя не отпускала меня.
Мать заметила мое возбуждение и спросила:
— Что–нибудь случилось, Гошенька?
Я отвечал:
— Маменька, случилось. Расскажу, когда вас выпишут домой. Случилось хорошее. Это про меня и Элю. — Поменял тему разговора, — завтра Эля приготовит тебе вареники. Ты с чем больше любишь — с картошкой или с творогом?
— Ой, Гошенька, здесь хорошо кормят. Кушайте сами. Вы растете, вам силы нужны. Иди домой, малыш, я спать хочу, а завтра расскажешь мне про свое «хорошее».
Вернувшись домой, я лег на кровать. Жадно прислушивался к звукам в коридоре, не возвращается ли Эля со школы. Мне хотелось сообщить ей, что мы теперь богаты и можем пожениться. Но не дождался и задремал. Очнулся от легкого стука. Вскочил, распахнул дверь. За ней стояла моя девочка.
— Мне скучно, — пожаловалась она.
Схватив ее за руку, втащил в комнату, накинул крючок на дверь и торжественно объявил:
— Сегодня мы с тобой поженимся на Летовке. Надень самый лучший сарафан, заплети лучшие ленты в косы и пойдем. Только сначала пообедай, а я буду тебя ждать, как всегда, в овраге.
Мое праздничное настроение передалось и Эле.
Мы шли, держась крепко за руки. Снова пили воду степного колодца из ладоней друг друга и плескались. Я заметил, зубки Эли за зиму выровнялись и, когда она смеялась, сверкала ими сразу обоими рядами.
От колодца мы пошли далее лощиной между двумя холмами, где трава была высока и еще очень свежа. Шли и молчали. Остановились на поляне из разноцветных цветов. Я предложил:
— Давай снимем с себя все и останемся просто нагишом. Кого нам стесняться? Здесь никого, кроме птиц, нет.
— Давай, — согласилась Эля. И, смущаясь, сняла сарафанчик, прикрыв грудки обеими руками.
Я тоже скинул с себя рубашку, подошел к ней и мы легли на влажную мягкую траву, разделись донага и предались любовным играм. Только теперь она была вся моя и сняла запрет с того, что находилось в промежности, наслаждаясь моими ласками. Потом Эля приняла меня в себя и, мы оба удивились тому, что с нами происходит, и откуда мы знаем, что все должно быть именно так, а не по–другому. Нам ведь никто об этом не рассказывал. Мы долго еще лежали обнаженные в обнимку. Она так и запомнилась мне на фоне изумрудной травы. Теперь мы стали с ней едины, телом и душой.
Мне хотелось признаться Эле в том, что у нас много золота, но, вспомнив слова Ивана Ивановича «не впутывай Элю», я прикусил язык.
Прижавшись ко мне, она спросила
— Мы не будем жить вместе?
— Не будем в одной комнате, пока. Потерпи, я всегда с тобой. Завтра мы скажем моей маме.
— А Лиде признаемся?
— Нет, нельзя. Пусть только мы вдвоем и мама моя знает.
Вечером мы с Элей вывели маму в дальний угол сада, посадили на скамью, и я попросил ее:
— Мама, это то хорошее, что я хотел тебе сказать. мы вчера поженились. Я люблю Элю.
— Мы любим друг друга! — с жаром поддержала меня Эля.
— Как поженились? — изумилась мать, но тут же справилась с собой, — Даже не знаю, что сказать. Вы еще так юны, почти дети… Ну, раз уж вы поставили меня перед фактом, будьте счастливы. Мне очень хотелось, чтобы вы когда–нибудь поженились, но так рано…
Эля с жаром ответила:
— Я так рада, что у меня теперь есть мама, это Вы, тетя Лена, теперь я вам буду дочкой. Вот увидите, мы с Гошей будем хорошо жить и вы с нами. Гоша увезет нас на юг. Там персики зреют. Правда, Гоша?
У мамы на глазах появились слезы, но мне не понятна была их причина. А через несколько дней, в разгар нашего с Элей счастья, мама умерла. Аристарх, Лида и Эля плакали на ее похоронах, я плакать не мог.
ЧАСТЬ III
После похорон матери, к нам с Элей стали наведываться какие–то люди из комиссии по делам несовершеннолетних, решать наши судьбы. А еще через неделю арестовали Витьку. Ему пригрозили расстрелом за похищение ценностей в особо крупных размерах. И он признался, где хранит их. Ничего в моем сарае не нашли, но меня все равно арестовали, слава богу Эля в это время была в школе. Честно глядя в глаза следователю, я признался, что воровал, отдавал Витьке наворованное, а он мне за это платил деньги. Но о драгоценностях ничего не знаю. Он поменял замок на сарае, отдал мне только ключ от двери, а о погребке я ничего не знал. Однажды пошел в сарай, увидел выдранный замок, но уголь и дрова не украли. Витька не поручал мне охранять погребок и то, что он там спрятал.
Два следователя шептались между собой, но я все–таки расслышал, что про меня говорят.
Один:
— Нужно его сажать за групповые грабежи.
Другой:
— Ты посмотри на его смазливую рожицу. Он врет как взрослый рецидивист.
— Да брось ты, скажешь еще на пацана — рецидивист. Можно же проверить это.
Шепот стал тише.
На скамье подсудимых оказалась вся наша шайка–лейка. Из малолеток — только мы с Колькой. Кольке присудили три года, мне — пятнадцать лет, как соучастнику ограбления ювелирного магазина. И не снизили срок, хотя адвокат доказывал мою невиновность. Витька получил «вышку».
Как ни странно, но в детской колонии меня никто не бил, как я ожидал. И даже наоборот, со мной сдружились трое взрослых ребят. Они говорили, им по восемнадцать, но казалось, что они старше. Сначала по одному, потом все трое стали уговаривать меня бежать. Я почти согласился. Но мой ровесник Борька перед сном шепнул мне:
— Это подсадные утки, милиционеры. Я слышал, ты им скажешь, где золото, и тебя здесь снова запрут, а все себе возьмут. У тебя правда золото есть?
— Откуда, — искренне удивился я.
— Убежать и так можно. Только стриженых сразу ловят на воле. Вот если бы где–нибудь отсидеться. А если в поселке, к моей бабуле? Привет передашь. Скажешь, меня выпускают скоро, нужно одежду гражданскую и свидетельство о рождении. Кепку не забудь. Сегодня я тебе помогу, а завтра ты мне. Свидетельство вернешь, когда сможешь. Адрес запоминай.
И мальчишка подробно рассказал, как добраться до поселка и научил меня, как сбежать из детской колонии:
— Начальство ворует кирпич для себя, и складывает его в специальном длинном ящике под брюхом грузовика. Но не всегда. Ты время выбери, чтобы спрятаться туда. Они же тебя нарочно посылают то белье, то матрацы, то доски на грузовик складывать. Сделай вид, что залез в кузов, что–нибудь поправить. А сам аккуратно сползи с другой стороны и под брюхо.
Я поблагодарил Борьку и пообещал не забыть его. Но отблагодарить по настоящему смог только 20 лет спустя и то инкогнито.
Побег удался. Перемещался на телегах по проселочным дорогам, ночью. Хотя придраться, вроде, ко мне нельзя было, свидетельство о рождении на руках и кепка на ушах. Еду, якобы, в Украину родных искать, а сам в сторону Кисловодска. До своей усадьбы добрался только через два месяца, как раз к листопаду. Часовой у ворот санатория, мне не знакомый, прикрикнул на меня:
— Ну–ка, брысь отсюда, шпаненок.
Пришлось соврать:
— Моя мать — Пелагея Степановна. Кликните кого–нибудь позвать ее.
Старая кавалеристка мне очень обрадовалась. Сказал ей, что мать умерла, и я вернулся к ней, больше не к кому. Она была этим очень польщена:
— Гриша возвращайся в школу, а после школы и парк будешь убирать. Зарплату платить будем. На довольствие я тебя поставлю, кормиться в нашей столовой станешь, а школьную одежду и обувь тебе куплю. Жить будешь там же, во флигеле, дворника–пьяницу уволю.
Так я снова оказался в родном поместье и, сдав осенью экзамен за седьмой класс, пошел в восьмой своей старой школы, не как Гоша Кузнецов, а по своей фамилии — Григорий Томилин. И как когда–то матушка, начинал уборку парка с могилы моих родных стариков.
Конечно, некоторое время боялся за свою судьбу. Но за зиму вырос сразу на двенадцать сантиметров, а к весне сам себя не узнал. И странно было мне, столько уже повидавшему и пережившему, ходить в школу и видеть беспечные лица своих ровесников.
Девчонки липли ко мне во всю уже, когда я, рослый и широкоплечий, пришел в девятый класс. Разглядывая их, искал хоть что–то похожее на черты Эли, по которой жутко скучал и однажды даже плакал, потому что жалел ее. Как она там без меня? Деньги у нее давно кончились, а Лида ненадежная. Может, определили ее в какое–нибудь училище. Еще я ругал себя за то, что не узнал ее фамилии. Не могла же она быть на фамилии дедушки. Куда написать ей? Где теперь найти ее?
Школу я закончил с золотой медалью. Пелагея Степановна непременно хотела определить меня в военное училище. Меня же тянуло на исторический факультет, в археологию. Поехав в Москву, поступил в университет. Но после второго курса не выдержал, бросил все, вернулся в Караагач искать Элю. И могилу матери хотелось навестить. Хотя знал, там–то меня и караулят, чтобы сцапать.
Наших бараков и в помине не было. Решив остаться в этом городке, устроился шахтером на шахту, получил место в общежитии и перевелся на заочное отделение местного политехнического института, сразу на третий курс. Но следов Эли или Лиды и даже Аристарха мне отыскать долго не удавалось. Однако, надежды я не терял. Если Эля в городе, то обязательно будет ухаживать за могилой своего деда и моей матери. Как водится, это происходит в пасхальные дни. В один из таких дней я кружил вокруг могилы матери, боясь подойти ближе. Еще издали увидел, что у ограды могилы Ивана Ивановича кто–то стоит, и не сразу узнал Аристарха. Голова его была совсем седа.
Я обрадовался. Может он знает фамилию дочери Ивана Ивановича, которую должна была носить Эля. И означает ли имя Эля уменьшительное от Элеонора.
Мне оставалось ждать Аристарха у выхода из кладбища. Он не обратил на меня внимания и пошел прочь, занятый своими мыслями. Обгоняя его, я тихо поздоровался с ним. И, назвав себя, попросил:
— Не могли бы вы пойти следом за мной? И медленно пошел впереди него в сторону новостроек. Когда пришли на безлюдную строительную площадку, я повернулся к нему лицом, шагнул ему навстречу и, обняв его, сказал:
— Счастлив, что видеть Вас. Засек вас у могилы Ивана Ивановича, но подойти не посмел.
Старый мичман, не потерял самообладания, и как будто мы расстались только вчера, ответил:
— И за могилой вашей матери тоже ухаживал.
Оглядел меня с ног до головы, и только тогда радость изобразилась на его лице:
— Здравствуйте, Григорий. А Вас здесь искали, и у меня тоже. Чем Вы властям так насолили, и как Вам удалось сбежать, ума не приложу? И как я рад видеть Вас снова и слышать, мой юный друг!
— Мне пятнадцать лет присудили. Когда нибудь расскажу за что, не сейчас. Сбежал я из детской колонии к себе в поместье, в нынешний санаторий. Вернулся в прежнюю школу, где числился Томилиным. А теперь сюда переехал, чтобы отыскать внучку покойного Ивана Ивановича. А как вы поживаете, как здоровье?
Но Аристарх все еще пораженный неожиданным моим появлением, разглядывая меня, радовался:
— Жив, ушел от врага! Ну, хоть одна родная душа. Ах, как вы прекрасны в своей юности! Сколько же лет мы не виделись?
— Пять лет. Как вы думаете, во мне можно узнать того мальчишку?
— Нет, конечно, нет…
Я не выдержал, и в нетерпении перебил его:
— Вы не знаете, где живет Эля, внучка Ивана Ивановича?
— Нет. Забежала на минутку тогда, когда Лида ее увозила. Она боялась, что девочку в твои дела замешают. Эля сказала, вернется назад, когда Гоша, то есть вы, молодой человек, освободитесь из заключения. После ее отъезда прошел слушок, что вы сбежали. Вас тут несколько лет искали. Даже меня милиция навестила. И, — Аристарх снова с удовольствием оглядел меня с ног до головы, — Вас, Григорий, теперь ни одна собака не узнает. А как уж я рад! Где вы остановились?
Я рассказал, что живу в шахтерском общежитии и буду учиться заочно в Политехническом институте. У нас обоих сложилось такое ощущение, что мы близкие по крови люди. Я дал себе слово заботиться о нем. А чтобы мне его навещать и соседи не доставали бы его с расспросами, попросил его пустить слух, что к нему едет внук его знакомого, учиться будет в этом городе. Взяв у него адрес его нового места жительства и распрощавшись с ним, пообещал навещать его, по возможности, чаще. Глаза старика светились такой радостью, таким счастьем, что мне подумалось: «И всего–то ему надо знать, что он не одинок».
Конечно же, я побывал на Холодном озере. Но раскапывать свой клад не тянуло. Мне это не нужно, если рядом нет моей девочки. Даже черты ее лица стали потихоньку стираться.
Аристарх жил в однокомнатной квартире пятиэтажного шлакоблочного дома. Мебель у него была совсем старенькая, если это можно было назвать мебелью. Зато самодельные полки ломились от книг. Между ними я обнаружил странные знаки. Аристарх объяснил:
— Это руны. Вы знакомы с религией «Ведизм»?
В свои 19 лет я вообще был далек от всякой религии. Аристарх это понял и, вскипятив чай, он поставил на стол корзиночку с бубликами, пригласил меня к столу и сказал:
— По моему цветущему виду понятно, что у Вас все хорошо.
Я же, в свою очередь, рассказал, как устроился в институт, в общежитие и на работу в шахте. Аристарху недавно исполнилось 63 года. Для меня он был старым человеком. Он еще работал бухгалтером в строительном управлении. Нужно было пенсию зарабатывать. А в бухгалтерии я ничего не смыслил. И заговорил снова о наболевшей теме, об Эле. Не предполагает ли он, где можно ее найти. И признался Аристарху, что она мне жена. Аристарха это немало удивило.
— Вы же были пять лет назад детьми, — сказал он.
Я возразил:
— Мы были юными. Нам тогда уже по четырнадцать лет исполнилось. Моей матери мы признались. Но где теперь искать Элю, не знаю. Близко к могиле ее деда и моей матери я не подходил, но видел, что они ухожены. Теперь знаю, это вы, Аристарх Андреевич, ухаживали за ними. Вот мне и кажется, что я потерял Элю навсегда. Фамилию ее не знаю, и фамилию ее мачехи Лиды тоже. Они с ее дедом были незарегистрированы, так?
— Так, так. И я вам в этом деле помочь ничем не могу. В школу она ходила и писалась на фамилии деда… Да и имя Эля, скорее ласкательное. Не повезло вам, Григорий. Кажется, вы ее действительно потеряли. Что касается ее деда, профессора математики, то он меня моложе лет на десять и влюблен он был в Вашу маму. А я, признаться, до сих пор ее люблю. Как в песне поется «Ты любовь моя последняя, боль моя». Но мне больше повезло. Иван Иванович ушел из жизни раньше, а Элен умирала на моих руках. И счастье для меня уже даже посещать ее могилу. У меня и снимок есть, где она гуляет в больничном дворе. Покажу его Вам. Но извините, Григорий, это моя память и, я снимок Вам не отдам.
Аристарх нашел свой альбом с вырезками, и я увидел маму, живую, молодую, такую хрупкую, что у меня снова защемило сердце. Перевернув карточку, с тыльной стороны нашел четверостишие:
Ты давно в галактике иной, Но тепло еще идет от твоего портрета. Зачем ты улетела не со мной В потоке солнечного ветра?— Какие хорошие строчки, — заметил я и ясно вспомнил, как Аристарх стоял на одном колене у кровати в больничной палате.
Забирая карточку, Аристарх ответил:
— Что–то вроде японских танков, где не так важна рифма, как смысл. Вы, Григорий, еще встретите свою половину и поймете, что любовь — единственный идол, которому стоит поклоняться. И еще я верю в реанкарнацию. Никакого рая и ада по моему разумению нет. Душа человека сама по себе бессмертна. Мне верится, что Ваша мама превратилась в птицу или прекрасный цветок. Это я снова о Ведизме. Эта религия от слова «ведать», знать.
Наружная дверь открылась и безо всякого разрешения вошел человек средних лет с портфелем и радостно обратился к Аристарху:
— Услышал разговор о религии, а я как раз провел первую лекцию по аттеизму на швейной фабрике. После лекции их бухгалтерия сразу заплатила мне тридцать шесть рублей, а в школе за весь месяц семьдесят платят. — Посмотрел на меня и снова Аристарху:
— Извини, у тебя гость, не помешаю.
— Нет, присаживайся, Володя, тоже гостем будешь, — показал Аристарх на стул.
— А Вы кто же будете? — пристально вглядываясь в мое лицо, спросил незванный гость, — что–то я Ваше лицо не припоминаю.
Мне не понравилась бесцеремонность этого Володи. Пока я обдумывал ответ и выдерживал паузу, Аристарх сказал:
— Молодой человек — шахтер.
— А–а–а, то–то вижу у него черную пыль под ресницами. Не отмывается? А Вам это даже идет. Как Вас по имени кличут?
— Меня зовут, а не кличут. — ответил и поднялся, чтобы уйти.
Володя тут же воскликнул:
— Куда же Вы?
И Аристарх тоже задержал мою руку:
— Григорий посидите, послушайте Володю. — и едва заметно улыбнулся. А тот, как дотошный журналист продолжал:
— Понимаете, мне очень нужно знать, о чем может думать в наше время молодой рабочий. — и он, облокатившись на стол, подперев рукой подбородок, уставившись на меня, ждал ответа.
Ответов у меня было вариантов десять не меньше. Я остановился на одном из них и беспечно сказал:
— Ну, во–первых, думаю о женщине, во–вторых, о женщине, и в-третьих, и в-четвертых и т. д.
Разочарованно покачав головой, Володя посоветовал:
— Вам учиться нужно, молодой человек. Слишком узко мыслите.
— Не хочется,
— А я преподаю историю в школе. И райком партии поручил мне проводить лекции по аттеизму на предприятиях и к вам на шахту обязательно приду.
Больше Володя, не обращая на меня внимания, говорил только Аристарху:
— На этой швейной фабрике человек двадцать верующих. Вот их–то на лекцию и пригласили. Да еще беспартийных — несознательных. Я принес с собой Библию и, показав её собравшимся, начал с заранее заготовленной лекции: «Вот, откроем ее и посмотрим на миф о происхождении человека от Адама и Евы. Они родили двух сыновей — Каина и Авеля. Никаких дочерей у них не было. Никаких женщин и вообще каких–либо других людей. Каин убил Авеля. На земле остались трое (Адам, Ева и Каин). И Бог сослал Каина на землю, на востоток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Енохам (бытие 4: 16, 17).
Откуда жена у Каина появилась? На ком он женился, на козе что ли? У Еноха родился Ирод. Ирод родил Мехиаеля и т. д. От кого они все рожали? Сами от себя, что ли? Полный абсурд. — В зале стоял такой хохот, Вы бы только слышали. Когда смех утих, я продолжал:» У моего поколения факт создания целого мира из ничего никаких особых эмоций не вызывал. Ну, создан и создан. А вот то, что человек может лгать, завидовать, воровать, насиловать, убивать, а потом кто–то его спасет — вот что поражает и восхищает. Этот бред христианского спасения на самом деле очень грамотный и тонкий психологический фокус. Он рассчитан не на сознание человека, а на подсознание, на его эмоции. На мозг верующего действует психологический шок, и мозги верующего переключаются с анализа на бурные, положительные эмоции, от этого «удивительного спасения». Правое полушарие головного мозга, отвечающее за эмоции, отключает работу левого полушария головного мозга, отвечающего за логическое мышление. И логическое мышление верующего, в будущем, будет всегда переключаться на эмоции. В качестве главной отрицательной эмоции, с помощью которой любая религия программирует личность, используется страх. И страх она культивирует и раздувает до небес. И верующий становится умственно парализованным человеком.»
— В зале снова шум. Слышались выкрики в адрес верующих, которые сидели, прикрыв руками уши: «Эй, вы, парализованные!». Но я установил тишину и продолжал:
— В христианстве присутствует одна поражающая своей беспринципностью идея — идея снятия ответственности через исповедь и покаяние. То есть приходит дядя в церковь, он кого–то убил, кого–то изнасиловал и ограбил десятки людей. А вот исповедался, покаялся, дал святой церкви денег (что самое главное) — и грехи с него снимают. А как же, много натворил, но ведь вернулся блудный сын в лоно «святой» церкви, душу очистил. «Отпускается тебе, раб божий, твои преступления, иди с Богом, иди милый, иди родной, грабь, убивай дальше, как наворуешь побольше, снова приходи, денег только не забудь принести на богоугодные дела». Удивительное лицемерие. Но очень прибыльное.
Христианин не может быть ни веселым, ни счастливым, тем более гордым. Христианин должен быть смиренным и терпеливым. «Ударили по одной щеке, подставь другую. Терпи, убогий человечишка, ты же тлен, ничтожество И задача Советской власти — просвещение народа. Правда, на заре возникновения христианства, оно подвергалось гонениям со стороны римских императоров. Но верующих в Христа становилось все больше и больше. Император Троян послал Плиния, чтобы тот изучил это течение. И вот Плиний пишет Трояну: «Я не обнаружил в жизни христиан ничего преступного, только безмерное уродливое суеверие. Зараза этого суеверия прошла не только по городам, но и по деревням и поместьям». Но, как только христианство окрепло, оно само создает атмосферу массового психоза, в которой люди начинают говорить о других и о самих себе невероятные, безумные вещи, и борются со скрытыми тайными врагами. Безумие, которое царствовало в застенках Инквизиции среди жертв и палачей, распространилось по городам. Все казалось возможным: исчезла граница между явью и бредом. Открыли заговор двенадцати тысяч ведьм и колдунов….
К нашей с Аристархом радости, Володя остановил свою разоблачительную речь, вспомнив, что жена наказала ему купить продуктов. И, как зашел не поздоровавшись, так и вышел за двери не попрощавшись. Аристарх посмотрел ему в след и тихо сказал:
— Последние строчки для своей лекции он выкрал из книги Мережковского «Леонардо да Винчи», которую взял у меня почитать и до сих пор не вернул. Можно подумать, Советская власть принесла народам России меньше зла, чем Инквизиция. И, в конце–концов, отнимать у верующих надежду на спасение, все равно, что отобрать у ребенка веру в Санта — Клауса, то бишь в нашего Деда Мороза. К тому же, этого Володю видели выходящим из дверей здания НКВД, и довольно веселым. Он вероятно их секретный агент, отнёс очередной донос. Хорошо, что вы молчали. Этот Володя очень опасный для меня сосед. Думаю его ко мне подселили, как соглядатая. Так что, Григорий, назначат нам встречи придется в другом месте.
Мне выдали первую шахтерскую зарплату, немалую, а у Аристарха дома ничего, кроме бубликов. По–видимому он предпочитал, в отличии от меня, духовную пищу. И когда я предложил ему составить мне компанию и пойти со мной в ресторан, лицо его выразило радость.
— У вас есть деньги, Григорий? С удовольствием приму Ваше предложение. Но может, в ресторане Вы познакомитесь с хорошенькой мисс..
Я успокоил Аристарха:
— У меня Эля есть. Начну ее искать. И никакая другая мисс мне не нужна.
— А вот это другой разговор. Только не записывайтесь в бобыли. Живите полной жизнью. А когда сможете с легкостью, ради Эли, оставить свою очередную пассию, значит ваше чувство к ней настоящее. Мужчина обязан пройти мужские университеты… Конечно, моя молодость прошла в другом, романтическом времени…. И одежды мы носили достойные…. И знаете, Григорий, молодые люди моего времени четко знали на каких мужчин им равняться — брать пример — и каких женщин любить…
По дороге к ресторану я задал ему вопрос, который давно вертелся у меня на языке:
— Аристарх Андреевич, если Вам удалось целым и невредимым выбраться из Советского Союза, зачем же Вы вернулись, не боитесь?
— Я уже не молодой, а здесь вроде бы потеплело. Вы же знаете, в Харбине все осложнилось… Выбор был небольшой: Канада, Австралия и Советский Союз. Все начинать сначала можно только в молодости, а здесь хоть и бывшая Россия, но родная речь. Вот встретил ненадолго Ивана Ивановича, маму Вашу. Это счастье, пусть даже краткое. Я пишу мемуары. Издать в наше время вряд ли будет возможно. В них все слишком откровенно.
Аристарх был моим единственным убежищем. Ему я мог доверить любую тайну, поделиться сомнениями, радостью переживаниями. Ему, спустя некоторое время, и рассказал о своем небольшом золотом запасе, хранящемся на склоне «Холодной горы», и о робких наметках, с помощью взяток из этого запаса достичь высот власти, чтобы вернуть свое поместье хотя бы в виде дачи. И он меня поддержал, но предупредил, чем выше буду подниматься, тем опасней будет борьба за власть. И он продолжал мне давать уроки:
— Обычно опираются в этом деле на женщину. Пусть она будет замужней и на много старше вас. В нужное время легче ее будет оставить. Опытная женщина из этих самых партийных кругов найдет способ продвинуть Вас наверх.
Что ж, мне, еще не оперившемуся в этой жизни, грех было не слушать своего наставника. Я почувствовал: мы с ним больше, чем родственники по крови, мы родственные души. И он меня любил как сына любимой им когда–то Элен, моей матери.
Через два года руководство шахты меня «заметило» и выдвинуло на комсомольскую работу. Посоветовали подать заявление в партию, пока шахтер. Потому, как служащему мне туда уже не пробиться А без наличия партийного билета не будет служебного роста. Для исполнения задуманного мне необходимо было качество карьериста. Нарабатывая его, поставил себе цель подняться до Центрального комитета партии, до Кремля добраться. А там мог рассчитывать на поддержка знакомых маршалов из санатория и их отпрысков. Отличные характеристики и из московского университета, политехнического института, и от руководства шахты у меня имелись. Конечно же и внешние данные играли в этом деле не малую роль. Но не было еще поддержки со стороны местной партийной структуры. Кто–то должен меня «толкать» наверх. И я внял совету. Аристарха. Закончив институт, и выдержав в рядах комсомольской номенклатуры год кандидатом получил партийный билет. Как и ожидал получил назначение на пост второго секретаря райкома комсомола. И тут началось везенье. Неожиданно встала со своего места Саломатина Инна Васильевна и предложила назначить меня своим заместителем Цель этого назначения и ее мотив лежали на поверхности. Естественно проголосовали единогласно. Папаша ее был, пока еще, большой партийный босс. Я говорю «пока ещё» потому, что остаться без должности любому ничего не стоило. Драка за партийные места шла с времен так называемой «Революции»
Инна Васильевна вызвала меня к себе в первый же мой рабочий день. Оставшись наедине, предложила нам с ней перейти на «ты», мол в неслужебное время она только Инна. Меня же, естественно, будет называть Гришей. Новую мою должность она предложила обмыть у нее дома, так как я все еще проживал в общежитии, хотя в отдельной комнате. Мне, вроде как, предложили деловой разговор перенести в дом начальства.
— Муж всегда в командировке, такая уж у него работа, — объяснила она, — а детей, слава Богу, нет!
И спросила:
— Григорий, а почему ты не женишься?
— Так мне только двадцать два — ответил я, — и детей ни когда не захочу иметь.
— Только двадцать два?! — А выглядишь ты Гриша лет на двадцать пять, солидный мужчина, — думая что делает мне комплимент, а на самом деле желая приблизить мой возраст к своему. Она точно была старше меня лет на десять. Но у женщины ведь нет возраста…
Я действительно не хотел иметь детей из — за войн. переворотов, болезней Зная о страданиях, какие выпали на долю моих родителей, деда и бабки и свои собственные. Зачем? Чтобы по вине дурной власти совершать преступления и отбывать наказание в детской колонии — увольте. Обойдусь без умилений над видом нарядного розового существа. Подумал я. Конечно же, Инна не знала о моих мыслях услышав от меня короткое: «Я тоже не хочу детей» уцепилась за сходное с ней желание.
— У нас много общего, — обрадовалась он и выставила на стол бутылку пшеничной водки и закуску к ней. Она пила наравне со мной и быстро пьянела. Сначала хвасталась должностью отца, его возможностями. Потом нарисовала мне перспективу роста, если буду с ней «дружить». После стала жаловаться на мужа, с которым, к сожалению, она, как член партии, не может развестись. И, наконец, перешла на мою личность, восхваляя меня. Из чего мне стало понятно, я состою в ее глазах из одних достоинств. Уже вечер плавно перешел за полночь, а мы «прикончили», с ее слов, еще и бутылку коньяка.
— Гриша, тебе от меня сегодня не уйти, оставайся, — смеялась она, опьяневшая, и я даже не заметил, как она сменила платье на кофту с глубоким декольте и короткую юбку.
От ее предложения остаться до утра отказываться не хотелось. Опьянев и забыв обо всем на свете, я занялся с ней любовью, и это продолжалось до утра. Поняв, что в этом деле я новичок, Инна обучала меня с бесстыдством умелой, пьяной женщины. Не скажу, что это мне не нравилось. Ближе к утру она призналась мне, что это она не может иметь детей, что подтолкнуло меня на мысль: «Это не плохо».
Одно мне было не понятно. Если любовь с Элей мне не надоедала, и оставляя ее, меня снова и снова тянуло к ней, то от Инны уходил всегда без всякого сожаления, без желания вновь вернуться и тайком заводил романы «на стороне».
Надо сказать, у Инны кругом были глаза и уши. Она каким–то образом выслеживала моих пассий и пресекала наши дальнейшие встречи. Иногда даже был этому рад. Партийная жизнь закружила меня, но периодически я все же делал попытки найти Элю, хотя это ни к чему не приводило. Между тем прошло целых 15 лет со дня нашей разлуки. Мне исполнилось двадцать девять и мои бывшие пассии все более и более преследовали меня, каждая из них хотела, во что бы то ни стало, выйти за меня замуж, женить на себе даже путем шантажа, вплоть до объявления себя беременной от меня, что не могло быть в принципе, так вообще был очень осторожен, не мог иметь никаких детей, тем более лишь быт от кого потомство?
В этом 1973 году я уже работал первым заместителем председателя крупного района, защитил кандидатский минимум. Моя кандидатура выдвигалась на пост председателя горисполкома. То есть по–нынешнему мэром города. Да, небольшого, но города, где был огромный металлургический комбинат. Как номенклатурный работник со своим политехническим образованием, я мог рассчитывать на должность генерального директора этого комбината, а оттуда до министерства рукой подать. И в этом 1973 году, заканчивался мой «срок отсидки», надо полагать, сначала в детской, потом во взрослой колонии, об этом забывать не приходилось. И еще мне вдруг поверилось, что Эля появится на моем горизонте. И еще. Инна мне надоела до чёртиков. Нужно было так же обрести независимость от нее. Она это почувствовала и решила убить во мне веру в собственные силы, как она в свое время сделала это со своим мужем. Стала издеваться над моим умом, над моими взглядами, желая сделать меня посмешищем в собственных глазах, отлично понимая, что я сейчас в ее сетях. А вырваться из них, значит утратить карьеру. Что касается компромата, он был заготовлен у нее на всех и, наверняка, на меня в первую очередь. Одного Инна не понимала, почему, несмотря на все ее усилия, я сохраняю спокойствие, не поддаюсь ее уничтожительному зомбированию. А «ларчик просто открывался», мне и без нее теперь можно было подняться с помощью взяток. На склоне «Холодного озера» все еще лежал портфель с драгоценностями, Чтобы окончательно отделаться от Инны, вступил в заговор с ее мужем Геннадием. Да, он знал о наших отношениях с его женой и, к моему удивлению, был этому рад. И даже жаловался мне:
— Она никогда не любила меня. Замуж ей нужно было выйти, чтобы поднять свой престиж. Другие ее боялись и замуж не брали. Хотя, согласитесь, как у женщины, у нее все на месте, кроме души. Вот это отсутствует. В пору своей молодости, мне казалось, я был человеком незаурядным. Да, не вышел ростом, не красавец. Но тогда я верил в себя. И как я мог быть с ней в постели хорошим любовником, когда боялся ее насмешек и, естественно стал избегать ее постели. Она радуется моим командировкам, чтобы встречаться с вами. Ей и в голову не приходит, что половина командировок надуманные. У меня на стороне хорошая женщина и ребенок. Но как я избавлюсь от моей гремучей змеи?
— Да очень просто, — посоветовал я. — Вы объявляете ей, что отправляетесь в командировку. Она заманивает к себе меня, а вы возвращаетесь со свидетелями, якобы командировка сорвалась. Она не открутится.
— А как же вы? Разве вам не грозит это отрешением от должности?
— Что Вы, я же не женат, мне все простительно, сбегу через окно, а Вы не узнали меня. Так мы оба от нее отделаемся. Вы отомщены и свободны. Я тоже. По рукам?
— По рукам, — согласился Геннадий.
Мы договорились о времени исполнения нашего плана и разошлись. Надо будет напомнить читателям нового поколения, которые уже ничего не знают об ушедшем строе, у заместителя председателя исполкома большого центрального района — была огромная власть, власть над людьми. Поскольку и я, и мне подобные, жили практически, при коммунизме, получая все блага из общего советского котла бесплатно, то каждый из подчиненных мне директоров, боялся меня, боялся потерять свое доходное место. Скажем, если ты заведующий товарной базой, у тебя импортные дефицитные товары, а также ковры, меха и прочее, что простым людям не доступно. Но у тебя нет бесплатных продуктов: мяса и колбас, которые имеются у директора мясокомбината, и нет сладких товаров, которыми самолично распоряжается директор кондитерской фабрики. А сколько еще полезных директоров? «Ты мне, я тебе» — советский негласный лозунг. Все директора еще и депутаты, и члены коммунистической партии, и только потому руководители. А депутаты под «моей рукой». Отбери я депутатский мандат, или намекни партийным органам (а «рыльце у каждого в пушку») — нет депутата, нет руководителя, а вместе с этим уходит из–под ног единоличный коммунизм. Ах, об этом и говорить не хочется. Ну вот, например, распределение квартир во вновь построенном доме, в районе парка у единственного озера в области, не считая Холодного. Мне выделила двухкомнатную квартиру жилищная комиссия нашего района. Я же и председатель этой комиссии, как и других. Я один. Мне положено двухкомнатную. Но платить за новую мебель и ковры не хочется. Значит, директор мебельного магазина оформит мне импортную мебель по бросовой цене, как бракованную «разбитую в дороге» при перевозке, списанную, и бракованные «молью поеденные» ковры. А это значит и я не должен оставаться перед ним в долгу, квартиру в новом доме ему нужно выделить. Утверждаю, коммунизм был в нашей стране. Простые люди не заметили его.
Теперь, когда я вступил в заговор с мужем Инны, Геннадием, появилась надежда освободиться от опостылевшей любовницы, без отрицательных для себя последствий. Мне без нее нужно продержаться всего лишь каких–нибудь шесть месяцев, для того, чтобы утвердили на пост главы города. И в ход должны пойти взятки. Денег я, конечно, не скопил. Но настала пора навестить берег Холодного озера, взять оттуда с килограммчик драгоценных изделий и, «изучив спрос» тех, от кого зависит моя дальнейшая карьера, проигрывать в карты нужные размеры перстней с драгоценными камнями для них самих, их жен, дочерей и любовниц. У многих дочери на выданье, а я — перспективный, завидный жених. Кто–нибудь, прочтя эти строки, может спросить меня: «Зачем же тратить богатство на власть?» Отвечаю: «Власть вернет мне все сторицей, если подняться до того уровня, когда можно получить и свое наследное имение в виде государственной дачи, свою землю там, прислугу, обслуживание. А если стать, например, заместителем министра внешних торговых отношений или там тяжелой и нефтяной промышленности, а еще лучше пробраться в дипломатический корпус, деньги можно вывозить чемоданами за границу. А они в Швейцарском банке обеспечиваются валютой». Я уже в 1973 году предвидел развал СССР. Аппетиты партийно–советской верхушки все возрастали. А партийный устав тормозил воровство. И главным грабителям страны все чаще приходил на ум лозунг римских императоров «разделяй и властвуй». И чем я выше поднимался по социальной лестнице, тем явственней чувствовал, Советский строй никому больше не нужен. Еще каких–нибудь 20 лет страна будет катиться вниз, пока не распадется отдельные автономии. И мне отпущены только эти годы, чтобы подняться, или, оставшись чистым человеком, стать оппозицией, Дон Кихотом и упасть на дно. Нужно думать о семье, которой у меня еще нет. но о которой мне приходилось все чаще задумываться.
Теперь Инна тормозила мой рост. Продвигать меня вперед значит потерять. Она это отлично это понимала И конечно имеются проблемы и с другими женщинами. Одна из них, секретарь комсомольской организации рыбохолодильного завода Ульяна написала на меня заявление в райком партии, что она беременна от меня, чтобы меня призвали к порядку и обязали жениться. Это была откровенная ложь. С этим, как я уже говорил, я всегда был особенно аккуратен. Позорить предков тем, чтобы произвести наследника лишь бы от кого, я не собирался. Но Ульяна со своим напористым характером, пригрозила мне, что в случае отказа будет писать дальше. Письмо легло на стол «моей Инне» как раз накануне нашего с ее мужем заговора против нее самой. И она официально пригласила меня к себе в кабинет.
— Что это такое? — швырнула она мне лист бумаги, на котором Ульяна излагала свои отношения со мной в той форме, как она сама их себе нафантазировала.
Гнев Инны мгновенно иссяк, когда я, пробежав глазами кляузу, спокойно ответил:
— Сама видишь, никто не собирается продолжать с нею связь. Я был нетрезв и, не знаю как оказался с нею в постели. Кроме тебя мне никто не нужен. И если бы не твой муж, который стоит между нами, я бы давно женился на тебе. Никакая другая по красоте не может сравниться с тобой.
Кажется, Инна потеряла дар речи, настолько я был убедителен. И пока она не опомнилась, попросил ее:
— Избавь меня от Ульяны. Обещаю тебе, это больше не повторится.
Инне польстило то, что я между двадцатидвухлетней и незамужней Ульяной и ею, не свободной, тридцатишестилетней, выбрал ее. Она пробурчала:
— Ладно, избавлю. Но чтобы это было в последний раз.
На радостях я задал ей вопрос, который она ожидала:
— Когда мы увидимся?
— Как только муж отправится в командировку, позвоню тебе. — ответила довольная Инна.
Я поцеловал ее в щечку и оставил в кабинете, удивляясь самому себе: «Однако, на какие интриги толкают тебя сложившиеся обстоятельства!» Но чувствовал, что против Ульяны нужно еще что–то предпринять, чтобы уж окончательно обезопасить себя. И, в свою очередь, вызвал ее на беседу уже в свой кабинет, в рабочее время, после того, как та побывала в руках моей «садистки Инны».
Ульяна пришла ко мне с обломанными перышками. Дело о ее аморальном поведении вынесли на бюро райкома комсомола, но внутренне она даже после потери своей легкой должности на заводе, готова была бороться за меня, обращаться к вышестоящим органам.
Мне удалось перехватить инициативу, и я высказал ей свою обиду:
— Что же ты, Ульяна, натворила? У тебя нет терпения. Не могла немного обождать. Знаешь ли ты, что мне дали выговор по партийной линии с занесением в учетную карточку. Я хотел на тебе жениться. А теперь, пока выговор не снимут, в течении шести месяцев за мной будут наблюдать.
— Ты хотел на мне жениться? — недоверчиво спросила Ульяна.
— Не мог я у тебя появиться. С другой нужно было отношения порвать.
— Это правда? — уже обрадовалась Ульяна.
— Конечно. Не хотел с тобой объясняться, боялся, не поймешь.
— Нет, я бы поняла. Извини, что я натворила! Гриша, ты простишь меня?
— Прощу! Только следующие шесть месяцев я для тебя Григорий Алексеевич. Оба сидим тихо. Все обойдется — дам знать.
— Гришенька, но меня с секретаря снимают, посылают по профессии работать мастером цеха, — пожаловалась Ульяна.
— Потерпишь. А зачем беременной себя объявила?
— Так, для убедительности. Я же не знала о твоих проблемах на службе.
— Ну, все, Ульяна, иди. У меня сегодня приемный день, там люди в приемной ждут.
— А завтра? — с надеждой в голосе спросила она.
— И завтра прием по квартирным вопросам. Тебе нельзя здесь больше появляться. Нас не должны видеть вместе, пока не забудется скандал и с меня не снимут наказание. Запомни, и мой рабочий и домашний телефон будут на прослушке. Не звони, не навреди нам обоим.
— А когда мне можно позвонить?
— Сейчас начало апреля, плюс шесть месяцев. Не раньше конца сентября.
— Хорошо, Гриша, Григорий Алексеевич, я обещаю.
— Верю, Ульяна, иди. До свидания.
— До свидания. Но до сентября столько еще воды утечет, — вздохнула она перед уходом.
Я тоже вздохнул с облегчением. Кажется, разгреб личные дела.
Минут через десять, после ухода Ульяны, меня навестил товарищ по комсомольской работе, Слава Рыбкин. Он был тоже еще холост и такой гуляка, такой не разборчивый в женщинах, что своим вопросом он меня просто рассмешил:
— Слушай, Григорий, что за уборщица у тебя в райисполкоме?
Смеясь, я ответил ему:
— Ты всех кого мог перебрал и перешел на уборщиц. Пора тебя женить.
На что он ответил:
— Ты сам–то видел ее?
— Зачем мне на нее смотреть. Она номенклатура заведующим общим отделом исполкома. У меня свои подчиненные есть. И что же ты в нашей уборщице увидел? По–моему она даже не девчонка тех лет, что тебя всегда интересуют. — И тут мне стало стыдно, что так пренебрежительно отношусь к простым работникам. Моя матушка была княгиня, а тоже исполняла эту низкую работу, да и я дворником был.
Рыбкин стал рассказывать:
— Я приходил к тебе в прошлую пятницу, а тебя не было, все были на заседании сессии в большом зале, в том, что в дальнем конце коридора у вас. А в приемной, у твоей двери, радио играло, певец этот оперный, Георг Отс исполнял арию Кальмана «Баядера». Ну вот это: «О, Баядера, воплощение мечты! О, Баядера, в сердце ты, только ты!»
— Ведешь себя как влюбленный, — с усмешкой заметил я.
— Напрасно иронизируешь. Уборщица твоя не только хорошо подпевала, но и прекрасно танцевала со своей шваброй. Остановилась только тогда, когда ария закончилась. Увидела меня и вовсе не смутилась, посмотрела своими блестящими черными глазами с таким вызовом, и такая усмешка была на ее лице… Ну прямо переодетая недосягаемая королева. Слушай, Григорий, узнай о ней все. И если у нее хотя бы среднее образование, возьму ее на работу к себе в отдел. Понимаешь, зараза какая, я ей не могу простить этого взгляда. Я что же, такое ничтожество? Ведь любую красавицу могу затащить в постель, ни одна еще не отказывалась. А тут техничка со мной такой вытворила. Ну не ловить же мне ее у тебя в коридоре? Дай мне ее домашний адрес.
— Ну, а что ко мне пришел? Приходи к шести вечера. Она как раз уборку помещения делает. В любовных делах посредник опасен. А вдруг она мне самому понравится?
— Григорий, мне не до твоих шуток. Ну, собери данные.
— Соберу, соберу Рыбкин. Позвони мне через пару дней. Честно говоря, я по горло занят. Ты не вовремя пришел. Мы новый дом сдаем. Вокруг него страсти кипят. Извини, сейчас у меня прием посетителей.
В эти дни я совсем закрутился на работе и забыл об обещании, данном Рыбкину, да и «блажь это с его стороны «подумалось мне. И действительно, почему я должен помогать ему в сердечных делах. Сам не мальчик.
Конец дня, закончился прием посетителей, а меня еще ждал к себе председатель исполкома. Мы говорили опять же о заселении нового элитного дома, и, конечно о моем отпуске. На завтра в жилищном отделе должны выдать ключи и ордера. Но только я вернулся с папкой по квартирным вопросам к себе в кабинет, как у меня раздался телефонный звонок. На проводе был районный военный комиссар. Он просил изыскать возможность вселения в новый дом своего племянника, всего однокомнатную квартиру. Мы с ним в дружеских отношениях и я ответил:
— Пойду, поужинаю, приму душ и вернусь на работу. Поищу что–нибудь подходящее. Если появится возможность, кого–нибудь переведу на заселение в другой дом, попроще, который строители сдадут в следующем квартале. И пообещал перезвонить, но просил не очень–то рассчитывать именно на этот дом. Все бумаги уже утверждены и только что подписаны председателем.
Начало апреля в этой местности было снежным и грязным временем. Морозы могли вернуться, и потому городские службы подавали тепло в том же объеме, что и в феврале. Сидя в кабинете, весь вспотел. И, в предвкушении душа, помчался домой. Переодевшись и поужинав, к восьми вечера вернулся на работу. В кабинете стояла та же духота. Не прикрывая двери до конца, открыл еще створку окна. Потянуло сквозняком. «Так–то лучше», — сказал я сам себе и, раскрыв папку с документами по квартирным вопросам, рассортировал их. Получилось две стопки. Слева лежали бумаги на получение квартир партийными и советскими работниками. Справа бумаги на тех людей, которые уже заручились поддержкой первых, и пять кандидатур, в том числе моя, из числа работников нашего исполкома. Я задумался и, когда у меня зазвонил телефон, связанный с приемной комнатой, не сразу поднял трубку. Его подняли в приемной. Это было странно. Секретарь–машинистка уже ушла. Кроме меня и уборщицы, в помещении никого не было. Через приоткрытую дверь до меня донесся приятный женский голосок: «Привет, Зина. Нет еще. Кабинет зама не убрала. Да, этого красавчика.»
— Кажется, речь обо мне. Кто бы это мог быть? — с удивлением подумал я.
Аккуратно подняв трубку, я услышал голос так называемой Зины и разговор меня заинтриговал. Точно говорили обо мне, и впервые я услышал имя «Эля». Незнакомая мне Зина спрашивала:
— Эля, неужели, когда получишь квартиру, так и будешь на двух работах работать?
И пастельный голос из приемной, насмешливый и лукавый:
— Ну, еще чуть–чуть поработаю, приоденусь, а потом рассчитаюсь с этой работы. Подкараулю Томилина и скажу ему: «Я вас люблю!» А чего не признаться. Ему все равно, а я себя порадую.
В трубке смех и другой голос:
— А если клюнет?
— Нет, конечно. Он смотрит только на равных ему или тех, кто выше его по должности. На уборщиц никто не обращает внимания, да ещё на молоденбких девушек.
— Что за мужчины пошли? Такую женщину не замечают. А может у этого Томилина со зрением неважно?
— Нужна я им? Мне двадцать девять лет, а живу в общежитии, где мелкая живность не знает границ. Уже год ночую здесь на диване, у председателя в кабинете, чтобы не слышать пьяные голоса, да нецензурную брань.
Но, не знакомая мне, Зина продолжала:
— Эля, ну получишь квартиру, обставишь ее, неужели к себе никого не позовешь. Если уж этот Томилин ни разу тебя не видел, так пригласи его, хотя бы на одну ночь.
— Ну да, пригласить и лежать в постели бревном. Не то на завтра в своем мужском кругу, с хохотом разберет меня по косточкам: как шевелилась, как дышала. Если только провести с ним ночь и сразу же голову отрубить? Лучше Гошу дождусь. Он не посмеется надо мной.
— Тоже мне, царица Тамара.
Кровь в моих жилах закипела. Я даже пропустил мимо ушей имя «Гоша». Еще бы. Я в огромном помещении один на один с гордой женщиной, которая любит меня молодого, свободного, хочет провести со мной ночь и утром отрубить мне голову. Да еще зовут ее Элей, как мою далекую подругу юности. Что делать? Выйти сейчас к ней и, не церемонясь, объясниться? Оставаться в засаде и послушать разговор до конца? Но какой голос! Если она также хорошо сложена? Но ведь речь идет об уборщице. Неужели о ней говорил Рыбкин? Это она хочет получить квартиру, потом объясниться в любви. Но то, что я услышал далее, буквально пригвоздило меня к креслу, из которого я было приподнялся. Голос из приемной продолжал:
— На днях выйти на свободу должен мой Гошенька Кузнецов. Как только получу квартиру, начну его искать.
«Бог ты мой! — очнулся я, — Это же Эля в приемной!». Сердце мое учащенно забилось. Всего пять, шесть шагов отделяет нас друг от друга. Но кто–то осторожный внутри меня предупредил: «Вас разделяет пятнадцать лет. Ты добился своего нынешнего положения, этих ступеней к вершинам, благодаря противным твоему сердцу разного рода интрижкам с нелюбимой женщиной. И вдруг выяснится, что ты скрывался все эти пятнадцать лет от уголовной ответственности. Об этом узнает ее подруга Зина. Вы теперь с Элей разные люди. Благодари Господа, что она тебя не узнала. Но другой голос внутри меня подсказывал: «Да разве в тебе хоть что–то сохранилось от того мальчика, Гоши Кузнецова? Каким ты был в четырнадцать? А она? Она тоже стала другой, взрослой женщиной. К чему себя обнаруживать? Достаточно того, что она нашлась. Ты теперь можешь удовлетворить свое любопытство и понаблюдать за ней. Это не трудно. Она работает с тобой под одной крышей. Даже можешь что–то сделать для нее. В твоих руках такие возможности! — Она, твоя Эля работает уборщицей и, наверняка, живет в нужде. Послушай, лучше, о чем судачат приятельницы».
— Эля, не глупи, — уговаривала Зина, — в новую квартиру ввести уголовника. Какой он, твой Гоша? От того Ромео ничего не осталось. Он никогда не станет другим. Моральный калека, если еще и не физический. Да, с войны ждали. Но четыре года, пусть пять, но не пятнадцать! Чтобы ты его не нашла! А если найдешь и к себе приведешь, не жди меня в гости. Свою жилетку для твоих слез не подставлю. Ладно, Эля, этого душечку Томилина как зовут?
— Зовут его Григорий Алексеевич.
— Ну и забудь про Гошу. Или покажи мне этого Гришу. Он женат?
— Нет, не женат. И потому девицы на прием к нему без всякого повода ходят. Но мой Гоша мне дороже этого красавца. И я глупых мыслей в голову не допускаю. Мне бы только квартиру получить. Вот и волнуюсь, дом–то элитный.
— Интересно, ты учительница, а работаешь дворником в одном районе, а уборщицей в другом.
— Я же тебе рассказывала, меня со школы попросили за самодеятельность. А на вторую работу уборщицы я устроилась из–за жилья. Да и дворником сначала, чтобы хотя бы в бараке пожить. Конечно, получу квартиру, сразу с работы дворника уволюсь. Но сегодня мне не уснуть.
— И что, могут отказать в получении квартиры?
— Дом построили не для таких, как я. Драка идет за каждую квартиру. Вот, вот в последнюю минуту переиграют и отодвинут меня до следующего раза. Пойду утром на прием к Томилину. Эх, получу квартиру и отпуск возьму.
— Нарядись, платье с вырезом надень. Пусть увидит твои прелести, это когда завтра на прием пойдешь, — советовала Зина. — И знаешь, Эля, иди к нему после обеда. Он тебе точно даст квартиру.
— Откуда такая уверенность?
— Они, мужики, когда сытые, довольные и добрые. А ты не умеешь врать, не умеешь скрывать свои чувства. Он увидит, что ты в него по уши влюблена. Даже если ты окажешься не в его вкусе, или не в его возрасте, мужику все равно приятно, что его любят. И, главное, ты ничем не рискуешь. И квартиру получишь и не подвергнешься «унижению», не потопчет он тебя. Достанешься целомудренной своему уголовнику, верной своему Гоше, чтоб он пропал.
— Зина! Ну сколько можно повторять! Не влюблена я в Томилина, шучу, себя развлекаю.
— Ага, так тебе и поверю.
Я тихо положил трубку. «Здесь, за дверью, моя Эля. Как долго я ее ждал! Она работает уборщицей. Однако Рыбкин восхищен ею. Мне же не приходилось ни разу сталкиваться с ней лицом к лицу. Несколько раз я видел ее спину в сером халате, с ведром в одной руке и шваброй, в другой. Действительно, стоит ли признаваться теперь?» — снова засомневался я, да еще из разговоров двух приятельниц выяснилось, что она ко мне нынешнему, неравнодушна. А с другой стороны, все мое существо рвалось навстречу ей, пусть и другой, пусть теперь взрослой и чужой.
Я отодвинул бумаги и встал из–за стола, чтобы выйти в приемную и взглянуть на Элю. Но, услышав у своей двери звуки, быстро сел на место, придвинул к себе бумаги и сделал вид, что сосредоточился на их чтении.
Дверь растворилась шире. Я поднял голову, увидел прелестное женское лицо и услышал испуганный возглас: «Вы же ушли домой!» И, заикаясь: «Извините, мне нужно уборку у вас сделать, но могу и попозже.» И попятилась к двери. Из–за жары ее серый рабочий халат застегнут небрежно, только на поясе, на две пуговицы и ноги выше колен не прикрыты. Я узнал мою Элю. Повзрослев, она мало изменилась.
— Подождите! Зайдите на минутку. Забыл вашу фамилию, — сказал я, сдерживая волнение и предложив оставить ее рабочий инвентарь за дверью, поднялся ей навстречу. Эля все еще в смятении робко вошла. И, глядя в сторону, сказала:
— Я хотела утром прийти к вам на прием по–поводу квартиры, — не выдержала и, потупив глаза, спросила: «Вы слышали наш с подругой телефонный разговор?»
— Что? Какой разговор? Вообще–то я был очень занят, так, какие–то урывки. Меня же это не касалось? — подошел я к ней ближе, жадно всматриваясь в ее лицо. Но она уже справилась с волнением, поверив, что я не слышал ее разговора с подругой, беспечно ответила:
— Обыкновенная женская болтовня. Простите. В это время, кроме меня, здесь уже никого обычно нет. Я не заметила, как вы вернулись. Вообще- то уборщица не имеет права пользоваться служебным телефоном — пыталась она перевести разговор на другие рельсы. Я же, взяв себя в руки прошел на свое место и предложил Эле:
— Садитесь. Вы у нас на очереди на получение квартиры?
— Да! — выдохнула она, присев на стул напротив меня, — Моя фамилия Свешникова. Свешникова Елизавета Владимировна.
Покопавшись, я нашел ее бумаги и, как можно спокойней, сказал:
— Поздравляю вас. Завтра после обеда в десятом кабинете получите ордер и ключи от квартиры номер 15 в новом доме.
Что с ней сделалось? Она поднялась с места, в порыве счастья, наклонившись через стол ко мне, готова была меня расцеловать. Ее непосредственность привела меня в восторг. Только тут я заметил, верхние пуговицы халата расстегнуты, а за ними великолепные груди. Нет, не те маленькие, которые когда–то помещались у меня в ладонях, а роскошные женские груди. Кровь во мне закипела и волна страсти окатила меня. А тут еще из–за пазухи у нее выскользнул золотой медальон. Я узнал его. Да, это была наша семейная реликвия. Эля поймала мой знойный взгляд, очнулась, быстро забросила медальон за пазуху, выпрямилась и заговорила взволнованным голосом:
— Григорий Алексеевич, я никогда не смогу вас отблагодарить за квартиру. У меня ничего нет.
Ее глаза выражали радость, восторг, восхищение и любовь ко мне. Они действительно не умели лгать. В это время мне хотелось подойти, признаться ей, что это я, ее Гоша, сбросить с нее халат и заключить ее в объятья, такую страсть она во мне вызвала. Мы были совершенно одни в огромном здании. Эля почувствовала это, и тот час справилась с собой. Она не ожидала такой реакции с моей стороны. В ее взгляде появилось удивление и сопротивление моему желанию. Теперь ее глаза мне сказали: «Причем здесь вы? Это я вас люблю». И взяв себя в руки, осаждая мой пыл, дрожащими пальцами нащупала пуговицы, застегнула халат и тихо, не глядя на меня, сказала:
— Не знаю, какие еще слова благодарности мне вам сказать.
Снова поднявшись с места и подойдя к ней, спросил:
— А, что это за странной формы медальон у вас на шее?
Кажется, Эля обрадовалась перемене темы. Она быстро ответила:
— Он не мой! Мне его на хранение дала очень хорошая женщина. Он принадлежит ее сыну, — и подняв глаза на меня, желая отвлечь мое внимание от своей персоны, смело попросила:
— Может, вы, поможете мне его найти? Его фамилия Кузнецов, Кузнецов Гоша. Это я к тому, что вы все можете. Вам только несколько звонков сделать.
— Он вам кто, этот Гоша? — сдерживая волнение, спросил я.
— Муж, — тихо ответила Эля и сделала шаг в сторону. Ей показалось, мы стоим в опасной близости друг к другу.
— А можно посмотреть медальон? — протянул я руку. Эля достала его и, не снимая с шеи, показала мне.
— Старинная вещь. А что внутри? — спросил я снова, пытаясь взять его в руки, но она со славами: «Он не открывается», — скинула медальон за бюст.
Я отошел к столу и вернулся к ее бумагам.
— Елизавета, как называла вас мать, Элис?
— Я не помню родителей, у меня был только дедушка. Он называл меня Эля. Мне нравится это имя.
— Эля, — повторил я вслух.
Она вздрогнула, слегка попятилась к двери и сказала:
— Спасибо еще раз, Григорий Алексеевич.
— И что же, Елизавета, это все? Вся благодарность? Даже на чашечку кофе не пригласите? — уже спокойнее обратился я к ней.
Эля удивленно подняла тонкие брови, засмеялась и, явно отказывая, мне ответила:
— Кофе, даже по случаю достать не могу.
— Так, я со своим приду.
— И со своим стулом, и со своим столом. А то на полу пить кофе придется. У меня нет мебели, — уже насмешливо отвечала она и вышла за дверь. Такая же красивая и веселая, какой я оставил ее пятнадцать лет назад, только зрелая.
Вы спросите меня, как же я мог ее отпустить в этот вечер, не признавшись? Отвечу. Еще как трудно было. Не хотел торопить события. Главное, она нашлась. Кроме того, мне мешал мой соперник, я сам — тот «Гоша Кузнецов», которого она ждала все эти годы. Как бы вы поступили на моем месте?
Зачеркнув номер ее квартиры, я присвоил ей другой, на одной со мной лестничной площадке и ушел домой. В эту ночь уснуть мне не удалось. Хотелось увидеть ее сейчас, у себя в комнате. Она стояла у меня перед глазами, в сером невзрачном халате, под которым было ее горячее тело. Оно принадлежало мне, только мне. Как я считал тогда, на заре жизни. Никогда другие женщины в нарядных одеждах не влекли меня к себе сильней.
Моя жизнь и моя карьера, женщины в моей жизни все пронеслись мимо и остались позади. Завтра, завтра я начну жизнь сначала, с чистого листа. Только бы мне утром, как это много раз бывало, не забыть сегодняшнего волнующего состояния своей души.
На следующее утро, толком не проснувшись, я уже радовался начинающемуся дню. И вспомнил, как в первый день знакомства с ней, у этой радости есть имя, Эля.
Сегодня пятница, в десять я приглашен на совещание в райком, а после обеда Эля придет за ордером на квартиру, а заявление на отпуск в райисполкоме я ей подпишу. Пусть радуется новой квартире. Гошу я ей помогу найти, правда не знаю еще как, но что–нибудь придумаю. Но тут мне невовремя, как заноза в душе, вспомнилась Инна. Черт возьми! Как бы она не стала мне помехой! И эту проблему нужно срочно решить. И вспомнив, что не удовлетворил просьбу комиссара и не выделил квартиру его племяннику. Позвонил ему, пообещав квартиру при сдаче нового дома через два месяца. А на следующий день в девять утра я позвонил в приемную и велел секретарше отпечатать приказ на отпуск с понедельника уборщице Свешниковой Елизавете. Дело в том что Пелагея Степановна дала мне телеграмму, чтобы я приехал к ней в свой отпуск, потому что она ложиться на операцию, а присмотреть за ремонтом санатория некому. «Еду, еду с Элей!» радовался я заранее.
В половине десятого мой водитель Юра уже ждал меня внизу. По-видимому, он заметил мое хорошее расположение духа и спросил:
— Будете сегодня переезжать в новую квартиру, или завтра?
Вместо ответа я попросил его позвонить в отдел перевозок от моего имени, и проследить, чтобы мебель из моей однокомнатной квартиры отвезли сегодня в новый 15-ый дом в однокомнатную квартиру номер 54. Всю, кроме рояля. И отдал ему свои ключи от новой квартиры, сказав, что они все одинаковые, подходят к любому замку любой квартиры и к 54‑й тоже. После уж хозяева сами поменяют замки.
— А кто там будет жить, в той квартире? — полюбопытствовал Юра.
Вопрос его меня удивил и я ответил:
— Техничка наша. У нее нет никакой мебели. А себе новую завезу.
— Это вы, Григорий Алексеевич, хорошо придумали, — улыбаясь ответил он. — Такая эффектная женщина могла бы секретарем работать, а не полы мыть. У нее же высшее образование.
— Как высшее образование?! — удивился я и спросил, — А ты откуда это знаешь? Признайся, приглянулась она тебе?
— У нее там что–то произошло в прежней школе, это где–то в другом городе. Она здесь всего год. И знаете, Григорий Алексеевич, она не относится к разряду разовых женщин, я ей не пара.
— А к каким?
— К тем, которые раз и на всю жизнь. А потом, я же сказал, у нее образование высшее, от того одна. Ей человека эрудированного подавай. А у меня…
Чтобы свернуть тему об Эле, я сказал водителю:
— Значит так, Юрий, организуешь перевоз и можешь на сегодня быть свободным.
Мы подъезжали к подъезду райкома партии.
Мне было известно, что в мебельный магазин завезли импортную мебель, и высматривал машину директора магазина. Она была уже здесь. Поискал глазами заведующего продовольственной базы, но он уже и сам спешил мне на встречу. Значит и ему что–то от меня надо. «Как раз, вовремя», — подумал я. А вот не совсем кстати, спешит ко мне Инна. Сейчас будет разглагольствовать о партийной работе, а потом, как всегда, шепнет: «Муж уехал в командировку». И пока Инна шла ко мне, я уже и план придумал. Осталось связаться кое с кем, чтобы этого Геннадия, ее мужа, из командировки отозвали ближе к ночи. От этих мыслей мне стало весело. Но обмануть опытную женщину трудно. Ухмыляясь, она спросила:
— Чего сияете, как медный самовар, товарищ Томилин? У вас, вероятно, снова роман? А может женится надумали?
За меня ответил директор базы:
— Так, Инна Сергеевна, он же не женат. Пусть гуляет конь, пока ноги не стреножили.
— Кто же против? — взяла меня Инна за локоть и шепнула уже знакомые слова.
Присутствовшие во дворе насмешливо переглядывались между собой. Мне вспомнились сказанное Элей вчера по телефону о том, что мужчинам по утрам нужно рубить головы. А, стоявшие во дворе партийные, советские работники и депутаты из руководящего состава, все знакомые мне по «баням и женщинам» только тем и занимались, что обсуждали поведение в постели очередной пассии. И потому порядочные женщины, которые мне попадались, были в любви так закрепощены, что и сами от этого страдали, но не желали подвергаться унижениям и пересудам со стороны «мужиков» и не верили никому. Но Инна мне верила. Я не разу не подвел ее. И не то, чтобы говорить об интимных вещах, скрывал нашу связь, хотя она была для всех очевидна. Впрочем, всегда считаю разговоры о женщинах, охаивание их, делит мужчин на настоящих и, как сейчас говорят, на козлов.
После совещания вернулся на работу и через час поехал на новое место жительства. Приехал вовремя. На площадке этажа стояла моя Эля. Увидев меня, она бросилась мне на встречу и не дойдя шага, пожаловалась:
— Григорий Алексеевич, мою квартиру заняли. Посмотрите, уже и мебель завезли, — с ее глаз вот–вот закапают слезы. — Посмотрите, они вошли, а ключ у меня. Вот и ордер, который Вы мне дали, — развернула она лист.
Я вошел вслед за ней и тихо сказал:
— Успокойтесь, Елизавета Владимировна. Вы же сами пригласили меня в гости со своим столом, и со своим стулом. И потому решил свою мебель из однокомнатной квартиры доставить вам. Мне теперь нужен гарнитур для двух комнат.
— Но она, мебель, очень дорогая, импортная, — ахнула Эля. — Я никогда не смогу вернуть вам столько денег. Если только вы не откроете мне кредит. — И подумав, сказала:
— Нет. Заберите свою мебель. Вы итак сделали для меня столько, сколько никто в жизни не делал.
Я остановился перед ней, взглянул в глаза и тихо сказал:
— А если мне хочется, чтобы вы, Елизавета, были мне обязаны. Или, как вас подруга называла, Эля? Можно и я буду вас так называть?
Но она дерзко ответила:
— Когда у меня будет кофе, тогда и получите приглашение, а на большее не рассчитывайте. Впрочем можете забрать свой диван, а стул и стол оставьте.
Я подошел к ней ближе и насмешливо заметил.
— А вчера Вы говорили подруге, что любите меня.
— Да Вы, да Вы подслушивали! — Эля растерялась было, но дерзко бросила мне в лицо, — Вы не в моем вкусе. Это мы не про Вас говорили!
— А если я помогу найти вам вашего Гошу, что мне за это будет?
— Господи, Григорий Алексеевич, я техничка, уборщица в райисполкоме. Вас засмеют, если узнают, что вы добивались хотя бы моего поцелуя, — деланно презрительно ответила она.
— Эля, Вы первая сказали о поцелуе. А если и правда найду Вашего Гошу, на сколько поцелуев можно тогда рассчитывать? Он же Вам очень дорог. Молчите? Какая Вы, Эля, жадина. Кстати, мною подписан приказ на Ваш отпуск с понедельника. Вы рады?
— Естественно. Только мне не понятно, мы не родственники, я Вам никто. Почему Вы проявляете обо мне такую заботу? — недоуменно спросила Эля, не глядя мне в глаза.
Вместо ответа, я вытащил из кармана блокнот и ручку.
— Давайте данные на Вашего Гошу. Как его отчество, фамилия и где жил раньше? — сделал я вид, что приготовился записывать.
— Где жил? В бараках. Их давно снесли. Фамилия его по школьной тетради Кузнецов, а имя Гоша. Он сорокового года рождения, как я. Только он родился 14 апреля, а я — 15 мая.
— Значит, сейчас ему двадцать девять лет. А как Вы его потеряли?
— Ему срок дали, 15‑ть лет. Выпустили его уже или выпустят на днях. Его в 54‑м посадили за кражу. Он не знает моей фамилии и не сможет найти меня при большом желании.
Я смотрел на Элю и думал: «Если бы тогда не сбежал с детской колонии, меня бы сейчас выпустили на свободу. Эта шикарная женщина приняла бы меня измученного, телом и душой, в свои объятия». На меня нахлынула волна нежности к ней, но сдерживая себя, спросил:
— Ну, найду Вам его и Вы, не смотря ни на что, оставите его у себя, в этой квартире?
— Он мой муж. Я не могу поступить по другому, мы поклялись друг другу, — тихо ответила Эля.
У меня началось раздвоение личности. Появилась зависть и злость к Гоше Кузнецову и тут же пришла мысль продолжить эту игру.
— Номер вашего телефона, пожалуйста.
— А мне не положен телефон, — ответила Эля.
— А это, что? — показал я на свой красный аппарат, стоявший у нее на полке. Внизу и номер есть.
Эля застыла на месте, огорошенная этим открытием, а я записал номер и, направляясь к двери, сказал:
— Сейчас Вам позвоню, проверю номер.
Вернувшись в свою квартиру, позвонил Эле, и услышал ее удивительный голо:.
— Да… Я слушаю. Это вы, Григорий Алексеевич?
— Кто же может вам звонить, кроме меня. Мою мебель не завезли еще, а у вас диван и на кухне мягкий уголок. Может уступите мне на ночь одно спальное место? Мне сегодня негде спать.
И услышал в ответ:
— Взгляните в окно. Это не вашу мебель привезли?
Несколько дней я не видел Эли, был занят. Сначала дождался, когда мне предоставят отпуск. Потом отмечал новоселье, пьянствовали. Мою квартиру завалили дорогими подарками: различными коврами и сервизами. Поток гостей не убывал и мне это, порядком, надоело. Инна попыталась помочь мне «разгрести вещи в квартире» и, естественно, остаться на ночь, но я категорически возразил:
— А вот это, извини, никогда. Не хочу тебя подставлять. Пойдем, провожу. Наверное кто–нибудь хочет тебя «свалить» с должности. Только и ждут твоего промаха.
Она согласилась со мной и мы договорились встретиться, как прежде, на ее территории. Проводив Инну до машины и, повернувшись через ее плечо, увидел на балконе Элю. Она наблюдала за нами.
На следующий день я навестил Аристарха. Он трогательно, по–стариковски, обрадовался пакету с дефицитными продуктами и мне стало стыдно за то, что редко навещаю его, и дал ему свой новый номер телефона. Мы распили с ним бутылку шампанского «Мадам Помпадур» и он, естественно, вспомнил те дореволюционные времена, когда все собирались в офицерском клубе, адмирала Колчака, все то, что было связано с юностью, но, будучи человеком деликатным, вовремя остановился и спросил:
— У вас радостное событие, связано с переездом в новую квартиру?
— Не только. — И рассказал ему, как нашел свою Элю, и о двойственном положении, в котором оказался. И попросил его о содействии. Мой план был таков: «Я живу у него безвылазно три дня, обрастаю щетиной, приобретаю простую одежду, короткий парик, наклеиваю брови и прочие наклейки, после чего меня будет трудно узнать. Меняю голос на более высокий. От него звоню Эле, представляюсь Гошей, а дальше как бог даст.
Неделю я занимался подготовкой к этому своеобразному спектаклю. И еще не успел зарасти бородой, как однажды столкнулся с Элей на лестничной площадке и радостно сообщил ей:
— Напал на след Вашего Гоши. Он живой, его недавно выпустили на свободу, правда он еще нигде не прописан. Завтра уезжаю на несколько дней. А приеду, найду вашего Гошу и даже сообщу ему Ваш адрес.
Не успел я договорить, как Эля спросила:
— Как, снова? Вы уже уезжали? Возвращайтесь быстрей.
Я весело сказал:
— Кстати, у меня есть баночка кофе. Поставьте, пожалуйста, нагреть кипяток. Эля, Вы обещали меня пригласить в гости.
Вздохнув, она ответила:
— Заходите. Здесь, в квартире уже все Ваше. — И оставила двери открытыми.
Вернувшись к себе, я перенес к ней полные ящики с продуктами.
— Что это? — удивилась она.
— У меня только один холодильник, а продуктов навезли на три. Не возвращать же их. И вот подумал о вас. В вашем холодильнике, наверняка, пусто.
— Он не мой, — поправила меня Эля и засмеялась, — у Вас этот холодильник так не голодал, как в моей квартире, там мышь от голода повесилась.
Я открыл холодильник и стал перекладывать в него продукты.
— Не помещаются? — спросила ехидно Эля и, вздохнув, сказала, — Мне кажется, я здесь лишняя. Вы целиком оккупировали мою квартиру. Отплатить я вам смогу только черной неблагодарностью. И, улыбаясь, гладя мне прямо в глаза:
— Теперь, когда у меня есть все для нормальной жизни, Вы больше не нужны, Григорий Алексеевич.
Пропустив ее слова мимо ушей, приказал:
— Эти продукты на стол! Я есть хочу! На вашем месте, Эля, женщины, любая женщина, приняла бы заботу о себе, как само разумеющееся, а вы мучаетесь. Давайте «обмывать» наши квартиры. Вряд ли Ваша подруга Зина имеет сейчас такие прекрасные условия для жизни. Хорошее вино, хорошая закуска и … красивый мужчина, не правда ли?
— Красивый, красивый. Вижу, Вы от скромности не умрете. Сейчас ка–а–ак съем все это! Ну, давайте, Григорий Алексеевич, открывайте шампанское, — вздохнула она.
— Почему же так грустно? — удивился я.
— Да потому, что пирую тут в тепле, в довольстве, а Гоша мой где–то голодный и бездомный. Вам это не понять.» Сытый голодному не товарищ.»
— Эля, я же обещал, найдется ваш Гоша. Но и вы сказок начитались, где там, кажется в «Аленьком цветочке», девушка из жалости целовала чудовище, а оно потом обернулось принцем. А в жизни так не бывает.
— Понять, не понять, а сегодня я пью за Вас, Григорий Алексеевич, Вы очень добрый человек.
— Я предложил:
Может перейдем на ты и выпьем на брудершафт? если уж так нравлюсь тебе. — перешел я в наступление.
— Мне кажется что Вы добрый, но думается мне Вы порядочный бабник. Для брудершафта найдете другую женщину. Но выпив пару рюмок шампанского, раскраснелась и развеселилась. Я тоже пил, смотрел на нее и радовался: «Скоро, очень скоро она окажется в моих объятиях. Ничего, я потерплю».
Эля уходила на кухню, возвращалась к столу, я, развалившись в кресле, любовался ее фигурой, такой гибкой и, вместе с тем, округлыми формами зрелой женщины. Платье из черного трикотина с красными цветами имело глубокий вырез, что, конечно, не декольте. Но медальон прятала за дорожкой между грудями. Мне вспомнилась мать, которая отдала ей на сбережение семейную реликвию и я как будто услышал ее слабый голосок: «Мне бы хотелось, чтобы вы с Элей поженились, когда повзрослеете».
Выпив чашечку кофе, предложенную Элей, собрался уходить. Она вздрогнула. Ей явно не хотелось этого, но контролировала она себя хорошо и не стала меня останавливать. Я ушел спать, пожелав ей спокойной ночи.
Первые дни отпуска, скрываясь у Аристарха, зарастал щетиной. Перед этим приобрел соответствующий выпущенному на свободу заключенному парик с короткой стрижкой, невзрачную кепку, мешковатый рабочий костюм, такой же плащ и рабочие ботинки. К подошве правого ботинка, из нутрии, прибил кусок резины в два сантиметра и на третий день прорепетировал свое появление перед Элей Аристарху. Старый мичман был поражен переменой во мне. Ему было не до смеха. Он задумчиво изрек:
— А представьте себе, Григорий, если бы события повернулись по другому, и вам пришлось отбывать среди уголовников этот чудовищный срок в долгих 15 лет.
— Ага, значит, чтобы отпугнуть ее от Гоши Кузнецова, нужно быть грубее, хамовитей, что ли? — догадался я.
— Охо–хо! — вздохнул Аристарх.
— Не грустите. Все же хорошо. Она станет моей. Вы еще будете присутствовать на нашей свадьбе. Нужно уговорить ее поехать на юг. Да, вспомнил, мне же Пелагея Степановна на днях позвонила, ложиться на операцию, а в санатории будет капитальный ремонт. Зовет меня пожить там и проконтролировать ремонт. Представляете, есть возможность выкрасть картины предков. Упакую их в ящики и отправлю себе же. Теперь все так хорошо складывается. Пелагея Степановна до сих пор считает меня найденышем и гордиться своим участием в моем воспитании. Так вот, Дворец и все в усадьбе запущено. Последнего владельца особняка маршала Х. отправили на пенсию, и теперь там никто не квартирует. Я предупредил, что возьму с собой двух человек. Пелагея Степановна просила приехать, заменить ее месяца на полтора. Парк и пруд — все нужно привести в порядок. Как вам мое предложение? Я имел в виду Элю и вас, моих близких. Приглашаю пожить полтора месяца и отдохнуть на юге, у моря. Там сейчас все цветет и какие птицы поют. Скучаю я по местам своего детства. Да и море рядом, сразу у восточных ворот.
— С удовольствием, да еще в компании с хорошенькой женщиной — ответил Аристарх.
На следующий день я позвонил Эле, изменив голос спросил:
— Это номер телефона 275–320?
— Да, — удивленно ответила она.
— Скажите, а можно к телефону Елизавету Свешникову?
И услышал в ответ:
— Но кто вы? И кто дал вам мой номер телефона?
Помолчав, довольно грубо ответил:
— Твой номер мне дали в милиции. Я, Гоша Кузнецов. Ты еще помнишь меня?
— Гоша?! — взволнованно переспросила Эля.
— Ну да. Хочу кое–что забрать у тебя, что мать моя тебе оставила. Или потеряла? — как можно более развязно спросил я. — Так где мы встретимся?
— Гошенька! Я так ждала твоего освобождения. Иди сейчас ко мне домой. Запиши адрес. А я пока приготовлю ужин.
Пообещав быть у нее через два часа, задержался еще на полчаса, пугая прохожих своим видом. Я знал, дорога с автобусной остановки хорошо просматривается с ее балкона. Действительно, Эля уже выглядывала меня, и я захромал к подъезду ее дома. Зашел, поднялся на второй этаж и позвонил. Эля мне тот час же открыла. По–видимому, мой вид поверг ее в шок. Я не дал ей опомниться и сказал:
— Ну, здравствуй!
— Гошенька! — бросилась она ко мне, но не обняла. — Проходи, снимай плащ. Какой ты большой! Тебя не узнать. Гоша, как хорошо, что ты наконец освободился. — и в ее глазах я увидел столько тепла и участия, что мне уже не хотелось исполнять намеченную роль.
— А мне вовремя квартиру дали. Гошенька! Теперь все плохое позади! Наконец ты дома!
Я бросил плащ в сторону стула и обутый, в грязных ботинках, захромал по квартире.
— Хорошо живешь, — оглядел я ее жилище.
— Да, Гоша, не позвони ты мне, я бы тебя на улице никогда не узнала. Гошенька, хочешь принять ванную или сразу за стол сядешь? Я такой ужин приготовила!
— Ты изменилась, не узнать. — вместо ответа, как можно равнодушней ответил и оглядел ее с ног до головы. Эля надела свое лучшее платье и повесила на шею мой медальон.
— Сохранила? Спасибо, а гитара моя у тебя?
— Гошенька, все в целости и сохраности. — Но о чем я? Стол накрыт. Кушай, Гошенька. «Соловья баснями не кормят» — она волновалась, не зная, как ей со мной обращаться, потому что я был груб с ней.
— Вот и вино осталось с новоселья, мне только на днях выдали ордер на квартиру. А до этого в бараке жила. Квартира это такое счастье для нас с тобой!
— А кто это тебе, за здорово живешь, квартиру дал? Переспала с кем, что ли? — ехидно спросил я.
Это откровенное хамство Эле не понравилось. Она слегка нахмурилась, потом воскликнула:
— Хлеб забыла на кухне!
Когда она вернулась и заняла свое место, я уже налил себе вина, демонстративно выпил его один, сказав:
— Ну, рассказывай, как жила без меня?
— Гошенька, я буду рассказывать, а ты ешь. Даже не знаешь, как я ждала этого дня! Когда тебя забрали, Лида, ну ты должен ее помнить, дедушкина жена, В общем, Лида меня увезла в Усть — Каменку. Устроилась в театр оперетты и меня туда устроила. Я в вечерней школе училась. Конечно, в дни спектаклей пропускала уроки в школе.
— Так ты в оперетте кордебалетничала? То–то ты такая гибкая, как пантера, — подозрительно оглядывая ее, переспросил я.
Эля намеренно не замечала мой тон и просто ответила:
— Ну да. Лида меня устроила. По окончании школы поступила заочно в пединститут на биологический факультет.
— Ну, ты давай, давай, не уклоняйся в сторону про кордебалет, — грубо оборвал я ее.
Эля снова растерялась было от моего тона, но, усмехнувшись, продолжала:
— А выгнали меня из кордебалета. Вернее, перевели в уборщицы.
— Так, — подумал я, — сейчас я вытащу из нее всю информацию о ней.
— Гоша, — грустно глядя на меня, продолжила она, — я тебя, тебя одного ждала. Тебе верной хотела быть. А этот помощник режиссера стал волочиться за мной. Влюбился. Все повторял: «Ты — смысл моей жизни! Без тебя мне белый свет не мил!» И когда я ему отказала, он сделал попытку свести счеты с жизнью, а в записке указал на меня. Что я его чувства не разделила. Хоть он жив остался, меня перевели в уборщицы. Но я была не виновата. Не стала ждать, пока мне трудовую книжку испортят, лишь бы какую запись сделают и сама подала заявление об уходе. Ушла в домработницы к вдове японского посла. Его еще до войны в 1937 году расстреляли, вдова эта в лагере срок отбывала, как член семьи изменника Родины. Ее дочь Соня, моя ровесница, прошла через то же, что и я. А теперь эта Соня вроде, как замужем, а живет с ребенком у матери. У вдовы на полке я обнаружила книгу «Искусство Гейши». Это заинтересовало меня. И вдова взялась обучать этому искусству и меня, и свою дочь Соню.
— Гейши, это, кажется, восточные проститутки? — запивая вином котлеты, ехидно спросил я.
— Нет, тебя неправильно информировали. Это искусство быть женщиной.
— Конечно, ты образована, а я только, только из лагеря освободился и дуб дубом. Куда нам до вас? — сделав вид, что обиделся, отвернулся от нее.
Эля расстроилась, но продолжала:
— Гоша, ты просил рассказывать, как я жила без тебя. Мне нечего чего–то скрывать от тебя. Так вот, два года работала я у вдовы японского посла и многому у нее научилась, решила совершенствоваться в твое отсутствие, о тебе только и думала, чтобы ты, выйдя на свободу, обрадовался.
— И на мне будешь испытывать то, чему тебя эта дама научила?
— Гоша, я буду с тобой искренней, если ты заранее не решишь для себя, что мое поведение не достойно твоего уважения. — Эля чуть не плакала и мне ее уже стало жаль. Она помолчала и продолжила:
— Пришло время окончания учебы в институте, и нужно было пройти практику в школе. Потом я преподавала. Все было хорошо, пока мы, в моем выпускном классе не заговорили о поведении юных девушек. Им очень нравились разговоры о Гейшах. Мы по своей инициативе создали кружок Гейш. В него вошли все девочки из моего класса. Им мои уроки нравились. И одна из них поделилась со своей матерью, профсоюзной дурой, извини за выражение. Меня со школы с треском выгнали. Вот вернулась сюда, в Караагач, ждать твоего возвращения. Устроилась дворником в домоуправление из–за ведомственного жилья. Комнату мне дали в общем бараке. А тут, в это время стало можно на двух работах работать, иметь трудовые книжки. Устроилась еще уборщицей в исполнительный районный комитет. Встала на очередь на квартиру. Все о тебе, Гошенька, думала, чтобы и жилье достойное у нас с тобой было. Я еще и шила, заказы на дом брала. Помнишь, ты матери машинку швейную купил? На ней до сих пор шью. Какая у тебя была прекрасная мама! Ты все помнишь?
— Помнить–то я помню. Но ты сильно изменилась. Вон, какая ладная да красивая. А я хромой, больной. На что я тебе теперь?
Эля встала с места, подошла ко мне и обняла за шею, заглянула в глаза и сказала:
— Я так тебя ждала!
Ох, какие у нее были руки! И до чего приятны их прикосновения.
— Прости, — смягчился я и спросил, — А эту квартиру, как дали тебе? Неужели уборщицам, за здорово живешь, так роскошно обставляют ее, да еще телефон в придачу.
Эля встрепенулась.
— Гоша, тебе нравится все это? Завтра познакомлю с Григорием Алексеевичем, с нашим заместителем председателя райисполкома. Ему мы с тобой должны быть благодарны. Он живет на одной площадке с нами. Если бы ты только знал, какой он замечательный человек! — в голосе Эли прозвучало восхищение.
— Молодой? — с затаенной ревностью спросил я.
— Наших лет. И высокий, и молодой, и красивый, и добрый, и умный. Редкое сочетание хороших качеств. Мы с тобой ему своим счастьем обязаны. Пригласим его на нашу свадьбу?
— Каким счастьем? И на какую свадьбу? — спросил я, убирая со своей шеи ее руки.
Эля вернулась на свое место и урезонивая меня, ответила:
— Гоша ты, не понимаешь, как важно иметь собственное гнездо? А хорошо мне было жить в общежитии со всяким отребьем? Все лезут к тебе… Я дома не ночевала, боялась. Спала на диване у председателя в кабинете. У меня на работе в кладовке с инвентарем хранилась и гитара твоя, и швейная машинка. Я шила по вечерам, после уборки помещений, чтобы денег нам с тобой накопить. А твой медальон? Легко ли бездомной уберечь его было? Все боялась, украдут или с шеи сорвут. А теперь, когда ты вернулся, я счастлива. Мне даже оплатить Григорию Алексеевичу нечем за свое счастье. А ему этого и не надо. У него и так все есть. Неужели ты меня не понимаешь? Давай лучше о будущем поговорим. Нам нужно для начала привести тебя в порядок. Завтра куплю тебе бритвенный станок и хорошие вещи.
— И что? От этого я перестану хромать рядом с тобой? — ехидно спросил я, кажется, переборщив.
Эля снова расстроилась, но, взяв себя в руки, тихо ответила:
— Гоша, так нельзя. Ты все время заставляешь меня оправдываться. Как мне к тебе обращаться? Когда–то ты назвал меня своей женой. Давай начнем сначала. Ты озлоблен и думаешь только о себе, о том, как плохо у тебя на душе. Но у тебя есть я, способная сделать тебя счастливым. Зачем вспоминать плохое прошлое? Ты на свободе.
— А чего же хорошего в настоящем? Когда ты, вижу, влюблена в этого Григория Алексеевича. Что я рядом с ним?
Эля не опровергла мои слова, но повторила:
— Квартира теперь наша. Мы можем обменять ее на любой район города, мы его не увидим больше. Ты только скажи, все сделаю для тебя.
— Для чего обменивать? Чтобы избежать встречи с ним, с этим красавчиком? Впрочем, и я не без греха. Не хотел тебе говорить, хотелось увидеться. У меня другая женщина есть. У нее и остановился. Она тоже за воровство срок отбывала. Не такая красивая как ты, косая на один глаз. Но это ничего. Ее Мотей зовут. Хорошая, компанейская. Мне с ней хорошо. Посадит за стол и сразу наливает рюмочку. А ты и сама не пьешь и для меня вина жалеешь. Вообще–то мне мой медальоном нужен. Он золотой, деньги стоит. Сберегла, спасибо. Только его продать можно, и сколько вина за эти деньги купить! — мечтательно, как алкоголик, протянул я.
Эля от этой моей бестактности побледнела. Еще бы, лучшие годы коту под хвост. Был ли смысл в ожидании и верности. Без спроса налив себе еще вина, выпил.
— Да когда же, Гоша, ты к вину пристрастился? Ведь неделю назад, как освободился? — с грустью спросила Эля и, сняв с шеи медальон, протянула его мне. — Вот, вот!
Взяв медальон и спрятав его в карман, сказал:
— Уезжаем мы с Мотей. Прощай Эля, забудь меня, прощай навсегда.
Встал из–за стола и, заканчивая спектакль, грубо добавил:
— Был Гоша Кузнецов и весь вышел. Провожать меня не нужно. Бывай! Гитару можешь себе оставить.
Выглянув за дверь, убедившись, что на лестничной площадке никого нет, прокрался к своей двери, достал ключ, неслышно отворил ее и проскользнул в прихожую. Сбросил с себя все вещи, снял парик и уже в ванной побрился, принял душ, на всякий случай, снял трубку телефона и стал прислушиваться, не тренькает ли ее телефон, не набирает ли номер подруги Зины. Где–то через час услышал. Аккуратно подняв трубку, услышал голос ее приятельницы:
— Ну как, уже освоилась?
Безразличным тоном Эля ответила:
— Освоилась. Даже своего Гошу увидела. Он мне сам позвонил. Пришел за медальоном.
— Не может быть! — выдохнула на другом конце провода приятельница.
— Ты была права. Он изменился до неузнаваемости. Я перед ним обнажила душу, он потоптался там, в грязной обуви, и вышел вон. Ему не понравилось, как я говорила о Григории Алексеевиче.
— Но разве он не прав? Ты же влюблена в этого Григория.
— Все так, это не реально. А с Гошей мы бы жизнь заново начали. Мне хотелось оставить его у себя на ночь. Но он ушел.
— Не захотел остаться? — поразилась Зина.
— Живет он с какой–то женщиной. Уезжают они подальше отсюда. Я в шоке. Зина, мне плохо, очень плохо. Приезжай! — уже плача просила Эля.
В этот миг сердце мое защемило. А Зина сочувствующе отвечала:
— Сегодня не могу. У меня гости ночевать остаются. Но завтра, ты потерпи до завтра… Сразу, после работы к тебе, обещаю. Посмотрю твою новую квартиру. А этот Гоша, я даже рада. Вот увидишь, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Я тебя, подруга, предупреждала.
Разговор заканчивался. Аккуратно положив трубку, вынул медальон из кармана пиджака «Гоши Кузнецова» и переложил в секретер. Сложив вещи в один сверток, выбросил их в мусоропровод. Потом подошел к двери Эли и позвонил. Она открыла, не спрашивая. Лицо ее было растерянным, глаза заплаканы.
— Что с вами? Вы плакали? — с нежностью спросил я.
Она отвечала с грустной улыбкой:
— Лук резала. У меня был гость, ушел уже.
— Гость?
— Да. Помните, я просила вас отыскать его. Он сам нашелся. За своим медальоном приходил. Жалко медальон. Я его столько лет берегла, привыкла к нему. А он забрал его, что бы пропить. Мне сегодня не очень хорошо. Извините, Григорий Алексеевич, я пойду спать. Нездоровится что–то.
— Эля, спать еще рано. Расскажите мне, что с вами случилось. Составьте мне компанию и пройдемте ко мне на ответную чашечку кофе. Возражений не приму. Где ваши ключи? Замыкайте дверь.
Эля нехотя подчинилась и пошла за мной. Пригласив ее к столу, я спросил:
— Может немного коньяка?
— Да, я хочу выпить. Мне сегодня хочется напиться, — призналась она.
— А вы раньше напивались? У вас есть практика?
— Какая практика? Я жить не хочу. Мне плохо. Очень плохо. И не спрашивайте меня ни о чем.
Кажется, коньяк ее немного успокоил. Я поднялся с места. Подошел к роялю и сыграл романс Бетховена «К Элизе». Закончив играть, еще немного посидел. Затем пошел и включил магнитофон, вставил кассету с медленным танцем, подошел к Эле и протянул ей руку. Она подала свою. Я повел ее в танце. И впервые за пятнадцать лет притянул к себе ее стан. Невыразимая нежность охватила меня. Эля опьянела и, не скрывая этого, прижалась головой к моему плечу и я почувствовал, что плечи ее трясутся от рыданий.
— Ты хотела любви, а Гоша тебе отказал? — тихо спросил я.
— Нет, — тоже прошептала она в ответ, — я хотела согреть его своей любовью, подарить ему свою любовь. Но он ушел к другой. Все так нелепо… Так ужасно. Он пропадет, сопьется. Я несчастная женщина!
— Не сопьется. Оставьте, не терзайте себя. Нужно перелистнуть эту страницу жизни. Возможно, на следующей, выпадет нечаянная радость. Эля, в отличии от Гоши, я с радостью готов принять твой подарок, твою любовь. И поверь, оценю его по достоинству.
— Мне все равно. Вот только напьюсь и я Ваша. — прошептала Эля, безразлично.
Музыка закончилась. Взяв ее на руки, присел с ней за стол. Сидя у меня на коленях, Эля пила коньяк из моих рук. Ей очень нужно было расслабиться. А я хотел быть трезвым в праздник любви.
— Моя Эля, моя взрослая женщина, мой подарок. — прошептал я ей на ушко. — А завтра мы не будем пить коньяк. Хочу, чтобы ты показала мне, как должна вести себя Гейша. И научишь меня, каким должен быть я с ней.
— Завтра узнаешь, — совершенно опьянев, пообещала она и попросила, — Поцелуй меня.
Целуя ее плечи, загораясь, я шептал:
— Счастье мое! Ты нашлась. Радость моя, мы вдвоем одолеем любую грусть. Ты не скажешь мне больше, как в юности: «До сюда — можно, а дальше — нельзя!»
— О чем ты? — Эля потянулась к моим губам, и таким поцелуем обожгла меня, что я не помнил, что было дальше. Мы не помнили себя. И сказать, что я провел с Элей волшебную ночь, значит, ничего не сказать.
Проснулся я в полдень от телефонного звонка и снял трубку. На другом конце провода была Инна.
— Слушай Гриша, несколько дней ищу тебя. Она смеялась, вспоминая сцену, которую я уже успел забыть. Сцену, которую мы с ее мужем Геннадием разыграли неделю назад.
— Но уж если ты не уехал в отпуск, как мне казалось, может проведем его вместе? — как ни в чем ни бывало, весело спросила она. И снова со смехом вспомнила, как я, захватив вещи, прыгнул в окно.
— Он так и не узнал, с кем я в постели была. Но ты, Гришенька, не оставишь меня? С мужем развожусь, мы можем открыто встречаться. Ты обещал на мне жениться!
— Прости, я еще сплю. Позвони позже, — ответил я и положил трубку.
Голова у меня, как раз, была свежа. Пока я говорил с Инной, соображал: «А где же Эля? Она что, ушла?» В квартире ее не было. На столе пустая бутылка коньяка, одна рюмка, один столовый прибор, один стул, и никаких следов ее пребывания. Она что, хочет сказать, что этот праздник привиделся мне? Приснился? И я понял. Эля дурачит меня. Будет отрицать вчерашнюю ночь со мной. Ее поступок был приступом тоски, отчаяния. Теперь ее будет трудно достать. Мне придется завоевывать ее заново. И уже не сомневался. Никого кроме нее никогда не захочу видеть.
Напрасно я караулил Элю на лестничной площадке, у подъезда и даже на автобусной остановке. По–видимому, она решила переночевать у своей приятельницы.
— Только бы она не долго от меня пряталась, — подумал я, вспомнив об отпуске, о заказанных билетах на самолет для нас троих.
Времени оставалось мало. Но к обеду следующего дня Эля вернулась в свою квартиру. Я позвонил Аристарху, что заеду за ним через полчаса, надеясь, с его помощью, уговорить Элю полететь с нами на юг.
— Не нужно за мной заезжать, я сам приеду, — пообещал он и приехал довольно быстро.
Странно, но я почувствовал робость перед ее дверью, несмотря на то, что за моей спиной стоял старый мичман. Эля открыла дверь и, как я и ожидал, удивленно спросила спокойным тоном:
— Что случилось, Григорий Алексеевич? Чем обязана?
Я растерялся, чего со мной никогда раньше не бывало. Сделав шаг в сторону, показал на Аристарха, и тоже, как посторонней, ответил:
— Елизавета Владимировна, у нас к вам разговор, вы впустите нас в квартиру?
— Проходите, — сказала она, вглядываясь в лицо Аристарха.
Я представил его. Она пригласила нас к столу, угостила чаем и печеньем и спросила Аристарха, не глядя на меня:
— Так, чем обязана? Какое у вас ко мне дело?
Аристарх напомнил ей о знакомстве с ее дедом. О том, как он ухаживал, в ее отсутствие, за его могилой. Сказал, что припоминает и ее, такой еще тонкой былинкой. Сделал ей комплимент по поводу ее нынешнего вида. Эля улыбнулась ему, но, чувствуя, что я не свожу с нее глаз, тут же стала серьезной и повторила свой вопрос. Аристарх ответил просто:
— Григорий Алексеевич приглашает нас с Вами отдохнуть в одном большом красивом особняке на юге. У него там дела, а я рад там отдохнуть. Но двоим мужчинам не справиться, нужны женские руки. А у вас тоже, кажется, отпуск. Не могли бы вы составить нам компанию? Если да, то требуется ваш паспорт, чтобы взять билеты на самолет.
Эля удивленно переводила взгляд то на Аристарха, то на меня, и вдруг, как ребенок, жалобно спросила нас обоих:
— А море там будет?
Узнав, что там и море, и скалы, и сады, обрадовалась. Но насмешливая улыбка скользнула по ее лицу, когда она снова взглянула на меня. Что могло означать — «Напрасно надеешься». Я был наготове и ответил ей твердым взглядом, в котором был вызов. Мысленно я передал ей: «Посмотрим, чья будет победа в этой игре! Теперь, когда я покончил с твоим Гошей Кузнецовым и знаю о тебе почти все, а ты обо мне еще ничего не знаешь, козыри в моих руках!» Умоляюще сложив руки скорчил такую мимику, что Эля рассмеялась. Я понял, лед между нами растоплен, но она не желает признаваться ни себе, ни мне, что провела ночь в моей постели. И мне эта игра нравилась. Мы понимали друг друга без слов.
Через три дня мы уже летели на юг. А несколькими часами позже катили автобусом к моей усадьбе. Эля откровенно восхищалась при виде буйной зелени и берега моря. Между нею и мной сидел Аристарх и улыбался. Он хорошо перенес дорогу и тоже радовался за нас, вероятно, вспоминая свою молодость, и чувства, которые в это время переживал.
Пелагея Степановна встретила меня на автобусной остановке, как родного.
— Найденыш приехал! — воскликнула она, обнимая меня.
Я представил Элю, как свою сотрудницу и помощницу, а Аристарха — ее дедом и достойным человеком, воевавшим еще с Колчаком.
По дороге в поместье, Пелагея Степановна рассказала моим попутчикам, каким маленьким и беспомощным подкинули меня. А Эля при первой возможности ехидно шепнула мне:
— Вы оказывается подкидыш, Григорий Алексеевич!
Я скорчил виноватую рожицу, А Пелагея Степановна и на следующий день все радовалась моему возвращению домой (санаторий она считала своим домом). И продолжала рассказывать Эле и Аристарху подробности моего появления в санатории, почти тридцать лет тому назад, не забывая рассказывать и о моих детских годах.
Эля снова язвительно шепнула мне:
— Теперь, Григорий Алексеевич, я все о вас узнаю!
А Пелагея Степановна от радости встречи со мной торопилась вспоминать мою жизнь во флигеле с матушкой, как хорош был парк, когда сначала Мария его подметала, а потом и «Гришенька».
— Так вы, Григорий Алексеевич, были хорошим дворником? — спросила Эля и столько лукавства было в ее тоне. Я пожалел, что не нахожусь с нею наедине. Но тогда она не посмела бы безнаказанно говорить со мной в таком тоне. А Пелагея Степановна перевела разговор на свои болячки, коим уже не было числа. Посмотрела на Элю, черной завистью позавидовала ее молодости и как простая женщина из народа, пообещала ей в старости все свои болезни таким тоном, что я, не будучи суеверным, сложил фиги в карманах, и три раза, как мне показалось, незаметно поплевал через левое плечо. Эля это заметила и повторила этот ритуал и тоже поплевала.
— Ну наконец–то мы нашил общий язык, — прошептал я ей и уже, чтобы остановить поток жалоб на здоровье старой кавалеристки, предложил Эле и Аристарху пройти к могиле моей приемной матушки.
Пелагея Степановна сопровождала нас. Старуха что–то в газетах вычитала, или кинофильмов про гражданскую войну насмотрелась, и ее понесло, как героически сражался здесь молодой красноармеец. Прежде, чем погибнуть, он расстрелял здесь не менее тридцати белогвардейцев. Этот герой был мужем юной Марии, которая до самой смерти оставалась ему верна, и найденышу, то есть мне, дала имя и фамилию своего мужа. Она все говорила и говорила, а я уселся на скамейку и, как когда–то матушка гладила рукой могильный холм своего генерала, так и я провел рукой по яркой изумрудной, еще невысокой траве на могиле моей бабки. Эля с Аристархом отошли в сторону и любовались цветущим парком.
— Слышишь, Гриша, — прервала мои воспоминания Пелагея Степановна, — пойдем, с дороги покушай, да гостей своих к столу зови. Я уже позвонила твоим одноклассникам, скоро подойдут. Навещали меня, про тебя спрашивали. А ты все не писал и не писал. — укоряла она меня.
— Не люблю я письма писать, звонил же вам! — ответил я, вставая со скамьи.
К ужину пришли Костя с женой и Настя с мужем. Костя очень гордился тем, что работает в поселковом совете председателем, а его жена там же — секретарем–машинисткой. Настя тоже дала понять, что «вышла в люди». «Мать грамоты не знала, а я — мастер мебельного цеха», — хвасталась она.
Костя, подвыпив, признался:
— Когда Пелагея Степановна позвонила мне, я не стал всех одноклассников звать. Так, кто спился, кто еще что–то И говорил, говорил о себе. Самое забавное оказалось для Эли то, что и его фамилия, и фамилия Настиного мужа, были Томилины, как и у меня. Эля удивилась и тому, что деревни по дороге, когда мы ехали автобусом, встречались с похожими названиями: «Томилино», «Большая Томилинка», «Малое Томилино».
Костя объяснил ей:
— Здесь княжеские владения были и население — были их крепостные, все Томилины. Церковь Томилиных до сих пор стоит. Ничего, ждем, когда поп помрет, тогда и приход закроем. Ну, и люди, конечно, сплошь Томилины. Особенно, в Большой Томилинке. В тридцатых годах, когда уже колхозы организовали, разобраться кто есть кто, удавалось с трудом. Рассказывают, когда из центра «партейного» рабочего прислали, он это дело быстро разобрал. Одним велел оставаться на этой фамилии, другим велел писаться Волковыми, а светловолосым — Белыми, темноволосые — Черновыми должны были стать. Хоть малограмотным был, а слыл остроумным. Ну, и почитай во времена крепостного права от этих князей не мало детей в крестьянских избах нарождалось, на правах первой ночи. Вот и я, наверное, из тех княжеских кровей! — спесиво закончил свои познания Костя.
Пелагея Степановна, ревнивый хранитель Советской власти, сделала ему замечание:
— Стыдно, Константин Петрович! Вы же член партии. Лучше бы гордились своим дедом–красноармейцем, да отцом–солдатом, что погиб в Великую Отечественную. Неграмотные были, а герои.
— Да, это я шучу, — отрекся Костя от своих слов.
Я же, приглядевшись к Косте, нашел кое–какие дедовские черты и поверил, что, видать, соблазнился мой прапрадед смазливой молодой крепостной крестьянкой. А то бы откуда, из ленивой и не просыхающей от пьянки, крестьянской семьи, вышел такой вот Костя. Правда, в школе, помнится, он ругал на уроках, на чем свет стоит, Белую гвардию и всю династию царей Романовых, а заодно, местного барина, генерала, князя Томилина.
Настя, когда–то неравнодушная ко мне, ревниво разглядывала Элю. Муж ее, тракторист Васька Томилин, уж совсем не вписывался в эту господскую гостиную. Ни он, ни его трактор никогда еще трезвыми не были. И за то, что Настя его сдерживает и не дает выпить лишнего, а на столе вон сколько водки и вина, достанется ей от мужа дома по первое число.
Одноклассники, порядком, надоели мне. Разогнать их можно только с помощью скучных им классических романсов. И я пошел к роялю.
— Гриша, — обратилась ко мне Настя, — ты сыграй что–нибудь народное. В школе ты хорошо на концертах играл и пел.
— Григорий Алексеевич, вы еще и поете? — удивилась Эля.
Я поклонился ей и сказал:
— Только для прекрасных дам!
Имея в виду ее, одну прекрасную даму.
Сначала я играл на рояле, но после, забыв про всех, пел уже песни только для Эли из репертуара знаменитого Козина: «Счастье мое, я нашел тебя…» Все для тебя, и любовь, и мечты…» Все, ты моя любимая, посмотри, наша юность цветет….»» Радость моя, мы с тобой неразлучны вдвоем, мой цветок, мой друг…»
«О, эти черные глаза меня пленили…»
… О, эти дивные глаза. Кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце и покой…»
Я пел для Эли, наблюдая ее реакцию, но не упускал из вида Аристарха. Старый мичман устало улыбался, ему пора было с дороги отдохнуть. Одноклассникам от моего пения стало скучно. Предложив им еще раз выпить за встречу и, показав на Пелагею Степановну и Аристарха сказал:
— Ну, не сегодня всё. Старшим отдыхать пора Я вас провожу.
Пелагея Степановна напомнила Косте, чтобы он к концу недели прислал рабочих для ремонта здания и ввел бы в смету оплату и для Гриши, т. е. для меня.
Я проводил гостей, в то время, как Пелагея Степановна, проникшись симпатией к Аристарху за то, что тот воевал с Колчаком, подыскивала старику лучшую комнату.
Когда вернулся, Элю не нашел. Пожелав старикам спокойной ночи, спустился в парк. Он благоухал. Новая луна еще не народилась, а старой уже не было. Я пошел к беседке. Сел, закурил и наблюдал за освещенным парадным подъездом. Лестница, мраморные колоны и львы, охраняющие здание, светились спокойным светом. И у меня тоже стало покойно на душе. Как будто я вернулся уже в свое поместье и со мной единственный друг и любимая женщина. — жена.
Через полчаса, слева от подъезда, чуть замаячила тень. Я пошел ей навстречу и услышал голос Эли. Она явно скрывалась от меня, но, будучи обнаруженной, смело заговорила первой:
— Вам тоже не спится, Григорий Алексеевич? Смотрю, парк огромный весь цветет. Вы слышите, какой запах?
Я не ответил ей, а просто пошел с ней рядом по неосвещенной аллее «Унтер ден Линден». Оттуда свернули на другую аллею. Здесь, из темноты на нас надвигались белые букеты яблонь и вишен. В левом углу парка цвели каштаны. Но запах белой акации перебивал все остальные. Робко засвистел соловей.
— Вы слышали? — восхитилась Эля.
— Это соловей, — подтвердил я.
— Никогда не слышала. Только в кино. Он какой?
— Маленький и невзрачный. Сидит обычно на голой ветке акации, чтобы подруга его видела, и поет, поет, зовет ее. Эля, вы еще побудете в саду? Пелагея Степановна завтра ложится в больницу, а сейчас она меня ждет. Освобожусь и вернусь к Вам. Мне не хочется сегодня спать, — признался я.
Она ответила:
— Нет, Григорий Алексеевич, я иду с Вами. У нее ко мне, наверное, тоже дело есть.
Мы поднялись вовремя. Старая женщина уже сама нас искала.
— Гуляете, молодые люди? — спросила она и обратилась к Эле, — Ваш родственник Аристарх Андреевич, совсем не разговорчивый. Хотела поговорить с ним о гражданской войне, так ему не интересно. Ответил: «В войне нет ничего хорошего».
Эля заступилась за Аристарха:
— Он не совсем здоров и дорога его утомила. Все–таки, ему уже за семьдесят.
Пелагея Степановна тут же пожаловалась:
— И мне уже 69 лет. Как из больницы выйду, если операция удачная будет, на пенсию пошлют. Тогда, Гриша, ты ко мне и не приедешь навестить, — не то спросила, не то сказала она.
— Да не волнуйтесь, будет навещать. — утешала ее Эля.
Утром приехал Костя на служебной машине, за рулем сидел шофер, и мы увезли Пелагею Степановну в областную клинику. В тот же день я заехал в свою школу. Поговорил с учителями, которые оповестили всех одноклассников о моем приезде, а потом все вместе закатили в ресторан.
Костя, полагая, что достиг невероятных вершин в карьере, все пыжился перед другими одноклассниками, когда учитель физики тихо спросил меня:
— Гриша, а ты где, кем работаешь?
Я ответил ему тоже шепотом и еще о перспективе. Он довольный кивнул, сказав:
— Вот помянешь мои слова, еще до столицы дорастешь! Не зазнаешься тогда?
Я ответил:
— Есть пословица: «Когда человек становится известным, с ним заново нужно знакомиться.» Но вас это не коснется. За других не ручаюсь. Столько знакомств по жизни! И они, почти все, мне не нужны.
В этот вечер я засиделся в ресторане и хорошо набрался. Когда меня привезли, я еще держался на ногах. Эля с Аристархом сидели в беседке. Я издалека приветствовал их и поднялся наверх, наспех принял душ, упал в свою постель и проспал до трех часов дня. Проснулся от стука в дверь. Вошел Аристарх с подносом, на котором была только одна рюмка коньяка. Мне стало неловко оттого, что он ухаживает за мной, но я выпил. Он придвинул кресло к моему ложу и спросил:
— Вы вчера, Григорий, хорошо набрались?
— Еще как! — ответил я и тут же спросил, — А Вы с Элей хоть позавтракали?
Аристарх засмеялся:
— Давно обедать пора. Елизавета Владимировна готовит что–то вкусное.
— Надеюсь, не плохо провели время в компании Эли? _Снова спросил я. и Аристарх радостно ответил:
— О–о–о! Она такая чуткая! Такая прекрасная женщина! Жаль, очень жаль, что дамы сейчас не носят таких нарядов, как в дни моей молодости. Исчезла таинственность, которая в мое время так привлекала нас, молодых людей. Есть магия в одежде. Какое время, такая и одежда! — подытожил он сказанное.
Эля накрыла стол в гостиной. Когда мы вошли, он уже был сервирован.
После ужина Аристарх подсел к роялю и заиграл, по–видимому, на слух модную веселую песню своей молодости «Челиту». Эля не выдержала, встала рядом и запела. Голос у нее был небольшой, но красивый. Она исполняла песню Аристарху, но и он, и я понимали, поет она для меня. Закончив петь, Эля, вспомнив что–то, сказала:
— Моему дедушке тоже нравилась эта песня. А когда я приехала к нему в Караагач, у нас соседи были… Женщина — бывшая балерина, маленькая и худенькая, тетя Лена. Дедушка звал ее Элен. Он боготворил ее.
Я осторожно спросил Элю:
— А эта тетя Лена одна жила?
— Нет! У нее был сын, тот самый, недостойный ее, Гоша.
— Это он, Ваша первая любовь? Очень странно. У меня тоже в отрочестве была большая любовь. Я потерял мою девочку и долго искал…
— Вы ее так и не нашли? — с любопытством спросила Эля.
— Нашел. Но в ее лице, совсем другую женщину.
Она поняла, что речь пойдет о ней. Ее не устраивало наше стремительное сближение. О том, что между нами уже случилось, мы оба тщательно избегали говорить.
— Когда у вас день рождения? — спросила Эля.
Я ответил, что 14‑го апреля. И ей:
— А вы родились ровно через месяц после меня.
Она изумленно подняла брови, но я поспешил разъяснить, что взял эти данные из ее личного дела. Выдохнув, она засмеялась и обозвала меня шпионом.
— Да, я шпион. Вы даже не представляете себе, как много я о вас знаю. Но если вам интересно, могу рассказать о себе.
Но Эля дотронулась до моего локтя и остановила меня:
— Не сегодня. Вы сказали, мы пробудем здесь полтора месяца. Я успею о вас узнать все. Только вот…
— Что, вот?
— Отпуск у меня всего три недели.
— Не беспокойтесь. Я уже звонил председателю другого района и предложил вашу кандидатуру на должность инспектора.
— Зря старались, Григорий Алексеевич. У меня высшее образование, но со школы меня выгнали за самодеятельное поведение.
— И это я знаю. Но по моей рекомендации у вас никогда никто не спросит документов. Пойдемте–ка в парк. Грех в такую погоду сидеть дома, — предложил я Эле и молчавшему весь вечер Аристарху. Но он отказался, понимая, что нам необходимо побыть вдвоем.
Некоторое время мы гуляли молча, потом Эля тихо заметила:
— У меня такое ощущение, что вы — мой ангел–хранитель. Почему вы принимаете такое участие в моей жизни?
Я посмотрел на небо. Собирались тучи. На горизонте мелькнули молнии и слышался далекий гул. Ветер зашевелил верхушки деревьев. И вот уже зашумел в листве. На нос мне упала капля дождя. Мы ушли довольно далеко от парадного подъезда.
— Сейчас будет ливень. Бежим быстрей, — взял я ее за руку, и мы побежали, смеясь, и едва скрылись под крышей веранды, как над нами раздался такой грохот, что мы интуитивно пригнулись.
Остаток вечера мы провели в гостиной. Я играл на рояле, Эля пела. Когда она проникновенно закончила петь «Снится мне море, солнце и ты…», я перестал играть, подумав: «Или сегодня ей все скажу, или набраться терпения?». Пожелав Эле спокойной ночи, поднялся к себе. Под звуки природной канонады и шум ливня, быстро уснул, мне впервые приснилась матушка. Она стояла в белом платье, совсем юная, как на фотографии. Голова ее была прислонена к плечу генерала. Матушка, не глядя на меня, сказала: «Гриша, мы все знаем. Будь счастлив. Приходите к нам вдвоем».
Меня, по сути, благословили во сне. От радости я заплакал и проснулся. Дождя не было. Рассвет едва занимался. Я вышел в парк. Нашел во флигеле грабли, метлу и занялся уборкой прошлогодних листьев, как когда–то матушка, начал с обелиска в углу сада и, как она, посидел перед этим на скамье. На душе стало светло и радостно. Все мои на небе были со мной, на моей стороне, и боги мои небесные заступники, и поверилось в хорошее будущее.
Птицы громко приветствовали восход солнца. Меня нашел Аристарх и тоже стал молча сгребать листья. Ему хотелось быть полезным на этом празднике жизни. Он был таким трогательным в своей старости, что я решил, получу новую должность, придется переехать в другой город, возьму его с собой. Я любил его. И не только его. Мне хотелось обнять весь белый свет.
Вечером мы гуляли с Элей, и я снова готов был признаться ей в любви и во всем остальном. Но в парке было так хорошо и торжественно, что я не знал начинать ли разговор сейчас. Мне нужно было навестить священника и договориться с ним о складировании портретов моих предков, прежде чем отправить их себе домой. И я предложил:
— Эля, а пойдемте–ка с вами к священнику!
— Зачем? — удивилась она.
— Да у меня к нему дело. Я его с рождения знаю. Не спрашивайте меня ни о чем. Пока это секрет.
Свет в окне батюшки уже горел, но дома ли он сам, здоров ли? Я постучал в двери и тут же увидел перед собой сухонького старичка, отца Владимира. Прежде чем представиться, я попросил его провести меня в другую комнату, там тихо назвал себя: «Внук генерала Томилина, Григорий Томилин. Я с моей…».
— Томилин? Внук? Его Сиятельства князя Григория Томилина, — ели сдерживаясь от радости, прошептал отец Владимир и расцеловался со мной три раза. — Я помню Вас маленьким и издали наблюдал, как Вы растете. Школярам, к сожалению, нельзя появляться в стенах храма даже сейчас.
Оказалось, попадья его давно умерла и он жил с дочерью и внуками. Отец Владимир сожалел об ушедших днях, о том, что возврата к прошлому нет. Вспомнил добрым словом мою матушку. Но я осторожно перебил его, и, тихо, чтобы Эля не слышала, сказал:
— Мне ваша помощь требуется.
И вкратце рассказал ему о тайнике в доме, что хочу перенести картины предков в его дом, здесь упаковать и отправить себе домой. И, конечно, просил его прийти в гости на день рождения, чтобы познакомить его с Аристархом.
— А этот Ваш товарищ, в единого Бога верит?
— Верит, но у него другое представление о боге. Он слишком много странствовал вне родины и ознакомился со многими конфессиями и сделал собственные выводы.
— Это Ваша невеста, Григорий. Значит, все–таки, я вас повенчаю? — спросил отец Владимир.
— Ну, повенчаете, это, как еще сказать, а вот запишите нас, а возможно и наших детей в старую фамильную книгу князей Томилиных, это точно. Возможно, со временем пригодятся доказательства о княжеском происхождении.
Мы вышли к Эле. Отец Владимир предложил чаю, но мы отказался, сославшись на нехватку времени.
В этот же вечер я готовил огромную стену зала к разбору. Втроем мы сняли со стены большие портреты вождей, так называемой революции. Очень хотелось это все выбросить на свалку, но нужно было терпение и еще раз терпение. Эля полагала, что мы готовим стену к ремонту, и ничего не подозревала, пока я сам не дал ей к этому повод, пристальным осмотром стены.
— Вы думаете, за этой стеной что–то скрывается? — догадалась она.
— Нет, просто задумался о своем празднике. Я пригласил отца Владимира, чтобы Вам, Аристарх Андреевич, было с кем поговорить, — отвлек я ее внимание и попросил накрыть завтра стол.
После ужина втроем мы долго гуляли в парке. Вернувшись нарочно, в полночь. Мы с Аристархом дружно пожелали Эле доброй ночи и ушли в большую залу. Сидели там, в темноте, еще с час, пока не убедились, что Эля спит и принялись за работу. Ножовка, большие гаечные ключи различных размеров и большие ножницы лежали на полу у окна, завернутые в тряпицу. Я уже понял, где искать болты. За дубовыми плитками, похожими на паркет, являющиеся, заодно, и украшением стены. Аристарх засомневался, не проржавели ли болты, удастся ли открутить их. Моя догадка, насчет паркетных плит, оказалась верной. Но болты, когда–то хорошо смазанные, подавались с трудом. Пришлось провозиться часа два. Нужно было торопиться.
Картины, к нашей общей радости, были целехоньки. А на рассмотрение тоже уже не было времени. Нужно было разрезать их на полутораметровые квадраты. Мы делали это с болью, стараясь резать их по складкам одежды предков, чтобы легче было со временем их реставрировать. Сняв со стены последнюю картину, я обнаружил за ней на огромном холсте свою родословную.
— Вот этот предок очень уж на вас похож, — не удержался Аристарх, но я по–прежнему не вглядывался в лица прадедов, торопился пилить золоченые рамки.
Никогда еще я не работал так быстро и сосредоточенно. В предрассветный час я уже увозил на тележке в дом священника свои бесценные сокровища. А старый мичман в это время сворачивал рулоны и связывал распиленные тяжелые позолоченные рамы.
К шести утра вся работа по переноске картин и рам была закончена. И мы с Аристархом, вздохнув свободно, приняв душ, отправились спать.
Проснулся от звуков музыки. Эля играла на рояле. Это надо было понимать, она зовет нас к столу. Но вспомнил о своем рождении и госте, приглашенном к столу, тоже не спавшем в эту ночь отце Владимире, соскочил с кровати. Болели все мышцы. Стало стыдно. Все мужчины нашего рода были покрепче меня. Видать, я пошел в деда–музыканта.
Эля поздравила меня букетом красных роз, но лицо ее было озабоченным, и я поинтересовался, хорошо ли она выспалась.
Вскорости к нам спустился и Аристарх. И мы пошли к воротам встречать о. Владимира.
— Как вы думаете, Эля ничего не заподозрила, ничего не видела? — спросил я Аристарха, — Мне, кажется, она расстроена, а должна бы радоваться. Или делать вид, что ей радостно. Все–таки у меня праздник сегодня.
— Не стоит этого опасаться. Елизавета Владимировна любит вас. Если даже она ночью проснулась, она нас не выдаст. А в целом все прошло очень удачно.
— Жаль, не пришлось налюбоваться на портреты, — вздохнул я.
— Но перед упаковкой их для отправки багажом, вы же можете остаться ночевать в доме священника?
— Конечно, — согласился я и, завидев меж кустов жасмина о. Владимира, пошел ему навстречу.
Мы поприветствовали друг–друга, поздравили с успешным завершением дела и я познакомил о. Владимира с Аристархом.
За праздничным обедом я ожидал некоторых разногласий в вопросах религии между христианином и язычником Аристархом, но старики ловко обходили эту тему. Вспоминали исключительно старые времена, а о. Владимир еще и постоянно моего деда генерала Григория Томилина. Я же был, всецело, занят моей Элей и готовился к тому, что если не сегодня, то завтра обязательно объяснюсь с ней. Она же периодически прислушивалась к разговору стариков и однажды задала вопрос:
— Это бывшее поместье князя Томилина?
— Наверное, — ответил я с деланным безразличием.
Все вместе мы поздно вечером проводили о. Владимира домой. А когда вернулись, Аристарх, сославшись на усталость, снова оставил нас с Элей наедине. Он был очень тактичный человек и, видя, нашу взаимную любовь, не хотел, как он выражался, красть у нас «волшебные минуты».
Я взял Элю за руку, чтобы она не оступилась, и мы спустились по ступеням к берегу моря. Раньше здесь горели фонари. Теперь только луна тихо освещала волны, камни да голубые цветы на склонах берега.
— Жаль, еще купаться нельзя, — тихим голосом сказала Эля и отступила в сторону.
— Не уходите, — попросил я.
Глядя, задумчиво в небо она спросила:
— Почему вы все время так пристально смотрите на меня? Что ищите во мне? Вы ставите меня в неловкое положение… ловите мои взгляды… Они вам ничего не скажут. Мы с вами разные люди, у нас разные дороги. Встретились на перекрестке…
Я перебил ее:
— Почему смотрю? Потому, что насмотреться не могу. Потому что люблю.
Я действительно любил ее искренне и нежно и, подойдя ближе, прошептал:
— Смотрю потому, что в глазах твоих я утопил свое сердце. Потому что долго был в разлуке с тобой. Дай мне руку.
С этими словами приложил ее ладонь к своей груди и, волнуясь, сказал:
— Видишь, как трепетно бьется сердце во мне? Я люблю тебя давно, ты даже не представляете себе как давно. Видишь, я весь горю.
— Будь на моем месте другая женщина, Вы бы говорили ей эти же слова. — Она пыталась отнять руку, но я притянул ее всю к себе, она не сопротивлялась. Прижав ее к груди, услышал, как наши сердца забились в унисон. И попросил:
— Эля, не уходи сегодня от меня. Мы же с тобой уже были вместе, но тогда ты мыслями была не со мной, а с Гошей. Удели мне эту ночь… Если бы ты знала, какой огонь желаний ты во мне разжигаешь. Я могу сгореть в этом огне. Тебе совсем, совсем не жаль меня? Забудем про весь мир. Есть только мы и наша любовь. Отдадимся ей.
Частью, еще свободного сознания, я понимал, Эля сейчас подарит мне себя и это ее подарок мне ко дню рождения. Восток светлел и громче запел соловей и многоголосый птичий хор, сначала робко, а потом уверенней подхватил гимн заре. Я взял на руки свою Элю и понес по ступеням наверх. Мне казалось, достанет силы донести ее до неба. Парк точно был в подвенечном уборе. Звезды на небе еще не потухли, но ярче всего они горели в моем сердце. Остаток ночи мы провели на шелковой изумрудной перине и к часам шести утра, утомленные любовью, вернулись домой.
Мне казалось, я только заснул, как в дверь постучали. Это был Аристарх. Поприветствовав меня, он протянул мне конверт со словами:
— Елизавета Владимировна собралась на вокзал. Она уезжает. Просила передать вам это письмо, когда проснетесь. Полагаю, это случилось бы не раньше полудня. Может, вы его сейчас прочтете?
— Как уезжает? Зачем? — все еще в состоянии своего счастья, спросил я, но не получив ответа, вынул письмо из конверта.
— Я оставлю вас, — Аристарх вышел за дверь.
Эля писала: «Дорогой Григорий Алексеевич! Милый, бесценный мой! Я уезжаю, чтобы успеть, до вашего приезда, поменять квартиру. Я люблю Вас больше жизни, но видеть мне вас больше нельзя. У наших отношений нет будущего. Первая ночь с вами была ночь отчаянья. Последняя, прошедшая, как вы правильно поняли, подарок вам ко дню рождения. Так странно, что и у Гоши, моего первого мужа, день рождения тоже 14 апреля. Как много сходства! Очень глупо, с моей стороны, ждать предложения руки и сердца, после таких горячих объяснений в любви. Я действительно, как Вы говорили, начиталась сказок и жду хорошего конца. Но даже то, что вы мне дали, я не говорю о материальной стороне, хватит мне на два века. Другие проживают целую жизнь и толику того счастья не испытали, которое испытала рядом с Вами я. Дай же Вам Бог много удачи и найти хорошую жену!»
Я понял, что пришла пора признаться ей во всем сегодня, сейчас. Нужно только успеть перехватить ее по дороге к вокзалу.
Быстро одевшись, вынул из ящика стола медальон, побежал догонять Элю. Слава богу, еще никакой транспорт не ходил. Впереди, по дороге одиноко брела с чемоданом в руке моя Эля. Не добежав до нее метров пятьдесят, перешел на быстрый шаг. Она обернулась, увидела меня, и на ее личике появился страх пойманного на месте воришки. Остановившись, поставила чемодан на землю, и стояла так, не поворачивая ко мне головы. Я подошел к ней и тихо спросил:
— Эля, почему ты постоянно исчезаешь из моей жизни? И что за странное письмо ты мне оставила?
Не глядя на меня, она ответила:
— Там все написано.
— Думаю, настоящая причина — твой Гоша?
— Гоша? — с горечью в голосе переспросила Эля. — Гоша, несчастный человек. Он совершал кражи в юности и погубил свою жизнь. Но он был мальчик. А Вы взрослый, умный… Зачем Вы–то, такой успешный человек, обкрадываете санаторий? Странно, что и Аристарх Андреевич, Вам помогает в этом деле. Я уезжаю потому что мне будет невыносимо знать, что и Вас постигнет та же участь, что и первую мою любовь. Снова кого–то ждать еще 15 лет, у меня не достанет сил.
И с горечью и болью, глядя в небо, воскликнула:
— Ну за что мне такая судьба?!
Я готов был встать перед ней на колени. Но только обратился к ней со словами, которые шли из глубины сердца:
— Милая, любимая, единственная, жизнь моя, все не так. Я должен объяснится. Вернемся. Не думаю, что после моих объяснений ты захочешь оставить меня, — с этими словами, взяв ее за руку, другой рукой чемодан, повел Элю назад к воротам. Она не сопротивлялась, только вяло спросила:
— Как можно объяснить то, что Вы здесь делаете? Старая женщина на операцию легла, доверила Вам сохранность санатория, а Вы ценности разворовываете. Ночью я услышала какое–то постукивание и пошла посмотреть. Господи! Но почему я влюбляюсь в воров! Вряд ли Вам, Григорий Алексеевич, удастся передо мной оправдаться. Мне здесь было очень хорошо, но нашим отношениям пришел конец.
Я молча выслушал ее, закрыл за нами ворота, швырнул ее чемодан в кусты и, не отпуская ее руки, повел ее к аллее «Унтер ден Линден» и признался:
— Да, я был вором. Но что толкнуло меня на эту кривую дорожку? Выслушай меня. Мой рассказ перевернет твое сознание на 360 градусов.
— Вряд ли, — с грустной иронией ответила Эля.
Мы шли молча, пока я думал с чего начать. Я начал свой рассказ со своей матушки, с тех пор как помнил ее, о ее любви и любви тридцатипятилетнего раненого генерала, князя Томилина, о проклятой революции и далее подробнее о ее жизненной трагедии. Дошел до ареста ее сына, моего отца, и о том, как ее внука, меня спасали, просунув через прутья решетки. Только один раз она прервала меня, воскликнув:
— Ваш дед был князь?! А отец… Так Вы стали подкидышем? А как же мать, она жива?
— Отца расстреляли, мать, как член семьи изменника родины, отбывала сроки в лагерях. Когда мне исполнилось 13‑ть лет, и матушка — на самом деле мне бабка, рассказала всю правду обо мне. Этот санаторий и эта земля — наша фамильная собственность.
— Это правда, Григорий Алексеевич? — недоверчиво повернулась ко мне Эля.
Вместо ответа продолжил:
— О тайнике, где хранятся полотна великих художников, где изображены мои предки, начиная еще с ХУ века, тоже сообщила мне матушка. И вот, появилась возможность выкрасть их у самого себя, и я эту возможность использовал.
— Боже мой! — воскликнула Эля. — Ну продолжайте, это так интересно.
— Люди при нашей власти скрывают прошлое своих предков. Это откровение обошлось бы мне дорого. И с должности я полетел бы в один миг, и с партии бы исключили. Тайну моего происхождения знают только два человека, старый священник нашего прихода, да Аристарх Андреевич и теперь еще и вы. Они меня не выдадут. А ты надеюсь и подавно, когда услышишь продолжение.
Эля торопила:
— А мать–то освободили, была же амнистия?
— Да, мать выпустили. Она отбывала срок, в пригороде Караагача. Ее выпустили незадолго до смерти матушки. Я говорю о бабке, матери своего отца. Ей нечем было меня обогатить. Остался один золотой медальон, фамильная ценность. Очень дорогая вещь. Она передавалась невестке старшего сына еще с времен Готов, это одна из ветвей нашего рода. Матушка попросила передать медальон своей невестке, жене своего сына, то есть моей матери, у которой я вскоре и оказался.
— Ну, рассказывайте, рассказывайте дальше, Григорий Алексеевич, я вам потом тоже, что–то подобное расскажу, — разволновалась Эля.
— Почему ты мне все время выкаешь? — перебил я ее, — Называй меня просто Гриша, а можно и Гоша, как называла меня мать.
— Как?! Вас…, тебя тоже звали Гошей? — воскликнула удивленно Эля.
Достав из кармана медальон, и зажав его в кулаке, сказал:
— А теперь главное, почему тебе нельзя уезжать. Да, я не просил твоей руки и сердца, зачем это делать дважды. Мы с тобой и так женаты.
— Женаты? — недоуменно отозвалась Эля.
— Да. Перед смертью мать отдала тебе, как моей жене, на сохранение этот медальон и ты его хранила все пятнадцать лет, — я протянул ей медальон.
— Ой, мой! То есть Гошин? Как он у тебя оказался? — взяв его в руки, удивилась Эля.
— Какая же ты недогадливая, — обняв ее, прошептал я ей на ушко и напомнил, — Разве мы с тобой не поженились в степи, на постели из мягкой ковыли, среди полян цветущей сон–травы? Как могла ты забыть наши пещерки с летучими мышами. Ты их так боялась. Надень на шею медальон, половинка ненаглядная моя. Как же я был счастлив, когда увидел тебя снова в своем кабинете.
Отстранившись, Эля остановила меня:
— Подождите. У меня кружится голова. Вы… Ты… Гоша? Гоша! Это ты?! А что же это тогда было? Он же приходил ко мне, забрал медальон. Ну да, это тот самый медальон!
И когда я рассказал, как нашел ее и о причине разыгранного спектакля, Эля долго не могла прийти в себя.
— Ты обязательно разболтала бы все своей приятельнице Зине. Извини за розыгрыш. Но и мой соперник Гоша тоже надоел мне. Теперь когда я отделался от него, ты принадлежишь только мне, и на всю оставшуюся жизнь.
— Гоша! Гошка! Разыграл меня, — стуча кулачками по моей груди, обиженно восклицала Эля. — Какой ты! Мать твоя говорила мне, что ты будишь высоким и красивым, но я себе это тогда не представляла. Постой, тебя же посадили за кражу ювелирных изделий! Когда ты освободился?! Когда же и как ты выдвинулся в такое большое начальство.
— Я убежал из детской колонии. А краденное еще раньше у Витьки, закопал на берегу Холодного озера. Убежал сюда. Здесь я учился, как Томилин Григорий, а там меня мать записала в школу на фамилию Кузнецова, — и повел Элю к обелиску просить благословение на женитьбу у своих деда и бабки.
Через несколько дней отец Владимир пришел со своей церковной печатью к нам, записал нас в книгу регистрации брака князей Томилиных, и отдал мне ее на вечное хранение. Потом наступили три счастливые недели нашего медового месяца.
Втроем, с участием Аристарха, мы раскопали то, что я закопал в парке при жизни матушки. Что–то, конечно, пришло в негодность, но в совершенной сохранности остались семейные альбомы, которые по вечерам мы с удовольствием рассматривали, и читали комментарии внизу. И нам, но не Аристарху трудно было поверить, что Россия жила такой духовной чистотой, размеренной жизнью.
— Обязательно буду шить себе платья и костюмы, похожие на эти, со снимков, — радовалась Эля.
Омрачило мое счастье известие о том, что Пелагея Степановна операции не выдержала и умерла. Это значило, что доступ в мое поместье для нас с Элей закрыт. Подумав, я поговорил с амбициозным Костей, с трудом уговорив его оставить пост председателя сельсовета и попроситься занять безбедное место Пелагеи Степановны.
— Жизнь без волнений, на всем готовом. Коммунизм — не меньше. Все равно у тебя пост твой отберут. У тебя нет высшего образования и тебе его не осилить. Костя с моими доводами согласился, а я получил возможность периодически с Элей, а потом уже с детьми, наезжать в поместье, навещать якобы школьного товарища, а на самом деле гостил у себя дома.
Косте же посоветовал рекомендовать на свое место, в сельском совете, достойного человека, нашего учителя физики, который также впоследствии информировал меня о состоянии дел в «санатории». Это он сообщил мне, что в 80‑м году в пустующем санатории случился пожар, остались одни стены, а Костя после этого случая спился. Известие о сгоревшем поместье меня обрадовало. Я похвалил себя, что вывез фамильные полотна, и меня радовало то, что теперь никто не жил на пепелище, а время наступило воровское. Можно было потихоньку начинать прибирать свою собственность к рукам.
За 12 последующих для нас с Элей счастливых лет совместной жизни она подарила мне и дочь, и сына. Играя в свободное время с детьми, я думал, почему мне раньше не хотелось детей. И сам себе отвечал. Да потому, что их хочется только от любимой женщины.
Я сделал головокружительную карьеру И ко времени правления Горбачева уже прочно сидел в дипломатическом корпусе (не буду описывать методы передвижения по служебной лестнице с помощью взяток своего запаса ювелирных изделий и своих природных качеств и не без опеки ушедших предков). Только появилась возможность беспрепятственно вывозить деньги чемоданами и класть их в мировые престижные банки. И к развалу СССР я имел для себя и своей семьи ни только двойное гражданство, но и в не большой стране со старым стабильным укладом и правлением короля, приобрел разрушенный еще в ХII веке замок, отстроил его, чем увеличил поток туристов в страну, а значит и денег. Взамен получил от короля привилегии, как русский фюрст, то есть. князь.
Забыл сказать об Аристархе. Он прожил в нашей семье шестнадцать лет и, согласно своей религии «Знаний» и тихо ушел в другую жизнь, передав эту нам с Элей. Вернее, как он говорил: «Творец один, но во многих ипостасях.» Когда он рассуждал о Творце, то не представлял его иначе, как существом бесконечно великим и бесконечно добрым и я не мог не согласиться с ним. Хотя тогда, в нашем безбожном государстве, в свои годы мне не очень приходилось задумывался об этом. «Бог есть и надо быть порядочным человеком и делать по возможности добро, потому, что оно полезно»
Чем я занимаюсь сейчас? Работаю для потомков, чтобы они могли не только безбедно существовать и совершенствоваться во все годы жизни, но и сохранить такие редкие свойства, как честь, совесть и человеческое достоинство, которое, увы, оказавшись на дне, без материальных благ, человеку весьма трудно сохранить. Обогащаясь, я не переступал через головы людей, Откровенно признаться, если уж это исповедь, держался курса юности, обкрадывал воров и мошенников. И Вам судить, честным. Или нечестным способом удалось мне нажить капитал, но по другому не получалось.
Осталось сказать о своем поместье. Я вернул себе всё, как и обещал себе и матери в ранней юности. Но, начиная с 1917 года, ручаться за благополучие в этом государстве, за исполнение законов, за личную неприкосновенность, безопасность, семьи было нельзя. Сначала согласно новому закону, взял в аренду свое полуобгоревший Дворец и прилегающий к нему парк с прудом, на целых 49 лет. А когда привел в порядок, и снова в пруду плавали несколько пар лебедей и выводили потомство, понял, нужно приватизировать, чтобы не отменили аренду. Но и после этого, армия завистников покушалась на мою собственность. Пришлось сдать в аренду на четверть века английскому лорду, большому политику, которого наша власть, боясь осложнений, притеснять не станет. За собой оставил только флигель, который привел в полный порядок.
В Европе я консультант по вопросам вложений инвестиций и сотрудничества с российскими партнерами.
Вы начали наш разговор с того, что уверены — все новые русские — миллионеры и олигархи–миллиардеры — сволочи; скупили в России акции газовых и нефтяных компаний, золотоносные рудники, купили в Европе замки и земли. Да, все это у меня в достатке. Я строю на награбленное, как вы выражаетесь новые, современные фабрики и заводы, обеспечиваю людей работой. Конечно не в бывшем Советском Союзе. Там мне было по жизни достаточно проблем, на новые уже не осталось лет. Остаток жизни уделю своей Эле, тем более, что у наших детей началась своя жизнь. Нас теперь окружили новые люди. Размеренный, культурный уклад жизни в Европе напоминает мне жизнь моих предков. Жаль, мы с Элей уже другие люди. Еще при жизни мы претерпеваем реинкарнацию. На земле нет больше нас, прежнего Григория Томилина и Эли. Только золотой медальон напоминает нам о нашей молодости и бурной любви. Когда мы его открываем и видим ослепительный свет, исходящий изнутри, то понимаем, так сияли глаза наших влюбленных предков и конечно наши с Элей. На смену любви с годами приходит нежность. Но жаль нам ушедшую молодость, и страсть, что кипела в наших жилах и с годами утихла….
ЭПИЛОГ
На диктофоне внезапно оборвалась запись, а у меня в ушах все звучал и звучал голос Григория Томилина. Он жалеет об ушедшей любви. По моему мнению, любовь его и Эли никуда не делась. Она витает над землей и ищет высокие души, в которые было бы ей комфортней поселиться. И так будет всегда. А может она уже поселилась в сердцах их детей. И я от всего сердца пожелала герою романа доброй дороги к родному порогу, совсем забыв о первой встрече с Томилиным и с чего началась его исповедь.
Марта Шрейн
Подмосковье 2003 г.







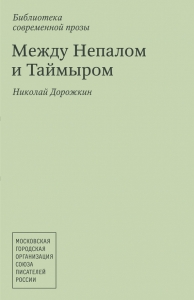

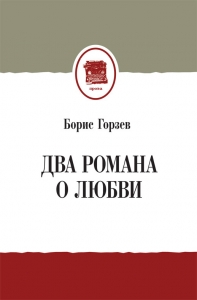
Комментарии к книге «Золотой медальон», Марта Албертовна Шрейн
Всего 0 комментариев