Ольга Толмачева Чудо
Смеркалось…
Незаметно, в трудах, прошёл день.
Коровы вернулись с пастбища, улица вкусно, тепло запахла парным молоком, на деревню спустились сумерки. Пришло время развлечься.
Выглянув во двор, Раечка стала привычно наряжаться. Вечерние прогулки уже давно стали частью Раиной жизни. Она любила это время и с нетерпением ждала, когда в хлеве затихнет корова, двор погрузится во мрак, а из–за леса пахнет свежестью.
Раечка сняла с вешалки новое пальто с воротником, достала сверкающие калоши. Долго крутила в руках шляпку, не решаясь надеть. Эту шляпку подарила племянница, которая жила в районном центре и была известной модницей. Племянница объяснила, что такие шляпки сейчас ужасно популярны и в городе на них повальное увлечение.
Племянница мыслила широко, жила в ногу со временем и считала, что современный человек обязательно должен быть модным. Потому как мода определяет сознание. Если ходит человек с утра до вечера в одном и том же неприглядном пальтишке, то и сознание у него первобытное, тёмное. Иное дело, если шляпками или чем подобным интересуется.
Надо бы и Рае приобщиться к культуре, а заодно своим примером просветить население. Потому как с заходом солнца в деревне и так тень неприглядная, электричество включается с перебоями, а осенняя ночь наводит тоску. Пора вносить в жизнь сочные краски! Шляпка — первый шажок к прогрессу.
Рая задумалась.
Получалось, что на голову она водружает не просто модную штучку — передовой символ. И от такой ответственности у неё вдруг разболелась голова и засосало под ложечкой.
Племяннице Раечка доверяла, и шляпка ей очень нравилась — маленькая, аккуратная, «пирожком», но уж как–то было не по себе с «пирожком» на голове выходить во двор — в платке–то привычней.
Да и кому уж больно диктовать моду: молодёжь из деревни поразъехалась, хозяйство захудалое, бабы огородами да бытом замучены, а трезвых мужиков по пальцам сосчитать можно. Летом, правда, детворы полно: к бабкам на каникулы приезжают.
Шляпка, и правда, была премиленькая.
Раечка видела такую в журнале у известной артистки. Красивыми глазами та томно смотрела с обложки из яркой — настоящей! — столичной жизни, и чуть–чуть, легонько, уголками губ, ей улыбалась.
У Раи никогда не было шляпок. Все больше косынки, платки. А то и вовсе ходила с неприкрытой головой, загорая шеей. Какая шляпка на сенокос или в свинарник? Теперь же она с любопытством рассматривала эту дивную штучку, не понимая, как втиснуть в неё, такую маленькую, свою голову в мелких кудряшках, чтобы и уши поместились, и глаза получились, как у артистки — томно…
Она примеряла шляпку и узнавала себя в зеркале только наполовину: крепкое ладное тело в пальто, воротнике и калошах было её, а круглое лицо и голова в мелких кудряшках, под шляпой, ей совсем незнакомы.
— Таинственная незнакомка! — окликнул её через забор Степан — сосед, когда Раечка вышла покормить кур. — Ишь ты! Чего надумала! Вырядилась! — Он лихо присвистнул и хохотнул. — Ну ты, Раиса, даёшь! Прямо как… — соображал. — Прямо… Мати Хари! — Степан вспомнил звучное имя.
— Чего? — фыркнула Рая. Но, одумавшись, сказала спокойно: — Что, Стёпа, опять выпил? — снисходительно посмотрела на соседа, как на дитя неразумное и сокрушённо покачала частью, для себя незнакомой. — Что, шляпу никогда не видел?
Вот оно — воспитание! Раечка прочувствовала ответственность момента.
— Так видеть–то видел, но ты… Чудеса!
— А что чудесного–то? Это мода такая. В городе все так носят, темнота дремучая! В городе–то когда в последний раз был?
— Сегодня и был. За батюшкой ездил.
— За кем ездил? — не поняла Рая.
— А ты что, не знаешь? Тётка Нюра совсем плохая. Вот Васька, сын её, и говорит: «Давай, Степан, поезжай в город. Не иначе, как представится маманя–то, вези священника — причастить надо».
— Тётка Нюра? Так я её два дня назад в сельпо видела. Говорила, новую баню строит. И внуков на каникулы ждала. Не жаловалась вроде.
— Так не жаловалась, а потом — раз! И встать не может. Лежит, молится. Говорит, помираю. Ты — и не знала? Я и говорю: чудеса!
Раиса поспешно загнала кур и бросилась за калитку.
Надо же! Горячая новость, а она пропустила. Все из–за этой шляпки!
На бегу Раиса подвинула с затылка поближе к макушке съехавший «пирожок» и прибавила шагу.
Она спешила к колодцу — там всегда можно было с кем–нибудь встретиться и узнать последние новости.
Уже совсем стемнело. Луны не было. Небо в тучах сливалось с дорогой, вдали мрачно чернели дома. Кое–где улица освещалась фонарями да от окон тусклым разбавленным светом. К этим огням и устремилась Раиса, выстраивая маршрут.
Накануне прошёл дождь, было сыро, и ноги Раи в сверкающих калошах сразу увязли в жиже. Она шла по улице, и её причмокивающие шаги будили собак. Проснувшись, те недовольно ворчали, стучали цепью, разносили лаем весть о том, что их так потревожило. Весть подхватывалась, летела, и вскоре вся улица, а затем и деревня мелодично заухали — собаки встрепенулись и на краю посёлка, где торопливых шагов не было слышно.
Калоши всхлипывали.
Рая спешила за новостями, а живая собачья музыка нестройно лилась следом. Конечно же, собакам не было дела до шагов по лужам — они рассказывали миру о своих печалях. Ей же в тоскливом завывании чудился зал со сверкающей сценой и томные дамочки в маленьких шляпках, восторженно аплодирующие оркестру.
Раечка была очень впечатлительная.
На пригорке дорога поворачивала.
У палисадника Рая услышала гогот. Она перешла на другую сторону улицы — на всякий случай. Кто знает, что на уме у современной молодёжи — а она в шляпке.
Осветив мутными фарами, навстречу проехала копейка. Салон был по горло набит пассажирами — того гляди, лопнет. Наружу надрывно рвалась песня о загубленной жизни.
«Опять Петька–оболтус с дружками развлекается! И когда только в армию–то заберут! — подумала Раиса. — Может, хоть человеком станет! И матери все спокойней…»
Ещё издали она увидела у колодца чьи–то фигуры. Замедлила шаг, чтоб отдышаться. Волосы выбились из–под шляпки, и голова имела неприбранный вид. Раиса остановилась, поправила прическу, подсунула под «пирожок» кудряшки.
Одинокий свет фонаря осветил бабку Марью и Валентину — доярку, бывшую одноклассницу. Они обрадовались, увидев Раису. Может, чего знает.
— Рай, не слыхала? Что с тёткой Нюрой–то? — спросила Валентина.
— Помирает Нюра! — переведя дыхание, ответила Рая. — Батюшка причащать приехал.
Она, как всегда, была осведомлена лучше.
— Свят — свят! — перекрестилась бабка Марья и затянула платок потуже. — Вроде не старая ещё.
— Степан за ним в город ездил.
— Вот жисть–то! Одно мгновение! — философски заметила Валентина. — Горбишься, суетишься, а все одно — помирать! Вот и Нюра… Баню справить хотела… — Она поставила наполненное ведро на землю. — И я загнусь, а мой ирод как пил, так и дальше пить будет! Не заметит, как вынесут, не очухается!
— Все — суета. Расчёт судьбы, промысел божий, — посочувствовала бабка Марья.
— Ой, Рая, да у тебя на голове… — вдруг увидела Валентина шляпку и потянула вверх руки. — Красота! Это что же, мода такая?
— Племянница привезла, — важно процедила Раиса. И снова оторопь взяла от общественной миссии.
— Тебе идёт. Только чудно как–то, непривычно. Вроде и не ты это вовсе.
— Привыкать надо… к передовым тенденциям. Преодолеть леность души и мыслить по–новому. — Рая строго, из–под шляпки, взглянула.
Валентина окинула взглядом статную фигуру подружки, и её взгляд уткнулся в Раечкины калоши, заляпанные грязью:
— А по мне, лучше к калошам платок. А то как–то… не совпадает… Бабка Марья, как считаешь?
Раечке стало досадно. Про шляпку племянница рассказала, а про калоши?
— Про Петьку что слышно? — перевела разговор. — Когда в армию?
— Через неделю в военкомат, с вещами. Повестка пришла, сказывали, — ответила бабка Марья.
— Ну слава Богу. Может, в армии дурь всю повыбивают. Видали, на Мерседесе ночью гоняет, коровам спать не даёт.
— Недолго осталось. Хоть мать поживет… — согласилась подруга.
Попрощавшись, Раечка направилась дальше.
Дом тётки Нюры был неподалеку. Чтобы не пропустить самое важное, решила сократить путь и пройтись оврагом. Проворно взбежала на хлипкий мостик — сдобная, в шляпке. Боясь провалиться, цепко схватилась за ограждение. С опаской ступая, двигалась в темноте, нащупывала ногами целые доски. Она шла наугад, ничего перед собой не видя, лишь калоши скреблись о шершавый деревянный настил.
У дома болящей было многолюдно. Изо всех окон встревоженно лился свет. Во дворе стояли соседи. Старушки в платочках печально застыли у ворот. Собрались родные. Говорили вполголоса, перешёптывались и всхлипывали.
Когда к дому на мотоцикле подъехал Василий — Нюркин сын, бабки заголосили.
— Да перестаньте вы! — буркнул Василий, слезая с железного коня. — Чего раньше времени–то хороните! — Он скрылся в избе.
Раечка вошла в калитку и тихонько перекрестилась. Незаметно сняла шляпку и спрятала в карман. Тряхнула кудряшками.
В комнате пахло ладаном.
Нюра лежала в передней, на пуховой перине, под образами. Её иссохшие руки, как две сухие ветки, печально покоились на груди на цветном лоскутном одеяле. Неприкрытая голова — на высокой подушке. Она тяжело дышала.
В соседней комнате приглушенно разговаривали. Горестно ожидали.
К больной вошёл немолодой седовласый священник. Лицом он был худощав, бледен. На груди поверх чёрной рясы висел большой серебряный крест. Впалые щеки, глубокие морщины по лбу, тихий взгляд ясных, глубоко посаженных глаз, размеренные движения настраивали скорбеть. Думать о вечном.
Войдя в комнату, батюшка перекрестился. Неторопливо достал Евангелие, зажёг свечи. Подошёл к больной и взял за руку.
Нюра с трудом раскрыла глаза и увидела тёплый взгляд.
— Как величать–то? — спросил он ласково.
— Нюра я, — прошептала больная.
— Стало быть, Анна.
— Записана Анной, а так все Нюркой кличут.
— А я отец Никодим. Пришёл, Анна, исповедать и причастить тебя. Крещёная ли ты, Анна?
— Как не крещёная — конечно. Как без веры? — Нюра закрыла глаза.
— В церковь–то давно ходила?
— Да как давно, батюшка, на Пасху, Троицу. Считай, на все праздники. — Она с трудом говорила. — А так… — уж больно далеко от нас церковь, в город не наездишься.
Нюра посмотрела на священника:
— А ты, батюшка, городской? — Больная всматривалась. — Лицо твоё мне будто знакомо…
— Понимаешь ли, Анна, для чего следует исповедаться?
— Как не понимать! Грешна я, батюшка. — В глаза просочились слезы.
— Скажи, Анна, перед лицом Бога, в чем ты хочешь покаяться?
Нюра задумалась.
— Ох, батюшка, грехов много, а назвать их слов не хватает, — тихо сказала.
— А ты не торопись да хорошенько подумай. Вот сейчас, чадо, Христос невидимо стоит, принимает твою исповедь. Не бойся, не стыдись и ничего не скрывай от меня. Припомни грехи свои да покайся в них искренне. Говори прямо все, что сотворила. Господь услышит твои слова и простит. — Отец Никодим снова посмотрел на Нюру лучистым взглядом.
— Да вот, батюшка, какое дело… — Нюра шевельнулась и поднялась на кровати повыше. — Лежу я, уж почитай, сутки и думаю, все никак не могу понять, почему, батюшка, ещё вчерась я на загривке бревна для бани таскала, а сегодня лежу трупом. Знаю, нагрешила. Потому как Колька — плотник — крепкие–то балясины припрятал, схитрил то есть. А мне как же без балясин баню строить? Вот я и решила, батюшка, его на чистую воду вывести. — Она замолчала, тяжело дыша. Лицо покрылось испариной. — Не со зла, батюшка, от обиды.
Нюра вытерла ладонями влагу.
— Я эти балясины год назад на пилзаводе выписала, полгода пенсию складывала. В город на базар ездила: то сливочки продам, то молочко. Очень уж мне баню новую охота, батюшка. Старая–то заваливается, печка коптит — по–чёрному топит. А он взял и… Эх! Вот я его — Кольку — и матюкнула. Да не просто, батюшка, куда послала, а в сердцах. — Она откинулась на подушке и закрыла лицо руками. — Каюсь, батюшка! Только как назвать этот грех? Слово не подберу…
— Вспыльчивость это, Анна, гнев, раздражительность.
— Ох, батюшка, так вспылила! — Анна мотнула головой и стукнула себя в грудь кулаком. — Аж в глазах черным–черно стало. Думала, убью Кольку–заразу!
— Вижу, Анна, покаяние твоё не лицемерно, а действительно выстрадано.
— И на Польку гневалась. Её коза у себя в огороде всю траву пощипала, так она её, как не проследишь, все к моему забору привяжет. А моей козочке что? Голодной ходить? Вот опять вспылила, ругалась с Полькой на чем свет стоит, батюшка. Даже сердце поджало. Выходит, опять грешна… — Нюра тяжело вздохнула.
— Вижу, Анна, твоё непритворство. Свидетельствую искренность твою и полное покаяние в содеянном.
— И злословила я, и завидовала. Катьке завидовала. А как же не завидовать–то, батюшка. — Нюра села на перине повыше. — Почитай одного года мы с Катькой–то. А она целую жизнь за мужиком своим просидела. Не работала, как я, от нужды, только по дому. А мой мужик рано помер. Простудился в колхозе на заготовках, скрутило его, сердечного, мигом представился. Я с тех пор все одна — и дома, и на хозяйстве. Так вот, в прошлый месяц почтальонша принесла пенсию. Мне три тысячи рублей, Катьке — три триста. Потому как ей полагается компенсация. Значит, ей правители наши придумали, чем компенсировать, а мне, батюшка, нет! Как же я ей позавидовала! Вот думаю, почему так? Почему все благa жизни мимо меня идут? Опять, выходит, недостойная я, грешила! — Нюра откинулась на подушку и горько заплакала, вытирая узловатыми кулаками с лица слезы.
— Слезы твои благодатные, Анна! Идут из самого сердца. Господь услышит тебя! Я буду молиться. — Глаза отца Никодима влажно блеснули.
— Ох, батюшка, говорите вы складно, сладко. Уху приятно слушать. Словно и не с вами я разговариваю — с самим Создателем. И на душе легко, приятно. И всё–таки сдаётся мне, я вас где–то встречала. Вы давно в городе–то?
— Недавно.
— А сами откуда родом?
— Из Курманаевки — здесь, неподалеку.
— Я и говорю, лицо знакомо: светлое, благородное. И я до замужества там жила. И брат мой там, и племянник. Кустова я в девичестве. Может, слыхали?
— Кустова?
— Дом наш на пригорке стоял, в ряду первый. Около мельницы.
Отец Никодим задумался, потом радостно вскрикнул:
— Так ты — Нюрка?
— Так говорю же, Нюрка я! А вы все — Анна, Анна! — Больная поднялась на локте, подсунула под спину подушку и присела в кровати.
Спокойное, невозмутимое лицо священника вдруг озарилось волнением.
— Нюра! А меня–то помнишь? Я Ваня. Ваня Молоносов! — Он присел рядом. Схватился руками за серебряный крест.
— Ванечка? — охнула Нюра. Жалобно посмотрела в лицо, отыскивая знакомые черты. — Я и чую, где–то встречались…
Она потянула на себя одеяло, стыдливо прикрываясь. Суетливо продрала пятернёй волосы. Скрутила на затылке пучок.
— Что же ты, Нюра, болеть–то вздумала! Помирать собралась! — Отец Никодим рукой хлопнул себя о колено, вскочил. Возбуждённо прошёлся по комнате. Схватился за голову…
— Сама не понимаю, — прошептала Нюра. Её щеки запылали.
Они взволнованно замолчали.
В тишине комнаты было слышно, как потрескивает фитилек оплавленной свечки, освещая отрешённый лик Богородицы.
— Стало быть, ты, Ваня, священником стал, — наконец, сдавленным голосом вымолвила Нюра.
— Да, Нюра, священником… А ты, стало быть…
Свечка погасла.
— А помнишь, — батюшка присел на кровати, взял больную за руку, — как сено ворошили, в телегу складывали. Ты сверху на возу, я снизу вилами подаю…
— Как не помнить, Ванечка. Душистое сено, сухое… — Нюра перевела дыхание.
— Колючее, за воротником скребло… — отец Никодим повёл плечами. — Звезды помнишь? Острые, огромные, как блюдца… Летали…
— А ягоды в траве? На солнце запеклись… я слаще не пробовала…
Они снова замолчали.
— Ты, Нюра, поправляйся, — справившись с чувствами, спокойно сказал батюшка. — А я буду просить Господа, чтобы он принёс исцеление. Сдаётся мне, ещё не все земные дела ты разрешила. Веруй и надейся. И Господа не забывай.
Отец Никодим подошёл к иконе и прочитал молитву.
Дверь приоткрылась. В комнату встревоженно заглянула сноха:
— Батюшка, не надо ли чего? — Плаксиво спросила: — Как вы, маманя?
— Собирай, Вера, стол, — распорядилась Нюра и опустила ноги с кровати. — Самовар заводи, неси пироги. Будем батюшку угощать.
Скрипнув, дверь мгновенно закрылась. И сразу же за стеной раздались оживлённые возгласы и топот шагов.
— Не побрезгуйте, батюшка. Пойдёмте к столу. — Нюра ногами нащупала тапки. Медленно, опираясь о стену, встала. Отец Никодим протянул руку.
Забыв про страх провалиться, Раечка бесстрашно неслась по мосту. Ветки ивы хлестали лицо, мостик возбуждённо раскачивался, скрипел, угрожал опрокинуть, но Раечка этого не замечала. Она со всех ног мчалась к подружке. Подбежав к дому Валентины, заколотила в окно. Из будки возмущённо заголосил пёс.
В избе спали. Вскоре в задней половине загорелся свет, метнулись тени по потолку, стукнула щеколда. На крыльце появилась Валя. Она была заспана и встревожена.
— Фу! Молчи! — приказала псу. Он яростно служил хозяйке. — Раиса? Ты ли? Случилось что? — Невидящими глазами подруга всматривалась в темноту.
— Ой, Валя! Чудо! Настоящее чудо! — воскликнула та, задыхаясь. — Нюра–то… — Она перекрестилась.
— Что? Померла? — охнула Валентина и тоже перекрестилась.
— Тьфу ты! Не померла — ожила! — Глаза Раисы округлились от восторга. — Чудесным образом исцелилась. Батюшка причащал, к смерти готовил, а она встала с постели и пошла.
— Да ну?! — Подруга всплеснула руками.
— Пошла — с Божьей помощью! На дворе уж все собрались, часы считали… — Раечка тряхнула кудряшками. — А она — глядь — к народу выходит. Пироги, говорит снохе, на стол ставь. Что–то я проголодалась…
— Так и сказала? Проголодалась?
— Вот те крест! Вся деревня в свидетелях! — Рая размашисто перекрестилась.
— Да замолчи ты! — Валентина швырнула в неунимающегося пса чем–то тяжёлым. — Как? И пошла? Своими ногами?
— Своими — чьим же? Чудесным образом пошла! Я и говорю — Чудо! Неподдельное чудо!
— Вот оно — слово Божье, молитва благодатная!
— Лежу, говорит, уж почитай два дня некормлена. А ещё баню строить.
— Так и сказала? Баню строить? Ну, чудеса!
— Вот что значит истинно веровать!
— Вот бы и моего ирода от зелья отвадить… — размечталась Валентина.
— А ты верь да молись. И к батюшке сходи. На все воля Божья. Чудо! Истинное чудо! — запричитала Рая. — Ладно, я побегу, скажу бабке Марье, — засобиралась она, спохватившись. — Завтра в город поеду, в храм, вставать рано. И ты иди, застудишься, — увидела у подруги босые ноги.
— А шляпка? Где твоя шляпка? — вдруг заметила Валентина.
— Да ну её, шляпку! — Рая вынула из кармана свёрнутый «пирожок» — Платок лучше — к калошам!

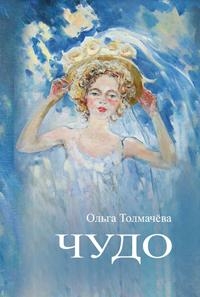


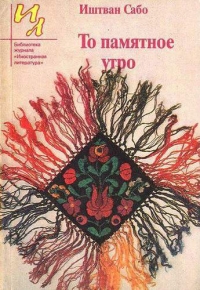

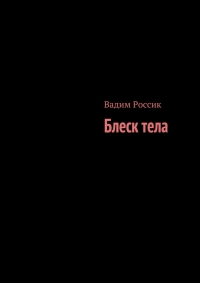
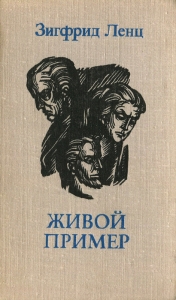


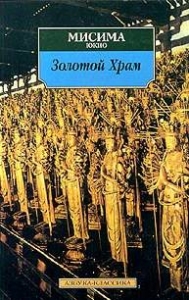

Комментарии к книге «Чудо», Ольга Алексеевна Толмачева
Всего 0 комментариев