Эрико Вериссимо «Господин посол»
Предисловие
Эрико Вериссимо, один из широко известных писателей-реалистов Бразилии, родился в 1905 году на юге страны в Порто-Алегре, где живет и работает по сей день. В 1933 году вышел в свет первый роман Вериссимо «Кларисса», обративший на себя внимание незаурядным дарованием автора. С тех пор им написано немало романов, повестей и рассказов, и многие из этих книг завоевали популярность не только в Бразилии, но и за ее пределами. Так, опубликованный в 1935 году роман «Скрещенные пути», который, кстати, сам писатель относит к числу своих лучших произведений, был переведен на многие европейские языки. Здесь талант Вериссимо обогатился новым качеством — психологической глубиной.
Большинство его художественных произведений, как и многочисленные лекции и интервью, посвящено двум основным для Вериссимо темам: обнажению социальных язв латиноамериканского общества и разоблачению американского империализма. Поэтому не удивительно, что каждая новая книга писателя — крупное событие, которое, по словам Жоржи Амаду, вызывает горячие дискуссии в широких кругах бразильской общественности.
В 1965 году в свет вышел «Господин посол», пожалуй, самое мужественное произведение Вериссимо. Но о нем в западном полушарии молчат. Роман явно пришелся не по вкусу кое-кому в Латинской Америке и в Соединенных Штатах: уж слишком неприглядными предстают в нем американский империализм и его пособники из латиноамериканских правящих кругов — местная буржуазия и реакционная военщина.
Место действия романа — республика Сакраменто. Хотя такого государства и нет на карте Латинской Америки, однако трагедия его типична сегодня для многих латиноамериканских стран. Республика Сакраменто — это и Парагвай, и Гаити, и Никарагуа, и Доминиканская Республика, — иначе говоря, в той или иной степени вся современная Латинская Америка, где фасады ультрасовременных зданий и крикливая реклама таят за собой пережитки феодализма, экономическую отсталость, постоянный голод, болезни, невежество. Вещими оказались слова Симона Боливара: «Соединенные Штаты предназначены самим провидением ввергнуть Южную Америку в нищету, прикрываясь именем свободы».
Широкие народные массы Латинской Америки живут запуганные, отупевшие от нищеты и невежества, прозябают в самой страшной отсталости, какую только можно вообразить. Из 230 миллионов латиноамериканцев две трети неграмотны, систематически недоедают, половина страдает инфекционными болезнями. В трущобах, кольцом опоясывающих столицы латиноамериканских республик, миллионы людей живут в жалких лачугах, сделанных либо из глины и бамбука, либо сколоченных из фанеры и кусков жести. Годовой доход половины работающих латиноамериканцев ниже 120 долларов. Миллионы людей озабочены лишь одним: как выжить, как спастись от костлявой руки голода.
Итак, главное для Вериссимо — реалистический показ латиноамериканского общества. И особо пристальное внимание писатель обращает на одну из самых злокачественных его опухолей — «каудилизм», или ныне презрительно именуемый «гориллизм», то есть реакционные военные диктатуры. И это не случайно. Ведь только за последние 25 лет в Латинской Америке произошло свыше 70 военных переворотов, в результате которых в 17 странах были свергнуты законные правительства.
Уже 35 лет господствует династия «каудильо» Сомоса в Никарагуа. Нынешний правитель Анастасио Сомоса-младший, генерал и наследный диктатор, еще более усовершенствовал передающееся от отца к сыну «искусство» терзать народ этой страны.
С 1954 года стоит у власти парагвайский генерал Стресснер, установивший самую жестокую в Латинской Америке диктатуру. Сегодняшний Парагвай — это огромный концентрационный лагерь с тысячами политзаключенных. Массовые аресты, пытки, насилия и расстрелы — такова парагвайская действительность. Это может показаться невероятным, но террор, развязанный диктатурой, заставил почти половину жителей покинуть страну. Но все это нисколько не смутило бывшего вице-президента США Никсона, назвавшего Парагвай «образцовым латиноамериканским государством».
Более десяти лет тирании Дювалье, забравшего в свои руки всю власть на Гаити — исполнительную, юридическую и законодательную. В 1961 году он продлил срок своего пребывания на посту президента на шесть лет, а в 1964 году, подобно абсолютному монарху, провозгласил себя пожизненным президентом Гаити. За время своего правления Дювалье причинил стране больший ущерб, чем все циклоны, которые пронеслись над островом.
Господство военных диктатур было и остается одной из главных причин политического хаоса в странах Латинской Америки и одним из существенных препятствий на пути их социально-экономического прогресса. Конституция, демократия, выборы, свобода слова и мысли в Никарагуа, Парагвае, Гаити, как, впрочем, и в ряде других стран Латинской Америки, оказываются лишь фикцией. На примере республики Сакраменто Вериссимо убедительно разоблачает антинародную, паразитическую сущность латиноамериканских военных диктатур.
Таким же военным переворотом является и произошедшая в республике Сакраменто революция, возглавляемая генералом Барриосом и полковником Валенсией.
Но, как писал Уильям Фостер, один из виднейших деятелей американского рабочего движения, «подавляющее большинство из тех сотен восстаний и переворотов, которые пережила Латинская Америка, вовсе не были революциями, поскольку они не влекли за собой коренных экономических и политических преобразований… В большинстве случаев бесчисленные захваты власти «сильными личностями» были просто-напросто «дворцовыми переворотами», в результате которых власть над государственным аппаратом переходила от одной клики армейских офицеров к другой».
В центре романа — история Габриэля Элиодоро Альварадо, одного из самых близких друзей и приспешников сакраментского диктатора Карреры. Альварадо прибывает в США в качестве нового посла, но, по замечанию одного из героев романа, представляет собой «пародию на посла» из «пародийной страны». Он невежественный мошенник и безнравственный распутник. Под стать ему военный атташе генерал Угарте, сколотивший состояние на спекуляции американскими холодильниками, радиоприемниками и другими товарами.
С большим мастерством рисует Вериссимо правящую элиту Сакраменто — жуликоватых торговцев, развратных циников и ханжей во главе с диктатором, который, наживаясь на продаже национальных интересов своей страны, стал одним из самых богатых людей на континенте — владельцем земель, плантаций, заводов и акций различных компаний.
Нынешние сомосы, стресснеры, дювалье и их пособники, как, впрочем, и вчерашние батисты, трухильо и хименесы, в своей жестокости, бесчестии и алчности нисколько не уступают диктаторам Сакраменто. Командная верхушка Стресснера, подобно военному атташе Сакраменто, неплохо зарабатывает на контрабанде английских спиртных напитков и американских сигарет. Сам диктатор, разумеется, не остается в стороне от подобных дел.
Одной из наиболее рьяных покровительниц военных диктатур является латиноамериканская земельная олигархия, по существу правящая этими странами. Если республикой Сакраменто правили тридцать семейств, то нынешним Сальвадором, например, правит четырнадцать семейств, связанных между собой узами родства. Двадцать богатейших фамилий уже много лет вершат судьбы панамской экономики и политики. Процветают сорок семейств в Перу, среди которых наиболее известен клан Прадо, владеющий хлопковыми и сахарными плантациями, страховыми, радио- и телевизионными компаниями, банками и фактически монополизировавший производство цемента в стране.
Эти мощные экономические группировки сквозь пальцы смотрят на чинимые диктаторами беззакония и произвол, а диктаторы в свою очередь обеспечивают экономический и социальный статус-кво, подавляя всякую оппозицию с помощью полиции и армии.
Резко говорит автор о жалкой роли проституированной латиноамериканской церкви, выступающей защитницей интересов олигархии и реакционной военщины.
Но латиноамериканская олигархия не единственный покровитель диктатур: на протяжении многих лет им оказывают поддержку Соединенные Штаты в благодарность за услуги американским монополиям, завладевшим природными богатствами латиноамериканских стран. «Юнайтед фрут компани», которая в романе Вериссимо зовется «Юнайтед плантейшн», принадлежит свыше миллиона гектаров плантаций бананов, сахарного тростника, какао, кофе и других сельскохозяйственных культур в Гватемале, Гондурасе, Никарагуа, Коста-Рике, Колумбии и Эквадоре. Этому «зеленому чудовищу», как называют «Юнайтед фрут» латиноамериканцы, принадлежат также сотни миль железных дорог и трамвайных линий, портовые сооружения, суда, радиостанции, газеты. Одним словом — всё!
Нефтяные тресты Рокфеллеров завладели почти всей добычей «черного золота». Им принадлежит на этом континенте 23 миллиона гектаров земли. Не меньшую роль в эксплуатации латиноамериканских народов играют дюпоны, меллоны, морганы и другие финансовые короли США. В Латинской Америке действует около трех тысяч филиалов и отделений американских компаний, вложивших в ее экономику свыше 12 миллиардов долларов. Они контролируют четвертую часть общего объема промышленного производства латиноамериканских стран и почти половину их внешней торговли, получив таким образом возможность оказывать решающее влияние на политические судьбы латиноамериканских государств, иначе говоря, поддерживать или свергать их правительства. Компании эти получают баснословные прибыли: 3–3,5 миллиарда долларов в год, то есть значительно больше, чем в любом другом районе мира. Согласно американским официальным данным, несомненно заниженным, с 1946 по 1965 год монополии США вывезли из Латинской Америки только на прямые капиталовложения около 13 миллиардов долларов, тогда как чистый приток новых частных инвестиций составил всего 5 миллиардов долларов. Как это ни парадоксально, латиноамериканские страны стали экспортерами долларов!
Вот почему «большой бизнес» США заинтересован в том, чтобы страны Латинской Америки оставались «банановыми республиками», лишенными собственной промышленности, вечными производителями дешевого сырья. Ради этого США готовы использовать свой престиж, политическое влияние и, если необходимо, военную силу.
И не случайно, что история Латинской Америки изобилует диверсиями, террористическими актами, государственными переворотами и вооруженными интервенциями в интересах и по указанию американского «большого бизнеса». «Мы, в Соединенных Штатах, никогда не страдали от оскорблений, провокаций и угроз со стороны какой-либо иностранной державы. Мы никогда не видели, чтобы иностранные войска входили в наши порты и высаживались на берег для того, чтобы оккупировать наши города и командовать нашим правительством. Мы были избавлены от всего этого потому, что мы были сильными. Вместо этого мы пользовались своей силой для того, чтобы унижать других. Мы находили моральное оправдание для самых циничных агрессивных актов и маскировали их такими громкими словами, как гуманизм, конституционализм, судьба. Таким образом, Соединенные Штаты являются причиной того, что латиноамериканские страны избрали своим фетишем национальный суверенитет».
Эти строки не принадлежат какому-либо прогрессивному деятелю Америки, это публичное признание высокопоставленного сотрудника государственного департамента США Лоранса Даггэна, сделанное вскоре после окончания второй мировой войны.
В конце прошлого и начале нынешнего века войска США не раз вторгались на территорию стран Центральной и Южной Америки для «наведения порядка». Куба, Доминиканская Республика, Никарагуа, Гаити, Мексика, Гондурас — вот страны, землю которых неоднократно топтали американские морские пехотинцы, жестоко расправляясь с национально-освободительным двиением. Впрочем, и сейчас Соединенные Штаты не отказываются от «дипломатии канонерок» и политики «большой дубинки», провозглашенной в начале ХХ века президентом Теодором Рузвельтом.
Все это живо напоминает описанное в романе вторжение на территорию республики Сакраменто наемных войск, которые под предлогом ликвидации мнимой «коммунистической угрозы» помогли свергнуть правительство Морено, закрывшего публичные дома и казино, запретившего проституцию и торговлю наркотиками и начавшего экспроприацию земель у крупных латифундистов и иностранных компаний.
Делая ныне основную ставку на союз с «гориллами», Вашингтон видит в их лице верных защитников интересов американских монополий, активных пособников агрессивной политики США. Наиболее реакционные круги латиноамериканской военщины все шире вовлекаются в «крестовый поход» против народов Латинской Америки, стремящихся к свободе и независимости. А там, где эта военщина не в состоянии справиться с национально-освободительным движением собственными силами, ей на помощь приходит Пентагон. Кровавая расправа, учиненная Соединенными Штатами над панамскими патриотами в 1964 году, и вооруженная агрессия США против доминиканского народа в 1965 году наглядно показали всему миру, чего стоят разговоры о защите «свободы и демократии».
Провозглашение «доктрины Джонсона», объявившей «устаревшим» понятие национального суверенитета, резолюция палаты представителей США о «праве» Вашингтона на одностороннее вмешательство в дела любого государства западного полушария, настойчивые попытки сколотить постоянный межамериканский жандармский корпус — вот лишь некоторые вехи нынешней агрессивной политики американского империализма в Латинской Америке. К этому следовало бы добавить шантаж, подкуп, экономическое давление и активную антикоммунистическую пропаганду. Американский прогрессивный публицист Каратон Билс как-то заметил: «Если бы вдруг проконсулы испанской империи, которые пытались в свое время закрыть двери Латинской Америки для писателей революционной Франции и воспрепятствовали распространению сведений о североамериканской революции, воскресли, они испытали бы зависть, увидев ту огромную машину и методы, которые используют североамериканские проконсулы сегодня для того, чтобы воспрепятствовать распространению правды и… удержать целый континент вдали от мировых событий и стремлений».
Немудрено, что подобного рода политика США по отношению к их южным соседям вызывает недовольство и негодование даже в правящих кругах латиноамериканских стран, не говоря уже о широкой общественности. «Кто вы такие, американцы, чтобы устанавливать абсолютные эталоны для человечества? Сверхчеловеки? Боги?» — спрашивает один из героев романа Вериссимо американского журналиста. В этот вопрос автор вложил и ненависть и презрение.
Автобиографический очерк Вериссимо, опубликованный уже после выхода в свет романа «Господин посол», свидетельствует о том, что военный переворот 1964 года в Бразилии, совершенный по указке Вашингтона, и вооруженная агрессия США во Вьетнаме и Доминиканской Республике еще больше усилили антиамериканские настроения писателя. И хотя, как признает сам Вериссимо, он никогда не принадлежал и не принадлежит ни к одной из политических партий, он активно выступает за восстановление демократии в стране.
Стремление к подлинной свободе, социальной справедливости и национальной независимости — таковы основные черты творчества Вериссимо, которое не может не заинтересовать советского читателя.
Ю. Елютин
Часть 1. Верительные грамоты
1
В день тридцатипятилетнего юбилея Уильяма Б. Годкина, корреспондента Амальгамэйтед Пресс и специалиста по Латинской Америке, коллеги устроили в его честь завтрак в Национальном пресс-клубе Вашингтона. Один из приятелей Годкина, которому было поручено выступить с приветственной речью, приправил юмором биографию юбиляра и постарался сдобрить ее щепоткой чувства. Он вспомнил различные случаи из карьеры Годкина — драматические смешные — и, в частности, сказал: «Для нас, Билл, ты больше чем хороший друг и честный коллега. Ты символ и — почему бы нет? — что-то вроде живого монумента».
Закончив речь, он преподнес юбиляру от коллег по Амальпресс памятный подарок: шведские ручные часы и английскую трубку.
Билл Годкин поначалу думал, что, пожалуй, отделается, сказав «весьма признателен» и широко раскинув руки как бы для того, чтобы заключить в объятия двадцать с лишним друзей, которые его окружили. Он ненавидел всякие разглагольствования, в особенности банкетные. Но поскольку отовсюду послышались возгласы: «Речь! Давай, Билл! Скажи что-нибудь!» — у него не было иного выхода, как встать и заговорить.
Он не расстался при этом со своей старой трубкой, которая дымилась у него в руке, и не изменил голоса, обыкновенно тягучего и монотонного, лишенного малейшей выразительности. Даже когда у него во рту не было трубки, Годкин произносил слова невнятно, едва шевеля губами.
Он наговорил больше, чем собирался, не сумев скрыть чувств, которые предпочел бы не проявлять. Указав мундштуком трубки на приветствовавших его коллег, он сказал:
— Когда я был в возрасте этого юноши, я гордился тем, что, как истинный репортер, сообщаю только факты. Однако сегодня, на пороге старости (ибо вам известно, что я не без труда прохожу последнюю милю, отделяющую меня от шестого десятка), я охвачен сомнениями… — Он сделал паузу, чтобы затянуться, и продолжал: — Не является ли то, что мы называем фактом, своего рода айсбергом, на девять десятых погруженным в мутные воды политических и экономических интересов, национальных и личных устремлений, не говоря уже о других скрытых мотивах человеческих поступков, более темных, чем морские пучины?
Он взял трубку в рот, отчего его дикция стала совсем невнятной, и продолжал:
— Расщепив атом, ученые нашего века расщепили также семантику и даже этику. Кто сейчас определит значение слов, которые мы по легкомыслию употребляем слишком часто, таких, как «свобода», «мир», «правда» и «справедливость»? Еще хуже обстоит дело со словом «истина»… Сколько истин существует теперь в мире? Я знаю множество: истина Белого дома, Кремля, Ватикана, Уолл-стрита, Бродвея, «Юнайтед стил корпорейшн», Американской федерации труда. Не следует забывать также и об истине Мэдисон авеню, возможно, самой фантастической из всех.
Годкин закашлялся, вытер платком рот.
— Молодой оратор сказал, что я символ… Но символ чего? Наверное, журналистики, которая теперь близится к закату. Я принадлежу к эпохе, когда корреспонденты писали лишь о событиях. Вы же, нынешние, соревнуетесь с господом богом. Вы не только стараетесь опередить события, но и считаете себя вправе в случае надобности создавать их, чтобы потом писать свои корреспонденции.
На мгновение он замолчал и уставился на скатерть, словно там был написан текст его речи.
— Что же касается того, что я стал в некотором роде монументом, то, возможно, мой любезный коллега хотел сказать, будто я уже превратился в восковую фигуру, слепок с самого себя и мне пора покрываться пылью в музее журналистики.
Послышались возгласы: «Не говори ерунды!», «Что с тобой, старина?», «Не валяй дурака!» Уильям Б. Годкин поднял руку, прося тишины, и закончил:
— Как бы там ни было, не думайте, что я не смог оценить ваши добрые чувства… этот завтрак, теплые слова, прекрасные подарки… Впрочем, мне лучше кончить, а то я наговорю глупостей. Спасибо, ребята!
Годкин уселся под гром аплодисментов, однако недовольный собой. Ведь он поднялся, намереваясь произнести короткую и шутливую, подобающую случаю речь, а почему-то под конец заговорил серьезно и, что еще хуже, занялся смешным самобичеванием. Он раздраженно выколотил трубку, слишком сильно стукнув ею о пепельницу.
Возвратившись в бюро Амальпресс, он некоторое время сидел за своим столом, рассеянно перебирая лежавшие перед ним бумаги. Затем поднял голову и уставился на календарь, висевший на стене. 6 апреля. Понедельник. Он решил, что сейчас на свете есть лишь одно стоящее дело, которое он может сделать, и позвал секретаршу. Мисс Кэй вошла с блокнотом в руках и желтым карандашом за ухом. Это была невысокая женщина неопределенного возраста с обесцвеченными перекисью водорода волосами, острым профилем и стальными глазами.
— Есть что-нибудь важное?
— Нет, мистер Годкин.
— Отлично. Скажите ребятам, что я ушел и сегодня не вернусь.
— Прекрасно, мистер Годкин.
Замечательная мисс Кэй! Точна, как хронометр. Работает, как машина. В служебное время никогда не позволит себе замечания или жеста, не относящегося к делу.
— Только что я сделал одно открытие… — пробормотал Годкин, надевая пальто и беря шляпу.
— Да, мистер Годкин?
— Самое важное в Вашингтоне не Белый дом. И не госдепартамент. Не казначейство. Не ФБР. Не Смитсоновский институт.
Секретарша ждала, выпрямившись, с бесстрастной и строгой миной. У двери Билл закончил:
— Самое важное — это вишневые деревья Потомака в первые дни апреля! Если газеты не врут, они сегодня зацвели.
Выколачивая трубку, он тайком взглянул на секретаршу, ожидая улыбки или какой-нибудь иной реакции. Мисс Кэй, однако, оставалась серьезной и настороженной. Она отказывалась принять шутку и, как и подобает машине, хранила безразличие. Разве телетайп дрожит от радости или негодования, когда принимает либо передает сообщения?
— До завтра, мисс Кэй.
— До завтра, мистер Годкин.
На улице Билл Годкин вдохнул прохладный аромат весны, исходивший от влажной зелени. Он решил пройтись пешком до Тайдл Бейсин. Засунув руки в карманы пальто, он вышел на 16-ю улицу и двинулся в южном направлении. Годкин вспомнил о своем друге Пабло Ортеге, первом секретаре посольства республики Сакраменто. Однажды, когда было такое же чистое и сияющее небо, он, взглянув вверх, воскликнул: «Держу пари, сегодня бог велел Фра Анжелико покрасить небо. Ибо только он знает секрет такого чистого голубого цвета». Билл думал о том, что почему-то именно в такие прекрасные дни он особенно остро ощущает свое одиночество. У него не было детей, и два года назад жена скончалась от лейкемии… Это нежное создание, напоминавшее портрет, написанный пастелью, уходило из жизни, постепенно угасая, без единой жалобы, ни на мгновение не утратив жизнелюбия, веры в лучшее, жадного интереса к людям, животным и вещам. «Бог ведает, что творит, — любила повторять она. — Подлинно зрелый человек понимает символический язык создателя».
Продолжая думать о покойной жене, Билл Годкин подошел к Лафайет-скверу. В противоположном конце площади он увидел Белый дом. Билл считал его самым красивым зданием Вашингтона, где удачно сочетались благородство и изящество, простота и гармония. Наверное, в эту минуту в одной из комнат Белого дома президент Эйзенхауэр напряженно размышляет над текущими проблемами: судьбой кубинской революции и драмой Джона Фостера Даллеса, который лежит в больнице в ожидании мучительной смерти от рака желудка.
Билл собрался пересечь улицу, когда перед ним вдруг возникла Рут, и он даже услышал ее голос: «Дорогой мой, никогда не переходи улицу, не посмотрев прежде по сторонам, хорошо?» Он последовал этому совету, но лишь механически, ибо так и не понял, угрожает ему опасность или нет. Билл шел своим обычным неторопливым шагом, однако ему пришлось поторопиться, когда он заметил справа от себя и уже совсем близко мрачный черный «кадиллак». У-ух! Наконец-то он добрался до тротуара. (Машина, похожая на эту, отвезла тело Рут на кладбище…) Посреди площади стояла статуя Эндрью Джексона: он скакал на лошади, придерживая рукой треуголку… По утверждению знатоков, поза лошади, поднявшейся на дыбы, поставила перед скульптором трудную техническую задачу, которую он блестяще разрешил. (Орландо Гонзага, приятель Билла, бразилец, сказал ему как-то: «Вы, американцы, путаете искусство с ремеслом».)
Памятники американской столицы отнюдь не воодушевляли Годкина. В большинстве своем они были стандартными, им не хватало величия и красоты. Лучшие достопримечательности Вашингтона — это деревья и парки, думал Билл, шагая под сенью вязов, окаймлявших Джексон Плэйс. Эти высокие, стройные и благородные деревья напоминали Годкину Авраама Линкольна.
На мгновение Билл остановился посмотреть на стаю скворцов с темными блестящими перьями и желтыми клювами — птицы оживленно щебетали в ветвях магнолии. Рут обычно говорила, что деревья, цветы, птицы, дети, то есть все прекрасное, — это как бы слова надежды, с которыми бог время от времени обращается к людям, живущим в жестоком, мрачном и абсурдном мире. Мрачном и абсурдном… Годкин вспомнил, что несколько лет назад (пять? шесть? может быть, семь?..) как-то в августе на рассвете, когда стоял влажный, удушающий зной, он пришел на эту площадь, усталый после ночной работы в Амальпресс, и ненадолго остановился под этим же деревом. Сладкий аромат цветов магнолии, разлитый в неподвижном воздухе, был подобен прикосновению теплой ладони, волнующему, как ласка. Биллу никогда не забыть этого раннего утра из-за случая, который с ним тогда произошел. К нему пристал гомосексуалист, откровенно сделавший гнусное предложение. Билл лишь бросил взгляд на незнакомца — это был хорошо одетый стройный блондин, лет тридцати с небольшим — и зашагал, ничего не ответив и даже не возмутившись. Ему стало неловко и в то же время жалко этого беднягу, который пошел за ним, все настойчивее повторяя свое предложение. Он немного запыхался, и его грудной голос звучал сейчас нелепо и жалобно. Однако, когда блондин схватил Билла за руку, тот резко высвободился и пригрозил поколотить его. Блондин остановился и громко сказал: «Если в такое время тебя потянуло сюда прогуливаться, значит, ты испытываешь подсознательное влечение».
Билл Годкин так и не смог понять, по какой причине — если причина вообще существовала — гомосексуалисты Вашингтона избрали для свиданий эту площадь, расположенную столь близко от резиденции президента. Выйдя на Пенсильвания-авеню, он остановился. После того, как в светофоре против Белого дома зажегся зеленый свет, Билл пересек улицу и зашагал вдоль громоздкого здания цвета старой кости, построенного в неоклассическом французском стиле, где в свое время помещался госдепартамент. Билл снова подумал о Даллесе — этому мужественному и цельному человеку вредило кальвинистское мировоззрение. Мог ли государственный деятель с пуританскими взглядами понять Латинскую Америку? И как будут развиваться теперь события на Кубе? Пока продолжаются расстрелы сторонников Фульхеисио Батисты, виновных в зверствах и других преступлениях, революционное правительство «временно» взяло в свои руки управление «Кьюбан телефон», дочерней компании треста «Юнайтед Стейтс телефон энд телеграф». Национализация других американских предприятий неизбежна, размышлял Годкин, это произойдет рано или поздно. Но какую позицию займет правительство Соединенных Штатов? Билл догадывался, что кто-нибудь из конгрессменов произнесет в Капитолии речь, напоминая о правах человека и протестуя против расстрелов в Гаване, однако государственные мужи лишь тогда проявят подлинное негодование, угрожая земле и небу, когда Фидель Кастро начнет конфисковывать имущество граждан Соединенных Штатов. Билл Годкин остановился, выколотил потухшую трубку о каблук и, снова набивая ее, вспомнил, как Макиавелли советовал принцу, чтобы тот в случае необходимости приказывал убивать своих подданных, но не трогал их собственности, так как человек скорее забудет смерть отца, чем потерю достояния.
«Впрочем, к чему эти мысли в такой чудесный весенний вечер?» — подумал Годкин и решил пересечь аллею по диагонали, чтобы выйти к памятнику Вашингтону. Повсюду чувствовалось праздничное оживление. Сотни людей (а может быть, и тысячи) гуляли по газонам и тротуарам. Мужчины, женщины и дети — пестрые движущиеся пятна — казались Биллу модернистской пародией на «Крестьянскую свадьбу» Брейгеля, которую он и Рут видели в венском музее. (Бедняжка Рут знала, что ей оставалось жить не больше года, и все же, как девочка, радовалась своему первому и последнему путешествию в Европу!) Люди шли к вишневым деревьям на берегу Потомака либо возвращались оттуда. Голубовато-серебристые автобусы, украшенные флажками и набитые туристами, с трудом двигались по Конститюэйшн-авеню, полной машин. На Саус Экзекьютив-авеню теснились любители фотографировать или просто любопытные, через решетки глазевшие на сады и южный фасад Белого дома.
Запах молодой травы, который вдыхал Билл, вызвал в его памяти картины детства: луга Канзаса в апреле. Не вынимая трубки изо рта, он принялся насвистывать сквозь зубы мотив, звучавший в его ушах, когда он думал об отдыхе и праздниках. Билл остановился, чтобы бросить хлебные крошки трем белкам, двум серым и одной белой, которые подбежали к нему. Во время завтрака в Пресс-клубе он сунул в карман кусочки хлеба специально для этих своих приятелей.
Билл взглянул на обелиск, возвышавшийся на вершине зеленого холма и окруженный национальными флагами, которые развевались на ветру. Он снова услышал голос Орландо Гонзаги: «Обелиск? Еще бы! Ведь этому федеральному городишке нужен был внушительный монумент, чтобы как-то компенсировать свою неполноценность». Улыбнувшись замечанию друга, Билл удивился: «Неполноценность?» Гонзага тотчас пояснил: «Разумеется. Вашингтон — столица скуки и бессилия, где обитают государственные чиновники, дипломаты и старики, вышедшие в отставку. И потом, мой дорогой, эта территория, вклинившаяся между Мэрилендом и Виргинией, не имеет даже права голоса».
Медленно поднимаясь на холм, Билл спорил с первым секретарем посольства Бразилии: «Как вы можете называть нас нацией материалистов, помышляющей лишь о долларах, если эти маленькие японские деревца, расцветающие в апреле, привлекают в Вашингтон сотни тысяч американцев со всех концов страны?»
Билл уже различал верхушки вишневых деревьев, окружающих Тайдл Бейсин, и остановился, с трудом переводя дыхание — то ли после тяжелого подъема, то ли от волнения, которое охватило его при виде этой картины, — он и сам не знал. Красота пейзажа была столь хрупкой, что попытка передать ее словами, кистью или на фотографии мгновенно разрушала все очарование… Поэтому Билл решил приближаться к цветущим вишневым деревьям со всей осторожностью, мягко ступая и затаив дыхание.
При мысли об умершей жене взор Билла затуманился грустью. Бедная Рут была права. Бог — величайший поэт. К сожалению, людям, тупым и темным, не дано прочитать поэмы, которые творит создатель. «Неграмотные тупицы, — бормотал Билл, приближаясь к белоснежной роще. — Все! В том числе и я. В первую очередь я!»
2
Когда через несколько часов Билл вошел в маленький бар на Коннектикут-авеню, где назначил свидание двум друзьям дипломатам, Орландо Гонзага уже был там и сидел у стола, где они обычно встречались, лицом к входным дверям. Бразилец любил говорить, что похож на деда по материнской линии, стяжавшего скандальную славу политического лидера глухой провинции штата Минас-Жеранс, который имел крупные земельные угодья и много врагов; дед никогда не садился спиною к окну или к двери, чувствуя себя в безопасности, лишь если за спиной были крепкие двери или стена.
— Билл, старина! — воскликнул Гонзага, пожимая журналисту руку. — Ты что-то задержался. Я просидел здесь почти полчаса. Можно подумать, что ты Годо!
Билл, весьма приблизительно знавший театр и литературу, намека не понял, но вопросов задавать не стал. Усевшись, он рассказал о своей прогулке.
— Цветущие вишни! — снова воскликнул Гонзага и сморщился. — Грандиозная ботаническая толкучка!
— Не будь снобом! Никогда не поверю, будто ты не восхищаешься этим зрелищем, как и все.
Гонзага улыбнулся.
— Что будешь пить?
— Кампари.
— Говори тише, иначе кто-нибудь сообщит в конгресс о твоей антиамериканской деятельности. Ты окончательно отказался от бурбона?
— Кампари, — повторил Годкин, закурив трубку и ослабив узел своего ядовито-зеленого галстука, над которым коллеги Билла не уставали издеваться.
Гонзага, приканчивавший второй бокал мартини, подозвал официанта и заказал кампари.
— Если бы я был благоразумным, — бормотал Годкин, — я бы пил цикуту.
— Почему, Сократ?
— Сегодня я пришел к заключению, что ни один человек не должен поддаваться старости. Любуясь цветением вишневых деревьев, которое повторяется каждый год, я думал о неотвратимом отвердении своих артерий.
— Глупости. Я не верю всему этому и продолжаю считать тебя «благонадежным гражданином».
— Сегодня я чувствую себя опустошенным… — признался Билл и подумал: «И одиноким…»
Когда официант поставил перед ним бокал кампари, Годкин предложил тост:
— Как говорят у вас в Бразилии: «За наши доблести!»
— А их у нас немало, — подхватил Гонзага, также поднимая бокал.
Годкин заметил, что взгляд друга настойчиво устремлен на что-то или, вернее, на кого-то, вероятно на женщину, сидевшую в другом конце зала. Этот взгляд был настолько сальным, что Биллу показалось, будто в воздухе он оставляет липкий след.
Билл удержался от искушения обернуться и с профессиональной наблюдательностью продолжал изучать физиономию друга. Лицо Орландо Гонзаги было мясистое, почти жирное, карие глаза немного навыкате, веки припухшие. Тщательно подстриженные темные, как и волосы, усы окаймляли красиво очерченные губы. Голос у него был низкий, бархатный, проникающий в душу — такие голоса хорошо звучат в сумраке алькова. При среднем росте Гонзага был сложен атлетически, как борцы дзюдо. Одевался он неброско и элегантно (его любимые цвета были серый и синий), рубашки шил на заказ, галстуки и обувь носил только итальянские, а костюмы английские. В присутствии своего всегда хорошо одетого, тщательно причесанного, гладко выбритого и холеного приятеля Билл Годкин особенно остро чувствовал собственную неряшливость. Недавно на конкурсе, в шутку проведенном журналистами, он попал в число десяти наиболее плохо одевающихся корреспондентов Вашингтона. Новый, прямо из магазина, костюм уже на следующий день выглядел на Билле поношенным: складка на брюках исчезала, пиджак обвисал, а карманы казались беременными от бумаг, хлебных корок, почтовых марок, медных и серебряных монет, огрызков карандашей, книг и газет, которые Билл туда запихивал.
— Но где же наш Пабло? — спросил Годкин.
Не отводя глаз от прекрасного видения, Гонзага ответил:
— Он недавно звонил и сказал, что не сможет прийти. Все еще занят с новым послом, который завтра будет вручать верительные грамоты президенту Эйзенхауэру.
— Бедный Пабло! Не хотел бы я быть в его шкуре.
— Я тоже. Эти послы, как правило, ничего не смыслят в дипломатии да к тому же обязательно близкие друзья президента, так что хлопот с ними не оберешься… А впрочем, хватит об этом. Лучше обернись незаметно и посмотри на красотку в глубине зала… Я так и сверлю ее глазами, а она и не думает взглянуть на меня.
Годкин улыбнулся, выждал несколько секунд и, повернувшись, увидел за столом у стены хорошенькую женщину, которая пила в одиночестве.
— Нравится?
— Красивая и яркая до неправдоподобия, как цветная иллюстрация к повести в «Сатэрдей ивнинг пост».
— Вот именно! Ты дал отличную характеристику американским красавицам. Они ярки, как никакие женщины в мире… Они благоухают, так как ежедневно принимают ванну и испытывают болезненную страсть к средствам, устраняющим запахи… Но они безвкусны, как и вся американская кухня…
— Безвкусны?
— Возьми журнал, где есть кулинарная страница, и ты увидишь великолепные фотографии разных кушаний… Какие цвета! Как все аппетитно! Прямо слюнки текут… Но если б ты мог сжевать эту страницу, вкус у нее был бы такой же, как у блюда, на ней изображенного.
— Уж не хочешь ли ты сказать что спать с американкой — это все равно, что спать с цветной фотографией…
— Почти что.
— Ты преувеличиваешь!
Гонзага нахмурился.
— Только не оборачивайся, Билл, я тебе опишу, чем сейчас занята наша красотка. К ней только что подошел парень ростом в два метра, блондин, с тупой физиономией футболиста, наверное, герой корейской войны… Этот бандит наклонился и поцеловал ее. Она улыбнулась. Он садится. Беседуют. Может быть, они муж и жена? Что ж, поцелуй был вполне супружеский… Допустим, так оно и есть. Они встречаются в постели приблизительно раз в месяц, ибо он, энергичный молодой глава процветающей фирмы, по горло занят общественными и коммерческими делами и поэтому несколько небрежно выполняет супружеские обязанности.
Покуривая, Годкин улыбался и слушал. Гонзага наклонился над столом, будто собирался выдать государственную тайну.
— После того как вы, американцы, захватили Запад, вы жаждете завоевания новых рубежей. Залезаете на горы, охотитесь под водой, побиваете рекорды скорости на земле и в воздухе, увлекаетесь самыми опасными видами спорта, чтобы доказать самим себе и всему миру, что вы предприимчивы, ловки, а главное, сильны. И все же вы не понимаете, что важнейший рубеж внутри самой Америки все еще не завоеван. Этот рубеж — американская женщина, Билл! Оставьте ненадолго электронные игрушки и постарайтесь проявить свою мужественность не только в бейсболе. Позабудьте о матерях и отважьтесь на великое завоевание!
— Зато уж вы, латиноамериканцы, все постигли, не так ли?
— Во всяком случае, дорогой, мы пользуемся без всяких запретов радостями, которые нам дает наше тело… Постой! Футболист расплачивается… Богиня встала! Ого! Она не менее прелестна и сзади.
«Как многие бразильцы его круга, — подумал Годкин, — Гонзага, очевидно, испытывает особую слабость к этой части женского тела».
— Еще кампари?
— Нет. Я уже достаточно выпил за завтраком, а это со мной случается редко.
— Да! Как прошло чествование?
— Как обычно. Шутки, остроты, речи…
Билл посмотрел по сторонам. Темные абажуры создавали в помещении какие-то интимные сумерки. В воздухе пахло гарденией (а может, от пышной блондинки, сидевшей за соседним столом?) и испарениями виски. Невидимый громкоговоритель вкрадчиво наигрывал томный блюз.
— Ты настоящий герой, мистер Годкин. Тридцать пять лет в одной и той же фирме! На год больше, чем я вообще существую в этой юдоли слез.
— Уж не думаешь ли ты, что я сегодня счастлив? Сидя на берегу Тайдл Бейсин, я подбил итог своей жизни. Скоро мне стукнет шестьдесят. Я не богат и не знаменит. По американским понятиям, банкрот.
— К черту эти понятия, Билл. Почему вы, американцы, решили устанавливать эталоны для всего мира? Разве вы сверхчеловеки? Или боги?
— Не знаю, и все же…
Гонзага откинулся на спинку кожаного дивана и задумчиво уставился на третий бокал мартини, который официант поставил перед ним.
— Ты мне никогда не рассказывал, как попал в лапы Амальпресс.
— Тебе это в самом деле интересно?
— Конечно, старина!
Билл нерешительно взглянул на приятеля, сомневаясь в его искренности. Он знал, что Орландо Гонзага, как почти все латиноамериканцы, был плохим собеседником. Он любил говорить, однако слушать не умел.
— Среди моих весьма скромных академических подвигов в нью-йоркском Сити Колледже наиболее примечательным была диссертация, которую я не без претензии озаглавил «Рентгенограмма латиноамериканских диктатур».
— Почему не без претензии?
— Я был тогда зеленым юнцом, мне не исполнилось и двадцати четырех, и я еще не ступал на землю Латинской Америки. Немного знал испанский, восхищался Боливаром, Сапатой, Хуаресом… и проглотил в Публичной библиотеке несколько десятков книг о Латинской Америке. Как видишь, мой рентгеновский аппарат был лишь второсортным биноклем…
— Прескотт написал свое знаменитое «Завоевание Мексики», не побывав в этой стране.
Билл улыбнулся, показывая желтоватые зубы.
— Не помню, зачем один из директоров Амальгамэйтед Пресс прочел мою диссертацию, нашел у меня репортерские способности и предложил работать в своем агентстве. Я согласился, меня послали в одну из республик Центральной Америки, где накануне президентских выборов ожидались беспорядки… В этом тропическом аду я пробыл месяц — одни из самых тяжелых в моей жизни. Корреспондент другого агентства, деливший со мной номер в отеле, схватил малярию. Мне повезло, хотя меня не меньше его кусали москиты. Я отделался дизентерийным колитом, от которого излечился лишь через пять лет…
— А революция?
— Ее не было. Впрочем, как и выборов. Обычная история. И все же…
Он замолчал, заметив, что Гонзага его не слушает.
— Билл, старина, только что вошла какая-то смуглая красавица, наверное латиноамериканка. А! Я знаю, кто она. Это дочь сальвадорского посла. Какие глаза, дружище! Но продолжай, Билл, продолжай…
— Я знаком с ней, Гонзага. Она замужем и совсем не легкомысленна. Так что оставь надежду.
— Все это я знаю. Но разве грех полюбоваться ею? Продолжай свою историю, Билл, и не ревнуй. Мои глаза могут смотреть на смуглянку, но уши внемлют тебе.
— Да стоит ли?
— Ладно, если ты настаиваешь, я буду смотреть на тебя, хотя веснушчатые рыжие старики не в моем вкусе. Гарсон! Еще маслин! Давай, Билл!
— Удача мне улыбнулась в конце двадцать пятого года. В республике Сакраменто, где уже почти четверть века правил диктатор дон Антонио Мария Чаморро, молодой лейтенант Хувентино Каррера поднял восстание в гарнизоне города Лос-Платанос и ушел со своими солдатами в горы Сьерра-де-ла-Калавера, откуда повел беспощадную партизанскую борьбу против федеральных войск.
Билл Годкин положил потухшую трубку, отхлебнул глоток кампари и продолжал:
— В один прекрасный день я решил проинтервьюировать лейтенанта Карреру в его логове или, лучше сказать, в его орлином гнезде. Мой шеф нашел эту идею довольно странной. Республика Сакраменто не являлась ведущей державой. И дело молодого революционера все считали проигранным, ибо дон Антонио Мария Чаморро прочно держал власть в своих руках; народ был терроризирован; крестьян, помогавших революционерам, расстреливали. К тому же Карибский Шакал (так враги называли диктатора) пользовался поддержкой дона Эрминио Ормасабаля, архиепископа — примаса Сакраменто.
— И вероятно, покровительством компании «Юнайтед плантейшн», — вставил Гонзага.
— Разумеется, а также «Карибеан Шугар Эмпориум». Вот почему правительство Чаморро казалось прочным, как Анды. И все же никому не удалось отговорить меня от задуманного. Я симпатизировал повстанцам. И, между нами говоря, как равнинный житель, особенно остро чувствовал очарование гор. Итак, я установил контакт с посольством Соединенных Штатов в Серро-Эрмосо. Посол тоже пытался разубедить меня и очень неохотно обратился к правительству Чаморро, с которым у него были хорошие отношения, чтобы оно помогло мне. Короче говоря, я получил пропуск, поклялся сакраментским властям не использовать предоставленной мне возможности в интересах революционеров и обещал перед опубликованием показать правительственной цензуре свое интервью с Каррерой.
Теперь бразилец как будто и впрямь заинтересовался рассказом.
— Ты не знаешь Сакраменто, Гонзага. Сьерра-де-ла-Калавера находится на восточной оконечности Кордильер-дос-Индиос, пересекающих страну с востока на запад. — Билл вытащил из кармана авторучку и набросал на бумажной скатерти карту республики Сакраменто. — Взгляни-ка сюда, в двадцати с небольшим километрах от отрогов хребта находится город Соледад-дель-Мар. Отсюда я и начал свое восхождение в горы… Ты и представить себе не можешь, каких трудов мне стоило найти человека, который согласился провести меня в убежище Карреры…
— Конечно, ведь тебе не доверяли.
— Еще бы! Власти боялись, что я доставлю какое-нибудь послание мятежникам, а крестьяне подозревали, что я тайный агент диктатора, которому поручено убить Карреру. В конце концов мне пришел на помощь падре Каталино, молодой священник и незаурядный человек. Ходили слухи, будто архиепископ уже несколько раз выговаривал ему за то, что он помогал революционерам. Падре нашел мне проводника, на которого можно было положиться, и тот обещал довести меня до первого поста Карреры. Я отправился в горы верхом на осле, повесив себе на шею фотоаппарат.
— А что за человек был этот Хувентино Каррера?
— Он поразительно напоминал Симона Боливара, знал об этом сходстве и играл на нем.
— Однако, пока ты поднимался в горы, тебя могли пристрелить и сторонники диктатора, и повстанцы…
— А разве ты не привык к тому, что либерал всегда между двух огней?..
— И когда ты вернулся, тебя, конечно, допрашивали люди Чаморро?..
— Не только, они меня ощупывали и обнюхивали… Но для сакраментских властей у меня был специально заготовлен репортаж, в котором революционеры представали как банда плохо вооруженных и плохо снабженных боеприпасами авантюристов, деморализованных и недисциплинированных, находящихся на грани полного разложения. Мне удалось спрятать катушку фотопленки, которую я отснял в партизанском лагере, и запомнить то, что рассказал мне Каррера. По возвращении в Вашингтон я опубликовал серию репортажей с фотоснимками. Репортажи эти были направлены против диктатуры Чаморро и защищали повстанцев.
— Они разошлись по всему свету и, конечно, помогли революционерам.
— У меня есть веские основания верить в это.
— Странно, что тебе не присудили премию Пулитцера по журналистике, — заметил Гонзага, пережевывая маслину и бросая через плечо друга похотливый взгляд на смуглянку.
Годкин покачал головой, взял трубку и принялся ее набивать.
— Какая там премия! Не отрицаю, в моей статье содержались объективно изложенные факты, но ей не хватало того, что называется изяществом. Я не обольщаюсь насчет своих возможностей, дорогой, и не считаю себя блестящим писателем. Мои шефы ценят меня как «компетентного профессионала», товарищи говорят, что глаз у меня зоркий, как у жабы… а это немало для репортера. Я знаю также, что обладаю фотографической памятью. — Билл дотронулся мундштуком трубки до своей головы. — Но дело в том, что фотокамера эта снимает только на черно-белую пленку. Поверь, Гонзага воображение у меня бедное.
— Но… продолжай свою историю. Что было после опубликования твоих статей?
— Мое положение в Амальпресс резко улучшилось. В двадцать шестом году Хувентино Каррера сверг диктатора и был избран президентом республики. Он официально пригласил меня на церемонию вступления на президентский пост и дал интервью мне одному, как обещал в свое время «там, наверху»…
— И вот тогда-то шефы и прониклись к тебе еще большим почтением.
— Если бы только это! Они стали считать меня «специалистом по латиноамериканским делам». В двадцать восьмом году я был назначен разъездным корреспондентом с постоянной базой сначала в Мехико, потом в Рио. Я один из первых среди иностранных журналистов интервьюировал Варгаса, когда в октябре тридцатого года он прибыл с Юга во главе революционных войск, только что захвативших власть.
— В это время, дай-ка, соображу, да-да, как раз в этом году я пошел в детский сад…
— И по-моему, я был последним, кто получил интервью у генерала Аугусто Сесара Сандино за несколько недель до его убийства.
— Что он был за человек?
— Официальная пресса представляла его бандитом. Но Сандино, горный инженер и земледелец, был патриотом и либералом. Он выступил с оружием в руках против диктатуры и шесть лет боролся не только с правительственными войсками, но и с морской пехотой Соединенных Штатов. Его так и не удалась взять в плен. Когда американские морские пехотинцы ушли из Никарагуа, Сандино согласился сложить оружие и занялся созданием сельскохозяйственных кооперативов… Однажды он посетил президента Монкаду и, когда выходил из правительственного дворца, один из солдат охраны предательски убил его…
— В истории этой нашей Америки есть довольно мрачные главы, верно, Билл?
— Да, и если уж о них зашел разговор, не могу не вспомнить, как в тридцать пятом году Амальпресс послала меня в Чако Бореаль, чтобы я давал материалы об оной из самых бессмысленных в истории человечества войн. На бесплодной, разоренной земле парагвайские и боливийские солдаты, как правило индейцы и метисы, несколько лет подряд убивали друг друга «во имя родины»…
— И во имя интересов «Стандард ойл».
— Вот именно. Редакторы Амальпресс обычно вычеркивали из моих телеграмм всякое упоминание об этой компании. Я сопровождал парагвайские войска и имел возможность ознакомиться с некоторыми видами оружия, отобранного у боливийцев. Это оружие было американского производства, и все указывало на то, что оно использовалось армией Соединенных Штатов в первой мировой войне.
Некоторое время Билл пил молча, потом рассмеялся: его плечи затряслись, лицо исказилось гримасой, однако в чем дело, он не торопился объяснить.
— Однажды, — наконец снова заговорил он, — меня избили в Буэнос-Айресе, я чуть было не умер и надолго запомнил это…
— Но ты никогда не рассказывал мне про этот случай!
— В сорок третьем году Амальпресс послала меня в Аргентину, чтобы я написал серию статей о политическом положении в стране. Правительство Кастильо было свергнуто в результате переворота, инспирированного группой офицеров, душою которой, как ты, вероятно, помнишь, был полковник Хуан Перон. В первой статье я разоблачил связи этой банды с нацистами. Во второй не рекомендовал госдепартаменту торопиться с признанием революционного правительства генерала Педро Рамиреса, который явно симпатизировал гитлеровской Германии и неизбежно стал бы саботировать программу обороны западного полушария. «Насьон» перепечатала эти статьи. Националистические газеты, естественно, поносили меня последними словами и требовали, чтобы правительство выслало меня из страны…
Годкин помолчал, рисуя круги на бумажной скатерти.
— Как-то поздно вечером, — продолжал он, я возвращался в свой отель, ко мне подошли трое неизвестных, не говоря ни слова, схватили меня и утащили на пустынную улицу. Почему, Гонзага, иногда мы стыдимся закричать, позвать на помощь? Я мог бы поднять крик. Но лишь стиснул зубы и приготовился к худшему. Почему, и сейчас не понимаю.
Бразилец улыбнулся.
— Верно, потому, что смутно сознавал свою вину.
— Не знаю. Первым ударом мне сломали нос… вот смотри, с тех пор я стал похож на отставного боксера. Я ответил ударом в челюсть. Один из этих скотов попробовал тогда удушить меня галстуком, другой держал мои руки и ноги, а третий принялся меня обрабатывать… Судя по его внешности, а также по силе и точности ударов, это был атлет. От удара в солнечное сплетение я задохнулся. От удара ногой в другую, еще более чувствительную часть моего тела потерял сознание. Пока я лежал на земле, а сколько это продолжалось, не знаю, меня били ногами по лицу, по груди, по пояснице… Когда я очнулся, я был на больничной койке, а рядом сидел посол Соединенных Штатов. Мне выбили несколько зубов, сломали ребра, все мое тело было в кровоподтеках, под обоими глазами синяки… Словом, живого места не было. Несколько дней я не мог обходиться без болеутоляющих средств.
— Ну, а какие меры приняла полиция?
— Никаких. Сделал вид, что произвела расследование, в ходе которого «установила», будто я подвергся нападению со стороны неизвестных лиц с целью ограбления. Однако выяснилось, что напавшие на меня были националисты. Когда меня выписали из больницы, правительство Рамиреса объявило меня «персоной нон грата» и предложило покинуть страну.
— Какая честь, Билл!
— Когда я вернулся в Вашингтон, Амальгамэйтед Пресс выдало мне вознаграждение и послало меня в Сан-Хуан, столицу Пуэрто-Рико, предоставив оплаченный отпуск. Там я познакомился с женщиной, на которой женился в конце сорок четвертого… — Билл помолчал, а затем добавил с тихой грустью: — …и которую потерял два года тому назад.
— А что ты делал во время второй мировой войны?
Годкин чуть было не признался, что не только писал статьи и репортажи, но еще оказывал ФБР «особые мелкие услуги», однако счел за лучшее этой тайны не выдавать.
— Я разъезжал от иродов к пилатам… — пробормотал он, выпустив изо рта настоящую дымовую завесу. — В сорок пятом, когда бразильские генералы свергли Жетулио Варгаса, был в Рио. Я не стану рассказывать о своих приключениях во время «боготасо», ибо история эта слишком длинная… Но чтобы покончить с моим авантюрным романом, добавлю: в пятьдесят втором году шеф вызвал меня и сообщил, что я повышен в должности — обрати внимание: повышен, — что отныне я буду восседать в Вашингтоне за столом под помпезной табличкой «Заведующий латиноамериканским бюро». Как ты понимаешь, это был конец моей карьеры…
Гонзага бросил на друга задумчивый взгляд.
— Однако… вернемся к Хувентино… Каким злодеем оказался этот герой Сьерра-де-ла-Калаверы!
Билл пожал плечами.
— Он последовал общему латиноамериканскому правилу. Сверг тирана и в конце концов сам стал тираном. Знаешь, что он в первую очередь сделал, въехав в правительственный дворец? Подписал декрет, присвоивший ему звание генералиссимуса наподобие Трухильо, другом, кумом и союзником которого он впоследствии стал. К тому же он захотел получить почетный титул, тоже наподобие того, что у доминиканского диктатора, нашелся писака, предложивший титул «Освободителя» который сразу же пристал к Каррере.
— Еще один кампари?
— Нет, спасибо.
— Цикуты?
— Тоже нет. Сейчас я чувствую себя лучше. Видимо, воспоминания подействовали на меня благотворно.
— После церемонии вступления Карреры на пост президента ты, наверное, видел его не раз…
— Разумеется. Как только в Сакраменто возникали волнения, Амальпресс посылало меня в Серро-Эрмосо.
— Тогда ты должен знать посла генералиссимуса, прибывшего сюда, не так ли?
— Дона Габриэля Элиодоро Альварадо? Конечно, знаю. Впервые я увидел его в горах Сьерра-де-ла-Калавера, где он был вместе с Хувентино Каррерой. Один из самых молодых и храбрых бойцов, и было тогда ему не больше двадцати одного…
— Что он за человек?
— Рост примерно метр девяносто… Бронзовое лицо, черты которого напоминают скульптуры майя. Живые темные глаза, обладающие опасной гипнотической силой. Из всех, с кем я познакомился в горах, самое сильное впечатление на меня произвел этот Габриэль Элиодоро. Фамилию он сам себе выбрал, но она ему подходит…
Орландо Гонзага взял газету, лежавшую на диване, и развернул ее.
— «Ньюс» помещает сегодня сообщение с портретом твоей «скульптуры». Посмотри… Негодяй действительно привлекателен. В биографической справке говорится, что он родился в 1903 году… так что сейчас ему пятьдесят шесть. Фотография, видимо, старая, здесь ему можно дать лет сорок пять, от силы сорок восемь.
Билл вытащил из кармана очки и наклонился над газетой.
— Здесь помещена также героическая история, которая, по-моему, сфабрикована нашим неутомимым Титито Вильальбой, который изо всех сил старается сделать рекламу своему новому послу… Видимо, воспылал к нему страстью.
Билл улыбнулся.
— Случай с гранатой? Уверяю тебя, Гонзага, это правда. Первым про это рассказал я в своем репортаже еще в двадцать пятом году. А мне рассказал сам Хувентино Каррера. Это произошло в начале кампании. Как-то, спасаясь от засады, революционеры укрылись в пещере. Один из федеральных солдат бросил в пещеру гранату, которая упала к ногам Карреры. Наш Габриэль Элиодоро ни мгновения не колебался: он кинулся к гранате, схватил ее и, подбежав к выходу, швырнул во врагов. Граната взорвалась в воздухе, и осколком Габриэля Элиодоро ранило в лицо. На этом снимке ты можешь увидеть шрам, похожий на молнию.
— Храбрая бестия!
— Этим и объясняется то, что сделал Каррера для Габриэля Элиодоро после того, как прочно утвердился у власти. Они стали близкими друзьями, кумовьями… компаньонами. И наш герой преуспел не только на общественном, но и финансовом поприще. Сейчас он представляет свою страну в Белом доме и Организации Объединенных Наций.
— Невероятно! Пабло говорил мне, что Габриэль не имеет даже среднего образования.
— И несмотря на это, Освободитель верит в обаяние своего ловкого кума, которому поручил урегулировать с правительством Соединенных Штатов один щекотливый вопрос. Ты, наверное, помнишь, что вице-президент Никсон посетил в прошлом году республику Сакраменто. На улицах Серро-Эрмосо простолюдины и студенты освистали его и закидали правительственную машину камнями, помидорами и тухлыми яйцами. Одно яйцо попало в цель, разбившись о грудь мистера Никсона…
Рассмеявшись, Гонзага подхватил:
— И теперь дон Габриэль Элиодоро попытается личным обаянием вывести это пятно с костюма Никсона и с американского флага…
— Да, и к тому же ему поручено обработать дядю Сэма и вытянуть у него еще один крупный заем…
Гонзага снова принялся рассматривать фотографию Габриэля.
— Однако надо признать, негодяй весьма симпатичен.
— Возможно, из него выйдет хороший посол.
— Он и в самом деле индеец?
— Во всяком случае, мать у него индианка…
— А отец?
Билл пожал плечами.
— Одному богу известно. Мать Габриэля Элиодоро никогда не была замужем. Она была проституткой.
3
Отчего так жарко на вершине горы? Наверное, потому что близко солнце. А почему вдруг так спокойно и пустынно? Но ведь война кончилась… Он доволен: его примет король Испании. Поспорил с падре, что поднимется на пик Кавейра, и поднялся, почти наугад. Где же солнце? Наверное, сейчас ночь. Да, ночь. Он не должен опоздать на аудиенцию, а времени уже в обрез. Стояла темнота, и он то и дело натыкался на трупы, которыми был усеян склон, ступал по ним, кишки опутывали его босые ноги. Он ничего не понимал… Ведь он распорядился похоронить мертвых — и друзей и врагов. Однако они все еще были тут, разлагающиеся, смердящие. Он выиграл пари, но как он появится перед королем, если это зловоние пропитало его? Внезапно он почувствовал, что идет совершенно голый, увязая в крови и испражнениях. Куда же делись товарищи? Почему они покинули его? Он поднес руку к поясу. Ни пояса, ни кобуры с револьвером. Безоружный на вершине Сьерры. Не сбился ли он с пути? Компас оказался разбитым. Но он продолжал подниматься, видя подошвами ног то, по чему ступал: черепа, ребра, кишки… Он был весь измазан. Обязательно надо вымыться, не может же он предстать перед королем в таком виде. Но кого он увидит? Филиппа? Фердинанда? Карла? Кого из государей, о которых рассказывал викарий на уроках истории? Короля Крестоносца? Нужно вымыться поскорее, найти реку… Жара усиливалась. Он увидит государя. Вот это победа! Но ведь он голый. Почему? А между тем он хорошо помнил, что надел свое лучшее платье. Что подумает король, когда увидит его? «Ваше величество, имею честь предоставить Вашему величеству свой голый зад. Я посол республики Экскременто». Придворные станут насмехаться над ним, шептаться, что индейцы привыкли ходить босиком. Какая подлость! Внезапно он почувствовал опасность. Он попал в ловушку. Теперь все ясно! Враги набросятся на него сзади, вонзят ему ножи в спину… Он крикнул и повернулся, чтобы защищаться…
Сначала проснулся партизан. Он приподнялся, осмотрелся в полутьме, еще ничего не соображая, а руки его машинально ощупывали пол в поисках оружия, которое всегда лежало рядом, пока он спал. Через несколько мгновений Габриэль Элиодоро Альварадо все же сумел сориентироваться в пространстве и во времени: партизан вернулся в царство сна, и тогда посол республики Сакраменто, забавляясь собственным испугом, тихонько рассмеялся. И все же он еще ощущал какую-то неясную опасность, будто снова был молодым и бродил по безлюдным горам Сьерры.
Габриэль Элиодоро сел в постели, зажег свет и взглянул на часы, лежавшие на ночном столике. Ровно пять утра. Опять пятерка! Он родился пятого января, в пять часов утра. В пять же часов утра 1915 года взвод солдат 5-го пехотного полка в Соледад-дель-Мар расстрелял Хуана Бальсу, революционного вождя, которым он так восхищался. Рассказывали, что в грудь героя угодило пять пуль.
В комнате было слишком душно, и Габриэль, обнаженный до пояса, обливался потом. Как американцы могут жить в этих жарко натопленных домах?
Он принялся бесцельно расхаживать по комнате, зажигая лампы, попадавшиеся ему на пути. Подошел к термостату, прищурился, тщетно пытаясь понять, сколько градусов он показывает. Нет, он все еще не научился обращаться с этой хитрой штукой…
Обстановку в комнате Габриэль возненавидел с тех пор, как ночевал тут впервые несколько дней назад. Эрнесто Вильальба, второй секретарь посольства, объяснил, что мебель в покоях господина посла в стиле ампир. «Уверяю вас, ваше превосходительство, это точная копия кровати Наполеона Бонапарта». — «Но, Титито ты сам должен понять, Наполеон был коротышка, а у меня рост — метр девяносто!» Габриэль Элиодоро враждебно посмотрел на кровать. Он находил ее некрасивой, претенциозной, неудобной и неподходящей для определенных дел… В чем и убедился несколько часов назад. Без сомнения, Росалия была прекрасна, когда, обнаженная, лежала на наполеоновской кровати, но все же для самых страстных объятий им пришлось спуститься на пол на шкуру белого медведя. Видимо, надо будет поселиться в комнатах для почетных гостей…
Он прошел в ванную, пригоршнями напился воды из-под крана, как привык пить из горных ручьев и водопадов. Вернулся в спальню и открыл одно из окон, выходящих на улицу. Его обдало ночным холодом. За густым низкорослым кустарником он различил деревья посольского парка. Фонари в тумане напоминали гноящиеся глаза. Ладонями потирая грудь, Габриэль постоял немного, вглядываясь в ночь. Одинокое такси спускалось по Массачусетс-авеню, вот оно проехало мимо английского посольства, здания из неоштукатуренного кирпича, неприступного и мрачного, как сама Британская империя. В этот час — представил себе Габриэль Элиодоро — английский посол, сэр такой-то, вполне пристойно спит со своей законной супругой, леди, как ее там… У кого еще из послов в Вашингтоне есть такая красивая и крепкая двадцатипятилетняя любовница с высокой грудью и пышными бедрами? Одного он не понимал: как могла эта женщина выйти замуж за Панчо Виванко, отвратительного, сального толстяка…
Габриэль почувствовал озноб, и откуда-то из туманной дали, как из сна, до него донесся голос: «Закрой окно, Габилиодоро, а то схватишь воспаление легких!» Одно время глаза матери постоянно гноились. Какая земля или какие птицы пожрали эти большие, темные глаза? Мать умерла во время одной из его частых отлучек, и он никогда не смог, да особенно и не пытался узнать, где похоронили «пьянчужку». Одни говорили, что ее труп бросили в общую яму, другие утверждали, что она осталась незахороненной и была растерзана стервятниками… Габриэль Элиодоро закрыл окно, оставив призрак матери снаружи.
Он сделал несколько шагов и уселся около секретера, потом скрестил руки, чтобы согреться, и отсутствующим взглядом уставился на пальцы ног. Снова послышался елейный голос Титито: «Этот секретер, ваше превосходительство, инкрустировали лучшие французские мастера начала прошлого века». Габриэль Элиодоро улыбнулся. Женоподобные мужчины, как правило, хорошо разбираются в искусстве.
На столике рядом с очками он увидел письмо, которое начал писать этой ночью вскоре после того, как Росалия покинула посольство. Он понюхал бумагу, чтобы убедиться, что она не пахнет духами любовницы. Надел очки, полюбовался своим каллиграфическим почерком и перечел написанное: «Моя обожаемая Франсискита! Дела мои обстоят великолепно. Живу я в огромном доме, роскошном и комфортабельном, с целым батальоном слуг, и все они относятся ко мне крайне внимательно и почтительно. В следующую пятницу я устраиваю большой прием для дипломатического корпуса, а также местных и иностранных журналистов. Жалко, что тебя не будет и ты не сможешь принимать гостей. С другой стороны, пожалуй, даже хорошо, что ты остаешься в Серро-Эрмосо вместе с нашими дочерьми и внуками, потому что летом в Вашингтоне, говорят, ужасно, а уж я-то знаю, как ты страдаешь от жары и сырости. Придется смириться с тем, что до сентября или октября мы будем в разлуке. А потом ты сможешь приехать, чтобы выполнять обязанности жены посла. Не беспокойся, так как…»
Габриэль задумался. Даже когда Франсиските было около двадцати, она не казалась юной, грациозной и красивой. Истая католичка, крестница архиепископа, она была убеждена, что половой акт бог изобрел лишь для продолжения рода человеческого и что наслаждение от объятий — тяжкий грех. Поэтому, едва ее женственность стала увядать, она сочла себя свободной от супружеских обязанностей и закрыла двери в свою спальню со словами «миссия выполнена».
Бедная Франсискита! Примерная жена и добрая душа. Ее глаза увлажнялись, когда она думала о бедных. Благодетельница по призванию, она возглавляла все кампании в пользу малоимущих. Франсискита была отлично воспитана, вырастила всех своих детей, превосходно готовила сласти, раскрашивала фарфор и даже говорила немножко по-французски.
Возвращаясь в постель, Габриэль Элиодоро потушил одну за другой все лампы. Комната снова погрузилась в темноту. Нужно заснуть: утром он должен быть свежим и отдохнувшим. Подушка и простыни еще хранили аромат Росалии. Лежа на животе, Габриэль вспоминал радости, которые ему дарила любовница. Внезапно он рассмеялся: где-то Габриэль вычитал, будто Наполеон терпел неудачу в любви из-за рокового недостатка в сложении; правда, неудачи эти компенсировались военными победами. «Мне следует благодарить бога за то, что меня он не обидел», — подумал Габриэль и, как всегда перед сном, поцеловал медальон с изображением Соледадской богородицы, который носил на серебряной цепочке.
Его разбудил Мишель Мишель, выполнявший в посольстве обязанности мажордома и камердинера. Облаченный в безупречный серый костюм, француз некоторое время нерешительно стоял возле постели; не осмеливаясь заговорить громко или коснуться нового хозяина, он ограничивался вкрадчивым покашливанием. В конце концов Габриэль Элиодоро открыл глаза, уставился бессмысленным взглядом на стоявшего перед ним человека, наморщил лоб, потом лицо его выразило недоумение.
— Доброе утро, господин посол. Уже восемь часов, а вы, ваше превосходительство, велели мне разбудить вас как раз в это время.
Габриэль Элиодоро, моргая и позевывая, уселся в постели, охватил колени руками и так просидел с минуту, потом вдруг, к удивлению Мишеля, выпрямился и соскочил на ковер с ловкостью пумы. Молодая улыбка озарила его лицо. Наступал великий день! Он подошел к окну и отдернул портьеру. Яркий утренний свет ударил ему в глаза. Деревья парка, казалось, тоже посылали ему свой утренний привет. Габриэль Элиодоро принялся шагать по комнате, почесывая грудь, потягиваясь и шумно зевая. Вдруг он остановился в двух шагах от мажордома и окинул его взглядом с головы до ног.
— Так как же вас зовут?
— Мишель Мишель.
— Почему два раза Мишель? Разве мало одного?
Мишель поклонился с серьезным видом и развел руками, как бы извиняясь.
— Уж так назвали, господин посол…
Это был человек неопределенных лет, среднего роста, худощавый; своей длинной головой, острыми чертами лица, проницательным взглядом он напоминал Франциска I, внебрачным потомком которого, как говорили, и являлся. Его маленький рот был всегда влажен, отчего походил на бутон розы, окропленный росой. Габриэль, продолжая рассматривать мажордома, словно редкое животное, припоминал, что сообщил ему Эрнесто Вильальба относительно этого человека. Мишель Мишель, уроженец Авиньона и преданный слуга, был привезен в посольство из Парижа в 1931 году доном Альфонсо Бустаманте, которого перевели в Вашингтон. Физиономия француза показалась ему смешной с первого взгляда. «У него такая кислая мина, будто он постоянно сосет лимон», — сказал он своему первому секретарю Пабло Ортеге. А тот в свою очередь сообщил, что Мишель питает страсть к литературе, читает запоем, знаком с творчеством Камю и Сартра, знает наизусть «Пьяный корабль» Рэмбо и что дон Альфонсо подолгу беседовал со своим камердинером об испанской и французской литературе.
— Ваше превосходительство желает, чтобы я приготовил теплую ванну, или предпочитает душ?
— Надеюсь, вы не полагаете, будто в ваши обязанности входит также и мыть меня? — спросил посол, стягивая пижамные штаны и отбрасывая их ногою в сторону.
Мишель Мишель кашлянул и ответил цитатой из Сервантеса. По-испански он говорил бегло, но с очень сильным акцентом и картавя, чем напомнил Габриэлю французских проституток в публичных домах Пуэрто Эсмеральды.
— Что ваше превосходительство желает на завтрак?
— Черный кофе с подсушенными гренками. Я никогда не ем по утрам — ни яиц, ни сосисок, ни ветчины… поняли? Да! Еще большой бокал апельсинового сока, только без сахара.
— Слушаюсь, господин посол.
Габриэль Элиодоро прошел в ванную, взглянул на себя в зеркало и с удовлетворением отметил: синяки под глазами не больше обычного. Он принялся чистить зубы с таким рвением, что из десен выступила кровь. Затем долго полоскал горло, издавая при этом звуки, похожие на вокализы. Попробовал побриться электробритвой, и как всегда безуспешно. (Не для мужского подбородка эта штука!) Габриэль намылил щеки и побрился безопасной бритвой. После этого встал под душ. Открыв кран, он взревел и заплясал на месте под струями холодной воды.
«How do you do, Mr. President?» Стоя под душем, он пожимал президенту руку, улыбался ему, стараясь очаровать великого человека с первой минуты свидания. Жалко только, он не знает английского…
Габриэль энергично намылился, любуясь своей тонкой талией и упругими мускулами. Ощупал втянутый живот. Им он особенно гордился. Радовало его и то, что на руках не было темных пятен, которые появляются под старость. «Хау ду ю ду, мистер пресиденте?» — повторил он теперь вслух, и его голос громко отдался в ванной. Выйдя из-под душа, Габриэль с остервенением принялся растираться мохнатым полотенцем, смоченным одеколоном, а затем, смазав волосы бриллиантином, причесался…
Когда он вернулся в спальню, Мишель все еще топтался там, покашливая и благовоспитанно поднося к своему маленькому рту два пальца.
— Что там у вас, дружище? — спросил Габриэль, обмотав полотенце вокруг пояса наподобие набедренной повязки. — Выкладывайте!
— Господин посол, — начал мажордом после недолгого колебания, — если позволите, я бы рекомендовал надеть брюки в полоску, черную визитку и серый шелковый галстук.
— Я надену то, что мне заблагорассудится. Если мне взбредет в голову, я отправлюсь в Белый дом в пижаме. Или вообще голым.
— Слушаюсь, господин посол.
— Не стройте такой физиономии, Мишель! Я надену темно-синий костюм, белую рубашку, темный галстук… И черные туфли, конечно. Ну как? Очень это противоречит протоколу?
Мишель слегка поклонился, и украшавший его лицо розовый бутон приоткрылся в подобии улыбки.
— Нет, господин посол. Президент Эйзенхауэр, скорее всего, будет одет так же.
— Ну что ж, тогда вопрос решен!
Вскоре посол, натянув на себя белье, уселся на кровати, чтобы надеть носки и туфли.
— Вы, должно быть, ощущаете отсутствие дона Альфонсо?
— Сеньор Бустаманте был настоящим джентльменом.
— Чего нельзя сказать обо мне, так, что ли, Мишель?
— У меня и в мыслях не было ничего похожего, господин посол.
— И все же я знаю, что это так. Я не профессиональный дипломат. Руки дамам не целую. Я их целую в другие места. Когда есть такая возможность, конечно. Я не разбираюсь в литературе и плюю на протокол.
Мишель стоял, опустив глаза. Уши его стали пунцовыми, как петушиный гребень.
Габриэль Элиодоро надел брюки.
— Сколько послов сменилось, пока вы служите в этом доме?
— Ваше превосходительство уже пятый.
Снова эта магическая цифра.
— Вы суеверны, Мишель?
— Я скептик, ваше превосходительство.
— Я забыл, что скептицизм — национальный спорт французов. Однако… вернемся к послам. Очевидно, вам с ними нелегко приходилось, верно?
— Если позволит ваше превосходительство, я бы предпочел воздержаться от комментариев.
— Прекрасно. Вы джентльмен. А значит, полагаю, не видели девушку, что вошла в посольство в восемь часов и вышла после полуночи.
— Я ничего не помню, ваше превосходительство. Вернее сказать, ничего не видел.
Габриэль Элиодоро завязывал галстук перед зеркалом, в котором отражался и мажордом, державший темно-синий пиджак, как тореадор держит плащ, когда дразнит быка.
— Очевидно, после выхода на пенсию вы вернетесь во Францию…
— Во всяком случае, таково мое намерение, ваше превосходительство.
— И конечно, будете писать мемуары…
— Возможно.
«Этот плут не лишен юмора», — подумал кум Хувентино Карреры, отступив на два шага, чтобы лучше видеть себя в зеркале. Мажордом подошел ближе.
— Хотелось бы знать, как я буду выглядеть в ваших воспоминаниях, — пошутил посол, надевая пиджак.
— Передо мной не будет иных задач, кроме строгой истины, — тихо сказал Мишель и кашлянул, как бы извиняясь за свою смелость.
Габриэль Элиодоро повернулся к мажордому.
— Истина? А что такое истина? Напишите книгу с чувством, дружище! Ибо для людей нет другой истины.
Небольшая комната, где Габриэль Элиодоро пил сейчас колумбийский кофе, приготовленный в итальянской кофеварке, была одной из самых уютных в посольстве. Скромная мебель, светлые стены и ковры, яркие и бесхитростные картины сакраментских примитивистов создавали радостное, бодрое настроение, которое усиливалось утренним солнцем. Габриэль Элиодоро был в комнате один: он отослал слугу, подавшего завтрак, так как не любил, чтобы на него смотрели во время еды.
С того места, где он сидел, через широкое окно была видна часть парка с дубами и липами, поднимающимися над цветущими олеандрами и кизильником, а дальше — роща в овраге Норманстон-парка. Однако из всех деревьев, окружавших здание, послу больше всего нравился («Любовь, Пабло, с первого взгляда!») японский красный клен около фонтана. Габриэль Элиодоро никогда не видел ничего подобного: дерево скорее походило на изящную бронзовую скульптуру. Он долго и нежно разглядывал клен, рассеянно жуя гренки и запивая их кофе.
Бесшумно и молчаливо, как тень, в комнату вошел Мишель и, почтительно покашливая, словно на что-то намекая, положил на стол сложенную газету.
— Сеньор Вильальба просил вас взглянуть на отмеченную страницу, господин посол.
С легкой улыбкой он повернулся почти по-военному и вышел.
Габриэль Элиодоро не знал английского, и поэтому его знакомство с американскими газетами и журналами было чисто внешним. На шестой странице газеты, которую он держал в руках, посол увидел свой портрет и под ним несколько строк, обведенных синим карандашом. Некоторое время посол рассматривал собственную фотографию. Все же интересно было бы узнать, что написала о нем мисс Потомак под рубрикой «Дипломатическая карусель». Титито позаботился приколоть к газете листок с переводом. «У республики Сакраменто теперь новый посол в Вашингтоне. Это мистер Габриэль Элиодоро Альварадо, который сегодня вручит свои верительные грамоты президенту Эйзенхауэру. Его превосходительство, прибыв сюда несколько дней назад, видимо, уже приобрел множество друзей. Этот высокий, смуглый, обаятельный и красивый мужчина, к тому же, как мне сообщили, на редкость искренний и откровенный, является личным другом президента Сакраменто, вместе с которым он доблестно сражался во время революции 1925 года, освободившей его родину от диктатуры дона Антонио Марии Чаморро. Утверждают, что его превосходительство мистер Альварадо большой почитатель Авраама Линкольна, жизнь которого он знает, как лишь немногие. Итак, добро пожаловать на «Дипломатическую карусель», господин посол!»
Едва Габриэль Элиодоро дочитал перевод, как Мишель снова вошел в комнату, на этот раз с телефонным аппаратом.
— Вас спрашивают, ваше превосходительство.
— Кто?
— Сеньор Вильальба.
— Что нужно этому похабнику?
— Пардон, мосье?
— Ладно. Дай-ка мне эту штуку.
Габриэль взял трубку.
— Слушаю!
До него донесся мелодичный голос Эрнесто Вильальбы:
— Добрый день, сеньор посол!
— А, Титито! В чем дело?
— Я звоню, чтобы поздравить вас.
— С чем, дружище?
— Значит, вы не видели газету с отмеченной страницей, которую я вам послал?
— Видел, и что?
— Ваше превосходительство, очевидно, не знает, что даже простое упоминание вашего имени в заметке мисс Потомак, которую прочтут более чем пятьдесят миллионов американцев, является верным признаком успеха… А если вам в «Дипломатической карусели» сочли нужным отвести более десяти строк — это уже целое событие. Поздравляю!
Габриэль Элиодоро не знал, как отнестись к словам второго секретаря. Уж не смеется ли над ним этот женоподобный тип… или он действительно принимает это всерьез?
— Кто она такая, эта мисс Потомак?
— Мисс Потомак — это псевдоним одной из «священных коров» Вашингтона, господин посол, одной из самых уважаемых женщин страны; перед нею все заискивают.
— Она красива?
— Какое там, посол! Ей шестьдесят. Она страшна, как смертный грех, и толста, как гиппопотам.
— Тогда вели сбросить эту ведьму в реку с тем же названием. Но если говорить серьезно, меня интересует, послали ли вы этой особе приглашение на прием?
— Конверт для нее был запечатан первым, ваше превосходительство!
— Хорошо. Скажи Пабло, чтобы он не вздумал опаздывать, президент Эйзенхауэр ожидает меня ровно в одиннадцать.
4
В 1930 году, когда миссия Сакраменто в Вашингтоне была преобразована в посольство, правительство генералиссимуса Хувентино Карреры уполномочило министра иностранных дел приобрести резиденцию; выбор пал на особняк, расположенный на Массачусетс-авеню, почти напротив посольства Великобритании, и принадлежавший знатной семье из сельских аристократов Виргинии. (Расследование, произведенное двадцать лет спустя, когда кандидат оппозиции Хулио Морено был избран президентом, а Освободитель нашел убежище в Доминиканской республике, установило мошеннический характер этой сделки, принесшей каудильо и его министру почти сто миллионов долларов.)
Двухэтажное здание в георгианском стиле со скромным колониальным изяществом высилось среди лип, ясеней, тисов и кленов. Суровость его стен из простого темно-красного кирпича контрастировала с эмалевой белизной рам на высоких и узких, симметрично расположенных окнах.
Нынешняя же резиденция послов Сакраменто своим светлым лепным фронтоном, венчающим центральную часть фасада, и портиком с четырьмя дорическими колоннами чрезвычайно напоминает знаменитый Думбартон Хаус в Джорджтауне.
Какое-то время посольство арендовало дом на 30-й улице. Потом Альфонсо Бустаманте, первому послу, который представлял правительство Хувентино Карреры при Белом доме, было поручено построить здание для посольства. Поскольку Освободитель предоставил своему другу карт-бланш, старый дипломат — гуманист на европейский манер, влюбленный в эпоху Возрождения, — не колеблясь, соорудил рядом с резиденцией здание, над которым потихоньку посмеивался Эрнесто Вильальба, называя его смешным подражанием итальянским дворцам. Двухэтажный дом был сложен из серого гранита. Первый этаж, грубой кладки, имел неприступный вид крепости, смягченный, правда, центральной лоджией с двумя пологими арками, украшенными ионическими пилястрами. Второй этаж с пятнадцатью окнами и повторяющимся мотивом пилястров приводил на память флорентийский дворец Ручеллаи, где дон Альфонсо в дни молодости выполнял обязанности консула своей страны.
Лестница в пять ступеней, тоже гранитная, ведет прямо с тротуара Массачусетс-авеню в лоджию канцелярии посольства. На одном из пилястров между двумя арками сияет инкрустированный герб республики Сакраменто. В верхней его части, прямо под фригийским колпаком, золотая пума на красном фоне гордо держит старинную шпагу, которая делит герб на два поля. На одном — восходящее солнце, символизирующее день; на другом — звезда, символ ночи. В нижней части герба золотыми буквами выведен девиз республики «Свобода и честь».
Входящего в посольство посетителя встречает молчаливый человек, акцент которого, как и национальность, трудно определить. Обычно он сидит за столом с белым телефоном. На первом этаже находятся библиотека, архивы, кладовые и помещения для машинисток и других младших сотрудников. В центре второго этажа помещается просторный кабинет посла. По одну сторону от него — приемная, по другую — комната попросторнее, в центре которой стоит стол красного дерева и десять стульев. Другие комнаты этого этажа заняты министром-советником, секретарями, военным атташе и его помощниками.
В посольстве утвердилось мнение, будто первую скрипку здесь играет отнюдь не посол республики Сакраменто, кем бы он ни был, но американская гражданка Клэр Огилви, служащая здесь по найму. Послы приезжали, подписывали бумаги, произносили речи, делали доклады, давали интервью, важничали, поглощали обеды и бесчисленные коктейли, но в один прекрасный день они получали новое назначение и уезжали… А мисс Огилви оставалась. Никому еще не удавалось найти подходящее название ее должности, которое отразило бы всю многообразную деятельность мисс Огилви. Американка была личным секретарем посла, а также переводила документы, официальные сообщения и письма с испанского языка на английский и с английского на испанский. Она же готовила либо редактировала написанные по-английски речи для посла, министра-советника и секретарей. В ее обязанности входило также охранять посла от ненужных звонков и визитов. В посольстве не без основания полагали, что попасть к послу можно, лишь переступив через труп его секретаря.
Настоящая ходячая энциклопедия, Клэр Огилви хранила в своей поразительной памяти самые различные сведения об университетах, библиотеках, музеях, посольствах, дипломатическом протоколе, промышленных патентах, таможенных пошлинах, подоходном налоге… Она знала наизусть не только устав ООН и ОАГ, но и конституцию республики Сакраменто. Расписание поездов, автобусов и самолетов? Высота горы Эверест? Кто из знаменитых людей сказал то-то и то-то по такому-то случаю? Курс фунта стерлингов в настоящий момент? Спросите мисс Огилви!..
Когда кто-нибудь уподоблял эту необыкновенную американку электронно-вычислительной машине, один из коллег обязательно спешил добавить: «Но с душой!», ибо мисс Огилви была не только секретарем, но еще и стеной плача, и кредитной кассой. Тот, кому не терпелось поделиться своими сердечными делами или огорчениями, спешил склонить голову на плечо американской подруги. Мисс Огилви выслушивала сетования терпеливо, как сестра или мать, а потом шептала: «Это еще ничего, дружок. Могло быть значительно хуже». И давала совет или утешала. Если же затруднение было финансового характера, сумочка Клэр Огилви всегда была открыта, она давала в долг без процентов и на неопределенный срок.
Эту худощавую, довольно высокую (метр шестьдесят пять без каблуков), добрую и на редкость отзывчивую старую деву начальники и товарищи ласково называли Огилвитой; и впрямь, трудно было не привязаться к этой женщине, хотя ее крупные, выдающиеся вперед зубы и длинное лицо делали ее похожей на лошадь. Ее большой, толстогубый рот растягивался, будто резиновый, до самых ушей. А холодные светлые глаза отнюдь не говорили о теплоте ее сердца. У нее был низкий, хрипловатый голос, и смех, которым она часто разражалась, почти всегда переходил в надсадный кашель курильщицы. Огилвита курила не переставая, ее нельзя было представить без дымящейся сигареты во рту.
О ее прежней жизни знали лишь, что она происходила из богатой семьи штата Коннектикут, которая разорилась во время кризиса 1929 года, и что, окончив через год после этого Вассар Колледж, мисс Огилви почти сейчас же стала работать в миссии республики Сакраменто. Люди, которые были с ней дружны, считали ее чуть ли не святой и полагали, что появление на земле Клэр Огилви можно объяснить лишь с помощью космогонии.
«Моей первой зарплаты, — рассказывала мисс Огилви с улыбкой, — едва хватало на то, чтобы не умереть с голоду. Но и сегодня, проработав почти тридцать лет, я все еще не избавилась от этой перспективы».
Порой Огилвита любила вспоминать, как пережила на своем скромном посту бесчисленные правительственные кризисы в Сакраменто, одну революцию, один государственный переворот, а также четырех послов, множество советников и секретарей. Обычно ее рассказы о посольских делах были сдержанными. Но иногда в интимной компании она позволяла себе некоторую откровенность, выпив стакан виски.
— В один прекрасный день, — заявила она как-то в кругу старых друзей, — я опубликую свою Белую книгу. Но уже сейчас я могу рассказать вам несколько глав из нее. Сотрудницей посольства Сакраменто я стала совсем молоденькой девушкой, всего двадцати четырех лет, только что окончив колледж. Первое, что мне доверили, — это написать под диктовку и перепечатать какие-то странные письма для господина с итальянской фамилией, проживавшего в Виргинии. В письмах говорилось о каком-то «товаре», однако не указывалось, о чем именно идет речь, хотя назывались цены, место и время передачи этого товара. Это было в пору сухого закона, незадолго до избрания Рузвельта. Но однажды, друзья, американские власти раскрыли эту аферу, разразился страшный скандал. Секретарь посольства, подписывавший (не своим именем, конечно) письма, которые я составляла и перепечатывала, пользуясь дипломатическими привилегиями, вывозил ром из Сакраменто и продавал его американским бутлегерам из Вашингтона и его окрестностей. Благодаря госдепартаменту временному поверенному в делах Сакраменто удалось замять скандал, после чего он отправил секретаря-контрабандиста обратно в Серро-Эрмосо. Что касается меня, мальчики, то я лишь чудом спаслась от когтей федеральных агентов. Представьте себе, я почитала за честь ставить свои инициалы на всех этих письмах!
Огилвита хрипло расхохоталась и, после того как все налили еще по стакану виски, продолжала:
— Первый посол, которому я служила, прибыл в Вашингтон в тридцать первом. Это был дон Альфонсо Бустаманте, богатый толстенький старичок, скорбящий об умершей жене. Он очень напоминал прирученного тапира, любил читать, разбирался в искусстве, словом, был интеллигентным человеком. Всякий раз, как он получал от своего шефа, министра иностранных дел, распоряжения, которые находил абсурдными, он принимался расхаживать по своему кабинету и ворчать: «Я подам заявление об отставке, но не стану выполнять этих идиотских приказов! Я цивилизованный человек. Гуманист! Флорентинец!» Но в отставку не уходил, так как слишком дорожил своим постом. Он был помешан на почетных титулах и орденах. Каждый раз, как его награждали и на торжественном собрании ему надо было выслушать или произнести речь, у него начинались головокружение, боли в груди, сердцебиение… После торжеств он укладывался в постель и срочно вызывал своего врача.
Очередной приступ кашля прервал рассказ Огилвиты, она отпила виски и, успокоившись, продолжала:
— Но и это не мешало нашему послу по-прежнему желать и даже добиваться все новых наград. Бедный дон Альфонсо! Десять лет, которые он провел в этой федеральной деревне, ненавистной для его флорентинской души, он только и делал, что ездил с приема на прием, постоянно жалуясь на хронический синусит (всем известную официальную болезнь Вашингтона) и мечтая о посольском посте в Риме, который он называл не иначе как Вечный город.
Убедившись, что друзья с интересом слушают ее, Клэр Огилви сделала эффектную паузу, прежде чем закончить историю дона Альфонсо Бустаманте.
— Седьмого декабря сорок первого года, услышав по радио сообщение о том, что японцы разбомбили Пирл-Харбор, он побледнел и вышел в ванную. Так как он оставался там взаперти целых два часа, Мишель, мажордом, взломал дверь и нашел дона Бустаманте сидящим на унитазе — он умер от сердечного коллапса. Благослови его господь! Бесславная смерть постигла нашего флорентинца, как видите…
— Еще виски, Клэр?
— Не откажусь! — Чувствуя себя королевой бала, мисс Огилви потрясла свой стакан, чтобы услышать столь приятный для нее стук ледяных кубиков. И так как друзья молчали, в ожидании уставившись на нее, Клэр перешла к истории второго посла. Этот был кумом президента Карреры и страдал параноическим бредом. Запершись в своем кабинете, он громко спорил с воображаемыми собеседниками (всегда важными персонами), отпуская в их адрес самые грязные ругательства, существующие в испанском языке. Огилвите никогда не забыть серого зимнего вечера 1942 года, когда она, сидя у себя, услышала крик шефа: «Мистер Корделл Хэлл! Я велел вызвать вас к себе, чтобы заявить протест. Мое правительство относится отрицательно к использованию Пуэрто Эсмеральды в качестве американской военно-морской базы. Знай, каналья, мы не колония Соединенных Штатов! Мы свободная и суверенная нация, подлец ты этакий! Прочти на гербе девиз нашей республики: «Свобода и честь». И скажи президенту Рузвельту, что я посылаю его в…» Клэр Огилви опустила всем известное слово из четырех букв, не сомневаясь, что слушатели ее поняли.
История третьего посла была рассказана под четвертый стакан виски.
— Этот был прислан доктором Хулио Морено. Тщедушный холостяк с желтым лицом, он страдал язвой желудка и носил очки, за которыми пытался скрыть свой робкий взгляд. Но был человеком образованным, умным, очень дотошным и решения принимал лишь после долгих размышлений. Говорил он мало, занимался гимнастикой йогов и являлся почитателем восточной философии, с которой был основательно знаком. Продержался он недолго. Когда сеньор Морено был низложен, попросил убежища у американского правительства и поселился в Майами, где умер через два года. Прободение язвы, усугубленное тоской по родине.
Взволнованная Клэр Огилви, помолчав, добавила:
— Этот посол наградил меня орденом Серебряной пумы. Золотая вручается только иностранным государственным деятелям и национальным героям. Он же присвоил мне звание почетной гражданки Сакраменто…
— А четвертый?
— Это был сексуальный маньяк, несмотря на свои шестьдесят лет. Бегал за машинистками, как настоящий фавн. Вы не поверите, но однажды этот ненормальный с самым невинным видом шлепнул меня пониже спины! Все это, однако, не помешало одному из наших колледжей присудить ему honoris causa степень доктора права.
Если бы кто-нибудь захотел узнать мнение Клэр о характере и привычках ее нынешних товарищей по работе, она ответила бы холодным молчанием, возмущенно поджав губы и вздернув подбородок с негодующим видом. Хранительница многих тайн, она всегда оставалась сдержанной. Впрочем, для личного пользования у нее в уме, конечно, существовала своего рода картотека, где регистрировались ее впечатления о начальстве и о коллегах, а также повседневные наблюдения над ними, дополненные историями, которые она слышала обычно из уст болтливого Титито Вильальбы. Если бы ее попросили изложить эти впечатления на бумаге, она, вероятно, написала бы:
Генерал Уго Угарте. Военный атташе. Уже под семьдесят. Толстый индеец с кривыми ногами и мутным, масляным взглядом крокодила. Говорят, в прошлом самый жестокий начальник полиции, который когда-либо был в Сакраменто. Подвергал свои жертвы изощренным пыткам; некоторые изобрел сам, например знаменитую электрическую иглу, которую по его приказу полицейский врач вгонял в зубные нервы, после чего люди нередко сознавались в том, чего никогда не совершали, если не лишались чувств от боли. (Однако всякий раз, когда это чудовище собирается к зубному врачу здесь, в Вашингтоне, оно принимает валерьянку.) Свой нынешний пост получил как премию за ценные услуги, оказанные президенту Каррере. Помимо жалованья — три тысячи долларов в месяц, свободных от каких-либо обложений, — нажил целое состояние, со скидкой покупая в США холодильники, радиоприемники и другие электроприборы, которые регулярно пересылает в Сакраменто, где и перепродает с прибылью больше чем в семьдесят процентов. Товар ввозит через Пуэрто Эсмеральду без всяких пошлин, так как таможенные чиновники состоят в его воровской шайке.
Если верить Титито, в «хорошие времена» предавался сексуальным оргиям с девочками школьного возраста. Я прозвала этого субъекта «Индейским сатиром». У него омерзительный скрипучий смешок, противен, как большая ядовитая жаба.
Сеньора Угарте. Донье Нинфе около сорока. Она вторая жена генерала. Внешне напоминает одалиску Матисса, что висит в Национальной галерее. Толстая, смуглая, с большими черными глазами. Подобно большинству моих знакомых латиноамериканцев, страдает манией стяжательства. Лакомка, в особенности любит шоколадные конфеты, торты и сбитые сливки, в общем все то, от чего полнеют. С тех пор как я ее знаю, без конца слышу, что она сядет на диету со следующего понедельника. Бросается в глаза ее интерес к молодому итальянцу, шоферу посольства Альдо Борелли.
Панчо Виванко. Бедняга, которого обманывает жена, любовница нового посла. За месяц до прибытия в Вашингтон (информация «Титито Пресс») дон Габриэль Элиодоро попросил президента перевести Виванко в наше посольство, где ему было поручено руководить консульским отделом. Жалкое создание! Не удивительно, что он неврастеник, страдает нервными тиками. Как-то я вошла к нему в кабинет, и прямо в нос мне угодил бумажный голубь; так консул время от времени развлекается. Не уверенный в себе, он имеет привычку крутить новую долларовую бумажку, пока не свернет ее в трубочку тоньше сигареты'- своеобразный психологический опыт. Бедняга внушает мне жалость, и я стараюсь к нему хорошо относиться. Чувствую, что он делает попытки сблизиться со мной и затеять откровенный разговор, однако в последний момент трусит. Все в посольстве знают об этом треугольнике.
Сеньора Виванко. О-ла-ла! Росалия с наслаждением плавает в лазурном море своих двадцати с небольшим лет. Хотя правильнее было бы сказать летает, ибо ее аэродинамический упругий бюст приводит на память скорее двухмоторный самолет. Девушка из бедной семьи, она, по-видимому, вышла за Панчо по расчету. Ее лицо и фигура не могут внушать мужчинам чистые мысли. Титито обычно говорит: «Она так красива, что, будь я женщиной, влюбился бы в нее».
Эрнесто Вильальба. Титито — двуполый, и это самая мягкая характеристика, которую я могу ему дать. Он любит рубашки пастельных тонов, обожает балет, знает искусство и обладает поистине хорошим вкусом. Второй секретарь нашего посольства. Прежде служил в Афинах и Анкаре, где предавался своему пороку. Находит Турцию самой цивилизованной страной мира, потому что, по его словам, педерастия не считается там чем-то противоестественным. Нет дня, чтобы Титито не появился у меня с какой-нибудь новой сплетней о коллегах или о «священных коровах» Вашингтона. Возраст? Наверное, близко к сорока. Его лицо временами напоминает физиономию вдруг состарившегося ребенка. Невысокого роста, с тонкой талией, гибкий. Мне он нравится. Думаю, что и он относится ко мне неплохо.
Д-р Хорхе Молина. Министр-советник. Около пятидесяти. Этого сфинкса я еще не разгадала. Он замкнут и неразговорчив. Ходит, глядя прямо перед собой. Лицо у него, пожалуй, даже красивое, но на любителя: аскетическое, как у монахов с картин старых испанских мастеров — худое, длинное, с постоянно сизым подбородком, даже когда он тщательно выбрит; тонкие губы, высокий лоб, проницательные темные глаза. Учился в высшей семинарии Парамо, но ушел оттуда до посвящения в сан. Не знаю почему. Возможно, этого не знает и бог. С ним никто не позволяет себе вольностей. И он, как человек воспитанный, никогда не повышает голоса. Очень начитан, много знает. Однако сад этот за оградой и, по-моему, бесплоден. Либо я сильно ошибаюсь, либо он ненавидит Угарте. Я не верю также, что он станет другом дона Габриэля Элиодоро. Никогда не видела его улыбающимся. Холостяк, живет один, его еще ни разу не встречали в обществе женщины. Титито ручается, что Молина целомудрен. «Или кастрат!» — добавляет он с хитрой усмешкой.
Мерседес Батиста. Мерседита (машинистка) напоминает сову не только своими огромными очками и мрачным видом, но и формой головы, и носом, похожим на клюв. Низенькая, полная, меланхоличная, постоянно считает себя кем-то обиженной. Плаксива, говорит по-испански мягко и певуче, как большинство жителей Сакраменто. Своего рода козел отпущения для мужа Росалии, который как будто получает удовольствие, заставляя ее страдать. Мерседита — одна из тех, кому я доверяю.
Пабло Ортега. Это мой любимец! Ему не больше тридцати. Весьма привлекателен: смуглое лицо, хорошо очерченный, выразительный рот, в котором сочетаются мягкость и решительность. Выделяется среди своих сограждан, обладает хорошим вкусом, не мажет волосы бриллиантином. Интеллектуал, хотя не любит, когда его так называют. Опубликовал сборник стихотворений и книжку очерков, которые ненавидит, считая себя неудавшимся писателем. Рисует, но и это занятие не приносит ему удовлетворения. Холост. Замечаю, что женщины легко влюбляются в него, а я, что бы там ни говорили, тоже женщина. Титито утверждает, что у меня комплекс Иокасты, поскольку я гожусь Пабло в матери. В Вашингтоне у него было несколько похождений, но он слишком серьезен, чтобы довольствоваться случайными связями. Несколько замкнутый, он не откровенничает со мной, и мне приходится силой вырывать у него признания. Его родители — знаменитые Ортега-и-Мурат, владельцы земель, плантаций и сахарных заводов, принадлежат к одной из самых влиятельных семей Сакраменто. Пабло, судя по всему, переживает сейчас кризис, который с прибытием дона Габриэля Элиодоро может лишь обостриться. Его мучает сознание вины оттого, что он служит правительству, по его мнению, продажному.
Остальной персонал посольства? Мелкие чиновники, бесцветные личности, хорошие и даже интересные люди, когда знакомишься с ними ближе, но стереотипные и пустые, когда сталкиваешься с ними только в помещениях и коридорах посольства или при исполнении служебных обязанностей.
Да, есть еще помощники военного атташе: полковник, страдающий диспепсией, майор, помешанный на картах, капитан, коллекционирующий марки, и три лейтенанта с густо напомаженными черными волосами и похотливыми глазами. Эти бездельники слоняются по коридорам, куря и болтая, либо сидят за своими столами, рассматривая голых женщин в старых номерах «Плэйбоя». Почти у всех у них есть мощные автомобили, и они постоянно намекают на свои любовные победы, но меня это не интересует.
Новый посол? Пожалуй, еще рано высказывать о нем то или иное мнение. Одно можно сказать с уверенностью: дон Габриэль Элиодоро — настоящий мужчина! Он обаятелен, хотя в нем есть что-то животное, и даже шрам у него на лбу, делающий его похожим на гангстера, является для женщин своего рода пикантной приправой, усиливающей сексуальное влечение. Об этом человеке рассказывают много историй — некоторые из них весьма темные, однако все они интересны. Не удивительно, что Росалия охотно ложится в постель этого типа. Как-то, заговорив со мной о доне Габриэле Элиодоро, Титито сделал забавное, хотя и рискованное замечание: «Ах, Клэр! Ниже пояса он, очевидно, каменный!»
5
Среди множества своих забот в это апрельское утро Клэр Огилви все же ни на минуту не забывала, что новый посол не должен опоздать в Белый дом. Мишель уже позвонил ей, сообщив, что его хозяин намерен покинуть резиденцию ровно в половине одиннадцатого.
Секретарша взглянула на свои часики и решила пока сходить к Пабло Ортеге. Она напудрилась и подкрасилась, осмотрела себя в карманное зеркальце. На ней был костюм цвета соли с перцем с серебряной брошью в виде индейского божка, которую ей подарил один перуанский друг. Она достала из кармана таблетку аспирина, наполнила картонный стаканчик водой и едва ли не с покаянным выражением, будто несла святые дары умирающему, зашагала по коридору посольства, благоухая духами «Голубой час».
Как обычно, Клэр вошла в кабинет Пабло Ортеги без стука и увидела его сидящим за письменным столом. Пабло в задумчивости уставился на лежавшие перед ним бумаги.
— Как чувствует себя сегодня первый секретарь?
— Отвратительно. Голова прямо раскалывается.
— Я так и думала. Вот, прими.
Она положила ему таблетку в рот и подала стакан, из которого Пабло отпил большой глоток. Клэр сделала два шага назад.
— Ты прекрасно выглядишь в этом темно-синем костюме. Впрочем, серый тебе тоже идет. Но никогда не носи зеленый или коричневый. Эти цвета не для твоей смуглой кожи.
Ортега разжевал таблетку, прежде чем ее проглотить, отчего во рту стало горько.
— Мне неудобно перед господином Молиной, — сказал Пабло.
— Почему?
— Ты отлично знаешь, что он, а не я должен сопровождать посла в Белый дом. Министр-советник наверняка обиделся.
— Если дон Габриэль Элиодоро предпочел, чтобы переводил ты, твоей вины в этом нет, друг мой.
— Я хорошо знаю господина Молину. У него болезненное тщеславие. Он непримирим, когда нарушается иерархия.
Клэр ничего не сказала. Она только взглянула на свежую корреспонденцию, лежавшую на столе. Потом взяла пустой конверт и понюхала его: от конверта пахло жасмином.
— Еще один хайку?
Пабло утвердительно кивнул головой.
— Чем кончится этот роман?
— А никакого романа нет.
— Как нет? Однажды на приеме тебя представили мисс Кимико Хирота, сотруднице посольства Японии, вы с ней уселись в уголке, более часа беседовали о поэтах, самураях, живописи на шелку и искусстве составлять букеты… В конце концов вы обнаружили, что у вас родственные души, подружились, она стала каждую неделю посылать тебе хайку, а ты ей отвечаешь тем же. Так что же это, как не роман?
— Пожелать мисс Хирота было бы столь же абсурдно, как пожелать фарфоровую куклу.
— Не забывай, что японские транзисторы маленькие и изящные, но ни в чем не уступают любому западному приемнику…
Пабло улыбнулся.
— И все же наши отношения чисто платонические.
Клэр состроила скептическую гримасу.
— В душе ты закоренелая расистка! — сказал Пабло.
— Я расистка? Да если бы я была расисткой, я бы ни минуты не вытерпела вас, индейцев. — Немного помолчав, она примирительно спросила: — Так что же было в сегодняшнем хайку?
Пабло взял листок почтовой бумаги цвета сухой листвы и прочел строки, написанные круглым детским почерком мисс Хирота.
Весна Стрекозы? Неправда! Это цветенье вишен На ветру апрельском.Клэр, склонив голову, полузакрыла глаза, она не знала, понравились ей эти стихи или нет.
— Ты уже послал ответ?
— Нет. Сегодня я склонен скорее к харакири, чем к хайку.
Клэр рассмеялась. Оба закурили и несколько минут молча пускали дым.
Клэр указала на картонную папку с пачкой напечатанных на машинке листов.
— Ну и как?
Это была рукопись диссертации «Республика Сакраменто» Гленды Доремус, студентки Джорджтаунского университета. Полмесяца назад она обратилась к Пабло с просьбой прочитать ее работу и высказать свое суждение.
— Автор интереснее, чем диссертация.
— Это я заметила. И еще заметила по твоим глазам, Пабло, что девушка тебе понравилась. Ручаюсь, что и она не осталась безразличной к твоему латинскому обаянию.
Он наморщил лоб.
— Ты думаешь?
Мой инстинкт никогда меня не обманывает. Насчет японочки я, конечно, шутила. Но американка вызывает у меня тревогу.
— Это ревность, Клэр?
Скрестив руки на груди, она взглянула на приятеля.
— Была бы я моложе лет на двадцать пять, я бы тоже вступила в игру.
— Никакой игры нет.
Клэр решила переменить тему:
— Ладно, приготовься к жертвоприношению. Шеф ждет…
— Ну его к черту!
— Дон Габриэль Элиодоро весьма расположен к тебе, он мне сам вчера сказал об этом. Отзывался о тебе в высшей степени похвально. По-моему, ты ему вместо сына, которого ему бог не дал. У него ведь целая куча девочек, пять, кажется, и ни одного мальчика. Очень сожалею, но нужно тебе это или нет, ты обрел второго отца.
— С меня хватит и одного. Даже он иногда слишком меня обременяет.
Клэр с осуждением показала на конверт с красными и желтыми полосами, лежавший в ящике с нераспечатанной корреспонденцией.
— Что с тобой, мой мальчик? Два дня назад я принесла тебе письмо от матери, а ты до сих пор не удосужился его прочитать…
Пабло замялся.
— Я посмотрел конверт на свет, там как будто чек.
— Тебе пора!
Он поднялся, подошел к окну и, положив руки в карманы, стал смотреть на улицу.
— Я устал от этого фарса, Клэр, от этого маскарада. Мне надоело улыбаться этому мошеннику Угарте, притворяться, будто я не знаю, что он распутник, убийца и самый заурядный мошенник. Мне надоело выносить чванство офицеров, полагающих, будто мундир носят только избранные. Надоело выбирать слова и жесты, чтобы не задеть чувствительность господина министра-советника и не разбередить раны бедняги Виванко. И особенно — ты знаешь — меня тяготят мои доклады в клубах и университетах, где я вынужден говорить полуправду или чистую ложь о своей стране, дабы создавать легенду о нашей мнимой демократии. Все это унижает меня в собственных глазах.
Огилвита уселась, скрестив свои толстые, неуклюжие, непропорционально большие ноги. А Ортега продолжал:
— Так что же делать, посоветуй. Где выход?
— Откуда мне знать, если ты никогда не освещал мне этот вопрос полностью.
— Хорошо, сейчас я сообщу тебе все данные.
Он схватил номер «Вашингтон пост», лежавший на металлическом шкафчике с картотекой, и помахал им перед Клэр.
— Ты уже прочла письмо доктора Гриса, опубликованное сегодня?
Огилвита кивнула. Профессор Леонардо Грис, бывший министр просвещения в правительстве Хулио Морено, эмигрировавший в Вашингтон два года назад, часто выступал в местных клубах и колледжах с докладами, разоблачающими теперешнее правительство Сакраменто, а также обращался к редакторам наиболее влиятельных газет с письмами, в которых называл Хувентино Карреру жестоким и продажным тираном. Письмо, опубликованное сегодня, содержало нападки на Габриэля Элиодоро Альварадо как «соучастника в преступлениях диктатора, его кума».
— Я расскажу тебе сейчас одну историю, и ты поймешь, почему я заблудился в этом лабиринте…
Светлые глаза секретарши были устремлены на Пабло, и, как всегда, когда Клэр волновалась, она с шумом втягивала в себя воздух.
— Однажды в конце пятьдесят первого года наемники Хувентино Карреры вторглись в Серро-Эрмосо и захватили правительственный дворец. Леонардо Грис был единственным министром, который вместе с горсткой солдат и несколькими студентами до конца остался верен доктору Морено. Ты, вероятно, знаешь, что дон Габриэль Элиодоро командовал отрядом, который атаковал дворец… Финал драмы известен. Хулио Морено предпочел покончить жизнь самоубийством, лишь бы не попасть в руки врагов. Профессору Грису удалось бежать за границу…
— Я хорошо знаю историю твоей страны, Пабло.
— Но есть одна подробность, которая тебе не известна. Как ты думаешь, где Грис искал спасения в ту трагическую ночь? Так знай — в моем доме. Я был один, мои старики гостили в Соледад-дель-Мар. Не забывай, что я относился, да и сейчас отношусь с восхищением и уважением к доктору Леонардо Грису, который был моим преподавателем в Федеральном университете. Он отдал свою судьбу в мои руки. А я знал, что, если бы он был взят в плен повстанцами, его тут же расстреляли бы.
Взволнованная Клэр Огилви уселась теперь на ручку кресла.
— Я ни минуты не колебался. Я обязан был спасти своего друга, сделать так, чтобы он получил убежище в одном из посольств. Мы решили обратиться в посольство Мексики. Было уже одиннадцать вечера… В разных концах города слышались перестрелка и взрывы. Повстанцы, а также примкнувшие к ним солдаты убивали, грабили и насиловали. Я спрятал доктора Гриса в багажник своего автомобиля и поехал в посольство Мексики. Повсюду гремели выстрелы. Повстанцы гонялись за сторонниками Морено, охотясь за ними, как за дикими зверями… Многие резиденции членов низложенного правительства уже были охвачены огнем. Мне пришлось петлять по городу, чтобы избежать перекрестков, охраняемых патрулями. На одном углу нам вдруг преградили дорогу три человека, вооруженные карабинами, они сделали знак остановиться. «Если я остановлюсь, мы пропали», — промелькнуло у меня в голове. Сжав зубы и пригнувшись к рулю, я нажал на акселератор. Бандиты отступили, крича и размахивая руками, потом открыли огонь по нашей машине… Одна пуля просвистела у меня над ухом и разбила ветровое стекло. Другие попали в крышку багажника. Чтобы сократить путь, я пересек сквер по диагонали, огибая клумбы, скамьи и деревья. Через несколько минут, едва живые от страха, мы добрались до посольства Мексики, которое находится в богатом предместье. Здесь стояла кладбищенская тишина. Улицы были пустынны. Я выскочил из машины и попытался открыть ворота. Они оказались запертыми! Я отпер Багажник, помог профессору Грису выбраться и сказал: «Надо перелезть через ограду, профессор. Иного выхода нет. Скорее!» все оказалось гораздо проще, чем я думал. Грис был на удивление сильным и ловким, но, когда мы бежали через сад посольства, нас вдруг ослепил свет автомобильных фар! Мы услышали крики. Какая-то машина остановилась рядом с нашей. Мы бросились наземь и то на четвереньках, то ползком, прячась за деревьями и кустами, обогнули здание посольства и постучали в окно. Выслушав наши сбивчивые объяснения, мажордом открыл нам. Мы вошли, не отвечая больше на его расспросы. Грис хотел немедленно поговорить с послом, который был его другом. Я же опустился на стул, весь потный, измазанный землей, с бешено бьющимся сердцем, хватая воздух пересохшим ртом… Доктор Грис написал официальное ходатайство о предоставлении ему убежища. Полагая, что я подвергнусь риску, если покину посольство, посол предложил мне переждать. Я согласился, однако ночь провел без сна, прислушиваясь к доносившейся издали неутихавшей перестрелке, завыванию сирен, громким голосам… На следующий день к вечеру в посольство явились мои родители. Отец отругал меня, но я раздраженно возразил, что считаю свой поступок правильным… Тогда мать отозвала меня в сторону и сказала: «Ты хочешь убить своего бедного отца! Разве тебе не известно, что у него больное сердце?» Я замолчал. Это был старый способ; даже ребенком они шантажировали меня, спекулируя на болезни отца. В этом и заключается моя привилегия единственного сына…
Пабло потушил сигарету о пепельницу.
— Старый Дионисио Ортега-и-Мурат, запершись, потолковал с послом Мексики, а затем, взяв меня под руку, отвел в угол и тихо сказал: «Твой автомобиль был опознан, однако нам удалось добиться, чтобы газеты ничего не сообщали о том, что ты натворил, хоть ты и не соглашаешься признать, насколько это серьезно. Сеньор архиепископ сегодня посетил вместе со мной генералиссимуса, и тот заявил, что склонен тебя простить, однако считает, что тебе надо покинуть на время страну, пока новое правительство не укрепится окончательно и инцидент не забудется».
Пабло достал из кармана еще одну таблетку аспирина и разжевал ее с каким-то ожесточением.
— Несколько дней спустя меня послали в Париж. В итоге переговоров, длившихся почти месяц, профессор Леонардо Грис получил наконец разрешение на выезд в Мехико, откуда позднее перебрался сюда.
Ортега допил воду из картонного стаканчика.
— Представляешь себе двадцатитрехлетнего юношу с наклонностями к литературе и искусству, оказавшегося в Париже, да еще с солидным месячным содержанием? Чеки от родителей я принимал без особых угрызений совести. Город меня потряс. Я посещал кафе на Rive Gauche, где встречался со знаменитостями, писал картины на одной из маленьких площадей Монмартра, посещал лекции в Сорбонне, до изнеможения бродил по Лувру, сочинял стихи, были у меня, конечно, и любовные похождения. Однажды — это было в пятьдесят пятом году — я получил письмо от матери. Она писала, что генералиссимус не только забыл «инцидент», но в результате посредничества архиепископа «соблаговолил» назначить меня секретарем «своего» посольства в Париже. Представляешь?! Это было слишком. Я отказался от должности. Но пришло новое письмо: «Отец, все еще не оправившийся после инфаркта, который был у него в прошлом году, очень хочет, чтобы ты согласился занять должность секретаря, так как это самый надежный и верный путь к возвращению в Серро-Эрмосо. Выполни его просьбу, тем более что заботится он прежде всего о твоем благе, сынок. И подумай: здоровье того, кто дал тебе жизнь, в твоих руках». Представляешь, Клэр! Опять от меня зависела судьба «того, кто дал мне жизнь». Шантаж продолжался. Я дал согласие. Не стану отрицать, в конце концов я приспособился к своему новому положению. Родители за два с небольшим года, которые я провел в Париже уже как секретарь посольства, посетили меня дважды, и каждый раз их приезд превращался в своего рода семейный медовый месяц. Мы посещали музеи, ходили в концерты и театры, обедали в лучших ресторанах, бродили по набережным Сены, покупали книги и гравюры у букинистов, но из-за больного сердца дона Дионисио гуляли мы очень медленно, часто останавливаясь. Об «инциденте» мы не вспоминали. Иногда отец сдержанно упоминал об Освободителе: правительство будто бы проводит умеренную политику, страна получила законно избранный конгресс и либеральную конституцию. Бедняга! Смущенный и взволнованный, он изо всех сил старался верить в то, что говорил.
Клэр Огилви слушала Пабло, не забывая, однако, поглядывать на часы.
— Мои родители — ревностные католики, и я нисколько не сомневаюсь в искренности их веры… Однажды вечером мы были на концерте в часовне Сан-Шапель. Хор Памплоны исполнял старинные религиозные вещи. Дон Дионисио слушал, скрестив на груди руки и опустив голову, казалось, он молился. И вот, будто для того, чтобы завершить красоту великолепной музыки и изящество знаменитой часовни с ее светящимися витражами, во время перерыва появился папский нунций в сопровождении принца Бурбонского, Великого приора Франции, а также сановников, кавалеров и дам ордена Святой Гробницы, облаченных в традиционные костюмы. Принц держал в своих бледных руках терновый венец спасителя, привезенный из святой земли Людовиком IX, королем Франции… При виде этой реликвии лицо отца преобразилось, на глаза навернулись слезы. Когда мы вышли из часовни, он ласково взял меня под руку и порыве откровенности прошептал: «Нужно ли тебе говорить, что когда я подхожу к генералиссимусу, то краснею от стыда и чувствую желание зажать нос пальцами? Надеюсь, ты не считаешь меня столь наивным и бесчестным, чтобы думать, будто я нахожу этого человека идеальным президентом и способен оказывать ему политическую поддержку. Знай же, сын мой: если я с ним и мирюсь, то лишь потому, что в данный момент он представляет меньшее из двух зол. К несчастью, вторым злом для Сакраменто является сейчас коммунизм, а это значит гибель духовных ценностей, почитаемых нами, и установление атеистического режима, который изгонит из страны священников, сожжет церкви, лишив нас права любить бога и воспитывать наших детей и внуков как добрых христиан, а не как бездушных роботов, служащих целям тоталитарного государства». Многозначительно помолчав, дон Дионисио добавил: «Мы оказались бы также лишенными земель, которые наши предки начиная с семнадцатого века поливали своим потом, слезами и кровью».
Клэр Огилви поднялась, бросив взгляд на свои часы.
— Менее чем через год после последнего их приезда, — продолжал Пабло, — я получил извещение о своем переводе в это посольство. И вот я играю дипломатическую комедию, находясь на содержании у тирана, окруженного ворами и бандитами. А отец, будто мне не хватает тысячи долларов, которые я здесь зарабатываю, время от времени присылает чеки на крупные суммы. К тому же всякий раз, как я хочу плюнуть на все и уехать, хотя сам не знаю куда и как, приходит письмо от доньи Исабели с неизменным вопросом: «Неужели ты хочешь убить своего бедного отца?»
— А насколько серьезна болезнь старика, или это лишь симуляция, чтобы удерживать тебя в повиновении?
— Я говорил с его врачом, которому я доверяю. Врач сказал, что здоровье отца в самом деле очень плохое. У него было два серьезных инфаркта. Его сердце словно треснувшая ваза, требующая бережного обращения.
Ортега показал на письмо, которое еще не распечатал.
— Представляю себе, что там написано… Родители знают, что я часто вижусь с профессором Леонардо Грисом. В своем последнем послании донья Исабель писала: «Умоляю тебя, порви эти опасные отношения. Рано или поздно ваша дружба обнаружится, на тебя донесут, и неизбежно снова выплывет наружу старый инцидент. В результате ты лишишься своего поста и, что еще хуже, не сможешь вернуться на родину».
Клэр подошла к Пабло и поправила ему галстук.
— Теперь я понимаю, что ты действительно в дьявольски трудном положении. И дело может обернуться еще хуже. Но что бы там ни было, сейчас ты должен сопровождать его превосходительство посла Сакраменто в Белый дом. Пошли!
Пабло поцеловал Клэр в щеку и направился к двери.
— Бог в помощь, дорогой!
И когда Пабло был уже в коридоре, Огилвита вытерла глаза и высморкалась в бумажный носовой платок. Потом, хлюпая носом, закурила новую сигарету.
6
Мишель, открывший перед Пабло дверь в резиденцию посла, шепнул, что его превосходительство в библиотеке.
При виде первого секретаря Габриэль Элиодоро широко раскинул свои мускулистые руки.
— Пабло, дружище!
И обнял его, крепко прижав к груди. Ортега почувствовал сильный запах лаванды.
— Как ты меня находишь? — спросил посол, поворачиваясь перед Пабло.
— Прекрасно. Но вы чересчур надушились.
Габриэль Элиодоро обнюхал свои руки, лацканы пиджака, платок.
— Ты в самом деле так считаешь?
— Да. В этой стране мужчины не душатся.
— Но ведь я не из этой страны! Я индеец из Соледад-дель-Мар, — шутливо и вместе с тем гордо воскликнул кум диктатора.
«От индейцев Соледад-дель-Мар пахнет дымом и мочой, — подумал секретарь. — А ты мошенник и предатель. Как и я…»
— Сейчас отправимся, Пабло.
— Отсюда до Белого дома можно доехать за десять минут, значит, в нашем распоряжении еще полчаса.
— Да! Но до встречи с Эйзенхауэром у меня назначено свидание с другим президентом. — Он помолчал, и лицо его просветлело. — Я хочу подъехать к памятнику Линкольну, чтобы выполнить обет, который дал себе еще мальчишкой.
«Комедиант!» — воскликнул про себя Пабло.
— Линкольн — один из тех, кого я особенно почитаю. Даже, пожалуй, больше всех, после Соледадской богородицы.
«Комедиант! Комедиант!» — Пабло старался взять себя в руки, но тщетно: он по-настоящему ненавидел посла.
Габриэль Элиодоро выпрямился, подошел к Ортеге, сдержанно поклонился и протянул руку. Секретарь был вынужден ее пожать, включаясь в комедию, которую разыгрывал посол.
— How do you do, Mr. President? Ха-ха-ха! Ну как?
— Хорошо. Только произносите «президент», а не «пресиденте». Кстати, пока я не забыл, название этого города — «Вашингтон», а не «Гуасинтон».
— В чем будет заключаться церемония?
— Она продлится немногим более пяти минут. Ведь вручение верительных грамот — простая формальность. Нет необходимости готовить какую-то особую речь. Достаточно выразить удовлетворение по поводу того, что вас назначили на этот пост, и пожелать, чтобы наша страна и Соединенные Штаты и впредь поддерживали хорошие отношения… Однако не беспокойтесь — я переведу все как надо.
Габриэль Элиодоро взглянул на часы.
— Ну, пошли!
В передней Мишель подал послу другой, ненадушенный платок и помог надеть пальто. Посол на мгновение остановился перед зеркалом, поправляя шляпу.
— Bonne chance, Monsieur l'Ambassadeur! — сказал мажордом.
Они вышли. Высокий и стройный в своей темно-синей форме Альдо Борелли стоял возле черного «мерседес-бенца», распахнув дверцу. Этому итальянцу с хитроватым лицом было немногим более двадцати.
— Добрый день, господин посол.
— Добрый день, Альдо. Проедем сначала к памятнику Линкольну.
Они расположились на заднем сиденье, Альдо тронул машину, и тут Габриэль Элиодоро вдруг затрясся от громкого хохота. «Если он рассчитывает, что я спрошу, почему он смеется, то напрасно», — подумал Пабло, но посол тут же объяснил:
— Знаешь, почему я так веселюсь? В пятнадцатом году американская морская пехота по просьбе диктатора Чаморро высадилась в Сакраменто, чтобы захватить в плен Хуана Бальсу и его партизан. И я — а мне тогда было лет двенадцать — плюнул однажды на флаг Соединенных Штатов и, спрятавшись за деревьями, бросал камни в патрули гринго. Вот этими руками я писал на стенах углем: «Американцы — грязные собаки!» А сейчас я — посол республики Сакраменто — направляюсь в Белый дом. Разве не удивительно?
Ортега лишь кивнул головой.
Габриэль Элиодоро искоса посмотрел на Пабло. Почему этот мальчик настроен против него? Впрочем, пусть… Через две недели он его завоюет. Или он не сын своего отца.
«Но кто мой отец?» — подумал он с горечью. В памяти всплыл образ матери. Лицо господина посла омрачилось.
Автомобиль ехал по Массачусетс-авеню. Когда они миновали бразильское посольство, Пабло подумал о своем друге Орландо Гонзаге, о том, что вечером в баре «Коннектикут» им будет о чем поговорить. Туда наверняка заглянет и Билл Годкин, который тоже с интересом послушает, как прошла церемония.
— Что это за башня? — спросил Габриэль Элиодоро, когда машина проезжала по мосту над рекой Потомак.
— Это минарет мусульманской мечети, ваше превосходительство, — поспешил сообщить Альдо Борелли, говоривший с сильным итальянским акцентом.
— Мусульманской? — посол удивленно взглянул на Пабло. Тот утвердительно кивнул.
«Мерседес» въехал в парк Рок Крик. Берег ручья, давшего название парку, был покрыт цветущими деревьями и кустами. На другом берегу Габриэль Элиодоро увидел кладбище с простыми надгробиями, серыми и черными, которые уступами поднимались до самой вершины холма.
— Это кладбище Оук Хилл, — сообщил Пабло.
— Как оно не похоже на наши! Надгробные плиты будто каменные столбы на дорогах. Могилы плоские. Ни статуй. Ни ангелов. Нет, наши кладбища, Пабло, мне нравятся больше. В этой стране даже смерть кажется менее трагической, чем у нас.
Габриэль Элиодоро вспомнил белые стены кладбища своего родного поселка, с вершины зеленого холма открывался вид на море. Он повернулся к первому секретарю, дружески хлопнул его по плечу и сказал:
— Держу пари, парень, то, что ты сейчас услышишь, ты не читал ни в одном учебнике по истории. Тринадцатый год вошел в нашу историю как трагический. Правление тирана Антонио Мария Чаморро было особенно жестоким. И Хуан Бальса со своими партизанами сражался за то, чтобы освободить народ от гнета. Однажды летом партизаны спустились с гор и на рассвете ворвались в Соледад-дель-Мар, перебив военные патрули. Пока половина партизан держала в осаде солдат пятого пехотного полка, запершихся в казарме, другая половина собирала продовольствие, лекарства, оружие, боеприпасы и вербовала добровольцев…
Пабло Ортега невольно заинтересовался. Речь посла лилась гладко, голос его был приятным, звонким.
— Когда наступил день, — продолжал Габриэль Элиодоро, — партизаны вернулись в горы, а окна и двери в домах Соледад-дель-Мар закрылись; на улицах остались только те, кто погиб в бою… Начальник федерального гарнизона вышел из казармы и подсчитал свои потери. Партизаны убили десять федеральных солдат и человек тридцать ранили. И знаешь, что сделал этот негодяй? Он тут же отобрал среди жителей поселка полсотни здоровых мужчин и объявил, что расстреляет их. Больше того! Он приказал почти всем остальным мужчинам, женщинам и даже детям подняться на кладбищенский холм и присутствовать при расстрелах.
Габриэль Элиодоро взглянул на Пабло, желая узнать, какое впечатление производит его рассказ. Затем продолжал:
— Я помню этот день так ясно, как будто все это случилось только вчера. Мне было тогда, должно быть, лет десять, ходил я босиком, в рубашке и штанах из грубого холста, в соломенной шляпе. Хуан Бальса был моим кумиром, и я ненавидел федеральных солдат.
Пабло заметил, что Альдо Борелли тоже внимательно слушает посла.
— Начальник гарнизона приказал, чтобы приговоренные к смерти сначала похоронили солдат. Потом заставил несчастных вырыть длинный ров за стеною кладбища и сбросить в него убитых накануне партизан Бальсы. Расстрелы начались около полудня. Стоял один из тех жарких дней, когда небо пышет зноем, словно раскаленные угли, покрытые золой. Забравшись на дерево, я смотрел на ужасную сцену, обливаясь слезами и скрипя зубами от злости… Приговоренных со связанными за спиной руками ставили по четыре человека у стены кладбища. Взвод, который отрядили для расстрела, давал залп… «Пли!» — и они падали. Стена была обрызгана кровью, можно было разглядеть кусочки мозга и осколки костей. Поселковый сапожник перед смертью крикнул: «Да здравствует Хуан Бальса! Смерть тирану!» Один индеец рухнул с улыбкой на губах. Другой — не помню, кто это был, — забился в истерике, упал на землю и весь сжался, подтянув колени к подбородку, совсем как ребенок в материнском чреве. Лейтенанту, который командовал взводом, не осталось ничего иного, как выстрелить ему в ухо. Несчастный дернулся и затих. Земля жадно впитывала его кровь. Но самым страшным были крики и плач людей, которые наблюдали эту бойню. Пресвятая богородица! Проживи я тысячу лет, и то никогда не забыл бы этой картины: женщины в черном рыдают и хором поют молитву. Некоторые попадали в обморок, у других началась истерика, третьи со стонами катались по земле. Солнце палило так, что мозг, казалось, плавится. Соленый пот мешался со слезами и попадал в рот. Я не хотел глядеть на стену, но и не мог отвести от нее глаз. Трупы во рву скоро начали смердить. Налетели стервятники, привлеченные запахом крови, солдаты отгоняли их сначала камнями, потом выстрелами. И знаешь, парень, что меня больше всего потрясло? Люди, которые умирали безропотно, молча, с остановившимся взглядом, будто пред ними возникло видение. Священник, отец Каталино, был все время там, он плакал. Осужденные целовали крест, который викарий держал в руке. Я смотрел, Пабло, как люди, которых я знал и уважал, падали по четыре… Стена и земля были обагрены кровью. Несколько дней я не мог избавиться от трупного запаха, запаха горячей крови, пороха и пыли… Такое запоминается на всю жизнь.
Габриэль Элиодоро умолк. Чем кончился этот незабываемый день, он рассказывать не стал. Придя домой к вечеру, он застал мать в постели с сержантом пехотного полка. А в соседней комнате несколько солдат играли в карты и курили, дожидаясь своей очереди… Каждый, у кого была пара монет, мог пользоваться ее телом.
Он убежал из дому и стал блуждать по улицам поселка, зашел в церковь попросить утешения у своей покровительницы — Соледадской богоматери, затем как лунатик бродил по улицам и окрестным полям, пока не занялась заря. Вернувшись домой, когда солнце было уже почти в зените, Габриэль увидел на стене своей хижины: «Полковая уборная».
Лицо посла стало угрюмым. Когда автомобиль выехал из парка, Ортега бросил взгляд на воды Потомака и серые крыши Джорджтаунского университета. Вспомнил Гленду Доремус. Мост Мемориал Бридж со своими белыми арками чем-то походил на парижский, соединяющий берега Сены.
Пабло взглянул на посла, который сидел с опущенными глазами, сгорбившись, словно вновь переживал то, о чем только что рассказывал.
— Вам нехорошо? — спросил Пабло, немного стыдясь своей заботливости.
Посол поднял глаза, улыбнулся и расправил плечи.
— Нет. Просто невеселые воспоминания…
Несколько минут спустя «мерседес» остановился перед памятником Линкольну.
— Я вас здесь подожду, господин посол, — сказал Пабло.
— Хорошо. Я недолго.
Альдо Борелли открыл дверцу машины — посол вышел на тротуар, глубоко вдохнул утренний воздух и сунул руки в карманы пальто. Лицо его озарилось улыбкой, когда между колоннами он увидел статую Авраама Линкольна. Великий муж сидел, опираясь на подлокотники кресла крупными, благородными руками дровосека, и казалось, собирался встать навстречу посетителю.
Габриэль Элиодоро медленно поднимался по ступенькам, чтобы полнее насладиться торжественной минутой. «Я здесь, мистер Линкольн! Тот самый грязный мальчишка-индеец из Соледад-дель-Мар, помните? Сейчас в Белом доме меня ожидает президент Соединенных Штатов. И я им докажу, этим сукиным детям, что кое-чего стою».
Он продолжал подниматься, не сводя глаз с прекрасного лица.
7
С десяти часов утра Панчо Виванко дежурил у окна своего кабинета, выходившего в парк. Он должен был увидеть, как Габриэль Элиодоро, отправлявшийся в Белый дом, будет выходить из своей резиденции. Когда он заметил «мерседес-бенц», остановившийся против особняка, пульс его участился, по телу пробежала дрожь. Он притаился, как убийца, подстерегающий жертву. Руки и лоб покрылись холодным потом. Да, из карабина с оптическим прицелом отсюда он мог бы поразить посла метким выстрелом. Он позабавился этой мыслью, приятной, хотя и неосуществимой, подобно мальчишке, играющему в ковбоев, который поджидает в засаде краснокожего. И когда Габриэль Элиодоро, выглядевший внушительно в своем черном пальто, появился в дверях дома, Панчо Виванко, дрожа от волнения или от ненависти, чего ему хотелось бы больше, прислонился лбом к стеклу и принялся наблюдать за любовником своей жены. Он догадывался, что его коллеги знают обо всем, знают, что и ему, Виванко, известно, что жена его обманывает. Разве приходилось рассчитывать на их уважение? Они могли питать к нему лишь презрение или сострадание.
Прежде чем сесть в автомобиль, Габриэль Элиодоро на мгновение задержался на крыльце. Панчо представил, как целится из карабина. Выстрел — и посол падает на каменные плиты… А он немедленно отправляется с докладом к министру-советнику: «Сеньор Молина, я только что убил посла». Судить его будут в Серро-Эрмосо. Он не станет ссылаться на то, будто находился в состоянии аффекта, прокурор определит убийство как преднамеренное и будет прав. Тридцать лет тюрьмы.
«Мерседес-бенц» сделал круг по саду, выбрался на улицу и неторопливо проехал мимо посольства.
Вернувшись к своему письменному столу, Панчо Виванко уселся и взглянул на паспорта, письма и фактуры, которые ему надлежало отправить в это утро… Мисс Клэр Огилви однажды сказала ему: «Вы бюрократ, Виванко». На самом деле возиться с бумагами, просматривать их, штемпелевать, регистрировать, аннотировать, разбирать архивы и документы было для него увлекательной игрой. Он касался бумаг с каким-то сладострастием, чуть ли не с наслаждением. Виванко был совершенным чиновником. Он питал отвращение к подчисткам, кляксам, пятнам. Почерк у него был бисерный и вместе с тем четкий и разборчивый. Для Виванко не было большего огорчения, если кто-нибудь замечал у него ошибку, пусть самую ничтожную.
Виванко взглянул на фотографию жены, которую держал на столе. Росалия! Росалия! Она никогда не была любящей женой, даже во время медового месяца. Но сначала по крайней мере была податлива, терпелива. С тех же пор, как они в Вашингтоне, Росалию, казалось, охватило все возрастающее отвращение к нему. Она часто запиралась в спальне под предлогом мигрени или усталости и не разрешала мужу входить, тогда он устраивался на софе в гостиной, томясь от желания ночь напролет.
Виванко снова уставился на документы, наваленные на столе, но что-то мешало ему взяться за работу; это повторялось каждое утро, и Виванко не мог бы объяснить, в чем тут дело. Работать он начинал лишь после того, как совершал своеобразный ритуал. Он взял лист белой бумаги и ловко (Виванко часто показывал фокусы на семейных праздниках) сделал голубя. Затем указательными пальцами обеих рук, словно катапультой, толкнул его и с удовольствием стал наблюдать за изящным полетом голубя, напоминавшего сейчас чайку.
Ах! Медовый месяц в отеле Пуэрто Эсмеральды! Обеды на террасе, с которой открывался вид на море! Маримбы и марака! Он был счастлив, хотя и знал, что Росалия не любит его по-настоящему! Чтобы попасть на пляж, им достаточно было пересечь асфальтированную улицу. Потом, взявшись за руки, они шли по светлому песку. Иногда он выпускал руку жены и отставал, чтобы полюбоваться сзади ее длинными ногами и стройными бедрами, округлыми ягодицами, тонкой талией и этой божественной походкой… Он сотни раз фотографировал ее на цветную пленку. Наблюдал, как мужчины пожирают ее взглядами, когда Росалия проходит мимо них… И это не вызывало в нем возмущения или ревности: наоборот, пробуждало какую-то нелепую гордость тем, что он муж столь вожделенной самки. Иногда он даже злился, если какой-нибудь мужчина не кидал на Росалию похотливых взглядов. А ночью, когда они предавались любви, он думал об этих самцах, которые днем желали его жену, представлял их здесь, в спальне, наблюдающими за ласками его и Росалии, и наслаждение становилось от этого еще острее.
Меланхоличным взором Виванко уставился на бумажную птичку, упавшую на зеленый ковер, словно мертвая чайка на поверхность моря. Однако пора приниматься за работу! Он снял очки, подышал на стекла, аккуратно протер их носовым платком и снова надел на нос. Затем бросил удовлетворенный взгляд на стол, заваленный вещами, о которых он мечтал мальчишкой, но не мог в ту пору купить: самыми различными авторучками, цветными карандашами, точилками, машинками для сшивания бумаг, пластмассовыми линейками, лупами, ножами для разрезания книг, блокнотами… Соединенные Штаты — рай для любителя канцелярских принадлежностей! Виванко был не в силах пройти мимо мелочной лавки или писчебумажного магазина, он обязательно заглядывал туда и покупал что-нибудь, зачастую вещи, ему не нужные.
Впрочем, ритуал еще не был завершен. Консул открыл один из ящиков письменного стола, где у него хранились мягкие цветные карандаши, и несколько минут чертил в блокноте с желтой линованной бумагой. И лишь после того, как весь лист покрылся геометрическими фигурами, консул почувствовал некоторое облегчение и прилив сил; теперь можно было приступать к работе.
Он снова вынул платок из кармана и вытер лицо. Вспомнил руки Габриэля Элиодоро: сильные, как звериные лапы, землисто-бурого цвета, с набухшими венами. Вчера, пока посол подписывал бумаги, он рассматривал эти руки, которые минувшей ночью ласкали тело Росалии. Ему вдруг захотелось впиться в них зубами… Потом так же пристально он стал изучать лицо посла. Оно было словно высечено из песчаника. До Виванко доносился запах лаванды, смешанный с ароматом хорошей гаванской сигары. Он взглянул на шею своего шефа и подумал: «Если бы мы схватились, он раздавил бы меня своими могучими руками, а я перекусил бы ему сонную артерию…» Виванко представил, как посол катается по ковру, вцепившись обеими руками в шею, из которой хлещет кровь… Видение это промелькнуло перед ним в один миг. Чего только не успевает вообразить человек за десятую, сотую, тысячную долю секунды! Всю свою жизнь и свою смерть!
Виванко вздохнул, положил карандаши в ящик, вырвал из блокнота листок с геометрическими фигурами, скомкал его и выбросил в корзину, стоящую рядом со столом. Затем с благоговением взял первую бумагу и, тихонько насвистывая от удовольствия, стал ее изучать, почти забыв о своих недавних волнениях. Это было письмо, которое он написал по-испански, мисс Огилви перевела на английский, а Мерседес перепечатала. Внезапно лицо консула снова омрачилось: он обнаружил неряшливую подчистку. Виванко нажал кнопку звонка. Немного погодя в дверях кабинета появилась Мерседита. Консул поднялся и протянул ей письмо.
— Оно получилось грязное, как ваша физиономия! Перепечатайте начисто!
— Извините, сеньор Виванко… — начала девушка, всхлипнув.
— Я не принимаю извинений. Относитесь внимательнее к своим обязанностям и меньше думайте о мужчинах. Работать надо пальцами и головой, а не другим местом.
Мерседита взяла письмо и вышла из кабинета со слезами на глазах. Панчо Виванко сел, потер руки и подвинул к себе следующую бумагу.
Кабинет министра-советника находился рядом с кабинетом консула. Он был значительно больше, и бюрократический дух в нем ощущался не так сильно. Поначалу Клэр Огилви ставила свежие цветы в вазу на круглом столике, помещавшемся рядом с кожаной софой. Господин Хорхе Молина, однако, попросил ее больше этого не делать и велел убрать вазу из кабинета. На бледно-розовых стенах не было ни единой картины, и стол сеньора Хорхе по сравнению с письменным столом Виванко выглядел аскетически скромным.
Сейчас министр-советник сидел за ним, подперев подбородок кулаками. В этой позе он оставался уже несколько минут, как зачарованный уставившись в лежавшую на столе газету.
Два обстоятельства испортили настроение министра-советника в это утро. Во-первых, досада против воли из-за того, что дон Габриэль Элиодоро не пригласил его с собой в Белый дом. И во-вторых, публикация письма профессора Леонардо Гриса в «Вашингтон пост». Господин Молина старался убедить себя, что оба эти обстоятельства не так уж важны и нисколько его не трогают, что его самолюбие не страдает от этих царапин. И все же он почувствовал эти обиды, а этот неприятный факт означал, что господин Молина не так свободен и независим, как ему хотелось бы.
Габриэль Элиодоро человек малокультурный, не знающий этикета либо пренебрегающий им. Поэтому Молине нужно уже сейчас привыкать к его нелепым выходкам. Будут и другие, похуже. Он должен набраться терпения. Во всяком случае, Габриэль Элиодоро не сможет без него обойтись, если не хочет совершать грубые ошибки, выставлять себя на посмешище.
Министр-советник посмотрел на часы. Вероятно, сейчас посол поднимается по ступенькам Белого дома, где его ожидает Дуайт Эйзенхауэр. Глава самой могущественной державы мира пожмет руку «опереточному послу» из «опереточной страны». Надо признать печальную и смешную истину: Сакраменто правит заурядный, невежественный и бесчестный диктатор, «… которому ты служишь», — услышал он чей-то голос. Это был голос Леонардо Гриса.
Хорхе Молина встал и, заложив руки за спину, начал расхаживать по кабинету. Образ Гриса постоянно преследовал его, как беспощадное воплощение нечистой совести. Ибо министр иностранных дел послал Молину в Вашингтон, в частности, обязав его наблюдать за деятельностью Леонардо Гриса, отвечать на нападки, с которыми тот обрушивался на правительство Сакраменто, — в общем, нейтрализовать деятельность этого эмигранта.
Поклонник Платона, Молина любил диалог, считая его самой ясной и краткой формой для обмена идеями или дискуссий. Холостой и одинокий, он привык обсуждать важные вопросы с самим собой, иногда даже вслух. Из всех воображаемых собеседников он предпочитал дона Панфило Аранго-и-Арагона, архиепископа, примаса Сакраменто, своего близкого друга, которым он почтительно восхищался и биографию которого составлял с любовью и старанием. За примасом следовал, как это ни невероятно, Леонардо Грис, давний коллега по университету и нынешний политический противник Молины.
Вот и сейчас Молина видел перед собой Гриса сидящим на софе с закинутой назад красивой серебряной головой; Грис устремил на него, Молину, свой проницательный взгляд, который не раз приводил собеседников в замешательство, и закурил сигарету. Молина никогда не курил. Он ненавидел привычки, которые могли бы поработить его волю.
— Прочел твое письмо в сегодняшнем номере «Пост», — начал мысленный диалог министр-советник.
— Будь честным и признайся, что в моей статье нет ни грана лжи, — ответил Грис.
— Допускаю, что это так, но ставлю под сомнение ее целесообразность. Я осуждаю твои поступки с этической точки зрения. Грязное белье стирают дома…
— У меня тоже есть серьезные возражения против твоей этики, Хорхе. Если ты в принципе согласен с моей критикой твоего правительства, твоего президента и твоего посла, то как ты объяснишь тот факт, что состоишь у них на службе?
— Минутку! — Продолжая мысленный диалог, Молина остановился посреди кабинета и посмотрел на софу. — Я служу своей стране, которая будет существовать еще много веков после того, как меня не станет, и своей церкви, которая вечна.
Раскатистый, громкий смех Гриса, язвительный, даже саркастический, и все же сердечный и беззлобный, знаменитый смех, столь любимый студентами, раздался в ушах министра-советника.
— Своей церкви? Как ты можешь говорить это, Хорхе, если всем известно, что ты оставил семинарию, потому что утратил веру в бога? Станешь отрицать это?
— Нет. Но дело обстоит не так просто. Ты атеист и гордишься этим. Я же потерял бога и оттого страдаю, не переставая искать его и надеясь найти когда-нибудь. Более того, мне по душе идея существования бога, ты же презираешь ее и высмеиваешь как наивную и примитивную. Ты хочешь разрушить церковь, которую я защищаю со всей страстью.
— От кого? По-моему, ты воюешь с ветряными мельницами…
— Я защищаю ее от коммунизма, Леонардо, от материализма, от безнадежности, от всеобщего растления, от хаоса… И от людей вроде тебя!
— Называть меня коммунистом было бы несправедливо.
— Ты хуже. Я ненавижу учение марксизма-ленинизма, но не могу не преклоняться перед коммунистами, перед их верностью своей идеологии, перед их последовательностью. Я презираю и ненавижу подобных тебе, так называемых либералов, людей без определенной политической платформы, без твердой доктрины. Вы лишь критикуете левых и правых, не предлагая никакой конструктивной программы. Вы против того, что с легкостью именуете церковным обскурантизмом, и призываете к свободе мысли, в общем, вы «славные ребята» (как этот Пабло Ортега, твой ученик), прикрывающиеся гуманными фразами…
— Не смеши меня, Хорхе. Нет ничего более расплывчатого и нелепого, чем твоя собственная позиция. Если ты не убежден в существовании бога, какой смысл защищать его церковь?
— Я мог бы тебе ответить, что я люблю эту церковь, понимаешь? Люблю ее традиции, ее помпезность, ее обряды, легенды о ее святых и мучениках… Словом, ее мистическую сущность. Есть ли другая сила в мире, способная противостоять всеразрушающим волнам марксизма и нигилизма? Нам, Хорхе, нужно нечто большее, чем утробная философия, пищеварительная интерпретация истории!
В коридоре послышались шаги. Молина подождал, не постучат ли в его дверь, но шаги удалились. Теперь Грис стоял у окна и не без удовольствия смотрел сверху вниз на своего невысокого противника. У него самого рост был метр восемьдесят.
— Я обвиняю тебя, Леонардо Грис, в том, что ты мыслями и действиями по чьему-то наущению или по собственной оплошности расчищал путь коммунизму в Сакраменто, когда был министром просвещения и культуры.
Лицо Гриса продолжало оставаться спокойным, и от его ясного взгляда Молина испытывал смущение.
— Обвинения должны быть конкретными.
— Ты распорядился снять во всех светских школах распятия, отменил чтение утренней молитвы и исключил из программы преподавание закона божьего. Ты превратил наш старейший университет в гнездо вольнодумцев, коммунистов и прагматистов. Ты не только разрешил, но и сделал чуть ли не обязательным преподавание эволюционной теории Дарвина в средних и даже начальных школах. Надеюсь, ты не станешь отрицать, что я критиковал эти меры и боролся против них в печати еще тогда, во времена правления Морено.
— А почему ты мог это делать? Потому что при Морено в нашей стране была свобода мнений и свобода слова. Цензура тогда газет не читала.
Молина подошел к столу и бросил взгляд на страницу «Вашингтон пост», где было напечатано письмо Гриса.
— Я сейчас же отвечу на твои нападки!
— Ты отрицаешь, что Габриэль Элиодоро ростовщик и вор? Что он замешан в махинациях своего кума Карреры? И попытаешься убедить американцев, что в республике Сакраменто — подлинная демократия?
— Нет. Но я докажу, что когда ты входил в правительство Сакраменто, то сознательно или бессознательно — это не имеет значения! — играл на руку левым. Ты желал установить у себя на родине режим вроде того, что был установлен полковником Арбенсом в Гватемале. Проект аграрной реформы твоего правительства был явно коммунистическим. В общем, хотели вы того или нет, вы помогали красным. И наверно, все же хотели!
Молина позвонил. Через минуту послышался стук в дверь. Появилась Мерседита.
— Звали, господин министр?
Молине хотелось крикнуть: «Если зазвонил звонок на твоем столе и зажегся второй номер, значит, звал!» Но он сдержался и лишь кивнул головой.
— Садитесь. Я продиктую письмо, которое вы отнесете мисс Огилви, чтобы она перевела на английский.
Молина заметил, что глаза у секретарши красные.
— Почему вы плакали? — спросил он, тут же, впрочем, пожалев о ненужном любопытстве, ибо никогда не вмешивался в чужие дела, чтобы никому не давать права вмешиваться в свои.
— Пустяки, господин министр!..
— Опять Виванко?
Она кивнула и едва слышно прошептала «да». Молина с удовольствием вызвал бы сюда консула и в присутствии девушки надавал бы ему пощечин. Этот жалкий трус, не смея отомстить послу, отыгрывался на самой безответной сотруднице посольства!
Наступило молчание. Секретарша ждала с карандашом и блокнотом в руках. Хорхе Молина искоса взглянул на девушку: она была некрасива. Ее туловище и голова были крупными, а ноги короткими, что делало ее фигуру смешной. Но министр-советник других секретарш не признавал. Хорошенькие, пышногрудые и сильно накрашенные были во вкусе Угарте и его помощников. Если случайно одна из них входила в его кабинет, Молину охватывала тревога, вскоре перераставшая в панику. Опыта в обращении с женщинами у него никогда не было. Даже оставив семинарию, он сохранил привычку к воздержанию. Почему? — иногда спрашивал себя Молина. Неужели так сильно влияние религиозной догмы, отвергающей плотское желание? Или это отвращение? Боязнь потерпеть неудачу? Молина считал себя нормальным мужчиной, желание часто охватывало его, и он боролся с ним холодным душем и упражнениями ума. В часы дьявольских искушений очень помогали молитвы. («Дьявол? — удивлялся Грис. — Ты не веришь в бога и допускаешь существование дьявола?») Иногда ночью он извергал семя, но не мог (и не пытался) связать это с каким-нибудь сном. Молина встречался с женщинами лишь на обедах, приемах, докладах. («Но, снова вступил Грис, — едва женщина на тебя посмотрит, ты отводишь от нее глаза».) Глупости! Женщины никогда ему не докучали. Возможно, что воздержание объяснялось эгоизмом. Или гордостью. Он чувствовал себя сильным потому, что не предавался разврату. Его одиночество было крепостью, безбрачие — панцирем.
— Вы готовы?
— Да, господин министр.
— Письмо главному редактору «Вашингтон пост». Мисс Огилви знает форму.
Молина соединил руки, как бы для молитвы, упер большие пальцы в тощую шею, указательными схватил кончик носа и принялся диктовать.
8
А по коридору в своих мягких мокасинах в этот момент проходил Эрнесто Вильальба. Миновав кабинет министра-советника, он легкой танцующей походкой проследовал дальше, напевая фальцетом мотив из «Пеллеаса и Мелисанды», остановился перед одной из многочисленных дверей длинного коридора и отрывисто стукнул два раза. Послышался приглушенный возглас: «Войдите!», и Вильальба вступил в кабинет генерала Уго Угарте, как на сцену. Встав напротив военного атташе, он неслышно щелкнул каблуками, с легким поклоном отдал честь и произнес:
— A vos orders, mon général!
Угарте сидел за столом, на котором, как обычно, ничего не было, и рассматривал толстую книгу, похожую на телефонный справочник, в которой Вильальба узнал последний каталог фирмы «Сирс энд Робэк».
— Я позвал тебя на помощь, Титито. Хочу, чтобы ты перевел эту штуку на христианский язык. Взгляни…
Секретарь встал позади Угарте и склонился над страницей, на которую тот показывал своим толстым, коротким пальцем.
— Уж не собираетесь ли вы приобрести парик, генерал?
— Не говори глупостей и переводи. Я еще ничего не решил.
Титито, отступив, кинул взгляд на лысину Угарте. Сзади она напоминала огромное блестящее яйцо, лежащее в гнезде из черных перьев (генерал красил волосы).
— Хорошо, — сказал секретарь, пробежав глазами интересовавшую генерала страницу. Реклама обращена к пятнадцати миллионам плешивых, живущих в Соединенных Штатах.
— Пятнадцать миллионов? Черт побери!
— С помощью этой бумажной выкройки заказчик может обмерить свою голову и установить ее форму. Затем послать мерку вместе с прядью волос, чтобы можно было подобрать цвет для парика. Все операции производятся по почте. Если вы, генерал, не пожелаете открывать свое имя, можете воспользоваться моим. Здесь сказано еще, что фирма располагает париками пятнадцати различных оттенков. Вот это да!
Угарте откашлялся, издавая звуки, похожие на карканье вороны. Затем откинулся на спинку вращающегося кресла и поднял глаза на собеседника.
— Что обо мне скажут в Серро-Эрмосо, если я появлюсь там в парике?
— Вы будете иметь успех!
— А если какая-нибудь каналья расхохочется мне в лицо?
— Вы выстрелите ей в рот!
Уго Угарте встал, одернул брюки на толстых ягодицах, взял с маленького столика термос, налил в стакан немного воды и выпил ее залпом.
— Нет. Не хочу рисковать. — Он покосился на каталог. — Нинфа первая меня засмеет.
На генерале был штатский, плохо сшитый, слишком узкий костюм свинцового цвета. Он критически оглядел Титито с головы до ног.
— Где это ты пропадал последние два дня? — спросил Угарте и ядовито добавил: — Уж не нашел ли ты нового любовника?
— Ну что вы, генерал! Вы же знаете, я образец супружеской верности.
Угарте терпел противоестественные связи Вильальбы, поскольку тот оказывал ему всякого рода услуги, в том числе поставлял женщин. К тому же его развлекал циничный юмор секретаря.
— Я отсутствовал, mon géneral, потому что ездил в Нью-Йорк приобрести билет на премьеру балета московского Большого театра. И знаете, сколько я заплатил? Сто пятьдесят долларов!
— Ты спятил! Я бы и за пятьдесят центов не стал смотреть на пляшущих большевиков. Наши индейцы из Парамо танцуют лучше и стоят дешевле. Им достаточно дать на выпивку.
Угарте снова уселся за стол.
— Еще одно дело, Титито. Напиши-ка письмо в «Дженерал электрик» и спроси, какую максимальную скидку они могут сделать на эти большие холодильники, самые большие… Ты знаешь. Напиши им, что, если скидка будет солидной, я куплю десяток в рассрочку.
Эрнесто Вильальба записал поручение на клочке бумаги. Потом взглянул на свои платиновые ручные часы и сказал:
— Сейчас наш посол, должно быть, уже у президента Эйзенхауэра.
На столе военного атташе зазвонил телефон. Титито услужливо поднял трубку и, выслушав телефонистку, передал трубку Угарте, шепнув:
— Ваша супруга.
— Ола, Нинфита! Что у тебя?
— Все хорошо, Уго. Но нам не удастся позавтракать вместе: я задерживаюсь с покупками.
— Где ты сейчас?
— У Хэкта, с Росалией.
— Ладно, увидимся дома в полшестого. Только не оставь Хэкта без товара…
Нинфита шутливо ругнулась, и генерал со смехом дал отбой.
Нинфа Угарте положила трубку и вышла из кабины, чувствуя, что вот-вот упадет в обморок. С ней это случалось всегда, если она долго находилась в душном, натопленном помещении. А сейчас уже почти два часа она бродила по этому огромному универмагу, обходя по порядку все его бесчисленные секции, рассматривая товары и то и дело спрашивая: «How much?» Начала свой осмотр Нинфита с последнего этажа, спускаясь все ниже на эскалаторе и волнуясь, как истинная провинциалка. Хау маче? Голова у нее шла кругом от подсчетов, ведь приходилось доллары переводить на луны, и головокружение это напоминало морскую болезнь. А тут еще мелькают перед глазами пестрые товары, лица и костюмы непрерывно движущейся толпы покупателей, блестят рекламные украшения, выставленные к наступающему весеннему сезону. Режет глаза свет флуоресцентных ламп, в ушах стоит гул голосов, заглушаемый какими-то непонятными звонками, которые раздаются через определенные промежутки времени. И в довершение ко всему на ней шерстяное платье, отчего тело чешется, будто покрылось огненной сыпью. О боже!
Нинфа остановилась, закрыла глаза и схватилась своей короткой и толстой рукой за грудь. Не началось ли сердцебиение? Но все было в порядке. Сейчас ей, должно быть, полегчает. Куда же девалась Росалия? Нинфа увидела ее около эскалатора и пошла туда, однако не удержалась от искушения взглянуть на кухонную посуду, которая, стоя на полках, казалось, взывала: «Купите меня!»
Нинфа подошла к полке с посудой из огнеупорного стекла, к которой испытывала особую слабость. Она уже накупила больше дюжины этих ярких кастрюль с рисунками: цвета турецкой лазури, коралловых, красных, и представляла себе, как будут завидовать ей ее сакраментские подруги…
Продавщица с улыбкой спросила по-английски, что ей угодно. Донья Нинфа тоже улыбнулась и ответила обычной фразой: «Ай эм джос лукинге». Девушка отошла. В эту минуту супругу генерала осенила блестящая идея. А что, если купить несколько дюжин самых различных кастрюль, отослать их в Серро-Эрмосо и продать там знакомым дамам? Можно было бы заработать доллара по два на каждой… А посуду она отправит вместе с товарами, которые Уго постоянно посылает в Сакраменто. Два доллара прибыли, а может, и три… Донья Нинфа погрузилась в расчеты, когда Росалия взяла ее за руку.
— Ах! — воскликнула Нинфа. — Давай что-нибудь съедим, дорогая. Сейчас без двадцати двенадцать, но у меня в желудке уже пробил полдень. И вообще лучше пойти в ресторан пораньше, а то не будет свободных мест.
Она окинула прощальным взглядом кухонную секцию: алюминиевые кастрюли и чайники, медную и никелированную посуду, кухонные полотенца (какая прелесть!), целый арсенал ножей (с ума можно сойти!) — и двинулась за Росалией к лестнице.
— Вам не кажется, что на сегодня достаточно? — спросила Росалия. — Я прямо с ног валюсь от усталости.
— Первым делом подзаправимся, девочка, а потом заглянем ненадолго в басименто, — ответила мадам Угарте, обогащая свою лексику еще одним английским словом.
Им удалось найти свободный столик, и они тут же принялись изучать меню. Когда подошла официантка — белокурая, накрашенная и чистенькая, — заказ уже был готов.
Супруга генерала сняла под столом туфли и испустила вздох облегчения. Наконец-то! Она взяла стоявший перед ней стакан, в котором было больше льда, чем воды, и жадно прильнула к нему. Росалия улыбнулась.
«Зубы у нее настоящие, — подумала Нинфа не без патриотической гордости, — а не вставные, как у американских красоток из театра, кино и телевидения».
Когда принесли еду, мадам Угарте с завистью окинула взглядом тарелки Росалии: листья латука, кружочки яйца, лук, свекла, консервированные абрикосы и горсточка творога. И ничего такого, от чего толстеют. Не удивительно, что у этой сучки такая фигура. Донья Нинфа посмотрела на свою тарелку: блестящие от сала свиные котлеты плавали в жирном соусе, окруженные горками картофельного пюре.
Подруги принялись за еду. Стройные и элегантные манекенщицы под звуки откуда-то льющейся вкрадчивой музыки прохаживались между столами, демонстрируя весенние модели. В воздухе носился аромат цветущих яблонь.
Время от времени супруга генерала поглядывала на Росалию — та клевала, как птичка. Ее едва заметная шепелявость очень идет к этому вздернутому носику, — размышляла сорокалетняя матрона. — А карие глаза с забавными золотыми искорками, такие нежные на первый взгляд, таят чувственность, которая прорывается наружу, когда ее ласкают.
К любовнице посла Нинфа относилась со сдержанной нежностью и в то же время враждебно, как молодящаяся мать относится к взрослой дочери, которая не только готовится сделать ее бабушкой, но и становится соперницей, оспаривающей внимание мужчин.
Росалия тоже исподтишка поглядывала на приятельницу. Ее отношение к генеральше было двойственным. Иногда Нинфа раздражала ее. Она была властной, резкой, и, подчинив себе Росалию с первого же дня их знакомства, пыталась навязывать свою волю даже в мелочах: «Не покупай этого, а это купи», «Синий цвет тебе не идет, возьми серый». А порой добродушная и энергичная дама вызывала у Росалии симпатию. Нинфа любила разражаться напыщенными тирадами и с не меньшим удовольствием отпускала соленое словцо. Пальцы ее всегда были унизаны кольцами, а объемистую грудь украшали аляповатые брошки; своими брелоками, медальонами и прочими побрякушками сеньора Угарте в иные дни напоминала маршала Геринга в зените славы. Сейчас помада с ее мясистых губ, измазанных жиром, потекла по подбородку. «И почему она не удалит волосы на верхней губе?» — подумала Росалия и вдруг сообразила, что усики делают Нинфу похожей на тетю Микаэлу, оставившую о себе самые плохие воспоминания. Суровая и неласковая тетка постоянно твердила Росалии о том, что она бедная сирота. («Уж не думаешь ли ты, что ты принцесса, которой под пару только сын президента? Хватай скорее этого Виванко. Он не красавец, зато порядочный человек, дипломат, поговаривают даже, что его скоро пошлют в Париж».)
— Мне что-то не по себе, дорогая, — прошептала Нинфа.
— Почему?
— Дела в Сакраменто идут не блестяще. Приближаются выборы, а по конституции генералиссимус не может больше выставлять свою кандидатуру.
— Я не разбираюсь в политике, донья Нинфа.
— Речь не о политике, девочка, а о нашей судьбе. Если на выборах одержит верх оппозиция, нам дадут коленкой под зад.
Нинфа заметила, что Росалия покраснела, и подумала: стесняется слов, а наставлять мужу рога ей не стыдно.
Когда официантка принесла десерт (яблочный пирог для генеральши и смородиновое желе для Росалии), разговор принял оборот, которого Росалия опасалась больше всего.
— Давай, дорогая, выложим карты на стол, — сказала Нинфа, вызывающе уставившись на собеседницу. — Откровенность будет только на пользу. Я все знаю о тебе и о доне Габриэле Элиодоро.
— Что все? — Росалия инстинктивно заняла оборону.
— Не стоит запираться. Это секрет Полишинеля. Еще в Серро-Эрмосо все знали об этом, за исключением, конечно, жены дона Габриэля Элиодоро. Донья Франсискита привыкла витать в облаках.
Губы Росалии задрожали, как и кусочек розового желе, который она подносила ко рту.
— Не расстраивайся, — успокоила ее Нинфа. — Я тебя не осуждаю. На твоем месте я поступила бы точно так же. Дон Габриэль Элиодоро настоящий мужчина, не то что твой муж.
Опустив глаза, Росалия кромсала желе на мелкие кусочки, которые потом размяла и оставила.
— Ну, смелей! — подбодрила ее Нинфа. — Подруги мы или нет? Вчера вечером Панчо позвонил к нам и спросил, у нас ли ты. Уго, старая обезьяна, понял все и наврал, будто мы с тобой пошли в кино. Ты можешь рассчитывать на нас, дурочка. Мы все на стороне дона Габриэля Элиодоро и на твоей.
Росалия в замешательстве разглядывала розовую кашицу у себя на тарелочке.
— Послушай, милочка, тебе еще не раз понадобится это… как его… Ну, как это называется, когда в детективных фильмах кто-нибудь хочет доказать, что он был в другом месте, когда кого-то убили? Алибили?
— Алиби, — прошептала Росалия.
— Вот, вот. Тебе оно еще понадобится. Ты можешь спокойно обедать с послом и все прочее… А я звоню Панчо и говорю, что у нас с тобой свои дела… Ты же просишь дона Габриэля послать ко мне посольскую машину. С Альдо, разумеется. Можем начать сегодня… Ты останешься со своим возлюбленным, а я прогуляюсь… в Арлингтон, Маунт-Вернон, Бетесду… — Нинфа подмигнула. — Получится отличное алиби.
— Для нас обеих, не так ли? — осмелела Росалия.
Нинфа усмехнулась.
— Конечно. Ты умная девочка. Нам нужно быть союзницами. Жизнь коротка, и все мужчины — свиньи. Все без исключения. А теперь, дорогая, поговорим о другом. Посмотри, какое красивое платье. Боже мой, если бы у меня была твоя фигура, я купила бы себе это платье… И многое другое сделала бы, очень многое…
Она подозвала официантку и попросила счет.
— Сегодня плачу я. — Нинфа снова подмигнула.
В эту минуту Росалия ненавидела ее, она была готова сквозь землю провалиться.
9
В тот вечер Пабло Ортеге захотелось повидаться с Леонардо Грисом. Он позвонил из автомата.
— Как вы смотрите на то, чтобы нам пообедать вместе в одном из ресторанов Джорджтауна?
— Неплохое предложение, — ответил Грис. — А ты не боишься себя скомпрометировать?
— Вы это серьезно, профессор?
Пабло услышал теплый и душевный смех друга.
— У меня к вам один вопрос, хотя и не очень серьезный. Итак, в семь часов в «Кэрридж Хаус».
— Отлично!
Без пяти семь Пабло Ортега поставил свою машину на одной из улиц, пересекающих Висконсин-авеню, и направился в ресторан. Фасад «Кэрридж Хаус» с его деревянным портиком, выкрашенным в черный цвет и украшенным фонарями с коляски колониальных времен, почему-то напоминал Пабло морг.
Войдя в ресторан, Пабло не сразу отыскал друга. Леонардо Грис сидел за столиком в углу главного зал, который в этот час был полон.
— Слава богу! — воскликнул Пабло, усаживаясь. — Наконец-то есть с кем поговорить, отвести душу… Сегодня у меня отвратительный день — ужасно болит голова.
— Как прошла церемония?
— Гораздо лучше, чем можно было ожидать. Трудно поверить, но наш посол выглядел весьма импозантно. Он держался, как опытный дипломат.
— Ничего не скажешь, внешность у него для этой роли подходящая.
— Больше того, от него исходит какой-то магнетизм. У меня нет никаких сомнений: президенту Эйзенхауэру наш индеец понравился. И не удивительно. В жизни не встречал более обаятельного негодяя.
Когда покончили с коктейлями, Грис сказал:
— Я неспроста спросил, не боишься ли ты себя скомпрометировать. Что скажет Габриэль Элиодоро, если узнает, что ты поддерживаешь дружбу с таким ренегатом, как я?
— Очевидно, ему уже известно об этом.
Грис спокойно кивнул головой.
— Даже наверняка. Две последние недели какой-то неизвестный как тень следует за мной по пятам. Я его видел даже на университетской спортивной площадке. Когда я возвращаюсь домой, он едет за мной на синей машине. А когда я выглядываю из окна квартиры, он стоит на углу…
— Вы уверены, что это один и тот же человек?
— Абсолютно. Я убежден также, что немного погодя он появится в дверях этого зала, постаравшись, чтобы я его заметил. И то, что он старается мозолить мне глаза, наводит меня на мысль, что тот, кто его посылает следить за мной, видимо, хочет меня запугать.
— Если бы только это. Вам надо быть осторожнее. — Пабло жевал маслину. — А кто этот тип? Латиноамериканец?
— Нет. Высокий, статный блондин. Мне почему-то кажется, что он ирландец. Однако поговорим о более приятных вещах. Что будем есть? Я предлагаю лангуста по-ньюбергски.
— Превосходно.
— Вино?
— На ваш вкус. Но не забудьте, что я вас пригласил обедать…
— Поругаемся при расчете.
Пока профессор изучал карту вин, Пабло его разглядывал. В свои пятьдесят семь лет Леонардо Грис казался таким же сильным и энергичным, как и десять лет назад, когда преподавал литературу в федеральном университете Серро-Эрмосо. Он овдовел сорока с небольшим лет и так и не женился. У Гриса не было детей, и поэтому к своим студентам он питал отцовскую привязанность. Взгляд его глаз был на редкость выразительным: добрый и вместе с тем твердый, серьезный и веселый, полный веры и скептический. Гладкая кожа его смуглого лица еще сохранила упругость, а иссиня-черные брови красиво контрастировали с серебряной головой. На лекциях и докладах Грис умело пользовался своим низким и богатым интонациями голосом. «Этот человек, — думал Пабло, — один из очень немногих, в чьем присутствии я чувствую себя настолько свободно, что готов открыть душу, поделиться своими самыми сокровенными мыслями».
— Прошлой ночью, — сказал Грис, когда принесли еду, — мне снился странный сон. Будто на пустынной темной улице я встретил доктора Морено. Я поспешил к нему, хотел обнять, но он, заметив меня, ускорил шаг и жестами показал, что не желает со мной говорить. Я проснулся в тревоге. И, подумав, пришел к заключению, что сон мой вызван чувством вины перед доктором Морено.
— А почему вы должны чувствовать себя виноватым перед ним? Потому лишь, что он мертв, а вы живы?
Грис с сомнением пожал плечами.
— Если размышлять здраво, я не виноват… Ведь я хотел остаться с Морено, но он настоял, чтобы я бежал. И не только настоял — приказал.
Ярко-красный панцирь лангуста на тарелке Гриса напомнил вдруг Пабло его картину, которую он не мог кончить уже несколько месяцев.
— В ту ночь в мексиканском посольстве, — сказал он тихо, продолжая разглядывать лангуста, — нам не удалось поговорить как следует. После того, как вам было предоставлено политическое убежище, посол поместил вас в комнатах верхнего этажа, лишив возможности поддерживать связь с внешним миром… Признаюсь, не раз при наших встречах здесь, в Вашингтоне, мне хотелось поговорить об этом, но я не решался…
— Вот видишь! — рассмеялся Грис. — А все потому, что в глубине души ты согласен со мной: мне не следует слишком гордиться тем, что я остался жив в ту трагическую ночь.
— Ну, это вы зря, профессор! Просто мне не хотелось возвращаться снова к грустным воспоминаниям. Я могу совершенно откровенно сказать вам, что я об этом думаю. Изгнание не тяготит вас, ваше моральное и материальное состояние превосходны, ваши коллеги по университету и студенты восхищаются вами и уважают вас, вы пользуетесь относительным комфортом, ходите в библиотеку Конгресса, посещаете картинные галереи, концерты, интересные спектакли… А отвратительный (или прекрасный) призрак, притаившийся у вас в мозгу, оживает, едва мы засыпаем, чтобы прошептать нам на ухо обвинение, которого мы так боимся… Ведь согласно мифологической традиции к слову «изгнание» положено добавлять эпитет «горькое».
— Возможно, ты прав.
Наступило короткое молчание, и Пабло Ортега занялся лангустом, а когда он поднял глаза на друга, тот сказал:
— Я уверен, что доктор Хулио Морено не кончил жизнь самоубийством.
— Что? — Пораженный Ортега наморщил лоб.
— Никто не знал Морено, как я. Он ценил жизнь не только других, но и свою собственную. И никогда не брал в руки оружия. В ту ночь у него не было при себе даже перочинного ножа… Ты помнишь, что для нас тогда создалось безнадежное положение?.. Габриэль Элиодоро со своими наемниками наступал на дворец. Нас было двести человек, готовых сопротивляться до конца. Морено созвал нас и сказал: «Я не хочу, чтобы кто-нибудь жертвовал собой. Даже мысль о бесполезной смерти мне ненавистна. Сложите оружие и поступайте затем, как заблагорассудится: сдавайтесь или бегите. Я вас освобождаю от каких бы то ни было обязательств по отношению к моему правительству. Спасибо за все. И да благословит вас бог!» Когда я возразил, что в случае ареста ему грозит расстрел, Морено ответил: «От мертвого или от живого, им от меня не избавиться».
Грис отпил вина, бросил взгляд на дверь, а затем снова посмотрел на друга.
— За пятнадцать минут до того, как дворец был захвачен, я поспорил с Морено. Мы остались одни в огромном здании. Он был бледен, в холодном поту и дышал с трудом. Я не соглашался уходить, но он продолжал отсылать меня. И лишь один довод мог меня убедить: продолжать дело революции за рубежом, поскольку новое правительство Морено считал «белым». «Я очень стар и слишком болен, чтобы сопровождать тебя», — сказал он и буквально вытолкал меня из опустевшего дворца. Это решение покинуть друга одного в окружении врагов было для меня самым тяжелым за всю жизнь. Несколько минут спустя, Пабло, я стучался в твою дверь. А остальное тебе известно.
— Но для чего Каррера и его бандиты создали версию о самоубийстве Морено?
— Сохранить жизнь человеку, который пользуется уважением не только у себя в стране, но и за границей, — значит, стараться удержать в руках горячую картофелину. Если бы они его расстреляли, мировое общественное мнение заклеймило бы их позором. Выдумав же историю о самоубийстве, злодеи не только избавились от затруднения, но и смогли совершить еще большую подлость — солгать, будто Морено покончил с собой потому, что боялся расследования деятельности его правительства, угрожавшего ему раскрытием темных делишек, которые он якобы совершал ради собственной выгоды. Теперь понимаешь?
Ортега был поражен.
— Значит, не исключено, что Хулио Морено был убит самим Габриэлем Элиодоро?
Грис пожал плечами.
— Здесь я ничего не могу утверждать. Думаю, что из правительственного дворца его увезли в какую-нибудь загородную тюрьму и только потом тайно убили. Показательно, что ни одному журналисту, ни одному иностранному корреспонденту не было разрешено увидеть его труп. Сакраментские газеты ограничились лишь кратким сообщением о самоубийстве Морено. Ни одного снимка не было опубликовано. И до сегодняшнего дня никто не знает, где его похоронили. — Помолчав, Грис повторил: — Я убежден, что доктор Хулио Морено не кончал жизнь самоубийством. — Но, заметив, что Пабло слишком взволнован, переменил тему: — Какие у тебя известия от дона Дионисио?
— Два дня назад я получил письмо от родителей… но так и не распечатал. Мне все еще не разрешают возвратиться в Сакраменто.
— Подумать только, в какую историю я тебя впутал, — Грис ласково коснулся руки Пабло. — Иногда я вспоминаю наше бегство в ту ночь… и не знаю, как тебя отблагодарить за то, что ты для меня сделал.
— Не говорите об этом, профессор. Помощь, которую я вам тогда оказал, была самым полезным и достойным делом за всю мою жизнь.
— И поверь, друг мой, что совершил его ты не напрасно, — прошептал Грис, незаметно поглядывая по сторонам. — Мы знаем, Каррера не допустит, чтобы выборы в этом году проводились в соответствии с конституцией. Не будет даже подобранного им самим марионеточного кандидата. Победа Фиделя Кастро на Кубе оказала огромную поддержку нашему делу. Смею тебя заверить, близится революция…
— Прошу вас, — прервал его Пабло, — ничего мне не рассказывайте.
Грис улыбнулся.
— Я тебе полностью доверяю.
— Но я не хочу ничего знать: ни фактов, ни имен. Это только усилит мое смятение…
— Я и сам знаю далеко не все. Однако твоя просьба мне понятна. Что ж, поговорим о другом. Ты сейчас пишешь? Рисуешь?
Ортега с унылым видом покачал головой.
— Ничего я не делаю. Чувствую себя совершенно опустошенным. Живу в постоянной тревоге, никому не доверяю. Глотаю аспирин и успокоительные средства, будто это может помочь мне. А в остальном я по-прежнему подчиняюсь контролю, который на расстоянии осуществляет исключительно ловкий оператор, донья Исабель Ортега-и-Мурат. Она пользуется аппаратом, старым, как мир, но очень действенным: человеческим сердцем, в данном случае сердцем моего отца.
— Значит, ты уподобился спутнику крупной планеты, — сказал Грис.
— И самое отвратительное, профессор, что вращаюсь я вокруг мерзкого солнца. Разве не позор?
Леонардо Грис коснулся пальцем своей груди там, где помещается сердце.
— Кстати, как твои сердечные дела?
— Ничего серьезного. Одна полупроститутка сегодня, другая завтра… У меня все определяется категорией «полу». Я полупоэт, полухудожник. Сплю с полупроститутками, отчего получаю полуудовольствие. И что еще хуже — я лишь полустыжусь всего этого…
— Вот он — моя тень! Субъект в светлом дождевике…
Пабло обернулся и глазами нашел человека, о котором говорил Грис.
— Блондин со шляпой в руке?
— Он. Обрати внимание, как пристально он нас разглядывает.
Пабло поднялся, чтобы подойти к неизвестному и спросить, что ему надо, но Грис, решительно дернув его за полу пиджака, заставил сесть. Человек в светлом плаще резко повернулся и вышел на улицу.
— Спокойно, Пабло. Я уверен, что они хотят лишь припугнуть меня, и не собираюсь притворяться, будто не понимаю этого. Утром мне звонили по поводу моего письма директору «Пост», которое опубликовано сегодня. Ты его читал? Отлично. Мне сказали по-английски, без малейшего акцента: «Если ты дорожишь своей шкурой, братишка, не пиши больше писем в газеты». Но поговорим лучше о другом. Бываешь на концертах?
— Как всегда. Только музыка помогает мне сохранить в душе что-то человеческое. Однако квартеты Бартока слишком напоминают о раздробленности мира и поразительно точно воспроизводят лабиринт, в котором мы заблудились, поэтому у меня не хватает больше духа их слушать. Мне и так тяжело. Я предпочитаю итальянские примитивы — они мне говорят о мире, где живут ангелы, возможно, вымышленном, но прекрасном. И разумеется, всегда остается Иоганн Себастьян, утверждающий, что жизнь и мир просты, а любовь возможна. И, кстати, уж если мы заговорили о музыке, как поживает ваша виолончель, профессор?
— Плохо. Плесневеет в пыльном углу. Я неделями не подхожу к ней.
— Никогда не забуду, как одним октябрьским вечером вы играли Баха для меня и Гонзаги. Помните? В гостиной сумрак, окно открыто, светит полная луна. Это было так прекрасно.
Грис печально улыбнулся. И Пабло подумал: «Я хотел бы, чтобы этот человек был моим отцом». Впрочем, он тотчас устыдился собственных чувств и, густо покраснев, машинально отпил большой глоток вина.
Когда принесли кофе, Грис спросил:
— Как, по-твоему, может один и тот же человек играть Баха, ну, скажем… «Пассакалию» на виолончели и готовить революцию, обдумывать, где приобрести оружие и боеприпасы, как незаметно провезти их в Сакраменто… с кем установить контакты, в каких стратегических пунктах высадить воздушные десанты и так далее и так далее. Более того, может этот человек быть пацифистом, отвергающим всякое насилие и мечтающим о тихом кабинете, где он будет читать Платона или исследовать творчество Гонгоры?
Пабло ненадолго задумался.
— Может. И это меня пугает. — Он отщипнул хлебный мякиш и принялся катать шарики, вспомнив о Билле Годкине, который всегда носил в кармане корм для птиц и белок.
— А каким, по вашему мнению, доктор Грис, должен быть революционер?
— Как говорил один из персонажей Мальро, революционер — это манихеист, человек действия.
— А как вы оцениваете свою революционность?
— На тройку, не больше. Мы, так называемая интеллигенция, никогда не станем людьми действия. Мы отвергаем политические и философские абсолюты. Не соглашаемся с тем, что существует только черный и белый цвет, верим в оттенки, признаем сложность людей и их проблем. А все это камни преткновения на пути революции, все это приводит в ярость людей действия. Кажется, другой персонаж Мальро сказал, что многие пытаются найти в апокалипсисе решение своих личных вопросов…
Пабло задумчиво катал хлебные шарики.
— Войди в мое положение, — продолжал доверительно Грис. — Я не манихеист и не сторонник активных действий. Считаю себя скорее созерцателем. Если я останусь безразличен к судьбе своей родины, моя совесть возмутится. Но когда я принимаю участие в революционном заговоре, человек, играющий на виолончели, читающий Платона и Гонгору, взирает на меня недоверчиво и тоже осуждает меня со своих позиций. Если же революция победит, вполне возможно, настанет день, когда меня осудят мои же товарищи. В общем, интеллигенту на роду написано подвергаться осуждению.
— Но есть же какой-то выход!
— Что бы ни случилось, я должен сдержать слово, которое дал покойному другу. Я закрыл на все глаза, вступил в заговор и теперь пойду до конца.
Когда официант протянул счет Грису, Ортега схватил его и уплатил, несмотря на протесты друга.
Грис заметил человека в светлом дождевике, стоящего на углу, едва они вышли из ресторана и сделали несколько шагов. Ортега тоже увидел его и что-то угрожающе проворчал.
— Не обращай внимания, — сказал профессор.
Однако Пабло быстро направился к неизвестному и спросил в упор:
— Что вам нужно от моего друга?
Тот отступил назад, словно приготовился к обороне.
— Не понимаю, о чем вы говорите.
Сжав кулаки и стиснув зубы, Ортега едва сдерживался, чтобы не ударить его, хотя и знал, что в драке победит верзила.
— Отлично понимаешь! Только зря ты теряешь время. Доктор Грис не из пугливых. Передай это тому, кто тебе платит за твою грязную работу.
— Вы с ума спятили, — пробормотал неизвестный с принужденной улыбкой и, повернувшись на каблуках, удалился. Грис подошел к Пабло.
— Ты рискуешь получить хорошую трепку. Ведь он, судя по всему, боксер.
Ортега дрожал от негодования. Потухшая сигарета приклеилась к губе. Некоторое время они шли молча. Перед Пабло стояло лицо человека в светлом дождевике, красноватое, с квадратными челюстями и жестоким ртом. Кто ему платит? Угарте? Да, только этот старый полицейский пес мог пойти на такое. Пабло выплюнул сигарету.
Грис взял своего бывшего ученика под руку и постарался отвлечь его от невеселых мыслей.
— Меня пригласили выступить в мае с докладом в университете. Я расскажу правду о нашем правительстве…
— Я тоже приду, можете не сомневаться.
— Нет, Пабло, прошу тебя, не надо напрасно рисковать.
Молча они дошли до улицы Q и зашагали по ней в восточном направлении. В квартале, где стоял дом, в котором жил д-р Грис, когда-то, еще при царе, находилось русское посольство.
— Зайдешь?
— Конечно. Я не успокоюсь, пока вы не окажетесь дома, за крепкими дверями.
Квартира профессора была на четвертом этаже. Только убедившись, что там никто не прячется, Пабло собрался уходить.
— Тебе мерещатся призраки. — Профессор улыбнулся. — Но как бы там ни было, еще раз большое спасибо… А может, останешься выпить рюмку коньяку? Послушать Баха или Вивальди?
— Спасибо. Но сегодня мне надо выспаться. У меня был тяжелый день.
Они пожали друг другу руки. Выйдя на улицу, Пабло внимательно посмотрел по сторонам, но не заметил ничего подозрительного. Он зашагал к тому месту, где оставил машину. Q-стрит?.. Пабло вдруг вспомнил, что на этой улице живет Гленда Доремус. Девушка написала свой адрес карандашом на картонной папке диссертации, 3050, Q-стрит. Достаточно сделать несколько шагов, и он найдет ее дом, но на каком этаже квартира Гленды, он не помнил…
Пабло остановился и стал глядеть на освещенные окна дома, где жила девушка.
10
Растянувшись на софе без туфель и чулок, Гленда Доремус смотрела на экран телевизора и старалась сосредоточиться на том, что там происходило. На работе ей удалось забыть о своем желудке. Но едва она вернулась домой, как снова появилось это неприятное ощущение: голодные колики и тошнота. Она подозревала, что у нее язва желудка, если не что-нибудь похуже. Однако рентгеновский снимок, сделанный несколько дней назад, не обнаружил ничего опасного, и врач полагал, что ее боли имеют психопатическое происхождение. Он посоветовал обратиться к психоаналитику. Ну уж нет! Ни за что!
Сегодня Гленда отказала коллеге из Панамериканского союза, пригласившему ее пообедать в «Альдо». И сейчас, едва подумав о еде, она почувствовала тошноту. Между тем Гленда знала, что, только съев что-нибудь, она избавится на время от этих болей в пустом желудке.
На экране стреляли ковбои. Гленда встала и выключила телевизор. В кухне она достала из холодильника бутылку молока и отпила глоток. Ничто ей не напоминало сильнее отчий дом, чем вкус молока. Она вернулась в гостиную, думая о родителях, и остановилась перед их портретами на письменном столе, стоявшими рядом с цветами. Гленда вынула из ящика стола письмо, которое получила от отца этим утром, и, сев на кресло, перечитала его:
«Дорогая девочка, почему ты не возвращаешься домой? Вашингтон, вероятно, очень красив теперь, когда цветут вишни, но у нас в Атланте персиковые деревья тоже в полном цвету. Мы с матерью не понимаем, почему ты до сих пор никак не можешь решить, что же тебе изучать. В прошлом году ты занималась английским языком и литературой. А теперь почему-то взялась за историю Латинской Америки. Что это тебе даст?
У твоей матери по-прежнему расширение вен, она прикована к постели, и мы очень озабочены состоянием ее здоровья. Как и я, она была огорчена тем, что ты не приехала к нам во время летних каникул, и тем, что, по всей вероятности, не сможешь провести с нами и рождество. Почему ты так ненавидишь Юг? В конце концов и в Вашингтоне негров больше, чем белых. Ты пишешь, что у тебя там нет друзей и ты не чувствуешь себя счастливой. Почему же ты продолжаешь жить в этом городе, который сама считаешь скучным и неинтересным? Приезжай домой, девочка. Ты не должна портить свою жизнь из-за того, что случилось давно и не по твоей вине. Если кто в этом виноват, так это я, и бог свидетель, я не раскаиваюсь в своем поступке».
Гленда разорвала письмо на клочки и бросила их в корзину. Отец не имел права касаться этого!
Ей захотелось принять ванну. Желание это появлялось у Гленды несколько раз в день, даже на работе. Ей вдруг казалось, что она грязная, от нее дурно пахнет и что другие отшатываются от нее с отвращением. Гленда понимала, что это глупо, но ничего поделать с собой не могла. Ощущение собственной неряшливости делало ее замкнутой, недоверчивой и необщительной.
Гленда вошла в ванную, разделась и остановилась, разглядывая себя в зеркале. Она ощупала грудь и живот, но без сладострастия или гордости, а как врач. Она искала затвердение, которое могло оказаться злокачественной опухолью. Гленду преследовала мысль, что она умрет от рака, и девушка старалась, хотя и тщетно, избавиться от этой навязчивой идеи. Иногда она даже смеялась над собой. Однако дурное предчувствие не исчезало, омрачая ее существование.
Вдруг Гленде показалось, будто она чувствует на себе взгляд мужчины. Она стыдливо завернулась в полотенце и сбросила его, только став под душ. Она намылилась, покрыв все тело пеной, и с наслаждением отмывала мнимую грязь. Гленда не любила свое тело, больше того, оно вызывало в ней отвращение. Трудно быть женщиной. Каждый месяц, в определенные числа она становилась раздражительной и угрюмой. Ей хотелось куда-нибудь спрятаться, исчезнуть с лица земли. Размышляя об этом, Гленда орудовала губкой с такой яростью, что оцарапала кожу в нескольких местах.
«С этим нужно что-то делать, — думала она, — иначе я просто сойду с ума».
Теплая вода успокоила Гленду, и в спальню она вошла, чуть ли не посмеиваясь над своими страхами. Разумеется, все это фантазия, надо просто совладать с собой, перестать нервничать.
Она надела пижаму, вернулась в гостиную и уселась за секретер, открыв рукопись диссертации, которую собиралась защищать в конце учебного года. Сначала Гленда полагала, что небольшая и мало исследованная республика Сакраменто будет благодатным материалом для ее научной работы. Поэтому она была уверена, что справилась с поставленной перед собой задачей. Однако появились сомнения, и тогда диссертация казалась пустой и поверхностной. Может быть, ей стоило заниматься биологией. Или социологией. Или вообще ничем не заниматься!
Гленда взяла конверт, лежавший рядом с рукописью. В конверте было приглашение на прием, который новый посол Сакраменто устраивал в ближайшую пятницу. На билете, внизу, Пабло Ортега написал: «Непременно приходите. Я прочел вашу диссертацию, поговорим о ней. Обещаю, на приеме вам скучно не будет».
Гленда снова легла на софу и задумалась о Пабло. Она еще не знала, что он из себя представляет, но ее беспокоили чувства, которые он в ней вызывал. Пабло она находила привлекательным, хотя не могла бы точно сказать почему. Возможно, Ортега был первым мужчиной, который ее заинтересовал… немного. Гленде нравилось его серьезное и мужественное лицо, его сухой, даже монотонный голос, лишенный театральной аффектации, характерной для дипломатических кругов. Ей было приятно также сознавать, что Пабло Ортега отличается от многих ее знакомых латиноамериканцев, не разыгрывает из себя Дон-Жуана и не обращается с нею так, будто считает ее уже своей. Жаль, только, что он такой смуглый. Впрочем, что ей, собственно, до этого! Гленда с раздражением перевернулась на спину и прижала подушку к животу.
Гленда представила себе почерк Пабло. Крупный, размашистый, но четкий; он говорил как будто о благородном, открытом и мужественном характере. Да, жаль все же, что Пабло такой смуглый…
Как он нашел диссертацию? Если работа ему не понравилась, почему он не сказал об этом сразу? Или решил завлечь ее на прием обещанием веселого времяпрепровождения? Неужели он настолько уверен, что его общество будет ей приятно?
Гленда прикинула, в каком из ее немногих платьев лучше пойти в посольство. Пожалуй, больше других подходит черное из тафты… Но она еще не была уверена, что пойдет, она слишком хорошо знала эти сборища. Множество людей толпятся в зале, толкаются, пьют и стараются перекричать друг друга, не понимая толком, ни что они пьют, ни что говорят. Вот и все развлечение. Нет, она не пойдет! И почему, собственно, она должна идти? Только из-за приписки Ортеги? Они могут обсудить диссертацию в другой раз. Гленда попыталась прогнать от себя образ Пабло. Однако напрасно.
Ортегу, должно быть, мучает какой-то вопрос. Это чувствуется по его лицу. Вопрос или вопросы. Мысль, что он возможно, несчастлив, вызывала у Гленды желание помочь ему, привлечь к себе, добиться признания. А вдруг Ортега станет ее другом, в котором она так нуждалась. Но так ли это? И должен ли друг непременно быть мужчиной? С ними всегда осложнения. Гленда раскаивалась всякий раз, как принимала приглашение знакомых мужчин сходить куда-нибудь вечером. Восемь из десяти приставали к ней с поцелуями. А половина пыталась затащить ее в постель.
Гленда вынула из кармана пижамы желудочную таблетку и положила ее в рот. Пабло Ортега и… как там дальше? Она не могла запомнить. Все-таки какая кровь течет в его жилах? Индейская и испанская? 0н не был похож ни на индейца, ни на негра… Но мавры занимали Иберийский полуостров в течение столетий. Должно быть, у Пабло мавританская кровь. А мавры — африканцы… Но что ей до происхождения секретаря латиноамериканского посольства? Ни у кого нет чистой крови, люди осквернились телом и душой. Все люди. О боже! Нужно чем-то заполнить еще один вечер. Программы телевидения невыносимы. Почитать книгу? Но теперешние книги тоже полны грязи: гомосексуализм, расовые преступления, злоба, отчаяние. Они написаны либо неграми, либо евреями. А эти расы ненавистны любому белому американцу.
Гленда решила было позвонить приятельница. Но о чем говорить? Она могла бы сесть в машину и поехать покататься вдоль берега Потомака, а вернувшись, принять снотворное и постараться заснуть… И почему бы не принять сразу полсотни таблеток, чтобы заснуть навсегда?
Самоубийство разрешит все ее вопросы. Но была ли эта мысль искренней? Нет. Она убьет себя только тогда, если будет уверена, что внутри нее, подобно ядовитому цветку, разрастается рак.
Гленда еще теснее прижала к животу подушку.
В тот же вечер, около десяти часов, в квартире Клэр Огилви зазвонил телефон.
— Алло! Кто говорит? — спросила она с досадой, так как пришлось оторваться от любимой телевизионной программы.
— Мишель.
— Что случилось?
— Мисс Огилви, — тихо сказал мажордом, — это совершенно конфиденциально…
— Говорите громче! О чем вы?
— Я попал в затруднительное положение, мисс. Дело касается приема, намеченного на пятницу… Простите, но я не рискнул говорить с вами об этом в посольстве. — Клэр услышала характерное покашливание мажордома. — Bien, как вам известно, уже десять лет нашими поставщиками были «Братья Бошан». Солидная фирма, первоклассные продукты, в общем, обслуживание безупречное…
— Знаю, Мишель, знаю. Но в чем дело?
— Случилось нечто весьма достойное сожаления. На этот раз генерал Угарте вторгся в мою сферу, взял на себя заботы о продуктах и винах для приема и заключил договор с фирмой «Паркер энд Беккер».
— Может быть, на более выгодных условиях? — предположила Клэр, правда, не очень уверенно. Она не отрывала глаз от экрана телевизора, который приглушила, прежде чем подойти к телефону.
— Какое там, мисс Огилви! На двадцать процентов дороже. И не мне вам говорить, кто положит в карман эти денежки.
— Спокойнее, Мишель. Пострадает от этого лишь казначейство республики Сакраменто. Очень сожалею, но я ничем не могу помочь вам…
— Но, мадемуазель, войдите в мое положение! Я уже договорился с «Братьями Бошан»! C» est calamiteux!
Клэр не терпелось вернуться к телевизору. Она представила себе лицо мажордома: длинный нос нависает над розовыми губами, мигающие глазки смотрят не то просяще, не то злобно.
— Да, Мишель. Действительно, беда! Ведь на этот раз вы теряете свои десять процентов, не так ли?
В тот же вечер, около восьми часов, машина посольства Сакраменто остановилась перед подъездом резиденции посла. Альдо Борелли открыл дверцу машины, из которой вышла Росалия Виванко в платочке, завязанном под подбородком, поднятый воротник пальто закрывал половину ее лица. Она позвонила — Мишель открыл дверь, и Росалия вошла в особняк. Шофер вернулся на свое место, и дама, оставшаяся в машине, приказала ему: «Поезжайте теперь потихоньку в парк Рок Крик». Альдо Борелли повиновался, однако ему стало не по себе… Поведение генеральши за последние недели не оставляло у него никаких сомнений насчет намерений этой толстой коровы, развалившейся на заднем сиденье. Она и надушилась-то, наверное, так, чтобы соблазнить его. Вот влип! А ведь он и не думал изменять жене и мечтал только о том, чтобы подкопить деньжат да выписать из Италии младшего брата… Если бы генеральша была молодой и красивой — другое дело, стоило бы рискнуть, несмотря на генерала, который может застать их на месте преступления.
— Хороший вечер, Альдо!
— Отличный, сеньора.
Итальянец взглянул в зеркало, в котором отражалась пассажирка. Своей дородностью и усиками она напоминала сицилийских и калабрийских женщин. Но у тех обычно высоко развито чувство чести и собственного достоинства. Они хранят верность своим мужьям. В Сицилии и Калабрии бесчестье смывается кровью.
В парке машин было немного. На перекрестке Альдо притормозил.
— Куда прикажете, сеньора?
— Давайте полюбуемся вишневыми деревьями. Поезжайте вдоль берега, потом мимо памятника Джефферсону к обелиску.
Ассоциация, которую вызвал у Нинфы обелиск, была под стать ее настроению. Да, она рискует, но риск этот так приятен. Одна из подруг как-то сказала ей, что охота дает самое острое наслаждение, подстрелить дичь — это уже совсем не то.
— Вы женаты, Альдо?
— Да, сеньора.
— Сколько лет вашей жене?
— Двадцать восемь.
— Она красива?
— Как будто, мадам.
— У вас есть дети?
— Двое, сеньора. Мальчик и девочка.
Нинфа как зачарованная глядела на крепкий затылок молодого итальянца.
Когда «мерседес-бенц» проезжал мимо памятника Джефферсону, Нинфа похвалила красоту американской столицы. Бывал ли Альдо в Сакраменто? Нет? Жаль! Он должен побывать в их стране. Серро-Эрмосо расположен в зеленой долине. Климат очень приятный. А город со своими старинными особняками колониальных времен прямо восхитителен. Собор — Dios mio! — потрясающе красив. Настоящее барокко. («Если он заинтересуется, что это такое, я пропала».)
Когда они снова оказались на берегу Потомака, шофер спросил:
— Куда теперь, сеньора?
— Нам некуда спешить, Альдо. Я обещала заехать за подругой в половине двенадцатого. Давайте в Вирджинию!
«Madonna! — мысленно воскликнул Альдо Борелли. — Если генерал Угарте узнает об этом, я могу потерять место да еще получить по морде…»
Они переехали через реку по Мемориал-Бридж и направились по дороге в Александрию. Когда показались синие огни аэропорта, Нинфа приказала:
— Остановите машину поближе к берегу.
Проклятая старуха! Альдо съехал с шоссе и подвел машину к самому берегу. От аэропорта высоко в небо поднимался фиолетовый луч.
Нинфа Угарте заерзала на сиденье, затем, кряхтя, открыла дверцу и вышла. Против воли Альдо охватило волнение от предчувствия того, что сейчас произойдет… Вся эта история начинала ему казаться не только опасной, но и смешной. Он представил, как будет рассказывать жене, когда вернется домой: «Подумай только, Антониетта, генеральша заставила меня остановить машину в пустынном месте, на берегу реки, и…» Его мысли были прерваны звуком открывшейся передней дверцы, затем Альдо почувствовал рядом с собой пышущее жаром, массивное, надушенное тело Нинфы Угарте.
— Отсюда, — сказала она, как бы оправдываясь, — я смогу лучше видеть самолеты.
В самом деле, самолеты то и дело приземлялись или поднимались в воздух, очень низко пролетая над водой. Альдо Борелли крепко сжимал руль, мускулы его лица застыли.
— Такой мужчина, как вы, Альдо, — прошептала Нинфа, положив свою полную руку ему на колено, — не должен довольствоваться профессией шофера. Вы могли бы стать артистом кино или телевидения.
К аэропорту с шумом пролетел самолет.
Альдо, сжав зубы, молчал, уставившись на воду, в которой отражались береговые огни. Тяжело дыша, чувствуя, что сердце ее бьется все чаще и сильнее, Нинфа Угарте торопливо и жадно расстегнула молнию на брюках Альдо Борелли…
Билл Годкин вернулся к себе на улицу R около половины двенадцатого. Прежде чем лечь в постель, он решил выкурить трубку и, усевшись в гостиной, обвел взглядом комнату. «Охотник за дикими зверями, — размышлял он, — украшает стены головами тигров, львов, пантер, вепрей… Охотник же за людьми вроде меня хранит портреты своих «жертв». Стены гостиной были увешаны окантованными фотографиями знаменитостей, которых Годкин проинтервьюировал за три десятилетия своей журналистской деятельности. Здесь были портреты с автографами Гомеса, президента Венесуэлы, Сандино, Карденаса, Переса Хименеса, Варгаса, Убико, Сомосы, Сантоса Дюмона, Габриэлы Мистраль… Он встал и с особым вниманием принялся изучать увеличенную фотографию Хувентино Карреры в окружении своего штаба. Этот снимок Билл сделал сам в 1925 году, на вершине Сьерра-де-ла-Калавера. С фотографии на него смотрели заросшие бородой люди в широкополых шляпах, с пулеметными лентами через плечо, с кинжалами и револьверами за поясом. Взгляд Билла остановился на самом высоком из них. Даже на моментальной фотографии, пожелтевшей от времени, можно было заметить, что именно у Габриэля Элиодоро наиболее выразительное лицо.
Билл снова сел. Его квартира была полна сувениров из латиноамериканских стран, где он побывал. Над камином висело «Дерево жизни», приобретенное у индейского художника в Мексике, — наивная пестрая картина, на которой были изображены птицы, цветы, дети и ангелы. Жука-носорога из Пукарá, висевшего рядом с «Деревом жизни», подарил ему Айя де ла Торре в день, когда Билл впервые его проинтервьюировал. Болеадейры он получил от уругвайского политического деятеля. Изделия из черной керамики привез из Чили, марака — из Колумбии. Перуанские, мексиканские и эквадорские ковры украшали гостиную и спальню — и каждый имел свою историю. У кресла, в котором Билл сейчас сидел, на круглом столике рядом с большой пепельницей поблескивал серебряный нож с инкрустированными ручкой и ножнами. Этим ножом, подарком Жетулио Варгаса, он разрезал бумаги.
Выкурив трубку, Годкин направился в спальню, надел пижаму, затем пошел в ванную и начал чистить зубы. («Восемь человек из десяти, — подумал он, — когда чистят зубы, кладут левую руку на пояс…») Билл старался не смотреть на лицо, которое зеркало настойчиво показывало ему. И все же, когда человек в зеркале заговорил с ним, Биллу пришлось ответить.
«Что нового?» — спросил тот. — «Ничего, — отозвался Билл, — ровным счетом ничего. Жизнь идет по-прежнему, и лучше об этом не толковать».
Годкин принялся рассматривать себя, свой широкий, грубо очерченный рот, с уголков которого стекала зубная паста. Если бы бог наградил его внешностью, которая нравится женщинам, как, например, у Пабло Ортеги… или Орландо Гонзаги, сложилась бы его жизнь иначе? А если бы у меня был рост метр девяносто и лицо, как у идолов майя, лицо Габриэля Элиодоро? Точнее сказать, если бы в нем бушевали те же страсти, порывы и отвага, что в новом после Сакраменто, — был бы он сегодня одиноким вдовцом, шефом латиноамериканского бюро Амальпресс?
Он вспомнил покойную жену. Бедная Рут! Что она нашла в нем? Почему согласилась на смущенное и неуместное предложение, которое он сделал на террасе отеля, стоящего на берегу Карибского моря? Бедная девочка! Она была миссионеркой по призванию, и ей очень шла форма Армии спасения. Билл улыбнулся. Он часто вспоминал Рут, распевающую под аккомпанемент маленького барабана на одном из углов нью-йоркского Вест-сайда… И каждый раз чувствовал себя растроганным.
Билл снова критически уставился на свое изображение. Рыжие, уже поредевшие волосы, розоватая, усыпанная веснушками кожа. Светлые, невыразительные, как у статуй, глаза. Он вспомнил, что кто-то ему говорил, будто он похож на Микеланджело. Потом в памяти всплыло путешествие в Европу, которое для Рут было прощальным. Во Флоренции в церкви Санта Мария дель Фиоре он был потрясен бессмертным творением итальянца. Увидев «Пьета» Микеланджело, Билл, прежде равнодушный к искусству, почувствовал, будто его ударили в грудь, дыхание перехватило, на глаза навернулись слезы. Рут нежно сжала его руку и прошептала: «Как похож на тебя человек, который держит мертвого Христа!» Большое счастье иметь нос, как у Микеланджело Буонаротти!
Годкин улегся и принялся просматривать вечернюю газету. Шум вокруг Фиделя Кастро продолжался. Доминиканский диктатор угрожал кубинскому революционному правительству. Даллес находился в безнадежном состоянии, ожидали назначения нового государственного секретаря. Дуайт Эйзенхауэр заявил в совете НАТО, который собрался в Вашингтоне, что члены совета должны приготовиться к постоянной напряженности и спорам с Советским Союзом. Красный Китай вторгся в Тибет. Прекрасный мир! Чудесный мир!
Годкин перешел к прочим новостям. Автор одной из заметок сообщал о новом, очень популярном среди студентов всех стран — от Южной Африки до Калифорнии — соревновании: «Сколько человек может поместиться в кабине телефона-автомата?» Мировой рекорд установил колледж св. Марии в Калифорнии: в кабину сумели втиснуться 22 студента. Билл покачал головой, проворчав: «Неужели им нечего больше делать?»
Дальше он прочел, что миссис Элеонора Рузвельт купила в Израиле за семьдесят семь долларов верблюда в подарок своей внучке, но департамент земледелия не разрешил ввоз животного в Соединенные Штаты ввиду того, что оно может оказаться переносчиком ящура. Well!.. Впрочем, еще не все потеряно. Накануне вечером шестьдесят миллионов американцев смотрели по телевидению церемонию вручения премий Оскара за 1958 год, которая транслировалась из одного голливудского кинотеатра. Шестьдесят миллионов! Билл бросил газету на пол и погасил свет. Сто двадцать миллионов глаз уставились на светящийся экран, где разворачивалось лицедейство по поводу другого лицедейства, где лгали, вдохновленные другой ложью. Победоносный триумф мира лжи! А за кулисами этого спектакля как всегда притаились фабриканты, которым надо сбыть свою продукцию.
Билл закрыл глаза и снова подумал о Рут. Потом вдруг о молоденькой девушке, которую видел сегодня вечером лежащей на траве под цветущими вишневыми деревьями: ее красивую грудь обтягивал ярко-желтый свитер, подчеркивающий прелесть юного тела. Девушка походила на только что упавший с дерева плод. Спелый плод или, вернее, на языческую богиню. Билл глядел на нее как мужчина и как отец. Он и сам толком не знал, хотел бы он, чтобы девушка была его дочерью или любовницей. Но так или иначе богиня заставила его почувствовать, что время его безвозвратно ушло.
11
Доктор Хорхе Молина любил свое одиночество и вещи в своей квартире любовью, которая иногда казалась ему едва ли не чувственной. Всякий раз, когда он осматривал небольшую комнату, которая служила ему кабинетом, грубые полки у стен, заставленные книгами, пол без ковров из узких отполированных досок, стол, который он купил на аукционе в Александрии, старинный, широкий, с большой в колониальном силе лампой, с разбросанными на нем словарями, брошюрами, бумагами и целой коллекцией дешевых деревянных ручек с перьями «маллат», какими он пользовался еще школьником; всякий раз как он осторожно касался пальцами корешков редких книг, переплетенных в кожу, либо открывал их, чтобы вдохнуть запах их страниц, его охватывало своего рода сладострастие.
Уже более двух часов он сидел за столом, приводя в порядок свои заметки и наброски для биографии дона Панфило Аранго-и-Арагона. Потом выпрямился и, положив обе руки за пояс, стал расхаживать из стороны в сторону, словно желая заглушить боль в спине. Доктор Молина не мог долгое время находиться в сидячем положении. По словам его врача, он страдал дегенеративной дископатией. Показав ему рентгеновский снимок, на котором было видно к тому же искривление позвоночника, врач, улыбаясь, добавил: «Это, мой дорогой, цена, которую мы платим за то, что мы двуногие». В сырую погоду боль, которую Молина чувствовал в левом плече и руке, была тупой и незатихающей, но ее можно было терпеть. Однако, если он делал резкое движение, от затылка до кончиков пальцев его пронзала другая боль — острая, непереносимая, но длящаяся всего с полминуты.
Растирая руку и стараясь расправить грудь, министр-советник расхаживал от стены, на которой висела карта Сакраменто XVIII века, до противоположной стены, где висел портрет дона Панфило с сердечным посвящением. Кроме этой, в квартире Молины была еще одна фотография — его матери, портрет в серебряной рамке стоял на ночном столике в спальне.
Каждый раз, когда министр-советник работал по вечерам дома, вместо халата он надевал рясу францисканского монаха и обувал грубые сандалии. Это доставляло ему странное удовольствие, причину которого он не смог бы объяснить… Молина понимал, что его подняли бы на смех, если бы кто-нибудь увидел это одеяние. Наверное, решили бы, что он сумасшедший или страдает каким-нибудь тайным пороком. Впрочем, все это были только предположения — он никогда никого не приглашал к себе в квартиру. Никто из его знакомых не знал его адреса, даже сотрудники посольства. У Молины не было телефона, и он не желал его ставить. Когда было нужно, министр-советник звонил из автомата.
В этот вечер, едва приступив к работе, он начал воображаемый диалог с доном Панфило. Однако вскоре в его ушах прозвучал голос Леонардо Гриса: «Спрашиваю еще раз: будете ли вы трудиться над биографией дона Панфило увлеченно, как друг, или беспристрастно, как историк?» Вопрос не был случайным: Молина неоднократно задавал его себе, задал и сейчас. Нынешний архиепископ — примас Сакраменто — был темной личностью. Противники архиепископа обвиняли его в том, что в политике он придерживается принципов Макиавелли, почему всегда оказывается в милости у президента республики, кем бы тот ни был. Красноречивый оратор, он умел молчать, если игра, которую он вел, требовала молчания.
«Поведение моего друга дона Панфило может объяснить одна его фраза, — мысленно обратился к Грису министр-советник. — Однажды он сказал мне: «Мой дорогой Молина, иногда, чтобы защитить церковь божью, нам приходится делать вид, будто мы заключаем соглашение с дьяволом и его пособниками на земле». Министр-советник услышал смех Гриса: «Политическое богословие вашего друга всегда казалось мне забавным!»
Хорхе Молина пытался прогнать образ своего оппонента, как монах в одинокой келье изгоняет сатану. Он встал, расправил плечи, покачал головой, потом снова уселся и взялся за работу. У Молины было все ранее издававшееся о доне Панфило Аранго-и-Арагоне: биографии, памфлеты, статьи. Сейчас перед ним лежала знаменитая «Исповедь» примаса, написанная великолепным испанским языком. Он сумел также достать фотокопии почти всей корреспонденции дона Панфило: и письма, которые тот писал родителям, когда учился в гимназии, и письма дона Панфило — семинариста, уже отмеченные печатью утонченности. Поистине жемчужины эпистолярного стиля! Среди последних наиболее ценными были письма, обращенные к тогдашнему архиепископу — примасу дону Эрминио Ормасабалю, другу и духовному наставнику дона Панфило. Чтобы собрать весь этот материал, который Молина лишь сейчас разложил в нужном порядке, ему понадобилось более двух лет.
Он взял лист с планом своей работы, снабженный указаниями на первоисточники, и сделал несколько новых пометок. Однако через полчаса дремота стала одолевать министра-советника.
Молина погасил лампу, вошел в спальню и, как всегда перед сном, став около кровати на колени, прочел «Секвенцию»: «Veni, Sancte Spiritus,et emitte caelitus lucis tuae radium. Veni, pater pauperum; veni, dator munerum; veni, lumen cordium».
Но, и бормоча молитву, он продолжал ощущать незримое присутствие Гриса. Напрасно пытался Молина призвать на помощь дона Панфило. Голос Леонардо шептал: «Разве ты не замечаешь, что твое обращение лишено адреса?» Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium.
Молина вспомнил дона Панфило в те времена, когда тот получил титул монсеньора: величественный в своем одеянии, он произносит проповедь в соборе… Его голос, то звонкий, как металл, то сухой, как дерево, то мягкий, как бархат, наполняет храм, смешивается с дымом ладана и словно благоухает. «Flecte quod est rigidum. Эта милость матери-природы тебя страшит, Хорхе. Но почему? Ведь это естественно! Надо ли стыдиться своего тела?» На мгновение Молина, казалось, растерялся. Однако вскоре ему удалось восстановить течение своих мыслей: «Da tuis fidelibus et te confidentibus sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen».
Молина лег, закрыл глаза и подумал, что все было бы отлично, если бы он мог вернуть веру в бога…
Когда в 1933 году министерство иностранных дел республики Сакраменто поручило дону Альфонсо Бустаманте заново отделать по своему усмотрению внутренние помещения посольства в Вашингтоне, которое было меблировано бедно и безвкусно, старый дипломат приступил к этому с таким рвением, что в конце концов ему, богатому и бездетному вдовцу, пришлось пополнить из собственного кармана скудные ассигнования, выделенные его правительством. Отделывая двадцать с лишним залов и спален особняка на Массачусетс-авеню, дон Альфонсо отдал дань французским Людовикам, не упустив случая заодно выразить свой восторг перед итальянским Возрождением и воздать должное матери-Испании, родине его предков, под влиянием которой формировались его культура и чувства. Большому поклоннику Изабеллы, прославленной католической королевы, о которой в 1924 году он написал монографию, отнюдь не в коммерческих целях, дону Альфонсо пришла удачная мысль отделать президентские покои — которые через несколько лет почтил пребыванием сам генералиссимус Хувентино Каррера во время своего первого и последнего визита в Соединенные Штаты по приглашению Франклина Делано Рузвельта — в стиле этой самой Изабеллы, который просвещенный дипломат определял как «сочетание мавританской чувственности с готическим мистицизмом и утонченностью эпохи Возрождения».
Теперь в широкой посольской кровати обнаженные Габриэль Элиодоро Альварадо и Росалия Виванко занимались любовью с пылом, достойным мавританской чувственности и готического мистицизма, и с утонченностью, достойной эпохи Возрождения. Пресыщенные друг другом, они лежали, охваченные нежной истомой.
Габриэль Элиодоро любил ласкать Росалию при ярком свете, но та, еще стыдясь своей наготы, предпочитала полумрак, поэтому в комнате горел лишь ночник.
Посол лежал на спине, Росалия прижалась к нему, положив голову на широкую грудь любовника, который одной рукой гладил волосы девушки, а другой легонько проводил по ее спине, почти платонически наслаждаясь атласной кожей, упругим и горячим телом. Уже несколько минут они молчали, и по мерному дыханию Росалии Габриэль Элиодоро решил, что она заснула. Он старался не шевелиться и даже тише дышать, боясь разбудить ее. И вдруг Росалия тихо спросила:
— Чем же все это кончится?
Габриэль сначала не ответил, будто не слышал вопроса. А потом сказал:
— Для тебя-то хорошо. Ты молода, красива, весь мир принадлежит тебе. Но мне кажется, я умру насильственной смертью.
— Не говори так, — прошептала Росалия, покрывая его грудь поцелуями.
— За бурную жизнь, любовь моя, всегда расплачиваются насильственной смертью.
— Совсем не всегда.
Теперь она, закрыв глаза, проводила рукой по плечам любовника, будто ваяла их вслепую.
— У тебя тело сорокалетнего мужчины.
Габриэль Элиодоро не мог, да и не пытался скрыть радости при этих словах Росалии.
— Я всегда, еще с детских лет, любил свое тело. Мне нравилось разглядывать свое отражение в реках, ручьях, озерах…
— У тебя в доме не было зеркала?
Он не ответил. У матери было дешевое зеркало, купленное на рынке, перед которым она причесывалась и подкрашивалась. Не раз маленький Габриэль видел, как мужчины, спавшие с матерью, завязывали перед этим треснувшим стеклом галстук, одергивали мундир, надевали фуражку или шляпу. Вот почему он возненавидел это зеркало и однажды швырнул в него камнем…
Габриэль Элиодоро нахмурился. Действительно ли он разбил зеркало или все это приснилось ему? Последнее время, вспоминая прошлое, он не мог отделить истинные события от своих грез и фантазий.
— У тебя в доме не было зеркала? — повторила Росалия.
— Не знаю. — Габриэль словно вспоминал забытый сон. — Самым значительным для меня всегда было мое тело. Я никогда не стыдился его, как и его требований. Если бог дал мне тело, значит, я должен взять от него все возможное. К чему его беречь? Чтобы его сокрушило время и уничтожили могильные черви?
Прервав себя, он поцеловал волосы Росалии.
— И знаешь, ум человека не в голове, а в теле. Тело знает, чего оно хочет. Нужно лишь научиться понимать его язык.
Росалия слушала с улыбкой, все еще не открывая глаз, восхищаясь своим любовником, который говорит такие красивые и волнующие слова.
У своей груди Габриэль Элиодоро чувствовал округлые груди Росалии, напоминавшие ему спелые плоды манго, которые он рвал мальчишкой в лесах Соледад-дель-Мар. Он ощущал их нежную тяжесть, так странно волновавшую его и вызывавшую в памяти образ Хуаны ла Сирены, девушки, которую он полюбил впервые пятнадцатилетним юношей. Хуана навсегда соединилась для него с ароматом травы, шумом леса и морским ветром…
— Который час? — спросила Росалия.
— Не думай об этом.
— Донья Нинфа обещала приехать за мной к полуночи.
— Подождет!
Однако Росалия вскочила с кровати и набросила на себя халат любовника.
— Будь благоразумным, дорогой, мне пора привести себя в порядок.
Она наклонилась над ним, поцеловала в губы и босиком побежала в ванную.
Габриэль Элиодоро раздраженно подумал о том, что сейчас он останется один в этом огромном доме. Ложиться рано он не любил. Чем же ему заняться? Телевизор он не смотрел, так как не понимал по-английски. Можно было немного погулять или написать письмо Франсиските… А может, лучше набросать отчет генералиссимусу о первой встрече с президентом Эйзенхауэром? Потом почитать что-нибудь на сон грядущий… Но больше всего он хотел заснуть и проснуться утром в объятиях Росалии.
Желание с новой силой вспыхнуло в нем, и, когда из ванной послышался шум воды, ему на ум пришла забавная мысль. Габриэль вскочил с кровати и бросился в ванную. Росалия в резиновой шапочке стояла под душем. Увидев его, она инстинктивно прикрылась. Но Габриэль схватил ее в объятия и прижал к своему тоже обнаженному телу.
— Не надо! — пролепетала она.
Габриэль молча опрокинул ее под струями воды, от которых поднимался пар.
Панчо Виванко остановил автомобиль недалеко от перекрестка Висконсин и Массачусетс-авеню и уже около получаса расхаживал по тротуару, поглядывая на посольство. В окнах верхнего этажа, где были расположены спальни, свет не горел, однако Панчо не сомневался, что Росалия находится сейчас в объятиях Габриэля Элиодоро. Эта мысль причиняла ему едва ли не физическую боль, отдающуюся в груди и голове. С трудом переводя дыхание, Панчо сунул руку в карман габардинового пальто и стал нервно крутить в пальцах свернутую трубочкой долларовую бумажку.
Что делать, святой боже? Что делать? Он притаился за деревом в парке и стал дожидаться, сам не зная чего. Иногда он вдруг решал войти в посольство и всадить себе пулю в лоб у лестницы в вестибюле. Эта мысль доставляла ему болезненное наслаждение, особенно когда он представлял себе, как будет страдать Росалия и какой ущерб нанесет скандал престижу посла в Вашингтоне и в Сакраменто. Если бы он покончил с собой, он обязательно оставил бы письмо с просьбой похоронить его тело в Серро-Эрмосо, и Росалии пришлось бы сопровождать его труп на родину. Лицемерка будет, разумеется, вся в черном. Впрочем, бедняжка ни в чем не виновата. Виноват он: низенький, толстый, некрасивый, с жирной, нечистой кожей. Но почему Росалия вышла за него замуж? Конечно, по настоянию тетки Микаэлы, стремившейся избавиться от нее. Да и сама Росалия хотела избавиться от этой мегеры…
Наверное, сейчас любовники лежат, обнявшись, и злословят, издеваясь над ним, Виванко. Росалия рассказывает послу, что, ложась спать, она обычно запирается на ключ. И тот, должно быть, хохочет. Вполне возможно, Росалия рассказывает любовнику и другие интимные подробности, унижающие мужское самолюбие Виванко. Подлая сука! А другая сука, эта Нинфа Угарте, заехала к ним в половине восьмого, они с Росалией будто бы собрались в кино, и сама же отвезла ее к послу!
Панчо отчетливо представил себе, как стреляет из револьвера в крупное тело Габриэля: в голову, грудь, живот и, наконец, ниже живота… Но хватит ли у него мужества сделать это? Едва ли! Остается одно: покончить с собой, заключил Панчо, продолжая терзать долларовую бумажку. Но лучше всего вновь обладать Росалией. Горячее, яростное желание охватило его. Это было странно и непонятно: он знал, что изменница вернется домой пресыщенная, загрязненная близостью с другим мужчиной, и именно поэтому желал ее как никогда.
Поглядывая из-за дерева на фасад особняка, где теперь светились три окна, Панчо твердо решил войти в комнату Росалии до того, как она успеет запереться, и овладеть ею, хотя бы силой, хотя бы для этого ему пришлось избить ее, придушить… Он достигнет своего и постарается при этом возможно больше унизить Росалию.
У посольства показался какой-то человек. Ночной сторож… Панчо Виванко пришлось оставить свой пост. Тихонько насвистывая, он направился по Массачусетс-авеню. Завидев мелочную лавку, Панчо вошел туда, уселся у прилавка, заказал кофе, который рассеянно проглотил, забыв положить сахар. Он продолжал обдумывать свой смелый план. Потом огляделся: ему нравилось флуоресцентное освещение лавки, ее запахи, блестящие и пестрые товары… Панчо заплатил за кофе, подошел к полке с журналами, взял номер «Тайм», равнодушно полистал его и положил на место. Затем направился к полке с канцелярскими принадлежностями и открыл коробку с цветными карандашами «Крайолас»; запах графита напомнил ему о друге детства Сиднее. Он был сыном крупного американского чиновника из «Юнайтед плантэйшн компани» и казался Панчо красивым, будто принц из сказок Андерсена. Панчо завидовал не только его голубым глазам, розовой, гладкой коже, но и его костюмчикам, купленным в Нью-Йорке, его велосипеду, его заводным игрушкам и в особенности его бесчисленным цветным карандашам (Made in USA), которыми тот рисовал свои фантастические картины. Виванко отлично помнил название этих карандашей, написанное черными буквами на голубом небе, под которыми краснокожие индейцы на лошадях преследовали стадо буйволов. С тех пор как он в Соединенных Штатах, он ищет карандаши «Крайолас», заглядывая в лавочки и магазины, словно хочет найти минувшее детство, словно название «Крайолас» может чудом воскресить Сиднея, погибшего в Гуадальканале в звании капитана морской пехоты. Однако в Вашингтоне никто, казалось, не слыхал об этой марке карандашей… И вот сейчас, вдыхая запах «Крайолас», Виванко увидел наконец златокудрого мальчика, с которым тайком выкурил за школой свою первую сигарету, — мальчика, который научил его более сладострастному запретному греху.
В этот час д-р Леонардо Грис принимал у себя гостя. Свет он погасил, комнату наполнял предрассветный полумрак, напоминавший эмигранту студенческие годы, когда он, просидев всю ночь перед экзаменом над книгами, выходил пройтись по предместью, пока не взойдет солнце. Поздний посетитель устроился в кресле в самом темном углу комнаты. Уже более получаса они разговаривали вполголоса.
— Я говорил раньше и снова повторяю, вы не должны были приходить сюда, — сказал Грис.
— Почему?
— Несколько недель за мной следит человек, который наверняка нанят нашим посольством.
Мигель Барриос нетерпеливым жестом прервал его.
— Ладно, все равно это наша последняя встреча в Вашингтоне. Через два дня я уезжаю отсюда. Если за мной будут следить, я сумею сбить их со следа. Уж в этом у меня есть опыт…
Высокому, угловатому, с длинной шеей и острым кадыком Барриосу было за сорок. Пристальный взгляд его глубоко посаженных блестящих глаз почему-то вселял беспокойство в д-ра Гриса. В лице Барриоса, как и в лице Хорхе Молины, было что-то аскетическое. Его речь, размеренная и ясная, выдавала школьного учителя. Грис вспомнил, что, когда был министром просвещения, видел Барриоса на празднике.
— Мне удалось достать оружие и боеприпасы, которых нам не хватало.
— Где?
— Во Флориде. Один наш друг, богатый американец, предложил перевезти это оружие на своей яхте. Он часто совершает морские прогулки, так что никто его не заподозрит. К тому же он каждый год приезжает в Пуэрто Эсмеральду играть в казино.
— Ему можно доверять?
— Никому нельзя доверять до конца, доктор. Однако особенности заговора, в котором мы принимаем участие, вынуждают нас идти на некоторый риск. Американец этот говорит, будто его увлекает перспектива опасных приключений. Во время мировой войны он служил лейтенантом в Управлении стратегической службы.
«Любопытно, — подумал Грис, — но вождь революции, поставивший целью свергнуть Карреру, этот бледный, одетый во все черное странный человек, что сидит сейчас в углу, вцепившись длинными, худыми руками в подлокотники кресла, все еще для меня загадка».
— Где вы намереваетесь высадить первый десант? — спросил он и тут же спохватился: — Нет! Не говорите! Лучше, если я не буду этого знать.
— Я не оставлю вам никакой письменной информации, но вы должны иметь хотя бы общее представление о наших планах. Почти весь сержантский и по крайней мере на две трети офицерский состав гарнизонов Пуэрто Эсмеральды, Сан-Фернандо, Оуро Верде, Лос-Платанос, Парамо и Соледад-дель-Мар на нашей стороне. При известии о нашем первом десанте они тотчас восстанут. Кроме того, в некоторых странах есть определенное число эмигрантов из Сакраменто, которые хорошо вооружены, обучены и готовы к вторжению. Если наш план не удастся, мы поднимемся в горы и партизанской борьбой постараемся пробудить национальное и мировое общественное мнение. Едва революционные войска вступят на родную землю, начнутся волнения в университетах, на фабриках, на улицах городов и в сельских районах. Это будут саботаж, пассивное сопротивление и прочие подобные акции. Если же гарнизон Пуэрто Эсмеральды сразу перейдет на нашу сторону, что весьма вероятно, победа будет молниеносной.
Леонардо Грис подошел к окну и выглянул наружу. Не заметив ничего подозрительного, он вернулся к гостю и спросил:
— А чем я могу помочь движению?
— Продолжайте публиковать свои статьи, доктор, и делать доклады. Старайтесь, чтобы официальные и общественные круги этой страны узнали правду о положении в Сакраменто — это очень важно для успеха нашего освободительного движения.
— Директорам газет, видимо, уже надоели мои письма. За последнее время многие из них не были опубликованы…
— Что ж, остаются доклады. Ваша трибуна, с которой вы можете говорить. Да и одно ваше присутствие здесь, доктор, немаловажно.
В знак согласия профессор кивнул.
— Выпьете кофе? — вдруг спросил он, будто кофе мог растопить лед наступившего молчания.
— Нет, спасибо. От кофе у меня бессонница.
«Странно! — подумал Грис. — Это наша третья встреча, а между нами не возникло ничего, что хоть немного напоминало бы дружбу или откровенность. Кто виноват? Я или он? Или мы оба?» Грис взглянул на Мигеля Барриоса, и ему показалось, что тот уже сидит на троне или, вернее, в кресле президента республики Сакраменто.
Издалека донесся вой сирены. «Наверно, пожар», — подумал профессор и вспомнил рассвет, когда так же протяжно завывали сирены и из окна мексиканского посольства он смотрел на отблески пламени, охватившего со всех сторон город.
Молчание продолжалось, и Грис стал перебирать в уме то, что слышал о Мигеле Барриосе: этот человек сидел в тюрьме и немало пострадал от притеснений и издевательства полицейских Карреры.
Нарушил молчание Барриос:
— Мне известно, что вы в хороших отношениях с одним из секретарей посольства…
— Да, с Пабло Ортегой. Это он в ночь, когда пал Морено, с риском для жизни доставил меня в посольство, где я и попросил убежища. Ему я целиком доверяю.
— Сын крупного помещика. Отпрыск одного из могущественных семейств, которые правят нашей страной и несут горе нашему народу. Все они — лакеи «Шугар эмпориум» и ЮНИПЛЭНКО.
— Уверяю вас, Пабло отнюдь не гордится своим происхождением и в глубине души на нашей стороне.
— Нетрудно вести себя так, когда живешь в Вашингтоне, получаешь хорошее жалованье и ездишь на дорогой машине. Хорошо, если б эти чувства и политические взгляды, которые, как вы выражаетесь, кроются в глубине его души, поскорее вышли наружу и превратились в конкретные действия. Только тогда я поверю, что он на нашей стороне.
— Лишь время подтвердит или опровергнет мое мнение о Пабло Ортеге.
— Впрочем, хватит о нем. Вы знаете Роберто Валенсию?
— По-моему, слышал это имя.
— Он настоящий революционер и будет моей правой рукой.
Грис снова сел. Теперь он вспомнил Валенсию, который в студенческие годы занимался пропагандой революционных идей в университете и не раз подвергался арестам.
— У Валенсии светлая голова, — продолжал Барриос, — он знает, чего хочет, отлично изучил тактику партизанской войны. В общем, это человек мыслящий и в то же время способный действовать, что теперь редко встретишь.
Грис рискнул задать вопрос, о котором тотчас пожалел:
— Можете ли вы точно сказать, когда начнется вооруженное восстание?
Барриос ответил не сразу.
— Месяца через два-три. Оно должно вспыхнуть перед ноябрьскими выборами. Все говорит о том, что Каррера готовится произвести государственный переворот, распустить конгресс и арестовать своих противников, лишь бы остаться у власти и не допустить выборов. Ему нужен предлог… — Он поднялся. — Ну ладно, я пойду. Наверно, в следующий раз мы увидимся только в Серро-Эрмосо…
В этих его словах было больше торжественности, чем надежды.
— Вы хотите еще о чем-то меня попросить?
— Нет. Просто я хочу сказать вам, доктор Грис, что, если мы решим создать эмиграционное правительство Сакраменто, вам будет поручено возглавить его.
— Можете на меня рассчитывать. И спасибо за доверие.
Он помог Барриосу надеть пальто.
— Не знаю, помните ли вы, профессор, что моя жена и дети убиты полицией…
— Очень сожалею! — растерянно прошептал Грис.
— Я тоже очень сожалею, доктор, поверьте мне. Но сейчас не время для соболезнований и сантиментов, сейчас время действовать и ненавидеть.
«И обязательно ненавидеть?» — хотел было спросить Грис, но удержался.
— Одну минутку, — сказал он, снова подошел к окну, высунулся наружу и внимательно посмотрел по сторонам. Улица была пустынна. Грис вернулся к гостю. — По-моему, надо сделать так: я выйду сейчас и пойду к реке. Через пять минут после меня выйдете вы и пойдете к центру. Если человек в светлом плаще здесь, он наверняка увяжется за мной.
Барриос кивнул. Грис надел пальто, и они спустились вниз. У дверей на улицу Барриос сказал:
— Я думаю, что вскоре вы узнаете обо мне из газет…
Они пожали друг другу руки. Первым вышел Грис.
Часть 2. Празднество
12
Билл Годкин полагал, что человек обретает естественность, простоту и свободу, лишь когда, вернувшись вечером домой, сбрасывает маску, которую вынужден носить в обществе, снимает с себя одежду, в которой ходил целый день, и надевает старые брюки и разношенные ботинки. Именно поэтому шеф латиноамериканского бюро Амальгамэйтед Пресс чувствовал себя не в своей тарелке, когда вечером в пятницу входил в посольство республики Сакраменто, одетый в костюм из тёмно-синей саржи, лучший в его скромном гардеробе вдовца, мало заботящегося о своей внешности. Билл прекрасно понимал, что костюм его плохо отглажен, а галстук, пожалуй, слишком яркий. (Рут говорила, что галстуки красноватых тонов идут к костюмам любого цвета.) Ботинки, которые он сам чистил, немного жали. Побрился Билл наспех всего лишь полчаса назад, поэтому его чувствительная кожа была покрыта маленькими ссадинками, которые горели под рукой, когда он касался щёк и подбородка. Годкин не любил многолюдных сборищ и всегда норовил забраться в угол потемнее в компании двух-трёх друзей. На дипломатические приёмы он ходил только по долгу службы.
Некоторое время Билл стоял в вестибюле посольства со шляпой в руке и погасшей трубкой в кармане, мечтая о том, чтобы у него не спросили пригласительного билета, который он забыл не то дома, не то в бюро.
К нему подошёл Мишель; слегка поклонившись, он осведомился об имени гостя, чтобы сообщить о вновь прибывшем господину послу, который стоял у двери зала в окружении сотрудников посольства. Мажордом ещё раздумывал, не переспросить ли: Бодкин или Годпин, когда Габриэль Элиодоро заметил журналиста и, направившись к нему с распростёртыми объятиями, воскликнул: «Дружище! Сколько лет!..» В его голосе было столько радушия, что растерявшийся Годкин на минуту почувствовал себя важной персоной. И всё же встреча эта была приятной для Годкина, несмотря на весьма тёмные истории, которые он слышал о после.
Посол взял шляпу из рук журналиста и, словно мяч, кинул её мажордому, который поймал этот чёрный бесформенный предмет, ни на минуту не утратив европейского высокомерия.
— Прошу вас, Годкин, — сказал Габриэль Элиодоро, взяв его под руку. — Будьте как дома и не уходите, не поговорив со мной. Нам есть о чём потолковать…
Посол представил Годкина даме, стоявшей рядом с ним.
— Сеньора Виванко, сегодня она выполняет роль хозяйки дома.
Годкин пожал руку смуглой красавице и подумал: «Господь щедро одарил её. Впрочем, скорее дьявол. Но у посла хороший вкус». Росалия же представила его мужчине, который стоял следующим в шеренге служащих посольства.
— Вы знакомы с господином министром-советником?
— Конечно, — пробормотал Билл. — Как поживаете, доктор Молина?
По церемонному и сухому жесту, каким тот приветствовал Годкина, он заключил, что невысоко котируется у этого дипломата. Должно быть, из-за тех, в общем нелестных для правительства Хувентино Карреры корреспонденций из Серро-Эрмосо, которые публиковала Амальпресс.
Следующим в шеренге стоял генерал Угарте, одетый в пёструю форму: тёмно-синий китель с золочёными пуговицами и чёрные брюки с алыми лампасами. На его груди для всеобщего обозрения были развешаны ордена, в том числе орден Золотой пумы.
— Как поживаете, генерал? — спросил Годкин.
Генерал равнодушно пожал ему руку, но вдруг лицо его просветлело и расплылось в улыбке, открывшей два золотых зуба.
— Наш Рыжий Гринго! Как дела? — И, обняв журналиста, повернулся к даме, стоявшей рядом. — Помнишь, Нинфа, как этот синьор обедал у нас в Серро-Эрмосо? В каком году это было?
Подавая Биллу толстую и мягкую руку, супруга генерала воскликнула:
— Как же не помнить! — И доверительно шепнула: — Я знаю, что вы любите нашу кухню, поэтому открою вам один секрет. Дон Габриэль Элиодоро выписал повариху из Соледад-дель-Мар, чтобы для этого приёма она приготовила знаменитые эмпанадас. Обязательно попробуйте их! — Нинфа поцеловала кончики пальцев. — Они божественны! Но входите же, не стесняйтесь!
И она подтолкнула Билла к дверям.
В ярко освещённом огромном зале собралось уже человек двести гостей. Всякий раз, как Годкин входил в этот зал, он неизменно бывал поражён экстравагантностью и роскошью его убранства. С высокого деревянного потолка, расписанного маслом в стиле мастеров XVIII века, свешивалась громадная люстра, переливавшаяся всеми цветами радуги. В шёлковых гобеленах, которыми были обиты стены, а также в обивке кресел, диванов и кушеток преобладали цвета государственного флага Сакраменто — золотисто-жёлтый и красный. Огни люстры отражались в двух больших венецианских зеркалах, вделанных в стены, одно против другого, и с подзеркальниками из розового мрамора. Поговаривали, будто перед одним из этих зеркал дон Альфонсо Бустаманте беседовал со своим отражением, после того как последние гости покидали посольство.
Годкин машинально вынул из кармана пустую трубку, зажал её в зубах и стал неторопливо бродить среди разгорячённой и надушенной толпы, словно путешественник без карты и без компаса среди деревьев тропического, но отнюдь не девственного леса.
Он сразу понял, что веселье достигает той точки, когда лёд официальных отношений даёт трещины, уже выпиты первые бокалы вина, ударившего в головы. Голоса, поначалу приглушённые и церемонные, становятся всё громче и пронзительнее, а бледные, сухие улыбки сменяются вначале смехом, а потом и взрывами хохота.
Мимо Годкина прошёл официант с подносом, уставленным бокалами с желтоватым напитком. От нечего делать Годкин взял себе бокал и отпил немного: это было превосходное виски. Постепенно Билл начал различать знакомые лица: вот перуанский посол улыбнулся ему и дружески помахал рукой, затем Билл кивнул чиновнику госдепартамента, бразильскому поверенному в делах, который разговаривал с одной из «священных коров» Вашингтона.
Билл миновал группу гостей, говоривших по-французски, потом группу, изъяснявшуюся на каком-то из скандинавских языков. (Одна его знакомая как-то сказала: «Если смерть и говорит на каком-нибудь языке, держу пари — это шведский».) На минуту Билл задержался послушать, о чём беседуют четыре дамы, латиноамериканки: тараторя по-испански, они обсуждали распродажу зимнего платья в вашингтонских универмагах. Большинство гостей, как убедился Годкин, говорили на испанском. А он считал себя знатоком того испанского языка, на котором говорят в Латинской Америке. Уругвайцы и аргентинцы приправляют язык Сервантеса итальянским чесноком и майораном. (Секретарь аргентинского посольства рассердился на него, когда Билл, подсмеиваясь над аргентинцами, уверял, что они итальянцы, которые говорят по-испански, но убеждены, что это английский.) Испанскому языку Мексики присуща напевная и в то же время задорная интонация, наводящая на мысль, что все мексиканцы — родственники Кантинфласа. Язык кубинцев мягкий, но быстрый и невнятный. Что же касается языка венесуэльцев, да и других народов Карибского бассейна, то он весьма напоминает звучание магнитофонной ленты, которую быстро прокручивают в обратную сторону. Больше других Биллу нравился испанский язык колумбийцев и чилийцев, близкий к кастильскому.
— Билл, старина!
В прозрачном платье небесно-голубого цвета перед ним возникла Клэр Огилви.
— Клэр! Приятно встретить хоть одно знакомое лицо, когда блуждаешь по чужой территории!
Они пожали друг другу руки, и Клэр отвела приятеля в сторону, чтобы поговорить спокойно.
— Ну как? — спросила она, обводя взглядом зал.
— Приём как приём.
— Я хотела устроить праздник поскромнее, пригласив лишь латиноамериканцев, нескольких чиновников госдепартамента, светских хроникёров и кое-кого из журналистов. Это было бы и дешевле и веселее. Но где там! Дон Габриэль Элиодоро пожелал, чтобы всё было на широкую ногу. В Вашингтоне, как вам известно, более восьмидесяти дипломатических представительств… и мы пригласили всех! — Она рассмеялась и сжала руку Билла. — Если б вы видели лицо дона Габриэля, испуганное и вместе с тем восхищённое, когда прибыли послы Ганы и Ирака в национальных костюмах. А при виде супруги индийского посла в сари он чуть не захлопал в ладоши. Дон Габриэль радуется как мальчишка.
— Вы пригласили и советского посла?
— Конечно. По специальному указанию дона Габриэля Элиодоро. Встреча с русским тоже была весьма примечательной. Оба великана без конца трясли и пожимали друг другу руки, обмениваясь широкими улыбками. Русский, как вы знаете, свободно говорит по-английски, наш же посол — только по-испански. Я, кстати сказать, выполняла обязанности переводчицы, пока съезжались гости. Сейчас меня сменил Пабло, чтобы я немного передохнула. — Клэр встала на цыпочки и поверх голов посмотрела на двери зала. — Пожалуй, мне пора вернуться на свой пост. До скорого, Билл. Развлекайтесь!
Голубое облако уплыло в вестибюль. Билл Годкин проводил его взглядом, в котором читалась симпатия. Потом поставил стакан на столик и принялся набивать трубку.
Пабло Ортега стоял в центре зала, поглядывая по сторонам в поисках Гленды Доремус, хотя и не очень надеялся увидеть её. Вдруг кто-то ткнул пальцем ему в спину и крикнул:
— Руки вверх!
— Гонзага! — Обернувшись, Пабло сжал в объятиях бразильца.
— Охлади свой латиноамериканский пыл, — прошептал тот. — Англосаксы и скандинавы взирают на нас с осуждением…
— Я поджидаю одну дорогую гостью…
— Японочку?
— Нет, американку. Я видел её всего лишь раз, но сегодня утром звонил ей, и она обещала прийти.
— Хорошенькая?
— Я не очень уверен в этом. Но по-моему да.
Посмотрев на потолок, Гонзага тихо сказал:
— Титито прав. В отделке этого зала смешались по меньшей мере три Людовика — четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый. Я бы не удивился, если б дон Габриэль Элиодоро в платье Людовика пятнадцатого восседал на троне… Только что я имел удовольствие пожать прелестную ручку мадам Помпадур…
Пабло не обратил внимания на последние слова друга, так как едва ли не со страхом уставился куда-то в сторону.
— Смотри-ка, кто пришёл! — шепнул он и подумал, что хорошо бы избежать встречи. — Вон та худая и бледная женщина в чёрном…
— Кто она? Смерть?
— Так ты её не знаешь? Это же Августа Шнейдер, дружище! Про эту венку рассказывают самые невероятные истории. Будто бы она провела год в нацистском концлагере и тронулась. У неё тихое помешательство, понимаешь?.. После прихода американских войск она приехала сюда, у неё здесь был дядя, который умер, оставив ей небольшое состояние. Она бывает на всех дипломатических приёмах, хотя никто не посылает ей приглашений. У неё прямо страсть к испанскому языку и латиноамериканцам, но она всем надоела, и все убегают от неё. Давай незаметно проберёмся в другой зал…
Поздно! Августа Шнейдер стояла перед ними, улыбаясь своей печальной улыбкой. Она походила на портрет, написанный акварелью, который мог бы погибнуть, если б его вовремя не реставрировали: соломенные волосы, серые выцветшие глаза, бледная дряблая кожа. Августа с улыбкой смотрела на Пабло. Пабло — тоже с улыбкой — на Августу. Гонзага улыбался обоим. Ортега не сомневался, что сейчас повторится обычный диалог.
— Я вас знаю, — пробормотала австрийка, указав на него длинным и худым указательным пальцем и кокетливо прищурившись.
— Конечно, знаете, сеньорита.
— Вы чилиец, не так ли?
— Нет, сеньорита, я…
— Не говорите, я сама отгадаю. Эквадорец!
— Нет, — ответил Пабло, сохраняя серьёзный вид, несмотря на гримасы, которые строил Гонзага, стоявший за спиной Августы.
— Мексиканец?
— Нет.
— Но вы дипломат…
— Да.
— Перуанец?
— Нет.
— Тогда, наверно…
— Я из Сакраменто.
— Да-да, я знаю ваше лицо. Меня зовут Августа, а вас?
— Ортега. Пабло Ортега.
— Очень приятно. — Девушка протянула руку, которую Пабло не задержал долго в своей.
Вдруг лицо Августы Шнейдер просветлело: она заметила супругу тайваньского посла, пользовавшуюся большим уважением в дипломатических кругах Вашингтона. Забыв о Пабло, она направилась к китаянке.
— Миссис Као!
— Спасены, — вздохнул Ортега.
— Нет, теперь пришёл мой черёд, — смиренно сказал Гонзага. — Появилась моя «возлюбленная», бог покарал и меня.
Миссис Патриция К. Вудворд — ей было уже под семьдесят — принадлежала к числу самых известных дам американской столицы и гордилась своей дружбой с супругой президента. Испытывая материнскую нежность к латиноамериканцам, она изучала испанский язык вместе с жёнами конгрессменов и, как говорил Гонзага, после трёх лет занятий едва освоила несколько фраз, вроде: «Buenos dias, amigos!», «Hasta la vista», «Que rico!», «Muchas gracias!»
Она схватила Пабло за подбородок и, потрепав, сказала:
— Вы мне очень нравитесь, Паблито, но, откровенно говоря, Гонзагу я люблю больше всех. Я хочу представить его одной очаровательной девушке: этот закоренелый холостяк должен жениться. Пошли, Орландо!
Они направились в большую столовую, где был накрыт стол. Пабло проводил их взглядом. Высокая, худая, с морщинистой, обвисшей, несмотря на множество пластических операций, кожей, с крашеными волосами, отливавшими красным цветом, миссис Вудворд была вся увешена экзотическими украшениями. Она вообще питала страсть к ожерельям, браслетам и серьгам, вывезенным из Африки, Полинезии и Малайзии, где их носили как амулеты. Красилась и одевалась она настолько крикливо, что Пабло всегда казалось, будто перед ним актриса, которой дали роль вульгарной мещанки.
Ортега повернулся, чтобы идти в вестибюль, и очутился лицом к лицу с мисс Кимико Хирота.
— А! — воскликнул он, пожимая протянутую японкой руку. — Когда вы пришли?
— Несколько минут назад.
Черноволосая, блестящая головка едва доставала до плеча Пабло, а круглое личико Кимико Хирота, очаровательное, как у фарфоровой куколки, будило в нём братскую нежность; впрочем, настойчивость её невинных раскосых глаз заставляла Пабло волноваться совсем по-иному.
Ортега остановил официанта.
— Что будете пить?
— Имбирное пиво.
Он отыскал на подносе бокал с пивом.
— Мы должны условиться выпить как-нибудь чаю, — сказал Пабло, рассеянно поглядывая на дверь зала.
Всё шло отлично. Голова больше не болела, он ждал встречи с Глендой, чей образ весь день преследовал его, пьяня и возбуждая, хотя сегодня он ничего не пил.
— Вы должны мне хайку, — прошептала мисс Хирота, и Пабло вручил ей листок бумаги.
Зима Твёрдым, синим пятном На белом снегу — Мёртвая птица.Кимико долго читала, потом проговорила, не поднимая головы:
— Как это грустно!
— Согласен. Но это правда. Прошлой зимой я сам наблюдал эту картину из окон посольства.
— Но ведь сейчас весна! — воскликнула Хирота.
Однако Пабло уже не слушал японку — его взгляд снова был устремлён на двери зала.
— Вы ждёте кого-нибудь? — спросила Кимико.
— Одного знакомого, вернее — знакомую. Она здесь никого не знает, поэтому я должен её встретить.
Он поклонился, осторожно коснувшись руки мисс Хирота, словно хрупкой дорогой статуэтки, и добавил:
— Разрешите, я вас покину на минуту? Будьте как дома, я сейчас вернусь.
Кимико кивнула, словно послушный ребёнок. Она стояла там, где её оставил Пабло, и листок, который он дал, казался ей тяжёлым, будто мёртвая птица.
13
Когда начали прибывать первые гости, Габриэль Элиодоро Альварадо, по просьбе Клэр Огилви и согласно протоколу, стал во главе шеренги сотрудников посольства. Однако он весьма напоминал непокорного норовистого коня на старте, готового в любую минуту ринуться вперёд. Время от времени Габриэль окидывал взглядом зал… Поначалу всё казалось ему забавным: он даже придумал игру, угадывая, кто приедет следующим, и с интересом знакомился с представителями дипломатического мира Вашингтона, будто демонстрирующими разнообразие рас и народностей.
Но по мере того, как зал наполнялся гостями и шум голосов становился всё громче, церемония знакомства стала надоедать Габриэлю. Он забеспокоился, как человек, купивший билет на спектакль, и боящийся пропустить первый акт. Неужели он не сможет участвовать в празднике, который даётся в его честь? Наконец не в силах более противиться искушению, он попросил Молину занять его место…
В зале, заполненном теперь до отказа, всё блистало и переливалось яркими красками: наряды женщин, роспись на потолке, парча обивки, а в зеркалах бесконечно множились огни громадной люстры и канделябров. Всё это доставляло послу Сакраменто наслаждение не только эстетическое, но и чувственное. Он с наслаждением вдыхал аромат духов, к которому примешивался запах вина, дым сигар и сигарет, его приятно волновала обстановка приёма, где собралось много красивых, хорошо пахнущих женщин… Дрожь пробежала по телу Габриэля. Чёрт возьми! Вот это праздник!..
К нему подходило множество людей, и те, кто говорил по-испански, восторгались меблировкой посольства и приёмом. Габриэль Элиодоро благодарил. Если подходила женщина, да к тому же хорошенькая, он целовал ей ручку; если это был мужчина, Габриэль дружески похлопывал его по плечу, и снова отправлялся разгуливать по залу.
— Вы что-то ничего не пьёте? — обратился он к высокому белокурому господину, стоявшему со скучающим видом. Тот, вежливо пожав плечами, пробормотал:
— Sorry, sir, I don» t speak Spanish.
— О'кей! — воскликнул посол и подозвал проходившего мимо официанта: — Эй, приятель! Подайте-ка что-нибудь нашему другу! — Официант тоже не знал испанского, однако правильно понял жест гостеприимного хозяина.
Ответственный чиновник правительства Доминиканской Республики, выпивший три коктейля, отчего у него заблестели глаза и развязался язык, подхватил Габриэля Элиодоро под руку и, отведя к одному из зеркал, не очень уверенно проговорил:
— Мой дорогой посол, а что, если мы объединим вооружённые силы наших стран и вторгнемся на Кубу? Как вы смотрите на это?
— А ведь это идея, дружище! — Посол улыбнулся, решив обратить всё в шутку. — Только кто будет финансировать операцию? Уж не гринго ли?
— А почему бы нет? Это в их интересах, просто они не понимают! — С унылым видом доминиканец покачал головой. — Тупицы! Благодетель покупал у них самолёты, танки, пулемёты, боеприпасы… А что делает Пентагон? Рекомендует Эйзенхауэру наложить эмбарго на поставки военного снаряжения в зону Карибского Бассейна! — Он с силой сжал руку Габриэля. — Но я вот что вам скажу, дружище: наш военно-воздушный флот сильнее кубинского. У нас восемьдесят боевых самолётов, из них более пятидесяти — реактивных. У кубинцев же всего шестьдесят, а то и меньше, уверяю вас. Мы должны осуществить вторжение на Кубу, пока не поздно. Поверьте мне, этот бородач — коммунист. Хоть он и отрицает это, но он попал под влияние простонародья. Сейчас самое время! — закончил доминиканец с пророческим видом и внезапно покинул собеседника, бросившись за официантом, который проходил мимо с подносом, уставленным бокалами.
Габриэль Элиодоро посмотрелся в зеркало и поправил галстук. Если Трухильо всерьёз думает, будто кум Каррера ввяжется в подобную авантюру, он просто помешался.
Посол отошёл от зеркала и очутился в самом центре зала под люстрой. Интересно, из какой страны этот элегантный негр в европейском костюме, но в маленькой шапочке? Из Гвинеи? Или Ганы? Нет, из Ганы вон тот, в белом балахоне.
Критическим взглядом Габриэль окинул маленькую китаянку, беседовавшую с женой пакистанского посла. Его внимание привлекла ножка, заманчиво выглядывавшая из-под укороченной с одного бока юбки. Однако при ближайшем рассмотрении ножка оказалась слишком тощей, как и сама китаянка. Не понравилось Габриэлю и её лицо, желтовато-бледное, с узкими глазами.
Какой-то господин с чёрной бородкой («Держу пари, индиец!»), длинными, как у женщины, волосами, в чалме, но в европейском костюме приблизился к Габриэлю, пожал ему руку и что-то сказал по-английски или по-французски. Габриэль улыбнулся в ответ и на всякий случай воскликнул:
— Merci beaucoup, mister, merci. — Он похлопал сикха по плечу, и тот направился к выходу.
На память послу пришёл сержант 5-го пехотного полка, высокий, смуглый, бородатый, которого он ненавидел, когда был мальчишкой. Он вновь услышал далёкий голос, который донёсся до него из прошлого, через моря и горы: «Габилиодоро! Габилиодоро! Иди домой!»
Посол взглянул на себя в зеркало. «Если б она могла увидеть меня сейчас», — подумал он. Но и тогда, что бы поняла эта невежественная женщина? Она просто не поверила бы своим глазам… Она ведь так и не научилась читать. Тело было её единственным талантом, её капиталом, им она зарабатывала на жизнь… В её постели побывал весь пехотный полк, квартировавший в Соледад-дель-Мар. По субботам (а может, это Габриэль придумал позднее?) для солдат она делала скидку. Габилиодоро! Габилиодоро!
В зеркало посол увидел, как в зал входит Эрнесто Вильальба под руку с белокурой, рослой и величественной женщиной. Он тотчас поспешил им навстречу. На мгновенье пара затерялась в толпе, но инстинкт охотника безошибочно привёл Габриэля прямо к незнакомой красавице.
— Дон Габриэль Элиодоро, — подобострастно обратился к нему Титито, — имею честь и удовольствие представить вам моего друга — Фрэнсис Андерсен Уоррен. Миссис Уоррен, это посол Сакраменто, наш Амфитрион.
Габриэль Элиодоро звонко поцеловал руку, которую подала ему женщина, и Титито показался варварским этот жадный поцелуй. Повернувшись к секретарю, дама сказала по-испански:
— Вы забыли, что я уже не Уоррен. Мой развод официально оформлен на прошлой неделе.
Титито поклонился и попросил прощения. Поражённый Габриэль Элиодоро смотрел на гостью и удивлялся про себя: почему это женоподобные мужчины всегда появляются с красивыми женщинами? У той, что стояла сейчас перед ним — Габриэль тщательно разглядывал её, — волосы цвета спелой пшеницы, глаза словно море, кожа как снег, да, снег, только порозовевший под лучами утреннего солнца… А грудь, пресвятая богородица! А лицо! Прямо картинка. Рот крупный (посол питал слабость к женщинам с большим ртом), но прямой и тонкий, а такую линию шеи и такой овал лица мог создать лишь величайший ваятель — бог. И пока Вильальба излагал краткую биографию мисс Андерсен (родилась на Среднем Западе, дед и бабушка датчане, бывший муж — морской атташе США в различных южноамериканских столицах), Габриэль Элиодоро мысленно её раздевал. Бёдра у неё, не в пример бёдрам Росалии, худощавые, ноги, наверное, длинные и округлые. К тому же разведённая. Посол уже сгорал от желания. Он снова взял руку мисс Андерсен, теперь уже обеими руками, и прошептал: «Моя дорогая сеньора, этот дом ваш, и я ваш слуга». Однако, увидев краем глаза приближавшееся к ним красное платье Росалии, отпустил тонкие и нежные пальцы.
— Разрешите, мисс Андерсен, представить вам сеньору Виванко, здесь, в Вашингтоне, олицетворяющую красоту наших женщин. Росалия, дорогая, это мисс Фрэнсис Андерсен. Я добьюсь, чтобы Титито назначили первым секретарём за то, что он украсил наш праздник этой жемчужиной.
Женщины обменялись быстрыми оценивающими взглядами. Американка с улыбкой поклонилась, но руки не подала. Росалия же хотела протянуть свою, однако вовремя задержалась. Она никак не могла усвоить американский этикет, и, если её кому-нибудь представляли, не знала, когда надо подать руку, когда ограничиться поклоном.
— Красивое у вас платье, — заметила Фрэнсис.
— Ему далеко до вашего, — ответила Росалия. — Цвет льда, не так ли?
— Совершенно верно.
Росалия продолжала критически и едва ли не враждебно разглядывать американку, пока Титито и Габриэль Элиодоро, оба с зажжёнными зажигалками, оспаривали друг у друга честь дать огня мисс Андерсен, которая поднесла сигарету ко рту.
Стоя несколько поодаль, Пабло Ортега и Билл Годкин наблюдали за этой сценой. Они видели, как Габриэль Элиодоро, оттеснив Титито, поднёс огонь белокурой даме, а затем сказал что-то секретарю, который немедленно стал пробираться в столовую, покачивая бёдрами.
Ортега, немного знавший Фрэнсис Андерсен, рассказал Биллу о красавице. А Орландо Гонзага, отделавшись наконец от миссис Вудворд и присоединившись к друзьям, заявил, поняв, куда устремлены их взгляды:
— Или я ошибаюсь, или перед сеньорой Виванко стоит соперница. Я бы посоветовал ей остерегаться…
— Не беспокойся, — пробормотал Пабло. — Росалия, по-видимому, уже почуяла опасность. Смотрите, как она её разглядывает…
— Между этими породистыми кобылками наш Габриэль Элиодоро как норовистый жеребец. Откровенно говоря, если бы мне надо было выбирать, я предпочёл бы смуглянку. В её жилах течёт горячая кровь, её предки приехали из страны, где устраивают корриды, играют на гитарах, цветёт миндаль, арабское в ней смешалось с солнцем и ветром Кариб… Другая же напоминает мне богиню туманных скандинавских фиордов. Знаю по собственному опыту, шведки и норвежки — женщины здоровые и пылкие, но разве можно прожить на рыбной диете?
Годкин молча улыбался, наблюдая за дамами и Габриэлем сквозь дым своей трубки.
— Больше всего мисс Андерсен напоминает мне алмаз своим сиянием, изысканностью и в то же время твёрдостью и холодностью, — сказал Пабло, беря друзей под руки.
— Но какие у этих самок великолепные бюсты! — воскликнул Гонзага. — Они походят на приготовленные к бою пушки крейсера, нацеленные на противника. И обратите внимание, как на них смотрят мужчины… Взгляни, Билл, на рожу твоего коллеги из Ассошиэйтед Пресс и того, что стоит рядом с ним… Они оба в экстазе. Твои соотечественники, старина Билл, находятся на первичной стадии развития. Они теряют голову при виде женской груди, значит, они ещё грудные младенцы. У вас в стране наибольшим успехом пользуются актрисы с пышным бюстом… Мы же, латиноамериканцы, кончаем с этим вовремя. Что касается меня, то я сосал грудь до двух лет… и это была грудь негритянки.
Билл искоса взглянул на него.
— Должно быть, вы достигли сейчас развития годовалого ребёнка…
Дон Габриэль Элиодоро, взяв под руки блондинку и шатенку, направился с обеими дамами к дверям зала. Догнав шефа, Клэр Огилви дотронулась до его плеча кончиками пальцев. Посол обернулся, и секретарша что-то шепнула ему на ухо, тот сделал недовольную гримасу и повернул обратно, не отпуская, однако, своих прекрасных пленниц.
Зал заволновался, словно море под порывами внезапно подувшего ветра. В салон торжественно вступала мисс Потомак! Окружённая поклонниками, она двигалась медленно и величественно, то и дело задерживаясь, как украшенная флагами каравелла, под парусами идущая по Саргассову морю. Затянутая в чёрное шёлковое, расшитое бисером платье, она держала в пальцах, унизанных сверкающими кольцами, длинный мундштук с дымящейся сигаретой и своим хриплым, почти мужским голосом сыпала остротами, вызывавшими раболепные улыбки у её свиты, ибо даже близкие боялись её злого языка. В тот момент, когда Габриэль Элиодоро подошёл с ней поздороваться, мисс Потомак издевалась над одной журналисткой, своей соперницей, которая часто устраивала пышные приёмы для аристократов и богачей, а сама постоянно сидела без денег.
Трое приятелей уделили «священной корове» лишь несколько секунд. Годкин тотчас повернулся к ней спиной и спросил Гонзагу:
— Как тебе удалось вырваться из когтей миссис Вудворд?
— Меня спас посол Южной Кореи, который затеял с ней какой-то умный разговор. А я воспользовался случаем и сошёл с орбиты…
— Миссис Вудворд, — улыбнулся Пабло, — одна из достопримечательностей Вашингтона.
— И знаешь, что я открыл? — спросил Гонзага. — Эта дама — типичная представительница американок, имя которым — легион и которые, раз и навсегда усвоив несколько мыслей, всегда и во всём точно им следуют, хотя это всего лишь мифы…
Билл Годкин попросил Гонзагу пояснить сказанное, предвидя, однако, что бразилец по своему обыкновению скатится к шаржу.
— Некоторые из этих мифов могут быть сведены к следующим фразам: «Американский образ жизни — самый лучший», «Что хорошо для «Дженерал Моторс», то хорошо и для Соединённых Штатов»… «Негры — низшая раса»… «Почти все демократы — тайные коммунисты»…
Годкин улыбнулся.
— По-моему, вы совершаете большую несправедливость по отношению к американским женщинам, когда выдаёте миссис Вудворд за их представительницу.
— Возможно, я слишком сгустил краски, и всё же в моих словах немало правды. Ваша страна питается сусальными слащавыми мифами, которые вам навязывает так называемый «средний класс». Журналы, газеты, кино, телевидение, театр, то есть великолепно поставленная, богато оформленная и на редкость доходчивая пропаганда, равной которой нет и не было, распространяет легенды и мифы, кормит публику сказками или страшными приключениями.
— Послушать вас, Гонзага, так и не поймёшь, как это нам, наивным, ограниченным и доверчивым американцам, удалось сделать свою страну одной из самых богатых и развитых на земном шаре…
Гонзага расхохотался.
— Не сердись, Билл, не надо относиться к моим словам слишком серьёзно. Я уже выпил три виски, не закусывая. — Он повернулся к Ортеге. — Скажи Биллу твой рецепт приготовления американца.
Пабло, который, встав на цыпочки, снова смотрел на двери зала в ожидании Гленды Доремус, пробормотал:
— Не стоит.
— Давай, дружище! Билл знает, что мы с тобой подтруниваем над гринго без всякой злобы.
— Чтобы приготовить американца, — начал Ортега, — в кастрюлю кладётся порция homo faber и другая порция, поменьше, homo ludens,затем добавляется щепотка фарисейства, и эта смесь ставится на медленный огонь.
Годкин хотел было возразить, ибо считал, что в нём самом очень немного homo faber и почти совсем нет homo ludens, когда увидел приближавшуюся к ним Клэр Огилви.
Взяв Пабло за руку, секретарша прошептала:
— Я должна сделать одно признание.
— Валяй.
— Я тебе сегодня изменила.
— С кем?
— С доном Габриэлем Элиодоро. Как только я пришла, он меня обнял и поцеловал, представляешь? Он настоящий волшебник. Можешь говорить о нём что угодно, сегодня я тебе не поверю. Я обожаю этого человека. Прости меня, Пабло, твоя навек Огилвита, — кончила она, словно ставила подпись в предсмертной записке.
— Когда же нас будут кормить? — спросил бразилец.
— В данный момент дон Габриэль ведёт двух дам — блондинку и шатенку — в столовую, — сообщила секретарша. — Но сначала вашингтонское общество познакомят со знаменитыми сакраментскими эмпанадасами. Идёмте и мы, а то эти варвары опустошат весь стол.
По дороге Клэр рассказала, как дон Габриэль поблагодарил мисс Потомак за её заметку в светской хронике, поцеловал ей руку, похвалил платье, сказал, что она выглядит очень молодо… Словом, вёл себя как записной соблазнитель. Разумеется, переводя его комплименты, пришлось смягчить некоторые преувеличения и нелепости. Клэр Огилви не сомневалась, что теперь послу обеспечен успех.
После пышности приёмного зала столовая, обставленная в стиле позднего Возрождения, радовала глаз своей скромностью. Пол её — сейчас без ковров — был выложен кирпичом, на стенах висели бельгийские гобелены, вытканные по мотивам картин Рафаэля. Мебель столовой напоминала о тех временах, когда художники Италии и их меценаты не любили ещё императорский Рим и греческую классику столь болезненно. Однако дон Альфонсо Бустаманте счёл возможным нарушить строгость обстановки, распорядившись обить стулья с высокими спинками имитацией старинного венецианского бархата: на тёмно-красном фоне вышитые золотом стилизованные артишоки и гирлянды. Стол был простой, почти монашеский. Вокруг него старый дипломат усаживал на обедах, которые славились на весь Вашингтон, более двадцати гостей.
Теперь этот длинный полированного ореха стол фирма «Паркер энд Бэккер, Катерерс» уставила холодными закусками. «Degoutant!» — пробормотал Мишель Мишель, весь сморщившись. Среди разложенных на столе цветов, по мнению мажордома, тоже отвратительных («Le gout american, vous savez…»), выстроились овальные блюда с индейками, которые казались целыми, но на самом деле были разрезаны, чтобы их можно было тут же класть на тарелки, со свиными и бараньими ногами, варёной и копчёной ветчиной, украшенной гвоздиками и обложенной кружочками ананаса. Разнообразные салаты походили скорее на красочные репродукции, чем на еду, кроме того, был подан говяжий язык в остром соусе и горячий рис (который мисс Огилви заказала в последнюю минуту, вспомнив о латиноамериканских и восточных гостях), а также рыба — целыми огромными тушами, залитыми желе (или чем-то в этом роде), на которых был изображён («Quelle vulgarite!») флаг Сакраменто.
Не отпуская своих дам, Габриэль Элиодоро подвёл их к столу и тем самым подал знак давно ожидавшим гостям, толпившимся в столовой. Под критическим взором мажордома официанты суетливо метались из стороны в сторону, уже начав обслуживать наиболее нетерпеливых, тянувших свои тарелки. Но вдруг все застыли на местах: трое официантов внесли огромные блюда, полные горячих румяных пирожков, посыпанных сахарной пудрой.
— Las empanadas! — издала восторженный клич Нинфа Угарте. И её соотечественницы устремились навстречу официантам в порыве патриотического чревоугодия. Донья Нинфа, которая уже проглотила пирожок, измазав сахарной пудрой пушок на верхней губе и подбородок, воздев кверху руки, пыталась удержать подруг:
— Подождите, chichas! Где ваше воспитание? Вы забыли о сакраментском гостеприимстве? Дайте сначала попробовать пирожки гостям.
Но её увещеваний никто не слышал, да и она сама оказалась в центре свалки, начавшейся вокруг официантов. У двери улыбался, показывая великолепные белые зубы, посол Ганы, высокий представительный негр в белом одеянии. Орландо Гонзага, который подошёл к столу вместе с Годкином, шепнул ему на ухо:
— Не забыли они приготовить жаркое из человеческого мяса для представителей новых африканских государств?
— Держу пари, — проворчал Годкин, посасывая потухшую трубку, — эти негры цивилизованнее и культурнее нас с тобой и большинства здесь присутствующих. Многие из них окончили Оксфордский или Кембриджский университет.
Мишель наблюдал за этой вакханалией с негодованием, и морщины вокруг его рта, придававшие его лицу недовольное выражение, казалось, залегли ещё глубже. Господин посол махнул ему.
— Велите поднести нам блюдо с пирожками!
Он желал угостить Фрэнсис Андерсен и Росалию Виванко. Росалия взяла пирожок и поднесла его ко рту, будто выполняла священный обряд. Американка сделала то же, однако с вежливым безразличием лишь надкусила пирожок. Росалия с наслаждением жевала, но, как ни занимала её еда, ни единая крошка не упала с её губ. Не сводя глаз с мисс Андерсен, Габриэль заметил, что зубки её задвигались энергичнее, и она положила в рот вторую половинку пирожка жестом, который ещё больше воспламенил эротическое воображение посла.
— Ну как? — спросил он с улыбкой.
— Восхитительно! — ответила американка, беря ещё один пирожок.
Посол ликовал.
— Доводилось ли вам когда-нибудь пробовать столь нежное тесто? Но весь секрет, сеньора, в начинке.
— Это курица?
— Курица с говядиной и креветками, и всё это приправлено травами, которые растут только у нас. Рецепт этих пирожков сохранился с колониальных времён. Принеси-ка нам шампанского, Мишель!
Шампанское появилось тут же, и было разлито по бокалам.
Шум в столовой стоял невыносимый. Обе рыбины были уже растерзаны. Какой-то здоровяк сакраментец сумел, не разрушив национального флага, отхватить себе огромный кусок, который почтительно съел.
Нинфа Угарте с мужем, стоя рядышком, жадно поглощали закуски.
— Свиной окорок — просто чудо, — пробормотала она.
— А как же мой холецистит? — с сомнением отозвался муж.
— Пошли его к чёрту!
Шумная толпа постепенно оттеснила Габриэля Элиодоро и от Фрэнсис, и от Росалии.
Посол как раз взял ножку курицы, хорошо подрумяненную, как он любил, когда увидел, что с другой стороны стола ему улыбается американский генерал.
Память снова перенесла его в Соледад-дель-Мар. Летний вечер 1915 года. Ему двенадцать лет, и он вместе с другими детьми на биваке американских морских пехотинцев. Босые, оборванные и голодные ребятишки тянут худые ручонки к сержанту, который держит куриную ножку, и кричат: «Дай нам! Дай!» Американец бросает им ногу, и тогда Габриэль Элиодоро, самый рослый, ловит её налету, прижимает к груди и пытается удрать. Но кто-то из мальчишек даёт ему подножку, и он падает, разбивает себе нос, однако ножки из рук не выпускает. Мальчишки с криками набрасываются на него, рвут на нём рубашку, царапают спину, кусают руки, бьют по голове, и лишь тогда оставляют его в покое, когда морские пехотинцы бросают им никелевые монетки с изображением быка. Габриэль, задыхаясь после борьбы и бега, укрылся в церкви. Там он с жадностью набросился на куриную ножку, ещё пахнущую гринго, его собственным потом, пылью и кровью, тёплой кровью, которая текла у него из носа. Он жевал, уставившись на изображение богородицы, своей покровительницы, и немного стыдился того, что принял объедки от иностранных солдат, высадившихся в Соледад-дель-Мар, чтобы убить Хуана Бальсу и его партизан.
Какая-то волшебная сила заставила Габриэля Элиодоро пережить эти далёкие события буквально в доли секунды.
Он улыбнулся, взглянув на свою тарелку, воткнул вилку в куриную ножку, которую выбрал для себя, и почти швырнул её в тарелку генерала. Тот поначалу был несколько шокирован, но затем, решив, что это проявление гостеприимства, благодарно просиял.
14
Пабло уже потерял надежду увидеть Гленду Доремус, когда девушка наконец появилась в дверях. В первый момент он даже не узнал её. Поразительно, как наша фантазия преображает иные лица! Сейчас Гленда показалась Пабло более красивой и менее печальной, чем при первой встрече. Он приблизился к девушке, горячо пожал ей руку и поблагодарил за то, что она пришла.
— Будьте ко мне снисходительны, — прошептала американка своим глуховатым голосом, который так нравился Пабло. — Я впервые на дипломатическом приёме.
— Неужели впервые? — удивился он.
— Да…
— Давайте тогда пройдёмся по залу, и я познакомлю вас с его фауной. Вон тот высокий мужчина — посол Эфиопии. — Но Гленда не заинтересовалась африканским дипломатом. — Смуглый толстый джентльмен с лицом доброго Будды, который сидит на голодной диете, — посол Таиланда. А это супруга французского посла, одна из самых элегантных дам в Вашингтоне…
Пабло взял Гленду под руку и почувствовал (или это ему показалось?), что девушка вздрогнула, будто его прикосновение ей было неприятно. И всё же руки её он не отпустил.
— А это мой друг Орландо Гонзага, первый секретарь бразильского посольства. Осторожно: он опасный человек.
Бразилец пожал руку Гленды, и Пабло со своей гостьей пошли дальше.
— Билл! — сказал он немного погодя. — Познакомься со своей соотечественницей.
Потом они подошли к человеку, который грациозно и легко, как танцовщик, скользил среди гостей.
— Мисс Доремус, это мой коллега Эрнесто Вильальба.
Титито смерил Гленду Доремус взглядом с головы до ног, и немедленно определил: служащая Панамериканского союза, на приёмах не бывает, подкрашивается неумело, здоровьем похвалиться не может, одета ужасно, но Пабло в неё влюблён.
— Не будете возражать, — сказал он, — если я отправлюсь выполнять тяжёлую миссию? Наш посол поручил мне показать дом пяти дамам из самого высшего вашингтонского общества, все они интересуются Латинской Америкой. До свиданья! Рад был с вами познакомиться, мисс…
Когда Пабло представил свою знакомую смуглому джентльмену с чёрными усиками, тот поцеловал ей руку, сказав:
— У ваших ног, сеньорита.
Отойдя подальше от этого галантного мужчины, Гленда удивилась:
— Почему «у моих ног»?
— Это старинная испанская формула вежливости. Разве она вам не нравится?
— Я ненавижу все формулы, — недовольно сказала Гленда. — И особенно формулы вежливости.
Пабло улыбнулся. Он чувствовал себя счастливым: с приходом Гленды праздник обрёл для него новый, волнующий смысл. Теперь он больше не сомневался, что Гленда нравится ему, но предчувствие, перераставшее в уверенность, ему говорило, что отношения их сложатся непросто: будут у них и споры, и разногласия, и прочие осложнения. И откуда это предчувствие, если они ещё совсем мало говорили друг с другом, а диссертация этой девушки из Джорджии была написана сухо и серо, как газетная статья.
— Пабло! Почему ты не представляешь меня этой красавице?
Перед ними возник Габриэль Элиодоро, который только что выпил третий бокал шампанского. Посол постарался очаровать американку, но та отвечала ему почти враждебной холодностью.
— Чувствуйте себя как дома, сеньорита. А ты, Пабло, поухаживай за нашей гостьей. Угости её сакраментскими эмпанадасами. Мы ещё увидимся, мисс.
— В нём есть индейская кровь? — спросила Гленда, провожая взглядом посла, который направился к красивой женщине в красном.
— Наверное, — отозвался Пабло. И, зная, что вызовет спор, добавил: — А разве это имеет какое-нибудь значение?
— Что именно?
— Какая кровь течёт в жилах человека.
— А вы считаете, нет?
Пабло сделал гримасу, выражавшую его безразличие к этому вопросу, а Гленда снова попыталась освободиться от его руки. Пабло, однако, не отпускал её.
Тут он заметил посла Гаити и решил проделать опыт.
— Я хочу познакомить вас с одним моим другом, — прошептал он, направляясь к гаитянскому дипломату, который с пустым стаканом стоял в центре зала. Поняв, что Пабло собирается представить её негру, Гленда попробовала уклониться и даже воскликнула: «Нет!», но Пабло сжал её руку ещё сильнее и продолжал вести. «Зачем эта жестокость? — спрашивал он себя. — Откуда это желание подчинить её себе вопреки её воле?»
— Прошу вас, — умоляла Гленда, пытаясь высвободиться. — Я не хочу. Не хочу. Вы не имеете права меня принуждать!
Не переставая улыбаться, Пабло всё же заставил её подойти к гаитянскому послу.
— Господин посол, это моя знакомая, мисс Доремус. — Дипломат поклонился и с улыбкой протянул руку. Поколебавшись мгновение, американка подала ему кончики пальцев, но тут же их отняла. Пабло заметил, что она побледнела.
— С вашего позволения, господин посол, — произнёс Ортега и пошёл дальше со своей пленницей. Ибо Гленда действительно была его пленницей. «Теперь я знаю, — думал он, — теперь я уверен. Она расистка. Подала руку негру, а саму, наверное, затошнило». Он заметил капельку пота на лбу американки, которая в третий раз попыталась вырваться от него.
— Вы мне делаете больно, — сказала она, бросив на Пабло злой взгляд.
— Хорошо, я отпущу вас. — Пабло улыбнулся. — Но не убегайте. Надо же нам поговорить.
Они помолчали, и вдруг Гленда остановилась.
— Зачем вы это сделали? Я же говорила, что не хочу знакомиться с этим негром.
— Прежде всего он человек.
— Я не на лекции по вопросам этики и морали.
— Не глупите! — воскликнул Пабло, всё больше удивляясь своему поведению. Никогда прежде он не обращался так с женщиной. — Неужели в вас нет спортивного духа? — Пабло протянул Гленде сигареты, но та отрицательно покачала головой. Он закурил и продолжал: — Это посольство с юридической точки зрения является территорией республики Сакраменто, поэтому я у себя на родине.
— Ещё одна причина, по которой вы должны вести себя как джентльмен. — Гленда озиралась по сторонам. Это шумное сборище, эта жара, несмолкающий гул голосов, запахи еды, доносившиеся из столовой, ошеломили её. В желудке снова неприятно засосало. — Я ухожу, — заявила Гленда.
Пабло снова взял её под руку, на этот раз нежно.
— Останьтесь, прошу вас. Мне необходимо поговорить с вами. Мы ещё не обсудили вашу диссертацию.
— Я не за этим пришла сюда.
— Тогда зачем?
Гленда казалась удивлённой.
— Дурацкий вопрос! Пришла потому, что вы меня пригласили, потому что вы настаивали и я обещала прийти. Вы что, пьяны?
— Я ничего не пил. Даже воды.
— Может быть, приняли какой-нибудь наркотик?
— Я их не принимаю. Как вы могли подумать такое?
Несколько секунд они молчали, хмуро глядя в глаза друг другу.
— Неужели вы собираетесь обсуждать диссертацию в этом аду?
— Нисколько. Я, как и вы, ненавижу эти сборища, а потому нарушу правило, которое запрещает секретарям посольства уделять исключительное внимание кому-нибудь из гостей. Пойдёмте возьмём еды и вина, а потом укроемся в спокойном месте. Согласны?
Гленда покорно пожала плечами. Они перешли в столовую, где Пабло положил закуски на две тарелки и поставил их на поднос вместе с бутылкой шампанского и бокалами.
— Давайте посмотрим, свободна ли библиотека.
Они вышли в коридор, который проходил под лестницей главного вестибюля, и оказались в библиотеке. В углу беседовали двое мужчин. Пабло узнал их. Это были д-р Хорхе Молина и профессор университета Джорджа Вашингтона. Раздавался поучающий голос доктора:
— …вот почему судьба направляет нашу жизнь к вечности. Я бы даже сказал…
Он заговорил тише, когда увидел вошедших. Наклонясь к Гленде, Пабло прошептал:
— На портрете, что висит над камином, изображён Хувентино Каррера.
Гленда не проявила никакого интереса к генералиссимусу, изображённому в известной позе Боливара.
Выйдя из библиотеки, они прошли по коридорам и комнатам, которые показались Гленде миниатюрной копией Версальской галереи зеркал, и очутились в небольшом зале, расположенном в левом крыле здания.
— Это мой излюбленный уголок, — сказал Пабло. — Знатоки считают, что мебель эта относится к эпохе испанского Возрождения. Видите письменный стол в углу? Настоящий «баргеньо».
Мисс Доремус никогда не слышала о «баргеньо», но никаких вопросов не задала.
Пабло поставил поднос на низенький столик рядом с софой, на которую уселась Гленда, и принялся открывать шампанское. Наконец пробка выскочила, угодив прямо в нарисованного на потолке херувима, и упала на мягкий ковёр, из горлышка бутылки побежала пена.
— Давайте выпьем и помиримся, — предложил Пабло, наполнив бокалы и устраиваясь в кресле напротив девушки. Сделав первый глоток, Пабло заметил, что Гленда не пьёт.
— Вы не пьёте?
— Может заболеть желудок…
— Бросьте! Желудочные болезни обычно мы сами придумываем. Так что пейте, а то вы ещё, пожалуй, и есть не станете…
Гленда посмотрела на тарелку: куски индейки, салат, какой-то подозрительный соус, жирные пирожки. Пабло быстро осушил свой бокал.
— Зачем вы заставили меня пожать руку негра? В этом не было никакой необходимости, мы никогда больше не встретимся. Вы нарочно это сделали, хотели меня испытать, да?
— Разумеется.
— Теперь вы знаете, что я ненавижу негров, так что вопрос исчерпан. Я уважаю ваши вкусы и убеждения, а вы должны уважать мои. Но как бы там ни было, я считаю, что поступили вы невежливо.
Пабло снова наполнил свой бокал.
— Вы очень на меня рассердились?
— Говоря откровенно, да.
— Тогда покорнейше прошу простить меня.
— Я уже говорила вам, что ненавижу формулы. Пожалуйста, не употребляйте больше этого отвратительного слова.
— Какого?
— Покорнейше.
— Хорошо. Давайте закусим.
Он передал Гленде тарелку, и она принялась ковырять вилкой салат, не вызывавший в ней ни малейшего аппетита. Пабло встал и запер двери на ключ.
— Зачем вы это сделали? — Встревоженная Гленда вскочила на ноги.
— Не хочу, чтобы нам мешали.
— Откройте сейчас же! — приказала она.
Но Пабло подошёл к ней, будто ничего не слышал.
— Сядьте, Гленда, и успокойтесь. Я не стану пытаться вас изнасиловать.
Она побледнела, на мгновенье ненависть исказила её лицо, глаза стали злыми, и Гленда глухо сказала:
— Никогда больше не смейте при мне произносить это слово.
Усевшись, она дрожащими руками открыла сумочку и вынула сигареты. Пабло поднёс зажигалку, но сигарета прыгала в губах девушки. В конце концов ей удалось закурить, и, нервно затянувшись, Гленда взглянула на дипломата.
— Мистер Ортега…
— Пожалуйста, зовите меня Пабло.
— Хорошо. Но вы странный человек. Когда я увидела вас впервые, вы мне показались другим: скромным, уравновешенным. Как бы это сказать? Пожалуй, мягким. В общем, человеком, на которого я могла бы положиться. А теперь я вижу, что вы такой же, как все.
— Гленда, — после паузы начал Пабло, — откровенно говоря, с тех пор, как вы вошли сюда, я играю роль сильного мужчины, укротителя. Но я совсем не такой, поверьте…
— Почему же вы выдаёте себя за того, кем на самом деле не являетесь?
— Не знаю. Возможно, потому что вы пробуждаете во мне какие-то дремлющие инстинкты, — Пабло улыбнулся, — или потому, что в глубине души… Словом, не знаю, видимо я хотел бы быть тем, кого я играю. Однако никаких задатков для этого у меня нет! Будемте друзьями, это самое главное.
— Признаюсь, я в растерянности и жалею, что пришла. А пришла я только из-за вас. — Помолчав, Гленда спросила: — Почему бы вам не заняться другими гостями? Неужели вас так заинтересовала моя скромная персона?
— Вам неприятно, что мужчина заинтересовался вами?
— Неприятно, потому что это всегда кончается плохо.
— Вы пессимистка, Гленда. Но, прошу вас, съешьте что-нибудь и выпейте вина.
Гленда бросила нерешительный взгляд на тарелку и, поколебавшись, поставила её обратно.
15
Впрочем, через несколько минут, немного успокоившись, она всё же проглотила два кусочка индейки и половину пирожка, начинка которого показалась ей слишком острой. По настоянию Пабло выпила также глоток шампанского, со страхом думая о том, как это скажется назавтра.
Ортега между тем осушил третий бокал и собирался с духом сказать Гленде прямо, что он думает о её диссертации.
— Я жду откровенной критики. — Гленда скрестила руки, из предосторожности надавив на желудок, хотя ни боли, ни тошноты пока не было.
— Хорошо. — Пабло и сам не знал, почему ему доставляет удовольствие нападать на девушку. — Ваша диссертация абсолютно лишена исторической перспективы и изобилует неточностями.
Лицо Гленды напряглось, на лбу появились морщины, она будто каждой порой впитывала слова Пабло.
— Неточностями? Какими?
— Начать с того, что вы пользовались недостоверными источниками.
— Но основную информацию я получила в вашем посольстве!
— Именно поэтому я и считаю её недостоверной.
— Вы пьяны.
— Может быть, и тем не менее то, что я сейчас сказал, правда…
Гленда пристально изучала рисунок ковра.
— Конечно, в вашей диссертации есть и неоспоримые факты, — продолжал Пабло. — Сакраменто и в самом деле было открыто в 1525 году испанским капитаном Леандро Гарсиа Эскалой, находившимся на службе у завоевателя Франсиско Фернандо де Кордобы. Позднее Эскала основал Пуэрто Эсмеральду на северо-восточном побережье Сакраменто, и Серро-Эрмосо на центральном плато. Но легенда о золотистой пуме, якобы охранявшей вход в серебряные рудники, пожиравшей испанцев и щадившей туземцев, которым она будто бы лизала руки, не более правдоподобна, чем легенда о волчице, вскормившей Ромула и Рема.
— В книге, которую мне давал доктор Молина, говорится, что существование той пумы подтверждено документами колониальных времён, и что именно поэтому пума и поныне изображается на гербе Сакраменто.
— Поверьте мне — это миф.
Подперев голову, Гленда поставила локти на колени и взглянула на Пабло.
— Неужели невозможно спасти хотя бы часть из того, что я написала?
— Спасти надо вас.
— Ненавижу глупые шутки. Я говорю совершенно серьёзно. Диссертацию надо сдать в следующем месяце.
Пабло пожал плечами. Вино сделало его красноречивым; он словно парил в облаках. Общение с Глендой доставляло ему болезненное наслаждение, в котором было что-то садистское, хотя и не без примеси мазохизма.
— Та часть, где вы описываете освобождение Сакраменто от испанского ига, а также роль, которую наша страна играла в составе мексиканской империи Итурбиде и позднее в Центральноамериканской конфедерации, в общем правильна.
— Что же тогда вам представляется ошибочным?
— Всё остальное.
Гленда выпрямилась.
— Такой неопределённой критики я принять не могу. Укажите конкретные ошибки, процитируйте неправильные положения. Почему вы не принесли рукопись?
Во рту у неё был неприятный вкус от пряностей в начинке пирожка. Гленда открыла сумочку и положила в рот таблетку магнезии.
— Прежде всего, — сказал Пабло, закуривая вторую сигарету, — истинная история Сакраменто не так проста, как вы её изображаете, она намного интереснее и гуманнее той официальной версии, которую нам навязывают в учебниках.
— Я не понимаю, куда вы клоните…
— Как настоящая американка, которую с детства пичкают рассказами о бандитах и храбрых ковбоях, вы искали этих героев и этих бандитов и в истории моей страны. А дело совсем не так просто. Вы нарисовали картину крупными мазками, используя лишь несколько красок, и получился грубый плакат, лишённый оттенков.
Гленда растерянно покачала головой.
— Давайте говорить конкретнее. Права ли я в своей оценке дона Антонио Марии Чаморро? Разве он не был жестоким диктатором, правившим Сакраменто в течение четверти века?
Горячность девушки забавляла Пабло.
— В вашей работе дон Антонио Мария выглядит обыкновенным бандитом, грубым и невежественным. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление.
— Кем же он был на самом деле? Святым? Учёным?
— Немного святым, немного учёным, но в основном невротиком.
Гленда нетерпеливо вздохнула и проглотила остатки пирожка.
— Я жду вашего толкования истории Сакраменто.
— Что ж… в 1899 году дон Антонио Мария Чаморро, которому тогда было лет пятьдесят с небольшим, врач, никогда не практиковавший, и отпрыск богатого семейства из нашей так называемой сельской аристократии, выставил свою кандидатуру на пост президента республики от либеральной партии, уже около двадцати лет находившейся в оппозиции. Побеждённый кандидатом от консерваторов, он заявил, что стал жертвой махинации, задуманной политиканами и полицейскими. Антонио Мария и руководители оппозиции организовали заговор, и в 1900 году при поддержке значительной части небольшой в то время национальной армии он захватил власть, устроив государственный переворот…
— Всё это есть в моей диссертации, — заметила Гленда.
— Знаю. Вдохновлённый примером дона Порфирио Диаса, мексиканского диктатора, но всё же больше своими политическими и государственными планами, Чаморро распустил конгресс и основал, по его собственному выражению, «временную патерналистскую диктатуру». Программа Антонио Марии предполагала, что за время этой диктатуры сформируется правящая элита и просветится народ, который потом сможет сознательно пользоваться правом голоса. Для осуществления этой программы Чаморро оказал всестороннюю поддержку старому федеральному университету, выделил значительные ассигнования, увеличил жалованье профессорам и выписал новых из Франции и Германии. Кроме того, он велел развернуть по всей стране строительство начальных школ.
— Что так и не было осуществлено, — прервала его Гленда.
— Верно. Но слушайте дальше… Дон Антонио Мария был гуманистом и меценатом: он посылал за государственный счёт артистов и учёных в Европу… Прекрасный знаток истории, музыки и поэзии, влюблённый в Древнюю Грецию и Рим, он пытался сделать Серро-Эрмосо столицей искусств, как Людовик Баварский — Мюнхен. Он хотел, чтобы Серро-Эрмосо стал американскими Афинами.
— Но это не помешало ему впоследствии получить прозвище Карибский Шакал.
— Которого на мой взгляд он не заслужил. Я не защищаю «временную патерналистскую диктатуру» дона Антонио, как и любую другую тиранию. Однако хочу, чтобы вы представили себе этого человека, Гленда. Он был рослый, с высоким, благородным лбом, белокурой бородой, голубыми глазами, широкоплечий, чем-то похожий на мексиканского императора Максимилиана. Он отказался от титула Великолепный, а также от звания почётного генерала армии. В душе он был сторонником народного, несколько патриархального правления. Ему нравилось, когда его именовали Покровителем, и он был счастлив узнать, что в народе его называют Папашей.
— Папаша! Возможно он и был им вначале, до того, как проявилась его подлинная, деспотическая натура.
— Подлинная натура? Что это такое, знает только бог.
— Бог и вы, Пабло.
Ему понравилась ирония, прозвучавшая в голосе Гленды.
— Верно. Бог и я. Представьте дона Антонио Марию в старинном дворце, где он устраивает балы, литературные диспуты, концерты, — его любимыми композиторами были Берлиоз и Вагнер, — бои цветов…
— А народ тем временем умирает с голоду.
— Он продолжает умирать и по сей день. Но это другой вопрос… Разрешите, я продолжу… Одной из многих ошибок дона Антонио Марии было то, что он жил, запершись в своём дворце, или, вернее сказать, в мире, созданном его воображением. Он не хотел знать, что происходит в его стране, и всё своё время проводил за подписанием бумаг, разработкой грандиозных государственных проектов, за чтением греческих и римских классиков, или игрою в шахматы со своим лучшим другом — доном Эрминио Ормасабалем, архиепископом-примасом Сакраменто. Он всегда вставал на рассвете, и утренние часы посвящал исследованию об Аристотеле, которое писал долго, но так и не закончил. И чтобы иметь возможность вести такую жизнь, он отдал провинции на произвол своих губернаторов, почти без исключения происходивших из сельской аристократии, землевладельцев, скотопромышленников, хозяев сахарных заводов, в общем людей, которые вели себя как феодалы, отбирая у мелких собственников их земли, жестоко эксплуатируя крестьян. Чаморро требовал от своих губернаторов политической лояльности и сыновнего послушания, и, разумеется, полной поддержки.
Гленда встала, закурила сигарету и, выпустив дым, спросила:
— Неужели вам кажется правдоподобным, что умный человек двадцать пять лет питал такого рода иллюзии?
— Да. Его министры и приближённые делали всё, чтобы эти иллюзии сохранить. Начальник полиции терроризировал прессу, а Покровитель читал только правительственную газету. Рыхлой и робкой оппозиции противостояла вооружённая до зубов армия. Дон Антонио Мария, очень напоминающий персонажей Пиранделло, в конечном счёте был пленником.
— Чьим?
— Своего невроза, ибо всё говорило о том, что он был шизоидом. К тому же политически он был в плену у своих приближённых, которые прикрывались его именем, поскольку для страны и в какой-то степени для всего американского континента он стал авторитетной фигурой. И знаете, кто возглавлял тюремщиков, стоящих за его троном? Жена Чаморро.
— Донья Рафаэла?
— Именно. Честолюбивая, властная и тоже патологическая личность, о которой вы забыли в своей диссертации.
— Я не собиралась писать роман, — отпарировала Гленда.
— История только бы выиграла, если бы время от времени её писали, как роман…
Он замолчал, и они оба посмотрели на дверь; ручка её с шумом задвигалась. В соседней комнате послышались чьи-то шаги и голоса.
— Донья Рафаэла вместе с некоторыми министрами, — продолжил Пабло, — создала на редкость эффективную систему угнетения и подкупа, которая обеспечила ей и её компаньонам фантастические прибыли.
— Труды ваших историков называют Чаморро всемогущим главарём этой шайки.
Пабло отрицательно покачал головой.
— В период правления Чаморро американский капитал прочно проник в Сакраменто. Однако контракты между правительством и нью-йоркскими банкирами попадали сначала к донье Рафаэле, которая рассматривала их вместе со своими сподвижниками. И ни один документ не утверждался без её санкции… В период с 1905 по 1915 год «Шугар Эмпориум» купила земель на сорок миллионов долларов, чтобы разбить на них плантации сахарного тростника и построить сахарные заводы. В то же время знаменитая «Юнайтед Плантэйшн Компани», известная под сокращённым названием ЮНИПЛЭНКО, одним внушающая страх и восхищение, другим ненависть, обосновалась в Сакраменто и занялась производством и экспортом бананов, какао, сизаля, чикле и растительных масел. Все железнодорожные предприятия страны стали контролироваться американским капиталом. Та же участь постигла электрические и телефонные станции. За льготы фирмам, сделавшим капиталовложения, донья Рафаэла и её компаньоны получили свою долю в акциях либо деньгами.
— И вы хотите, чтобы я поверила, будто Чаморро слушал Берлиоза и писал свои исследования об Аристотеле, пока совершались эти сделки?
— А почему бы и нет? Он был в восхищении от прогресса страны. Сакраменто привлекало иностранные капиталы! Старая железная дорога, рассчитанная на малые скорости, была заменена более современной… Снабжение электроэнергией возросло, телефонная сеть расширилась. ЮНИПЛЭНКО и «Шугар Эмпориум» построили несколько портов, осушили берега рек и низменные болотистые места, оздоровили побережье, где зверствовала малярия… Когда дон Антонио Мария посещал провинции, что случалось редко, ему устраивали торжественные, пышные встречи, подготовленные провинциальными властями: мальчики и девочки махали флажками, женщины и девушки бросали розы, толпа кричала: «Да здравствует наш Покровитель!» И Чаморро возвращался к себе во дворец, убеждённый, что правит счастливым народом, который его боготворит!
Гленда раздавила окурок о дно пепельницы, взглянув на Пабло подобревшими глазами.
— А потом? — спросила она.
— Значит, вы всё же интересуетесь моей историей?! Потом… Потом донья Рафаэла не только держала мужа под башмаком, но ещё и обманывала его.
— С доном Эрминио Ормасабалем? — спросила Гленда с самым серьёзным видом.
— Со многими. Но предпочитала офицеров не старше тридцати лет. Ей было уже под пятьдесят, когда она воспылала страстью к молоденькому офицеру, но скоро надоела ему, и он завёл себе другую любовницу — знаменитую донью Виридиану Ортис, одну из самых красивых и обаятельных женщин в Серро-Эрмосо. Как вы думаете, что сделала донья Рафаэла, когда узнала об измене?
— Велела отравить соперницу?
— Нет. Её месть была более тонкой. Убедившись в том, что навсегда потеряла лейтенанта, она приказала специалисту из тайной полиции кастрировать его. Затем, положив вещественные доказательства операции в шкатулку, обитую внутри зелёным бархатом, она отправила их в подарок донье Виридиане в сопровождении записки, деликатно объясняющей суть дела. Говорят, донья Виридиана упала в обморок…
— Пабло! — воскликнула Гленда с искажённым от ужаса и отвращения лицом.
— Простите мне этот натуралистический штрих, он не для вашей диссертации. И всё же я считаю донью Рафаэлу незаурядной личностью. В семьдесят на неё напала набожность: она приняла покаяние, занялась благотворительностью, получила титул Матери бедных, исповедовалась перед доном Панфило, который был тогда монсеньором, посещала все службы, ежедневно причащалась… За год до падения Чаморро она удалилась в монастырь, где и скончалась, как святая. Незадолго до смерти у неё, говорят, было видение: сонмы ангелов на розовых облаках летали, играя на арфах, вокруг её постели, готовые отнести её к богу. Некоторые даже утверждали, будто бы видели на руках умирающей следы распятия.
— Вы циник, Пабло.
Он лишь улыбнулся и выпил немного шампанского. Наступившее молчание нарушила американка.
— Почему же официальная история Сакраменто опускает все эти факты?.. Я хочу сказать, деспотизм и продажность доньи Рафаэлы?
— Сакраментские историки рыцари! Зачем посмертно порочить первую даму страны? Больше того, архиепископ-примас, который сразу приспособился к новой политической ситуации, добился от Хувентино Карреры, чтобы память его подруги свято почиталась. Самым простым, разумеется, было представить дона Антонио Марию шакалом, что вы и сделали в своей диссертации.
Гленда вздохнула, и Пабло не понял, был ли это вздох покорности или нетерпения.
— А Хувентино Каррера?
— Прежде чем говорить о Каррере, вспомним Хуана Бальсу, разорённого мелкого земледельца, который в 913 году собрал и вооружил группу крестьян и укрылся в горах Сьерры, откуда он спускался время от времени, чтобы нападать на патрули и казармы, добывать в деревнях и посёлках продовольствие, оружие и боеприпасы. Вскоре слава о его подвигах разнеслась по всей стране, народ любил его как олицетворение свободы. Эти партизанские набеги, продолжавшиеся целых два года, изнуряли плохо вооружённую и скудно оплачиваемую федеральную армию. Донья Рафаэла не могла помешать мужу узнать о существовании мятежников, но изобразила партизан Хуана Бальсы бандитами. Когда же вспыхнули пожары на плантациях «Шугар Эмпориум» и ЮНИПЛЭНКО, правительство Сакраменто официально обратилось к Соединённым Штатам с просьбой прислать полк морских пехотинцев, чтобы помочь национальной армии изловить «поджигателей». В 1915 году морская пехота США высадилась в Соледад-дель-Мар и через несколько месяцев взяла в плен Хуана Бальсу, который был передан сакраментским властям и расстрелян однажды ранним утром…
— Ни одна газета, выходящая в Серро-Эрмосо или Пуэрто Эсмеральде, ни единым словом не упоминает о просьбе сакраментского правительства помочь ему взять в плен Хуана Бальсу и его товарищей.
— Конечно. Такого рода сообщение могло смутить покой дона Антонио Марии и его благородного двора, с другой стороны, оно означало бы крайне нежелательное признание в бессилии национальной армии. Было сообщено лишь, что правительство Чаморро разрешило батальону солдат дружественного североамериканского государства произвести учебную высадку десанта в определённом пункте территории Сакраменто.
Гленда улыбнулась впервые с тех пор, как вошла в здание посольства.
— Если то, что вы мне рассказываете, правда, моя диссертация не стоит и ломаного гроша. Впрочем, продолжайте.
— Наступает 1925 год. Донья Рафаэла покоится в лоне Авраамовом. Дон Антонио Мария стал законченным шизофреником. Дряхлый, согбенный, печальный, с совершенно белой бородой, он бродит по залам дворца, разговаривая с призраками. В правительстве разброд, в народе недовольство. Курс луны падает. Создаются оппозиции и заговоры. Университет становится рассадником смут. Армейские офицеры, как правило средний состав, вступают в айный сговор с революционными лидерами. Назначена дата восстания: пятнадцатое июня…
— Однако революция вспыхнула двенадцатого апреля…
— Потому что один из героев вашей диссертации, лейтенант Хувентино Каррера, которому было поручено в условленный день и час поднять полк в Лос-Платанос, где он служил в интендантских частях, выступил раньше… В своей диссертации вы объясняете эту поспешность темпераментом двадцативосьмилетнего офицера.
— А разве я не права?
— На самом деле одним апрельским вечером 1925 года командир полка вызвал к себе Карреру и сказал ему: «Только что мы обнаружили, что вы присваивали себе деньги из полковой кассы. В ней не хватает ста тысяч лун! Нам давно казался подозрительным ваш широкий образ жизни. Даю вам сорок восемь часов, в течение которых вы должны внести эту сумму!» Тут-то лейтенант и проявил свою храбрость. Не колеблясь ни минуты, он выхватил револьвер и всадил в полковника три пули. Затем выскочил из кабинета, призывая к восстанию. Через час офицеры, которые не примкнули к мятежу, были захвачены в плен или убиты. Каррера приказал сжечь полковой архив, и обратился к нации с воззванием, где говорилось, что пробил час свободы и тому подобное. Удивлённые революционеры вначале недоумевали, но вскоре поддержали восстание. Тем временем Каррера во главе отряда в шестьсот солдат направился в Сьерра-де-ла-Калаверу, предварительно разгромив пятый пехотный полк Соледад-дель-Мар, который не пожелал тотчас примкнуть к нему. Началась партизанская война, которую вы, Гленда, описали так ярко… И Хувентино Каррера, которому в революции сначала отводилась очень скромная роль, стал во главе этой революции. Остальное вам известно. Через шесть месяцев Каррера вступил в Серро-Эрмосо, где у ворот его встречал архиепископ дон Эрминио, пожавший ему руку, вручивший ключи от столицы и попросивший помиловать дона Антонио Марию, который в тот час, наверное, завтракал в обществе Людовика Баварского, Вагнера, Плутарха и Платона…
Гленда почувствовала лёгкую тошноту. Проклятый пирожок! Она сунула в рот ещё одну таблетку магнезии.
Пабло снова наполнил свой бокал.
— В день парада в честь победы на правительственной трибуне рядом с Каррерой стоял молодой человек немногим старше двадцати лет. Это был наш Габриэль Элиодоро, адъютант Карреры, которому он как-то в горах спас жизнь. — Пабло отпил вина. — Теперь мы подходим к той части вашей диссертации, в которой вы утверждаете, что революционное правительство отнеслось к побеждённым справедливо и великодушно, и которую я считаю целиком ошибочной. Всё это чистейший вымысел: в Сакраменто по крайней мере неделю царил террор, несмотря на протесты архиепископа-примаса. Были созданы знаменитые «революционные трибуналы», чинились скоропалительные суды над членами низложенного правительства, производились расстрелы. Трое суток опьянённое победой и ромом простонародье с разрешения Карреры грабило город, поджигало дома министров Чаморро, насиловало их жён и дочерей… Начальника полиции линчевали, а затем на площади выставили его изуродованное тело… Архиепископ-примас, пришедший в ужас от этих зверств, попытался говорить с Каррерой, но тот объяснил, что смотрит сквозь пальцы на эти «проявления народного ликования», потому что народ — чёрт возьми! — целых двадцать пять лет страдал под игом Шакала и теперь «отводил душу». Однако, чтобы не раздражать прелата, он тут же вывел на улицы регулярные войска, которые восстановили порядок. Через несколько недель Каррера ликвидировал революционные трибуналы, велел прекратить расстрелы и в речи, произнесённой с балкона правительственного дворца, объявил, что в республике Сакраменто начинается новая эра, эра порядка, мира, процветания и справедливости. Рассказывают, что стоящий рядом с Хувентино Каррерой архиепископ дон Эрминио Ормасабаль величественно кивал головой, подтверждая слова нового руководителя нации… В тот день моросил дождь, было сыро, и архиепископ дважды чихнул. На следующий день он слёг в постель с высокой температурой: у него открылось двустороннее воспаление лёгких. Не забывайте, Гленда, что тогда ещё не было антибиотиков. Спустя неделю дон Эрминио отдал богу душу. Дон Панфило Аранго-и-Арагон, любопытнейшая фигура, в которой смешались политик, священник, учёный и светский человек, был избран на место своего старого друга и покровителя. Но это уже совсем другая история…
16
Габриэлю Элиодоро удалось увлечь Росалию в небольшой зал, расположенный в глубине восточного крыльца. Он зажёг свет, закрыл дверь на ключ и, прижав любовницу к себе, впился в её губы так, что Росалия застонала.
— Ты меня задушишь, — сказала она, наконец оторвавшись от его губ и откидывая голову назад.
Росалия приникла к его груди и осталась так, едва переводя дыхание и прислушиваясь к биению сердца, то ли собственного, то ли Габриэля, а может, их сердца стучали вместе. Габриэль продолжал крепко держать её в объятиях, целуя волосы, гладя по спине и бёдрам. Росалия чувствовала, как он прижимается к ней всем телом. Когда-то их семейный врач, жёлтый, лысый и тощий карлик, одетый во что-то отдалённо напоминавшее белый халат, сказал ей, вертя в руках стетоскоп: «У вас особый организм, все эмоции вы будете переживать острее, чем другие люди. Но не беспокойтесь — это не перерастёт в болезнь…» Если стихи, музыка, фильм или пьеса чем-то волновали её, трепет охватывал всё существо Росалии. И сейчас она не сомневалась, что после этих бурных объятий будет чувствовать себя разбитой.
— Я хочу, чтобы эту ночь ты провела со мной, — прошептал Габриэль, нежно укусив её за ухо.
— Но как? Что я скажу Панчо?
— Что хочешь…
— Это невозможно! Позавчера ночью он ворвался ко мне в спальню и не ушёл, пока силой не заставил меня лечь с ним…
— Вы спали вместе?
Росалия ответила не сразу.
— Он угрожал меня избить… У меня не было другого выхода.
— Сукин сын!
— Ты забываешь, что он мой муж.
— Да, но я твой любовник.
Росалия всё ещё держала голову у него на груди.
— Я не вынесу больше этого, — сказала она тихо. — Моя жизнь — сущий ад. Если мы дома и сидим в гостиной друг против друга, а это случается редко, он молча глядит на меня собачьими глазами, грустными, полными страдания… Вздыхает, пускает бумажных голубей, снова глядит на меня, будто хочет что-то сказать, но не решается. А когда приходит время ложиться спать, он умоляет меня, чтобы я не запирала двери спальни. — Росалия помолчала, рассеянно поправив платок в кармане Габриэля. — А то вдруг на него нападает приступ ярости, он угрожает убить меня, покончить с собой, устроить скандал, выброситься из окна, утопиться… Сегодня, когда мы собирались на приём, он разразился рыданиями, а у меня не хватило мужества спросить, почему он расплакался. Потом он стал что-то рисовать цветными карандашами, совершенно не обращая на меня внимания… На ночь он принимает снотворное, чтобы заснуть, а утром глотает таблетки, чтобы бодрствовать. Что будет с нами со всеми? Что?
Вместо ответа Габриэль стал снова целовать её в губы, теперь скорее нежно, чем страстно.
— Останешься?
— Но как?
— Я велю Угарте придумать какую-нибудь срочную работу, чтобы задержать Виванко до рассвета. Мы скажем, что ты отправишься ночевать к Нинфе.
— Это безумие!
Габриэль отпустил её. Росалия выпрямилась, и какое-то время они молча смотрели друг на друга. Потом у Росалии вырвались слова, которые давно вертелись у неё на языке:
— Ты думаешь, я не видела, как ты смотришь на американку?
— На то бог и дал глаза, чтобы смотреть.
— Признайся, ты влюбился в неё!
— Ни один нормальный мужчина не может оставаться равнодушным к красоте женщины.
— Ты хочешь спать с этой грингой?
Габриэль Элиодоро улыбнулся.
— А ты хотела бы услышать правду?
— Конечно!
— Тогда знай, что я хочу и буду спать с ней, но никогда не перестану желать тебя, как сумасшедший, потому что ты моя законная жена!
И он увидел Франсискиту: в кружевном чепце и пеньюаре она пьёт в постели чай с гренками…
Росалия повернулась к любовнику спиной, подошла к зеркалу и стала приводить себя в порядок. Габриэль Элиодоро смотрел на неё, чувствуя, что дрожит от желания. Росалия принадлежала ему, но теперь он желал и ту, лучезарную богиню. Конечно, такой женщины, как Росалия, ему не найти. Но у Фрэнсис Андерсен была гордость, которую ему хотелось сломать, и чистота, которую ему хотелось запачкать. В этой белокурой и белокожей женщине, хотя у неё, очевидно, было немало похождений, Габриэль обнаружил невинность и должен был теперь лишить её этой невинности.
Росалия, наблюдавшая за послом в зеркало, сказала:
— Сотри платком помаду с губ и почисти лацканы, они в пудре.
— Это мои ордена, — улыбнулся Габриэль. — Мужчины будут завидовать мне, когда их увидят.
Тогда Росалия своим платочком вытерла ему губы, а затем отряхнула лацканы.
— Пора возвращаться в зал.
— Да, любовь моя.
У двери он опять шепнул:
— Так останешься ты или нет?
— А почему бы тебе не пригласить американку?
— Твоя ревность возбуждает меня ещё больше! Оставайся. Обещаю, что это будет лучшая ночь в твоей жизни.
— Не знаю, не знаю. Ради бога, дай мне подумать!
Росалия открыла сумочку, вынула из неё маленький флакончик с таблетками берельгаля, вытряхнула на ладонь пару таблеток и положила их в рот.
— Кто выйдет первым? — спросила она.
— Выйдем вместе, жизнь моя.
Габриэль Элиодоро открыл дверь, взял любовницу под руку и повёл к парадному залу, однако Росалия решила зайти в дамскую комнату, чтобы привести свои мысли в порядок. Посол появился в зале один.
Первым, кого он увидел, был Годкин, который спокойно покуривал трубку, прислонившись к дверному косяку и наблюдая за растущим оживлением гостей.
— Рыжий Гринго! — воскликнул посол, потрепав журналиста по плечу. — Почему, дружище, вы до сих пор не зашли ко мне? Я уже больше недели в Вашингтоне… Неужели вы ожидали приглашения? У нас в посольстве вы у себя… Думаете, я забыл нашу встречу на Сьерре-де-ла-Калавере? Доктор Молина! — Он заметил министра-советника и жестом пригласил его подойти. — Этот негодяй, — улыбнулся посол, кивнув в сторону Годкина, — писал всякие гадости про наше правительство. Смотрите, Билл, генералиссимус зол на Амальпресс. В конечном счёте вы проявили неблагодарность по отношению к нему.
Билл Годкин, который давно ждал этого упрёка, в ответ тоже улыбнулся и продолжал покуривать трубку.
— Вам нужно побывать в Сакраменто, — продолжал посол. — Сами увидите, что сделал для нашей страны Освободитель. Считайте это официальным приглашением. Доктор Молина, надо будет потом всё оформить. Обязательно приезжайте, Билл, когда вам будет угодно. Все расходы за наш счёт. Посмотрите дома, которые правительство строит для рабочих, дороги, которые проложены за последние три года… Вы убедитесь, что наш конгресс работает без всяких помех, пресса свободна и народ счастлив. Почему вы называете моего кума диктатором? Как это возможно?
Но, увидев, что из столовой выходят под руку Фрэнсис Андерсен и Титито Вильальба, посол тут же забыл о журналисте и устремился навстречу паре, подумав с некоторым раздражением: «Неужели ей нравятся только извращённые типы?»
Д-р Молина перекинулся несколькими словами с Годкином, но вскоре был увлечён куда-то высоким господином, одетым в чёрное, наглухо застёгнутое платье с белым воротничком. Когда двое мужчин скрылись, Годкин вспомнил, кто этот священник. Конечно! Светский падре был непременным гостем на приёмах в латиноамериканских посольствах. Автор хвалебной биографии Благодетеля под названием «Портрет Трухильо», он славился своей слабостью к диктаторам и орденам, и уже был награждён Пересом Хименесом, Рохасом Пинильей, Анастасио Сомосой и Рафаэлем Леонидасом Трухильо. Судя по всему, его последняя статья о Хувентино Каррере сулила ему по меньшей мере орден Серебряной пумы.
Снова оставшись один, Годкин раскурил погасшую трубку и спросил у любимого призрака: «Как всё это объяснить, Рут? Какой дать на всё это ответ?» Жену он вспомнил такой, какой видел накануне смерти — худой и бледной, медленно угасавшей в постели. Прежде чем уйти навсегда, Рут попросила его продолжить поиски. Возможно, когда-нибудь он сумеет понять язык бога… и разместить в единственно правильном порядке прекрасные слова, которые Создатель рассеял по миру, воплотив в красках неба, величии звёзд, цветах, смехе детей, чистоте озёр, оперении птиц, тайнах морских глубин, а также наградив человека способностью любить и творить красоту… Пока Рут своим слабым голосом говорила это, ему пришла озорная мысль (ах, как он раскаивается в этом сейчас!) спросить у неё, какая роль отведена в божественном синтаксисе таким словам, как «рак», «проказа», «война», «ненависть» и «уничтожение»… Вот и сейчас Билл напрасно пытался разместить слова так, чтобы они имели смысл, хотя бы в самой примитивной фразе.
Несколько минут священник распространялся о Хувентино Каррере, с которым имел честь познакомиться во время посещения Сакраменто около года тому назад. Молина слушал его не особенно внимательно и лишь кивал время от времени. Священник его раздражал, поэтому он вздохнул с облегчением, когда тот наконец оставил его, устремившись навстречу колумбийскому послу.
Молина снова оказался в одиночестве, в своём чрезвычайно приятном одиночестве среди сотен гостей. Ему доставляло какое-то сладострастное удовольствие бродить среди людей, никого не любя, никем не интересуясь, никому не принадлежа, лишь ловя обрывки разговоров на разных языках. Какая пустота! Какое лицемерие! Его раздражала открытая улыбка советского посла, который на хорошем английском языке сообщал послу Франции о том, что до 1970 года Россия собирается высадить на Луне не менее двух космонавтов. Но и опасная наивность чиновников госдепартамента, служащих латиноамериканского бюро, всех этих «специалистов», этих верзил с телосложением атлетов и невыразительными лицами, влюблённых в статистику и полагающих, что думать за них будут электронные машины, не вызывала у него ни малейшей симпатии.
Земляки раздражали его, а иной раз и заставляли краснеть. Несколько минут назад он подслушал забавный разговор двух девушек из Сакраменто, которые стояли перед полотном Ван Гога. «Кто написал эту картину?» — спросила одна из них. Другая взглянула на подпись и сказала: «Бан Го». Первая повторила: «Банго?» — «Это тот художник, что отрезал себе ухо. Разве ты не видела фильм о нём?»
Молина почувствовал боль в спине, и ему захотелось лечь тут же, на твёрдые доски пола, чтобы боль утихла. Хорошо бы сейчас в постель. Молина взглянул на свои часы. Почти половина девятого… Посмотрел по сторонам: все вокруг с прежним энтузиазмом ели, пили, смеялись, разговаривали…
Незадолго до этого Молина видел, как Габриэль покидал приёмный зал под руку с любовницей. И этот мошенник, грубый, примитивный и наглый — посол Сакраменто в Соединённых Штатах! А что у него есть, кроме внешности и нахальства? О чём думал президент Каррера, когда назначал своего кума на этот пост? Дон Альфонсо Бустаманте, должно быть, в гробу перевернулся.
В двух шагах от себя Молина заметил посла Ганы. Красавец негр улыбнулся ему, но Молина лишь кивнул и пошёл дальше. Он не был расистом, как американцы, и всё же не очень любил негров и без всякого удовольствия встречался на приёмах с представителями новых африканских государств. Государств? Да, так теперь назывались конгломераты полуварварских, а то и совершенно диких племён. Многие сейчас твердили о «конце колониализма». Однако мир ещё пожалеет о той поре, когда солнце не заходило над Британской Империей! И так или иначе в этом нелепом размножении африканских государств виноваты интеллигенты вроде Леонардо Гриса, эти пресловутые либералы, которые только и делают, что говорят и пишут о свободе и самоопределении, будто свобода возможна там, где не осознана ответственность, где вообще нет сознательности, и будто возможно самоопределение этих псевдонаций, сформировавшихся (или деформировавшихся) из племён, которые пожирали друг друга не только в фигуральном, но и в прямом смысле слова.
Резко повернувшись, чтобы увидеть, кто так раскатисто хохочет, Молина почувствовал колющую боль, которая пронзила его от затылка до пальцев левой руки. На несколько секунд он застыл, сжав зубы и тихонько постанывая. Когда полегчало, он подумал, что лучше всего ему сейчас сесть на стул с высокой и твёрдой спинкой. Молина направился в библиотеку, моля бога (бога?), чтобы там никого не было. Он взял бы какую-нибудь книгу и читал бы, пока не кончится этот противный праздник.
Консул посмотрел вслед министру-советнику. Он не любил д-ра Молину, однако уважал его. Его, Виванко, тоже никто не любит, подумал он, вздохнув, но и не уважает. Не уважает себя даже он сам. Ведь он рогоносец. Рогоносец и трус. Все знают, что его жена спит с послом. Он чувствовал это по тому, как на него смотрят: одни с жалостью, другие с издёвкой, и очень многие с презрением.
Он повернулся и, увидев своё изображение в венецианском зеркале, обругал себя последними словами. В нём сейчас словно было заключено три человека: один, полный бешеной ярости, оскорблял другого, грустного и подавленного, а третий, осуждая оскорбителя, сочувствовал второму. Сочувствовал, но не любил.
Резко отвернувшись от зеркала, Виванко решил, что выражение слабости ему придаёт стёсанный безвольный подбородок. Он тщательно, не торопясь, протёр платком очки, надел их и отправился бродить по залу без определённой цели. Где Росалия? Где посол? Нельзя было терять их из вида, и в то же время Панчо боялся, что кто-нибудь заметит, как он за ними следит. Когда ему казалось, что кто-то догадывается, кого он разыскивает, Виванко принимал равнодушный вид и, тихонько насвистывая, опускал руку в карман, где начинал крутить бумажную трубочку.
Интерес Габриэля Элиодоро к прекрасной американке, которую привёл Титито, вызвал в Панчо странное и ему самому не понятное чувство. Если посол влюбится в белокурую красавицу и забудет Росалию, ему, Виванко, очевидно, удастся вернуть жену. Он попросит перевода в другую страну, и они начнут там новую жизнь. И в то же время он ощутил себя едва ли не оскорблённым, заметив, как Габриэль Элиодоро пожирает глазами американку и ухаживает за ней напропалую.
Наконец Росалия вернулась в зал, и Панчо сразу заметил, что жена плакала… Он знал это её выражение… Что же случилось за время, пока Росалии и её любовника не было в зале? Неужели они поднимались в спальню? А она уже поглядывает по сторонам, наверняка разыскивает посла. «Шлюха! Потаскуха!» — мысленно кричал он, но у этих слов не было даже эха.
Два дня назад он чуть не избил Росалию, чтобы заставить её лечь с собой. Плача, она отдалась ему, и это не только не остановило его, но сделало его желание ещё сильнее. «Пожалуйста, Панчо, погаси свет». — «Нет, дорогая, я хочу видеть твоё лицо». — «Ради бога, скорее, я умираю от усталости». Тут он набрался храбрости: «Спала сегодня с послом?» — «Оставь меня в покое!» — «Отвечай!» Она в изнеможении закрыла глаза. «Если знаешь, зачем спрашиваешь?» Тогда он начал раздевать её со сладострастной медлительностью. Росалия лежала неподвижно, закрыв глаза, а он целовал её тело жадно, торопливо, задыхаясь. Её равнодушие приводило его в отчаяние, похожее на безумие. «Тебе нравится его гигантский рост?» Она продолжала молчать, а он кусал ей шею, грудь, бёдра, ноги. Ему казалось, что тело её хранит запах Габриэля. «С ним ты узнаёшь подлинное наслаждение, так, что ли?» Слёзы катились по её щекам, она кусала губы, чтобы не разразиться рыданиями. Наконец, весь дрожа, он с яростью овладел ею, и ему казалось, что тот, другой, находится тут же. В непереносимом, до боли, упоении, он застонал, будто раненый. Росалия, оттолкнув его, соскочила с постели, заперлась в ванной. Панчо остался лежать, обнимая подушку, и вдруг зарыдал горько, как ребёнок.
17
Теперь Гленда стояла, опершись о письменный стол, а Пабло расхаживал по комнате. Они всё ещё говорили о Хувентино Каррере.
— Разве он плохой президент? — спрашивала Гленда. — Ведь он немедленно провёл выборы в учредительное собрание, после чего, менее чем через шесть месяцев, была принята новая конституция.
Пабло слушал её, продолжая расхаживать, положив руки в карманы и кивая в знак согласия.
— Которое избрало генералиссимуса президентом республики на пять лет.
Гленде захотелось спросить Пабло, почему он служит правительству, в искренность которого не верит, но она удержалась. Кажется, он выпил лишнего, поэтому и говорит без умолку, судорожно выталкивая слова, за которыми скрывает свои истинные мысли… Но от чего? От кого? И зачем?
— Перестаньте расхаживать, Пабло!
— Хорошо, но тогда сядьте рядом со мной и не бойтесь.
— Разве эти годы не были относительно спокойными для вашей страны, когда печать была независима, а конгресс не испытывал давления извне?
Пабло пожал плечами.
— Независимая печать? Да такой вообще не существует на свете! В странах с тоталитарными режимами её контролирует правительство. В так называемых «демократических» странах она подчинена интересам экономических группировок, которые в большей или меньшей степени оказывают давление на органы власти.
— Ваша мания всюду видеть скрытые пружины раздражает меня.
— А почему я должна бояться?
Ортега сел на софу. Гленда тоже. Однако между ними оставалось расстояние. И не только в прямом смысле, подумал Пабло. Что, если он попытается поцеловать её? Как она будет реагировать? Конечно, решит, что он хочет овладеть ею… Руки Гленды лежали сплетёнными на коленях, разумеется, чтобы он не мог взять их в свои.
Гленда посмотрела на часы.
— Уже почти час мы сидим здесь. Вам, наверное, пора вернуться к гостям?
— Пора, но не хочется. Мы подошли к самому интересному — по крайней мере для меня — периоду истории Сакраменто.
Он искоса поглядывал на стройные ноги Гленды, на её вздымавшуюся нежную грудь.
— В первые недели своего правления, — продолжал он, — Хувентино Каррера принял директоров «Шугар Эмпориум» и ЮНИПЛЭНКО, чтобы определить взаимный modus vivendi. По-моему, это и положило начало сказочному обогащению Освободителя.
Гленда недоверчиво покосилась на Пабло.
— Очень скоро правительство Карреры было признано Соединёнными Штатами, и в Серро-Эрмосо появился новый посол, ибо прежний был сотрапезником дона Антонио Марии Чаморро, хотя, наверно, так и не заметил, что за стол Шакала вместе с ним садились такие выдающиеся личности, как Эразм Роттердамский, Леонардо да Винчи, Наполеон…
— Вы можете хоть когда-нибудь говорить серьёзно?
— Нет, потому что, в сущности, я мрачный человек.
Пабло понимал, что алкоголь развязал ему язык, но мысли сохраняли ясность.
— Слушайте дальше, Гленда, — он снова закурил, положив ногу на ногу. — Пять лет спустя генералиссимус, как и следовало ожидать, снова выставил свою кандидатуру на выборах. Его противником был никому не известный кандидат от оппозиции, которому удалось собрать смехотворно малое количество голосов. Правительственная избирательная машина была уже смонтирована и работала без перебоев. Полковник Угарте, этот индеец, наряженный в генеральскую форму, которого вы, должно быть, видели в приёмном зале, создал самую мобильную и самую жестокую во всей Латинской Америке полицию. И тогда для Сакраменто начался период крупнейших финансовых махинаций и расхищения казны под сенью демократической конституции. Наш Габриэль Элиодоро, товарищ Карреры по партизанской войне, несмотря на свою молодость, играл исключительно важную роль в правительстве. Он был чем-то средним между телохранителем, адъютантом, public relations man и по совместительству министром без портфеля. А на самом деле — посредником между Каррерой и теми, кто хотел вступить в деловые контакты, а вернее, в сделку с властями. В общем, торговал влиянием. Живой, обаятельный, смелый, он обычно выступал в качестве подставного лица в этих тайных сделках: покупал, продавал, предоставлял концессии, освобождал от налогов, разрешал всякого рода затруднения… А в карманах Освободителя и его компаньонов оседали солидные комиссионные… Дон Габриэль Элиодоро не только наживался, но и восходил вверх по социальной лестнице.
Поначалу наша «аристократия» его не принимала, но протекция президента и архиепископа открыла перед ним двери светских салонов, и в конце концов он женился на богатой, хотя и некрасивой девушке, немного старше его. Этот брак обеспечил ему положение в Центральноамериканском банке, где он и поныне является главным директором, а также известную респектабельность, по крайней мере внешнюю.
Отчего Гленду опять затошнило? Виновата ли в этом острая начинка сакраментских пирожков или мрачные истории, которые так непринуждённо рассказывает ей Пабло? Зачем он изображает из себя циника, если он совсем не такой? Почему он уделяет ей столько времени? И почему так старательно поносит правительство, которому служит?
— Во втором пятилетии правления Карреры в Пуэрто Эсмеральде открылись казино и кабаре, и вскоре этот город стал одним из самых популярных туристских центров Американского континента. Потом в Пуэрто Эсмеральде были разрешены азартные игры. Публичные дома открывались один за другим. Все знали, что Угарте на паях владеет игорными автоматами в ресторанах и кабаре и получает проценты с хозяев домов терпимости. Я уверен, что значительная часть этих денег оседала, да и сейчас оседает в карманах Освободителя.
— Не может быть!
— Латиноамериканские диктаторы, Гленда, все на один лад. Но дослушайте эту поучительную историю. Истекал второй срок полномочий генералиссимуса. В конституции имелась статья, запрещавшая вторичное переизбрание, однако Каррере власть пришлась по вкусу. И дело не только в этом: «фабрика денег» перестала бы существовать, если бы избрали его противника. Между тем среди оппозиции началось оживление. В народе росло недовольство, среди интеллигенции, в частности, в университете, наблюдалось брожение. Некоторые газеты стали нападать на правительство. Очевидно, Каррера рассчитывал навязать избирателям своего кандидата, которым он потом смог бы управлять, как марионеткой. И всё же, поразмыслив, он не рискнул провести выборы обычным порядком. А как поступают в подобных случаях, дорогая сеньорита? Выдумывают опасность, фабрикуют заговор и принимают чрезвычайные меры. Официальная версия? Угроза коммунистического переворота.
— Но ведь эта угроза действительно существовала в тридцать пятом году в некоторых латиноамериканских республиках. В Бразилии, если не ошибаюсь, даже было восстание…
Пабло поднял руку и опустил её, словно перерезая невидимую нить.
— Оставим пока Бразилию. Начальник нашей полиции подготовил все необходимые документы, доказывавшие существование инспирированного и финансированного Москвой заговора, имевшего целью свергнуть «демократический режим» в Сакраменто. В общественных местах агенты тайной полиции Угарте швырнули несколько бомб. Инсценировано было даже покушение на жизнь Освободителя, разумеется, неудавшееся. Буржуазия испугалась. Директора и управляющие ЮНИПЛЭНКО и «Шугар Эмпориум» получили анонимные письма с угрозами. И вот в одно прекрасное утро был совершён государственный переворот. Каррера распустил конгресс, объявил осадное положение и установил диктатуру, назвав свои действия спасением нации.
— Стало быть, вы хотите сказать, что в действительности никакого заговора не было?
— Разумеется. Коммунистов в Сакраменто была жалкая горстка, в основном интеллигенция и студенты, да и они были лишь теоретиками.
Гленда не могла поверить в это.
— А как вы узнали о плане государственного переворота?
— Часть его была разработана в моём собственном доме.
— В вашем доме? — воскликнула Гленда. — Это невероятно!
— Я тоже не сразу в это поверил. Мне было шестнадцать лет, когда однажды вечером в наш особняк с таинственным видом вошли важные персоны: сеньор архиепископ, несколько друзей моего отца, помещики, как и он, директора консервативных газет, офицеры… сам Угарте. А уже потом, после переворота, событие это, естественно, обсуждалось в семейном кругу, и мать с восторгом рассказывала мне, как разрабатывались планы захвата власти.
— Вы хотите сказать, что ваш отец…
— Мой отец, Гленда, — это особая статья, и я не намерен сейчас касаться этого. Возможно, как-нибудь в другой раз… Он человек глубоко религиозный и порядочный. Справедливости ради я должен отметить, что у него были сомнения, но, видимо, он всё же поверил в ужасные документы о «заговоре», которые ему представили агенты Карреры… Для него нет ничего ненавистнее коммунизма.
— Значит, по-вашему, моя диссертация…
Пабло прервал её:
— Мы ещё вернёмся к вашей работе. Сейчас я кончу. Хувентино Каррера стал диктатором Сакраменто. Посол Соединённых Штатов был вызван в Вашингтон для консультации и неделю спустя вернулся сияющим: Америка признала де-факто ситуацию, создавшуюся в «братской республике». К этому времени в Европе возросла угроза нацизма, что косвенно помогло Каррере. Кроме призрака Сталина появился призрак Гитлера. И когда в 1939 году вспыхнула вторая мировая война, власть генералиссимуса упрочилась, ибо его страна была включена в оборонительную систему западного полушария. После нападения на Пирл-Харбор Сакраменто, вслед за Соединёнными Штатами, объявило войну Японии, а позднее Германии и Италии.
— В одной работе по истории Сакраменто, предоставленной мне доктором Молиной, я прочла, будто через несколько лет после окончания второй мировой войны Каррера решил передать власть законному избраннику народа и оставить государственную деятельность.
— Решил?! И вы верите в эти басни? Просто после победы союзников в федеральном университете зародилось освободительное движение, вдохновляемое такими людьми, как доктор Леонардо Грис и доктор Хулио Морено, которых поддерживали студенты, писатели, деятели искусств и представители средних классов… На улицах стихийно возникали митинги протеста против диктатуры Карреры, полиция пыталась их разгонять, но её встречали камнями и палками. Газеты требовали возрождения демократического режима. Посол Соединённых Штатов, и это мне известно со слов отца, посетил Хувентино Карреру примерно в конце 1948 года и дал понять, что его страна приветствовала бы восстановление демократии в Сакраменто. А через несколько месяцев после этого посещения было созвано учредительное собрание, выработавшее новую конституцию, которая была принята, и три месяца спустя, в 1949 году, состоялись выборы, в результате чего доктор Морено стал первым президентом Третьей республики Сакраменто.
— Но не будете же вы отрицать, что Морено симпатизировал красным.
— Ваш дальтонизм, Гленда, помог бы вам добросовестно трудиться в госдепартаменте. В моей классификации Хулио Морено считается либералом и гуманистом. Как и предполагалось, он создал образцовое правительство.
— С точки зрения левых, возможно. Ведь одним из первых его шагов была легализация коммунистической партии.
— Морено предоставил полную свободу всем партиям, выпустил из тюрем политзаключённых, ликвидировал цензуру для газет, распорядился провести расследование деятельности прежнего правительства и потребовал, чтобы Каррера и его компаньоны, министры и протеже объяснили правосудию и народу происхождение своих огромных состояний. Едва начались расследования, генералиссимус, который до сих пор чувствовал себя уверенно, сел в свой самолёт и бежал со всей семьёй в Доминиканскую республику, попросив убежища у кума Рафаэля Леонидаса Трухильо. Угарте последовал его примеру. А Габриэль Элиодоро остался в Серро-Эрмосо, прикрываясь авторитетом тестя и главным образом рассчитывая на свою изворотливость… Он уподобился зверю, который прикидывается мёртвым, почуяв опасность — и выжил.
— Избавившись наконец от своих врагов, — язвительно проговорила Гленда, — Морено с головой ушёл в социализацию страны, не так ли?
— На мой взгляд, он прежде всего ориентировался на средние слои и народ, когда лишал привилегий крупную городскую и сельскую буржуазию и старался установить социальную справедливость.
— Социальная справедливость — одна из фраз, к которым любят прибегать коммунисты.
— Вы ошибаетесь, мисс расистка.
Глаза девушки сверкнули.
— Моя фамилия Доремус.
— А моя — марксист.
— Вам следовало бы меньше пить.
Пабло нравилась горячность девушки, ему даже захотелось поцеловать её, однако он лишь улыбнулся.
— Во время своей эмиграции Каррера несколько раз ездил в Европу, где останавливался в лучших отелях, обливая грязью Морено и называя его «лакеем Москвы». Но обычно он жил в Санто-Доминго, затевая заговоры и подготавливая своё возвращение. Габриэль Элиодоро тоже не дремал, помогая куму, чему нисколько не мешал демократический режим доктора Морено.
— Надеюсь, вы не будете отрицать, что это так называемое либеральное правительство было явно антиамериканским?
— Буду! Доктор Хулио Морено учился в Гарвардском университете и любил вашу страну, даже преклонялся перед нею. Но он действительно распорядился лишить некоторых привилегий компании «Шугар Эмпориум» и ЮНИПЛЭНКО.
Пабло снова поднялся и налил себе остатки шампанского.
— Слушайте дальше, — сказал он, сделав большой глоток. — К концу мировой войны Соединённые Штаты предоставили Сакраменто кредит более чем в пятьсот миллионов долларов. Уступив соблазнительным предложениям нью-йоркских фирм, наша армия, военно-воздушные силы и флот вдруг обнаружили, что им совершенно необходимо приобрести крейсер, три эскадренных миноносца, несколько самолётов, танков и зенитных орудий. В общем, сами понимаете: нью-йоркские дельцы просто хотели всучить нам излишки вооружения, заключив сделку на огромную сумму. Морено наложил вето на это предложение, вызвав недовольство со стороны военных кругов Сакраменто. Кроме того, он навлёк на себя гнев влиятельных коммерсантов, которые собирались нажиться на этой махинации… Американские дельцы, финансировавшие наиболее крупные сакраментские газеты, требовали открыть кампанию против правительства, что было немедленно выполнено. Дон Панфило Аранго-и-Арагон тоже вступил в игру. С церковных амвонов священники произносили проповеди, направленные против Морено, даже называли его антихристом. А в конце 1951 года войска наёмников высадились в различных пунктах побережья: Пуэрто Эсмеральде, Лос-Платанос, Оро Верде и Соледад-дель-Мар… Во всех этих местах федеральные гарнизоны, предварительно сагитированные заговорщиками, примкнули к захватчикам, войска стягивались к Серро-Эрмосо, где оставался Морено с горсткой верных ему людей: солдатами, простолюдинами и студентами. Габриэль Элиодоро, возглавивший пятую колонну внутри столицы, первым ворвался в правительственный дворец. Конец драмы вам известен.
— Морено покончил с собой.
Пабло пожал плечами.
— Это вопрос спорный. Он погиб, но от своей ли собственной руки, или от руки врагов, неизвестно. Доктор Грис, с которым я недавно беседовал, склоняется ко второй версии.
Гленда была растеряна и ошеломлена своей неудачей. Неужели Пабло смеётся над нею? Но зачем ему это? Если нет, то можно ли верить тому, что он рассказал?
Пабло допил вино. Желание вновь поднялось в нём, снова мелькнула соблазнительная мысль опрокинуть Гленду на софу. Чтобы избавиться от этого наваждения, он заговорил:
— Итак, в один прекрасный день генералиссимус Хувентино Каррера вместе со своими войсками победоносно вступил в Серро-Эрмосо. Во всех церквах звонили колокола. На этот раз у городских ворот победителя поджидал дон Панфило, который вручил ему, как положено, ключ. Однако улицы были пустынны, двери и окна домов закрыты. Таким образом народ выразил своё недовольство и свой протест. Лишь с балконов немногих особняков крупные буржуа и их жёны приветствовали Карреру флажками и бросали цветы. Чтобы не затягивать свой рассказ, добавлю, что с 1952 по 1954 год в Сакраменто правил триумвират, в котором генералиссимус был центральной фигурой. Земли, экспроприированные Морено у американских компаний, были возвращены. Сабала, новый начальник полиции, методически, тщательно и беспощадно проводил «чистку», снова возродились тюрьмы, пытки и произвол. Консервативные классы вздохнули облегчённо. В конце 1954 года Каррера снова был избран президентом в соответствии с новой конституцией, из которой, по настоянию крупных олигархий, была исключена статья, запрещающая переизбрание президента. Так мы вступили в нашу Четвёртую республику. На этом пока обрывается наша поучительная история.
Гленда почувствовала, что тошнота усиливается. Холодный пот покрыл всё её тело. «Наверное, сейчас я бледна, как мертвец», — подумала она.
— А теперь поговорим конкретно о вашей диссертации, — улыбнулся Пабло. Если я правильно понял вашу работу, вы хотите доказать, что управляемая белым диктатором Чаморро или метисом Каррерой, которого вы изображаете демократом, такая страна, как Сакраменто, либо никогда не достигнет политической зрелости, социальной гармонии, а также экономического изобилия, либо достигнет, но с большим трудом, ибо население её состоит в большинстве своём из метисов… Верно?
— Верно.
— Вы ошибаетесь.
Гленда поднялась.
— Я только одного не понимаю. — Она не узнавала собственного голоса. — Почему вы, такой «либерал», к тому же великолепно осведомлённый о разложении своего правительства, находитесь на службе у этого правительства?
Пабло пожал плечами.
— Наверное, потому, что сам такой же, как они.
Он и сам не поверил этому слишком простому объяснению, но мелодраматичность и самоуничижение, прозвучавшее в этих словах, доставили ему на минуту какое-то болезненное удовольствие, от которого на душе стало легче.
— Что вы думаете делать со своей диссертацией? — спросил он.
— Ещё не знаю. Но думаю, что оставлю всё как есть. Что же касается выводов, то у вас они одни, у меня совсем другие. А сейчас я хочу уйти.
Пабло подошёл к двери и отпер её. Тело его почему-то стало лёгким и словно парило в воздухе. В голове появилась глухая боль.
В коридоре он взял Гленду под руку и повёл её к залу, на пороге которого американка остановилась, как ребёнок на опушке тёмного густого леса. Навстречу им направился Орландо Гонзага. Пабло, хорошо знавший своего друга, заметил, что тот навеселе.
— Хотите, я немного развеселю вас? Я только что обсуждал расовую проблему с одним техасцем и рассказал ему свою версию страшного суда. Звучат небесные трубы, апокалиптический голос разносится по Вселенной, оповещая о начале суда. Человечество трепещет, а техасцы хватаются за свои револьверы, но тут же соображают, что это бесполезно, ибо бог, должно быть, стреляет лучше их. Взоры всех людей обращаются к небу, где воздвигается огромный лучезарный трон Всемогущего. Раздаются звуки труб, арф, лир, песнопения ангелов. Церемониймейстер архангел Гавриил объявляет, что Создатель на троне. Техасцы смотрят и — о, ужас! — убеждаются, что господь бог — негр! Ну как? По-моему, недурно. А техасцу моя шутка не понравилась. А ты как её находишь, Пабло?
— Потом потолкуем, Гонзага. Мисс Доремус немного нездоровится.
Даже не глядя на Гленду, он знал, что шутка бразильца её шокировала.
— Пойдёмте, Пабло.
Покинув Гонзагу, они стали проталкиваться к вестибюлю. Гленду мутило всё сильнее. «Наверное, от испарений этих разгорячённых тел, — решила она, — от запаха сакраментских пирожков, который смешался с вонючим потом стоявших тут негров…» Гленда едва не столкнулась с толстой дамой, у которой на груди была приколота уже увядшая орхидея. Дама улыбнулась ей: «Sorry, dear!» А Гленда вдруг вообразила, что жуёт эту орхидею, и ей стало совсем нехорошо. Перед ней промелькнуло чёрное лоснящееся лицо африканского посла, потом смуглое женское с блестящим от жира ртом, с сахарной пудрой на верхней губе. Здесь всё провоняло этими ужасными пряностями. Прижимая сумочку к животу, вся покрывшись холодным потом, на подгибающихся от слабости ногах Гленда еле успевала за Пабло. Пирожки… Подмышки негров… Орхидея у неё в желудке… Шум голосов… Удушающая жара…
— Скорее, мне плохо.
Наконец они выбрались на крыльцо. От ночной свежести Гленде стало немного легче. Она прислонилась к колонне.
— Разрешите, я сбегаю за каким-либо лекарством?
— Не надо, попросите, чтобы поскорее подогнали мою машину. — Она назвала номер и марку, и Пабло отдал распоряжение шофёру посольства.
— Я поеду с вами, — сказал он, когда машина Гленды остановилась у подъезда.
— Ради бога, Пабло, оставьте меня в покое!
Она поспешно уселась в автомобиль.
— Вы больны, и вам нельзя ехать одной.
Гленда побледнела, губы её дрожали. Она закрыла лицо руками, почувствовав судороги в желудке.
— Не сердитесь, Пабло, поймите…
— Я всё понимаю. Когда мы увидимся?
Она покачала головой, включив зажигание.
— Не знаю. Не знаю.
Автомобиль резко рванулся с места. Пабло смотрел ему вслед, пока он не исчез. Потом закурил сигарету и, недовольный собой, чувствуя в голове всё ту же тупую боль, вернулся в посольство.
Часть 3. Карусель
18
В конце апреля посол Сакраменто явился в Совет Организации американских государств. Едва он вошел в здание Панамериканского союза, его оглушили пронзительные птичьи голоса, напомнившие дону Габриэлю детство. Он отошел от своих помощников и устремился в патио, где два попугая арара, столь яркие, что казалось, будто они еще пахнут краской, расхаживали вразвалку и кричали. Габриэль Элиодоро приблизился к одному из них и попробовал схватить за клюв, отчего попугай еще больше разозлился, а затем заговорил с птицей, употребляя выражения, которых Вильальбе никогда прежде не доводилось слышать. Секретарь тщетно пытался привлечь внимание шефа к другим достопримечательностям патио: посол направился ко второму арара и завязал с ним столь же рискованную беседу.
В патио появилась группа туристов с гидом, который рассказывал о тропических растениях — каучуковом, банановом и кофейном деревьях, а также эрба-мате, — которые украшали патио. Центральный фонтан, объяснил гид, выложен розовым мрамором, и, «как видят господа туристы, фигуры на этом фонтане носят на себе следы влияния искусства майя, ацтеков и сапотеков, тогда как мозаика на полу…» Однако голос Габриэля Элиодоро и крики попугаев заставили умолкнуть раздосадованного гида.
Заметив это, Титито предложил господину послу проследовать наверх, так как торжественный час приближался. Не сводя очарованного взгляда с попугаев, Габриэль Элиодоро спросил:
— Это наши земляки, Вильальба?
Мальчишкой он любил бродить в окрестностях Соледад-дель-Мар и ловить в лесах арара, которых затем продавал американским туристам по два доллара за штуку. Титито ответил, что, к сожалению, эта пара из Гватемалы.
— Тогда поручаю тебе выписать из Сакраменто двух арара, мы преподнесем их Панамериканскому союзу от нашего правительства. Выпишешь самца и самку, потому что — знай на будущее — арара единобрачны…
Покачав головой, Титито подумал: «В отличие от тебя!»
Через несколько минут в сопровождении доктора Хорхе Молины, который смущенно удалился из патио, Пабло Ортеги и Эрнесто Вильальбы Габриэль Элиодоро Альварадо медленно поднялся по мраморной лестнице, ведущей наверх. Великая минута! В зале героев и знамен он встретил других послов, которые поджидали его. После рукопожатий, восклицаний: «Мой дорогой посол!», «Как дела, дружище?» — и сердечных объятий все направились в зал Совета.
В посольстве Габриэль Элиодоро обычно работал, сидя за письменным столом и чувствуя все время суровый взгляд дона Альфонсо Бустаманте — настолько мастерски были написаны глаза, смотревшие на него с противоположной стены. Поясной портрет был выполнен американским художником в академической манере: знаменитый дипломат во всем черном, с розеткой ордена Почетного легиона, казавшейся каплей крови на лацкане фрака. Фоном для округлого розового лица дона Альфонсо, обрамленного мягкими седыми волосами, художник выбрал ярко-красный цвет зарева. Как отметил обладавший хорошим вкусом Титито, колорит портрета гармонировал с ореховыми панелями кабинета, пушистым вишневым ковром и тяжелой мебелью красного дерева…
Всякий раз как Габриэль Элиодоро поднимал глаза от бумаг, он встречался с неодобрительным, как ему казалось, взглядом дона Альфонсо. А когда новый посол Сакраменто вставал и начинал ходить по кабинету — ибо считал, что так думается лучше, — у него появлялось впечатление, будто старый дипломат следит за ним. От его глаз невозможно было укрыться, и Габриэль Элиодоро сказал однажды мисс Огилви:
— Вы, наверно, заметили, Клэр, чертов художник написал портрет так, что, где бы вы ни находились, дон Альфонсо всегда смотрит на вас?
— Дон Альфонсо — символ национальной совести, если вы мне позволите эту шутку.
Посол, рассмеявшись, возразил, что его страна достойна более молодой и не такой мрачной совести.
Сейчас Габриэль Элиодоро просматривал проект строительства шоссе, которое пересечет горный хребет Кордильера-дос-Индиос, поднимаясь по склонам гор и уходя в туннели. Наконец-то осуществится давняя мечта жителей Сакраменто: развитые северные районы будут непосредственно связаны с отсталыми южными — Оро Верде и Сан-Фернандо.
Д-р Молина, этот надоедливый педант, часто приносил в кабинет посла бумаги, схемы и объяснительные записки, и всегда с важным видом человека, ежеминутно чувствующего вес собственной незаурядной эрудиции. В разговоре с секретарями Габриэль Элиодоро называл его «мистер Британская Энциклопедия».
Посол подолгу рассматривал проекты, планы и сметы американской компании, которая бралась осуществить гигантские работы, читал копии заключений сакраментских инженеров и правительственных комиссий по этому вопросу… И зевал, почесывая затылок, чувствуя, что у него слипаются глаза. Тогда Габриэль звал мисс Огилви (пользоваться звонком он еще не привык), просил подать кофе, закуривал сигару, расхаживал из стороны в сторону, бросая косые, почти враждебные взгляды на дона Альфонсо, останавливался у окна, смотрел наружу, потом выпивал кофе, снова садился и снова пытался разобраться в ворохе бумаг… Через несколько недель предстояла встреча с заместителем государственного секретаря по делам Латинской Америки, к этому времени он должен вызубрить свой «урок», чтобы произвести на гринго благоприятное впечатление. Надо получить заем, а значит, последуют длительные переговоры с директорами Межамериканского банка… Борьба, судя по всему, будет нелегкой, но — черт возьми! — он любил бороться.
Иногда к концу дня Габриэлю становилось нехорошо, он едва не задыхался в душной, слишком натопленной комнате. Тогда он выбегал из кабинета и, крикнув мисс Огилви: «Больше не могу сидеть в этом мавзолее, пойду пройдусь!», без шляпы отправлялся в парк, где прогуливался, размышляя вслух. Дон Габриэль любил чистый воздух гор и необозримые просторы, которые открывались с высоты, поэтому никогда больше «в этой собачьей жизни» он не был так свободен и счастлив, как тогда в партизанском отряде Хувентино Карреры. Ему хорошо спалось под звездами, даже если утром иней покрывал окоченевшее лицо.
В конце апреля потеплело, и топить в посольстве и канцелярии перестали. Однажды утром, придя в свой кабинет, Габриэль Элиодоро сказал секретарше:
— Откройте окна, Клэр, пусть весна войдет к нам…
Теперь, отдыхая от работы, он становился у окна и наблюдал за птицами на деревьях парка со странным чувством, будто видит все это изображенным на иностранной открытке… Габриэль подолгу смотрел на трубы, торжественно возвышавшиеся на посольстве Великобритании, сладострастно вдыхая душистый весенний воздух. Пряный запах молодой травы заставил его вспомнить Хуану ла Сирену. Она до сих пор жила в его памяти.
В шестнадцать лет Габриэль за две луны в неделю пас в горах коз. Однажды к нему явилась Хуана, одна из самых красивых женщин поселка, которую рыбак Амалио привез в своей лодке. Когда его спрашивали, кто она, Амалио отвечал с улыбкой: «Сирена, я поймал ее сетью».
Хуана подошла к нему, с улыбкой потрепала по волосам и спросила: «Ты знаешь, для чего господь сотворил женщину?» Габриэль уставился в землю, едва переводя дыхание, от прикосновения руки Хуаны его пробирала дрожь. Он чувствовал тепло ее тела, пахнущего морем и солнцем… Хуана взяла его за руку и повела в лес. А там, не говоря ни слова, легла на траву и сняла платье… Кумушки из Соледад-дель-Мар лгали. Тело Хуаны не было покрыто чешуей, как у рыб. Оно было гладким и смуглым. Первый раз в жизни Габриэль увидел обнаженную женщину. Хуана протянула к нему руки: «Иди сюда». Со слезами на глазах, дрожа от желания, страха и стыда, он лег рядом с ней… Потом Габриэль разрыдался от счастья и благодарности к Хуане, а та поднялась, натянула на себя платье и снова погладила его по голове: «Видишь, как это легко и приятно?» Он кивнул, не смея поднять глаз на Хуану. А когда набрался храбрости, то ему показалось, будто он увидел ее впервые. Это была самая прекрасная женщина во всей стране, на всем свете. Ее голос напоминал ему шум морских раковин. «Не бойся, я никому не расскажу. Надеюсь, и ты не проговоришься. Это будет нашей тайной. Хорошо?» Он ответил «да» всем своим существом: он был согласен. И когда обрел дар речи, поклялся богородицей, что не выдаст этой тайны никому, даже своему исповеднику. Тогда Хуана сказала слова, которые наполнили его гордостью такой большой, что ее не вместили бы и широкие морские горизонты: «Ты — мужчина». Она сделала несколько шагов, остановилась и, обернувшись, добавила: «Жди меня в пятницу в это же время. Я приду». Потрясенный, Габриэль кивнул. Козы мирно паслись; ветер развевал волосы и платье Хуаны. Она спустилась по склону и пошла по дороге к поселку.
Этот день стал самым счастливым в жизни пастуха Габриэля. Но потом были и другие счастливые дни. Каждую пятницу в определенный час Хуана приходила к нему, и они предавались любви, лежа в траве под сенью деревьев. И вот однажды Габриэль понял, что любит Хуану, он стал ревновать ее к рыбаку, который каждую ночь спал с Хуаной. По утрам, на заре, он бродил вокруг их дома, безмерно страдая и желая смерти Амалио. Он засыпал и просыпался с мыслью о любовнице. Горы без Хуаны казались ему пустынными и неприветливыми, козы вызывали отвращение. Однако Хуана точно являлась в назначенный день.
Так продолжалось до той ужасной декабрьской ночи… Поселок проснулся от криков: это Амалио, вернувшись с моря, застал Хуану с сержантом пехотного полка и зарезал обоих ножом, которым чистил рыбу. Отчаявшийся Габриэль не нашел в себе сил пойти взглянуть на тело любимой. Он отправился в церковь и плакал там, стоя на коленях у образа богородицы, своей покровительницы. А потом издалека следил за похоронами Хуаны. Забравшись на кладбищенскую стену, он видел, как опускали в могилу ее гроб и засыпали его землей. На следующий день Габриэль поднялся в горы со своими козами. Была пятница, день, когда приходила Хуана; он представил себе, что она пришла и на этот раз, и они, взявшись за руки, отправились в лес и легли в траве. Запах травы казался ему запахом Хуаны, а земля самой Хуаной. Он полюбил землю в первый день своего вдовства, и трава стала влажной от его слез.
19
Габриэль Элиодоро ненавидел бюрократию и полагал, что ему подсовывают слишком много ненужных бумаг. Он сказал как-то Титито: «Тебе не кажется, что люди были бы счастливее, если бы меньше писали? Для чего тогда бог дал нам язык?» — «По-моему, — ответил Вильальба, — люди делятся в основном на две группы: говорящих и пишущих. Оскар Уайльд, например, был говорящим». («Для меня он был кем-то другим…» — подумал Габриэль Элиодоро.) «А Андре Жид пишущим, — продолжал Титито, — то есть письменная речь давалась ему лучше устной. По этой классификации ваше превосходительство можно отнести к говорящим». И мысленно закончил: «…и примитивным». Несколько секунд Габриэль Элиодоро смотрел на секретаря, испытывая желание послать его подальше, однако, проглотив грубое ругательство, взял бумаги, которые принес Титито, и с недовольным видом стал их подписывать.
Клэр Огилви делала все возможное, чтобы уменьшить ворох бумаг, но ее усилия, как правило, сводились на нет глупостью Угарте и его подчиненных, педантизмом д-ра Молины и какой-то болезненной страстью Виванко к бюрократической волоките. Три раза в неделю по утрам мисс Огилви давала послу уроки английского языка. Она находила, что ее ученик сообразителен, обладает хорошей памятью и довольно быстро расширяет запас слов. Хуже обстояло дело с произношением. Каждый раз, когда он говорил что-нибудь на языке своего обожаемого Линкольна, его собственный язык будто наливался свинцом. Учительницу тревожило произношение Габриэля, трудно поддающееся исправлению.
— Скажите: very well.
— Бери гелл.
Согласные в конце слов он безжалостно проглатывал, вместо «United States» говорил «юнай эстэй», и Огилвита едва удерживалась от смеха. Зато Габриэль не щадил своей бездарности к этому «варварскому языку» и с добродушным хохотом захлопывал книгу, давая понять, что урок окончен.
В присутствии Панчо Виванко у Габриэля начиналось что-то вроде аллергии. И не только потому, что этот «кусок сала» был мужем Росалии, но главным образом потому, что консул был до крайности скрупулезен и въедлив во всем, что касалось служебных дел. Если б еще он не был так угодлив и раболепен и держался непринужденнее, это еще можно было бы выносить. А то через каждое слово: «С разрешения вашего превосходительства, я позволю себе заметить…» Габриэля Элиодоро буквально передергивало, когда тот становился у его стола, скатывая в трубочку пресловутую долларовую бумажку. Послу казалось, что взгляд у Виванко холодный и клейкий, как слюна.
Иногда вдруг, собрав подписанные бумаги, консул медлил, будто хотел что-то сказать Габриэлю. «Можете идти, Виванко». Но тот продолжал стоять какое-то время, словно не понял посла, а потом поворачивался и уходил. Габриэль провожал его ненавидящим взглядом, едва удерживаясь от желания поддать как следует коленкой в мясистый зад консула.
К д-ру Хорхе Молине Габриэль относился совсем по-иному. Восхищаясь против воли министром-советником, он, однако, не уважал его. И отнюдь не был в восторге от того, что часто приходилось обращаться к д-ру Молине, хотя Габриэль всячески старался избегать этого. С волнением гимназиста он ожидал дня, когда ему удастся поймать министра-советника на какой-нибудь ошибке. Однако тот никогда не ошибался. Он знал все на свете и все делал хорошо, чтобы не сказать отлично, ибо за его плечами были десять лет католической семинарии. Впрочем, в те минуты, когда Габриэль Элиодоро находился в добродушном настроении, он понимал, что ему повезло с министром-советником, которому всегда можно поручить скучную, а порой и деликатную миссию представлять республику Сакраменто в комиссиях ОАГ.
Недоброжелательство посла к Хорхе Молине возросло с того дня, когда Титито таинственным шепотом сообщил ему, что Молина целомудрен. Ударив кулаком по столу, Габриэль Элиодоро воскликнул: «Теперь понятно, почему этот попик никогда не смеется!»
Титито… К нему посол испытывал двойственное чувство. Жеманность, грациозная походка, высокий голос второго секретаря, его костюмы пастельных тонов, по мнению Габриэля Элиодоро, не только дискредитировали посольство, но и бросали тень на герб республики. И пускай ни одно из восьмидесяти с лишним дипломатических представительств Вашингтона не обходилось без своего гомосексуалиста, явного или скрытого, Габриэль предпочел бы, чтобы его помощники были мужчинами.
И все же он не мог не признать ума Титито и его остроумия, которое скрашивало канцелярскую скуку. Однажды Габриэль Элиодоро захохотал до упаду, услышав заявление Титито, сделанное с самым серьезным видом, будто бы Огилвита мужчина, ставший женщиной благодаря операции.
Была еще одна важная причина, по которой посол терпел своего секретаря: Титито был близким другом Фрэнсис Андерсен.
— Ну как наша богиня? — спросил он Титито, вернувшегося из недолгой поездки в Нью-Йорк. — Я не видел ее после приема.
— Мисс Андерсен? — переспросил секретарь. — Мы с ней встретились в фойе Метрополитэн-опера на спектакле московского балета. На голове у нее была диадема, а платье…
— Постой! Меня не интересует, во что была одета мисс Андерсен. Я хочу знать, когда я смогу ее раздеть… Думает она возвращаться в Вашингтон?
— Через неделю или две.
— Послушай, Титито, тебе известно, что меня заинтересовала эта женщина…
— Посол может считать меня кем угодно, только не дураком.
— Ладно. Когда мисс Андерсен приедет, устрой нам встречу, но об этом никто не должен знать. Остальное я беру на себя.
Вильальба слегка наклонил голову и приложил руку к сердцу.
— Если ваше превосходительство позволит, я бы посоветовал послать ей цветы, как только она вернется.
— Я пошлю тонны цветов. Слушай, а что, если я поднесу ей какую-нибудь драгоценность?
Титито ответил не сразу.
— Не следует торопиться. Это может ее обидеть…
Габриэль Элиодоро вдруг понял всю смехотворность положения. Ему — это ему-то! — педераст дает урок, как завоевать женщину. Расхохотавшись, он вынул из кармана сигару, откусил кончик и, закурив, стал расхаживать по кабинету под суровым взглядом дона Альфонсо Бустаманте.
— Я хочу задать тебе один очень важный вопрос, Титито. У мисс Андерсен… есть сейчас кто-нибудь?
Секретарь пожал своими узкими плечами.
— Мне лишь известно, что на нее многие претендуют. Я знаю одного из них — филадельфийский playboy, богач. Этому молокососу всего двадцать с небольшим, и он красив!
Габриэль Элиодоро сделал пренебрежительный жест.
— А сколько лет нашей знакомой?
— Должно быть, за тридцать.
— Мне тоже так кажется. Хороший возраст! И я не верю, чтобы умная зрелая женщина захотела лечь в постель с двадцатилетним мальчишкой.
«Зато я сделал бы это с большим удовольствием», — подумал Вильальба.
В эти дни Габриэль Элиодоро получил в запечатанном сургучом конверте конфиденциальное послание президента Карреры.
«Мой дорогой кум! Дела здесь обстоят неважно. Как тебе известно, в соответствии с конституцией в ноябре этого года мы должны провести президентские выборы. Я думал, что подготовлен к тому, чтобы передать управление страной законному преемнику и в конце концов уйти на отдых, поселившись в своем поместье Лос-Платанос, ибо чувствую себя нездоровым и очень усталым. Однако миссия моя еще не завершена, я хочу хотя бы начать работы по сооружению транссакраментской дороги и закончить многие другие дела, которые я уже начал. С другой стороны, я не считаю нашу страну подготовленной к волнениям, связанным с президентскими выборами. Говорят, дьявол знает много потому, что он стар, а не потому, что он дьявол. Так и я, твой кум, старый лис, чую что-то неладное. Не только в университете, среди профессоров и студентов, но и на улицах и даже в высшем обществе ощущается какое-то беспокойство.
Позавчера я собрал кабинет министров, чтобы выяснить, какие шаги предприняты в отношении предложенного мной дополнения к конституции, которое позволит вторично переизбрать меня. В свое время меня заверили, что дополнение это будет утверждено самое позднее в начале марта. Сейчас скоро май, и до сих пор ничего не сделано. Министр внутренних дел сказал мне, что, по мнению его самого и большинства его коллег, обсуждение моего дополнения было бы опасно, так как разожгло бы страсти, а для левых явилось бы предлогом для волнений. Я не сдержался и обругал Альенде, тот покраснел, опустил голову, но не ответил ни слова. Тогда я спросил в шутку, уж не поторопились ли славные министры найти кандидата в мои преемники, и он ответил положительно. Как ты думаешь, кто он? Д-р Рамон Техера, председатель Верховного трибунала! Альенде принялся расхваливать этого, как он выразился, образованного и честного гражданина, уважаемого юриста, человека независимого и способного завоевать доверие большинства избирателей. Я снова потерял терпение и крикнул: «Если доктор Техера и может быть кандидатом, то только в дом для престарелых! Ему почти восемьдесят лет! Вы просто с ума сошли!» Министры молчали. Они мечтают о марионетке, которой помещики, банкиры и промышленники станут вертеть как заблагорассудится. Со мной это не удастся, и они это знают. Теперь я вижу, что ты был прав, когда говорил мне, что я окружен предателями. Это уж слишком! Они подобрали кандидата, не посоветовавшись со мной, а меня обманывали обещаниями утвердить мое дополнение.
Какие же меры надо принять, чтобы уберечь страну от власти коммунистов и сакраментской плутократии, которая так и не признала меня и всегда была против правителя столь скромного происхождения? Мне кажется, выход — в новом государственном перевороте. Вчера я тайно беседовал с военным министром, который думает, как я, и гарантирует мне полную и безоговорочную поддержку со стороны армии. Мы должны выступить до ноября, но нам, как ты сам понимаешь, нужен предлог для роспуска конгресса и введения осадного положения. Наконец, мы не можем не считаться с мировым общественным мнением и особенно с мнением Соединенных Штатов и ОАГ. Вчера же я пригласил на завтрак во дворец американского посла и архиепископа, и ты, конечно, догадываешься, почему именно их. Я прощупывал американца, который прикидывается дураком, а на самом деле — хитрая бестия, и пришел к заключению, что он тоже хочет, чтобы я ушел. Тогда я без обиняков спросил дона Панфило, что он думает относительно дополнения к конституции. Его ответ, по обыкновению, был красноречив и изящен, однако уклончив. Еще бы! Архиепископ мечтает о президенте, который каждое воскресенье будет ходить к мессе, как этот святоша д-р Техера!
А раз так, кум, нам остается только ждать, пока смутьяны поднимут голову, и тогда мы начнем действовать. Если же они до ноября ничего не предпримут, мы будем вынуждены снова что-нибудь придумать, чтобы опять припугнуть угрозой коммунизма госдепартамент и тех, кого твой «друг» Грис, этот безнравственный изгнанник, именует «сельской олигархией».
Беда только в том, что любое политическое волнение может сейчас повредить займу. Надо ли повторять, что я всю свою жизнь мечтал хотя бы начать сооружение транссакраментской дороги, и почитал бы себя самым счастливым человеком в мире, если бы она была названа моим именем.
Сообщи мне как можно скорее свое мнение относительно всех этих вопросов. Иногда я раскаиваюсь, что послал тебя в Вашингтон. Ты один из немногих, в чьей преданности и дружбе я не сомневаюсь, и все же тебе пока придется оставаться там, чтобы добиться займа, чрезвычайно важного для нашей родины. Что же касается остального, то предоставим лодке плыть по течению. Я верю в свою звезду. До ноября мы найдем предлог для переворота.
Разрешаю тебе показать это письмо только Угарте и больше никому. А потом лучше всего было бы сжечь его. Я всегда боялся написанного. Позволь от всего сердца обнять тебя твоему старому другу и куму.
Хувентино».
Письмо взволновало Габриэля Элиодоро. Он давно подозревал о «белой революции», возглавляемой министром внутренних дел Игнасио Альенде, которая ставила своей целью не допустить переизбрания Карреры и выдвинуть кандидата от так называемой «сакраментской элиты». В игру были втянуты госдепартамент и архиепископ. Теперь Габриэль понял — каким же глупцом он был! — почему министр иностранных дел так поспешно спровадил его в Вашингтон и почему конгресс так быстро и так единодушно утвердил его назначение на пост посла. Габриэль Элиодоро представлял серьезную опасность для Альенде и его группы. А он, идиот, попался в ловушку… Наверно, вскружили голову титул посла, возможность пожать руку Эйзенхауэру, пожить хотя бы год в красивом особняке, а заодно послужить родине, выторговав крупный заем… К тому же ему льстила мысль, что он поселится совсем рядом с памятником Линкольну, станет бывать на светских раутах и, наконец, несколько месяцев насладится любовью Росалии… Какого дьявола! Человек должен быть откровенен с самим собой. Да, он хотел немного отдохнуть от опостылевших банковских дел и от своей семейки, от вечных болезней Франсискиты, от ее голоса, от ее намазанного кремом лица, которое он видел рядом с собой каждую ночь, от этой женщины, не ведающей радостей плотской любви, всегда стыдившейся собственного тела… И тела мужа. И в конце концов, разве не поспорил он с самим собою и со всем миром, что настанет день, когда он займет высокое положение в обществе?
Он велел вызвать Угарте и, когда генерал вошел в кабинет, запер дверь на ключ и дал ему письмо Хувентино Карреры. Габриэля раздражала медлительность Угарте, тщетно он пытался прочесть хоть что-нибудь на этом круглом бронзовом лице, лице сфинкса. Глаза? Глаза Угарте напоминал глаза змеи, наблюдавшей за цыпленком. Через несколько минут, показавшихся Габриэлю Элиодоро бесконечностью, военный атташе сложил письмо президента и молча возвратил его послу.
— Ну, что ты скажешь?
— Скажу, что дела обстоят неважно.
— Да, но мы должны выйти из этого опасного положения, как выходили раньше даже из более опасных. Мы не можем отдать власть шайке Альенде и тем более левой сволочи.
— Ты и в самом деле считаешь, что у этого старикашки, которого Альенде прочит в кандидаты, есть шансы победить на выборах? А если он и победит, неужели он сможет управлять без поддержки Карреры, на стороне которого армия?
— Разумеется, нет. Это меня немного успокаивает, но совсем немного. Единственным выходом был бы государственный переворот. Честное слово, я с удовольствием сел бы завтра в самолет, летящий в Серро-Эрмосо, чтобы встряхнуть как следует совет министров и конгресс. Неужели они не образумятся? Но ты знаешь, я не могу оставить переговоры о займе… Мне уже назначен прием в госдепартаменте, хотя теперь, наверно, гринго будут водить нас за нос…
Угарте разразился своим беззвучным смехом, о котором можно было догадаться лишь по тому, как тряслись его плечи.
— Кажется, мы сумеем помочь президенту именно здесь, в Вашингтоне. — Угарте вытащил из кармана бумагу и передал ее Габриэлю. — Сегодня я получил это сообщение. Совершенно секретное, как видишь.
Бумага была со штампом военного министерства. Габриэль прочел:
«У нас есть все основания полагать, что д-р Леонардо Грис является центральной фигурой среди вашингтонских заговорщиков, замышляющих вторжение в Сакраменто и восстание федеральных войск, а также крестьян на всей территории нашего государства. Необходимо срочно узнать не только о подрывных планах этого движения, но и о лицах, которые по заданию заговорщиков будут организовывать саботаж и террористические акты в Сакраменто и выступят с оружием в руках по первому сигналу. Для этой цели лучше всего было бы проникнуть в квартиру Гриса и просмотреть все его бумаги. Поскольку это невозможно сделать законным путем, придется прибегнуть к незаконному. Однако следует соблюдать максимальную осторожность, дабы избежать осложнений с американскими властями».
Габриэль Элиодоро поспешил вернуть бумагу, будто она жгла ему пальцы. Посол догадался о планах, которые вынашивал военный атташе.
— Учти, я не видел этого документа, понятно? Ты подчинен военному министерству, а не мне. Делай что хочешь, но прошу тебя об одном: не рассказывай мне ничего, ровным счетом ничего, что бы ни случилось.
— Значит, ты даешь мне карт-бланш?
— Но не за своей подписью. Я умываю руки. Умываю как следует, с мылом. Я не хочу пачкать их в крови. Я знаю, что ты задумал… и не хочу отвечать за насилия.
Военный атташе улыбнулся.
— А кто говорит о насилии?
— Учти, американская полиция отлично работает…
— Но и она допускает промахи.
Прежде чем выйти из кабинета, Угарте сказал:
— Хочу предупредить тебя об одном: если положение действительно ухудшится, я уеду в Швейцарию, где добиться моей выдачи будет невозможно. Я слишком стар и тюрьмы не перенесу. Ты сам знаешь, в случае победы оппозиции за мою голову будет назначена премия. А может, просто поставят к стенке.
Оставшись один, Габриэль Элиодоро какое-то время боролся с собой, едва сдерживая злость. Потом взглянул на портрет дона Альфонсо и, будто старый посол мог его слышать, разразился ругательствами.
— Трус! Неблагодарный эгоист! Рогоносец! Собрался бежать в Швейцарию со своей коровой, которая обманывает его с моим шофером, в моем «мерседесе»!
Ему вдруг захотелось облегчить душу, поговорить с умным, порядочным человеком. Но с кем? Молина — холодный педант. Мисс Огилви — иностранка. Титито — лукавый хитрец. Виванко? Даже думать противно об этом слизняке. Пожалуй, Пабло подошел бы. «Но он сторонится меня, — подумал Габриэль. — Несмотря на все мои старания понравиться этому мальчику». К тому же Пабло друг Гриса! И именно вмешательство Ортеги-и-Мурата спасло Гриса от ареста и смерти в ту памятную ночь.
Остается одно: позвонить Росалии и назначить ей свидание, заехать за ней, прогуляться по парку…
Он взял телефонную трубку и тут же услышал голос Огилвиты.
— Да, господин посол.
— Соедините меня с тем номером.
20
Пабло снова посетил д-ра Гриса в его квартире на улице Q. Пожалуй, во всем Вашингтоне не было больше места, где бы он чувствовал себя так свободно, как в этой гостиной, которую его друг обставил по своему вкусу: в американском колониальном стиле и примитивном — английском. Вещи Грис приобретал постепенно на «воровских рынках» в отдаленных предместьях столицы либо на аукционах в Джорджтауне. Он подбирал ковры, мебель, лампы, картины с любовью, словно друзей. Наверное, поэтому из его комнат не хотелось уходить и казалось, будто каждая вещь тут носит на себе таинственный отпечаток минувших времен, чьих-то мечтаний и привычек. На выцветших обоях, где заставленные книгами полки оставляли свободное пространство, висели репродукции гравюр Гойи, преимущественно из серий «Капричос» и «Бедствия войны». А виолончель в черном футляре, стоявшая в углу гостиной, представлялась чуть ли не живым существом.
В этот майский вечер Грис угостил друга специально приготовленным кофе, который они выпили, болтая о музыке и литературе. Потом немного помолчали, и молчание это Пабло понял как переход к иному разговору.
— Прошлой ночью я опять видел Морено во сне. Подробности я уже забыл, — начал Грис после паузы. — Помню только: мне снилось, будто я еще мальчик и должен вставать, чтобы идти в школу, но мне не хочется, глаза слипаются… Вдруг раздался чей-то голос: «Лео! Лео! Вставай же, лентяй!» Я с трудом открыл глаза и увидел около своей кровати человека, чем-то напоминающего моего отца и в то же время доктора Морено…
— Любопытно, совесть некоторых людей, а может быть и всех, воплощается в ком-то другом… Ваша, например, в докторе Морено.
— Мне кажется, этот сон объясняется тем, что последние дни я с головой ушел в свое исследование о Гонгоре, часто слушал музыку барокко и готовил курс лекций для университета. В общем, жил спокойно и счастливо. Вот доктор Морено и появился, чтобы поднять меня с постели и заставить выполнить свой долг… Я утратил контакт с револю… — Грис вдруг замолчал и, улыбнувшись, добавил: — Знаю, ты предпочитаешь не слышать об этом… — Он снова помолчал и затем спросил: — А кто твоя совесть, Пабло? Отец?
Пабло покачал головой.
— Нет. Мистер Наталисио.
— Кукольник из Соледад-дель-Мар?
— Именно. Вы его знаете?
— Я знаю его работы, но его самого никогда не видел.
— Мистер Наталисио воплощает для меня величие и страдание нашего народа, доктор Грис. Может, это и не так, но мне кажется, что я почувствовал это в тот момент, когда увидел его еще мальчишкой. Мне говорили, что он мог бы разбогатеть, если б согласился механизировать свое производство. Но он отказался… Он даже как будто стыдился торговать своими куклами и жил, продавая фрукты из собственного сада. Он всегда оставался тем, кем был: загорелым, босым крестьянином, в белой парусиновой рубахе и соломенной шляпе…
— Я нахожу его куклы замечательными, — сказал д-р Грис. — Особенно мне запомнились его лошади с орлиными крыльями и рогом, как у носорога, пумы с человеческими лицами, его фигуры, в которых соединились животные и растения, его прелестные ангелы…
— Мастер Наталисио неграмотен, он умеет лишь подписать имя, которое ставит на своих скульптурах. И лепить его тоже никто никогда не учил. Его кожа приобрела красноватый оттенок глины, с которой он работает. Но особенно сильно меня всегда поражали его руки… Такие увидишь нечасто, это руки честного человека… Я бы сказал… святого. Наверно, у Франциска Ассизского были такие руки.
— Наталисио еще жив?
— Думаю, что да. Ему сейчас, должно быть, под семьдесят. Я не видел его более шести лет. — Пабло улыбнулся. — Когда я был мальчишкой, я любил ходить к нему. Он жил в бедном, стоявшем у самого моря ранчо с соломенной крышей и глинобитным полом. У Наталисио было пять или шесть детей. Все они месили глину и лепили человечков — одни получше, другие похуже… И мне больше всего нравился этот жирный запах глины. Я часами мог наблюдать, как дон Наталисио лепит и раскрашивает куклы. Иногда он разрешал мне порисовать его красками. Но обычно я заворожено смотрел, как его быстрые руки придают форму глине… И мне казалось, что именно так бог сотворил мир и первого человека. Кстати, о боге — однажды я, разглядывая его причудливых животных, спросил: «Разве такие животные бывают?» Наталисио хитро прищурил глаза, широко улыбнулся и ответил: «Можно лепить животных, которые существуют, но можно лепить, сохраняя уважение к творцу, и тех, которых не существует, которых господь бог забыл создать; вероятно, из-за недостатка времени; шесть дней для сотворения мира — очень мало».
Грис улыбнулся.
— Если мне не изменяет память, полиция Чаморро преследовала Наталисио…
— Да. Художник время от времени покидал мир своих фантазий, чтобы заняться искусством, которое теперь принято называть «боевым». Когда Хуан Бальса со своими партизанами поднялся в горы, дон Наталисио делал раскрашенные глиняные статуэтки, изображающие народного героя, и они переходили из рук в руки, их ставили в ниши, как статуэтки святых. Он лепил также группы, изображающие самые острые моменты в политической и социальной жизни страны. Полицейский избивает крестьянина. Гринго из ЮНИПЛЭНКО с кнутом в руке и сигарой в зубах, верхом на пеоне… Судья, получающий взятку от богача за вынесение несправедливого приговора… Мне рассказывали, что в Соледад-дель-Мар был полицейский инспектор, который издевался над заключенными. Мистер Наталисио вылепил его с кнутом в руке, избивающим простолюдина, который обливается кровью. Сходство куклы с инспектором было столь разительно, что статуэтку передавали из рук в руки, как своеобразную подпольную листовку. Однако нашелся доносчик. В дом мистера Наталисио нагрянули полицейские, уничтожили все его куклы и инструменты, избили художника, его жену и детей. Если бы не вмешательство падре Каталино, Наталисио сгнил бы в тюрьме. Позже он восстановил свою мастерскую и продолжал работать. Но поскольку полиция не переставала за ним следить, Наталисио теперь лепил только ангелов, пользуясь своими младшими детишками как моделями.
Пабло подошел к окну, чтобы посмотреть, расхаживает ли у дома человек в светлом плаще, которого он заметил, когда шел к Грису. Но Грис своим вопросом заставил его вернуться.
— А чем Наталисио является для тебя сегодня?
Пабло взглянул на друга.
— Многим. Начать с того, что он обладает качествами, которым я искренне завидую, чувствуя собственное ничтожество: художественная цельность, истинный гуманизм, близость к природе… Глина, с которой он работает, словно предает ему тайный зов земли… И еще: он совершенно чужд софистике.
— Это все?
— Нет! Я уже говорил, для меня он воплощение совести. Когда я ежемесячно получаю в канцелярии посольства чек от родителей, я вспоминаю о народе Сакраменто, который олицетворяет для меня Наталисио. Я не помню, чтобы я его видел во сне, но в мои мысли он вторгается настойчиво и часто. Конечно, иногда я днями не вспоминаю о нем, однако стоит мне попасть на какой-нибудь веселый и шумный праздник, стоит хоть немного почувствовать себя счастливым, передо мной тут же возникает образ мистера Наталисио, и тотчас меня начинают мучить угрызения совести, мне кажется, что мои удовольствия и комфорт куплены ценой болезней, голода и бедствий моего народа. Обычно я вижу его сидящим у своего ранчо; солнце жжет его лицо, морской ветер шевелит усы и седую бородку. Он смотрит на меня и ничего не говорит. Ничего не просит. Лишь руки его говорят мне о многом…
Пабло прошелся по гостиной, постоял перед гравюрами Гойи. Понимающе кивнув головой, Грис спросил:
— А есть ли подобная совесть у Габриэля Элиодоро?
Пабло повернулся к другу.
— Этот вопрос я задавал себе не раз. Возможно, его совестью является мать. Вы знаете, она была проституткой… Те, кто ее видел, говорят, что она была когда-то красивой женщиной, но изнуренная венерическими болезнями и жизнью, в сорок лет выглядела шестидесятилетней старухой. Когда Хувентино Каррера победил, он неплохо обеспечил Габриэля Элиодоро, и многие ожидали, что он вернется в Соледад-дель-Мар, чтобы помочь матери и вытащить ее из нищеты. Но он не вернулся. Когда же два года спустя он посетил свои родные места, старуха уже умерла, и никто, даже викарий, не знал, где она похоронена…
Грис ненадолго задумался.
— Какие у вас с ним отношения?
— С Габриэлем Элиодоро? Неплохие. Мне было бы легче, если бы я смог его возненавидеть или вообще не знать о его существовании. Но он не лишен известного обаяния, и я чувствую к нему все растущую симпатию, хотя не могу избавиться от мысли, что тем самым я еще раз предаю мастера Наталисио и свой народ.
— По-моему, тебя как раз и привлекает безнравственность этого типа.
— Вы в самом деле так думаете?
— Все интеллигентные люди одинаковы, Пабло. Мы втайне завидуем тем, кто, отбросив всякую щепетильность, предается чувственным наслаждениям.
Пабло снова сел.
— Но представьте, этот развязный и шумный человек бывает подавленным. Я не раз наблюдал посла в мрачные минуты, когда его «индейская половина» брала верх над другой и он неподвижно сидел где-нибудь в углу… Каждый такой приступ тоски кончается поездкой к памятнику Линкольну…
— Много промахов он уже совершил?
— Наоборот, он действует весьма успешно. Я присутствовал при беседе, которую с помощью Молины и моей он вел с заместителем государственного секретаря, хорошо говорящим по-испански. Габриэль Элиодоро удивил нас своим знанием не только финансовых, но и технических вопросов, связанных с проектом сооружения шоссейной дороги, которую наши газеты называют «транссакраментской». Мне показалось, что на заместителя государственного секретаря он произвел хорошее впечатление. Дон Габриэль сумел ловко ввернуть несколько интересных наблюдений и рассказать анекдоты, над которыми американец от души посмеялся. И все же окончательной договоренности о займе мы не добились. Похоже, правительство Соединенных Штатов намерено отложить решение этого вопроса до выяснения результатов ноябрьских выборов в Сакраменто…
— А как посол относится к тебе? Надо думать, не жалеет сил, чтобы тебя очаровать…
— Сейчас расскажу. Вчера он вызвал меня к себе в кабинет и пригласил прогуляться по парку Рок Крик. Сам он показался мне угнетенным, а его приглашение странным, но я согласился. Выйдя из автомобиля, мы направились вдоль ручья. Сначала Габриэль Элиодоро говорил о птицах, деревьях и цветах, сказал, что ему нравится красный клен в посольском саду. «Знаешь, Пабло, что я чувствую, когда подхожу к этому дереву? Мы с ним далеки, я не могу обращаться к нему на «ты» как к нашим кедрам, кактусам, платанам и пальмам. И Америка так же хороша, как это бронзовое дерево. Она красива, благоустроена, богата… Но я знаю, что никогда не стану ее другом». Он помолчал, наблюдая за стаей белых уток. И, когда я взглянул на посла, его лицо поразило меня выражением грусти и одиночества; мне невольно стало жаль Габриэля Элиодоро, хотя я и злился на себя за то, что жалею негодяя, приспешника Карреры, делягу, ростовщика, наживающегося на нищете нашего народа. Конечно, в Габриэле много показного, но в тот момент, по-моему, он не играл… Его грусть была настоящей. Потом он спросил: «Почему ты меня не любишь, Пабло?»
Грис рассмеялся.
— О, я слишком хорошо знаю мужчин такого типа! Эти гордые самцы обладают незаурядной мужественностью и в то же время по-женски тщеславны. Как настоящая кокетка, они не терпят, если кто-то остается равнодушным к их чарам.
— Я что-то пробормотал в ответ, а он дружески взял меня под руку и ударился в воспоминания о своем прошлом. Рассказал, каким мукам и насилиям он подвергался в детские и юношеские годы при диктаторе Чаморро. И закончил так: «Ты не должен судить обо мне поспешно. Многое из того, что обо мне говорят, неправда. Возможно, когда-нибудь ты это поймешь».
Грис положил ногу на ногу.
— А ты сам тоже так считаешь?
— Может быть. Габриэль Элиодоро, судя по всему, не так прост, как кажется. В конце концов, что мы знаем о других? Да и о самих себе?
Грис протестующе замотал головой.
— Оставим страшный суд для бога, если он существует. Пойми, Пабло, меня не интересуют общие соображения относительно характера и души посла. И не будем оценивать его sub species aeternitatis, но в масштабах определенной исторической эпохи, которая определяет миллионы человеческих судеб. Меня интересуют грехи Габриэля Элиодоро не с богословской точки зрения, а с социальной. Для меня он олицетворяет преступный, жестокий и несправедливый режим, с которым надо покончить, если мы хотим, чтобы наш народ не влачил больше почти животного существования, а достиг человеческого уровня.
— Согласен, профессор, согласен. Однако это не должно мне мешать наблюдать Габриэля Элиодоро с беспристрастием художника, каким надо вооружиться, например, романисту, если он хочет понять людей и через них себя.
Грис снова энергично покачал головой.
— Разреши мне сказать, что в данном случае беспристрастие не только абсурдно, но и преступно. Ты знаешь, я не сторонник категорических суждений, но нашу родину и наш народ может спасти лишь падение Карреры и олигархии, которая его поддерживает. Тебе известно также, что я ненавижу насилие. Я по-прежнему считаю себя неспособным к активной революционной деятельности… Но решение мое твердо.
— Хотя и нерадостно.
— Может быть, даже окрашено кровью.
Ортеге вдруг стало нехорошо, в висках запульсировала острая боль. Он вынул из кармана таблетку аспирина и, разжевав ее, запил оставшимся в чашке холодным кофе.
— Я боюсь, доктор Грис, что отныне мое чувство вины будет воплощаться не только в образе мастера Наталисио, но и в вашем.
— Прости, Пабло! — Грис положил руку на плечо друга. — Я не хочу, чтобы ты думал, будто я пытался осудить тебя… У меня на это нет никакого права, как я уже не раз говорил! Я тебя понимаю и знаю, что, несмотря на свои убеждения, сейчас ты не можешь ничего предпринять из-за болезни своего отца.
— Я не уверен в этом. Не исключено, что я просто пользуюсь его состоянием здоровья, чтобы оправдать свою неспособность сделать решительный шаг — послать к черту свою карьеру и присоединиться к революционерам, в какой стране они ни находились бы… Это ведь очень приятно — жить в Вашингтоне, зарабатывать тысячу долларов в месяц, разъезжать в роскошной машине, время от времени посещать Национальную галерею, проводить уик-энды в Нью-Йорке, смотреть хорошие спектакли…
Грис поднялся, подошел к виолончели, вынул ее из футляра и, усевшись, стал настраивать инструмент.
— Только это сможет рассеять тяжелое впечатление от нашего разговора, — тихо сказал он и заиграл, как показалось Пабло, Баха. — Узнаешь? Это вторая часть Пасхальной оратории. Она написана для гобоя с оркестром. Аранжировка моя. Даже в плохом исполнении эта музыка скорее утолит боль, нежели таблетки аспирина… Хотя она и невеселая… Не думай больше о делах… и не сердись на меня…
Пабло, сидевший теперь на софе, слушал музыку, закрыв глаза. Почти человеческий голос виолончели убаюкивал боль своей нежной песней.
— Ну? — спросил Грис, кончив играть. — Кто поверит такому революционеру, как я?
И, укладывая инструмент в футляр, предложил:
— Ты любишь китайскую кухню? Что, если нам пообедать в восточном ресторане? Это недалеко отсюда. Мы могли бы отправиться туда пешком…
Но Пабло отказался, объяснив, что условился о встрече с Орландо Гонзагой, и, пожав Грису руку, вышел.
Прежде чем включить зажигание, Пабло долго смотрел на окна дома, где жила Гленда. Его многочисленные попытки увидеть ее после приема в посольстве не увенчались успехом. Он позвонил Гленде на другой день, чтобы извиниться за свое поведение, но она ответила, что в этом нет никакой необходимости, так как они никогда больше не увидятся. «Но я хочу быть вашим другом», — настаивал Пабло, а она сухо спросила: «Зачем?» — «И вы еще спрашиваете? — воскликнул он. — Затем, что вы мне нравитесь». Наступила ужасно долгая пауза, потом до него донесся голос девушки, звучавший уже менее сурово: «И все же нам лучше никогда больше не встречаться». После этого Гленда бросила трубку.
Пабло еще несколько раз звонил ей на работу. Женский голос с испанским акцентом отвечал, что мисс Доремус нет. Очевидно, по поручению Гленды. Пабло решил было подстеречь Гленду у здания Панамериканского союза, когда она кончала работу, но ему пришлось отказаться от этой мысли, потому что как раз в это время посол вызывал его к себе, чтобы выяснить какой-либо вопрос, поручить написать письмо или просто поговорить.
Сейчас Пабло спрашивал себя, как его примут, если он наберется смелости постучаться в дверь ее квартиры. Однако воображение нарисовало столь неприятную сцену, что уши Пабло загорелись от стыда. Он тронул машину по направлению к центру. Виски по-прежнему сжимала боль.
21
В апрельских и майских номерах вашингтонских газет ни один дипломат не упоминался так часто, как Габриэль Элиодоро Альварадо.
Описывались обеды, которые он давал в своей резиденции для заместителя государственного секретаря по межамериканским делам, директоров Международного валютного фонда и Межамериканского банка развития и прочих высоких лиц, а также представителей высшего общества Вашингтона.
Один из самых популярных столичных журналистов весьма красочно поведал о том, как дон Габриэль Элиодоро, подобно восточному властелину, выписал из своей страны коллекцию драгоценных и полудрагоценных камней, которые раздарил светским хроникерам (мисс Потомак достался огромный аквамарин) и некоторым дамам, известным в Вашингтоне, а те в свою очередь отблагодарили его обедами и приемами. Так распространялась слава о щедрости посла, о его замечательной кухне и винном погребе, а также его остроумии, «полном жизни», как выразился другой хроникер.
Однажды, войдя на цыпочках в кабинет мисс Огилви, Титито Вильальба спросил шепотом: «Как поживает наш багдадский калиф?» Но к иронии второго секретаря весьма ощутимо примешивались восхищение и симпатия.
Надо признать, что за исключением д-ра Хорхе Молины, этой ученой устрицы, все служащие посольства были очарованы Габриэлем Элиодоро. Посол был приветлив, общителен, щедр; каждое утро, появляясь в канцелярии, он громко здоровался, широко улыбаясь. Однажды он даже задержался у стола Мерседес и, погладив ее по голове, спросил: «Ну, как дела, девочка?» Бедняжка заерзала на стуле и так расчувствовалась, что на глазах у нее выступили слезы.
Огилвита молилась на своего шефа, да и Угарте, этот старый бандит, на редкость хорошо относился к бывшему товарищу по оружию.
Даже Виванко, которому полагалось ненавидеть Габриэля, спавшего с его женой, не мог скрывать больше ни от себя, ни от других, что просто очарован послом.
В середине мая, когда сезон подходил к концу, Габриэль Элиодоро выписал индейских танцоров из Парамо и певцов из Оро Верде.
Труппы провели в Вашингтоне лишь неделю, но, по выражению Клэр Огилви, «эти семь дней потрясли мир». Всего приехало тридцать человек: восемнадцать мужчин и двенадцать женщин. По распоряжению посла Огилвита взяла на себя заботу об ансамблях, соединив в себе импресарио, переводчика, администратора и гида: ни один из ее подопечных не говорил по-английски. Прежде всего надо было всех разместить. Отели отказались принять косматых индейцев с бронзовой кожей. Тогда Огилвита обратилась с призывом к местной сакраментской колонии, прося каждую семью приютить у себя хотя бы трех артистов. Согласие было получено. Сама Огилвита поселила в своей квартире двух девушек, ее примеру последовала Мерседес. Титито выбрал себе самого молодого и красивого танцора, Пабло взял двоих певцов. Несколько человек, к ужасу Мишеля Мишеля, поселились в посольстве. Довольно скоро все тридцать артистов были устроены, и Огилвита смогла вздохнуть свободно. Однако трудности лишь начинались. Титито влюбился в своего гостя и называл его «мой бронзовый Аполлон». Однажды вечером он сделал Аполлону гнусное предложение, и тот, возмущенный, дал Титито по физиономии, вышвырнул его из квартиры и запер дверь на ключ. Вильальбе с подбитым глазом пришлось ночевать в гостинице. Мерседес жаловалась на неряшливость своих постоялиц. Девушки как-то собрались за покупками. Клэр отвела их в огромный универмаг, где была объявлена дешевая распродажа. При виде товаров, разложенных на прилавках и полках, индианки принялись кричать и ссориться между собой. «Это мое!» — «Я первая увидела!» — «Дура!» — «Идиотка!» — «Отдай!» Каждая тащила к себе платья, бусы, шляпы, чулки, туфли, панталоны, платки… Огилвита, подтянутая, словно сержант, пыталась восстановить порядок, тщетно взывая: «Muchachas! Muchachas!»
Два уже немолодых музыканта, игравшие на гитаре и арфе, устроили попойку, закончившуюся дебошем, и попали в полицейский участок, откуда Пабло Ортеге удалось освободить их с большим трудом. Трое или четверо молодых певцов, обильно напомаженных бриллиантином и с черными усиками, как-то вечером отправились на поиски женщин, поставив перед собой цель во что бы то ни стало переспать с «белокурыми грингами». Однако дело оказалось куда сложнее, чем они себе представляли, и ребята принялись ругать отсталый город, где не было ни одного публичного дом. И это называется цивилизация? И это называется прогресс?
Позднее события приняли трагический оборот: большинством индейцев овладел приступ меланхолии. Охваченные тоской по родине, они не желали никуда выходить, напуганные чужим городом, его варварским языком и странными обычаями. Они не ели, не говорили, отказывались являться на репетиции и даже иногда плакали.
«Если это продлится еще неделю, я покончу с собой!» — воскликнула тогда мисс Огилви. В саду посольства Габриэль Элиодоро устроил завтрак в честь артистов. И Мишель с величайшим презрением наблюдал за этими дикарями, которые ели, как животные.
Под конец оба ансамбля в ярких национальных костюмах дали представление в парадном зале Панамериканского союза, до отказа наполненном публикой, горячо встречавшей все номера.
Габриэль Элиодоро чувствовал себя цирковым импресарио в вечер гала-представления. Ему хотелось забраться на эстраду и перед исполнением объяснять каждый номер. Танцы и песни родины взволновали его до глубины души, а когда певцы под аккомпанемент арф и гитар исполнили балладу, которую пела его мать, взгляд Габриэля затуманился, и сам Габриэль засопел, стараясь удержать слезы.
27 мая Габриэль Элиодоро присутствовал на похоронах Джона Фостера Даллеса. Церемония на Арлингтонском кладбище покорила его своей простотой. Государственный секретарь, который по делам службы налетал расстояние, равное расстоянию до Луны и обратно, покоился теперь недвижный.
Возвращаясь в Вашингтон в своем автомобиле, Габриэль Элиодоро задумался о собственной смерти; предчувствие говорило ему, что его конец недалек, к тому же он почему-то не сомневался, что хоронить его будут иначе: вероятнее всего, окровавленное, пронизанное пулями тело бросят в общую могилу, а то и вовсе оставят на съедение стервятникам…
— Куда прикажете ехать, господин посол? — спросил шофер.
— В посольство.
В этот день он обедал один, изредка перекидываясь несколькими словами с Мишелем. Столовая была погружена в полумрак, лишь на столе горели две свечи в высоких серебряных подсвечниках.
— Потуши свечи и зажги все огни! — приказал Габриэль Элиодоро мажордому, и тот поспешил выполнить распоряжение. — У нас ведь никого не отпевают!
Кончив обедать, Габриэль принялся бесцельно слоняться из одной комнаты в другую; наверно, таким же одиноким чувствовал себя дон Альфонсо Бустаманте. Габриэль с тоской посмотрел на портреты дочерей и внуков. Сел было за письмо Франсиските, но что-то не писалось. Включил телевизор — показывали ковбойский фильм. Габриэль Элиодоро дождался последнего выстрела и выключил телевизор, когда мужчина с белоснежными зубами принялся рекламировать зубную пасту.
Посол уселся в кресло и, листая журналы, стал поджидать Росалию, пока около восьми часов она не позвонила и не сказала, что не придет, так как что-то ей помешало. Габриэль чуть не наговорил ей грубостей.
Чем же ему заняться? Он мог пригласить Угарте и еще двоих партнеров для покера, но его не соблазняла перспектива видеть перед собой несколько часов подряд военного атташе, который сопел и ковырял в зубах. К тому же и партнером он был не самым приятным: жадный до отвращения, Угарте злился, когда ему не везло.
Около девяти позвонил Титито, который сообщил, что сегодня вечером Фрэнсис Андерсен вернулась в Вашингтон и уже спрашивала, как поживает «дорогой посол».
Габриэль очень обрадовался.
— В самом деле? — воскликнул он. — А когда, по-твоему, я смогу увидеть это чудо природы?
— Сегодня же, если пожелает ваше превосходительство. Фрэнсис, наверное, согласится поехать в какой-нибудь night club. Если позволите, я бы порекомендовал «Блю рум» в отеле «Шорехам». У вас карандаш под рукой? Тогда запишите, пожалуйста, номер телефона богини фиордов…
— Богини чего?
— Скандинавских фиордов.
— А! Ладно. Давай!
22
Пабло Ортега и Кимико Хирота не только довольно регулярно обменивались хайку по почте, но и встречались по крайней мере раз в месяц в чайном домике на улице F. Беседовали они тихо, причем голос Пабло шелестел, как сухая осенняя листва, а голосок Кимико напоминал нехитрую мелодию музыкальной шкатулки, состоящую из трех-четырех нот. Они взяли себе за правило не говорить на интимные и политические темы, и поэтому свидания переносили их в волшебную страну, которой нет на карте и которая подчиняется иным законам времени.
Как-то Орландо Гонзага спросил Пабло, неужели тому доставляет удовольствие пить жасминовый чай в обществе этого «подобия женщины». И Ортега ответил, что, встречаясь с мисс Хирота, он живет в своеобразном четвертом измерении, где нет опостылевшей ему канцелярщины и вашингтонской скуки… где он сам становится другим. «Когда я с ней, — добавил Пабло, — мне кажется, я превращаюсь в рыбу, птицу или дерево с японской миниатюры». На что Гонзага лукаво возразил: «А по-моему, в тебе проснулась детская любовь к куклам».
В тот субботний вечер Пабло и Кимико отправились в ресторан «Чингисхан», где ели японские блюда, пили японскую водку и говорили об искусстве хайку.
Кимико была в простеньком темно-синем шелковом платье, которое очень шло к ее фарфоровой, чуть желтоватой коже.
— Искусство хайку требует знания нескольких маленьких тайн, — сказала японка. — О многом надо уметь лишь намекнуть каким-нибудь образом или словом… Например, поэт одним словом может точно обозначить время года или время дня.
— Да, слово «цветок» — символ вишневого дерева и поэтому означает весну.
— А сверчок — вечер. Кукушка предвещает наступление ночи. Если поэт упоминает колокол, читатель знает, что речь идет о вечерних сумерках, потому что в это время в храмах Японии звонят колокола. И так далее…
— А мне звон колоколов напоминает утро: первые солнечные лучи, утреннюю молитву, пасху…
Кимико улыбнулась, и на мгновение ее черные зрачки спрятались в косых щелях век.
— Японские колокола, — тихо сказала она, — не такие звонкие, у них приглушенный звук…
Некоторое время они молча ели блюдо, которое официант приготовил тут же. Мисс Хирота взяла чашку саке своими тонкими пальчиками и отпила глоток, глядя в лицо Пабло. Потом завела разговор о зен-буддизме, рассказав известную историю о том, как один из учеников Гаутамы Будды дал ему золотой цветок и попросил изложить суть его учения.
— Будда взял цветок, отвел руку подальше от глаз и долго его рассматривал, но так и не сказал ни слова. Этим он дал понять, что истина не в описании, а в созерцании вещей.
— Когда-нибудь я тоже сделаюсь буддийским монахом, — пошутил Пабло, — и стану созерцать цветок… вас, например, а в один прекрасный день, словно озаренный молнией, познаю истину.
— Озарение достигается дисциплиной, терпением и скромностью. На некоторых монахов откровение снисходило лишь после десяти лет созерцательной жизни.
Таинственным голосом Кимико пообещала рассказать о своих наблюдениях над ее знакомыми американцами, если Пабло не станет интересоваться, кто они, так как их фамилии она все равно не назовет. Пабло вообразил, что мисс Хирота собирается доверить ему какую-то мрачную тайну: историю убийства или кровосмешения.
— Представьте, — шепотом начала она, — у дома, где живет эта семья, есть сад… Каждую субботу глава семьи подстригает траву, когда нужно, подрезает деревья, опрыскивает растения всякими средствами против насекомых… Сад очень красив. Члены семьи фотографируют его на цветную пленку, летом едят и пьют под его деревьями, но всегда остаются чужими ему, их не трогают эти цветы, эта трава и эта земля… Они думают лишь о том, чтобы накупить побольше вещей, которые украсят сад и создадут в нем удобства: скамейки, столы, резиновый бассейн, гипсовые статуи… А сам сад для них непонятен и далек… Разве это не ужасно?
Пабло рассмеялся, чем немного огорчил японку, и, понизив голос, как всегда во время подобных разговоров, сказал:
— Я понимаю вашу мысль, но американец, друг мой, смотрит на мир глазами инженера, этот взгляд вообще самый распространенный на Западе. Мы хотим завоевать природу, укротить ее, использовать, наконец, в своих интересах.
— Сугубо материальных, — вставила мисс Хирота. — А в результате вы чужды не только природе, но и друг другу и самим себе.
— Это правда, преодоление психологической дистанции между субъектом и объектом — один из наболевших наших вопросов. Вы считаете, что восточные философы решили его?
— Безусловно.
— Но если японцы в большинстве своем — буддисты и поэтому обладают умом созерцательным, как вы объясните чрезвычайно интенсивную, можно сказать, сумасшедшую индустриализацию своей страны в послевоенные годы?
— Этот промышленный дух также близок к нашему истинному образу жизни, как искусственно выращенный жемчуг к настоящему. У нас пока есть время и вкус наблюдать природу и пользоваться ее дарами. — Она улыбнулась. — И еще рисовать и писать стихи. Вы знаете, что около миллиона японцев владеют искусством хайку?
Пабло наполнил обе чашки.
— У американцев же, — прошептала Кимико, оглядываясь по сторонам, — нет ни времени, ни способности получать удовольствие от того, что они делают. И что еще хуже: они думают, будто делать важнее, чем быть, действовать лучше, чем созерцать.
— Однажды я заговорил об этом с моим другом журналистом Биллом Годкином, — начал Пабло после небольшой паузы. — Вы помните его? Рыжий, веснушчатый, курит трубку… Он меня выслушал, как всегда терпеливо, а потом сказал: «Что было бы с нами, если бы не изобретатели, инженеры, конструкторы и в особенности ученые? Что было бы с нами, если б мы, сталкиваясь с разного рода трудностями, неудобствами и бедствиями, созерцали буддийский абсолют или собственный пуп?.. Прежде всего человечество периодически вымирало бы от эпидемий… Вспомни о достижениях физики и биохимии». Тут мой друг перечислил ряд открытий, сделанных западными учеными, которые способствовали не только улучшению, но и продлению человеческой жизни. — Пабло рассмеялся. — Но потом вмешался другой мой приятель — Гонзага: «Чего не хватает вам, американцам, так это веры в чудеса. Вы народ прозаический и практичный». Годкин пососал свою трубку и взглянул на Гонзагу. «Зато у вас, латиноамериканцев, ее в избытке. А в чудеса надо не только верить, но и совершать их. Назови мне чудо, которое бы затмило то, что делаем сегодня мы, опресняя морскую воду?»
Кимико рассказала, что некоторые ее друзья уже получили послания абсолюта. Пабло не перебивал ее, хотя и слушал с недоверием.
— А вы никогда не задумывались над одним чудовищным противоречием? Японский генеральный штаб, который разработал и осуществил предательское нападение на Пирл-Харбор, целиком состоял из зен-буддистов… И атомная бомба была изобретена, сделана и сброшена на мирный город христианской страной… Как это можно объяснить?
Ортега тут же раскаялся в своих словах, увидев, как помрачнело лицо секретаря японского посольства.
Из «Чингисхана» они отправились в кино. Однако Пабло плохо следил за тем, что происходило на экране, беспокойно ерзая на своем стуле: его волновал аромат Кимико, сидящей совсем рядом с ним, в темноте зала. Не раз ему хотелось взять ее за руку, но Пабло сдерживал себя. Это было бы все равно что залить жиром тонкую японскую миниатюру. Впрочем, вспомнив о Гленде Доремус, он сразу забыл о японке. Этим утром Пабло написал ей записку:
«Не надо бояться меня. Подчинитесь законам своей страны и предоставьте «обвиняемому» право надеяться. По-прежнему настаиваю на свидании с вами. Позвоните мне домой или в посольство».
23
В следующий понедельник утром, около девяти, Пабло, как обычно, остановил свою машину позади резиденции посла и пешком направился через парк в канцелярию. С безоблачного неба светило уже по-летнему теплое и яркое солнце, в лучах которого блестели крылья стрекоз и струйки воды из машин, поливавших газоны.
Пабло шагал, засунув руки в карманы и низко опустив голову, он думал о Гленде, надеясь, что сегодня найдет, наконец, на своем письменном столе ее записку. Когда он поднял глаза, из окна кабинета Панчо Виванко плавно вылетело что-то легкое и светлое. Птица, дротик? Предмет скрылся в кроне дерева, и тут Пабло улыбнулся. Господин консул начал рабочий день, раз летают бумажные голуби! Поздоровавшись с молчаливым швейцаром, Пабло вошел в канцелярию, сказал несколько любезностей Мерседес — порой эта некрасивая девушка вызывала в нем жалость, — пробормотал что-то вместо приветствия одному из лейтенантов Угарте, постоянно просившему «телефоны девочек», кивнул Огилвите, которую заметил в глубине коридора, вошел в свой кабинет, закрыл дверь, уселся за стол, взял ручку и листок чистой бумаги и написал записку мисс Хироте, поблагодарив ее за удовольствие, которое доставило ему ее общество в субботу, и посвятив ей хайку:
Консульская служба Посланьями белоснежными Шлет господин консул Голубей бумажных.Стоя у окна своего кабинета, Панчо Виванко глядел на ясень, куда уселась его бумажная птица, но мысли его были заняты Росалией. Почему она последнее время так грустна и подавлена? Почему вдруг плачет ни с того ни с сего, ходит с опухшими глазами, плохо спит по ночам? Росалия не отвечала на его вопросы, отвергала все попытки мужа утешить ее. Сейчас Виванко чувствовал, как крепнет в нем подозрение, которое уже несколько дней преследовало его и которое он тщетно пытался отбросить. Росалия беременна. Вот она, ужасная правда. Разве это так уж невероятно? Все больше утверждаясь в этой мысли, Панчо машинально скатывал долларовую бумажку в узкую и плотную трубочку. «Ребенок не мой. В этом я абсолютно уверен. Я всегда был осторожен, как она просила. Но этому борову наплевать на все, он только о себе думает, ему нет никакого дела, что будет с его любовницей…»
Ветерок шевельнул ветви ясеня — и бумажная птица упала на землю. Уставившись на это белое пятно, напомнившее ему о чайках их медового месяца, Панчо Виванко продолжал размышлять о несчастье, свалившемся на Росалию. Что делать? Если она согласится на аборт, то к кому обратиться? Губы консула дрогнули, лоб и руки покрылись холодным потом. Глупец! Теперь ему все стало ясно. Росалия в самом деле беременна, но ей стыдно признаться в этом. Ведь она так не хотела детей! Они обсудили это сразу же после свадьбы. «Потом, Панчо, сначала, пока мы молоды, мы должны пожить для себя. Может быть, лет через пять-шесть… Но не сейчас. Ну что за жизнь у меня будет в Париже, если мне придется нянчить ребенка… Нет и нет!»
Виванко поднял голову и посмотрел на резиденцию посла. Подлец! Этот мерзкий индеец повинен в том, что в чреве Росалии, как злокачественная опухоль, растет плод. Что же делать, святой боже? Что делать? Бедняжка Росалия, отчаявшись, может обратиться к какому-нибудь шарлатану. Наглая сводница Нинфа наверняка знает адреса этих чудодеев и, чего доброго, сведет подругу к одному из них… Росалия подвергнется смертельному риску. Но он заставит ее признаться во всем ему, мужу, чтобы вовремя принять необходимые меры.
Виванко снял очки, подышал на стекла и протер их носовым платком. А пока он занимался этим, воображение рисовало ему страшные сцены: Росалия истекает кровью на столе мрачной операционной. «Алло! Кто у телефона? Мистер Виванко? Приезжайте немедленно в морг. Ваша жена только что найдена мертвой в такси. Кровотечение». Кто ему позвонит? Конечно, полиция. Разразится скандал, газеты постараются его раздуть, но ужаснее всего будет смерть Росалии. Бледную, неподвижную, он увидит ее в холодном морге…
Виванко взглянул на самолет, который шел к аэропорту на посадку, потом на часы. Пора приниматься за работу. Он уселся за стол, вытащил из ящика несколько цветных карандашей и, по своему обыкновению, стал рисовать в блокноте. А через несколько минут, уже почти успокоившись, с привычным рвением визировал паспорта и подписывал фактуры.
Д-р Хорхе Молина, тоже сидя за своим столом, изучал документы, относящиеся к вопросу, который этим вечером должен был обсуждаться на заседании Совета ОАГ. Предполагалось направить в Никарагуа комиссию, чтобы установить, насколько обоснованно заявление этой страны, будто бы костариканские самолеты доставляют повстанцев на ее территорию.
Однако он с трудом вникал в суть лежавших перед ним бумаг. Его мысли то и дело возвращались к заметкам, которые он оставил на столе у себя дома и которые свидетельствовали о сомнениях, возникших у автора относительно некоторых подробностей биографии примаса Сакраменто.
Молина встал и тут же почувствовал острую боль в ключице, отдавшуюся затем в плече и в левой руке. Он принялся расхаживать по комнате. Призрак Гриса уже сидел в углу, на своем обычном месте. На Грисе был неизменный спортивный пиджак из серого твида, темно-серые брюки, рубашка с мягким, немного смявшимся воротничком и темный галстук. Некоторая небрежность туалета, свойственная ученым, не лишала его, как это ни странно, элегантности. Молина знал, что спросит у него призрак.
— Значит, ты считаешь, что сможешь честно написать хвалебную биографию архиепископа — примаса Сакраменто, несмотря на то, что ты о нем знаешь?
— А почему бы и нет? Он обаятельный человек.
— Не спорю. Но мне он кажется скорее последователем Макиавелли, нежели Христа.
— Это твое право.
— Я сожалею, что ты заинтересовался личностью, которая, неожиданно возникнув перед тобой, грозит нарушить твои первоначальные планы…
— Ты намекаешь на падре Каталино. Не стану отрицать, я никогда не предполагал, что этот скромный провинциальный викарий займет столь важное место в моей работе. Однако…
Грис улыбнулся, а Молина продолжал говорить, положив руки на бедра и расправив грудь.
— Однако этот сельский священник жил в то же время, что и дон Панфило, и сравнение с ним явно не в пользу последнего. Они родились в одном и том же году — в тысяча восемьсот девяностом. Панфило — в роскошном особняке Парамо, в знатной семье, кичившейся своим дворянским происхождением и богатством, которое было нажито главным образом на эксплуатации серебряных рудников в конце восемнадцатого столетия…Правильно? Каталино же, сын крестьянина, подобно Иисусу, родился в хлеву…
— Должен заметить, что, несмотря на свою хваленую логику, которая отвратила тебя от бога, ты, Грис, неизлечимый романтик. Верно, Каталино появился на свет в убогой хижине с глинобитными стенами и соломенной крышей и его родители были крестьянами, но, по-моему, нельзя ставить человеку в вину его знатное или низкое происхождение. Игнасио де Лойола родился в благородной и богатой семье, но это не помешало ему стать тем, кем он стал. Габриэль Элиодоро тоже родился в хлеву, если употребить твой образ, и мы с тобой знаем, что поэтому он вовсе не превратился в святого. Скорее наоборот!
Послышался смех Гриса.
— И пока дон Панфило Аранго-и-Арагон, сотрапезник и друг диктатора, поддерживает близкие отношения с политическими деятелями и миллионерами, никогда не подвергая критике их мораль и обычаи, пока он вращается в великосветском обществе и живет по-княжески, падре Каталино Сендер выполняет свои обязанности в провинциальном, бедном приходе, делясь по-христиански своим горьким хлебом с крестьянами, которых он часто защищает от могущественных землевладельцев.
Кто это сказал? Он, Молина, или этот проклятый эмигрант? А может, кто-то третий, в ком слились они оба каким-то чудовищным образом? Ибо министр-советник слышал чей-то невыразительный, монотонный, без интонаций голос, который иногда произносил отдельные слова, а иногда целые предложения с выводами и обобщениями.
— Когда Хуан Бальса поднял крестьян на восстание против диктатуры Антонио Марии Чаморро и укрылся со своими партизанами в горах, молодой падре Каталино, лишь недавно принявший посвящение, не раз покидал свое ранчо в Соледад-дель-Мар и с риском для жизни поднимался в горы Сьерра-да-Кавейра, чтобы исповедовать и причащать мятежников. А в это время дон Панфило произносил в кафедральном соборе Серро-Эрмосо яростные проповеди, в которых обрушивался на Хуана Бальсу как на «безбожника, кровавого бандита» и призывал кару божью на его голову. Дон Панфило был любимцем не только архиепископа дона Эрминио Ормасабаля, сделавшего его своим секретарем, но и любимцем общества, которое по воскресеньям заполняло собор, чтобы послушать изысканные проповеди молодого священника, красноречивого, как Цицерон, и прекрасного, как языческий бог древних греков. Дон Панфило отлично знал — да и как ему было не знать! — что внушает отнюдь не платонические чувства великосветским дамам, чьи салоны, а возможно, и спальни он посещал. В те времена воскресные проповеди дона Панфило собирали народу не меньше, чем хороший спектакль. Потому что твой герой — прежде всего актер, который умеет владеть голосом, делать в нужных местах драматические паузы и заранее отрепетированные жесты. Ты сам знаешь, что он влюблен в свою осанку, свое лицо, свой ум, свои манеры, голос, руки, эти аристократические руки! Словом, типичный победитель. А отец Каталино год за годом волочил подол своей грубой сутаны по пыли и грязи Соледад-дель-Мар, утешал больных и страждущих, плакал и молился, когда был не в состоянии спасти чью-нибудь жизнь или накормить голодного…
Хорхе Молина подошел к окну, но, занятый своими мыслями, ничего не увидел. Голос, в котором он теперь начал узнавать свой собственный, продолжал неумолимо раздаваться в его ушах.
— Однажды солдаты правительственного отряда потребовали, чтобы падре Каталино отвел их в убежище Хуана Бальсы, так как в Соледад-дель-Мар только он знал дорогу туда. Викарий отказался, хотя ему грозили расстрелом и пытками. Тогда военный министр добился, чтобы дон Эрминио вызвал непокорного священника для беседы в архиепископский дворец. Архиепископ пытался внушить викарию, будто он этим своим поведением компрометирует церковь, но падре Каталино и здесь не соглашался. А когда дон Эрминио спросил, намерен ли он изменить свое поведение, падре Каталино ответил, что и впредь будет выполнять свой пастырский долг, то есть давать утешение тем, кто в нем нуждается, но кроме того, и долг человеческий, а именно: оказывать помощь тем, кто борется за справедливость… И по-прежнему будет делиться с прихожанами хлебом насущным, заключил он как всегда спокойно. Разгневавшись, архиепископ сослал падре в еще более бедный приход, на окраину провинции Сан-Фернандо.
Правой рукой Молина массировал левую и покачивал головой: ему не помогло то, что ночь он провел на полу без матраца и подушки…
— Что ж, министр, наберемся мужества, никто нас не слышит. Кто был исповедником доньи Рафаэлы, жены Чаморро, в последние годы ее жизни? Монсеньор дон Панфило, это известно всем. Он знал пороки этой матроны, знал, как она вертит беднягой Чаморро, словно послушной марионеткой, знал, что эта жестокая и эгоистичная женщина изменяет своему мужу, и тем не менее продолжал поддерживать с ней дружбу и бывать у нее. А потом у развратницы начался мистический приступ (ты, конечно, попытаешься убедить читателей, что не кто иной, как дон Панфило повинен в этой «перемене»), донья Рафаэла ушла в монастырь, где вскоре умерла, окруженная ореолом святости, а дон Панфило Аранго-и-Арагон отслужил в соборе заупокойную мессу, которая была своего рода прелюдией к причислению доньи Рафаэлы к лику святых.
Молина подошел к столу, взял карандаш и написал: «Не забыть: в конце 1924 года дон Панфило великодушно просил у архиепископа разрешения вернуть падре Каталино его приход в Соледад-дель-Мар, просьба была удовлетворена».
Министр-советник увидел в углу своего кабинета самого дона Панфило: он сидел в кресле, облаченный в роскошное епископское одеяние, положив благородной формы руки на подлокотники кресла, с улыбкой иронической и в то же время снисходительной; его лицо было все еще красиво, несмотря на морщины.
— Двадцать пятый год. Хувентино Каррера поднял батальон в казармах пятого пехотного полка и ушел с солдатами в горы. Восстали и другие гарнизоны. Падре Каталино был арестован за то, что помогал повстанцам, снабжал их боеприпасами и продовольствием, укрывал в своем доме мятежников.
Молина сделал еще одну запись: «Насчет помощи, которую падре Каталино предоставлял революционерам, знает лучше всех Габриэль Элиодоро, он же мог бы сообщить подробности. Г. Э. два или три дня прятался в церкви богородицы Соледадской, чтобы при первой же возможности подняться на Сьерра-де-ла-Калаверу и присоединиться к повстанцам. Судя по всему, падре Каталино был его проводником».
Хорхе Молина расхаживал между двумя призраками; дон Панфило молчал, а Грис опять заговорил:
— А как поступил твой друг Панфило, когда увидел, что войска Чаморро накануне поражения, а в университете, Серро-Эрмосо и других городах и деревнях начались волнения? Он предложил дону Эрминио отправить его на вершину Сьерра-де-ла-Калавера для тайных переговоров с Хувентино Каррерой. Архиепископа эта идея привела в замешательство. «Вы лишились разума?» — спросил он. — «Нет, Ваше святейшество, — ответил монсеньор. — Просто я уверен, что победит Каррера, могущество Чаморро подходит к концу, а церковь должна быть на стороне победителей». Что ответил дон Эрминио, тебе, Молина, известно, у тебя есть свидетельство самого дона Панфило, твоего друга, который так гордится этим блестящим политическим маневром…
Теперь раздался голос дона Панфило, мощно звучавший когда-то под сводами собора.
— Дон Эрминио сказал мне: «Идите. Но никаких полномочий я вам не даю. Действуйте на свой страх и риск. Если Хувентино Каррера будет побежден, как я надеюсь, я во всеуслышание объявлю о вашем посредничестве, о котором якобы не знал, и выдам вас правительству, с болью в душе, но все же выдам». Я улыбнулся и ответил: «Согласен, Ваше святейшество». В сутане сельского священника я выехал из Серро-Эрмосо вечером того же дня и на следующее утро был в Соледад-дель-Мар. Падре Каталино отвел меня к главарю повстанцев, который принял меня с недоверием. Он спросил: «Это вы, ваше преподобие, несколько месяцев назад произнесли в соборе Серро-Эрмосо проповедь, направленную против меня?» Я кивнул с улыбкой. «Но я здесь не для того, чтобы оправдываться или извиняться, а для того, чтобы достигнуть соглашения, которое, по-моему, в интересах и революции, и моей церкви». Он согласился выслушать меня. Мое предложение было простым: в течение нескольких недель я брался поднять на восстание некоторые крупные гарнизоны, например Парамо и Пуэрто Эсмеральды, что приблизит конец гражданской войны и поможет избежать ненужного кровопролития. Я пообещал также немедленно прекратить всякие проповеди против революционеров. Каррера выслушал меня все еще подозрительно и поинтересовался, что я требую взамен. Я попросил, чтобы в присутствии всего повстанческого штаба мне было обещано следующее: а) церковь, ее служители, ее собственность и ее права будут уважаться; б) ни в одном из районов не будут допущены насилия или грабежи; в) в Серро-Эрмосо войска вступят в строгом порядке, и Каррера получит ключ от города из рук архиепископа-примаса, кольцо которого он публично поцелует. Каррера удалился на совещание со своими людьми. Немного погодя он вернулся и объявил, что принимает мое предложение, но соглашение это будет джентльменским: он не станет подписывать никаких документов. Мы обменялись рукопожатием, и я уехал в Соледад-дель-Мар. Я выполнил обещанное. Через две недели гарнизоны Пуэрто Эсмеральды и Парамо — командиром последнего был мой троюродный брат — восстали, и Чаморро пал.
— Но Каррера не выполнил одного из условий соглашения, — вмешался Грис. — Насилия и грабежи, по крайней мере в первые дни после победы, все же имели место. А о созданных тогда народных трибуналах даже говорить всерьез нельзя.
Дон Панфило махнул рукой.
— Ничто в этом мире не совершенно. Зато другие условия нашего устного договора были выполнены в точности. Да! Я забыл об одном важнейшем пункте соглашения. Каррера обещал, что как только его победа будет закреплена, он созовет учредительное собрание, выработает конституцию и произведет выборы. Он сдержал свое слово.
Молина уставился в угол комнаты, снова вспомнив о заметках, которые сделал прошлым вечером: «Мне пришло на ум, что дон Панфило в церкви представляет собой крупную буржуазию, а падре Каталино — пролетариат».
— Меня радует, что мой друг прибегает к марксистской терминологии, — раздался голос Гриса. — Я бы сказал проще: падре Каталино — представитель подлинно христианской церкви, следующей заветам великого самаритянина и святых мучеников…
— Поразмысли хорошенько, Грис, и ты поймешь, что без таких людей, как дон Панфило, церковь не могла бы существовать, ей нужно не только сердце, но и голова. Именно благодаря гармоническому сочетанию этих начал, которые олицетворяют собой дон Панфило и падре Каталино, церкви удается балансировать между божественным и светским.
В наступившем молчании Молина снова принялся растирать больную руку. Пора было засесть за никарагуанский документ, но Молина понимал, что сейчас не сможет читать его с должным вниманием.
— Впрочем, это еще не все. Пока оставим двадцать пятый год. Я знаю, тебя страшит то, что ты подходишь к нашим дням. Каррера был избран президентом, потом переизбран, он воровал, убивал, пытал, богател и сейчас под демократической вывеской и при поддержке полностью подчиненных ему бесхребетных, беспринципных конгрессменов продолжает заниматься тем же… И все эти годы между церковью и государством в Сакраменто царил мир. А дон Панфило продолжал оставаться прихлебателем, очевидно успокаивая свою совесть перефразированным евангельским изречением: «Каррере каррерово, и богу богово».
— Ты упрощаешь, Грис, потому что ненавидишь дона Панфило. Люди не шары и не кубы, а многогранники, гораздо более сложные, чем мы думаем. Я хочу создать не карикатуру, а портрет. У дона Панфило есть достоинства, и немалые.
— Допустим. А когда полиция Карреры изобрела коммунистический заговор, послуживший предлогом для государственного переворота и создания пресловутого Движения национального спасения, по-твоему, дон Панфило, человек умный и тонкий, не догадывался, что все это ложь? А если догадывался, то почему молчал? Почему стал соучастником этого преступления против демократии? И еще один вопрос: почему он никогда не протестовал против пыток, которым подвергали политических заключенных в тюрьмах Серро-Эрмосо?
— Минуту! Дон Панфило не раз обращался с этим вопросом к Каррере. У меня есть тому доказательства и свидетель: Габриэль Элиодоро.
— Я знаю, по настоянию архиепископа Каррера распорядился произвести «расследование», которое установило, что слухи о жестокости начальника полиции распускают враги…
— Дон Панфило, — продолжал Грис, — при поддержке посла Соединенных Штатов помогал свержению Морено и возвращению Карреры.
— Ты не должен забывать о многочисленных попытках архиепископа стать другом Морено, он посещал его во дворце, призывал к умеренности, но Морено отклонял все советы дона Панфило. Бог будет судьей дону Панфило Аранго-и-Арагону. Бог, а не ты и не я, скажет последнее слово об этом владыке церкви.
— Ты же не веришь в бога, Молина.
— В таком случае, как сказал герой Достоевского, — раз бога нет, все позволено.
— Не забудь еще о проповеди, которую дон Панфило произнес в соборе вскоре после трагической ночи и в которой он безоговорочно осудил душу самоубийцы Хулио Морено на вечные муки ада. Но я сомневаюсь, чтобы дон Панфило верил, будто Морено покончил с собой.
— Ты не имеешь права считать дона Панфило циником и безнравственным человеком!
— Однако Данте нашел возможным поместить в ад некоторых епископов…
— В своей работе я могу доказать, что дон Панфило рисковал вечным блаженством ради спасения церкви. Это делает его почти мучеником.
— Ловко! Тогда не забудь представить падре Каталино агентом Москвы и посланником дьявола.
Министр-советник сел за стол и закрыл лицо руками. Голос Гриса продолжал:
— Хорхе Молина, я призываю тебя написать правдивую биографию дона Панфило Аранго-и-Арагона. Подлинным героем твоей истории должен стать падре Каталино Сендер! Он меньше архиепископа искушен в теологии, зато всегда следовал духу Нагорной проповеди. У дона Панфило много различных наград, которыми он любит похвастать. Сельский священник дон Каталино получил единственную — язву желудка. Он олицетворяет собой подлинно христианскую церковь, проповедующую любовь и сострадание, церковь вечную и непобедимую!
Министр-советник, взяв карандаш, принялся постукивать им по столу. Да, если бы он решил изложить все, что ему известно об архиепископе — на основании логических заключений или документов, — он не только потерял бы его дружбу, но и нанес вред своей любимой церкви. Церкви, к которой он страстно желал приобщиться вновь, вновь открыв для себя бога.
Но Грис, как падший ангел, нашептывал ему:
— Наберись мужества и доберись до истинных причин своих побуждений! Ты ни в коем случае не хочешь навлечь на себя недовольство своего друга архиепископа-примаса, ибо надеешься, что в один прекрасный день он замолвит за тебя словечко президенту Каррере, а тот назначит тебя послом в Ватикане… Об этом ты мечтал всю жизнь!
Хорхе Молина сломал карандаш пополам.
24
Взглянув на ручные часики, Клэр Огилви подумала: «Посол опаздывает. Что могло случиться?» Она посмотрела расписание на сегодня: ровно в одиннадцать дон Габриэль Элиодоро принимает в своем кабинете никарагуанского посланника, в половине первого завтракает с одним из директоров Экспортно-импортного банка в ресторане «Оксиденталь», в шесть часов отправляется на прием в эквадорское посольство.
А вечером? Огилвита лукаво улыбнулась. Вечером ее шеф, разумеется, повезет мисс Фрэнсис Андерсен в какой-нибудь клуб, а потом… потом одному богу известно, что произойдет. Бедная Росалия! Некоторое время секретарша редактировала текст речи, написанной по-английски Пабло Ортегой для дона Габриэля Элиодоро, который произнесет ее в ближайший четверг на завтраке в Национальном пресс-клубе, куда он приглашен в качестве почетного гостя. А Клэр предстояла далеко не легкая задача добиться, чтобы посол смог прилично прочитать эту речь по-английски. Good heavens!
Она снова взглянула на часы.
В нескольких милях от посольства в вестибюле мотеля на берегу Ли Хайуэй в Виргинии Альдо Борелли поглядывал на большие электрические часы. Двадцать минут одиннадцатого. Ему надо вернуться в посольство не позже двенадцати, чтобы успеть отвезти посла в «Оксиденталь».
Нинфа Угарте, попросившая у администратора мотеля комнату, «чтобы немного отдохнуть», заполнила карточку на имя сеньоры и сеньора Гонсалес и заплатила за номер двенадцать долларов. Уже третий или четвертый раз они снимали комнату в этом мотеле. Альдо Борелли было не по себе, он не знал, куда девать руки, куда глядеть. Он заметил, что администратор косо посматривает на него и, разумеется, понимает, что никакие они не муж и жена. Альдо покраснел: отвратительное положение. И чем больше он размышлял об этом, тем сильнее охватывала его тревога. А что, если жене все станет известно? Она уже и так с подозрением выслушивала его истории о деньгах, которые он приносил домой. «Просто, дорогая, новый посол очень щедр, он всегда дает мне хорошие чаевые. Галстуки? Это подарок дона Габриэля Элиодоро. Они же поношенные, видишь? Туфли тоже он подарил, к счастью, у нас один размер. Рубашки мне немного свободны, но это не удивительно — у него шея как у быка». Но если узнает генерал Угарте — mamma mia! — он пристрелит меня.
Хорошо, что посол на его стороне, он знает обо всем и не осуждает Альдо. Наоборот, покровительствует, разрешает уезжать два раза в неделю без формы. Так дон Габриэль Элиодоро расплачивался за услуги сводницы.
— Двадцать пятый номер, — сказал, улыбаясь, администратор и отдал ключ донье Нинфе. — В конце коридора, справа, please.
Альдо последовал за ней. Альфонс, настоящий альфонс… получает деньги и подарки за то, что спит с этой матроной. Костюм, который на нем (Рейлих Хабердешер, 60,00), тоже подарен любовницей. И вот он идет за ней по длинному и чистому коридору гостиницы, похожему на больничный, и смотрит на ее ягодицы, ее лоснящуюся жирную шею, блестящие волосы… От нее несло гелиотропом… или нарциссом? — словом, чем-то тошнотворным. Это был запах позора, запах их объятий, которые оставляют его холодным. Зато через два-три месяца он сможет выписать брата, и уж тот похохочет, когда узнает, как Альдо заработал эти доллары. «Вот так, Джино, пришлось торговать собой, как проститутке».
Они вошли в комнату и заперли дверь. Нинфа со стоном прижалась к Альдо и, закрыв глаза, протянула ему губы для поцелуя. Альдо с отвращением прикоснулся к этим влажным губам, от которых пахло помадой и табаком. Грудь Нинфы казалась ему резиновой. А сама Нинфа почти потеряла человеческий облик, это была карикатура на женщину. Всякий раз как Альдо ложился с ней, у него появлялось впечатление, что сейчас его проглотят, а когда Нинфа обнимала его, он вспоминал жену, ее чистое, красивое и упругое тело.
Нинфа начала раздеваться. Альдо снял пиджак. Им не о чем было говорить, и толстуха напевала испанскую колыбельную песенку.
Альдо развязывал узел галстука и, когда увидел вдруг в зеркале свое отражение, поторопился отвести глаза.
После того как посол отправился в канцелярию, Мишель Мишель пришел посмотреть, хорошо ли уборщицы и горничные убрали его комнаты. Затем спустился на кухню, дал указания повару насчет обеда и наконец облегченно вздохнул, словно выполнил тяжелый долг. Запершись у себя в комнате, Мишель Мишель записал в дневнике своим тонким и четким почерком:
«Я наблюдаю за новым послом почти с научным интересом. Он человек, несомненно, примитивный, но обладающий каким-то непостижимым обаянием. (Служащие посольства его обожают.) Он необразован, не имеет ни малейшего представления о литературе, живописи и музыке. Но, бесспорно, неглуп. У него очень развиты инстинкты, жизнелюбив. В посольстве часто слышатся раскаты его смеха. (Кстати, по-моему, на свете нет ничего, что могло бы вызвать такой хохот.) Любопытно, но временами у дона Г. Э. бывает депрессия. Он садится на стул, съеживается, уставившись в одну точку, и надолго замолкает. Как-то ночью меня разбудил шум шагов на верхнем этаже. Я надел халат, поднялся наверх и встретил посла, на котором были только брюки от его отвратительной полосатой пижамы. Расхаживая по залу, он зевал и почесывал голову. Он сказал мне, что увидел страшный сон, проснулся и уже не смог заснуть. Попросил приготовить кофе, поскольку не собирался больше ложиться. «Время сна, Мишель, мы крадем от жизни». Я принес ему кофе. Он пригласил меня сесть, и я принял приглашение, потом предложил чашку кофе, но я отказался. И тогда он рассказал мне историю своей жизни во вкусе Жоржа Онэ или Дюма-отца: бедный сирота, приходский священник, революция… Настоящий роман! (Или все это придумано?) Глаза у меня слипались. Я вспомнил, как много лет назад на рассвете я встретил дона Альфонсо Бустаманте, который тоже бродил, подобно призраку, по залам особняка. Но какая разница! Дон Альфонсо был в элегантном шелковом халате, тщательно причесан, в домашних туфлях а ла Анатоль Франс, как он их называл. Мы до утра обсуждали с ним философские проблемы. Дон Альфонсо рассказал мне, что часто просыпается среди ночи, охваченный страхом перед смертью, перед неизбежным концом, когда он «превратится в ничто». В наших ночных беседах он часто говорил о небытие. «Qu» est-ce que c» est le néant, Michel?» Что я мог ему ответить? «Le néant c» est le néant, Monsieur l» Ambassadeur, c» est tout!» А он грустно качал головой. Бедный дон Альфонсо! Его обуревал страх перед смертью, как дона Габриэля Элиодоро обуревает желание жить».
Орландо Гонзага сидел за своим столом в канцелярии бразильского посольства и изучал секретные документы.
Вызвав секретаря, он попросил:
— Закажите срочный разговор с Бразилией, с государственным секретариатом.
И, пораженный, стал снова перечитывать бумаги. Бразилия будет импортировать фасоль из Соединенных Штатов! Прямо светопреставление! Сделку собираются заключить с американской фирмой, о которой Гонзага наводил справки в нью-йоркских банках и получил отнюдь не лестные отзывы. Надо как можно скорее передать эти сведения государственному секретариату, чтобы помешать заключению сделки.
Задумавшись, Орландо Гонзага закурил. Вторая мировая война не пошатнула экономики Бразилии, наоборот, в банках США ее вклады составляли несколько сот миллионов долларов золотом, — и тем не менее она была вынуждена импортировать картофель из Голландии, этой крошечной страны, которой пришлось открыть плотины, чтобы сдержать нацистское вторжение, и города и порты которой пострадали от бомбардировок.
Гонзага хотел избежать ответственности, а также оградить посольство от возможных обвинений в недобросовестности или заинтересованности. Хотя и не очень верил в то, что его соображения будут учтены. Он чуял в этой сделке что-то нечистое. У Гонзаги вообще порой создавалось впечатление, будто государственные чиновники Бразилии потеряли всякий стыд. Представители так называемой элиты либо получали комиссионные, либо ничего не смыслили. Исключение составляли очень немногие. Просто голова идет кругом…
Он подошел к окну, взглянул на посольский сад, затем сел в кресло и взял со столика нью-йоркскую газету, доставленную с утренней почтой. Небрежно просматривая газету, он вдруг увидел заметку одного из знаменитых хроникеров, которые кормятся сплетнями. Заметка заинтересовала Гонзагу.
«Посла одной из латиноамериканских республик, новичка в дипломатических и общественных кругах Вашингтона, впрочем, успевшего завоевать популярность, часто можно увидеть в ночных клубах «Эспионахе», «У Пьера», «Блю Рум» с одной недавно разведенной ослепительной блондинкой. Дипломат не только женат, он дедушка, хотя в это трудно поверить».
Улыбнувшись, Орландо выпрямился и позвонил Пабло.
— Как дела, Паблито?
Голос друга показался ему веселым.
— Представь, Гонзага, сегодня у меня не болит голова. Почти нирвана!
— Я тебе звоню потому, что в одной нью-йоркской газете только что увидел заметку о твоем после. Послушай, — Гонзага прочел. — Ну как? Каждому ясно, что имеется в виду дон Габриэль Элиодоро…
— А что тебя удивляет? Наш герой, наверное, хочет на деле проявить прославленную латиноамериканскую мужественность…
— Ну что ж. Он не сумел добиться займа на сооружение транссакраментской дороги, зато, судя по всему, сумел добиться мисс Андерсен, взял ее приступом и водрузил флаг своего государства на ее замечательной белоснежной груди… Для прославления вашей родины, Паблито!
— Ты циник, Гонзага.
— Нет, дружище. Я просто завистник!
Сняв пиджак, посасывая трубку и вооружившись синим карандашом, Билл Годкин читал сообщение, полученное утром из Серро-Эрмосо от корреспондента Амальгамэйтед Пресс.
«В столице ходят упорные слухи о том, что президент Каррера собирается реорганизовать кабинет министров, уволив в отставку гражданских министров и посадив на их места военных, пользующихся его доверием. Ожидаемый правительственный кризис вызван тем, что нынешний кабинет, за исключением военного министра, высказался против принятия дополнения к конституции, которое позволит генералиссимусу оказаться снова на посту президента. Тем временем палата депутатов под самыми различными предлогами откладывает обсуждение проекта этого дополнения. Здесь полагают, что большинство депутатов и сенаторов хотят таким образом воспрепятствовать голосованию этого проекта до роспуска обеих палат конгресса на летние каникулы».
Годкин обхватил руками голову и продолжал читать:
«В высших кругах Серро-Эрмосо придают большое значение обеду, который Его преподобие Аранго-и-Арагон дал вчера вечером в архиепископском дворце. На обед были приглашены министр внутренних дел д-р Игнасио Альенде и другие гражданские министры. Удивляет то обстоятельство, что генералиссимус Хувентино Каррера, личный друг архиепископа-примаса, на обед приглашен не был».
Билл улыбнулся. Дни Карреры как президента сочтены, если только… Ведь развитие событий в Сакраменто может пойти различными путями. Например, конгресс откажется принять дополнение, которого требует генералиссимус, и положение останется прежним… Однако волнения в стране будут продолжаться до самых выборов, которые состоятся… или не состоятся. Если они состоятся, Каррера выставит кандидата-марионетку, которого изберут или не изберут. Если изберут, Освободитель будет по-прежнему править страной, дергая марионетку за веревочки. Если не изберут, генералиссимус устроит государственный переворот, чтобы власть не попала в руки его законного преемника, и тогда Сакраменто все равно окажется под властью диктатора.
Билл подошел к окну и стал рассеянно наблюдать за потоком машин, двигавшихся по улице К., и пешеходами, снующими по тротуару, который заливало почти летнее утреннее солнце… Но есть и другие пути. Каррера может совершить переворот немедленно: сегодня, завтра… через две или три недели. Впрочем, для этого ему нужен предлог, ибо за последние пять лет положение в Латинской Америке изменилось. Продажные диктаторы Рохас Пинилья, Перес Хименес и Фульхенсио Батиста были свергнуты народом. Общественное мнение этих стран настроено против диктаторов — как гражданских, так и военных.
Билл постучал трубкой по краю металлической пепельницы на длинных ножках, вытряхнул пепел и, снова набив трубку, закурил. Итак, Каррере нужен повод для переворота. Впрочем, есть еще один путь: до переворота и до ноябрьских выборов в различных пунктах побережья Сакраменто может высадиться десант. Биллу достоверно было известно, что отлично вооруженные сакраментские эмигранты готовы к вторжению. Он даже знал имя человека, возглавлявшего это движение, — Мигель Барриос.
Если вторжение состоится, Хувентино Каррера немедленно объявит военное положение и будет отчаянно сопротивляться. А какие шансы на успех у эмигрантов?
Билл вернулся к столу и, подумав, пришел к заключению, что шансы у них немалые. Сакраментский народ устал от диктатуры Карреры. На стенах столицы уже появлялись лозунги, призывающие народ к вооруженному восстанию. Распространялись антиправительственные листовки. Университет оставался «очагом революционной заразы», как писала одна официозная газета. А национальная армия? Офицеры и сержанты, верные народу, возможно, примкнут к повстанцам вместе со своими солдатами…
Годкин глубоко вздохнул, выпустив клуб дыма. Рут, дорогая! Если бы ты видела тогда на Сьерра-да-Кавейре молодые обветренные и загорелые лица Хувентино Карреры и Габриэля Элиодоро Альварадо! Каким воодушевлением и мужеством они были полны! Какой жаждой свободы! Какая надежда, какая вера светилась в их глазах! Они хотели освободить свой народ от тирании, установить социальную справедливость… Но, дорогая, кем они стали сегодня… Чем это объяснить? Неужели время разрушает все? Все на свете?
Билл просмотрел сообщения о международных событиях. Ничего утешительного. Что означает этот вселенский хаос? Может, господь бог знает? Если б существовала телетайпная связь между всемогущим и Амальгамэйтед Пресс… «Но даже и в этом случае, — размышлял Годкин, надевая пиджак, чтобы спуститься в закусочную и в одиночестве проглотить сосиску, — шеф агентства все равно вносил бы изменения в божественные послания, если только они, по его мнению, могли бы нанести вред интересам крупных американских корпораций. Ибо Амальпресс полагает, что и для бога, и для всего мира хорошо лишь то, что хорошо для «Юнайтед стейтс стил», для Дюпона, «Эссо» и «Алькоа». Во всяком случае, таков догмат, который газетные епископы и кардиналы внушают urbi et orbi. Но долой пессимизм, — заключил Билл, выходя из кабинета. — Я жив и голоден. И солнце пока еще сияет».
В этот час, сидя в своем автомобиле, стоящем у тротуара, генерал Уго Угарте поджидал окончания уроков в колледже Арлингтона. Он этим занимался по крайней мере дважды в неделю, волнуясь, как мальчишка, который прогуливает уроки.
К тому же на развлечение это он тратил лишь бензин и десять центов за стоянку машины.
В животе генерала урчало от голода. Но Угарте продолжал ждать и курил, не спуская глаз с длинного одноэтажного здания из кирпича, которое возвышалось за просторным газоном.
Наконец в дверях колледжа появились девочки и мальчики лет двенадцати-пятнадцати. Кто шагом, кто бегом, но все с криками они пересекали газон.
Какое зрелище! Гимназистки Серро-Эрмосо, вспоминал Угарте, носят белые блузки и темно-синие чулки. Американки же выставляли напоказ чулочки самых различных цветов и ходили в обтягивающих свитерах. У некоторых девочек грудь была вполне сформировавшаяся, а у других едва намечалась, — и именно эти, одиннадцати-тринадцатилетние, особенно нравились Угарте и казались наиболее желанными. Стайка школьниц подходила к его машине, и генерал улыбнулся розовым личикам; были тут и некрасивые, и ни то ни се, и очень хорошенькие. Хорошенькие, пожалуй, преобладали. Школьниц становилось все больше, и Угарте уже не знал, на что смотреть: на лица, на ноги или на груди… Девочки вертелись, пританцовывали, напевали, притворно ссорились, словом, вели себя как на сцене, понимая, что за ними наблюдают взрослые. А генерал уже рассматривал затаив дыхание их коленки. Он не знал на свете ничего более соблазнительного. Какая пикантность! Какая грация!
С сигаретой, приклеившейся к губе, Угарте следил за девочками, как старый голодный пес.
В это самое время в нескольких километрах от колледжа Гленда Доремус, сидя за своим столом в здании Панамериканского союза, без аппетита жевала сандвич. Она не пошла с сотрудницами обедать в ресторан «Дженнис Пан Эйшен», иначе пришлось бы поддерживать застольную беседу, а к этому у нее не было никакого желания. Гленда попросила принести себе сандвичи и стакан черного кофе. Зачем? Она пила кофе почти с отвращением, как горькую микстуру. Это было своего рода наказание, которое она ежедневно накладывала на себя. Каждый раз, когда кто-нибудь из сослуживцев спрашивал ее: «Хочешь, я принесу тебе кофе?» — она отвечала: «Пожалуйста, только без сливок и без сахара». Она давала подруге монету и, получив бумажный стаканчик, некоторое время смотрела на кофе, как самоубийца смотрит на озеро, в которое хочет броситься. Гленда знала, что от кофе ей становится плохо, появляется изжога, и все же заставляла себя выпить все до последней капли.
Вот и сейчас она вяло пережевывала сандвич, запивая его кофе. Капля кофе упала на записку Пабло, которую Гленда перечитала уже несколько раз. Надо ли им встречаться? Зачем? Только потому, что он просит? Не благоразумнее ли отказать, пока не поздно? Пока они не влюбились друг в друга, пока не совершилось то, что снова ранит ее тело и запятнает душу!
Гленда сделала глоток. Последние недели она много думала о Пабло, ей хотелось увидеть его. Но Пабло, о котором она вспоминала, не был циником, рассказавшим ей мрачную историю диктаторов, прелюбодеев, бандитов и мошенников. Ее Пабло был искренним, по-отечески внимательным, сдержанным в словах и жестах — таким она увидела его впервые. Каким же он был на самом деле? И какого из этих двух Пабло она встретит, если согласится на свидание?
Она должна принять решение раз и навсегда. Третьего пути нет. Стоит или не стоит ей видеться с Пабло Ортегой?
25
Однажды вечером д-р Леонардо Грис выступал в университете с докладом «Суровая правда о республике Сакраменто», о котором было заблаговременно объявлено. Ортега, Гонзага и Годкин присутствовали в качестве охраны, заняв места в первом ряду.
Ровно в восемь профессор департамента социальных наук, высокий, худой, в очках, пригласил докладчика на трибуну. Глухим голосом, с непроницаемым выражением лица, он представил оратора, предупредив публику, что соображения, которые д-р Грис собирается излагать, не всегда разделяются его департаментом и профессорами университета. Разумеется, добавил он, докладчик имеет право говорить все, что ему заблагорассудится, однако он же и будет отвечать за все сказанное.
После этой церемонии Леонардо Грис подошел к кафедре, на которой стоял микрофон и стакан с водой, и вытащил из кармана листок бумаги: это был краткий конспект его доклада, содержащий лишь основные положения.
Пабло шепнул на ухо Гонзаге:
— Я нервничаю, как толстая сеньора, которая с трепетом ожидает появления сыночка, впервые читающего свои стихи.
Гонзага улыбнулся.
— Почему толстая? — Ортега пожал плечами. В сущности, причин для волнения не было. Он уже не раз присутствовал на докладах своего бывшего учителя: д-р Грис держался спокойно и уверенно, его английский язык стал лучше после Оксфорда, хотя акцент чувствовался. Речь Гриса тем не менее была беглой и синтаксически правильной.
Д-р Грис оглядел аудиторию. В зале было немногим более четырехсот человек: студенты университета, вашингтонцы, интересующиеся Латинской Америкой, три-четыре священника, несколько иностранных корреспондентов и эмигрантов из Сакраменто. Преобладали женщины.
— Дамы и господа, — начал д-р Грис, — каждому, кто в Соединенных Штатах рассказывает о Латинской Америке, угрожает опасность выбрать легкий и приятный путь, пойдя навстречу желаниям публики услышать о пышной природе, многолюдных рынках, ярких и сочных тропических фруктах, индейских керамических изделиях, коврах и корзинах, услышать забавные истории, легенды, народные предания… В общем, все то, что сулит пестрая туристская реклама людям, падким на экзотику… — Сделав паузу, Грис продолжал: — Но я решил не поддаваться этому искушению. Я сделаю правдивое, а потому, может быть, неприятное вам сообщение. Возможно, я покажусь вам дерзким, когда буду говорить о лежащей на Соединенных Штатах ответственности за экономическое, социальное и политическое положение Латинской Америки вообще и моей страны в частности. Поэтому приготовьтесь: ближайшие пятьдесят минут не будут для вас приятными.
Гонзага толкнул локтем Пабло, который заерзал на стуле. Годкин, зажав в зубах погасшую трубку, бросал хмурые взгляды на плакат, висящий на стене: «No smoking, please!»
Пабло заметил, что на какую-то минуту лицо Гриса выразило любопытство: он вдруг нахмурился, прищурив глаза, точно желал рассмотреть кого-то в зале, и, наконец, иронически скривил губы. Наверно, обнаружил среди слушателей человека, которого не ожидал (или ожидал?) увидеть. Почувствовав беспокойство, Пабло обернулся, но увидел лишь полное и симпатичное лицо дамы, сидевшей сзади него и улыбнувшейся ему самым приятным образом.
— Некоторым из вас известно, — продолжал докладчик, — что истинной демократии в республике Сакраменто, как, впрочем, и во многих других странах нашего континента, не существует. Свобода слова и свобода мнений, вопреки декларациям тамошних правительств, фиктивна, как и деятельность обеих палат конгресса. Сакраменто правит олигархия тридцати семейств, которая владеет землями, плантациями, скотоводческими и земледельческими фермами и тесно сотрудничает с двумя мощными североамериканскими компаниями — «Юнайтед плантэйшн К?» и «Карибеан шугар эмпориум». Естественно, у вас может возникнуть вопрос: какую же роль играет президент республики… Ответ простой. Хувентино Каррера — диктатор и пользуется к тому же расположением местных богачей и иностранных компаний. Эти мощные экономические группировки смотрят сквозь пальцы на беззакония и произвол, чинимые генералиссимусом, а тот, со своей стороны, поддерживает экономическое и социальное status quo, подавляя всякую оппозицию с помощью полиции и армии.
Палата депутатов и весь конгресс Сакраменто состоят из представителей двух традиционных партий — либеральной и консервативной, которые в свою очередь прямо или косвенно представляют интересы олигархии, а также двух крупнейших североамериканских компаний. Поэтому конгресс делает то, что ожидает от него правительство. Оппозиция? Ее лидеры находятся в эмиграции либо без суда и следствия брошены в тюрьму. Пресса? Несколько антиправительственных газет одна за другой прекратили свое существование, и не потому что правительство их закрыло или они подвергались строгой цензуре. Вовсе нет! Ведь в Сакраменто демократия! Независимая пресса была уничтожена более тонким способом. Правительство, осуществляющее контроль над импортом, перестало регулярно снабжать ее бумагой и таким образом прикончило свободные издания. Второй способ воздействия на прессу — это распределение рекламных объявлений, составляющих главный источник дохода газет. Газета, которая осмеливается помещать материал, не отвечающий интересам крупных экономических группировок, рискует погибнуть, лишенная рекламы.
Теперь о народе. Часть населения Сакраменто, грамотная и способная мыслить, не хочет мириться с этим позорным гнетом, но не имеет материальных средств для вооруженной и всякой другой борьбы. Основная же масса запугана, отупела от нищеты и невежества, прозябает в условиях самой страшной отсталости.
Следующие двадцать минут д-р Грис посвятил моральной и экономической характеристике правящей верхушки Сакраменто.
— Генералиссимус, — сказал он, — один из самых богатых людей континента, он владеет землями, плантациями, недвижимостью, заводами, акциями различных компаний, которые он получил в качестве компенсации за льготы, предоставленные отечественным и иностранным капиталистам, действующим в ущерб интересам нашей нации. Он ненасытен в своей жажде наживы. Считается, что у Карреры несколько миллионов долларов на текущем счету в швейцарском банке, как и у Габриэля Элиодоро Альварадо, который представляет сейчас мою несчастную страну в Соединенных Штатах и в Совете ОАГ.
Хувентино Каррера лишен каких бы то ни было талантов и добродетелей. Правда, он проявил мужество и стойкость в борьбе против диктатора Чаморро, которую он возглавлял и которая закончилась его победой. Однако это не мешает ему быть тщеславным и мстительным эгоистом, способным на любую жестокость и преступление. Печальной памяти ночью конца пятьдесят первого года он вступил в Серро-Эрмосо во главе повстанческих войск, которые помогли ему прийти к власти. Он руководил разгромом газеты «Орден» и сам застрелил ее главного редактора под предлогом, что тот в своих редакционных статьях клеветал на Хувентино Карреру, пока он находился в изгнании в Доминиканской республике под мрачным покровительством своего друга и кума Леонидаса Рафаэля Трухильо!
Габриэля Элиодоро д-р Грис охарактеризовал как одного из самых симпатичных мошенников, которых он когда-либо знал.
— Вместе с тем это человек исключительного личного мужества, — добавил д-р Грис, — способный даже, как мне рассказывали, на благородные поступки, однако он лицемер, использующий в корыстных целях свое влияние, и расхититель государственной собственности. Вступив в брак по расчету, он стал директором Центральноамериканского банка, который пользовался когда-то славой солидного учреждения, а теперь превратился в центр биржевых спекуляций.
Помолчав, Грис бросил взгляд на сидящих перед ним слушателей и затем, как бы между прочим, продолжал:
— Вы можете задать мне вопрос, по какому праву я выступаю с разоблачением правительства своей страны перед иностранной аудиторией. — Он драматически развел руками, что несколько шокировало Пабло. — Но, дамы и господа, будем рассуждать логично. Нас должны интересовать вопросы генезиса, а не этики. Разве позорно говорить о том, что существует? Нет, позорно то, что это существует!
— Очень хорошо! — прошептал Гонзага, повернувшись к Пабло, который в это время вытирал платком вспотевшее лицо. Как человек, различающий вдали силуэт своего врага, он чувствовал медленное, но верное приближение головной боли, своей ежедневной непрошеной гостьи. Пабло проверил, не забыл ли аспирин. Прищурившись, Годкин продолжал задумчиво посасывать холодную трубку. В последних рядах кто-то закашлялся.
— Вы, верно, не раз слышали о Пуэрто Эсмеральде, — продолжал Грис, — чудесном городе с изумрудной бухтой, белоснежными пляжами, окаймленными пальмами, с роскошными отелями и казино, где идет крупная игра, и ночными клубами с богато поставленными ревю, ни в чем не уступающими ревю лучших заведений Нью-Йорка и Парижа… Сейчас я поведу вас в экскурсию по ночной Пуэрто Эсмеральде, которая, очевидно, вызовет в вас негодование и стыд. При ослепительном свете пестрых и экстравагантных реклам мы пройдемся по главным улицам и проспектам города, напоминающим улицы Лас Вегаса. Видите этих проституток? Они не успели стать женщинами: им двенадцать-четырнадцать лет, а они уже бродят по тротуарам, охотясь за мужчинами. Откуда эти бедняжки? Как правило, из деревень или небольших поселков в глубине страны. Все они неграмотны и не имеют ни малейшего жизненного опыта. Посредники привезли их в Пуэрто Эсмеральду, где торгуют живым товаром и куда стекаются местные и иностранные богачи, чтобы предаваться своим порокам.
В бедных семьях Сакраменто теперь считается выгодным иметь красивую дочь. Едва девочка подрастает, родители отдают ее в публичный дом, хозяйка покупает ей платья, туфли на высоких каблуках, учит ее подкрашиваться и нравиться мужчинам, а затем девочка начинает свой бизнес. И знаете, почему родители отдают дочь без колебаний? Да потому, что каждая из этих бедных девочек за одну ночь зарабатывает больше, чем вся ее семья за целый месяц изнурительного труда на плантации. Зато в тридцать лет эти несчастные выглядят шестидесятилетними старухами; они страдают венерическими болезнями или туберкулезом либо пристрастились к наркотикам.
Пабло услышал, как позади него толстая дама, вздохнув, прошептала: «О боже!», и почувствовал, что покраснел, будто был сутенером или совладельцем дома терпимости в Пуэрто Эсмеральде. Гонзага, скрестив руки, смотрел на Гриса как зачарованный. Он всегда восхищался его умением держаться с тех пор, как впервые увидел Гриса однажды вечером в полутемной комнате, где тот исполнял на виолончели виртуозные вещи. Сейчас глаза Гриса сверкали, и говорил он со страстью библейского пророка.
— Ибо торговля кокаином, героином и маконьей, — продолжал докладчик, — один из самых выгодных бизнесов в этом прекрасном городе, где насчитывается более двухсот публичных домов, среди которых есть «народные», среднего класса и «люкс». И наши государственные мужи, наш Освободитель и его компаньоны получают проценты не только от доходов с тысяч игорных автоматов, но и с прибыли от домов терпимости и торговли наркотиками.
В Сакраменто существует выражение «съездить в Эсмеральду», которое очень многозначно. Это и загулять, вырвавшись из надоевшей рутины с ее респектабельным фасадом, и выпустить на свободу, хотя бы ненадолго, зверя, сидящего в каждом из нас. Город как бы очищает всех, кто приезжает, от скверны. Благородные столпы нашего общества, те, что во время воскресной мессы бьют себя в грудь и молятся на коленях, время от времени делают вылазки в Пуэрто Эсмеральду для своеобразного лечения развратом. Многие из них — тайные акционеры игорных домов и даже домов терпимости. Они знают, что нет ничего проще получить отпущение грехов от своего духовника, ибо они занимаются благотворительностью, а это, по их мнению, угодно богу.
После небольшой паузы Грис улыбнулся, как бы вспомнив о чем-то важном, и продолжал:
— Между архиепископом — примасом Сакраменто и генералиссимусом существует негласное соглашение. Правительство ограничивает игру и преследует открытую проституцию, а его святейшество закрывает глаза на то, что происходит в Пуэрто Эсмеральде. Таким образом, с благословения светской и духовной властей Сакраменто чудесный приморский город стал государственным публичным домом и одним из крупнейших игорных притонов Латинской Америки. А доллары, которые туристы тратят на женщин либо в игорных залах и автоматах, самыми странными путями частично возвращаются к себе на родину, частично оседают в банках Соединенных Штатов или Швейцарии на текущих счетах тех, кто наживается на пороке. Так что доллары эти отнюдь не служат обогащению нации.
Затем Грис рассказал о скопищах нищих лачуг, возникших на окраинах крупных городов Сакраменто и даже внутри этих городов и растущих непрерывно, как чудовищная раковая опухоль. В этих жутких лачугах из глины и бамбука, досок и консервных банок, без воды и канализации живут истощенные голодом и болезнями несчастные существа.
— О боже! — снова вздохнула толстая дама. Голова Пабло теперь раскалывалась от боли. Годкин заерзал на стуле, принимая более удобное положение, а Гонзага пробормотал: «В нашего друга, кажется, вселился дьявол…»
После короткой паузы Грис продолжал:
— Когда сеньор Хулио Морено был избран президентом республики и мы — ибо я был удостоен чести войти в его правительство в качестве министра просвещения — пытались улучшить жизнь этих людей, мне не раз доводилось посещать поселки нищеты. Однажды я разговорился с женщиной-индианкой, лицо которой, словно высеченное из камня, смягчали лишь выразительные черные глаза, нежные и грустные. Я спросил ее о семье, и она рассказала, что из четырнадцати детей, которые родились у нее за двадцать лет замужества, в живых остались всего трое, остальные умерли от диарреи, туберкулеза или истощения. Названий этих болезней она, разумеется, не знала. Мне никогда не забыть, как трагично прозвучали ее слова: «Представьте себе, сеньор, все, что у нас было, мы истратили на похороны детей — не проходило и года, чтобы у нас не умирал ребенок. Мне еще повезло — у меня есть знакомый хозяин похоронного бюро, у которого очень доброе сердце, — он делает мне скидку как постоянной покупательнице». Как постоянной покупательнице! — с негодованием повторил Леонардо Грис и стукнул кулаком по кафедре так, что подскочил стакан и вода чуть не расплескалась.
— Вступив на пост президента, сеньор Морено распорядился закрыть игорные дома, запретить проституцию в Пуэрто Эсмеральде и объявил торговцам наркотиками войну не на жизнь, а на смерть. За это его возненавидели все, кто получал прибыль от раковой опухоли на теле общества. Правительство Морено строило больницы и школы, дома для бедноты. По нашим тщательно разработанным планам, лет через пять от последней лачуги в Сакраменто не осталось бы и следа. Президент не посягал на свободу слова, поэтому газеты, которые финансировались отечественной олигархией либо хозяйничавшими в стране крупнейшими американскими компаниями, все чаще и все более резко нападали на «левое правительство», как они называли кабинет Морено, и подстрекали вооруженные силы к мятежу. Кампания становилась все более развязной, президенту и его министрам наносились недвусмысленные оскорбления.
Профессор социальных наук, который с тех пор, как Грис упомянул об архиепископе-примасе, начал проявлять признаки беспокойства, теперь грыз ногти и дергал головой, отчего поблескивали очки на его носу. Годкин покусывал трубку, инстинкт журналиста подсказывал ему, что будет, когда докладчик перейдет к вопросу об ответственности.
— И вот настал день, — продолжал Грис, отпив глоток воды и вытерев губы платком, — когда доктор Морено решился на меры, равносильные для него подписанию собственного смертного приговора. Он экспроприировал четыреста тысяч акров земли, принадлежащей крупным латифундистам и американским компаниям ЮНИПЛЭНКО и «Шугар эмпориум», выплатив возмещение из правительственной казны. Этим он вызвал, разумеется, глубокое недовольство прежних владельцев земель. Экспроприированные земли он распределил среди двадцати тысяч крестьянских семей. Его план аграрной реформы представлял собой образец трезвого и здравого подхода к решению проблемы. Впервые за пятьдесят с лишним лет, леди и джентльмены, на моей родине повеял ветер надежды.
Теперь мы переходим к событиям недавнего времени. В один прекрасный день наемные войска, сформированные в различных странах Центральной Америки и перевезенные на судах ЮНИПЛЭНКО и «Шугар эмпориум» — существуют фотографии, подтверждающие этот факт, — высадились в Сакраменто. Подкупленные олигархией части национальной армии примкнули к мятежникам, одержавшим молниеносную победу. Потрясенный народ пассивно наблюдал за развернувшимися событиями. Освободитель при содействии тридцати семейств вернулся к власти и с помощью законодательных махинаций установил демократию на свой лад, создал свою конституцию. Пуэрто Эсмеральда вновь превратилась в капище порока. Снова открылись старые фирмы, появились новые, увеличилось число публичных домов и казино, и столпы нашего общества, освободившиеся от «коммунистической угрозы», которая нависла над их мудрыми головами, опять получили возможность кутить и развратничать, как прежде!
Леонардо Грис помолчал, переводя дыхание и устремив взгляд все в ту же точку, куда он время от времени поглядывал. Потом, вытянув руку и словно приглашая аудиторию полюбоваться прекрасной картиной, сказал:
— Тот, кто сегодня приедет в Серро-Эрмосо, увидит на Оружейной площади огромный, величественный дворец, предназначающийся для федерального правительства… Его сооружение было начато четыре года назад, и без преувеличения можно сказать, что окончится лишь лет через десять, ибо это выгодно шайке, которая наживается на строительстве. Правительственное здание, как пишут сакраментские газеты, будет самым роскошным на всем американском континенте, а стоит оно столько, сколько стоило бы, если б его строили из золотых кирпичей и золотом же штукатурили. Сыновья, братья, племянники, двоюродные братья, приятели, крестники и протеже Освободителя — все наживают баснословные состояния на этом строительстве, которым руководит кум диктатора. Конгресс удовлетворяет все просьбы об ассигновании и безоговорочно утверждает все счета.
Пресса восхваляет этот шедевр зодчества, как гордость высокоцивилизованной нации. Но благодаря махинациям с поставками все строительные материалы для этого дворца обходятся вдвое дороже их истинной стоимости, и миллионы долларов уплывают в карманы диктатора, его кума и компаньона, а также остальных членов бандитской шайки, которая обогащается за счет народа!
26
Леонардо Грис снова отпил воды, бегло взглянул на свои записи, потом на публику.
— Вы можете задать совершенно резонный вопрос: «Ну, а при чем тут Соединенные Штаты? Разве американцы повинны в плачевном состоянии республики Сакраменто?» ответить на это, дорогие мои друзья и соседи, совсем не просто. И все же я постараюсь это сделать.
Алексис де Токвиль в свое время писал, что божественное провидение сохранило Америку как резерв для всего мира. Ваш Томас Джефферсон утверждал, что страна эта представляет собой второй шанс для рода людского. Вы стали новым миром, который родился преисполненным веры в великие судьбы человечества. Тот же Джефферсон поклялся на святом алтаре бороться с любой тиранией над человеческим разумом. В восемнадцатом веке Соединенные Штаты, образно говоря, были знаменем свободы для всего мира, в том числе и для народов нашего континента, стремившихся сбросить с себя колониальное иго. Французская революция потрясла вашего министра, который обратился с волнующей речью к бразильским юношам, мечтавшим добиться независимости для своей родины.
Нет нужды вспоминать ваш героический поход на Запад. Ваша юность, ваше мужество и смелость, ваша способность созидать и строить и к тому же убеждение в своем превосходстве над индейцами и метисами Мексики послужили вам оправданием — если вы в нем нуждались — для присоединения Калифорнии, Техаса и Нью-Мексико. Мечта о великом предназначении американцев не покидала вас никогда и поныне она манит и волнует вас.
Политика «большой дубинки», провозглашенная президентом Теодором Рузвельтом, — событие недавних дней. Тем, кто сомневается в том, что старший северный брат действительно оказывал экономическое давление на различные страны нашего континента и даже шел на открытые военные вторжения, я рекомендую прочесть поучительную книгу «Война — это бизнес», написанную в тысяча девятьсот тридцать первом году генерал-майором Смэцли Д. Батлером, который некогда командовал корпусом морских пехотинцев. Книга эта давно уже распродана, но вы сможете найти ее в библиотеке конгресса. Автор этой книги, награжденный, кстати, почетной медалью за взятие Вера-Крус в четырнадцатом году и захват Форт-Ривьер в семнадцатом, рассказывает о своей тридцатипятилетней службе в американской морской пехоте, которую он характеризует как «самую мобильную силу Соединенных Штатов». На многих страницах Батлер с поразительной откровенностью описывает, как в четырнадцатом году он со своими солдатами помог Мексике, и в особенности Тампико, превратиться в надежную зону для капиталовложений американских нефтяных компаний, а потом Кубе и Гаити поступить в полное распоряжение молодцов из «Нэйшнл сити бэнк».
Автор рассказывает и о том, как с девятого по двенадцатый год он участвовал в никарагуанских операциях, действуя в интересах другого американского банка, и как позднее со своими морскими пехотинцами был послан в Гондурас ради прибылей американских фруктовых компаний. Мне запомнился цинизм, с которым автор заканчивает повествование о своих подвигах: «Оглядываясь на прошлое, я убеждаюсь, что мог бы дать кое-какие советы самому Аль Капоне. Ведь самое большое, что ему удалось, — это заниматься своим бизнесом в трех районах города одновременно. Мы же, морские пехотинцы, действуем на трех континентах».
Вы скажете, что все это в прошлом. Нет, отвечу я. Мельничный жернов американских компаний в Латинской Америке продолжает вращаться, хотя и приводится теперь в движение другими силами и иными способами.
Леонардо Грис рассеянно коснулся микрофона и, незаметно улыбнувшись, бросил взгляд на профессора социальных наук, который продолжал нервничать, беспокойно ерзая на своем стуле.
— Соединенные Штаты, — продолжал Грис, — вышли из второй мировой войны самой мощной державой в мире. Ваше невиданное экономическое процветание, охраняемое вооруженными силами, с которыми могут равняться лишь силы Советской России, ваш высокий жизненный уровень, какого не достигал ни один народ за всю историю человечества, очень серьезно, может быть, даже смертельно угрожают американской мечте. Тот идеальный автопортрет, который вы написали, чтобы им любоваться как в самой Америке, так и за ее пределами, начинает тускнеть. Ваша богатая, могучая, авторитетная и преуспевающая нация стала консервативной и даже реакционной. Она бросила знамя свободы, которое с таким мужеством, благородством и бескорыстием несла в восемнадцатом веке. Коммунисты же поспешили поднять это знамя и теперь используют его для своего дела!
На мой взгляд, американцы столь же доброжелательны, сколь и простодушны. У вас самые современные и интересные газеты, и все же вы мало знаете о том, что происходит вокруг вас, особенно в других странах. Вы не можете понять, как, тратя миллиарды долларов на помощь иностранным правительствам, Соединенные Штаты приобретают не друзей, а врагов…
Почему? Я попробую объяснить это на примере Латинской Америки, которая меня особенно интересует. Начну с конкретной и актуальной кубинской проблемы. В прошлом столетии Соединенные Штаты помогали Кубе освободиться от испанского ига. Боюсь, однако, что сегодня они больше обеспокоены тем, чтобы сохранить капиталы американских граждан, вложенные в экономику этого острова, чем понять причины и цели революции Фиделя Кастро и помочь маленькой соседней стране найти путь к освобождению и самоопределению.
Благие намерения вашего правительства и те жертвы, которые вы приносите, платя высокие налоги, пропадают впустую, ибо все это не соответствует интересам некоторых компаний и финансовых группировок, вложивших средства в Латинскую Америку. Похоже, ваш «большой бизнес» заинтересован в том, чтобы мы оставались «банановыми республиками» без собственной промышленности, вечными поставщиками дешевого сырья. Эти влиятельные американские группировки, видимо, убедили ваше правительство, что их личные интересы и есть интересы народа Соединенных Штатов. Тресты и монополии заставляют вашу великую нацию использовать свой престиж, политическую мощь и, если понадобится, военную силу, чтобы сохранить в странах Латинской Америки привилегии, о которых у себя на родине они и мечтать не смеют!
Разумеется, мы не можем забыть, какую роль сыграли для наших стран американские капиталы и техника в определенный период нашего развития. Сейчас, однако, положение становится критическим. Захватив в свои руки добычу нефти, электрические и телефонные станции, добычу руд, иностранные группировки оказывают влияние на политику наших стран, поддерживают или свергают правительства, хозяйничают в прессе, подкупают членов конгресса. Благодаря этому они добиваются огромных прибылей и принятия законов, позволяющих регулярно вывозить из наших стран в порядке арендной платы за оборудование, процентов, компенсаций за техническое обслуживание и дивидендов крупные суммы, которые уже обескровили нашу экономику. Таким образом, леди и джентльмены, многие из латиноамериканских республик становятся настоящими экспортерами долларов. Представьте себе эту нелепость!
Ваше правительство в течение многих лет оказывало всяческую поддержку и содействие жестоким деспотам Трухильо, Сомосе и Батисте только потому, что те защищали интересы американских капиталов, вложенных в страны, которые диктаторы обрекли на нищенское и позорное существование.
Согласен, Соединенным Штатам нелегко держаться определенной позиции по отношению к латиноамериканским диктатурам. Если государственный департамент сотрудничает с ними, мы, либералы, протестуем: «Вы поощряете диктаторов!» Если ваше правительство применяет санкции против этих тиранов, те же либералы возмущаются: «Вмешательство!» и ссылаются на право каждой страны на самоопределение.
Во время второй мировой войны в интересах обороны западного полушария Пентагон убеждал государственных деятелей Америки относиться терпимо к нашим диктаторам, которых он презирал, но с которыми обменивался любезностями. А какая причина появилась после окончания войны? Коммунистическая угроза? Боязнь третьей мировой войны?
Грис помолчал, словно ожидая, что кто-нибудь ответит на его вопрос. Наклонившись к Годкину, Гонзага пробормотал:
— Наш друг роет себе могилу. Он прав, но все же не следовало заходить так далеко. Как ты считаешь?
Годкин лишь пожал плечами, затем вытащил трубку изо рта и со вздохом сунул ее в карман.
— Я бы предпочел, чтобы доктор Грис закончил на этом доклад, — прошептал Пабло.
Он достал таблетку аспирина, положил в рот и разжевал, вспомнив вдруг Гленду. Профессор социальных наук кашлянул, и Грис обернулся, полагая, что тот хочет задать ему вопрос.
— Не боясь показаться самонадеянным, я скажу, в чем заключается ваша проблема, — продолжал Грис. — Вас раздирают противоречия. Вы лелеете великую мечту о свободе, равенстве и братстве, однако опыт показал, что, если бы вы были верны этой мечте не только в теории, но и на практике, вам не удалось бы поддерживать ваш высокий и постоянно растущий уровень жизни. Потому что, на мой взгляд, страны, классы или личности могут обогащаться лишь за счет других стран, классов и личностей, которые пребывают в крайней бедности. Является ли эта мысль экономической ересью?
По-моему, нет в мире страны, где бы к религии относились столь серьезно, как у вас. Ваши храмы полны верующих. Однако у меня такое впечатление, что вы, сами того не замечая, возводите стену между церквами и торговыми фирмами во имя абсурдного разделения: одной рукой вы гладите агнца божьего, а другой — золотого тельца.
— Наш друг окончательно спятил, — шепнул Гонзага.
Пабло покачал головой. От боли ломило виски, Гриса он уже видел как сквозь туман, который подрагивал в такт пульсации крови.
— Западное полушарие стало вашим садом, но не обманывайтесь спокойствием, царящим в нем, безмятежными красками цветов, игрой светотени. В почве этой обширной территории происходят подспудные процессы, которые могут погубить вас духовно, если не экономически. Прекрасный сад может превратиться в кладбище.
Мне кажется, на лицах многих слушателей я читаю недоумение: какое право, спрашивают они, имеет этот иностранец, которого мы столь великодушно приютили, говорить нам оскорбительные вещи? Вы сами, отвечу я, дали мне это право, проповедуя демократию и христианскую мораль.
По-моему, для нации, безусловно заслуживающей восхищения, настал час решить, что для нее важнее: поддерживать свой престиж лидера западного полушария, на деле обеспечивая прогресс и счастье других народов, либо и дальше любой ценой умножать свои богатства, повышать свой жизненный уровень.
Итак, вольно или невольно, я затронул вопрос, умолчать о котором теперь невозможно. Я должен высказать все. Одним из самых существенных камней преткновения на вашем пути является нелепое расовое тщеславие, порождающее ваше нежелание дружественно относиться к двум третям человечества, сосуществовать с ними, уважать их.
— О боже! — снова простонала толстая дама, сидевшая позади Пабло Ортеги. Профессор социальных наук снял очки и нервно протер их носовым платком.
— А теперь, — продолжал Грис, медленно обведя глазами зал, — теперь я хочу сделать важное разъяснение. Пускай я был резок, но, поверьте, я не хотел и не хочу возлагать на широкие плечи Соединенных Штатов всю ответственность за наши политические, экономические и социальные беды. Основную ответственность за них несут наши государственные деятели, наши промышленные тузы, наша так называемая элита… Только мы можем свергнуть своих диктаторов, устранить от власти тех, кто наживается на нищете народа, уничтожить олигархии, исправить свои ошибки и установить социальную справедливость. Во всех странах Латинской Америки — поверьте мне! — есть люди доброй воли, умные, мужественные и честные. Это либералы или же умеренные социалисты — пожалуйста, не пугайтесь этого слова, — которые никогда не примирятся с тоталитарным режимом ни правой, ни левой ориентации. Эти люди, я верю, окажутся достойными вашей симпатии, вашего доверия и вашей поддержки!
И, наконец, последнее. С моей стороны было бы не только неблагодарностью, но и безрассудством полагать, будто покровительство Советского Союза для наших стран надежнее и выгоднее покровительства дяди Сэма. Я помню и о том, что, если бы здесь, в Соединенных Штатах, царил дух нетерпимости, я бы не смог произнести даже первых трех слов своего доклада. Я уверен, что, когда кончу, меня никто не призовет к порядку, ни ректор этого университета, ни полицейский агент не применят ко мне никаких санкций. Я знаю также, что завтра ваши газеты не испугаются напечатать некоторые мои критические замечания в адрес вашей страны. И хочу, чтобы вы знали: если я попросил убежища здесь, в Соединенных Штатах, то лишь потому, что я еще верю в доброту и справедливость вашего народа, который не следует смешивать с финансовыми и экономическими кругами. Большое спасибо за внимание.
Раздались жидкие хлопки. Председательствующий поднялся, и Пабло показалось, что он стал еще длиннее за последние пятьдесят минут. Грис вытер платком вспотевшее лицо и снова посмотрел в ту же сторону. Встав, Пабло обернулся и увидел человека в светлом плаще: он сидел рядом со смуглым господином с густой бородой, физиономия которого как будто была знакома Пабло.
Профессор социальных наук объявил, что докладчик готов отвечать на вопросы. Первым обратился к Грису католический священник.
— Правда ли, что вы атеист?
В зале раздался глухой ропот.
— Запрещенный прием, — прошептал Гонзага. Годкин, которому до смерти хотелось курить, на цыпочках вышел из зала.
— Я не атеист, — Грис с доброжелательной улыбкой смотрел на священника. — Я агностик, а это, как вы знаете, не одно и то же. Уверяю вас, что я люблю жизнь и питаю глубокое расположение к своим ближним. А разве не это самое главное? Предположим, бог существует, этой возможности я не исключаю… Значит, любя творения божьи, я люблю его самого. Но уверенности в существовании бога у меня нет — о чем я искренне сожалею, — зато я люблю своего ближнего не из одного лишь стремления доставить удовольствие создателю и обеспечить своей душе вечное блаженство. Чувство привязанности, человеческой солидарности рождается внутри меня, из какого-то таинственного источника. Вот и все, пожалуй, что я могу сказать по этому поводу…
— Но этот таинственный источник, дорогой доктор, и есть бог. — Падре тоже улыбнулся и сел.
Кивнув, Грис невнятно проговорил:
— Надеюсь, что это так, преподобный! Искренне надеюсь.
Далее последовали два совершенно идиотских вопроса, заставивших Пабло закрыть лицо ладонями, и на оба докладчик ответил терпеливо, хотя и с юмором.
Поднялся смуглый человек, показавшийся Пабло знакомым. У него был суровый взгляд, квадратные челюсти, черные как уголь глаза.
— Несмотря на все ваши уверения, я не сомневаюсь, что вы коммунист! — резко заявил он по-английски, но с испанским акцентом.
— Это не вопрос, а категорическое утверждение, — отпарировал докладчик. — И все же я не коммунист, а либерал и даже романтик, словом, если б я решил следовать своим сокровенным наклонностям, остаток жизни я провел бы, ухаживая за садом, среди добрых друзей, наслаждаясь интересными книгами и хорошей музыкой. И если я не делаю этого, то лишь потому, что совесть моя постоянно омрачается воспоминаниями о нищете моего народа и до боли острым сознанием ответственности перед ним.
Нахмурившись еще больше, смуглый сел. В зале задвигали стульями, закашляли, начали переговариваться. Кто-то поднял руку, чтобы задать вопрос, но Грис жестом остановил его.
— Прошу вас, подождите! Лицо и голос этого джентльмена мне кажутся знакомыми. Мне думается, я встречал его когда-то очень давно, наверно, еще в Сакраменто… и как будто в форме национальной армии… если только память мне не изменяет. Но как бы там ни было, заявление этого джентльмена напомнило мне беседу, которая состоялась у меня однажды с профессором Оксфордского университета. Профессор сказал тогда нечто, удивившее меня своей правдивостью и в то же время своей обезоруживающей простотой: «Демократия отнюдь не антитеза коммунизма». Антитезой коммунизма, по его мнению, является капитализм, а антитезой демократии — диктатура. Хотя большинству капиталистов нравится называть себя демократами!
Пабло обернулся назад и увидел мрачное лицо смуглого человека, который едва сдерживал ярость. Неизвестный в непромокаемом плаще улыбался.
Потом студенты спрашивали, могут ли молодые американцы, обладающие техническими знаниями, получить работу в Латинской Америке. Грис ответил им по-отечески мягко, хотя и не без назидательности.
Наконец встал человек в светлом плаще. Наморщив лоб, Грис приготовился отразить удар.
— Правда ли, доктор, что вы возглавляете заговор, ставящий своей целью свержение насильственным путем правительства республики Сакраменто?
Все сначала с любопытством посмотрели на него, а затем повернулись к Грису.
— Вот и заварилась каша, — прошептал Гонзага. Пабло пробормотал что-то невнятное. Очки профессора социальных наук снова беспокойно блеснули. Грис улыбнулся.
— Вместо ответа я сошлюсь на всем известное пятое дополнение к конституции Соединенных Штатов.
В зале послышался смех. Однако человек в непромокаемом плаще задал еще один вопрос:
— Являетесь ли вы сторонником вооруженной борьбы против президента Карреры?
— Да! — воскликнул Грис. И повторил: — Да, я сторонник вооруженной борьбы!
Неизвестный в плаще хотел сесть, но докладчик крикнул:
— Прошу вас, не садитесь! Теперь я задам вам вопрос. — Грис в упор смотрел на этого человека. Атмосфера в зале казалась насыщенной электричеством. — Вот уже два месяца вы следуете за мной повсюду как тень. Кто вам платит за это? Посол Сакраменто? Отвечайте!
Человек сел и, закусив губу, покраснел больше обычного. Его смуглый сосед шепнул ему что-то на ухо. В зале поднялся шум. Ортега было встал, но Гонзага потянул его за полу пиджака. Подняв руку, председательствующий попросил тишины.
— Леди и джентльмены, от имени нашего департамента и от своего собственного я благодарю профессора Леонардо Гриса за его доклад, однако еще раз напоминаю, что его точка зрения не разделяется ни департаментом, ни университетом. — И, сделав паузу, закончил: — Ни мною.
Затем повернулся к докладчику.
— Большое спасибо, доктор Грис, — и к публике: — Друзья мои, я объявляю собрание закрытым. Большое всем вам спасибо и спокойной ночи!
Послышались аплодисменты, опять довольно жидкие. Гонзага и Пабло подошли к Грису, пожали ему руку и остались подождать профессора, чтобы проводить его. Кроме них, к Грису подошли еще несколько человек, в основном земляки-эмигранты.
27
Росалия поклялась себе, что никогда больше она не переступит порога посольства. Между нею и Габриэлем Элиодоро все кончено с тех пор, как она узнала, что он с Фрэнсис Андерсен посещает ночные клубы и рестораны. А потом они, наверное, отправляются в какой-нибудь отель или прямо в посольство и остаются вместе всю ночь, пока она, Росалия, сидит дома, выслушивая жалобы и мольбы Панчо. «Жизнь моя, я задам тебе один очень серьезный вопрос и хочу, чтобы ты ответила на него совершенно искренне. Ты беременна?» Ей хотелось расхохотаться в лицо этому идиоту. «Если бы я забеременела, я отравилась бы, так и знай». Неуклюже, как плохой актер, Панчо опустился на колени, смеясь и плача, и поцеловал ей руку. «Слава богу! Слава богу!» — шептал он. Никогда Росалия не презирала мужа сильнее, чем в эти минуты. Несчастный сидел потом весь вечер в углу, молча рисуя что-то цветными карандашами и время от времени исподлобья поглядывая на нее. Как томительно долго тянулись эти часы! Росалия чувствовала себя еще более одинокой, когда муж бывал дома. Чем заняться? Она плохо знала английский язык, поэтому не могла смотреть телевизор или сходить в кино. Подруг у нее не было. Местную сакраментскую колонию она ненавидела. Росалия то и дело прислушивалась, не позвонит ли телефон, Габриэль мог вызвать ее в любую минуту… Уже почти неделю они не виделись. Ее тело тосковало по нему, но оскорбленная гордость не позволяла позвонить первой… Любопытно, но Панчо тоже, казалось, ждал звонка, будто и ему хотелось, чтобы посол снова взял Росалию к себе в постель.
Однажды вечером, когда жена особенно нетерпеливо поглядывала на телефон, он не выдержал и спросил:
— Неужели он тебе так и не позвонит?
— Кто он?
— Посол…
— Я тебя не понимаю, Панчо…
Тот пожал плечами.
— Я сам себя не понимаю… — И принялся скатывать трубочку из бумаги, расхаживая по комнате и больше не глядя на жену. — Если ты с ним счастлива, я не буду мешать вашим встречам. Я не хочу, чтобы ты была печальной и покинула меня. Я смирюсь со всем, лишь бы остаться с тобой.
Росалия почувствовала тошноту. Слова мужа, будто холодные слизняки, поползли по комнате, по стенам, стекали с мебели, как плевки… И липли к ее коже, к ее душе. Дрожь отвращения пробежала по спине Росалии, по рукам и ногам. Ее охватило странное ощущение, словно череп стал пустым, а лицо и губы одеревенели, как от наркоза.
В этот вечер телефон так и не зазвонил. В начале двенадцатого они собрались ложиться. Панчо в своем ужасном халате цвета мальвы поверх полосатой пижамы вышел из ванной и, благоухая зубной пастой, умоляюще проговорил: «Можно, я приду к тебе сегодня?» О боже! Если бы она могла сжалиться над этим беднягой! Закрыть глаза, ни о чем не думать, умереть на полчаса, покориться его слюнявым поцелуям, прикосновениям его влажных рук, не слышать его гнусностей… Но это было невозможно. «Нет, Панчо. У меня ужасно болит голова. Потерпи до завтра». Он покорно склонил голову и, перед тем как попрощаться, прошептал: «Ладно… Но завтра он наверняка позовет тебя!»
Что с ней будет дальше? Нинфа передавала ей, что в местной сакраментской колонии ее называют не иначе, как «посольская любовница». Почетный титул! Двадцатишестилетняя женщина, у ног которой, если б она захотела, были бы самые красивые и молодые мужчины, отдала себя во власть человеку, годившемуся ей в отцы!
Росалия пыталась проанализировать свои чувства к Габриэлю. Он первый дал ей неведомое дотоле наслаждение, заставил почувствовать себя женщиной. С ним она узнала ощущение полноты жизни, его слова убеждали ее в том, что она что-то значит, что она действительно существует. Росалия понимала: ее влечение к этому человеку, напоминавшему ей идолов майя, которых она еще девочкой видела в журналах и книгах, было смешано со страхом. Сколько раз она с любовью и в то же время с отвращением целовала светлый шрам на его загорелом лбу! И в сладостной агонии, когда ее обнимали мускулистые руки Габриэля, у Росалии часто появлялось желание, чтобы он убил ее, раздавил, прижав к своей груди. Но едва отступала волна острого наслаждения, она разражалась рыданиями, словно бедная сиротка, которой будет довольно, если Габриэль погладит ее по голове, позволит прижаться к своему горячему сильному телу и скажет нежные, чистые слова.
Но сейчас он, неблагодарный, обманывает ее с американкой. Да еще цинично отрицает это!
Однажды вечером телефон зазвонил. Панчо еще не вернулся из консульства. Подбежав к телефону, Росалия схватила трубку: «Алло!» — «Росалия, дорогая моя!» — Это был его голос. «Добрый вечер, Габриэль Элиодоро». — «Что это за тон, моя милая? Я страшно по тебе соскучился. Ты не могла бы прийти ко мне сегодня?» Она помолчала, не зная, что сказать. Наконец, вся дрожа, едва пробормотала: «Не знаю, удастся ли…» — «Конечно, удастся! Я жду тебя к ужину, как всегда». — «Не знаю…» — «Как это не знаешь? Ровно в восемь я пришлю за тобой Альдо. Договорились!»
И вот сейчас она, поклявшаяся никогда больше не переступать посольского порога, выходит из «мерседеса» и нажимает кнопку звонка у главного входа. Мишель открыл ей и, по своему обыкновению, поклонился, не глядя на Росалию, ибо не должен был узнавать позднюю посетительницу. Bonsoir, madame! Она снова в вестибюле, снова слышит знакомые запахи ковров, мебели, слабый аромат соснового экстракта, сразу напомнившие ей поцелуи и объятия Габриэля. Щеки Росалии залила краска стыда, она понимала, что возвращается к нему и что все пойдет как прежде.
С раскрытыми объятиями по лестнице спускался Габриэль Элиодоро. «Росалия! Как хорошо, что ты пришла! Как я рад!» Она позволила себя обнять и отвести на второй этаж.
Только после того, как прошел первый порыв страсти, Росалия заговорила о Фрэнсис Андерсен. Они еще лежали.
— В конце концов, дорогая, если это и должно кого-то заботить, то мою законную супругу, а не тебя. Главное, что я тебя люблю и не могу без тебя жить.
— Ты говоришь правду?
— Что такое правда? Если знаешь, скажи. Во всяком случае я не знаю. Я знаю только то, что чувствую.
Несмотря на все усилия, Росалия не смогла сдержать слез. Габриэль почувствовал, как они капают на его волосатую грудь.
— В чем дело, мой цветочек?
— Что со мной будет?
— Ничего. Я уже тебе тысячу раз это говорил и сейчас повторяю. Что может случиться с такой молодой и красивой женщиной? Взгляни на меня. Моя жизнь на исходе. — Росалия зарыдала, и он погладил ее по голове. — Если бы я тебе рассказал, о чем я думаю, когда остаюсь один в этом огромном доме… Уж не считаешь ли ты меня бесчувственной, грубой скотиной? Раньше я, вероятно, и был таким. Когда я был молод, все вокруг меня словно сговорились сделать из меня бандита, вечного мятежника. Но я победил своих врагов. Ведь было время, когда я ходил босой, оборванный и голодный. И если я сегодня чего-то добился, то обязан этим только себе — и больше никому.
Ему хотелось рассказать ей все: что мать его была проституткой, что он не знает своего отца и что его появление на свет стоило кому-то три луны, а может, и дешевле, так как по субботам для солдат 5-го полка делалась скидка. Но Габриэль промолчал.
— Ты никогда не вспоминаешь о жене? — спросила Росалия. — О дочерях и внуках?
— Конечно, вспоминаю, и часто. Но семья мало меня беспокоит. Дочери, кроме младшей, уже хорошо пристроены. Я богат. Если со мною что-нибудь случится, Франсискита и девочки будут обеспечены. Меня не назовешь легкомысленным. Я забочусь о своей семье. Если правительство падет, я отправлю всех их в Сьюдад-Трухильо. А потом они переедут сюда… или в Европу.
— А ты?
— Я отправлюсь в ад. Но не один, кое-кого я прихвачу с собой…
Когда Росалия стала играть маленькой алюминиевой ладанкой на шее Габриэля Элиодоро, тот с улыбкой сказал:
— Это изображение Соледадской богородицы, моей покровительницы. Ты не знаешь историю ее статуи, которая стоит в церкви нашего поселка? Однажды был страшный ураган, казалось, наступил конец света, море грозило выйти из берегов. Во время этой бури наш викарий служил мессу, он просил бога пощадить его добрых прихожан. Всю ночь ветер завывал не умолкая, волны бились о берег. Жители нижней части поселка укрылись в домах родственников и друзей, которые жили наверху. Молния ударила в муниципальную тюрьму, убила двух стражников, и все заключенные разбежались. В это время мне было лет десять-одиннадцать. Я просидел почти всю ночь у окна нашей лачуги, глядя на гору, которую озаряли вспышки молний… там скрывался Хуан Бальса со своими партизанами. Я просил бога, чтобы он пощадил революционеров, но направил молнии на казарму пятого пехотного полка. С наступлением дня буря улеглась, небо стало чистым, снова появилось солнце. И тут рыбаки заметили на берегу какой-то странный предмет. Сначала подумали, что волны прибили к берегу утопленника. Затем увидели, что это деревянная статуя какой-то святой. Пришел священник и велел отнести ее в церковь. Потом долго пытались выяснить, откуда взялась эта статуя, но безуспешно. Поблизости от нас не случилось ни одного кораблекрушения. Это могло быть только чудо… Тогда священник распорядился привести статую в порядок. Мастер Наталисио покрасил ее, и она стала красивее богородицы Севильской, которая считается покровительницей тореадоров. Из Серро-Эрмосо приехал сам архиепископ, чтобы освятить статую, названную богородицей Соледадской и ставшую покровительницей нашего поселка… и моей покровительницей…
Габриэль Элиодоро замолчал. Росалия продолжала играть ладанкой. Она не могла понять этого человека. Но… понимала ли она себя?
28
В записке Гленды было сказано: «Завтра, в половине одиннадцатого в Национальной галерее, в восьмом зале, против «Мадонны» Рафаэля». Была суббота. Пабло пришел первым, но ждал Гленду не больше трех минут. Они пожали друг другу руки и сразу же заговорили о живописи, будто продолжая прерванный накануне разговор. Гленда сказала, что она не поклонница Рафаэля. Она находила, что от его полотен веет холодностью совершенства, в них нет трепета жизни. А как думает Пабло? О, совершенно с ней согласен.
Они стали медленно ходить от одной картины к другой, но смотрели их невнимательно, исподтишка наблюдая друг за другом. Пабло нашел Гленду очень привлекательной, она была во всем белом, волосы распущены, вид свежий, будто она только что из ванны. Перед «Мадонной с младенцем» Боттичелли Пабло, стараясь, чтобы его реплика прозвучала как можно непринужденнее, сказал:
— Эту картину Боттичелли написал во Флоренции, когда ему было всего двадцать шесть лет.
— Ни на одном старинном полотне младенец Иисус не похож на ребенка, — заметила Гленда.
— Вы очень хорошо выглядите.
— Спасибо, — отозвалась она и чуть было не добавила: «А разве у меня есть причины выглядеть иначе?»
Они молча постояли перед «Обожанием младенца» Филиппино Липпи, и Пабло едва не сказал, что, по слухам, Филиппино — сын монаха Филиппо Липпи и монахини, которую он соблазнил. Гленда, видимо, не очень любит скользкие темы и могла холодно и не без оснований заявить, что ее не интересуют сплетни XV века.
— Вот одна из моих любимых картин! — воскликнул Пабло.
Они подошли к «Портрету молодого человека» Боттичелли.
— Вам не кажется, Гленда, что на лице этого юноши написана вся история человечества? Что вы читаете в его глазах?
— Любознательность, любовь к жизни и в то же время нерешительность… и, может, даже страх.
Пабло хотел было взять девушку под руку, но не решился. Гленда же не имела бы ничего против этого, однако ей понравилась его сдержанность, очевидно, он понимал, что еще не время для подобных вольностей. Они прошлись по западному крылу галереи. Гленда призналась, что Эль Греко оставляет ее равнодушной. Пабло не согласился с ней. Как туристы, дорожащие каждой минутой, они пробежали по залам фламандских мастеров, Гленда сказала, что Рембрандт ей нравится. Пабло, которому все это начинало надоедать, чуть не крикнул: «Так заявите об этом во всеуслышание, и автопортрет Рембрандта улыбнется от удовольствия!»
— Вам нравится «Девочка в красной шапочке»? — спросил он, и Гленда призналась, что, когда увидела впервые оригинал, была удивлена и даже разочарована его небольшими размерами, хотя это и не снижало ценности полотна Вермеера.
Они остановились в центральной ротонде у фонтана и вдруг расхохотались.
— Какие же мы все-таки дураки, Пабло.
Он взял ее под руку и уже совсем другим тоном сказал:
— Пойдемте посмотрим поздних импрессионистов. Вы должны привыкнуть ко мне. Я хочу быть вашим другом и не хочу больше бояться каждую минуту, что оскорблю вас словом или жестом. — Пабло повел Гленду к картинам Гогена и Ван Гога, которых очень любил. — Я знаю, что тогда в посольстве я произвел на вас очень плохое впечатление. Не удивляюсь, я и сам себе был противен. Я до сих пор не понимаю — и поверьте, я говорю это совершенно искренне, — почему я вел себя так. Прежде со мной никогда ничего подобного не случалось.
Она молча улыбнулась, понемногу оттаивая. «О, как приятно, — думал Пабло, — ощущать рядом это теплое, надушенное тело. Но осторожно, дружище!» На свертке, которого он касался, стояла невидимая надпись: «Осторожно! Стекло!»
— Когда я вам надоем, — продолжал он, — вы мне скажите об этом откровенно и даже можете меня прогнать, хорошо? Как вы находите автопортрет Гогена? Эх, если б я мог писать, как он… А теперь взгляните на эти деревья Ван Гога. Не кажется ли вам, что они похожи на людей, сведенных предсмертными судорогами?
Гленда кивнула. По правде говоря, полотна импрессионистов ее не очень интересовали, она видела их несчетное число раз, бывая прежде в музее. Интересовал ее Пабло, теперь сомнений в этом не было, зато появилась тревога. Если бы они могли оставаться друзьями, и только друзьями, время от времени встречаясь для долгих разговоров… Возможно, когда-нибудь она рассказала бы ему все. Все? Нет, это невозможно! Но по крайней мере у нее был бы друг, с которым она могла быть откровенной, хотя и не до конца, не выворачивая себя наизнанку, не изливая своей тоски. Ортега человек тонкий. Гленде нравилось его лицо, его голос, было приятно его присутствие. Однако где-то внутри, в самом сердце, что-то противилось окончательной капитуляции.
— Вы устали? Мы можем немного посидеть.
Они уселись перед картиной Манэ, изображавшей мертвого тореадора на арене.
— Пабло, — сказала вдруг Гленда, повернувшись к нему и глядя ему в глаза. — Я, наверное, кажусь вам очень странной?
Немного поколебавшись, Пабло кивнул, но тут же поспешил спросить:
— Но кто вам сказал, что это мне не нравится?
— Если я вам задам один вопрос, обещаете ответить на него откровенно?
— Обещаю.
— Чего вы от меня добиваетесь? Зачем я вам понадобилась? Неужели только для коллекции? И как большинство мужчин вашего возраста и положения, вы хотите сделать из меня послушную игрушку? Говорите! Не бойтесь оскорбить меня или разочаровать.
— Черт побери! Вы задали мне сто вопросов и хотите получить один ответ. Что ж, попытаюсь сформулировать его покороче: вы мне нравитесь, ваше общество мне очень приятно, и я хочу, чтобы мы бывали вместе как можно чаще. Вы удовлетворены?
— Вы говорите, что я вам нравлюсь… Но это можно отнести только к моей внешности, не так ли?
— Вот те раз! Вы же не картина, не мелодия и не идея. Вы человек, у вас есть тело… и разве это плохо, что мне нравится ваша внешность?
— Плохо. Потому что, если в вас говорит чувственность, наши отношения роковым образом… вы сами догадываетесь…
Пабло не сдержал раздражения.
— Поймите же меня, милая Гленда. Я смотрю на вас, на ваше лицо, на ваше тело, и это доставляет мне наслаждение. Что же касается вашей души, то я еще не знаю, какова она, потому что вы не даете мне туда заглянуть. Вы нелюдимы, не допускаете ни малейшей близости. Я люблю — что поделаешь, у меня вырвалось это слово! — я люблю в вас то, что вижу. Все остальное вы скрываете за стеной, усыпанной битым стеклом, которую вы возвели между нами. Как я могу любить то, чего не знаю? И почему наши отношения непременно должны завершиться трагически?
Гленда молча смотрела на мертвого тореадора. И Пабло впервые представилась возможность спокойно разглядывать ее лицо. Он вообразил, как со сладострастным усердием пишет ее портрет, набрасывает углем выпуклый лоб, прямой благородный нос, пухлые губы — лишь они выдавали чувственность девушки… Лицо Гленды было продолговатым и гладким, с правильным овалом. Ее кожа не была слишком белой, как у блондинок, которые на солнце покрываются пятнами, словно лежалые фрукты. Кожа Гленды напоминала скорее лепесток магнолии, не только своей нежностью, но и чуть-чуть кремовым оттенком. А глаза, выражавшие сейчас неподдельную грусть и даже, пожалуй, тоску, были цвета фиалки, который удачно контрастировал с темно-каштановыми волосами. Про себя Пабло решил, что если лицо Гленды и напоминает чем-то лики мадонн, то в губах ее не было никакой святости, это был рот земной женщины, который ему захотелось поцеловать, едва он ее увидел. Да, ему нравилось и тело Гленды, казавшееся слишком худощавым, однако Пабло уже понял, что это не так, ее длинные, стройные ноги, узкие бедра… Он еще раз убедился, что Гленда гораздо привлекательнее того образа, который он хранил в памяти. Но почему она замолчала и грустно разглядывает мертвого тореадора?
— Постарайтесь не бояться меня, Гленда, или, вернее говоря, постарайтесь проникнуться ко мне доверием.
Она повернулась к нему, и Пабло снова захотелось ее поцеловать.
— Я вас не боюсь. Но доверия к вам у меня нет.
— Ладно, — Пабло улыбнулся. — Я предлагаю вам опыт. Давайте встречаться чаще, говорить… но откровенно, без недомолвок. Если через несколько дней или недель… или месяцев — срок установите вы — мы не поймем друг друга, можете меня прогнать. По рукам?
Гленда лишь пожала плечами.
Какой-то сторож, прислонившись к косяку двери, исподтишка наблюдал за ними.
Снова наступило молчание. Гленда опять посмотрела на мертвого тореадора, упавшего на арену рядом со своим плащом и шпагой. Бык поднял его на рога. Все мужчины — быки. Они набрасываются на женщин, и те остаются лежать, как тореадор, неподвижные, обессиленные, мертвые…
«А, пропади все пропадом!» — подумал Пабло и взял девушку за руку. Гленда посмотрела на него с испугом, но руки не отняла.
— Гленда, милая, давайте пообедаем сегодня вместе, я за вами заеду, хорошо? — И, чтобы она не заподозрила чего-нибудь, добавил: — Ждите меня у своего подъезда ровно в семь. Договорились?
Гленда едва заметно кивнула и снова уставилась на картину. Но видела она не тореадора, а упавшего на землю негра, залитого кровью, кастрированного, изувеченного. Его лицо, разбитое, растоптанное, превратилось в кровавое месиво.
— Но почему вы плачете, Гленда? Разве я чем-нибудь обидел или оскорбил вас?
В этот вечер они пообедали в ресторане «Рив Гош». Гленда много говорила и держалась менее замкнуто, чем обычно, хотя по-прежнему касалась только общих тем. Потом они встречались еще несколько раз по пятницам или субботам. Однажды в воскресенье солнечным теплым днем они отправились в парк Глэн Эко, закусили там сосисками, покатались на русских горах, и Пабло впервые услышал смех Гленды, громкий и звонкий, как у девочки, которая веселится от души. А как преобразилось ее лицо!
Мало-помалу он стал привыкать к ее складу ума, несколько резкому и критическому, ибо Гленда, в отличие от большинства знакомых Пабло американок, не обладала чувством юмора.
С наступлением первых жарких дней они полюбили выезжать в окрестности Вашингтона, например в Маунт Вернон Мемориал хайуэй, добирались и до дома, где жил когда-то Джордж Вашингтон. Гуляли в Тайдл Бейсине, лежали на траве, глядя, как прыгают в ветвях деревьев белки и птицы. Иногда возникали опасные паузы, во время которых Пабло, вдохновленный приятным уединением и близостью молодой и желанной женщины, предавался смелым мечтам, однако тут же одергивал себя, ибо все еще боялся сделать хоть один неосторожный жест, могущий оскорбить или спугнуть Гленду.
А она смотрела на жаркое голубое небо, видневшееся между купами деревьев, и чувствовала, как впервые за многие месяцы отдыхает каждый ее мускул, каждый нерв. Пабло оказался замечательным товарищем, он не позволял себе ничего, что могло бы ей не понравиться. И она уже не раз ловила себя на том, что ждет, когда он обнимет ее и поцелует в губы. Да, она ждала этого и в то же время боялась.
А может, все же лучше им оставаться друзьями? Но до каких пор? Иногда по ночам она беспокойно металась в кровати, думая о нем, желая его, пытаясь вообразить, какими будут его объятия… Пабло не мог оказаться грубым, как другие мужчины, у него тонкая душа, он художник, он… Потом Гленда решала, что надо встать под холодный душ и выкинуть все это из головы.
Особенно жаркой была вторая половина июня. Однажды вечером Гленда и Пабло отправились на прогулку. Автомобиль оставили близ Тайдл Бейсина в парке Ист Потомак и пешком пошли к Хэйнс-Пойнту. Они улеглись под ивой и стали молча смотреть на звезды, слушая приглушенный далью городской шум. Дул теплый и ласковый ветерок, насыщенный благоуханием цветов, и Гленда гнала от себя непрошеные воспоминания о том ужасном лете в Седартауне, пока Пабло с удовольствием вспоминал, как проводил лето в детстве и юности. Но голоса и образы, навеянные запахами теплого вечера, постепенно сковали его какой-то приятной грустью. И тогда тихо и не торопясь, как бы разговаривая с собой, он рассказал Гленде об отчем доме в Серро-Эрмосо, старом особняке в испанском колониальном стиле, полном старинной мебели, вокруг которого росли столетние кедры и дубы, а также печальные кипарисы, напоминавшие мальчику о кладбище. Был там еще фонтан, выложенный изразцами из Талавера-де-ла-Рейны, а также статуи, стоявшие вдоль дорожки из каменных плит, которая вела к дому; эти старинные статуи были живыми персонажами его детства.
— Это были девять муз, и я гордился тем, что знаю их имена и что каждая из них олицетворяет. У Клио одна рука была отбита, как и маска, которую держала Талия. В двенадцать лет я влюбился в Эроса, увенчанного розами и миртами, и сложил в его честь поэму… Однако, поступив в лицей, я полюбил Мельпомену. Вдохновленный ею, я написал греческую трагедию, воплотив себя в герое пьесы, очень напоминавшем Ореста.
Пабло замолчал, а Гленда подумала: «Где все-таки похоронены останки негра?» Боже, почему лето всегда навевает на нее эти мрачные воспоминания? Говорили, будто кто-то бросил его семенники голодным собакам, и те их сожрали. Гленда покачала головой, стараясь отогнать от себя эти мысли.
— Любопытно, — продолжал Пабло, — некоторые сцены как будто не имеют для нас никакого значения, но мы почему-то не забываем их. Например, одним прохладным вечером — мне было тогда лет десять-одиннадцать — я увидел, высунувшись из окна, как отец, опустив голову, задумчиво расхаживает по парку, накинув на плечи плед. Не знаю почему, но мне стало его жаль. Наверное, хотя я и был мальчишкой, я интуитивно почувствовал глубокое, непоправимое одиночество отца. Мне захотелось выйти из дома, взять его под руку и шагать с ним рядом, пускай даже молча. Но робость не позволила мне это сделать. Я никогда не был по-настоящему близок дону Дионисио…
— Что за человек ваш отец? — спросила Гленда.
Пабло ответил не сразу. Знал ли он своего отца?
— Он высокий, худой, немного сутулый, с длинным лицом, печальными глазами, тонкими аристократическими руками, тихим голосом. Таков его портрет. Еще я могу сказать, что он человек замкнутый, книголюб, молчальник, но все его уважают. С детства я слышал, что противоречить дону Дионисио нельзя… И шуметь при нем тоже… И огорчать его тоже, потому что он болен… Наш семейный врач сказал мне однажды: «Ваш отец еще довольно молод, но его бедное сердце очень устало, износилось, ему тысяча лет». Я понял эти слова буквально и долго думал, что сердце у моего отца действительно тысячелетнее.
— А мать?
— Если отец был для меня чуть ли не легендарным героем, чем-то вроде старинной статуи, то к матери я относился совсем по-иному. Это сильная, обаятельная личность. Она опекала меня со старательностью преданной гувернантки. Сами понимаете, единственный сын. Она ласкала меня, но и требовала беспрекословного послушания. Пока я изучал арифметику, мать занималась со мной, но когда я перешел к алгебре, она передала меня дону Дионисио. Само собой, алгебры я не знаю. А то немногое, что знал, забыл… Меня заставили изучать право только потому, что считалось — и особенно на этом настаивала мать, — будто мужчина обязательно должен получить звание доктора. Но возвращаюсь к матери: донья Исабель властная женщина, из благородной семьи и с сильно развитой сословной гордостью. Если б вы слышали ее рассказы о генеалогическом древе семьи Ортега-и-Мурат! Мать была своеобразным мостом между своим мужем и остальным миром. Или переводчиком, которому дон Дионисио поручил вести переговоры с жизнью. Благодаря ей дела нашего семейства процветали. И это, заметьте, в стране с патриархальным укладом!
— А что же делал ваш отец?
— Подозреваю, что он жил и по сей день живет в мире грез, не желая знать действительности, которая не соответствует его мечтам. Я убежден, что из него вышел бы образцовый монах, в монастыре он был бы счастлив.
Пабло лежал на спине, скрестив руки под головой.
— Нужно иметь в виду, доном Дионисио с юношеских лет владеют два страха. Первый — это страх смерти, толкнувший его в объятия церкви. Он силен в теологии, наверно, ничуть не меньше архиепископа-примаса. Второй страх — это страх перед коммунистами, которые, захватив власть в свои руки, конфискуют его состояние и лишат его свободы вероисповедания и других свобод, для него жизненно важных. И тем не менее он по-настоящему хороший человек, поверьте, Гленда. Он делал трогательные, хотя и безуспешные попытки найти со мной общий язык.
— И как вы реагировали на эти попытки?
— Мальчиком я питал к нему сочувственную привязанность и уважение. Но когда я вырос, я восстал… И восстание это завершилось поступком, о котором я уже вам говорил. Я считаю, что спас жизнь Грису не только из дружеских чувств к старому учителю, но также и в знак протеста против убеждений моих родителей, которым противостояли идеи Гриса, агностика и сторонника социализма. Разумеется, я понял это много позднее…
— Как сложна жизнь! — Гленда вздохнула.
— Когда мне было лет пятнадцать, я уехал на каникулы в Соледад-дель-Мар, где у нас была усадьба и плантации. Там я влюбился в дочь пеона, примерно своего возраста, звали ее Пия. Мы с ней забирались в заросли сахарного тростника и подолгу лежали там, лакомясь фруктами, смеясь и рассказывая друг другу всякие истории. И случилось неизбежное, ведь мы были так юны… Грехопадение наше свершилось вечером, инициатива принадлежала Пии, такой же неискушенной и неловкой в любви, как и я. И тогда мы влюбились друг в друга и продолжали тайно встречаться, иногда в зарослях на берегу реки после объятий, нагие мы бросались в воду и плавали… До сего дня, если я слышу запах патоки, зелени, нагретой солнцем земли, я неизбежно вспоминаю Пию. Но однажды нас кто-то увидел и рассказал об этом матери, разразился страшный скандал… Можете себе представить, что было с доньей Исабелью Ортега-и-Мурат! Ее сын, ее плоть, ее кровь, занимался недостойным делом в зарослях сахарного тростника, да еще с дочерью пеона! Я был изгнан из Эдема. Мать плакала, проклинала меня и наконец, утерев слезы, спросила: «Ты хочешь убить своего отца? Неужели ты не знаешь, что его сердце может не выдержать?» Она решила не рассказывать ему о моем «преступлении». Скандал замяли, отца Пии уволили, и ему пришлось со всей семьей перебраться на другую плантацию. Меня же отправили в иезуитский колледж, где я изучал богословие, выслушивая постоянные угрозы адскими муками. Думаю, что два года, которые я провел в этом заведении, заложили фундамент моего агностицизма. Я убедился, что заниматься религией скучно, а бог — слишком строгий наставник… Моя мать мечтала сохранить меня до брака непорочным и рано женить на какой-нибудь девушке нашего круга, с которой мы народили бы детей для продления рода Ортега-и-Мурат, а те в свою очередь расширили бы наши земли, умножили богатство. В восемнадцать лет, когда я поступил в университет, мне уже подыскивали невесту. Кандидаток было три или четыре, все из видных семей Серро-Эрмосо. Я снова восстал. У меня не было никакого желания вступать в брак по расчету, но и склонности к аскетизму тоже, поэтому я часто менял женщин, и совсем не все они были проститутками. Впрочем, вам, наверно, неприятно все это слушать.
Гленда ответила не сразу. Ей вдруг показалось, что рядом с нею тот истерзанный негр.
— Почему? Просто это меня огорчает… Я не сторонница стихийных страстей.
— В том году, когда я собирался получить диплом бакалавра, мне пришлось покинуть Сакраменто по известным вам причинам. И сейчас я изо всех сил стараюсь ничем не ранить сердца дона Дионисио или гордости доньи Исабели.
Пабло замолчал и стал смотреть на мигающие огни самолета, который на небольшой высоте летел к аэропорту. Теперь он пришел к заключению, что Гленда очень напоминает Пию: тот же рот… длинные ноги. Правда, Пия была смуглой. А глаза? Какие у нее были глаза? Он не мог вспомнить.
— И все же вы больше любите отца, не так ли, Пабло?
— Я стараюсь не думать об этом. Мы с матерью часто ссоримся, когда встречаемся, и даже в письмах. Но у меня сейчас же возникает чувство вины перед ней, потому что к отцу я всегда испытывал нежность, а может, это была жалость? Моя совесть неспокойна оттого, что я никогда по-настоящему не попытался сблизиться с ним с тех пор, как стал взрослым…
Под деревьями мелькали силуэты гуляющих, на противоположном берегу светились огни. Над городом стояло мерцающее красновато-желтое зарево.
— Вы хотите вернуться домой? — спросила Гленда, тотчас почувствовав, что могла бы спросить об этом и себя.
— И хочу и не хочу. Я боюсь. Мой мир очень непохож на мир моих родителей, а может, наоборот, я обнаружу, что в сущности я такой же, как они, и это будет для меня тяжелым разочарованием. Действительно, все очень сложно.
— Но когда-нибудь ваш отец умрет, — прошептала Гленда после некоторого колебания.
— В тот же день мать изобретет новый способ шантажа, лишь бы продлить свою власть надо мной. Когда сердце отца перестанет биться, а тело его будет погребено в фамильном склепе Ортега-и-Мурат, донья Исабель начнет спекулировать на памяти дона Дионисио, уважать которую я обязан. Она будет напоминать мне непрестанно, какие надежды возлагал на меня старик: я должен охранять семейные владения и уважать социальный строй, опорой которого он являлся… и который я считаю жестоким, абсурдным и несправедливым.
— Вы социалист?
— Забавно, американцы боятся слова «социализм» и в то же время подготовлены к нему, как ни одна другая нация. Но я отвечу на ваш вопрос. Если хотите, можете наклеить на меня ярлык социалиста, утопического социалиста, сочувствующего либерала, гуманиста — какой угодно, название меня не интересует. Меня интересует установление социальной справедливости. В моей стране около двух миллионов жителей, а управляется она всего тридцатью семействами да двумя крупными американскими компаниями. Население Сакраменто обречено на бесправие, нищету, голод, болезни, большую смертность… Вы думаете, вернувшись в Сакраменто, я стану служить сохранению этого строя?
— А что вам еще остается?
Пабло перевернулся на живот и подпер голову руками.
— Это я и стараюсь понять.
29
Мишель Мишель сделал еще одну короткую запись в своем дневнике: «Двадцать минут девятого. Сегодня вечером Г. Э., панибратски подмигнув мне, что лишний раз доказало его невоспитанность, велел приготовить ужин на двоих, который я должен подать в 10 часов, когда посол спустится с любовницей из спальни.
Через несколько минут после нашего разговора я услышал звонок и пошел открыть. Я был поражен: вместо мадам В. Передо мной предстала мадемуазель Ф. А., белокурая американка, улыбавшаяся, как красотка с рекламы зубной пасты. Bon Diea! Сейчас они наверху, вероятно, уже разделись и предаются любви на изабелинской кровати: мраморная статуя и бронзовый фавн. Великолепный контраст! Я бы не отказался посмотреть на эту сцену, отчасти из научного интереса, отчасти из любопытства. Ho hélas».
Росалия, прежде чем раздеться, всегда требовала, чтобы Габриэль погасил огонь, оставив только ночник. Фрэнсис же разделась при свете обеих ламп, ничуть не смущаясь, словно выступала со стриптизом. Посол, переодевшийся в шелковую пижаму, наблюдал за ней из ванной, предвкушая наслаждение, которое подарит ему эта белокурая женщина. Если принять во внимание его страсть и нетерпение, ухаживание, длившееся несколько недель, затянулось. Порой ему лишь с трудом удавалось владеть собой. Сколько раз они бывали в кабаре и ресторанах, сколько нежностей прошептали друг другу во время танцев, он слышал и обещания, и отказы, и слова надежды, и опять отказы. Посол дарил мисс Андерсен украшения с полудрагоценными и драгоценными камнями, заказал для нее платиновое кольцо с большой черной жемчужиной из Мексиканского залива, которое сейчас было на ней.
Фрэнсис лежала обнаженная, с закрытыми глазами, ее грудь дышала спокойно, как показалось Габриэлю Элиодоро. Белая… белая и такая чистая… Никогда в жизни у него не было женщины, от которой веяло бы такой чистотой и недоступностью.
Он медленно подошел к кровати. Ему нечего было говорить. Для их любви слова были не нужны.
Габриэль сел на кровать, и Фрэнсис улыбнулась, почувствовав его близость, но продолжала лежать с закрытыми глазами. Габриэль наклонился и нежно поцеловал грудь американки. Она слегка вздрогнула и инстинктивным движением плотнее сдвинула ноги. Габриэль снял пижаму и бросил ее на пол, положил руку на живот Фрэнсис, любуясь контрастом бронзовой и ослепительно-белой кожи. Потом потянулся к ее губам, но она отвернулась. Тогда он стал целовать ее волосы, лицо, подбородок, шею, снова грудь, живот… И Фрэнсис вдруг вцепилась ему в волосы, будто хотела вырвать их. С шумом переводя дыхание, он лег рядом с ней, обнял ее и прижал к груди, опять попытавшись поцеловать ее рот, но Фрэнсис откинула назад голову, и разозленному Габриэлю захотелось впиться зубами в эту нежную шею.
«Неужели я ей противен? — промелькнуло у него в мозгу. — Постой, я тебя проучу, белая сучка, ты у меня узнаешь». Какое-то жестокое желание унизить ее, надругаться над этим великолепным телом поднималось в Габриэле. Он все сильнее прижимал к себе Фрэнсис.
— Подожди, Габриэль, — прошептала она. — Не надо торопиться. У нас впереди целая вечность, дай мне немного передохнуть.
Он отпустил ее и лег на спину. В комнате было прохладно, и все же Габриэль почувствовал, что тело стало влажным. Фрэнсис с улыбкой смотрела на него.
— Что ты почувствовал, когда убил впервые?
Его обескуражил этот неожиданный вопрос.
— А кто тебе сказал, что я убивал?
— Ну, Габриэль, мне же отлично известна твоя жизнь. Расскажи, что ты тогда чувствовал. Был ли охвачен холодной ненавистью или яростью?
— Я никогда не убивал хладнокровно.
— Трудно поверить.
— Почему?
— Да потому, что ты был партизаном, а они обычно нападают ночью и убивают часовых без шума, то есть ножом. Говори же, что ты чувствовал?
— Я не помню, когда убил впервые. У меня очень плохая память, и я ненавижу прошлое.
— Но что чувствует человек, когда убивает?
— В бою? Радость. Это та же игра, по ее условиям врага надо отправить в ад, прежде чем он отправит тебя.
— А потом? Начинаются угрызения совести?
— Откуда мне знать? По-моему, ты добиваешься от меня признаний, потому что думаешь, будто наслаждение в объятиях убийцы будет особенно острым.
— А почему бы и нет! Мне надоело спать с красивыми здоровыми мужчинами, для которых я что-то среднее между любовницей и матерью. Они настолько чисты, целомудренны и порядочны, что у меня пропадает желание.
— Я не гожусь тебе в сыновья, да и в отцы тоже, несмотря на свои годы. И вообще, не хватит ли разговоров?
Он снова потянулся к ее губам, но Фрэнсис опять отвернулась.
— Сколько человек ты убил? Скажи, Габриэль!
Он пустил в ход все известные ему ласки, но Фрэнсис оставалась равнодушной.
— Сколько? — повторяла она. — Десять, двадцать, пятьдесят?
— Я не считал! — крикнул он, едва удерживаясь, чтобы не надавать ей пощечин.
— Что же ты испытывал при этом?
— Когда у меня в руках был пулемет, я нажимал на гашетку и стрелял. А люди, которые падали, мертвые или раненые, были моими врагами. Они не имели ни лиц, ни имен.
— И все же сколько?
— Пятьдесят, сто, двести… Какое это имеет значение?
— А ты сможешь убить меня, если я не отдамся тебе сейчас?
— Нет. Я не хочу тебя убивать, наоборот, я хочу убедить тебя, что мы оба живем и что жизнь прекрасна.
— Но я знаю, что ты убийца, Габриэль. Не надо это отрицать! Ты, наверно, убивал не только гранатами или из пулемета, но и собственными руками. Расскажи, как это было, прошу тебя, расскажи!
Но он не хотел вспоминать. Мертвецов он похоронил в своей памяти, в братской могиле без надгробья и надписи. Они ее не заслужили. Полный желания, он обнял Фрэнсис, еще крепче прижал ее к себе, однако скрип кровати напомнил ему…
— Ладно, слушай. Мне был двадцать один год, и я скрывался от полиции, так как участвовал в провалившемся заговоре; мы собирались бросить бомбу в автомобиль Чаморро…
— Ты должен был бросить бомбу… своими руками, с риском для жизни?
— Нас было четверо. Мы еще не кинули жребий, кто принесет себя в жертву. Нашелся предатель, и полиция ворвалась в дом, где мы обычно собирались. Трех товарищей арестовали, но я сумел убежать…
— А если бы жребий пал на тебя… Ты бы убил президента и сам подорвался на той же бомбе?
— Что ты! Я, конечно, ненавидел диктатора. Ведь его солдаты убили моих друзей… ни в чем не повинных крестьян из деревни, где я родился. Но я был еще очень молод, мне хотелось жить. Жить, чтобы ненавидеть. А мертвые ненавидеть не могут.
Фрэнсис улыбнулась.
— Так, может, ты и выдал товарищей, чтобы избавиться от этого поручения?
Габриэлю опять захотелось дать ей пощечину, но он сдержался.
— Твой вопрос оскорбителен, и я не буду на него отвечать.
Фрэнсис погладила любовника по спине, ласково прошептав:
— Продолжай же! Итак, ты убежал… Где же ты прятался?
— У знакомой проститутки… Ее звали Эльвира.
— Она была хорошенькая? Молодая?
— Не хорошенькая, но и не уродлива. С крашенными перекисью волосами. Пожалуй, ей уже было за сорок, но тогда мне она казалась старухой…
— Она была влюблена в тебя?
— Не знаю. Я ей нравился.
— Где же она тебя прятала?
— В маленькой комнате, которую она снимала в старом доме, в квартале, где жили проститутки. Комната была бедно обставлена, и в ней стоял запах ее тела, ее дешевых духов, мужского пота…
— Куда ж ты девался, когда приходил клиент?
— Эльвира обычно торчала у окна, заманивая проходивших мимо мужчин. И пока клиент поднимался по лестнице, я убегал на чердак и сидел там среди мышей и пауков…
— И ты слышал, что происходило в комнате?
— Я старался не слушать, обливаясь потом и изнывая от жары. Но в потолке были щели, поэтому волей-неволей я становился свидетелем сцен, которые разыгрывались подо мной. Кого только и чего только я не повидал! Приходили и мальчишки, впервые имевшие дело с женщиной… А после того как клиент уходил, я спускался. И так всю ночь. Лишь на рассвете Эльвира запирала дверь на ключ и я, умирая от усталости, наконец ложился.
— С нею?
— В комнате была одна кровать.
— И долго так продолжалось?
— Две недели или три, не помню. Эльвира приносила мне еду, сигареты и даже одежду. Но мне надо было бежать из города…
— А теперь расскажи мне о человеке, которого ты убил впервые.
Габриэль на мгновение заколебался.
— Я не уверен, что убил его…
— Ты же сказал, что убил. Рассказывай!
— Может быть, это был кошмарный сон.
Фрэнсис рассмеялась.
— Тогда рассказывай сон.
— Однажды я почувствовал себя плохо, у меня был жар, перемежавшийся с ознобом, но я ничего не сказал Эльвире. Она, как обычно, сидела у окна. Я слышал, как мужчины останавливались, торговались с нею и уходили. Но вот один решил подняться. Эльвира сделала мне знак. Я едва добрался до чердака и улегся на одну из балок… Все тело ломило, меня била дрожь, наверно, начинался бред… А может, я уснул и все дальнейшее видел во сне. Вошел клиент. По голосу он мне показался человеком уже немолодым. Он разделся и потребовал, чтобы Эльвира тоже сняла с себя все. Я услышал, как скрипнула кровать, потом мужчина что-то сказал, я понял, что он хочет, чтобы Эльвира о чем-то попросила его…
— О чем же?
— Чтобы он сделал ей ребенка. Она ответила: «Не дури, давай побыстрее». Но мужчина настаивал: «Я прибавлю две луны, если ты попросишь, чтобы я сделал тебе ребенка». Она не соглашалась: «Зачем? Я не хочу никакого ребенка». — «Но ведь это просто так, мне так больше нравится. Я добавлю пять лун, если ты скажешь: «Сделай мне ребенка!»» Едва преодолевая неловкость, Эльвира начала повторять эти слова. И вдруг меня захлестнули ненависть и отвращение к этому мужчине и особенно к его голосу. «Скажи еще раз: «Сделай мне ребенка!» Еще…» И Эльвира со смехом говорила. А мужчина рычал, как животное.
Краем простыни Габриэль вытер вспотевший лоб.
— Я не помню точно, что произошло. Все вокруг было словно в тумане. Я как будто сбежал с чердака, бросился на мужчину, который лежал с Эльвирой, и всадил ему в спину нож… Он закричал, Эльвира тоже. Я понял, что пропал, что единственное мое спасение — бежать… Я выбежал на улицу, свернул в первый же переулок и скрылся…
— По-твоему, это был сон?
— Не знаю. Когда рассвело, я был уже за городом, жар у меня спал, я был мокрый от пота, но со свежей головой. В кармане нашлось немного денег. Я сел на поезд и поехал в Соледад-дель-Мар, но соскочил, не дожидаясь, когда поезд подойдет к станции, и спрятался в зарослях. Пока было светло, я не мог появиться в городе, где меня все знали. Вечером я пошел к своему другу падре Каталино.
— И рассказал, что убил человека?
— Рассказал, но он убедил меня, что все это — плод больного воображения…
— Почему?
— Потому что ни на моей одежде, ни на моих руках мы не нашли ни единого пятнышка крови. И еще я хорошо помнил, что никакого ножа у меня не было.
Габриэль Элиодоро встал и направился в ванную; там он вытерся полотенцем, провел ароматическим карандашом под мышками и вернулся в комнату.
— Двое суток я прятался на церковной колокольне. Падре Каталино принес мне серро-эрмосские газеты за последние три дня, и ни в одной из них ни слова не было об убийстве в квартале проституток… Однажды ночью я выбрался из города, поднялся в горы и присоединился к партизанам Хувентино Карреры…
Американка улыбнулась.
— Допустим, это действительно было сном или бредом, и все же что ты почувствовал, когда ударил ножом этого человека?
— Что-то вроде радости, которую я испытал, впервые овладев женщиной… Только ощущение это было более резким и мгновенным…
Фрэнсис вдруг приникла к Габриэлю, жадно впилась в его губы; ее язык, подобно жалу, вошел в его рот, и, задыхаясь, как в схватке, они слились в неистовом объятии.
В это время Панчо Виванко нервно ходил по тротуару напротив посольства. Стояла удушающая жара, воздух был неподвижен, от камней и асфальта поднималось горячее влажное дыхание. Панчо чувствовал, что рубашка стала мокрая от пота и противно липнет к телу. Он то и дело проводил платком по лицу, поглядывая на два светящихся окна в верхнем этаже посольства. Там, в этой комнате, сейчас были Габриэль Элиодоро и его любовница-американка, а бедняжка Росалия мучается, сидя с распухшими и покрасневшими от слез глазами у немого телефона…
Виванко остановился, чтобы перевести дух, и, прислонясь к дереву, стал наблюдать за сторожем, совершавшим ночной обход парка.
Он пытался вообразить, что происходит сейчас в апартаментах посла, и со странным сладострастием представлял не только наготу американки, но и обнаженного Габриэля Элиодоро. Сначала он воображал себя послом, ласкающим Фрэнсис, потом женщиной, которую обнимает этот великан. Вот он всаживает нож ему в шею и выпускает из него кровь, как из борова. Кровяные колбасы! А вот кровяные колбасы! Две луны за штуку! Кровяные колбасы! И когда этот боров потеряет сознание и станет белым как мел, он, Франсиско Виванко, воскликнет: «Это тебе за зло, что ты нам причинил!»
Он снова вытер лицо. Платок был совсем мокрый. В горле пересохло. Нет. Лучше пристрелить его. Он всадит в это чудовище пять пуль. Его арестуют и отправят в Сакраменто, там отдадут под суд и приговорят к тридцати годам тюрьмы. Габриэль Элиодоро близкий друг президента, и ни один суд не посмеет оправдать его убийцу. Тридцать лет в грязной тюремной камере. Они наверняка найдут способ отравить его… Либо умертвят с помощью изощренных пыток. Нет. Остается один выход — самоубийство. Росалию он потерял навсегда. Пустить пулю в голову? Или броситься с виадука?.. Виванко увидел, как его череп раскалывается о бетонную мостовую. Ему стало жаль себя. Пожалуй, лучше всего принять большую дозу снотворного и тихо заснуть навеки…
Виванко побрел к Висконсин-авеню, где оставил машину. Захотелось пить. Он нашел еще открытую аптеку, взобрался на высокий табурет у прилавка, заказал лимонаду, выпил его залпом и попросил ванильного мороженого.
— С шоколадом? — спросила девушка.
Врач запретил ему кушанья, от которых полнеют, но Виванко очень любил мороженое, политое шоколадом. Надо было бы сбросить по крайней мере килограммов восемь-десять. Но какое это имеет значение, если он решил покончить с собой?
— С шоколадом, — сказал он твердо.
Девушка выдавила из пластмассового тюбика жидкий шоколад. И Панчо жадно, как ребенок, принялся за мороженое.
Верный своим монашеским привычкам, Хорхе Молина лежал на полу у себя в спальне, положив голову на низкую подушку. Свет он погасил, в комнате было тепло, и лишь жужжание кондиционного аппарата нарушало тишину.
Министр-советник подводил итоги дня. Сегодня он замечательно поработал. После сомнений и долгих споров с самим собой он пришел к окончательному решению: биографию архиепископа — примаса Сакраменто он будет писать, согласуясь со своим первоначальным планом. Дон Панфило станет героем, а падре Каталино останется в безвестности, об этом сельском священнике вряд ли стоит даже упоминать. В конце концов своим поразительным долголетием церковь обязана владыкам — епископам, архиепископам и кардиналам, которые обладали не только глубоким знанием теологии, но и политической дальновидностью, историческим чутьем и здравым смыслом, к тому же людей этих, их мысли, речи и поступки осеняла величественная тень папы, или, вернее говоря, свет, исходящий от него. Если бы делами церкви ведали чрезмерно чувствительные священники, невежественные или простодушные, как соледадский викарий, — а наивность в политике иногда является смертным грехом, — католицизм понемногу левел бы, пока не попал в ненасытную пасть коммунистического дракона…
Сохраняя позу, рекомендованную йогами для придания телу идеальной расслабленности и покоя, отчего оно перестает быть бременем для разума, Молина пытался представить себе персонажей и сцены первой главы своего труда. Строгой хронологии он не станет придерживаться, используя свободную композицию современного романа. Например, «Ясное майское утро 1915 года». (Описание Серро-Эрмосо: крыши зданий в колониальном стиле, башни церквей и т. д… Не забыть озеро, чистый воздух плоскогорья.) Празднично звонят колокола. Стрелки часов приближаются к десяти, толпы народа стекаются к мессе в собор на Оружейной площади. (Описание вычурного фасада, краткая история храма.) Всеобщее оживление говорит о том, что ожидается что-то необычное. (Может, стоит привести диалог между двумя стариками на паперти собора: «Неужели ты не слышал? Сегодня молодой падре Панфило Аранго-и-Арагон произнесет свою первую проповедь!» Другой с удивлением: «Сын дона Рамиро?» Нет, не надо прибегать к дешевым трюкам. Автор сам опишет происходящее.)
Молина видит внутренность собора, слышит шумы и запахи, его наполняющие. Пышные барочные алтари, множество свечей, изображения святых на колоннах храма и в нишах, некоторым из них двести-триста лет. Поднимается благоуханный дым ладана. Звуки органа наполняют собор. Начинается месса. И вот долгожданная минута — молодой падре Панфило поднимается на амвон. В храме раздается приглушенный шепот. Кто-то кашляет. Скрипит скамейка. Затем воцаряется тишина. Падре Панфило великолепен в своем расшитом золотом облачении (подарок доньи Рафаэлы Чаморро), он окидывает взглядом прихожан, выразительным жестом поднимает руку, и его красивый, звучный голос разносится по всему храму. (Посмотреть точный текст проповеди, напечатана в первом томе его труда «Проповеди и пасторали».) Дать реакцию верующих, выражение их лиц глазами дона Панфило, затем чувства молодого священника, произносящего свою знаменитую проповедь против войны и насилия, в которой были осуждены Хуан Бальса и его бандиты.
А вторая глава? Было бы интересно совершить прыжок назад и привести читателя в дом Аранго, где в 1890 году раздался плач новорожденного…
Однако министр-советник тут же вспомнил другой дом, где тоже кричал новорожденный и рыдал мужчина. Этот мужчина был его отцом. На этот раз Хорхе Молина не гнал от себя печальных мыслей о матери, умершей родами.
30
Всю вторую половину июня Вашингтон изнывал от жары, продолжавшейся почти две недели. Влажный воздух словно загустел, и к четырем часам дня уже некуда было деваться от неумолимого зноя. Однако и вечером облегчения не наступало, и назавтра вашингтонцев ждало то же самое.
Габриэль Элиодоро уехал на один из пляжей в Виргинии и взял с собой Фрэнсис Андерсен.
А похудевшая Росалия целыми днями валялась в кровати, без всякого интереса листая журналы, и часто плакала, томясь тоской по Габриэлю. Когда возвращался из канцелярии Панчо, она запиралась у себя в спальне и больше не выходила. Тогда муж, печально понурив голову, принимался ходить по гостиной. Иногда он обедал в ресторане или бродил по набережной Потомака, где его снова одолевали мысли о самоубийстве. Если и после прогулки жена не пускала его к себе, он, поплакав перед запертой дверью, брал револьвер, который недавно купил, и, разглядывая его, снова и снова рисовал себе сцену убийства Габриэля Элиодоро. Но порой, когда Панчо не удавалось побороть желание, он, растянувшись на софе, воображал обнаженную Росалию в объятиях посла и предавался запретному греху.
Молина не очень страдал от жары. Его холостяцкая жизнь не выходила из обычного русла, министр-советник даже переживал счастливые минуты: ему удалось написать три главы биографии дона Панфило, которыми он остался доволен.
По воскресеньям он ходил к мессе в церковь святого Фомы. Преклонив колени, Молина пытался проникнуть всеми своими чувствами в таинство мессы и думал, как было бы хорошо, если бы он мог прийти на исповедь, очистить ум и сердце, а потом причаститься. Но почему бог не желает существовать в его помыслах, если существует в его душе?
Чета Угарте также укрылась от жары на морском пляже. Генерал быстро нашел себе компаньонов, говорящих по-испански, для бесед и покера. А Нинфа, демонстрируя свои телеса, обтянутые купальным костюмом, купленным на дешевой распродаже, тупо глядела в море, вздыхала от тоски по Альдо Борелли и пыталась флиртовать, хотя и безуспешно, с молодыми и атлетически сложенными спасателями.
Титито не покидал Вашингтона, оставаясь, по своему обыкновению, оживленным и веселым. Он поведал Клэр Огилви, что собирается устроить в своей квартире, выдержанной в розовом и черном цветах, вечеринку, о которой заговорит весь Вашингтон. «Приглашу только мужчин, — сообщил он, лукаво улыбаясь. — И догадайся, кто будет почетным гостем?» Мисс Огилви покачала головой, и Титито хвастливо бросил: «Вик Трой!» Клэр знала этого сейчас очень модного киноактера, двухметрового, широкоплечего великана, белокурого, с немного женственным лицом. Женщины с ума сходили по нему, рвали на нем одежду, отрезали кусочки его галстука и даже волосы, чтобы завладеть хотя бы частицей своего идола, этого чуда рода человеческого. Титито познакомился с ним недавно в Нью-Йорке, и Вик Трой согласился принять приглашение приехать в Вашингтон в начале осени на праздник к господину Вильальбе. Разве не душка? Клэр пожала плечами. Она чувствовала себя усталой. Ее план провести летние каникулы на музыкальном фестивале в Колорадо провалился. Мерседита и другие машинистки уехали в горы, и в канцелярии было тихо, как в склепе… «О Титито! Как я завидую твоему энтузиазму: думать о гостях в такую жару!» Но Титито не унывал. «Мы устроим что-то вроде маскарада, понимаешь?» Если бы она могла понять!
Орландо Гонзага уехал отдыхать в Бразилию. «Я рад, — сказал он Пабло, — бежать из этого ада на берегу Потомака, чтобы насладиться прелестями бразильской зимы».
В жизни Годкина не произошло никаких изменений. Иногда он встречался с Пабло, они завтракали или обедали. Пабло казался ему озабоченным.
И вот однажды вечером он, образно выражаясь, коснулся кровоточащей раны друга.
— У тебя не ладится с Глендой?
— Честное слово, Билл, чем чаще я встречаюсь с этой девочкой, тем меньше я ее понимаю. Иногда мне кажется, что она увлечена мной, готова на все, а потом вдруг ведет себя так, будто ненавидит меня.
— Извини, что я вмешиваюсь в твои интимные дела, — нерешительно начал журналист, — но ты не боишься связать свою жизнь с… хм… хм… невропаткой?
— Боюсь, и все же свяжу или, вернее сказать, уже связал. Меня безудержно влечет к этой девушке.
— Ты думаешь, что она… ну, я хочу сказать, у нее уже есть определенный опыт в любви?
— Если он и был, то очень неприятный и оставил в ее жизни след, который до сих пор не изгладился.
— С южанками всегда сложнее, чем с женщинами Запада. Я думаю, что большое число негров…
Пабло прервал друга:
— А не кажется ли тебе, что Гленда их ненавидит? Как-то на днях мы обсуждали сообщение в газете о том, как сенатор из Алабамы потребовал сжечь одну детскую книгу, потому что там была сказка о белом зайчике, который женился на черной зайчихе. Естественно, я сказал, что нахожу это требование нелепым и смешным. Гленда разъяренно взглянула на меня и крикнула: «Вы тоже Negro lover?»
Годкин медленно покачал головой.
— Другой раз, — продолжал Ортега, — мы гуляли, взявшись за руки, любовались гиацинтами и водяными лилиями в садах Кенилворса. Я вдруг решился и обнял Гленду, поцеловал ее в губы и замер, ожидая пощечины или оскорбления… Но Гленда не только позволила себя поцеловать, но и ответила на мой поцелуй. Кровь у меня вскипела, сердце забилось… Я уже тебе говорил, что зелень, голубое небо, запах травы и цветов всегда возбуждают меня. Но, почувствовав мое желание, Гленда оттолкнула меня. Иногда мне кажется, что ее пугает цвет моей кожи, она, наверно, думает, что у меня в жилах течет негритянская кровь.
— Глупости, у тебя типично испанская внешность!
Изнуряющая жара стояла уже несколько дней и, по сообщениям газет, явилась причиной смерти более десяти человек.
Душным вечером Пабло Ортега сидел за рулем своей машины, весь мокрый от пота, с мутными глазами и раскалывающейся от боли головой. Он ожидал, когда полицейский даст сигнал ехать, и вдруг увидел, что тот падает, сраженный солнечным ударом. Пабло едва добрался до дому, бросился на кровать и заснул одетым. Ему снились какие-то кошмары, и все же он встал лишь утром, чувствуя себя гораздо бодрее. После ночной грозы воздух был чистым и свежим, и город будто тоже стряхнул с себя мучительный, тяжкий сон.
В честь своего примирения с летом Пабло написал хайку для Кимико Хирота:
Лето Овод зеленый, Спелый плод на земле… Жизнь — янтарный мед.Впрочем, Гленда упорно угощала его желчью, очевидно, болезнь желудка отражалась на ее настроении. Да и у Пабло в присутствии Гленды теперь начинала болеть голова. Часто во время прогулок они заходили в аптеку — она купить альказельтцер, а он аспирин. Как-то Ортега даже горько пошутил:
— Представляешь, что было бы, если б к твоему желудку прибавить мою голову.
К его удивлению, Гленда, ничуть не рассердившись, засмеялась.
На следующий день, ближе к вечеру, они ехали в автомобиле по Коннектикут-авеню, направляясь в китайский ресторан. Но проезжая мимо дома, где он жил, Пабло вдруг остановил машину. Обняв Гленду, он жадно поцеловал ее в губы и почувствовал ответное желание в ее поцелуе. Тогда он осмелился предложить: «Может быть, поднимемся ко мне?» Потупившись, Гленда кивнула. Пабло не поверил своим глазам, но Гленда вышла из машины и решительно зашагала к подъезду. В лифте они ехали молча, не глядя друг на друга. Дрожащими руками Гленда вынула сигарету. Кровь бешено стучала в висках Пабло.
Они вошли в квартиру.
— Располагайся без стеснения, — сказал Пабло, закрывая дверь. Но сам он не чувствовал себя свободно. Чтобы скрыть замешательство, он принялся показывать Гленде свои книги, картины, пластинки, куклы мастера Наталисио… Она любит Вивальди? У него есть превосходная стереофоническая радиола. Можно послушать…
Пабло не узнал своего голоса, который стал глухим и хриплым… Вдруг Гленда, повернувшись к нему, воскликнула:
— Послушай, Пабло, неужели мы будем притворяться друг перед другом, что не знаем, зачем пришли сюда!
Не ответив, Пабло прижал ее к себе, поцеловал в губы и, взяв на руки, отнес на кровать. Гленда неподвижно лежала в полумраке спальни, а он сел рядом и стал нежно целовать ей глаза, лицо и губы… Потом Гленда подняла руки и прижала голову Пабло к себе.
— Я больше не могу, — тихо простонала она. — Я должна избавиться от этого сомнения… Иначе сойду с ума…
— Успокойся, моя девочка, успокойся… — шептал он.
— Не обращайся со мной так, будто я ребенок. Я женщина…
Она открыла глаза, подернутые блестящей пеленой желания, и Пабло начал раздевать ее. Когда, сняв туфли и чулки, он стал расстегивать блузку, Гленда оттолкнула его.
— Выйди из комнаты, я сама.
Вернувшись, он увидел, что Гленда уже разделась и спряталась под простыней. Раздевшись, Пабло лег, ощутив трепет ее горячего тела. Происходившее казалось ему нереальным. Полумрак комнаты, непрерывное жужжание кондиционной установки, портрет доньи Исабели на ночном столике. («Мой сын занимается недостойными делами с дочерью пеона в зарослях сахарного тростника! Ты хочешь убить отца?») Гленда, свернувшись калачиком, зажала руки между ногами. Пабло, тоже повернувшись на бок, притянул девушку к себе, поцеловал ей затылок, мочку уха, погладил ей грудь, но тело Гленды оставалось в прежнем положении.
— Ну, пожалуйста… — прошептал он.
— Будь терпелив со мною, Пабло, я боюсь.
Он покрывал поцелуями ее плечи, руки, спину, гладил бедра, но она продолжала лежать, сжавшись в комок…
Снаружи доносился шум автомобилей, шипение пневматических дверей автобусов на ближайшей остановке.
Вдруг Гленда обняла Пабло, но не как любовница, а как ребенок, который ищет защиты, и воскликнула:
— Ты должен меня понять! Когда я была девочкой, со мной случилась ужасная история…
Он погладил ее по голове.
— Я все пойму, Гленда, рассказывай. Помни, что я твой друг…
Он чувствовал у своей груди частое биение ее сердца. Гленда открыла рот, но лицо ее внезапно исказилось, губы задрожали, а когда она наконец обрела дар речи, у нее вырвалось:
— Меня изнасиловал негр!
Но уже за какую-то секунду до этого Пабло догадался, что она скажет. Продолжая гладить Гленду по голове, он шептал:
— Рассказывай, не бойся…
Пылающим лицом она прижалась к его груди.
— Мне было лет тринадцать…
Гленда замолчала, и Пабло решил помочь ей.
— Это случилось в твоем родном городе?
— Да. В доме моего отца служил один парень… негр. От него всегда дурно пахло, да и мысли его были грязные, глаза злые, они меня раздевали, преследовали, пачкали…
— Продолжай, Гленда, я слушаю…
— Однажды я играла в сарае на скотном дворе, и вдруг появился он… Подошел ко мне, стал говорить гадости и делать неприличные жесты… Я хотела закричать, но не смогла. Хотела убежать, но словно паралич сковал меня. Негр повалил меня на землю… задрал платье… и… и… не знаю, что было дальше, от страха я потеряла сознание…
Пабло поцеловал волосы Гленды, которая словно горела в лихорадке.
— Когда отец нашел меня лежащей на земле, не знаю через сколько времени… я рассказала ему, как негр набросился на меня… Мне уже и раньше приходилось слышать о подобных случаях с другими девочками… Отец буквально обезумел, он собрал родственников, соседей, друзей, и все они кинулись на розыски негра.
Гленда высвободилась из объятий Пабло, резко перевернулась на живот и уткнулась лицом в подушку.
— Это было ужасно, — сказала она приглушенным голосом. — Они отыскали негра, спрятавшегося в заброшенном доме, и кастрировали его; переломали ему руки, ноги… Измолотили палками до неузнаваемости…
Гленда разрыдалась, содрогаясь всем телом, и Пабло вдруг почувствовал, что не может коснуться ее.
— Давно это случилось?
— Лет пятнадцать назад…
— Гленда, милая, надо забыть все это, если прошло столько времени. Думай так: я ни в чем не виновата. Ты должна освободиться от этого ужасного плена. И жить спокойно.
Пабло удалось уговорить Гленду, она повернулась на спину, отняла руку от глаз, которые все еще были закрыты, по ее щекам текли слезы.
— Хочешь сигарету? — спросил он.
— Нет.
— Открой глаза и вообще взгляни на жизнь смело. Ты совершенно не виновата в том, что произошло.
Она закрыла лицо простыней, но Пабло простыню отдернул.
— Постарайся понять, Пабло.
— Я понимаю. Не хочешь понять ты. Ты молода и не можешь и дальше лишать себя радостей, которых требует твое тело. Не стыдись его, Гленда. Что было, то было. Представь себе, что ты родилась заново. Если б ты знала, как я хочу тебе добра!
Пабло снова схватил край простыни, резко сдернул ее с Гленды и бросил на пол. Гленда продолжала лежать неподвижно. Увидев ее высокую грудь, гладкий живот, тонкую талию и длинные, стройные ноги, Пабло почувствовал желание, которое едва сдержал, иначе он мог бы наброситься на нее, как животное.
Тогда Пабло принялся ласкать ее… Какое-то время Гленда противилась, но наконец, кусая губы, отдалась. Однако тут же вскрикнула: «Нет!» — и попыталась оттолкнуть его от себя… В Пабло проснулась злость, словно он хотел ей за что-то отомстить. Гленда продолжала стонать: «Нет! Нет! Нет!», ногти ее царапали спину Пабло. В конце концов ей удалось вырваться из его рук, она соскочила с кровати, завернулась в простыню и, забившись в угол, сжалась там в комочек, дрожа, как испуганный ребенок… Ошеломленный Пабло уселся на кровати.
— Гленда, ты была невинной!
Она ничего не ответила и не шевельнулась.
— Я ничего не понимаю… — прошептал он, и ужасное подозрение закралось ему в душу.
Встав, Пабло поторопился прикрыть наготу халатом, спина у него горела, как обожженная.
— Ты же сказала… — начал он.
Гленда молча взяла свое белье и заперлась в ванной. Недоумевающий Пабло уселся на стул и закурил, пытаясь разобраться в своих догадках и в то же время боясь истины… Неужели она придумала всю эту историю?
В ванной зашумела вода, он подошел к окну и стал глядеть на улицу. Зажигались огни, хотя горизонт еще алел от лучей заходящего солнца.
Когда Гленда вышла из ванной и направилась в гостиную, Пабло последовал за ней.
— Ты не уйдешь отсюда, пока не объяснишь мне все.
— Все мужчины одинаковы. Вам от женщины только одно нужно. Свиньи!
— Сознайся, что ты выдумала эту гадкую историю.
— Какую?
— Ты не была изнасилована.
На ее лице появилось выражение ужаса. Усевшись на софу, она не сводила с Пабло растерянного взгляда.
— Рассказывай, как было на самом деле.
Гленда закрыла лицо руками.
— Пожалуйста, Пабло, не мучай меня.
— Я хочу помочь тебе освободиться от кошмара. Ты сама сделала себя пленницей этой лживой выдумки!
— Но он был грязным негром. Все время следил за мной. Крал мое белье и уносил его к себе… Он был животным. Его отвратительный запах преследовал меня днем и ночью…
Пабло подошел к Гленде, взял ее за плечи и, сильно встряхнув, заставил взглянуть себе в глаза.
— Но он не тронул тебя… Говори!
— Он был грязный негр, и мысли у него были грязные… Он заражал всех нас.
— Но он не тронул тебя!
— Ради бога перестань, Пабло!
— Сознайся, что ты выдумала все это.
— Не знаю, не знаю, оставь меня в покое, я ничего не знаю!
— Ты не хочешь знать, но с фактами нельзя не считаться. Сознайся, он не прикоснулся к тебе.
— Откуда я знаю? Мне было тринадцать лет…
— Почему же ты не удержала отца и его друзей, когда они погнались за негром?
— Я не знала, что они его убьют.
Пабло не сдержался.
— Знала! Знала! — крикнул он. — Знала и хотела, чтобы они убили его! — Гленда упала на софу и снова разразилась рыданиями.
Пабло ходил по гостиной. Что делать? Не пора ли перестать мучить Гленду и не лучше ли отправить ее домой?
Он сел рядом с нею, погладил по голове и ласково заговорил:
— Расскажи мне все, освободись от камня, который лежит у тебя на сердце. После этого… случая тебя осматривал доктор?
Гленда ответила не сразу.
— Осматривал.
— И понял, что негр тебя не трогал, так?
Гленда судорожно всхлипнула.
— Да или нет?
Повернув к нему искаженное лицо, Гленда закричала:
— Да! Да! И все об этом узнали! Отец и его друзья были отданы под суд, но их оправдали. Нам пришлось покинуть Седартаун, и с тех пор мы не можем от этого оправиться. Ты доволен? Доволен?
— Я же сказал, что хочу помочь тебе.
— Никто мне не поможет. Даже господь бог.
— Не говори так. Я отвечаю за тебя. Особенно теперь.
— Неужели ты считаешь, что должен жениться на мне после того, что случилось? Неужели ты так глуп?
Гленда встала, взяла сумочку и с недоумевающим видом осмотрелась по сторонам.
Пабло снова взорвался.
— В конце концов осуществилась твоя тайная мечта: тебя изнасиловал мужчина с темной кожей. И теперь я тебя спрошу: ты довольна?
— Но кто мне докажет, что и это не было моей выдумкой?
— Будь благоразумной, Гленда. Разреши мне помочь тебе.
Несколько мгновений она смотрела на него в упор, а потом сказала, едва сдерживая гнев, от которого дрожал ее голос:
— Может быть, ты помог мне больше, чем ты думаешь. Я поняла, что на самом деле угрызения моей совести не столь мучительны, как мне казалось.
Гленда направилась к двери, и он не сделал ни малейшего движения, чтобы задержать ее.
31
Пабло Ортега не помнил, чтобы когда-нибудь ему приходилось переживать более неприятные дни. Проснулся он после памятного вечера, измученный тревожными и неясными снами, с тупой болью в голове. В посольстве он избегал сослуживцев, подолгу сидел, не сводя глаз с телефона и желая, и боясь позвонить Гленде. Что он ей скажет? И что вообще говорить после того, что случилось? Не лучше ли для них больше не видеться?
На делах он сосредоточиться не мог. Иногда часами делал наброски в своем блокноте: профиль Гленды, узкая, извилистая улица Соледад-дель-Мар, спускающаяся к пляжу, лицо мастера Наталисио; человек, понуро сидящий под кипарисом; и снова Гленда — ее глаза и рот, чаще всего рот…
Пабло то и дело глотал аспирин, закрыв глаза, откидывался на спинку вращающегося кресла и под шум кондиционера вспоминал тот вечер… Ему нужно было излить душу… Но перед кем? И хватит ли у него смелости рассказать все? Гонзага еще не возвратился из-за границы. Но ему он все равно не осмелился бы признаться, так как бразилец обязательно поднимет его на смех. («Ты усложняешь самые простые вещи, Пабло. Мы, мужчины, сами окружаем женщин ореолом таинственности».) Годкин? Ортега восхищался своим другом и уважал его, но заранее предвидел, чем кончится их разговор: Билл внимательно выслушает его, спокойно покуривая свою трубку, а потом пробормочет что-нибудь утешительное, но весьма неопределенное. Грис! Да, вот кто ему нужен. Старому профессору он откроется, как отцу…
Как-то утром он попросил телефонистку соединить его с городом, набрал номер Гриса, но никто ему не ответил; Пабло позвонил в университет, и женский голос сообщил ему, что д-р Леонардо Грис, очевидно, дома, так как лекции у него вечером.
Пабло вышел побродить по длинному посольскому коридору. Погрузившись в свои мысли, он не заметил, как оказался в кабинете Клэр Огилви.
— Пабло!
— Посол здесь?
— Поехал в Панамериканский союз с министром-советником. Никак не договорятся насчет Никарагуа…
Пабло уселся против Клэр, и та предложила ему сигарету. Но Пабло не хотелось курить.
— Ты можешь обмануть других, — заговорила Клэр, — но не меня. Несколько дней я наблюдаю за тобой. Что случилось?
— Ничего, — тихо ответил Пабло, надеясь в душе, что Клэр не отстанет, пока не заставит его рассказать все.
— Гленда?
Пабло кивнул и выложил то, что его мучило, не упуская подробностей, даже самых интимных. Закончил он вопросом: «Ты считаешь, я вел себя неправильно?»
Огилвита подняла брови, взглянула на него своими водянистыми глазами, и ее лошадиное лицо озарилось нежностью.
— Ты вел себя как нормальный мужчина, а она — как истеричка. Впрочем, добрая половина белых американцев относится к неграм так же, как Гленда, или почти так же… Но если ты вздумаешь превратиться в агнца божьего и взвалить на себя все грехи мира, на меня не рассчитывай, я не стану петь «Miserere nobis».
— Но что мне делать?
— Ничего. Все твои вопросы разрешит время.
— Но я отвечаю за Гленду…
— Только потому, что лишил ее невинности? Успокойся, мальчик, здесь этому не придают такого значения, как в латинском мире. И, если ты хочешь, чтобы я была до конца откровенна, я скажу еще вот что: ни одна разумная и здоровая женщина никогда не упустит случая, если она любит…
Клэр засмеялась, а Пабло принялся нервно постукивать ногой.
— Прекрати эту пляску святого Витта, старина!
— Я бы хотел знать, где сейчас Гленда, — сказал он, перестав стучать. — Боюсь, как бы она не выкинула какой-нибудь глупоси.
— Минутку. — Огилвита сняла трубку и набрала номер, подмигнув Пабло с хитрым видом. — Алло! Панамериканский союз? Мне нужно поговорить с мисс Глендой Доремус… Да. Когда? Большое спасибо.
Клэр положила трубку и взглянула на Пабло.
— Уже больше недели как мисс Доремус уволилась и три дня назад уехала к родителям в Атланту.
— Что же мне делать?
— Хочешь моего совета? Иди в отпуск, набери с собой книг… только ничего серьезного — детективы, фантастику, и отправляйся в горы или к морю. Побольше гуляй, рисуй, сочиняй стихи и забудь эту девушку.
Двухнедельный отпуск Пабло Ортега получил без труда. Посол был очень любезен: «Конечно, дружище, на сколько тебе надо! На две недели, на три… Поезжай отдохни!»
Пабло уложил чемоданы, сунул туда несколько книг, краски, кисти, холст и несколько альбомов с набросками углем и карандашом. Он ехал на своей машине, сам не зная куда, пока не решил остановиться в тихом отеле близ Скайлайн Драйв в Виргинии. Туристов Пабло избегал: с тех пор как Гленда назвала его негром, ему было не по себе среди американцев, особенно южан, которых он легко узнавал по акценту. Какая глупость! Он знал американцев с такой же темной, как его, кожей, хотя и они не были неграми. Пошли они к черту, эти гринго, красные, будто креветки, либо белые, будто рыбье брюхо!
В маленьком мотеле он ни с кем не общался. Комната Пабло окнами выходила на долину. По утрам он долго гулял, до завтрака плавал в бассейне и загорал. После полудня читал или спал, а когда солнце начинало клониться к западу, забирался на какую-нибудь гору и оттуда любовался закатом.
В один прекрасный день Пабло приготовил мольберт, краски и кисти, чтобы запечатлеть на полотне необозримую долину, простиравшуюся перед его окнами. Зеленые, голубые, серые и красные тона пейзажа прихотливо сочетались, озаренные полуденным солнцем.
Вначале он ощущал некоторую скованность, будто кто-то держал его за руку, мешая поднести кисть к полотну. Пабло вспомнил свои первые картины — темперы и акварели, написанные во время летних каникул в поместье. Больше всего он любил писать поселок, его глинобитные хижины на склоне холма, узкие, извилистые улочки, где он столько раз наблюдал церковные процессии или похороны. Колорит тогдашних его картин был несколько декоративным: белые стены и ограды, ярко-голубое небо, лиловатые тени, женщины в черном, мужчины в белом, красное, розовое или желтое пятно — цветок, ковер либо платок… Позднее, уже в Париже, он забыл Соледад-дель-Мар, плантации сахарного тростника, Сьерра-де-ла-Калаверу, поднимающуюся вдали; постепенно люди исчезли с его полотен, как из его стихов. Пабло стал абстракционистом. На его картинах теперь можно было увидеть лишь сочетания цветов, и они, по выражению одного критика, напоминали лабиринт, так же как «его поэмы, в которых надоедливые и чрезвычайно запутанные словесные выкрутасы, звуковой хаос лишают нас всякой надежды выбраться на вольный воздух истинной поэзии…»
«Что же мне писать?» — спрашивал себя Пабло, стоя перед чистым холстом. Он перелистал альбом набросков, сделанных в последний приезд на родину. Увидел там падре Каталино, мастера Наталисио, его детей. Были в альбоме и лица других ребятишек: только теперь Пабло заметил, какой у них истощенный, печальный и болезненный вид. Эти наброски он использовал, когда увлекся фигуративизмом. («Мальчишки, играющие в мяч», «Ребенок с цветком», «Жмурки».)
Взяв уголь, Пабло принялся набрасывать эскиз: на первом плане лицо мальчика, а в перспективе улица, по которой за гробиком из плохо отесанных досок спускается бедная похоронная процессия. Закончив эскиз, Пабло взялся за краски, не имея, однако, никакого определенного плана, и то, что у него получилось через полчаса, испугало его. Работая над фигурами первого плана, он вспомнил детей, больных трахомой, которых столько раз встречал мальчишкой во время прогулок. Тогда, испытывая скорее отвращение, чем сочувствие, он отворачивался, чтобы не видеть того, что было ему неприятно. И разве он не поступал так же перед лицом несчастий, обрушившихся на его родину? Впервые за последние семь лет он изобразил человека: ребенка с лимонно-желтыми щеками; его вывернутые, опухшие веки напоминали налившиеся гноем ягоды малины. Его глаза смотрели на Пабло, и тот уже чувствовал себя пленником не литературных и эстетических теорий, но этих тусклых зрачков. На одной из зловещих ягод он нарисовал муху и еще двух на истощенном лице. (Они с Пией лакомились малиной в зарослях Эдема, а зеленые слепни вились над их обнаженными телами.) Охваченный каким-то исступлением, Пабло принялся за трагические фигуры процессии: мужчин, женщин, детей; и все они с немым осуждением смотрели на него своими гноящимися глазами.
Одна из отдыхающих дам, заметив Пабло перед мольбертом, подошла, очевидно, предполагая увидеть на полотне безмятежную долину, однако лицо мальчика заставило ее скривиться. Издав недовольный возглас, дама поторопилась уйти…
Этой ночью Пабло приснилось, будто он бродит по узким и извилистым улицам ночного города, а может быть, и среди могил какого-то кладбища. На руках у него больной ребенок, который горит в лихорадке, и этот ребенок одновременно и он сам, и мальчик с его картины. Пабло спотыкался, блуждал в каком-то лабиринте, тщетно стараясь найти хоть огонек, хоть одного человека. Он стучался головой в двери, те открывались, и в них возникали силуэты людей без лиц, у которых он безмолвно спрашивал, где живет врач; он должен был спасти мальчика, но люди без лиц пожимали плечами либо качали головой, им не было никакого дела ни до Пабло, ни до больного ребенка.
Проснулся Пабло рано. У него болела голова, веки словно свинцом налились, он с трудом различил в зеркале собственное отражение. Еще не избавившись от кошмара, Пабло испугался, что слепнет. Встревоженный, он промыл глаза холодной водой, пустил капли и успокоился, лишь убедившись, что с его зрением ничего не случилось.
Пабло попытался припомнить недавний сон: всякий раз, как открывалась дверь, он мысленно произносил имя д-ра Сенисиенто. Но почему? Наверно, он имел в виду профессора Гриса. Пабло улыбнулся.
И за кофе он продолжал думать о своем странном сне. Д-р Мартинес, их семейный врач, когда его вызывали к больному Пабло, садился у его кровати, приказывал открыть как следует рот и сказать «а», щупал пульс, ставил градусник, а сделав все необходимое, рассказывал сказки. Любимой сказкой Пабло была «Сенисиента», то есть «Золушка», и доктор Мартинес казался ему волшебником. Уже от одного его присутствия Пабло становилось лучше, как потом от присутствия Леонардо Гриса. И разве Грис не думал о том, чтобы спасти всех детей Сакраменто! Возможно, сон и не имел такого значения, но Пабло хотел верить, что это так.
В то утро он даже не взглянул на свою картину. Взяв с собой книгу, «Китайский сад спокойствия», которую подарила ему Кимико Хирота, Пабло вышел погулять. Он взобрался на холм и, усевшись под деревом, какое-то время смотрел на долину, а потом наугад открыл книгу и прочел: «Когда дует ветер, редкие бамбуковые заросли не задерживают его. Когда дикие гуси летают над холодным озером, вода не сохраняет теней пролетевших птиц. Так и мозг человека работает, лишь когда для него есть пища, в противном случае мысли в нем не рождаются». Пабло поднял глаза и подумал о Гленде. Что она делает сейчас? Он снова стал читать: «В сердце каждого человека (в его ушах звучал тихий голосок Кимико) заключена Книга Правды, завернутая в рваную бамбуковую бумагу и перевязанная потертыми бечевками. В сердце каждого человека звучит также Симфония Природы, заглушаемая чувствительными песенками и страстными танцами. Человек должен отметать все поверхностное и искать счастье в глубинах своего существа».
Пабло захлопнул книгу. Кто это сможет сидеть, скрестив ноги, и, подобно зен-буддисту, погружаться в воды своего мистического озера, оставаясь равнодушным к несчастьям и несправедливостям внешнего мира? Но если бы Пабло закрыл сейчас глаза и погрузился бы в этот колодец, что он нашел бы там? Жемчужину мудрости, вечную истину или гноящиеся глаза мальчишек из Соледад-дель-Мар?
При виде безмятежного простора долины, залитой солнцем, Пабло почувствовал себя еще более одиноким. Он поднялся и пошел в мотель.
В вестибюле несколько человек сидели вокруг приемника, слушая десятичасовую передачу последних известий. Пабло с тех пор, как поселился здесь, газет не читал и сейчас не стал прислушиваться к бархатному, хорошо поставленному голосу диктора. Он попросил у портье ключ от своего номера и направился было к лестнице, когда имя Леонардо Гриса заставило его остановиться, словно петля лассо захлестнула ему горло: «…политический эмигрант из Сакраменто, несколько лет преподававший историю и литературу стран Латинской Америки в Вашингтонском университете, все еще не найден. Профессора Гриса, который в многочисленных статьях и докладах разоблачал нынешнее правительство Сакраменто, пять дней назад видела девушка, выполняющая обязанности портье в доме, где он снимает квартиру. Полиция, своевременно информированная, немедленно начала розыски д-ра Гриса. По-видимому, признано несостоятельным предположение, будто бывший министр просвещения Сакраменто стал жертвой несчастного случая. Выдвигается другая версия, которая нам представляется также маловероятной: будто д-р Грис покинул Соединенные Штаты по собственному желанию. Некоторые газеты задают вопрос, не назревает ли новое «дело Гальиндеса». Наши слушатели помнят, как профессор Колумбийского университета д-р Хесус Гальиндес таинственно исчез накануне опубликования его исследования, где он выдвигал в высшей степени серьезные обвинения в адрес правительства Доминиканской республики. Позднее полиции Соединенных Штатов удалось обнаружить, что д-р Гальиндес был похищен и вывезен из страны, а возможно, и убит агентами генерала Леонидаса Трухильо. Посол Сакраменто в Вашингтоне обратился в эти газеты с протестом, считая подобную аналогию абсурдной и прежде всего оскорбительной».
Пабло был ошеломлен, хотя и предчувствовал нечто подобное. Он медленно поднимался по лестнице, в горле у него стоял комок, во рту пересохло. Сомнений не оставалось: Грис похищен и, возможно, уже мертв… Он вспомнил человека в светлом плаще. Должно быть, не обошлось здесь без этого бандита Угарте! Пабло решил, что сейчас сможет застать Билла Годкина в его бюро, и попросил телефонистку соединить его с Амальгамэйтед Пресс. Через несколько минут на том конце провода он услышал голос друга.
— Билл? Это Пабло Ортега. Я только что слышал по радио об исчезновении доктора Гриса. Скажи, пожалуйста, что случилось? Есть какая-нибудь надежда?
— По-моему, дело плохо, старина. Вначале думали, что произошел несчастный случай… Но если бы это было так, тело бы уже обнаружили. Ведь прошло пять дней…
— Полиция обыскала квартиру доктора Гриса?
— Конечно. Все в порядке. Никаких признаков борьбы. Его одежда и чемоданы в гардеробной, белье в ящиках… Очки на рабочем столе.
— А что говорит посольство?
— Утверждает, что ему ничего не известно и что доктор Грис не был зарегистрирован как член сакраментской колонии в Вашингтоне.
— Не напоминает ли тебе все это случай с доктором Гальиндесом?
Билл ответил не сразу.
— Не только мне, но и всем нам в Амальпресс.
— Организовал похищение, видимо, этот бандит Угарте…
— Генерала нет в Вашингтоне уже более двух недель.
— Разумеется! Надо же обеспечить алиби этому негодяю!
— Алло! Не выходи из себя, Пабло. Это не поможет. Отдыхай и предоставь ФБР заниматься следствием.
— Отдыхать? Я сегодня же возвращаюсь в Вашингтон.
— Ладно, но обещай мне ничего не делать и не говорить, прежде не подумав. Если ты действительно хочешь помочь своему другу, действуй хладнокровно.
— Но я должен разоблачить этих убийц!
— Конечно, дружище, но сначала нужно иметь улики: доказательства, что произошло убийство, и прежде всего необходимо найти труп…
— Тело Гриса, наверное, уже на дне моря.
— Это одна из версий. Но есть и другие. Успокойся… Когда ты предполагаешь быть в Вашингтоне?
Пабло посмотрел на часы.
— Сейчас половина одиннадцатого. В полдень я приеду.
— Веди машину осторожно. И обещай, что прежде, чем пойти в канцелярию, ты зайдешь ко мне.
— Хорошо.
32
В этот вечер генерал Уго Угарте вернулся с побережья загоревший больше обычного. Он неторопливо вошел в канцелярию посольства и тут же заметил, что что-то случилось. Мерседита бросила на него боязливый взгляд. Молина, которого он встретил в коридоре, улизнул, чтобы не здороваться. А Эрнесто Вильальба подошел к нему своей танцующей походкой и спросил:
— Значит, тебе уже известно о деле Гриса?
— Поэтому я и вернулся. Посол меня срочно вызвал. Если бы не эта неприятность, я бы отдыхал до конца месяца. Жара в Вашингтоне невыносимая.
Угарте вошел в кабинет мисс Огилви, которая была так взволнована и растерянна, что даже не поздоровалась с генералом.
— Посол ждет вас, можете войти.
Бывший начальник полиции закрыл за собой дверь кабинета посла. Габриэль Элиодоро, сидевший за письменным столом, вскочил и набросился на Угарте, словно хотел избить его.
— Болван! Кретин! По-твоему, мы в Нигерии или в Америке?
Угарте ожидал подобной встречи и поэтому не потерял присутствия духа. Он сел, закурил сигарету и, выпустив дым, равнодушно взглянул на посла.
— А теперь объясни мне, чем я заслужил эти лестные эпитеты…
— Что ты сделал с доктором Грисом?
— Я? Ничего.
— Не ври. Вы похитили профессора и, наверное, увезли его отсюда, чтобы убить.
Габриэль Элиодоро был в ярости, его шрам налился кровью.
— Разве я тебе не говорил, — продолжал он сквозь зубы, — что не хочу насилий? Доктор Грис был эмигрантом, изменником, но абсолютно беззащитным человеком. Зачем вы пошли на такое варварство?
— Я повторяю: мы тут ни при чем. Все эти дни я лежал пузом кверху на пляже.
— Не верю.
Генерал пожал плечами. Посол стоял, сжав кулаки, будто собирался избить Угарте.
— Где доктор Гальиндес? — спросил он.
— Кто?
— Я хочу сказать, где доктор Грис?
Угарте встал, оправил брюки и, не вынимая сигареты изо рта, доверительно сообщил:
— Это не наша работа.
— Чья же тогда?
— Помнишь конфиденциальное поручение военного министерства? Так вот. Я ответил, что дело рискованное, может скомпрометировать посольство, и высказал мнение, что было бы лучше поручить эту операцию другим, не ставя нас в известность. Словом, я умыл руки.
— Но почему ты не поставил в известность меня?
— Да потому, что ты заявил, что не хочешь слышать об этом деле.
Габриэль Элиодоро подошел к окну и уставился на трубы британского посольства, затем повернулся к военному атташе.
— Что они сделали с Грисом?
— Не представляю.
— Неужели наши люди, я хочу сказать, наши земляки… Ты знаешь, что я имею в виду.
Угарте зажал сигарету в зубах и прищурился.
— Я подозреваю, что они наняли гринго, специалистов по таким делам. Но в точности не знаю и знать не хочу. Мне надоело отвечать за все неудачи, выгораживая других…
Габриэль грузно опустился на софу.
Его кум Каррера был человеком злопамятным и не простил Грису оскорблений, которые тот наносил ему в своих статьях и докладах.
— Ты читал газеты, Уго? Они называют нас убийцами, и это может нам сильно повредить. С каким лицом я покажусь своим американским друзьям, своим коллегам по ОАГ? Твой министр одним махом разрушил все, чего мне удалось достичь!
Угарте сунул руки в карманы брюк, пепел сигареты сыпался ему на галстук.
— Что же теперь? — спросил он.
— Я напишу куму Хувентино, высказав откровенно свое мнение об этой грязной истории.
Угарте взглянул на календарь, стоявший на столе.
— Сейчас конец июля, и до сих пор никакого дополнения к конституции! Если мы не совершим переворота до ноября, мы пропали.
Габриэль безразлично пожал плечами.
Почти весь этот вечер Пабло Ортега провел в квартире Билла Годкина. Друзья обсуждали исчезновение Гриса. Сегодня «Стар» поместила коротенькое сообщение о «деле Гриса». (Как быстро стареют новости, и как дешево ценится человеческая жизнь!) ФБР информировало прессу, что поиски продолжаются по всей стране. За истекшую неделю ни одна авиационная или морская компания не зарегистрировала в пассажирских списках Леонардо Гриса и ни одно агентство не бронировало для него билета. Потомак был обследован от Вашингтона до Чесапикского залива. Портреты Гриса разослали полиции сотен американских городов.
На следующее утро после своего возвращения в столицу Пабло отправился в дом, где жил Грис, и поговорил с девушкой-портье, которую знал. Она повторила то же, что уже было напечатано в газетах. Около недели назад д-р Грис вышел в половине седьмого вечера пообедать в одном из ресторанов Джорджтауна. Она запомнила это потому, что, проходя мимо конторки портье, он, как обычно, остановился поговорить с ней, посетовал на жару, сказал, что температура в Серро-Эрмосо всегда умеренная и что этим летом он не намерен уезжать из Вашингтона.
— Он не выглядел озабоченным?
— Нет… во всяком случае так мне показалось.
— И вы уверены, что больше его не видели?
— Уверена, потому что на следующий день он не проходил мимо моей конторки. Не вернулся и после обеда. Мы решили, что он, очевидно, заболел. Стучались к нему, но никто не отвечал. На следующий день администрация университета, где работал доктор Грис, сообщила в полицию…
Пабло еще поговорил с жильцами. Никто не замечал в последнее время ничего подозрительного.
Он обошел несколько ресторанов в Джорджтауне, где Грис обычно обедал, но нигде ему ничего определенного не могли сказать. Потом он долго бродил по Висконсин-авеню и по прилегающим к ней улицам, надеясь, хоть и понимал, как это маловероятно, увидеть человека в светлом плаще. Кто станет ходить в непромокаемом плаще в такую жару? И все же Пабло полагался на свою память: он отлично помнил черты и голос этого человека, наверное, частного детектива. Очевидно, в Федеральном бюро расследований имеется картотека лиц, занимающихся делами такого рода. В одной из секций ФБР Пабло просмотрел сотни фотографий, но безрезультатно.
Вечером он позвонил Клэр Огилви.
— Ты в городе? — удивилась она.
— Уже три дня как приехал.
— Я не хотела сообщать тебе о докторе Грисе, чтобы не прерывать твоего отдыха. Я верю в ФБР. Ну, как поживаешь, мой мальчик?
— Грис был моим другом.
— Что за пессимизм. Почему был? Есть!
— Я начинаю терять надежду.
— Когда ты явишься в посольство?
— Завтра.
Многозначительно кашлянув, Клэр понизила голос:
— Прими что-нибудь успокаивающее, дорогой. Обстановка здесь… как бы тебе сказать… мрачная.
— Наша канцелярия — вообще гробница. Ты единственный живой человек.
— Спасибо. Но сейчас важно не это. Будь паинькой и не выходи из себя.
— У меня нет больше сил. Боюсь сорваться…
— Не стоит. Вспомни дона Дионисио.
— Да ну его! Всему есть предел.
— Вот что, любовь моя, тебе надо принять две таблетки перед приходом сюда.
На следующее утро Ортега явился в канцелярию, пожал руку Мерседите и другим машинисткам, зашел в кабинет министра-советника, холодно поздоровался с ним и без обиняков спросил:
— Что же, по-вашему, произошло с доктором Грисом?
— Не могу представить. А в чем дело?
— Да в том, что, по-моему, его похитили, увезли из Америки и убили агенты этого негодяя Угарте!
Хорхе Молина соединил пальцы обеих рук, как для молитвы, поднес руки к губам и спокойно посмотрел на Пабло.
— Чтобы обвинить человека, нужно располагать убедительными доказательствами. Возможно, Грис совсем не похищен и не убит.
— Я хотел бы обладать вашим спокойствием, вашей невозмутимостью и логикой, доктор Молина. Но ничего этого у меня нет. Каждый раз, когда я вхожу сюда, я словно становлюсь меньше ростом и грязнее и всегда стыжусь себя.
Молина, казалось, впал в транс и после долгого молчания прошептал:
— Надеюсь, юноша, вы не считаете меня виновным в этом… похищении!
— Нет, доктор Молина. Вы абсолютно невиновны, я вообще не знаю человека, который был бы так же чист, как вы.
Сказав это, Пабло повернулся и вышел.
Клэр Огилви, предупрежденная Мерседитой о появлении Пабло, поджидала его у дверей своего кабинета.
— Зайди ко мне, — сказала она, опасаясь встречи Пабло и Угарте, которого заметила в глубине коридора.
Пабло последовал за ней.
— Посла еще нет. Садись и слушай внимательно, что я тебе скажу. Вчера я подслушала разговор дона Габриэля Элиодоро с генералом. Это не в моих привычках, прежде я никогда этим не занималась и поступила так только ради тебя.
— И что же ты узнала?
— Посол был разъярен. Он думал, что Угарте причастен к тому, что случилось с доктором Грисом.
Клэр передала ему разговор посла и генерала. Пабло слушал ее с угрюмым видом.
— А не подстроено ли это специально, чтобы ты, услышав, рассказала другим?
Клэр решительно покачала головой. Взъерошив волосы, Пабло прошептал:
— Не знаю… не знаю… — И, резко поднявшись, воскликнул: — Я не могу больше служить этому правительству убийц!
— Напишешь своим родителям?
— Возможно…
— А не получится так, что ты уже не сможешь вернуться в Сакраменто?
— Мир велик.
— Подумай о своих стариках.
— Последнее время я много думал о других стариках, молодых и детях…
Пабло рассказал о картине, которую написал в отпуске.
Клэр задумалась.
— Трахома была полностью ликвидирована в Сакраменто Всемирной организацией здравоохранения более десяти лет назад. У тебя устаревшие представления о твоей родине.
— К чему эта статистика, Клэр! Неужели ты настолько американка?
— Ладно. Глаза этих бедных и больных детей преследуют тебя, но неужели ты думаешь, что, подав в отставку, ты их спасешь?
— Во всяком случае, это какое-то начало. Какой-то протест. Я буду свободен и смогу разоблачать бандитскую шайку, которая захватила власть в моей стране.
— И занять место доктора Гриса?
— Именно, хотя у меня нет его качеств и его авторитета…
С дымящейся сигаретой во рту Клэр ходила вокруг стула, на котором сидел ее друг.
— Хорошо, — сказала она, наконец остановившись за спиной у Пабло и положив ему на плечи свои большие, в темных пятнах руки. — Если ты считаешь, что должен это сделать, — делай, но не сегодня. Сейчас возвращайся домой. Твой отпуск еще не кончился. Не встречайся пока ни с кем, ничего не решай, оставь все свои подозрения и помни: ты ни в чем не виноват…
— Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
— Я выражусь яснее. По-моему, ты скорее узнаешь о судьбе доктора Гриса, если останешься в канцелярии.
— Не убежден… К тому же, Клэр, с некоторых пор я стыжусь своего лица, когда по утрам смотрюсь в зеркало…
— Я тоже, хотя причины у нас разные, — улыбнулась Клэр. — Но мы привыкаем ко всему. Не думай, что я советую тебе примириться, просто не надо бессмысленных жертв. Сейчас твоя отставка никому не нужна. Сначала добудь факты, которые помогут сокрушить ваше правительство.
Пабло задумался.
— Не знаю, не знаю…
— Ты должен уйти до появления посла. Он тоже удручен и озабочен. Положение в Сакраменто неважное… Я хочу сказать, для правительства. Ваша встреча может дать два результата, и оба они одинаково нежелательны.
— Какие?
— Ты его оскорбишь, и вы подеретесь… И я не уверена, что верх одержишь ты, несмотря на разницу в возрасте. Или же дон Габриэль обнимет тебя, пустит в ход свое обаяние, и ты уйдешь еще более подавленным, чем пришел сюда.
33
В этот вечер, часов около одиннадцати, Панчо Виванко нервно мерил шагами тротуар напротив посольства. Он уже ходил около часа, поглядывая на огни в окнах знаменитой в стиле королевы Изабеллы спальни, знакомой ему со слов Росалии, у которой он постепенно кое-что вырвал. Немного погодя в глубине парка появится «мерседес», остановится у здания… откроется дверь, и Габриэль Элиодоро под руку с Фрэнсис Андерсен спустится по ступенькам, но прежде чем она уедет, они обменяются долгим поцелуем…
Панчо поглаживал рукоятку револьвера, лежавшего в кармане пиджака. Все еще стояла жара, пот градом катился по его лбу и стекал на глаза. Консул был весь во власти своих горьких мыслей. Последнюю неделю его терзал страх, что Росалия покончит с собой, приняв большую дозу снотворного. Не в силах работать, он сидел за своим столом в канцелярии, бессмысленно уставившись на бумаги, подготовленные для отправки, и вяло чертил в блокноте цветными карандашами. Если звонил телефон, сердце у Панчо начинало колотиться, горло сжимала спазма, и он дрожал, не решаясь взять трубку, в ужасе от того, что сейчас кто-то сообщит ему о смерти Росалии…
Накануне вечером телефон в его квартире все же зазвонил… Панчо схватил трубку, но услышал, что Росалия уже взяла отводную в спальне, где она, как обычно, заперлась на ключ. Панчо умирал от любопытства. Кто звонит? Он хотел было подслушать, но что-то внутри него воспротивилось этому. Разговаривала Росалия несколько минут. Виванко показалось, что звонит Габриэль Элиодоро, впервые с тех пор, как вернулся из отпуска, и он принялся нетерпеливо расхаживать по комнате. Наконец послышался щелчок, означавший, что разговор окончен. Панчо ждал, что за этим последует. Через полчаса Росалия вышла из спальни в зеленовато-сером, сильно декольтированном платье, накрашенная слишком ярко и слишком сильно надушенная.
— Я не вернусь к обеду, — сказала она, не глядя на мужа.
— Хочешь, я подвезу тебя?
— Нет. Тебе еще надо принять ванну. В холодильнике курица и салат, думаю, что долго не задержусь, но ты меня не жди, ложись.
Он покорно кивнул. Глаза Росалии блестели. Едва сдерживая дрожь, она схватила портсигар и зажигалку, бросила их в сумочку и вышла.
Панчо приблизился к окну; он увидел, как Росалия, подойдя к краю тротуара, стала смотреть по сторонам, вот она подняла руку, и желтое такси остановилось перед ней. Она села в машину, которая тотчас рванулась по направлению к центру.
Панчо взглянул на часы. Половина восьмого. «До Дюпон Сёркл, — подумал он, — пять минут езды… а оттуда до посольства — минут восемь-десять. Всего пятнадцать или двадцать».
Он отошел от окна, включил телевизор и, сев на софу, стал ждать… Чего? Панчо с трудом переводил дыхание, под ложечкой неприятно сосало, он волновался, будто назначил свидание и теперь ожидал, когда любовница постучит в дверь. Без всякого интереса он смотрел на мулатку, которая низким, масляным голосом пела на экране телевизора. Сунув руку в карман, Панчо по своей привычке скатывал бумажную трубочку, то и дело поглядывая на часы. Росалия, должно быть, счастлива сейчас. Она помирилась с любовником и вернется домой повеселевшей. Связь Габриэля с американкой скоро кончится. Светская хроника уже сообщила, что мисс Андерсен собирается выйти замуж за чикагского миллионера, тоже разведенного. Он закрыл глаза, вдохнул запах духов, который остался в комнате после ухода жены. Панчо снова взглянул на часы: Росалия сейчас входит в посольство… Габриэль Элиодоро открывает ей дверь. Они обнимаются, обмениваются долгим поцелуем. Она плачет, опустив голову на плечо любовника…
На экране телевизора квартет пел рекламную песенку, расхваливавшую знаменитую марку сигарет «King size». Габриэль Элиодоро человек king size. Он обнимает Росалию, и они поднимаются по лестнице, входят в спальню, зажигают синюю лампу… Росалия начинает раздеваться, Габриэль Элиодоро подходит к ней и целует ей затылок и плечи… Трепет Росалии передался Панчо, и он заерзал на софе. Сейчас, оба обнаженные, обнявшись, они лежат на огромной кровати…
Панчо закрыл лицо дрожащими руками. Должно быть, он болен, тяжело болен… он выключил телевизор, погасил свет в гостиной, растянулся на софе и застыл в оцепенении, которое не было ни сном, ни бодрствованием, но своего рода каталепсией; Панчо не смог бы двинуть и пальцем, однако мозг его лихорадочно работал, настойчиво подчиняя себе воображение. Он сразу очнулся, когда в гостиной зажегся свет. В дверях стояла Росалия: на ней лица не было, глаза ее распухли, очевидно, от слез. Панчо бросился к жене.
— Ты была у посла?
Она кивнула и, вдруг крикнув: «Он чудовище!» — побежала в ванную и заперлась там на ключ. Панчо последовал за женой и, прислушиваясь к звукам, которые доносились оттуда, почувствовал внезапное острое желание обладать ею. Он притаился у дверей ванной, подобно голодному зверю, который подстерегает жертву. Когда Росалия вышла, он набросился на нее.
— Оставь меня, Панчо!
— Только сегодня, любовь моя, — он задыхался, — только сегодня…
Росалия с трудом вырвалась.
— Хватит с меня одного борова! — крикнула она.
И тогда, обезумев, Панчо ударил ее по лицу, удар пришелся в рот.
Сейчас, расхаживая у посольства, Виванко вспоминал все это с ужасом и стыдом… Из дома он уехал утром, но не нашел в себе мужества явиться в канцелярию и стал разъезжать по городу; пересек Потомак, не доезжая до аэропорта, остановил машину на берегу реки и некоторое время наблюдал за поднимающимися и садящимися самолетами. Затем поехал в Александрию, съел там сандвич в закусочной. После завтрака забрел в кино и ни на минуту не переставал думать о Росалии. Как он после всего случившегося покажется ей на глаза? Никогда прежде он не ударил ни одной женщины… Выйдя из кино, Панчо решил было позвонить Нинфе Угарте и попросить ее сходить к Росалии, присмотреть за ней, чтобы бедная девочка не сделала какой-нибудь глупости. Но не позвонил и продолжал бесцельно бродить по торговым улицам Александрии, глазея на витрины. В писчебумажном магазине он долго разглядывал канцелярские товары, пока его внимание не привлекла «Колоролас»… черная на ярком фоне надпись. Панчо показалось, будто чьи-то невидимые пальцы слегка сжали его сердце, которое взволнованно забилось. Словно он наконец встретил Сиднея, друга своего далекого детства. Панчо взял коробку, нежно и благодарно коснувшись ее, открыл, понюхал. Какая жалость! На крышке вместо Дальнего Запада и индейцев, преследующих буйволов, был изображен уголок Йелластонского парка осенью. И все же это были «Колоролас»… Он купил коробку и сунул ее в карман.
И сейчас, стоя на тротуаре Массачусетс-авеню, он снова поглаживал карандаши кончиками пальцев. Но даже эти карандаши не могли его утешить.
Что делать? Обрывки неясных мыслей проносились в мозгу консула: подняться по ступенькам посольства, всадить себе пулю в висок и упасть у двери, чтобы, выходя из посольства с любовницей, Габриэль Элиодоро споткнулся о его труп. Но… Стоит ли кончать самоубийством вот так, без всякой пользы? Не лучше ли сначала разоблачить в печати Габриэля Элиодоро как виновного в похищении и убийстве Леонардо Гриса?.. И еще написать донье Франсиске, рассказав ей об изменах мужа, и еще — Росалии, умоляя простить ему все. Завтра он напишет эти письма…
Правой рукой он сжал рукоятку револьвера, а пальцы левой продолжали поглаживать коробку «Колоролас».
Огни в окнах посольства погасли. Подойдя к фонарю, Панчо взглянул на часы. Почти полночь. Черный, как катафалк, «мерседес» появился из глубины парка и остановился перед подъездом. Панчо вошел в парк и, спрятавшись за деревом, ближайшим к посольству, притаился… В вестибюле раздался шум шагов, засмеялась женщина. Вот открылась дверь, Альдо Борелли выскочил из машины и замер с фуражкой в руке. При свете лампы Панчо Виванко увидел посла в темном халате, он вел белокурую американку.
— Каналья, — пробормотал Панчо, — изменник… — Ярость волной накатила на него, затуманила рассудок.
Опустившись на последнюю ступеньку лестницы, Габриэль Элиодоро поцеловал Фрэнсис в губы, затем она села в машину, и машина рванула с места. Посол остался у подъезда, махая вслед любовнице рукой, пока «мерседес» не скрылся из виду. Панчо Виванко весь дрожал, он находился всего в нескольких шагах от того, кто был повинен во всех его несчастьях. Этот человек заслуживал наказание, он не смеет и дальше унижать других… Панчо видел сейчас, как он поднимается по ступенькам в свои роскошные покои — высокий, широкоплечий, king size, хозяин жизни, играющий людьми, как шарами… В каком-то трансе Панчо покинул свое убежище, сделал несколько шагов к Габриэлю Элиодоро, который уже собирался запереть дверь, и окликнул его чужим, сдавленным голосом.
Габриэль нахмурился и удивленно пробормотал: «Виванко?» Он даже изобразил на лице улыбку, но, увидев, что консул держит в руке револьвер, сделал шаг назад.
— Ты с ума спятил! Отдай сейчас же оружие!
Но Панчо уже не различал, что грезы, а что действительность. Он столько раз мечтал убить неверного любовника жены. Он был ангелом-мстителем. Дрожащей рукой Панчо прицелился в низ живота Габриэля и спустил курок… Выстрел эхом прокатился по вестибюлю. Посол с искаженным от ярости лицом кинулся к Панчо с криком: «Сумасшедший! Сумасшедший!» «Пять пуль, — подумал Виванко, отступая, — пять пуль. Давид пятью камнями свалил Голиафа…» Он хотел снова нажать на курок, но, прежде чем он это сделал, раздался выстрел, что-то ударило его в левую половину груди, и Панчо упал, выронив револьвер. Очки слетели с носа. Однако у него еще хватило сил приподняться, проползти немного и пробормотать: «Крайола… каналья… не уйдешь… не уйдешь… крайоланалья… колороласлолас… лолас…» Панчо попытался встать на ноги, но тут что-то разорвалось у него внутри, огромная горячая волна захлестнула его грудь, поднялась к горлу, а ноги и руки уже сковал холод… Он снова пробормотал что-то невнятное, коснулся очков, будто хотел надеть их… Но свет в его глазах померк, он упал навзничь с уже застывшим лицом, и последнее, что он увидел, был нестерпимо яркий огонь маяка: око божье, взирающее с небес.
Посол посмотрел на дверь: там стоял ночной сторож с еще дымящимся револьвером в руке.
— Я увидел, как он пробрался сюда, господин посол… — нерешительно проговорил сторож на своем ломаном испанском языке.
Мишель тоже был в вестибюле и смотрел на всю эту сцену, бледный, с выражением ужаса. Габриэль Элиодоро подошел к консулу, опустился на колени и попробовал нащупать пульс… но его, похоже, не было. Тогда Габриэль сунул руку под пиджак Виванко, биения сердца он тоже не почувствовал. Какое-то время он вглядывался в зрачки мертвеца, отражавшие громадную люстру, потом поднялся. Интересно, крови нигде не видно. Посол поискал рану и обнаружил ее в груди, около подмышки. Должно быть, разорвана аорта. Такие случаи бывали. Мажордом спросил, не вызвать ли врача, но посол счел это бесполезным: консул «отдал концы».
— Вы не ранены, ваше превосходительство? — поинтересовался Мишель.
— Нет. Он стрелял отвратительно.
— Что нам делать? — спросил сторож.
— Ничего. Пусть пока никто отсюда не выходит, — он взглянул на револьвер, упавший неподалеку от трупа, — и никто не дотрагивается до его оружия…
Габриэль вдруг почувствовал себя командиром партизанского отряда в горах Сьерра-де-ла-Калавера. Он должен быстро все обдумать и привести план в исполнение, не теряя ни минуты. Габриэль тщательно осмотрел себя: пуля Виванко, пробив халат, прошла совсем близко от левого бедра, саму пулю он обнаружил вонзившейся во вторую ступеньку центральной лестницы.
— Мишель! Позвони генералу Угарте и скажи ему, чтобы он немедленно явился, что случилось нечто чрезвычайно важное. Но что именно, не говори. Понял? Выполняй!
Мажордом кинулся к телефону чуть не бегом. Габриэль Элиодоро взглянул на сторожа.
— Скажи Мишелю, чтобы он дал тебе хорошую порцию виски.
— Спасибо, господин посол.
— Это я должен тебя благодарить. Ступай и никуда не уходи и ни с кем не разговаривай без моего ведома.
Оставшись наедине с трупом, Габриэль Элиодоро бросил на Панчо презрительный взгляд. Бедняга!
Закурив сигарету, он принялся широкими шагами мерить вестибюль, бормоча:
— Только этого мне не хватало после скандала с Грисом… Только этого не хватало…
Впрочем, доказать, что на него действительно покушались, будет нетрудно. Журналисты вряд ли усомнятся в этом. Ночной сторож даст показания, Мишель тоже. А Росалия? — вспомнил он вдруг и, остановившись, с досадой махнул рукой. Как ей рассказать все это?
Габриэль снова взглянул на мертвеца. Смерть не украсила Панчо Виванко; отросшая борода придавала его восковым щекам зеленоватый оттенок. Далекие воспоминания детства заставили Габриэля Элиодоро, наклонившись над Панчо, закрыть ему глаза.
Снова появился Мишель со стаканом чистого виски на подносе.
— Генерал сейчас прибудет, господин посол.
— Спасибо, Мишель. — Габриэль Элиодоро взял стакан и выпил виски залпом. — Приготовь мне кофе покрепче, спать сегодня не придется. А сейчас иди к себе, я позову, если понадобишься.
Кивнув, мажордом скрылся, а посол, продолжая держать стакан в руке, снова закружил по вестибюлю. Он ожидал от Виванко чего угодно, только не этого. Воистину, чужая душа — потемки. Так или иначе, он поступил почти как настоящий мужчина. Но почему рука этого бедняги дрогнула? И как он мог промахнуться с такого расстояния, да еще стреляя в такую крупную цель?
Генерал Уго Угарте явился через несколько минут. Увидев мертвого Панчо, он в ужасе замер на месте.
— Этот подлец пытался меня застрелить, но вовремя появился ночной сторож и убил его, — коротко сообщил Габриэль.
— Что же делать?
Габриэль улыбнулся.
— Пошевели мозгами, дружище. Неужели ты еще не понял, чем тут пахнет?
— Ревность?
— Какая ревность! Подумай хорошенько. Разве ты не догадываешься, что это было покушение, тщательно подготовленное.
— Кем?
— Ты еще, видать, не проснулся, Уго. Хочешь чашку крепкого кофе?
Генерал растерянно смотрел на труп. Отхлебнув виски, Габриэль Элиодоро продолжал:
— Это как раз то, что нам нужно. Виванко был членом заговора левых, а мое убийство должно было послужить сигналом для террористических актов и диверсий в Сакраменто, понимаешь?
— А доказательства?
— Доказательства, старина, мы сейчас с тобой приготовим. Позвони кому-нибудь из своих лейтенантов, но чтобы он умел печатать на машинке и пользовался твоим абсолютным доверием.
Не сводя глаз с мертвеца, Угарте медленно кивнул.
— Мы приготовим документы, доказывающие связь Франсиско Виванко с революционерами. Американская полиция должна найти в кармане этого субъекта письмо, в котором кто-то сообщает кому-то — придумать имена твое дело, — будто доктор Грис по собственному желанию тайно покинул Соединенные Штаты и находится сейчас на Кубе у сакраментских эмигрантов. Кроме того, нам нужен обширный список сакраментцев, «замешанных» в этом заговоре, чтобы наша полиция могла начать аресты… — Габриэль положил руку на плечо военного атташе. — Неужели ты не понимаешь, что мы преподнесем куму Хувентино готовенький предлог, нужный ему для оправдания в глазах мировой общественности нового движения за спасение нации?
Угарте улыбнулся, наконец поняв посла.
Присев у тела Виванко, Габриэль Элиодоро обыскал его карманы. Вытащил мокрый и грязный носовой платок, долларовую бумажку, скрученную наподобие сигареты, и коробку цветных карандашей.
— По-моему, этих улик недостаточно, — с улыбкой сказал он, взглянув на генерала, и поднялся. — После того как все документы будут готовы, мы положим письмо насчет Гриса в карман Виванко, а другие «компрометирующие документы» оставим в ящике его стола в канцелярии. Но смотри, ключ от стола должен лежать у него в кармане. — Посол ногой указал на труп.
Снова отпив виски, он продолжал:
— Проделав все это, мы тотчас сообщим в полицию. Завтра утром я пошлю соответствующую ноту в госдепартамент и приглашу журналистов на пресс-конференцию… Хочешь глоток?
Угарте сказал, что предпочел бы кофе, и направился было к телефону вызвать одного из своих помощников, но Габриэль Элиодоро жестом остановил его.
— Вот что еще. Попроси Нинфу сообщить эту новость Росалии, но не раньше утра, понимаешь? Да! Ни Молина, никто другой ни о чем не должны догадаться. Знать об этом будем только мы с тобой и лейтенант, который отпечатает на машинке нужные бумаги.
Кивнув, Угарте вышел. Габриэль Элиодоро снова начал ходить вокруг покойника, то и дело поглядывая на него: «Первый раз за всю свою поганую жизнь ты принесешь родине хоть какую-то пользу».
34
Незадолго до рассвета, уставший от бессонной ночи, посол добился телефонной связи с Серро-Эрмосо и сообщил вкратце президенту о случившемся. Он сообщил также, что документы, доказывающие существование заговора, сегодня же будут отправлены с дипкурьером на самолете. Кум удовлетворенно хохотнул, сразу разгадав ход Габриэля.
— Спасибо, дружище. Ты в самом деле не ранен?
— По-моему, Виванко не стрелял никогда в жизни. Да, кум! Позвони, пожалуйста, Франсиските и скажи ей, что я в полном здравии и что сегодня же напишу обо всем подробно.
Около полудня полиция закончила обследование посольского вестибюля и допросила посла, ночного сторожа и мажордома. Прежде чем отвезти труп Виванко на вскрытие, его сфотографировали в различных ракурсах.
Известие о смерти мужа, с которым к ней явилась Нинфа Угарте, Росалия выслушала с патологическим спокойствием. На вопрос, повезет ли она мужа хоронить в Серро-Эрмосо, Росалия ответила, что ей все равно, и снова замолчала.
Эрнесто Вильальбе, которого охватывало возбуждение всякий раз, когда случался скандал или он узнавал какую-нибудь сногсшибательную новость, посол поручил организацию похорон, разумеется, за счет посольства. Услышав это, Титито не удержался от комментария: «Noblesse oblige». Версия заговора ничуть его не убедила, хотя он и промолчал об этом, не желая подвергать свою жизнь опасности…
Молина очень нервничал, поскольку совсем не хотел быть замешанным в эту темную историю: посол поручил ему составить официальную ноту госдепартаменту. Почти все утро он занимался этим вместе с Клэр Огилви. Из четырех заготовленных вариантов ни один не удовлетворил министра-советника. Очевидно, виной тому было неверие в правдивость версии, изложенной послом.
Сейчас он диктовал пятый вариант и боялся, как бы Клэр не спросила, неужели он верит в эту басню. Но Огилвита, которая наглоталась успокаивающих таблеток, думала только о Пабло. Где он? Как воспринял известие об убийстве Виванко? Что теперь будет делать? Несколько раз она уже пыталась дозвониться Пабло, но пока тщетно…
У Мерседиты глаза распухли от слез. Виванко плохо относился к ней, постоянно срывал на ней свою злость и, казалось, находил удовольствие, мучая и оскорбляя ее, изводя мелкими придирками. И все же Мерседес никогда не хотела зла Виванко и даже по-своему жалела его. Сейчас она тихонько шептала: «Бедный, бедный!»
В десять часов Габриэль Элиодоро стремительно вошел в канцелярию с непроницаемым выражением лица и ни с кем не поздоровавшись.
— Готово сообщение для госдепартамента? — спросил он Клэр.
— Да, господин посол. Английский и испанский текст на вашем столе.
Габриэль Элиодоро прочел ноту и, не сделав никаких замечаний, подписал. Клэр, стоя рядом, ожидала дальнейших распоряжений.
— Что скажете, Клэр?
Секретарша сильно потянула носом, но промолчала.
— Что говорят в канцелярии? — снова спросил он.
— Не знаю, господин посол, я не слушаю сплетен.
— Но вы-то верите в то, что Виванко действительно пытался меня убить?.. Или не верите?
— Кроме ваших слов, господин посол, существует еще заключение полицейских экспертов, которые это подтверждают.
— А вам известно, что в кармане покойного и в ящике его рабочего стола мы нашли в высшей степени компрометирующие документы?
Сжав губы, Огилвита, не моргая, смотрела в глаза шефу. Габриэль Элиодоро не выдержал прямого взгляда этих светлых глаз, которые, казалось, читали его мысли, и опустил голову.
— Ладно. Где сейчас Пабло?
— Он еще не приходил.
— До сих пор? Позвоните ему домой.
— Уже звонила. Никто не отвечает.
— Когда соберутся журналисты?
— Через двадцать минут.
— Я хочу, чтобы Пабло был моим переводчиком.
— Если бы господин посол разрешил мне высказать свое мнение, я бы сказала, что Пабло не подходит для этой роли.
— Это почему же?
— По причине, которую он сам объяснит вам сегодня или завтра… или немного позднее.
Габриэль Элиодоро задумчиво уставился на портрет дона Альфонсо Бустаманте.
— Хорошо, тогда вы будете переводить.
— Отлично, господин посол.
— Как вы считаете… что я должен сказать журналистам?
— Расскажите, что случилось. И чем меньше вы будете комментировать происшествие, тем лучше.
Габриэль Элиодоро медленно кивнул, взял нож из слоновой кости и стал постукивать им по стеклу стола.
— Вы полагаете, представители печати попросят меня показать документы? Я хочу сказать — бумаги, доказывающие участие Виванко в заговоре?
— Без сомнения.
— Но документы эти в сумке дипкурьера, летящего в Серро-Эрмосо! А фотокопий у нас нет.
— Так и скажите репортерам.
— Что с вами сегодня, Клэр?
— Ничего, господин посол.
— Хорошо, когда журналисты приедут, проводите их в конференц-зал. И велите принести нам кофе… виски или мышьяку!
Секретарша удалилась. Габриэль Элиодоро, почувствовав на себе чей-то взгляд, поднял голову и, встретившись с суровыми глазами дона Альфонсо Бустаманте, метнул в него нож для разрезания бумаг.
Сообщение о трагедии, разыгравшейся в посольстве Сакраменто, американские газеты опубликовали на видных местах. «Пост», «Стар» и «Ньюс» уделили происшествию особенно много внимания. Интервью с послом все газеты воспроизвели без комментариев, кроме одной нью-йоркской, поместившей ядовитую статью под заголовком «Еще один черный день в посольстве Сакраменто». Как и следовало ожидать, в статье этой исчезновение Гриса связывалось с убийством Виванко.
Пабло узнал о случившемся от Билла Годкина. Они отправились завтракать в кафетерий отеля «Статлер» и, сделав заказ официанту, молча уставились друг на друга. Первым заговорил американец:
— Что ты думаешь об этом, Пабло?
— Я нахожу, что дело плохо состряпано… А ты?
— Согласен, но некоторые факты полностью подтвердила местная полиция. На Габриэля Элиодоро действительно было совершено покушение, револьвер действительно принадлежал Виванко, и на рукоятке были обнаружены отпечатки его пальцев, а пулю, выпущенную из этого оружия, нашли в ступеньке лестницы. Пуля же, которая убила Виванко, действительно была выпущена из револьвера ночного сторожа. И что еще важнее — показание ночного сторожа, подтвержденное послом и мажордомом, не вызывает никаких сомнений. Их показания ни в чем не расходятся и вполне достоверны.
— И все же версия насчет заговора состряпана Габриэлем Элиодоро и военным атташе, уж он-то специалист по такого рода делам. Письмо, в котором Грис якобы пишет о своем побеге, просто смехотворно. У профессора не было ни малейшей необходимости бежать из Штатов. Если бы он захотел, он мог бы совершенно легально уехать на Кубу или в любую другую страну. А как объяснить то, что его имя не значится в списках пассажиров ни одной авиационной или пароходной компании, покинувших Америку за последние две-три недели? И потом, разве отправляются в путешествие, не взяв ничего из одежды, даже очков, не приведя в порядок дел? Такой человек, как Грис, не уехал бы, не расплатившись за квартиру и по другим счетам и не сказав ни слова своему шефу в университете. Да и со мной он обязательно простился бы, хотя бы по телефону.
Официант принес заказ: черный кофе с сухими гренками — для Пабло и плотный завтрак: яичницу-глазунью, сосиски, овсяную кашу, поджаренный хлеб, сливочное масло — для Годкина, который тут же принялся за еду.
— Я согласен с тобой, — пробормотал он и вытер подбородок, испачканный яичным желтком. Пабло выпил кофе, но к гренкам не притронулся.
— Сегодня я не заснул ни на минуту, все думал, что мне делать… Написал длинное письмо родителям, сообщил о случившемся и о том, что подаю в отставку.
— Ты уже отправил письмо?
— Рано утром, пока не передумал… Когда мы выйдем отсюда, я пошлю телеграмму в министерство иностранных дел с просьбой об отставке.
Годкин намазывал повидлом поджаренный хлеб.
— А потом?
— Пойду в канцелярию, поговорю с послом.
— И что он, по-твоему, скажет?
— Это меня не интересует.
— А как Освободитель использует эти «подрывные документы»?
— Они явятся предлогом, которого Каррера ждал, чтобы отменить приближающиеся выборы и сделать первую попытку остаться у власти.
— Держу пари, что уже сегодня вечером мы получим из Сакраменто чрезвычайное сообщение. И я сейчас, сию минуту, нисколько не боясь преувеличений, могу составить подробную информацию о том, что там произойдет…
На следующий день газеты вышли с сенсационными заголовками о новом перевороте в Сакраменто. Генералиссимус Хувентино Каррера объявил об отставке кабинета, распустил обе палаты конгресса и ввел осадное положение по всей стране. В Сакраменто производились массовые аресты лиц, замешанных в заговоре «левых, имевшем целью насильственное свержение правительства». Только в федеральном университете было арестовано и подвергнуто заключению более двухсот человек — профессоров и студентов. В своей речи, произнесенной по радио, президент объяснил, чем были вызваны принятые им меры, и попросил поддержки у народа, в преданность которого он безоговорочно верил. Далее он заявил, что его стремление к справедливости не помешало ему проявить «непреклонность по отношению к изменникам, угрожающим общественному порядку, демократической системе и христианским традициям нашей родины».
Прочтя это сообщение, Огилвита глубоко вздохнула: еще один государственный переворот!
Почти все утро посол созванивался со своими коллегами по ОАГ — просил о срочном созыве чрезвычайной сессии Совета, на которой он смог бы дать информацию о политическом положении в Сакраменто.
Молина чувствовал себя подавленным. В газетах он прочел сообщение о том, что дон Панфило Аранго-и-Арагон обратился к католикам с призывом без колебаний поддержать президента в решающий момент его борьбы против большевизма.
«Еще одна глава в его славной биографии!» — подумал министр-советник, которого, однако, больше заботило не уже случившееся, а последствия этих событий. У Молины было предчувствие, что главное еще впереди: в Сакраменто в любой момент могли высадиться войска эмигрантов. Да и внутри страны, судя по всему, обученная и вооруженная пятая колонна ожидала лишь сигнала для начала восстания.
«Что будет со мной, если революция победит?..» — думал он. Даже вульгарного и нечистого на руку Карреру он предпочитал любой левой диктатуре. Умереть он не боялся. Жизнь порой страшила его больше, чем смерть, но в случае победы мятежников на родину он решил не возвращаться. Лучше покончить с собой, чем подвергнуться оскорблениям в революционном трибунале, очутиться в грязной тюремной камере, терпеть издевательства со стороны врагов. Смерть лучше, в тысячу раз лучше: мгновенная, чистая и достойная.
«Где же бог? — спрашивал он себя. — Где же бог? И где Грис? Бог. Грис. Бог. Грис. Бог. Грис.
Клэр Огилви вошла в кабинет посла и вернулась через минуту, сказав Пабло, который сидел, ожидая приема:
— Можешь войти, но будь осторожен.
Ортега остановился перед столом посла.
— Садись, Пабло.
— Спасибо, я постою.
Габриэль Элиодоро настаивать не стал. Взяв в руки нож для разрезания бумаг, он спросил глухим голосом:
— Ну что там у тебя?
— Довожу до вашего сведения, что я только что телеграфировал в министерство иностранных дел, категорически настаивая на своем увольнении с дипломатической службы.
Посол мгновение помолчал, задумчиво разглядывая свои руки, потом спросил:
— Почему?
— Вы действительно хотите это знать?
— А разве у меня нет на это права?
Проглотив слюну, Пабло стиснул кулаки.
— Я не могу больше служить правительству убийц и мошенников.
Он ожидал вспышки и даже взвесил на глаз нож для разрезания бумаг, который Габриэль мог использовать как оружие, поэтому был удивлен спокойным и печальным видом посла, продолжавшего сидеть с опущенной головой.
— Обдумал ли ты свой поступок? Вспомнил ли о своих родителях? И о том, что твоя отставка ухудшит мое положение, и без того неважное после… всех этих событий?
— Меня не интересует ваше положение.
— Хорошо. И все же постарайся понять, какой трудный момент переживает сейчас наша родина.
— Вы сами повинны в этом, вы создали предлог для переворота, который даст неограниченную власть в руки вашему куму.
— Значит, ты не веришь документам, найденным у Виванко?
— Не совсем. Я не верю, что они принадлежали этому бедняге.
Равнодушие Габриэля поразило Пабло. Он приготовился к ожесточенному спору, а посол сидел, съежившись, как бы став меньше ростом, сжимая нож в побелевших пальцах. И взгляд, который тот сейчас устремил на Пабло, был таким робким (индеец, босой и жалкий, взирающий на богатого владельца плантаций!), что Ортега против воли почувствовал сострадание к этому человеку, которого он не любил, но которого не сумел возненавидеть.
Габриэль Элиодоро медленно кивнул.
— Хорошо, Пабло, хорошо. Делай как знаешь. Я не сержусь на тебя. Если не хочешь, можешь не ходить в канцелярию. Подожди решения министерства дома. И помни: я стремился стать твоим другом, но ты не захотел. А теперь можешь идти и будь счастлив.
Глаза посла увлажнились. Пабло вышел из кабинета, не сказав больше ни слова. Клэр взяла его под руку и повела в коридор, где Пабло рассказал о разговоре с послом.
— Несколько минут назад дону Габриэлю Элиодоро сообщили, что Росалия Виванко пыталась покончить жизнь самоубийством, приняв большую дозу снотворного… — сказала Клэр.
— Она погибла?
— Пока в коматозном состоянии, так что дело плохо.
Пабло вошел в свой кабинет, открыл все ящики, порвал ненужные бумаги. На столе увидел письмо от матери, которое тоже разорвал, не читая, другое, от мисс Хирота, сунул в карман.
Огилвита проводила его до подъезда.
— Ну, Пабло?
Он улыбнулся.
— Знаешь что? Мне сейчас очень хорошо. Голова со вчерашнего дня не болит. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким свободным. Словно отмыл душу от всей этой грязи.
— Да благословит тебя бог.
Они простились. Почти весело Пабло зашагал по парку. Потом вспомнил о голубом конверте, который лежал в кармане. Аромат жасмина напомнил ему хрупкую фигурку Кимико. На голубой бумаге был только хайку:
Росинка, дрожащая На венчике лилии, — Жемчужина времени.Часть 4. В горах
35
Жарким и душным днём первой недели августа газеты сообщили о высадке в окрестностях Соледад-дель-Мар «наёмных войск, возможно, прибывших с Кубы» и находящихся под командованием некоего Мигеля Барриоса. Войска эти, очевидно, рассчитывали на присоединение местного гарнизона, но тот неожиданно оказал сопротивление, и захватчики были вынуждены отойти в горы Сьерра-де-ла-Калавера, откуда, как предполагалось, они будут вести партизанскую войну по всем правилам. Ходили ещё неподтверждённые слухи, будто в некоторых южных провинциях также высадились десанты.
Габриэль Элиодоро узнал об этих событиях на рассвете. Президент Каррера сам позвонил ему из Серро-Эрмосо, подняв посла с постели. Внезапно разбуженному Габриэлю понадобилось несколько секунд, чтобы понять серьёзность положения, потом он, по своему обыкновению, коротко выругался, и спросил:
— Сколько человек высадилось в Соледад-дель-Мар?
— Шестьсот или семьсот… Может быть, тысяча, не знаю… Все отлично вооружены.
— Они ещё где-нибудь высадились?
— К несчастью, да: в Оро Верде и в Сан-Фернандо. Пока у меня нет точных сведений о количестве мятежников, высадившихся на юге. Сообщения очень противоречивые. Я отдал распоряжение военно-воздушным силам бомбить и обстреливать позиции противника.
Габриэль Элиодоро уловил напряжение в голосе президента.
— Послушай, кум, по-моему, мне надо немедленно отправиться в Сьерру.
— Ни в коем случае!
— Но, президент, я знаю эти горы как свои пять пальцев и ещё могу вести партизанскую войну. Ведь мы на собственном опыте убедились, что партизан можно победить только в партизанских боях. Мы не должны повторять ошибку генерала Чаморро, понимаешь меня?
— Оставайся пока в Вашингтоне, Габриэль. Там для тебя есть одно очень важное задание. Есть предположение, что Кастро помогает вторжению. Барриос и его наёмники были доставлены на кубинских судах! Ты должен добиться созыва чрезвычайного заседания совета ОАГ и разоблачить кубинскую агрессию. Алло! Ещё вот что, кум, поговори с заместителем государственного секретаря и откровенно обрисуй ему положение. Боеприпасов, которыми мы располагаем, хватит месяца на два-три… Если Соединённые Штаты нам не помогут, долго мы не продержимся. Пусть они вспомнят судьбу Батисты: эмбарго на поставки оружия правительству Кубы обеспечило победу Фиделю Кастро. Надеюсь на твой опыт, кум. Не подведи меня!
Габриэль Элиодоро, весь в поту, дышал с трудом, в горле у него пересохло, грудь жгло.
— А как дела в Серро-Эрмосо?
Президент замялся.
— Не блестяще… Обычная история. Кто-то распространяет листовки, на домах и заборах появляются ругательства в мой адрес… Подпольная радиостанция нападает на правительство и подстрекает народ к восстанию… — Каррера помолчал. — Ты слушаешь? Вчера вечером студенты бросали камни в солдат военной полиции, а те ответили стрельбой, убили двоих или троих и ранили пятерых, а может, и десятерых, точно не знаю! Чертовски некстати, но иного выхода не было. Мы пропадём, если проявим слабость.
— Разумеется. Сообщай мне обо всех новостях по телефону или телеграфу. Да! Я попрошу тебя об одном одолжении: вели одному из своих секретарей позвонить Франсиските и передать ей, что я чувствую себя хорошо и вообще всё в порядке… Я хочу сказать, здесь…
— Начинай переговоры с заместителем государственного секретаря. Добудь автоматическое оружие и боеприпасы, иначе нам крышка.
Посол пошёл в ванную, наспех побрился, порезав щёку, потом принял холодный душ, проглотил чашку кофе и в семь часов уже звонил министру-советнику и военному атташе, срочно вызывая их к себе.
В девять часов, как всегда, явились остальные сотрудники. У всех был мрачный вид. Мерседита съёжилась в своём углу — страх парализовал её пальцы, и она не могла печатать на машинке; с Титито Вильальбой случился нервный припадок, мисс Огилви дала ему пару его любимых успокаивающих таблеток, а затем заставила лечь. Подчинённые генерала Угарте реагировали на события в Сакраменто по-разному: те, что были помоложе, попросили у начальника разрешения немедленно вернуться на родину — они хотели с оружием в руках бороться с захватчиками. Ошеломлённый полковник несколько минут не мог прийти в себя и только нервно пил воду, а потом, немного оправившись, стал выяснять, какая сумма на его текущем счету в Чейз Манхаттан Бэнк. У майора от волнения расстроился желудок, и почти всё утро он провёл в туалете.
Габриэль Элиодоро Альварадо метался по своему кабинету, как хищник в клетке.
— Доктор Молина, позвоните немедленно в госдепартамент и добейтесь, чтобы меня принял заместитель государственного секретаря. Совет ОАГ распущен сейчас на каникулы, но мы должны настоять на экстренном совещании и потребовать созыва консультативного органа. Я предъявлю Кубе обвинение в агрессии!
Подавленный Угарте сидел на софе, разглядывая носки своих туфель. Его тёмная кожа приняла лиловатый оттенок. («Проклятая астма», — объяснил он, когда, задыхаясь, появился в канцелярии.) «Остаётся одно, — размышлял Уго сейчас, — бежать в Швейцарию». Он знал, что в случае падения Карреры — а это было отнюдь не исключено — он будет выдан новому правительству Сакраменто и расстрелян. Швейцария же не связана с Сакраменто никакими договорами. «Там эта сволочь меня не достанет». Угарте ослабил узел галстука, расстегнул воротничок и взглянул на посла. «Габриэлю я ничего не скажу. И Нинфа узнает о моём решении только накануне отъезда. Женщины слишком болтливы».
— Угарте! — воскликнул вдруг посол. — Ты тоже должен что-то предпринять.
— Но что?
— На первом же заседании Комитета обороны изложи ситуацию своим коллегам и навались на представителя Кубы. Дай ему как следует. Мы должны гальванизировать общественное мнение Американского континента, разоблачить перед всем миром кубинскую агрессию. Это не революция, а война, начатая без предупреждения.
Габриэль бросил злобный взгляд на портрет доктора Бустаманте, безмятежно взиравшего из своей рамы, потом повернулся к министру-советнику.
— Сегодня или завтра созовите пресс-конференцию здесь, в канцелярии посольства. Подготовьте письменное заявление для информационных агентств. Мы должны убедить демократический мир, что Фидель Кастро и его сторонники — коммунисты. Если революция Барриоса победит, у русских появятся базы, откуда они смогут посылать ракеты на территорию Соединённых Штатов!
Министр-советник направился к двери, но посол задержал его.
— Ещё вот что, доктор. Сообщите в прессу, что Барриос преступник, которого разыскивает полиция: продажа чужого имущества… или изнасилование… Всё что вам угодно!
— Но… — неуверенно начал Молина.
— Придумайте что-нибудь, профессор, призовите на помощь своё воображение. Сейчас, когда родина в опасности, все средства хороши. — Он подошёл к министру, взял его за лацканы пиджака и с раздувающимися ноздрями процедил сквозь зубы: — И не только родина, профессор, но и наша с вами шкура. Если революционеры победят, нас поставят к стенке.
Четыре дня спустя, вечером, Габриэлю Элиодоро, сидевшему в своём кабинете, стало вдруг так тоскливо, что он решил развлечься и принялся распевать скабрезные куплеты, которым научился в юности. Клэр Огилви в соседней комнате, подскочив на месте, прислушалась, охваченная смутной тревогой…
А посол тем временем размышлял о вчерашних событиях. На чрезвычайном заседании Совета ОАГ он без околичностей обвинил Кубу в оказании помощи мятежникам, вторгшимся в Сакраменто и, не сдержавшись, допустил оскорбление в адрес кубинского правительства. Разъярённый представитель Кубы вскочил с криком: «Мошенник! Лгун!» — и Габриэль, окончательно выйдя из себя, набросился на кубинца, однако его удержали. Заседание закрылось, не дав никаких положительных результатов.
Вчера же Габриэль Элиодоро встретился с заместителем государственного секретаря, которому откровенно изложил положение в Сакраменто. «Если Соединённые Штаты не помогут немедленно моему правительству вооружением и боеприпасами, мы ни за что не отвечаем. Я полагаю, наш уважаемый друг понимает, что будет означать захват ещё одной страны врагами демократии…»
Американец слушал его молча, скрестив свои длинные ноги и положив руки на худой живот. Его лицо протестантского миссионера ничего не выражало. И ответ был таким же неопределённым: он должен тщательно изучить вопрос, проконсультироваться с государственным секретарём… На прощание Габриэль получил вежливую улыбку, будто наносил обычный визит.
Перебирая сейчас в уме эти события, Габриэль обдумывал, что бы ещё предпринять. Почти ежедневно ему звонили из министерства иностранных дел, так что он был в курсе событий: уличные бои шли в столице провинции Оро Верде, в провинции Сан-Фернандо правительственный полк примкнул к мятежникам, которые готовились наступать на Соледад-дель-Мар. Имелись также сведения, правда ещё не проверенные, о высадке противника на западном побережье Сакраменто. Святой боже! Откуда у Барриоса столько людей? Очевидно, он вербовал наёмников в странах Центральной и Южной Америки.
Габриэль закурил сигару и рассеянно уставился на портрет дона Альфонсо. Он вспомнил Росалию… Врачам удалось спасти ей жизнь, и сейчас бедняжка на излечении в психиатрической клинике. После того, как её выпишут оттуда, Габриэль решил отправить её в Серро-Эрмосо на попечение старой тётки, которая воспитала Росалию.
Потом вспомнилась Фрэнсис. Две недели назад американка уехала из Вашингтона, выйдя за миллионера. «Вот я и остался один… А тут ещё эта проклятая революция!»
Несколько секунд он глядел на дым сигары, но видел себя то с одной, то с другой любовницей в огромной старинной кровати. И воспоминание о минувших наслаждениях — поцелуях, запахах, тихом шёпоте, стонах, утончённых ласках — усиливало в нём чувство уныния и одиночества. Последнее время женщин ему приводил Титито, но американские девки его не удовлетворяли. Он находил их слишком неопытными, а старание, с которым они занимались любовью, делало их похожими на прилежных учениц колледжа или даже воскресной школы, рассчитывающих на хорошую отметку. И ещё их объятия напоминали партию в теннис, где оба партнёра придерживаются твёрдых правил и ведут подсчёт очков.
Он вздохнул, взглянул на совершенно пустой стол и подумал о неблагодарном Пабло, который отказался от его дружбы и оскорбил его. Что с ним случилось? А если Пабло решил присоединиться к революционерам?.. Впрочем, куда ему! Интеллигенты типа Ортеги сильны только в теории. Они живут в лживом мире книжных фантазий, а крови и насилия боятся, как дети тёмной комнаты.
Габриэль встал, подошёл к окну и, прислонясь лбом к стеклу, взглянул на деревья парка и вдруг вспомнил дочерей, внуков, сад у своего дома в Серро-Эрмосо.
Потом снова сел за стол и велел секретарше соединить себя с никарагуанским послом.
— Как дела, дружище? — крикнул он в трубку. — Нет… Очень хорошо. Конечно. Ну что вы… это я должен извиниться, совершенно потерял голову. Одно могу сказать вам с уверенностью, дорогой посол: если мы не примем серьёзных мер, кубинский огонь охватит всю Америку. — Некоторое время Габриэль молчал, слушая собеседника, потом предложил: — Надо добиться, чтобы совет как можно скорее создал временный консультативный орган и направил в Соледад-дель-Мар комиссию — проверить на месте справедливость моих обвинений. Суда, на которых были доставлены люди Барриоса, удалось сфотографировать в момент, когда они бросали якорь в небольшой бухте в двадцати с небольшим километрах от Соледад-дель-Мар. Имеются к тому же и свидетели. Солдаты пятого пехотного полка захватили в плен двух раненых мятежников, брошенных товарищами, и получили от них ценные показания, доказывающие помощь правительства Кубы войскам, высадившимся в Сакраменто… Разумеется, дружище. Хорошо, встретимся!
Вечером того же дня Габриэль велел Альдо Борелли отвезти себя к памятнику Линкольну, как делал всегда в минуты грусти и одиночества. Он медленно поднялся по лестнице и, остановившись у подножия мраморной фигуры, долго смотрел на ярко освещённое лицо. Затем, засунув руки в карманы и опустив голову, стал задумчиво ходить вокруг памятника… Одинокие шаги Габриэля эхом отдавались под пустынными в этот час сводами.
Авраам Линкольн, казалось, спокойно взирал на купол Капитолия, который белел вдалеке. Несколько мгновений Габриэль Элиодоро стоял, прислонившись к колонне и глядя на длинный прямоугольный пруд, где отражались огненные лучи заката и светлый обелиск. Он почувствовал, что грудь его сжимается от безысходной тоски, неизвестно откуда взявшейся.
В этот вечер, перед тем, как лечь, Мишель Мишель сделал запись в своём дневнике: «12 августа. Среда. Новая революция. Боже мой! Пришёл конец Хувентино Каррере, а у меня нет ни мужества, ни здоровья для встречи ещё одного посла. Решил уволиться из посольства и вернуться на родину. Я откладывал в банк кое-какие сбережения в долларах, и это позволит мне безбедно прожить остаток дней. Думаю открыть в Авиньоне ресторан с латиноамериканской национальной кухней. Может даже женюсь на даме средних лет, не слишком уродливой, экономной, работящей и не чрезмерно жаждущей супружеских ласк. Кстати, у меня есть рецепт знаменитых сакраментских «эмпанадас». Ресторану я дам экзотическое название «Парамо», или «Серро-Эрмосо», либо просто: «У Мишеля». В Авиньоне буду писать мемуары и ждать смерти. Entrez, cher madame. Vous etes en retard».
Посреди ночи Мишеля разбудили крики. Узнав голос посла, он вскочил с постели, накинул халат и поднялся на второй этаж. Там Мишель увидел Габриэля Элиодоро, который расхаживал по коридору босиком в одних пижамных брюках, жестикулируя и крича: «Сволочи! Трусы! Не удирайте! Увидев мажордома, Габриэль остановился и замолчал.
— Вам что-нибудь нужно, господин посол?
— Разве я тебя звал?
— Мне показалось, ваше превосходительство… — пробормотал Мишель, склонив голову и собираясь уйти.
— Подожди. Спустимся вместе.
Посол взял Мишеля под руку, чего до сих пор никогда не случалось, и они спустились вниз. Мишелю было не по себе, он не знал, что говорить, к тому же близость полуголого разгорячённого и потного посла действовала на него неприятно.
Они вошли в библиотеку. Мажордом зажёг свет, а Габриэль Элиодоро, несколько минут неприкаянно побродив по комнате, попросил:
— Принеси-ка бутылку коньяка, два стакана и приготовь кофе покрепче, только быстро!
Спустя некоторое время они сидели в кожаных креслах друг против друга. Мишель испытывал, уже не в первый раз, глубокое презрение к этому вульгарному выскочке, который пригласил его, своего лакея, распить бутылку коньяку. (Дон Альфонсо был иным. Он делал такие вещи изящно.)
— Мне приснился сон, Мишель. Будто я в горах Сьерра-де-ла-Калавера, идёт бой, а мои солдаты бегут, бросив оружие и меня, своего командира. Евнухи проклятые! Тогда я заорал на них и проснулся. Но и вскочив с постели, я продолжал кричать, чтобы отвести душу. В конце концов, я у себя дома.
Допив коньяк, Габриэль опрокинул рюмку. Мишель налил ему чашку кофе.
— По-твоему, я очень стар?
— Ну что вы, господин посол, я бы дал вам от силы года сорок четыре — сорок пять…
— А теперь взгляни на мои руки — это руки молодого мужчины. Ты не увидишь на них пятен, которые появляются на старческих руках. Смотри! Мисс Андерсен уверяла, что не знала мужчины, который мог бы сравниться со мной. Включи кондиционер, очень жарко.
Мажордом выполнил распоряжение.
— И ещё вот что я скажу тебе, Мишель: я впервые оказался на стороне правительства. Всё так перепуталось, я вынужден защищать законную власть. Подумать только — я заодно с пятым пехотным полком! Я, Габриэль Элиодоро Альварадо, буду сражаться против повстанцев. Поистине насмешка судьбы!
Мишель кивал как заведённый. Встав, посол снова заходил по комнате, продолжая говорить, но обращался он только к себе.
— Там, на вершине Сьерры, был настоящий рай. А воздух? Чистый, прозрачный, как кристалл! Я не видел ничего величественнее рассветов, которые мы наблюдали оттуда; казалось, солнце рождается из моря, пики гор становились золотистыми. Сиди, Мишель, к чему эти церемонии? Сейчас я не твой хозяин, а простой парень из Соледад-дель-Мар, сын шлюхи. Мой дом был полковым отхожим местом, отметь это в своих мемуарах. Но там, в горах, всё было чистым. Даже Угарте! Я никогда не забуду того дня, когда мы сбили правительственный самолёт, который на бреющем полёте расстреливал из пулемёта наши позиции. Укрывшись за камнями, мы дали залп из автоматов, и я увидел, как самолёт взорвался в воздухе и упал, объятый пламенем. Какое прекрасное зрелище! А как мы любили наблюдать за полётом кондоров над пиками гор. Да, там была настоящая жизнь. Мир, не ограниченный стенами и протоколом. А сейчас я оказался в этой могиле с кондиционированным воздухом, окружённый вечными гробницами и памятниками огромного потомакского кладбища. Почему, Мишель? Зачем? — Он помолчал. — Который час? Три? Знаешь, что мне здесь не нравится? В Вашингтоне по ночам не лают собаки. И не поют петухи на рассвете. И ещё вот что запиши: я буду расстрелян в пять часов утра. Не спрашивай, когда, я знаю только час… А сейчас иди спать, Мишель, я один буду думать над своими вопросами. Забудь, что я тебе здесь наговорил. Всю жизнь я провёл вдали от своей матери, а моей приёмной матерью стала Соледадская богородица, статуя которой стоит в церковке нашего посёлка. Викарий в этой церкви — падре Каталино Сендер, мой друг… — Немного подумав, он добавил: — Который в этот час наверняка в горах Сьерры печётся о живых и о душах убитых. Иди спать, Мишель. Спасибо тебе и спокойной ночи!
— Спокойной ночи, господин посол.
В этот час огни в доме Угарте на тихой улице Бетесда были потушены, но в спальне, где пахло гелиотропом и потом, царил полумрак — в окна падал свет от уличных фонарей.
Нинфе Угарте ещё не удалось заснуть. Она беспокойно ворочалась на кровати, не в силах отогнать от себя мысли о внезапном отъезде. С той минуты, как муж сообщил ей о своём решении уехать через два дня в Швейцарию — падение Карреры стало очевидным, — грудь у неё сжалась и сердце не переставало тревожно биться. Боже мой! Как всё грустно! Росалия потеряла рассудок. В Сакраменто вторглись коммунисты. А Швейцария, наверное, похожа на скучную зелёную открытку: горы, долины, замки, молоко и коровы. Хорошо ещё, что там делают отличный шоколад… Но ей придётся расстаться с Альдо Борелли, с прекрасной посудой и всеми красивыми вещами, которые она накупила здесь и отослала в Серро-Эрмосо…
Нинфа, вздрогнув, испустила долгий, прерывистый вздох, слёзы покатились по её намазанным кремом щекам. Рядом с ней беспокойным сном спал муж, напоминающий старого толстого кота. Он, не переставая, пыхтел и сопел. Нинфа бросила на генерала недовольный взгляд.
Вдруг Уго застонал и затрясся, как в эпилептическом припадке. Нинфа схватила его за плечи: «Уго! Уго! Проснись!» Он очнулся, сел, огляделся по сторонам и зажёг свет. Продолжая сидеть, генерал тяжело переводил дыхание, свесив голову на грудь.
— Что с тобой?
Он ответил не сразу.
— Ужасный сон. Будто я на вершине Сьерры… Убегаю от неприятеля… У меня только один путь — вниз по склону… А за мной катится огромный камень, который должен меня раздавить… Вдруг мои ноги точно свинцом налились, я не могу бежать, и тут ты меня разбудила…
— Ты спал на спине, попробуй уснуть на боку.
Когда генерал послушно улёгся, Нинфа погасила свет и закрыла глаза. Перед ней, как на экране кино, проплыл обнажённый Альдо Борелли… потом яркие блюда на полках универмага… опять Альдо в постели с нею… Посмотрите, донья Франсискита, какое красивое блюдо с белой каймой, я купила его в Вашингтоне… Нет, это вовсе не дёшево… Ах, Альдо! Прощай, жизнь моя! Ты меня не забудешь, любимый?.. Взгляните ещё на это зелёное, сеньора Альварадо… Их можно ставить прямо на огонь… Ах, Альдо! Как бы я хотела иметь от тебя ребёнка!.. Да, соседка, голубые очень изящны… Я могла бы заработать на них целое состояние, если бы не эта дерьмовая революция, извините за выражение… Альдо, а ты мог бы бросить всё… жену, детей, брата… и уехать со мной в Швейцарию? Ты не отвечаешь. Я знаю, что это невозможно. (Посуда из огнеупорного стекла!) Ты ведь меня не любишь, а просто сосёшь из меня деньги. Из-за них ты и пошёл на это. Какая я несчастная!
Она повернулась, укладываясь поудобнее, и оказалась лицом к мужу. Изо рта у него дурно пахло, и Нинфу охватила такая злоба к этому человеку, что она чуть не ударила его коленом.
Назавтра Габриэль Элиодоро поздно пришёл в канцелярию. Уже два дня президент ему не звонил, а в утренних газетах сообщалось, что Оро Верде и Сан-Фернандо окончательно перешли к мятежникам, однако их попытка высадиться в окрестностях Пуэрто Эсмеральды была пресечена верными правительству войсками.
Посол вызвал к себе Титито.
— Есть что-нибудь от госдепартамента?
— Ничего, ваше превосходительство.
— Идиоты! Они утратят ведущую роль в западном полушарии из-за своих дипломатических промахов. На месте мистера Хёртера я бы поторопился попросить кого-нибудь из английских государственных деятелей заняться американской внешней политикой!
— Вы видели ваше интервью в газетах?
— Нет. Там всё в порядке?
— Они сократили ваше выступление больше, чем наполовину, поэтому оно получилось очень неопределённым… К сожалению, господин посол, дела нашей страны американская печать рассматривает, как маловажные. Сегодняшние газеты уделяют больше места изобретению металлических зубных протезов для коров, чем вашему интервью…
Габриэль Элиодоро улыбнулся, словно хотел сказать, что с этим ничего не поделаешь.
— Хорошо, Титито. Сообщи мне, если будут новости.
Сидя за письменным столом в своём кабинете, доктор Хорхе Молина писал карандашом на листе бумаги:
ПОЛОЖЕНИЕ В САКРАМЕНТО
1 — Весь юг во власти мятежников.
2 — Войска Барриоса периодически спускаются с гор, совершая нападения, дезорганизующие противника. Ряды повстанцев день ото дня пополняются сотнями добровольцев.
3 — Высадка мятежных сил (пока не подтверждённая) в Канавиалесе.
4 — В Пуэрто Эсмеральде восстал батальон, но, поскольку остальная часть федерального гарнизона не присоединилась, покинул город, очевидно, направившись в горы.
5 — Эмбарго на поставку оружия в Сакраменто продолжает оставаться в силе.
6 — Революция расползается как жирное пятно.
7 — Общественное мнение Американского континента, по-видимому, на стороне этой революции.
Министр-советник закрыл глаза. Положение правительства Сакраменто критическое. Сколько месяцев продержится Каррера? Два? Три? Четыре? Молина вспомнил, что передумал и перечувствовал этой ночью. Приготовившись работать, он надел свою монашескую одежду и попытался сосредоточить всё внимание на личности дона Панфило. Напрасно! Фигура падре Каталино упорно заслоняла всё остальное, подобно призраку поднимаясь над далёкими голубыми склонами Сьерры. Молина даже почувствовал что-то вроде зависти к этому сельскому священнику, который и теперь, разумеется, повторит свой подвиг, совершённый тридцать четыре года назад, — он снова верхом на осле отправится в горы, чтобы оказать духовную поддержку партизанам. Падре Каталино мог бесстрашно предстать перед богом (если бог существует), если же бога нет, соледадский викарий имеет полное право взирать на своих ближних и на историю, ни в чём не упрекая себя. Его вера и его доброта казались сейчас Молине столь огромными, что уже сами по себе были способны породить бога.
Молина провёл на бумаге линию, извилистую, как очертание горного хребта. Из окна его комнаты в семинарии Парамо, где он учился, в ясные дни можно было различить далёкий силуэт Кордильеры-дос-Индиос; горы всегда влекли его и в то же время пугали. Мальчишкой он считал, что молния, гром и ветры приходят оттуда. А потом, в минуты сомнений — а начались они через год после посвящения в сан, — он вопрошал горы, есть ли бог, но вопросы эти возвращались к нему без ответа и, как базальт, больно ударяли в грудь.
Сможет ли он вернуться в Сакраменто, если Каррера будет отстранён от власти? Нет, никогда. Мужества начать новую жизнь он в себе не находил. Да и к чему? Он никого не любит. И никто не любит его.
И тогда один, в своём холодном и безличном кабинете Хорхе Молина принял решение. До последней минуты (способ сеньоры Виванко ему казался наилучшим) он постарается смотреть на события объективно и даже цинично. Под конец, пожалуй, стоит немного развлечься. Унылая забава наблюдать крушение Карреры будет его скудным дивидендом за долгую жизнь на земле; и, право, он не просит многого у судьбы: увидеть, как поведут себя его коллеги, узнав о решающих событиях в Сакраменто. А уж он просмакует эту трагикомедию — сцену за сценой. Особенно любопытно будет понаблюдать за Габриэлем Элиодоро. Вернётся ли он в Серро-Эрмосо помочь своему куму и шефу? Конечно, нет. Этот вульгарный авантюрист начисто лишён благородства. Без всякого сомнения, он улетит в Швейцарию, последовав примеру Угарте.
И ещё он хотел понаблюдать за самим собой. Хватит ли у него духу покончить счёты с жизнью? Или он так и останется трусливым эгоистом, как и все остальные?
36
Когда Пабло прочёл в газетах сообщение о высадке мятежников в окрестностях Соледад-дель-Мар, он понял, что перед ним открылись новые возможности. Его судьба была решена, разом кончились все колебания: он присоединится к войскам Мигеля Барриоса. Перед ним лежал один путь — путь революции.
Прогнав от себя мысли о больном отцовском сердце, он начал готовиться к отъезду. Словно мальчишка, взбудораженный предстоящим приключением, он обдумывал, как вернее добраться до Сьерры, а пока приводил в порядок свои дела: отказался от квартиры, оплачивал счета, рвал и жёг ненужные бумаги. Голова совсем перестала болеть, и Пабло почти готов был примириться с субъектом, которого видел каждое утро, бреясь перед зеркалом.
И всё же письмо матери ненадолго взволновало его:
«Сын мой! Нас огорчило твоё неожиданное решение покинуть дипломатическую службу. Сначала я хотела утаить это от твоего отца, у которого последнее время снова начались боли в груди, сердцебиение и одышка. Однако подумав, что рано или поздно он всё равно узнает от кого-нибудь, кого ты не предупредил, или из газет, и тогда ему будет ещё тяжелей, я постепенно и очень осторожно рассказала ему всё. Ты не можешь себе представить, как был опечален твой отец.
Как я ни стараюсь, я не могу понять, почему ты хотя бы не посоветовался с нами, прежде чем сделать этот шаг, который затруднит твоё возвращение на родину.
Умоляю тебя, бога ради, сообщи нам, что ты намереваешься теперь делать. Мы очень соскучились по тебе, и если бы не здоровье твоего отца, мы немедленно выехали бы в Вашингтон, хотя я уже не верю, что ты хочешь снова увидеть нас.
Правильно говорит пословица: беда не приходит одна. Мы никак не можем смириться с вторжением мятежников в нашу страну. Какое несчастье! Церкви полны верующих, которые молятся и дают обеты, прося бога не допустить победы коммунистов. Твой отец говорит, что умрёт, но не дастся живым этим варварам.
Но вернусь к твоим делам. Было бы ужасно, если бы твой отец скончался, так и не увидев тебя. Может быть, нам удастся упросить его святейшество архиепископа обратиться к президенту с ходатайством разрешить тебе вернуться в Сакраменто, оградив от преследований властей.
Отец благословляет тебя, несмотря ни на что, как и я, любящая и нежно целующая тебя.
Твоя мать Исабель.»
«Несмотря ни на что»? Пабло раздражённо сунул письмо в карман и тотчас же перестал о нём думать. Похищение и вероятная расправа над доктором Грисом, грязная интрига вокруг убийства Виванко, использованная как предлог для Хувентино Карреры, совершившего государственный переворот, — всё это подействовало на Пабло, как своего рода вакцина против вируса материнского шантажа.
Однажды вечером Пабло пригласил к себе Орландо Гонзагу. Бразилец, как обычно, прежде всего подошёл к камину, на котором выстроились глиняные творения мастера Наталисио, изображающие крёстный путь. Всякий раз Гонзага обнаруживал в этих статуэтках что-то новое для себя. Статуэтки были в современной одежде, и многие из них — как объяснил Пабло — изображали сакраментских политических деятелей начала века. Хуан Бальса, например, которого замучили солдаты Чаморро, был изображён в виде Иисуса Христа. Весь ансамбль Пабло называл «Страсти господни по святому Наталисио».
Приготовляя напитки, Ортега с улыбкой поглядывал на друга.
— У меня для тебя приятный сюрприз. Ты давно мечтаешь об этих фигурках… Даже предлагал как-то за них пятьсот долларов… Помнишь? Так вот, я дарю тебе всю группу.
Гонзага удивлённо повернулся к другу.
— Ты шутишь? — И в ту же секунду понял, что услышит сейчас от Пабло.
— Я уезжаю в Сакраменто.
— Я уже догадался.
— Почему?
— По вопросам, которые ты задаёшь, и по тому, о чём ты говоришь последние дни! Впрочем, твоё молчание и твоя озабоченность были ещё красноречивее.
— И что ты на это скажешь?
Орландо пожал плечами, взял стакан с виски и, усевшись, проговорил:
— Такие дела каждый решает сам. Вначале я думал, что ты уедешь в Париж…
— Это было бы бегством из одного места в другое, не избавляющим меня от моих проблем. Моя маленькая драма продолжалась бы и в Париже. На берега Сены и на Елисейские поля я принёс бы с собой, как дурной запах, своё чувство вины.
Гонзага задумчиво смотрел себе в стакан и после короткого молчания спросил:
— А дон Дионисио?
Вытащив из кармана письмо матери, Пабло протянул его другу.
— Каково? — спросил он, когда Гонзага кончил читать.
— Ласковый материнский шантаж.
— Ласковый? У меня от него уже много лет синяки.
Гонзага сухо рассмеялся.
— Ты считаешь, Пабло, что родители лишили тебя мужества, кастрировали после приключения с… как её там? С Пией… А теперь, когда началась эта революция, ты вбил себе в голову, что должен отправиться в Сьерру и, поборов все опасности, восстановить своё мужское достоинство. Так ведь?
— Не совсем.
Ортега тоже пил, но думал о чём-то своём. Он хотел откровенно поделиться с другом планами, которые давно вынашивал, но спокойно, без мелодрамы. Пабло боялся показаться смешным в глазах Гонзаги и в своих собственных.
Наступило долгое молчание, бразилец невидящим взглядом уставился на статуэтки Наталисио, пытаясь представить Пабло в форме цвета хаки, с пулемётными лентами, перекрестившими грудь…
— Я буду с тобой откровенен, Пабло. Как ты, ненавидящий насилие больше всего на свете, будешь стрелять и убивать? Об этом ты подумал?
— Конечно. Не одну ночь я провёл без сна, размышляя над этим…
— На войне таящиеся в нас животные инстинкты прорываются наружу, и убивать, видимо, становится сравнительно лёгким делом. Но подумай о завтрашнем дне, когда оружие и голова солдата остынут. Подумай о похмелье после сражения…
Орландо встал, закурил сигарету и кончиками пальцев погладил окровавленную спину Хуана Бальсы, который согнулся под тяжестью креста и под ударами центуриона.
— Подумай и о победе, ведь она оборотная сторона той же медали: месть, новые расстрелы, разнузданные, ничем не сдержанные страсти… Несправедливость, прихотливо сплетённая с правосудием… Народные трибуналы… Ты думаешь, что сможешь всё это переварить?
Пабло тоже встал.
— А ты думаешь, мои голова и желудок не годятся для этого? И потом, Гонзага, решение, которое я принял, нельзя анализировать хладнокровно, как математическую задачу. Слишком много неизвестных величин. Но если бы прежде, чем пуститься в эту авантюру, я разрешил все сомнения и оградил себя от всех опасностей, я бы остался всё тем же равнодушным трусом. А значит, перестал бы себя уважать.
— Ты просто мазохист, дружище.
— Глупости. Сам знаешь, что это не так. Я люблю жизнь не меньше твоего.
— А не приходило тебе в голову, что и меня мучают подобные вопросы? Или ты думаешь, что я беззаботно порхаю среди мыльных пузырей нашего дипломатического мира, пока миллионы моих сограждан влачат жалкое существование? Я тоже иногда задумываюсь о бедах, которые может принести гражданская война такой стране, как Бразилия… Ты скажешь, я приспособленец. Пусть так, не отрицаю. И всё же у меня нет причин ненавидеть себя. Я пытался себя презирать, но и из этого ничего не получилось. Я слишком люблю себя и поэтому проявляю большую терпимость к своим слабостям и недостаткам. Для меня также ясно, что если бы я, став участником вооружённого восстания, убивал, я бы сошёл с ума. А может, меня пугает мысль быть убитым. Впрочем, нет! Ты скажешь, что я трус. Возможно. Но сердце у меня есть. Иногда я смотрю на карту Бразилии и задумываюсь о судьбе этого спящего гиганта, которым правят лживые политиканы. Тогда я задаю себе вопрос: что делать? На чью сторону мне встать? И прихожу к выводу, что было бы безумием вступить в заговор только для удовлетворения своего чувства ответственности… если оно у меня действительно есть. Надо спасать Бразилию, а не сеньора Орландо Гонзагу. Однако, как видишь, и это рассуждение ни к чему не приводит…
— Когда я приглашал тебя, у меня и в мыслях не было тебя обвинять, я хотел поговорить с тобой о моих делах, о моём решении присоединиться к Барриосу, пускай скоропалительном… Сейчас я отвечу на вопрос, который ты мне задал. По всей видимости, я уже убил своего отца.
— И что же ты чувствуешь?
— Пока… ничего. Словно я под наркозом, таким и нужно оставаться до конца революции…
— Когда ты намерен уехать?
— Как можно скорее. Через два-три дня, а может и раньше.
— И когда же ты будешь в Сьерре?
— У меня два варианта. Первый: лететь на самолёте «Панамерикэн» из Нью-Йорка в Пуэрто Эсмеральду и там пересесть на самолёт местного сообщения, который доставит меня в Соледад-дель-Мар.
Гонзага с унылым видом покачал головой.
— А если тебя арестуют в Пуэрто Эсмеральде? А если самолёты гражданской авиации сейчас не летают в Соледад-дель-Мар?
— У меня есть и второй вариант: лететь из Нью-Йорка на Ямайку, там нанять маленький самолёт, который сможет приземлиться на посадочной площадке в поместье отца…
— Этот план мне кажется более надёжным. А потом?
— Сахарные плантации семейства Ортега-и-Мурат простираются от окрестностей Соледад-дель-Мар до склонов Сьерры. Я уверен, что падре Каталино поможет мне найти Барриоса и его солдат.
— Как он помог Габриэлю Элиодоро найти Карреру двадцать пять лет назад?..
— Совершенно верно. — Пабло с улыбкой опустился на софу.
Но и этот вариант не удовлетворил Гонзагу полностью.
— А если твоё воздушное такси свалится в море?
— Это тоже будет решением вопроса.
Но разве он ищет наказания для себя, а не лучшей доли для своего народа? Нет, что-то не то он ответил…
После короткого молчания Гонзага спросил:
— Кто ещё знает о твоём решении?
— Только двое: ты и Билл Годкин.
— А Клэр? А японская куколка?
— Я прощусь с ними сегодня или завтра. Скажу, что улетаю в Европу. Или в Серро-Эрмосо. А сейчас я хочу поговорить с тобой о материях более практического характера: я назначаю тебя не только одним из своих наследников, но и душеприказчиком.
— Ты собрался умирать, дружище? Уверен, что ты доживёшь до того дня, когда Каррера и его бандиты будут уничтожены.
— Я тоже надеюсь на это и желаю этого всей душой. Но я должен помнить и о возможности другого исхода. Всё может случиться. — Широким жестом Пабло обвёл гостиную. — Возьми себе какие хочешь книги и пластинки, а остальное отдай Годкину. — Он указал на камин. — «Страсти господни по святому Наталисио» — твои. Можешь забрать их прямо сейчас.
— Я возьму их только на сохранение.
— Нет. Они твои. И не будем больше об этом говорить… Радиолу и несколько книг, которые я отложу, отдай мисс Хирота. Принадлежащую мне мебель, её совсем немного, я отдам Мерседите. Клэр завещаю свой автомобиль. Я оставлю список своего имущества, чтобы ты смог произвести раздел.
— Да перестань же!
Гонзага вдруг почувствовал волнение, и, чтобы скрыть это, стал насвистывать популярную песенку.
— Я уже подписал чеки, так что расплачусь со всеми долгами.
— Ты хочешь, чтобы я разревелся, садист несчастный?
Пабло встал, считая законченным обсуждение деловых вопросов.
— Забавно, — сказал он, — прощаясь с Грисом в тот вечер, когда он делал свой последний доклад, я пожаловался на головную боль… Знаешь, что он мне сказал? «Горный воздух излечит тебя от мигрени».
— И по-твоему…
— Да. Грис знал, что в горах Сьерра-де-ла-Калавера скоро появятся повстанцы. Более того, он не сомневался, что я окажусь среди них…
Включив радиолу, Пабло наугад взял с полки какую-то пластинку. Это оказался Бранденбургский концерт, который они молча прослушали.
— В Сьерре Баха ты не услышишь, — сказал потом Гонзага, — там ты будешь слушать взрывы гранат и треск пулемётов.
— Я начинаю подозревать, что ты тайный агент Карреры, которому поручено деморализовать меня…
— Какое там! Я попросту тебе завидую.
Пабло смерил друга взглядом.
— Жаль, что ты ниже и шире меня.
— Почему?
— Я мог бы оставить тебе свои костюмы.
— Знаешь что, пошёл ты… Однако тут же оборвав себя, Гонзага патетически, как на сцене, произнёс: — Юный герой, ты без труда найдёшь дорогу в Сьерру даже непроглядной ночью!
37
На следующее утро, сидя за своим столом в Амальгамэйтед Пресс, Билл Годкин просматривал последние сообщения, полученные из Сакраменто. Известие о победоносной высадке революционных войск в провинции Канавиалес подтвердилось. Оро Верде и Сан-Фернандо окончательно перешли в руки повстанцев, однако их движение на Соледад происходило очень медленно, и не только из-за плохих дорог и затруднённого снабжения — препятствовали тому также правительственные самолёты, которые на бреющем полёте обстреливали неприятельские колонны.
Штаб Мигеля Барриоса, возглавившего революцию, расположился в горах Сьерра-де-ла-Калавера. Соледад-дель-Мар, однако, продолжал оставаться в руках федеральных войск. Между тем захват города имел жизненно важное значение для повстанцев, поскольку пятый пехотный полк, усиленный теперь артиллерией, не давал им овладеть узкой полосой побережья, по которой можно было с наименьшими потерями проникнуть на север страны в обход горного хребта.
Годкин перечитал конфиденциальное письмо от корреспондента Амальпресс в Серро-Эрмосо, посланное дипломатической почтой, чтобы миновать полицейскую цензуру Сакраменто. Корреспондент жаловался, что становится всё труднее узнавать о ходе событий в стране, так как местное правительство запретило иностранным журналистам покидать столицу, подвергая каждое их сообщение строгой цензуре. Ходят слухи о волнениях в Пуэрто Эсмеральде и Парамо. В Серро-Эрмосо введено осадное положение. Жители города после восьми часов вечера на улицу не выходят. Всякие сборища категорически запрещены. Университет закрыт, кафе, клубы, театры и кино тоже. Вечером на пустынных улицах столицы можно увидеть лишь бездомных собак да военные патрули с оружием наготове. Продолжаются аресты «подозрительных лиц», люди шёпотом передают друг другу страшные истории, которые ни одна газета не осмеливается печатать, о массовых расстрелах и пытках над политическими заключёнными. Консервативные партии в панике, ходят слухи, будто некоторые члены конгресса, распущенного Каррерой, ищут возможности вступить в тайные переговоры с агентами Мигеля Барриоса. В конце письма говорилось: «Лишь неисправимый оптимист может рассчитывать на полное поражение Карреры в ближайшее время. Военно-воздушные силы сохраняют верность правительству, как и гарнизоны Серро-Эрмосо и Пуэрто Эсмеральды. И всё же один вопрос начинает серьёзно волновать диктатора и его генералов: это всё возрастающая нехватка оружия и боеприпасов, обострившаяся из-за эмбарго, наложенного Соединёнными Штатами на продажу вооружения правительственным войскам и мятежникам. Поэтому вполне можно предположить, что Освободитель отпразднует ближайшее рождество в изгнании или в аду, а не в правительственном дворце».
Подняв голову, Годкин откинулся назад и закурил, уставившись в окно. Раз правительство Соединённых Штатов не отменяет эмбарго на поставки оружия в Сакраменто, значит, государственный департамент не заинтересован в том, чтобы Хувентино Каррера и его шайка оставались у власти. С другой стороны, поскольку политическое лицо Мигеля Барриоса ещё неясно, было бы рискованно поощрять его стремление к власти. Идеальным для Соединённых Штатов явилось бы соглашение между мятежниками и сакраментской крупной буржуазией, заключённое над трупом генералиссимуса. Не исключено, что американский посол в Серро-Эрмосо уже действует в этом направлении при поддержке архиепископа-примаса и членов бывшего правительства Карреры.
Годкина вдруг охватило смутное беспокойство, какой-то безотчётный страх, как всегда, когда ему предстояло опасное или попросту неприятное дело… Он вспомнил: скоро придётся везти в аэропорт Пабло Ортегу, который вылетал в Нью-Йорк.
Бедный Пабло! Питая отвращение к любому насилию, он насиловал себя, ибо не мог больше терзаться чувством вины перед своим народом, для спасения которого от гнёта и нищеты он ничего не сделал.
Годкин выколотил трубку о край пепельницы. Да и разве есть на земле хоть один человек, никогда не знавший угрызений совести?
Снова набив трубку, Билл закурил и подумал, что сам виноват перед Рут. Ни он и никто другой не могли спасти её от неизлечимой болезни. И всё же он чувствовал себя предателем, пережив свою верную подругу.
В автомобиле Гонзаги, ехавшем к аэропорту по Конститьюшэн-авеню, их было трое. Сидя рядом с Гонзагой, Пабло смотрел в окно, но дух у него захватывало, словно он висел на трапеции под самым куполом цирка. Развалившись на заднем сиденье, Билл Годкин курил, силясь найти тему для разговора.
Накануне прошёл дождь, небо и воздух были чистыми. Под лучами утреннего солнца блестела ещё влажная, свежая зелень. Когда машина проезжала мимо здания Панамериканского союза, призрак Гленды Доремус на мгновенье встревожил душу Пабло.
Но вот показался памятник Линкольну, и Ортега, вспомнив посла, тотчас забыл о Гленде. Апрельское утро… На верхней ступеньке лестницы, ведущей в Белый дом, улыбается Эйзенхауэр, а Габриэль Элиодоро спешит к нему со сверкающими глазами и протянутой для рукопожатия рукой…
Машина пересекала Потомак, воды которого были сейчас мутно-розового цвета. Над купами деревьев выросли аспидные крыши иезуитского колледжа. Пабло вспомнил, как прошлой осенью в одном из этих зданий Грис с большим успехом читал лекцию о Гонгоре. Он прохаживался перед студентами, изучающими испанскую литературу, и с подлинно артистической непринуждённостью читал «Полифема».
…Птиц полуночных мерзкая орава Тоскливо каркала и тяжело летала, —прошептал Пабло.
— Что? — Гонзага повернулся к Пабло.
— Ничего. Я вспомнил одну поэму.
— А!
Бразилец принялся насвистывать самбу. Машина уже ехала по другому берегу реки. Увидев памятник — стая чаек на гребне волны, — воздвигнутый американским правительством в честь всех погибших на море, лаконичный и лёгкий, словно хайку, из позеленевшей бронзы, Ортега вспомнил Кимико. Накануне они, как обычно, встретились в чайном домике, и он сказал японке, что пришёл проститься. Она ответила с искренней грустью, что знала о неизбежности этого часа. А когда услышала, что Пабло возвращается на родину, тихо заметила: «Родина — очень ёмкое слово. Оно вмещает в себя города, поля, реки, долины… и горы». Тогда Пабло понял, что Кимико догадалась, куда он собрался, и не мог её обмануть. Они простились у дома, где жила Кимико. Пабло прижал её к груди и поцеловал в лоб. Но Кимико высвободилась из его объятий и, не оглядываясь, почти побежала к подъезду.
Не смог Пабло обмануть и Клэр Огилви. «Тебя я всегда насквозь видела. Well, значит, в Париж едешь? Позволь тебе не поверить. Ты едешь в Сьерру». На глаза Клэр навернулись слёзы. «Я хочу оставить тебе свою машину». — «Я должна смотреть за ней в твоё отсутствие?» — «Нет! Я дарю её тебе». Лицо секретарши выразило испуг. «Ты шутишь? Разве я могу принять такой подарок?» Пабло улыбнулся: «Дорогая Клэр, вы, американцы, превосходно умеете дарить, но нужно научиться и принимать подарки. Мне будет очень приятно, если моя машина останется у тебя. Поэтому прими мой подарок и не задавай больше никаких вопросов». Уже немолодая и энергичная женщина разревелась как девчонка.
После того, как Пабло предъявил свой билет и сдал багаж, друзья принялись бесцельно слоняться по залу аэропорта, покашливая и насвистывая, словно трио, исполняющее причудливую сонату. Ортега купил в киоске детективный роман, чтобы убить время в самолёте. Впрочем, это всегда просто. Труднее будет убивать людей. Даже самых заклятых врагов. Но думать об этом не стоит… Думать надо лишь об одном: скорей добраться до Сьерры. Он воздвигнет одну стену, чтобы отгородиться от прошлого, и другую, чтобы отгородиться от будущего. И на этом весьма ограниченном пространстве, которое может оказаться весьма обширным, будет неуклонно двигаться к поставленной цели.
Время от времени друзья украдкой поглядывали на большие часы аэропорта или на очередной самолёт.
Наконец Гонзага обратился к Пабло:
— Могу я задать тебе один щекотливый вопрос?
— Конечно, дружище!
— Не собираешься ли ты в горах отрастить бороду, как Фидель Кастро?
Ортега нервно рассмеялся и ответил, что ещё не задумывался над этим. Глаза Годкина, прищуренные от дыма, тоже смеялись. Наконец объявили об отправлении самолёта, на котором улетал Пабло. Друзья направились к выходу. Годкин долго жал руку Ортеге и прошептал, не вынимая трубки изо рта: «Береги себя, парень». Гонзага же молча обнял Пабло. И как только тот исчез из виду, они, не обменявшись ни словом, пошли к машине.
38
В конце сентября Биллу Годкину приснился странный сон. Он взбирался на высокую гору, охваченный радостью и в то же время страхом. И хотя знал, что наверху его ожидает смерть, упорно продолжал подъём. «Почему же я поднимаюсь?» — спрашивал он себя и отвечал: «Потому что должен. Потому что должен. Потому что должен». Он всё дальше удалялся от земли, от людей, но не испытывал ни сожаления, ни раскаяния. Вниз он не смотрел, чтобы не кружилась голова. Его тело стало лёгким, как и его движения. Горный воздух был морозным и чистым. Звёзды сияли у него над головой, и вдруг на камнях он увидел свой труп, который терзали стервятники. И тогда понял, зачем поднялся на гору: на вершине Пико-де-ла-Калавера он назначил свидание Рут. Как он мог забыть об этом? Ведь Рут и смерть едины.
Проснулся Билл на рассвете и, сев в кровати, попытался вспомнить сон, как никогда остро ощущая таинственную и волшебную силу жизни.
На следующий день он встал поздно и, пока брился, машинально повторял строку из Одена, которую особенно любил Пабло: «Я знаю старого дантиста, рисующего только горы».
За утренним кофе Годкина осенила мысль, которая уже в бюро Амальпресс оформилась окончательно, и Билл, словно внезапно помолодев, отправился к директору.
— Фред, у меня идея.
— Добрый день, Билл.
— Извини, добрый день. Я хочу напомнить тебе, что начал карьеру корреспондента, добившись интервью у нынешнего президента Хувентино Карреры, когда он в горах боролся против диктатуры Чаморро.
— Но это уже стало историей, дружище!
— Скоро я уйду на пенсию, и мне хотелось бы замкнуть круг своей журналистской деятельности, проинтервьюировав в тех же самых горах человека, который борется теперь против диктатора Карреры…
Кирпичное лицо шефа ничего не выражало.
— В твоём возрасте забираться в горы!..
— Положим, это не так трудно, как кажется. К тому же в Соледад-дель-Мар не перевелись ослы, падре Каталино служит в своём приходе, и, в конце концов, на небе есть бог. Да и я не так уж стар.
— Но как ты думаешь попасть на Сьерру? Я имею в виду бюрократические препоны.
— Мне поможет наше посольство в Серро-Эрмосо.
Фред с сомнением покачал головой.
— По-моему, госдепартамент не захочет вмешиваться в это дело. Положение очень сложное. Наш корреспондент в Сакраменто не может добиться от властей даже разрешения покинуть столицу.
— Это мне известно, и всё же я считаю, что попытаться стоит.
— А что ты собираешься писать?
Билл ответил не сразу.
— Ещё не знаю. Эта мысль пришла мне в голову сегодня утром и сразу же понравилась. — Он задумчиво покусывал мундштук трубки.
— Официально одобрить эту авантюру я не смогу, но и не сделаю ничего, чтобы помешать ей, это я тебе обещаю. Действуй на свой страх и риск. Но боюсь, что трудности начнутся уже здесь, в Вашингтоне. Дон Габриэль Элиодоро не даст тебе визы на въезд в Сакраменто.
Через несколько дней газеты сообщили, что войска Мигеля Барриоса спустились с гор и при поддержке повстанцев, подоспевших с юга, окружили Соледад-дель-Мар, гарнизон которого сдался после недолгого сопротивления. Теперь перед мятежниками открылась дорога на север. Сообщалось также об успешных высадках десанта на западном побережье с целью захватить Парамо, стратегически важный пункт на пути к столице.
Теперь Годкин каждый вечер слушал радиостанцию повстанцев. В числе прочих новостей он узнал, что штаб Мигеля Барриоса расположился в поместье Ортега-и-Мурат и что Пабло находится при Мигеле на должности секретаря. А однажды вечером был приятно удивлён, услышав голос друга, который читал коммюнике революционного командования. Теперь, решил Годкин, нетрудно будет получить интервью у Барриоса, и стал готовиться в дорогу.
Наступил тихий октябрь, пахнущий амброй и фиалками. Как-то вечером Кимико Хирота подошла к окну своего кабинета и стала глядеть в сад — белки бегали по траве и забирались на деревья, листья которых стали уже золотистыми и ржаво-красными.
Она вспомнила Пабло и сложила хайку.
Осень Медные листья, Жёлтая бабочка, Рыжая белка.Потом, печальная, вернулась к своему столу и принялась расшифровывать телеграмму, только что полученную из Токио.
Тоже стоя у окна своего кабинета, Габриэль Элиодоро Альварадо смотрел на сухие листья, которые ветер разносил по траве парка. Настроение у него было подавленное. В то утро он говорил по телефону с президентом Каррерой. Кум сказал, что положение очень серьёзное, хотя ещё не безнадёжное. Однако Габриэль иллюзий не питал… Он знал, что победа мятежников — вопрос времени.
Бросив завистливый и едва не обиженный взгляд на солидные трубы британского посольства, Габриэль вспомнил о своём поражении. Несмотря на все его усилия, Совет ОАГ не признал Кубу агрессором. Не удалось также убедить государственный департамент снять эмбарго на поставку оружия Сакраменто. Кроме того, его возмущало повальное бегство служащих канцелярии.
Повернувшись, Габриэль встретил взгляд дона Альфонсо Бустаманте, и, как всегда, ему захотелось плюнуть в эту глупую рожу.
— Скажите доктору Молине, чтобы он немедленно пришёл ко мне, — велел он мисс Огилви.
Через несколько минут министр-советник был в кабинете.
— Едва корабль начал тонуть, крысы удрали из трюма. — Габриэль испытующе взглянул на Молину. — Первым Угарте, уехавший в Швейцарию со своей женой. Даже не попрощался со мной, негодяй! Вы знали, что он замышляет?
— Даю вам слово, нет. Мы с генералом всегда были в строго официальных отношениях…
— Тому, что Титито удрал в Париж, удивляться не стоит, этот субъект — не мужчина.
Он посмотрел в глаза министру-советнику.
— А вы… Собираетесь уезжать?
— Куда?
— Откуда я знаю! Это ваше дело. — Габриэль повернулся к советнику спиной, словно ему надоело видеть перед собой Молину. — На прошлой неделе Мишель тоже покинул меня… Едва дождался месячного чека. У него не хватило мужества встретиться со мной, и он написал мне прощальное письмо по-французски!
После того, как Угарте бежал, а его помощники были отозваны в ряды действующей армии, канцелярия опустела, и от этого Габриэль чувствовал себя преданным и покинутым.
— Читали последние сообщения? — спросил он.
— Да, — ответил министр-советник. Наконец-то наступила долгожданная минута. Он должен запомнить каждое слово, каждый жест, каждое движение этого тщеславного и всемогущего человека, падение которого уже началось.
— И что вы думаете?
— Положение нашего правительства мне кажется безнадёжным.
— Я с вами согласен. И мне, чёрт возьми, нечего здесь делать. Но почему вы не садитесь, доктор Молина?
Габриэль Элиодоро сел и внезапно превратился в согбенного индейца с затуманенным грустью, остановившимся взглядом. Однако он тотчас же выпрямился, лицо его приняло прежнее энергичное выражение, глаза снова засверкали.
— Клэр! — крикнул он. И когда секретарша вошла, распорядился: — Закажите мне билет на самолёт. Только в один конец.
— Куда? — спросила Огилвита.
— Считаю ваш вопрос оскорбительным. Разумеется, в Серро-Эрмосо! Постарайтесь заказать на завтра.
Клэр вышла. А министр-советник остался сидеть, нахмурившись: этой сцены его версия не предусматривала.
— Доктор Молина, с этого момента вы являетесь поверенным в делах республики Сакраменто в Вашингтоне. Сообщите об этом госдепартаменту. Соврите, будто меня срочно вызвал президент, а заодно пошлите от моего имени этих гринго к чёрту!
Молина был поражён.
— Вы хорошо меня поняли?
— Отлично, господин посол… Но… могу я узнать, что вы собираетесь делать в Сакраменто?
Прежде чем ответить, Габриэль Элиодоро устало провёл рукой по лицу.
— Сейчас моя семья: жена, дочери, зятья и внуки — уже в полной безопасности в Сьюдад-Трухильо… Но я, я отправлюсь к куму, чтобы сражаться до конца и умереть рядом с ним, если понадобится.
Впервые Хорхе Молина взглянул на своего шефа почти с восхищением.
39
Биллу Годкину пришлось провести в Гаване три дня, ожидая места в самолёте, летящем на Соледад-дель-Мар. И пока самолёт снижался, пролетев сначала над посёлком, затем над отрогами хребта, он размышлял над скоротечностью времени, пытаясь узнать уже различимый пейзаж, а в самом себе обнаружить того двадцатипятилетнего мужчину, каким он был, когда посетил эти места в первый раз.
На бледно-голубом море, слегка отливающем лиловым, там и тут виднелись ярко-зелёные пятна. Волны мягко разбивались о светлые песчаные берега, и белые домики посёлка напоминали стадо баранов, неподвижно пасущихся на зелёных склонах холма.
«Я снова здесь, Рут, и я всё ещё не могу прочесть твоё послание. Так и остался неграмотным, дорогая». Он глядел на горы с нелепым и всё же волнующим чувством, будто жена ждёт его где-то там, на вершинах.
Пабло Ортега встретил его в аэропорту. На нём была полевая форма цвета хаки — блуза, брюки, сапоги с короткими голенищами, на голове берет.
Он бросился к другу, открыв объятия.
— Билл, старина! Рад тебя видеть! Как поживаешь? Надеюсь, в дороге не было никаких осложнений? Как Гонзага? Клэр? Сколько у тебя чемоданов? Где квитанции?
Билл долго рылся во всех карманах, пока нашёл нужные бумаги, и через десять минут после этого они мчались в джипе, которым правил негр с весёлой симпатичной физиономией. Билл курил, изредка поглядывая на друга: Пабло загорел, немного похудел, но лицо его, как и прежде, выражало плохо скрытую тревогу.
Автомобиль катился по узкой асфальтированной дороге среди зарослей сахарного тростника, колыхавшегося на ветру. Изредка в зелени мелькала белая вилла, и Пабло называл фамилию владельца. Иногда виднелся сахарный завод, и тогда в воздухе ощущался сладковатый запах патоки.
Ортега без умолку говорил по-испански, обращая внимание Билла то на цвет земли, то на редкой породы дерево, прихотливо изогнутый залив, либо на человека, мимо которого они проезжали. Однако при этом он оставался совершенно равнодушным. Билл слушал Пабло, чувствуя, как его захватывает сияющая красота необъятных просторов. Свежий морской ветерок смягчал палящую жару.
Вдруг Ортега замолчал. Годкин бросил на него взгляд и спросил по-английски:
— Что с тобой?
— Потом поговорим.
Наконец они приехали. Окаймлённая платанами дорога вела к дому, построенному два века назад в испанском колониальном стиле, с толстыми, почти крепостными, стенами, возведёнными вокруг патио. Серовато-белый фасад патриархального здания хранил следы времени и непогоды.
Два солдата, вооружённые автоматами, стояли у входа. Стучали пишущие машинки, из комнаты в комнату сновали мужчины и женщины в форме. У всех у них, как заметил Годкин, был деловой и сугубо военный вид.
Пабло провёл его к себе.
— Ванная здесь. Распакуй чемоданы, прими душ, если хочешь, потом пообедаем вместе, а в четыре часа встретишься с шефом.
Незадолго до назначенного часа Билла Годкина, взявшего с собой фотоаппарат и портативный магнитофон, ввели в просторную гостиную, обставленную тёмной, громоздкой мебелью, с множеством книг на грубо сколоченных полках, и большим средневековым камином. Принял его сам Валенсия. Пожав протянутую ему руку, Годкин бросил на заместителя Барриоса оценивающий взгляд. Роберто Валенсия казался немногим старше сорока. Это был человек среднего роста, атлетически сложенный. И всё же, решил Годкин, впечатление силы и властности создают не столько его широкая грудь и развитая мускулатура, сколько выражение его смуглого, тонкого лица с орлиным носом и волевым ртом. В его живых глазах, казалось, тлел огонь страсти, который никогда не вспыхивал. Билл почему-то пришёл к заключению, что Валенсия из басков. Хотя лицо этого человека не произвело на него неприятного впечатления, какая-то тревога закралась в сердце Билла.
— Мистер Годкин, — сказал начальник штаба, — генерал Барриос уделит вам ровно пятьдесят минут, и ни секунды больше! Я вижу, у вас магнитофон. Отлично! Значит, беседа будет записана на плёнку. Вы можете задавать любые вопросы. Шеф ответит, если найдёт нужным, и как найдёт нужным. Снимков же вы можете сделать не больше трёх. Впрочем, о подробностях мы договоримся позже.
Голос Роберто Валенсии немного походил на голос Гонзаги. Годкин кивнул в знак согласия, и Валенсия продолжал:
— По окончании интервью вы, конечно, приведёте в порядок свои записи. Вы должны показать нам их окончательную редакцию, а мы утвердим её или не утвердим. Плёнку сохраним в качестве вещественного доказательства, пока интервью не будет опубликовано. В конце беседы вы скажете в микрофон, что запись окончена. Таким образом мы установим тождество магнитофонной записи и вашего репортажа.
Годкин улыбнулся.
— Я вижу, вы мне не доверяете…
— Я никому не доверяю, — ответил Валенсия. — Иногда даже себе.
Ровно в четыре часа Мигель Барриос появился в гостиной. Присутствовавшие офицеры вытянулись, отдали честь и вышли. Увидев высокую, тощую, как у Дон-Кихота, фигуру Барриоса, его длинную чёрную бороду и нездоровый желтоватый цвет лица, Годкин спросил себя, почему большинство латиноамериканских политических деятелей походят либо на Боливара, либо на Христа.
Барриос протянул руку, Годкин пожал её, пробормотав обычные в этих случаях слова. Усевшись в кресло, вождь повстанцев сказал, отчётливо и значительно произнося каждый слог:
— Насколько я понимаю, у вас заготовлены вопросы…
Валенсия взглянул на американца, и тот поспешил ответить:
— Нет, генерал. Мне кажется, интервью удастся лучше, если будет носить непринуждённый характер. Но, разумеется, я заранее продумал, о чём буду вас спрашивать.
— А я — что вам отвечать. Тогда начнём.
Годкин приготовил магнитофон к записи.
— Говорит Уильям Билл Годкин, корреспондент Амальгамэйтед Пресс. Я в штаб-квартире революционных сил Сакраменто в Соледад-дель-Мар, где собираюсь взять интервью у генерала Мигеля Барриоса. Сейчас четыре часа десять минут, 18 октября 1959 года. — Билл поставил магнитофон на столик между собой и генералом. — Генерал Барриос, какова цель вашей революции?
— Я нахожу этот вопрос риторическим, господин журналист. Однако отвечу на него. Наша цель абсолютно ясна: свергнуть нынешнее правительство и создать народное правительство, способное обеспечить в республике Сакраменто социальную справедливость и прогресс.
— Намеревается ли революционное правительство последовать примеру Кубы?
— Мы считаем кубинцев своими друзьями и союзниками, но не хотим зависимости ни от Кубы, ни от любой другой страны. Мы стремимся к подлинному самоопределению нашей нации, которого Сакраменто до сих пор не знало.
— Значит, вы надеетесь восстановить у себя на родине демократию?
Барриос сложил как для молитвы свои длинные бледные пальцы.
— Восстановить — не то слово, мистер Годкин. Нельзя восстановить то, чего никогда не было.
— Хорошо, тогда скажем — установить…
— Да, мы хотим для Сакраменто демократии, о которой говорил Линкольн: демократии народа, для народа и установленной народом. Но я должен предупредить американскую печать и печать других стран, что нас не интересует лексическое и научное определение термина «демократия». Мы стремимся прежде всего к достижению экономической демократии, без которой не может существовать социальная и политическая демократия.
Крутилась лента. Валенсия курил, пуская дым с видом человека, который считает этот разговор пустой тратой времени. Сидя рядом с Годкиным, Пабло огрызком карандаша что-то набрасывал на листе бумаги.
— Какова будет позиция вашего правительства по отношению к американским компаниям? — спросил журналист.
Барриос кашлянул, и лицо Валенсии сразу стало непроницаемым. Пабло поднял голову.
— Придёт время, её узнают и сами компании и весь мир, — ответил генерал.
— Намерено ли революционное правительство немедленно провести аграрную реформу?
— Разумеется.
— Какую именно?
— И здесь нас не интересует научная терминология. Постараемся провести реформу, которая даст стране самые положительные и быстрые результаты. В общем, сделаем то, что сочтём лучшим для народа.
— Можете ли вы сказать, что вы понимаете под словом «народ»?
Выпрямившись, Барриос мельком посмотрел на Валенсию и только потом ответил:
— Считаю этот вопрос несерьёзным, поэтому не буду терять на него время.
Годкин не поборол искушения взглянуть на Пабло: лицо Ортеги оставалось бесстрастным.
— Надеется ли революционное правительство на немедленное его признание другими странами Американского континента? Как генерал объясняет исчезновение доктора Леонардо Гриса? Что он думает о Фиделе Кастро?
На эти вопросы Барриос ответил с педантичностью школьного учителя. Впрочем, на какое-то мгновение он замешкался, подбирая нужное слово, Пабло попытался ему помочь, но тут вмешался Валенсия:
— Генерал не нуждается в опекунах.
— И я тоже! — парировал Ортега.
Потом Годкин спросил, пойдёт ли революционное правительство на соглашение с буржуазией, чтобы избежать кровопролития, и будет ли положена в основу такого соглашения немедленная отставка Хувентино Карреры.
— Мой ответ будет простым: нет! Наша победа близка, и мы не пойдём на сделки с кем бы то ни было. Через несколько недель, а то и дней мы вступим в Серро-Эрмосо. Уже почти вся страна в наших руках!
— Собираетесь ли вы поддерживать добрососедские отношения с Соединёнными Штатами?
— Не только с Соединёнными Штатами, но и со всеми государствами западного и восточного полушарий.
— Не хотите ли через наше агентство передать что-нибудь народам Американского континента?
Барриос взглянул сначала на часы, потом на крутящуюся магнитофонную плёнку и, резко поднявшись, заявил:
— Сейчас не время для этого, господин журналист. Борьба ещё продолжается. Революционное правительство скажет своё слово, когда придёт время…
Немного нервничая, он позволил сфотографировать себя три раза (Валенсия отказался сниматься), а затем, сухо попрощавшись, вышел из гостиной.
— Когда вы рассчитываете подготовить запись этой беседы? — спросил Валенсия.
— К вечеру. Думаю отправить репортаж в Вашингтон с завтрашним самолётом. Однако сначала я хотел бы послать в Амальпресс телеграмму.
— Составьте телеграмму, мистер Годкин, а я позабочусь об её отправке. Я буду у себя в кабинете до позднего вечера.
40
Следующие два часа Билл Годкин стучал на машинке в своей комнате. Ровно в семь он передал Валенсии запись беседы вместе с магнитофонной лентой.
— Вам вернут эти бумаги сегодня же, до десяти часов, — заверил его начальник штаба.
Ортега предложил Годкину погулять по Соледад-дель-Мар, пока ещё светло, и пообедать в какой-нибудь таверне.
Они поехали на том же джипе, но за руль на этот раз сел Пабло. Годкин заметил, что он как будто расстроен, однако промолчал. Они вообще мало разговаривали по дороге в город.
Раскалённый солнечный диск медленно опускался за горный хребет, который становился лиловым. Кивнув в сторону океана, Пабло пробормотал:
— Знаменитый винный цвет гомеровых морей…
Они оставили машину близ центральной площади, расположенной на главном холме, и пошли не торопясь по улицам. Неподвижный воздух уже сковала ночная истома, терпко пахли нагретые солнцем камни и земля.
— Какое спокойствие! — воскликнул Годкин, разглядывая смуглых женщин, задумчиво сидевших у окон. — Время будто остановилось…
На крыльце дома старуха, одетая во всё чёрное, перебирала сморщенными пальцами деревянные чётки. Голый ребёнок играл сломанной куклой. Сапожник, сидя у двери на скамейке, стучал молотком. По улице ходили босые мужчины в холщовых штанах и рубахах, в соломенных шляпах на головах. Они смотрели на Пабло и Годкина с угрюмым любопытством и почтительно уступали дорогу на узком тротуаре.
Годкин нашёл, что площадь Богородицы нисколько не изменилась за прошедшие тридцать с лишним лет. Та же водоразборная колонка, к которой кумушки приходили за водой, а заодно и поболтать. Те же старинные фонари. Та же рыбацкая таверна — сосновые столы, стоящие прямо на тротуаре, и топорные стулья с соломенными сиденьями. Те же лотки с фруктами, над которыми роятся мухи и пчёлы. Та же старая церковь времён колонизации с фасадом, увитым пурпурными бугенвилиями.
— Жаль, что падре Каталино нет в городе, — сказал Пабло. — Его вызвал архиепископ в Серро-Эрмосо.
— Для очередного выговора?
— Нет. На этот раз его святейшество как будто собирается использовать сельского священника в качестве эмиссара, чтобы узнать, готов ли Барриос пойти на соглашение с буржуазией.
— А как поживает падре Сендер?
— Исцеляет свои язвы… и чужие тоже, главным образом духовные… В горах я вёл с ним весьма полезные для меня беседы. Странный он человек.
— Странный?
— Я не так выразился. Он человек… редкий. В его присутствии я особенно остро ощущаю свои недостатки…
Друзья уселись на скамью и стали наблюдать за происходящим на площади: мальчишки играли в мяч, кот заворожённо смотрел на клетку, где сидели два зелёных попугая; женщины, поставив на головы банки из-под керосина, полные воды, спускались по улицам, ведущим к бухте.
— Как твоя голова? — спросил Годкин.
— Больше не болит. Но… давай пройдёмся.
Они пошли по длинной улице, ведущей к морю. За ними увязался тощий шелудивый пёс. Какое-то время друзья шли молча.
— Ты слышал, что случилось с моим отцом?
— Нет.
— Он умер.
— Когда?
— Две недели назад. Я был тогда «наверху». — Пабло кивнул в сторону гор.
— Но… как ты узнал?
— Каждый вечер мы слушали радиостанцию Серро-Эрмосо, обычно они нас поливали грязью, но иногда сообщали полезные сведения. Вокруг смерти отца поднялся шум. Радиостанция уверяла, будто он умер от горя, ибо я «связался с революционной сволочью». Они взяли интервью у матери, вынудив старуху подтвердить эту причину смерти. Мать назвала меня убийцей и заявила, что не желает меня больше видеть…
— Это и в самом деле был её голос?
— Без сомнения. И уж разумеется, радиостанция воспользовалась случаем лишний раз назвать меня изменником, человеком без родины и без чести…
— А как ты отреагировал на это?
Пабло пожал плечами.
— Лучше, чем можно было ожидать. Горы обладают какой-то волшебной силой. Наверно, сказывается разреженность воздуха… Там всё воспринимается по-другому, словно видишь мир в ином ракурсе… И люди кажутся иными. Но, разумеется, смерть отца меня огорчила.
— Надеюсь, ты не взял на себя вину, которую тебе хотят приписать? Ведь ты мне сам говорил, что у твоего отца сердце было не в порядке, ещё когда ты ходил в коротких штанишках. Теперь представь себе человека такого духовного склада, который был у дона Дионисио, вынужденного из страха перед коммунизмом поддерживать отвратительное ему, преступное и продажное правительство Карреры. По-моему, это противоречие грызло его изнутри и в конце концов убило. А сейчас они хотят сделать тебя козлом отпущения. Ты не должен идти на это.
Годкин заметил, что Пабло время от времени осторожно оглядывается, а когда они остановились перед витриной с дешёвыми пластмассовыми безделушками, Пабло пробормотал:
— Взгляни направо. Видишь типа в военной форме? Он следит за нами с той минуты, как мы вылезли из джипа.
— Но зачем?
— Думаю, его послал Валенсия, который хочет знать, куда мы пошли, что будем делать, а если можно, то и о чём будем говорить.
— Ты хочешь сказать, что он тебе не доверяет?
— Да. О себе я расскажу тебе после. А сейчас давай подловим шпика.
Они завернули за угол, и Пабло, схватив друга за руку, заставил прижаться, как и он сам, к стене. Годкина это забавляло. Послышались шаги, и они увидели следившего за ними человека — низкорослого индейца. Наткнувшись на Пабло, он от удивления замер, перестав даже дышать.
— Почему ты ходишь за нами? — крикнул Ортега, приближаясь к солдату, словно хотел его ударить. — Кто тебе поручил слежку?
Тот вытянулся и пробормотал:
— Но… господин капитан, я просто прогуливаюсь…
У Пабло затрепетали ноздри, он мерил солдата гневным взглядом.
— Передай тому, кто тебя послал, что он зря теряет время. А сейчас прочь с моих глаз!
Солдат растерянно отдал честь и торопливо зашагал по улице. Годкин улыбнулся, и Пабло, продолжавший какое-то время оставаться серьёзным, вдруг рассмеялся, посмотрев в глаза товарищу.
— Послушай, Билл, ты ни в коем случае не должен упоминать об этой сцене в своих статьях. Я ещё многое тебе расскажу, но при одном условии: ты дашь мне слово, что разговор наш будет сугубо конфиденциальным, не подлежащим опубликованию.
— Ладно, даю.
— Тогда пойдём съедим чего-нибудь. Я знаю в конце этой улицы одну таверну, где превосходно готовят рыбу. Обстановка там убогая, но нам полезно отдохнуть после однообразия североамериканских кафетериев и закусочных с их сутолокой, пластмассой, хромированным металлом и дневным освещением. Да, кстати, об освещении, у нас экономят электроэнергию, поэтому придётся обедать при свечах.
— Вот и превосходно!
В бледном небе над вершиной Пико-де-ла-Калавера мерцала вечерняя звезда. Где-то недалеко поднимался голубой дымок, в воздухе пахло патокой.
— Этот запах напоминает мне детство, луга Канзаса… — сказал Годкин, — родной дом, мать, жарящую пирожки, отца, сидящего на веранде с газетой.
— А мне он напоминает Пию и наши свидания в садах Эдема.
Название таверны — «Печальная сирена» — крупными зелёными буквами было написано на побелённой известью стене. Друзья заняли столик в углу маленького зала, у окна, выходящего в бухту. Годкин огляделся: стены и пол были покрыты циновками. На потолочных балках висели сети и пустые винные бутылки. На кухонной двери маслом была изображена толстая сирена с золотой чешуёй и розовой грудью, с закрытыми глазами возлежащая на пустынном берегу, — творение местного художника-примитивиста, как объяснил Пабло.
В зале никого, кроме них, не было. Толстый седой и смуглый мужчина с усами, как у турка, подошёл спросить, чего желают господа. Узнав Пабло, он пожал ему руку и шумно выразил радость, что видит его здесь.
— Это мой старый друг Макарио, хозяин таверны. Макарио, дай руку мистеру Годкину. Он гринго и журналист. Сегодня интервьюировал генерала.
— Что будете есть? — спросил хозяин таверны.
— Мы полагаемся на тебя, — сказал Пабло. — Принеси нам для начала своих креветок, а потом хорошей рыбы и, разумеется, вина, хлеба и сыра.
Годкин глядел на причалы, у которых стояли рыбацкие лодки. Море сейчас напоминало вино.
Пабло указал на белый дом в конце улицы, стоящий недалеко от берега.
— Здесь жил мастер Наталисио.
— Жил? — удивился Годкин.
— Да. Он погиб на прошлой неделе во время решающей атаки на город.
— Как?
— Шальная пуля. Он сидел у своего крыльца и работал, не обращая внимания на стрельбу.
— А где его сыновья?
— С нами. Они хорошие солдаты.
Годкин продолжал смотреть на бухту.
— Мне не терпится услышать твою историю, — сказал он после короткого молчания.
В таверну вошли двое и уселись за стол возле двери. Судя по всему, это были рыбаки.
— Пообещай мне ещё раз, что никому не расскажешь о том, что сейчас услышишь.
— Обещаю.
— Хорошо. Как ты знаешь, я почти без затруднений добрался до расположения войск Барриоса. Вечером я приземлился на посадочной площадке нашей плантации и той же ночью с проводником-пеоном, пройдя через заросли сахарного тростника, поднялся в горы с оружием и боеприпасами, которые сумел добыть.
— А как тебя принял Барриос?
— Сначала с некоторым недоверием. Но у него не было другого выхода. Он сделал меня секретарём бригады в звании капитана, и в этом, надо признать, есть что-то смешное. Капитан Ортега!
— Звучит неплохо.
— Но ни с чем не сообразно.
— Почему? Впрочем, продолжай.
Они решили, что благоразумнее будет говорить по-английски. Зал понемногу наполнялся, среди посетителей были и военные. Кто-то громко потребовал света, и хозяин зажёг на каждом столе свечу, вставленную в горлышко бутылки.
— С вершины Сьерры, — продолжал Пабло, — революционные штурмовые отряды нападали на окраины города и федеральные патрули. Происходило это обычно по ночам, и я оставался с шефом. В мои обязанности входило не только составлять приказы, но и вести своего рода дневник. Как ты можешь себе представить, эта удобная должность писаря не очень пришлась мне по душе. Я был в полной безопасности, пока мои товарищи рисковали жизнью и даже погибали…
— В конце концов, — прервал его Годкин, — ты приехал сюда не затем, чтобы умереть. Или я ошибаюсь?
— Нет, разумеется.
— Что же произошло между тобой и Валенсией?
— Поскольку я интеллигент, сын помещика и к тому же дипломат, он с первого же дня отнёсся ко мне с подозрением и недоброжелательством, которое я ощущал ежеминутно.
Стало совсем темно. Звёзды сияли над городом, над горами и морем.
— А что за человек Барриос?
— Вне всякого сомнения, он одарён. Мне известно одно доказательство его преданности делу революции, его мужества и стойкости. И знаешь, что меня в нём особенно поражает? Даже произнося речи, полные пророческой страсти, или принимая важные решения по военным вопросам, он помнит о правилах риторики и грамматики. — Пабло сжал руку друга. — Повторяю, Билл, мой рассказ сугубо конфиденциален.
Годкин кивнул.
— А Валенсия?
— Он идеолог, мозг революции. Превосходно знает, как вести партизанскую войну. Умелый и хладнокровный организатор. Знает, чего хочет, и добивается цели… не считаясь со средствами.
— Как он относится к генералу?
— Барриос для него флаг корабля, но у руля-то стоит он, Валенсия, использующий этот флаг для своих целей.
— А каковы они? — спросил Годкин, повинуясь профессиональной привычке, хотя заранее знал ответ.
— Во-первых, свергнуть правительство, а потом увести революцию влево.
— И ты думаешь, Барриос пойдёт в этом направлении?
Пабло пожал плечами.
— В конце концов он окажется между двух огней. С одной стороны, дьявольская изворотливость Роберто Валенсии, а с другой — всем известная неуклюжесть госдепартамента. К тому же Барриос уважает Валенсию и восхищается им, прислушивается к его советам. Валенсия же, подобно скульптору, лепит идеальный образ спасителя народа, мессии. Он внушает это Барриосу, и тот изо всех сил старается не подвести своего создателя. Уже в горах Барриос стал меняться, менялись его слова, поступки, взгляды.
Хозяин принёс дымящееся блюдо креветок, плавающих в жирном оранжевом соусе, большую бутыль вина и тарелку с ломтями козьего сыра и домашнего хлеба. Друзья принялись за еду.
— Валенсия пока нуждается в Барриосе, — продолжал Ортега. — Ведь крестьяне его обожают. За несколько месяцев революции вокруг фигуры генерала родились легенды. Среди простых людей ходят истории о чудесах, сотворённых Барриосом: например, будто бы достаточно прикосновения его пальцев — и больной исцелён, ещё рассказывают, что Барриоса одновременно видели в трёх местах, весьма удалённых одно от другого: в горах Сьерры, в Оро Верде и в Парамо. И всё это благодаря его чёрной бороде, придающей ему сходство с Хуаном Бальсой, которого народ считает святым.
Годкин смотрел на носовой фонарь лодки, входившей в бухту.
— Когда ты и Валенсия начали не ладить друг с другом?
— Как я тебе уже говорил, едва я появился в бригаде, он проникся ко мне недоверием. А в один прекрасный день часовые задержали крестьянина совсем близко от нашего лагеря. Будто бы это был солдат пятого пехотного полка, который пришёл с заданием убить Барриоса. Впрочем, это так и не удалось установить.
— Он был вооружён?
— У него был мачете, но у какого крестьянина его нет? Валенсия решил расстрелять его без суда. Я протестовал, Валенсия назвал меня «сентиментальным мещанином» и заявил в присутствии других офицеров, что такие люди, как я, не готовы к революции ни физически, ни морально.
Макарио принёс глиняный горшок с рыбой, пахнувшей чесноком и майораном.
— А потом? — спросил Годкин.
— Я настаивал на суде. К моему удивлению, Барриос меня поддержал. Я взял на себя защиту подсудимого. Мой аргумент был простым. Какие у нас основания не верить этому человеку, если он говорит, что хочет присоединиться к революционерам? Но Валенсия возразил: «Почему он решил это сделать ночью, незаметно подобравшись к часовым?» Короче говоря, суд в составе семи офицеров признал его действия подозрительными. Если бы мы его отпустили, он мог бы сообщить федеральным войскам сведения о нашем расположении. Если же мы оставили бы его у себя, он, вполне возможно, убил бы кого-нибудь из наших офицеров, а то и самого Барриоса.
— И его приговорили к смерти?
— Что такое жизнь? Мы не могли позволить себе роскошь истратить пулю на этого индейца, и один из солдат всадил ему в горло нож. Ну ладно, давай браться за рыбу!
Наполнив свои тарелки, друзья с аппетитом принялись за еду, молча чокаясь время от времени.
— С тех пор, — немного погодя заговорил Ортега, — мои отношения с Валенсией окончательно испортились. Мы с ним говорим лишь в самых необходимых случаях. Однажды я услышал, как он назвал меня в разговоре с кем-то «нашим поэтом-бухгалтером». Я едва не выплеснул ему в лицо кофе, который в это время пил, настолько меня задели его слова… Вскоре я попросил Барриоса разрешить мне участвовать в деле.
— Ну?..
— Я вызвался возглавить ночную вылазку в Соледад-дель-Мар. Это была особенно дерзкая операция. Нас было всего два десятка; восемь человек, отлично владеющих мачете, шли впереди, чтобы бесшумно снимать часовых и прокладывать путь для остальных, которые под моим командованием должны были подобраться к западной стене казармы пятого пехотного полка, обстрелять окна и бросить внутрь здания как можно больше ручных гранат. Окон было двенадцать, и нас тоже. Мне досталось последнее, или первое, если считать с севера.
Годкин слушал, замерев с вилкой в руке. Пабло катал шарик из хлебного мякиша, на минуту вспомнив Панчо Виванко.
— Лунной ночью мы спустились в долину… Вёл нас один из сыновей мастера Наталисио. Итак, Пабло Ортега, кандидат в герои, возглавил вылазку против пятого пехотного полка… Те, что шли впереди, хорошо справились со своей задачей, и мы приблизились к казарме, никем не замеченные. Мы уже различали шум голосов и смех внутри… Несколько секунд мы лежали у стены, и сын Наталисио шепнул мне: «Слышишь?» Я спросил: «Что?» — «Река бежит под землёй». Я приложил ухо к земле, но услышал лишь биение собственного сердца. Вот рту у меня было сухо, грудь сдавило, в горле стоял комок. Но голова была светлой, как никогда. Я должен был выполнить это задание во что бы то ни стало, и вдруг я понял, что воюю не против правительственных войск, но против Роберто Валенсии. Поэтому я и вызвался командовать ночной вылазкой!
В зале раздался чей-то оглушительный хохот. Макарио принёс ещё один горшок с рыбой. На берегу кто-то играл на гитаре.
— Я отдал команду действовать, — продолжал Пабло. — Каждый, пригнувшись, подбежал к своему окну. Было условлено, что я стреляю первым. Автоматной очередью я разбил стекло своего окна. И сейчас же выстрелили другие… Я сорвал с гранаты предохранитель и бросил её, упав на землю. Раздался взрыв, за ним ещё и ещё… Я бросил вторую и третью гранаты. Потом свистнул — это был сигнал к отходу.
— Невероятно!
— Меня не удивляет, что тебе это кажется невероятным, даже мне теперь всё это представляется сном или выдумкой.
— А что было в казарме?
— Мы были уже в горах и достигли своих постов, когда услышали сигналы тревоги и треск автоматов. Потерь у нас не было, и на рассвете мы вступили в лагерь.
— И что же Валенсия?
— Да ничего. Даже не взглянул на меня. С его точки зрения, я просто выполнил свой долг. И тут он был прав.
— А ты… Что было с тобой после этого?
— Я не мог заснуть. Я думал: сколько людей было в помещении, куда я бросал гранаты? И скольких я убил? Меня удивляло, что при этом я остаюсь сравнительно спокойным. Я уже говорил, что в горах всё воспринимается иначе… Только после захвата Соледад-дель-Мар я узнал, что в ту ночь наш штурмовой отряд уничтожил по крайней мере двадцать солдат, ранив, по-видимому, около сорока. С тех пор я много думаю, и мне никак не удаётся объяснить мой поступок… ну, то, что я бросал гранаты в безоружных, застигнутых врасплох людей… моими революционными взглядами. Я добровольно вызвался выполнить это задание, потому что хотел доказать себе, другим и главным образом Валенсии, что я не трус. И за это люди поплатились жизнью. Но больше всего меня пугает, что я не думаю об этих солдатах, как о людях, они для меня некая абстракция…
— А они защищали другие абстракции: закон, правительство, честь полка и тому подобное…
— Вот именно! Но разве это не ужасно?
— C» est la guerre, как сказал бы наш незабвенный Мишель Мишель.
— Моя мать была потрясена, узнав, что я потерял невинность в зарослях сахарного тростника. На самом же деле мы теряем невинность не в объятиях женщины, а впервые убивая…
Какой-то солдат запел. Другой, с дружеской улыбкой глядя на Пабло, поднял стакан. Ортега ответил ему тем же.
— Что же теперь? — спросил Годкин.
— Скоро мы победим. Это вопрос недель или даже дней. Признаюсь, победы я боюсь больше, нежели борьбы. Нам придётся платить за перемены, которых добивается Валенсия. А стоят ли они того? И разве нет иного пути для достижения социальной справедливости?
Он взглянул в окно: моторный катер с красным фонарём на носу входил в бухту.
— Когда мы обосновались в нашем… я хочу сказать, в поместье Ортега-и-Мурат, мы с Валенсией поспорили в присутствии Барриоса. Валенсия обвинил меня в интеллигентской нерешительности и мягкотелости; по его словам, чувство вины, скорее мнимой, чем действительной, не позволяет мне занять решительную позицию. Он так и спросил: «Чего ты хочешь: освободить народ от тирании и нищеты, или только успокоить свою совесть?» Я был разъярён, потому что этот дьявол коснулся моей кровоточащей раны. Он старался убедить меня, что умеренность ни к чему хорошему не приводит, ибо история доказала, что только насилием можно добиться великих социальных перемен. Я возразил ему, что если идеология забудет о морали, она перестанет быть гуманной и в конце концов то, что было средством, превратится в самоцель. Мы зашли бы ещё дальше, если бы Барриос не прервал наш спор одной из своих безукоризненно построенных фраз.
— И что же ты думаешь делать?
— Продолжать и дойти до конца. Не уподобляться тем интеллигентам, которые в подобных случаях, обидевшись, пополняют ряды контрреволюционеров. Пускай я буду занозой, не дающей покоя Роберто Валенсии, но революции не изменю.
Годкин с сомнением покачал головой.
— Боюсь, что рано или поздно тебя раздавят. Я уже вижу, как ты эмигрируешь в Майами. Либо…
— Буду арестован или расстрелян?
— Кто знает?
41
Из записной книжки Уильяма Б. Годкина:
22 октября. Теперь я «персона грата» для верховного революционного командования. Валенсия утвердил текст моего интервью, не вымарав ни единой запятой. Амальпресс, к моему удивлению, опубликовало его также без сокращений. Получил номер «Вашингтон Пост», в котором мой материал с портретом генерала занял три колонки. Я представил Барриоса в весьма благоприятном свете и обратился к странам Американского континента с призывом оказать моральную поддержку повстанцам. В общем, своего рода покаяние в прошлых грехах, когда я в меру своих сил способствовал Хувентино Каррере захватить власть.
Профессор Леонардо Грис был прав, когда говорил, что каяться — любимое занятие так называемых совестливых людей.
23 октября. Хорошие новости! Гарнизон Пуэрто Эсмеральды примкнул к повстанцам и по приказу революционного командования выступил на Лос-Платанос, падение которого неминуемо.
Мы готовимся (употребляю множественное число) к решительному наступлению на Серро-Эрмосо, «чтобы поразить чудовище в голову» — как выразился Барриос.
Сегодня утром мне случайно удалось на пять минут овладеть вниманием Валенсии. Я задал ему несколько осторожных вопросов, касающихся идеологии. Этот человек скользкий, как угорь. Он отвечал уклончиво и кончил так: «Сейчас не время обсуждать эти проблемы. Борьба ещё не закончена, и о революции в собственном смысле слова можно будет говорить только после победы».
Пабло Ортега почти всё время работает над окончательной редакцией коммюнике и манифестов, которые ему диктует Барриос. Они горячо спорят насчёт грамматики и стиля. К своему секретарю генерал относится как профессор к способному, но упрямому студенту. Иногда он снисходительно идёт на небольшие уступки, но обычно требует строгого воспроизведения каждого своего слова, каждой запятой. Валенсия в этих дискуссиях участия не принимает, однако ни один документ не выпускается без его утверждения.
24 октября. Для перевозки революционных отрядов, сосредоточившихся в Соледад-дель-Мар, в городе и в окрестных поместьях были реквизированы все легковые и грузовые автомобили. Сегодня начался поход на Серро-Эрмосо. В соответствии с планом, разработанном в штабе Барриоса, мятежные войска почти из всех районов столицы устремились к столице.
В пять часов утра выступили дозорные, затем авангард. Получив разрешение сопровождать войска, находясь неподалёку от Барриоса, я устроился со своим скудным багажом в джипе, где Пабло возит штабные бумаги, пишущую машинку и архив. Шофёр — всё тот же симпатичный здоровяк негр, который доставил нас из аэропорта.
Сияло солнце, и я чувствовал себя помолодевшим лет на двадцать. Глядя в небо, я шутливо предположил, что над его окраской потрудились ангелы фра Анджелико. На это Пабло лишь безразлично посмотрел вверх и неопределённо пожал плечами. Он показался мне озабоченным. Очевидно, ему не давали покоя мысли о близкой победе.
Мигель Барриос настоял, чтобы перед выступлением на главное шоссе войска торжественным маршем прошли по улицам Соледад-дель-Мар. Он ехал, стоя в машине и величественно благодарил народ, а мужчины, женщины, дети из окон, дверей и с тротуаров махали ему платками и флажками. Весьма своеобразная сцена: забитые метисы и индейцы не издают ни единого звука, всё происходит словно под водой. Слышится только шуршание шин по булыжникам. Я сделал несколько снимков на цветную плёнку и уверен, что они получатся чёткими, поскольку освещение было превосходным. Хочу написать несколько иллюстрированных репортажей об этом походе и предложить их в «Лайф» или «Лук».
К вечеру колонна сделала привал в посёлке, носящем название Убежище ангелов. Офицеры расположились в единственной местной гостинице. В свете бивачных костров то и дело мелькали непроницаемые лица индейцев.
Мы с Пабло заняли одну комнату. Ночь стояла лунная. Мягкий северо-восточный бриз доносил до нас благоухание трав. В опасной близости от наших ушей москиты пиликали на своих скрипках.
Подозвав меня к окну, Ортега показал на две фигуры, которые расхаживали по гостиничному саду. Я узнал Барриоса и Валенсию, последний говорил не умолкая, а Барриос только слушал. Пабло прошептал: «Комиссар лепит своего героя».
25 октября. Мы выступили до рассвета. В деревнях, посёлках и городах Барриоса встречали с большим воодушевлением. У жителей этих мест, как мне показалось, больше испанской крови, поэтому наш немой фильм вдруг стал звуковым. Гремели приветственные крики. Мужчины и женщины подходили поцеловать Барриосу руку или просто коснуться его одежды. Я сделал много интересных фотографий, которые зафиксировали выражение самых различных чувств: радости, мистического экстаза, гордости, надежды, а у некоторых женщин своего рода священного сладострастия.
Беру коротенькие интервью у людей из народа. Одна старуха утверждала, что Барриос — Иисус Христос; восьмидесятилетний старик был уверен, что генерал — новое воплощение Хуана Бальсы, на стороне которого он воевал в 1914–1915 годах. Матери подносят своих детей под благословение вождя революции.
Мигель Барриос ни разу не улыбнулся, кажется, он совсем вошёл в роль пророка. Бесспорно, внешность у него впечатляющая: он высокий, стройный, с длинными волосами и бородой, которые развеваются на ветру, глаза постоянно устремлены куда-то вдаль, к каким-то не ведомым никому горизонтам.
Колонна повстанцев постепенно обрастает: не только молодые парни, но и мужчины среднего возраста, и даже старики присоединяются к войскам. Они требуют оружия и обижаются, когда им отказывают. Я проинтервьюировал крестьянина, который выразил непоколебимую уверенность в том, что жизнь теперь станет лучше, потому что Барриос даст крестьянам не только землю, но плуги и семена, и все будут сыты. Мулат с горделивой осанкой, рабочий сахарного завода, также не сомневался, что, когда революция победит, плантации и сахарные заводы будут отданы трудящимся.
Мы не встречаем ни малейшего сопротивления со стороны врага. Федеральные войска сдаются без боя. Мосты и железные дороги нетронуты. Правительственные самолёты в небе больше не появляются.
Оставив позади сырые и тёплые районы с сахарными, банановыми и кокосовыми плантациями, мы поднялись в умеренную зону плоскогорья, на котором расположена столица. Высота здесь в среднем около восьмисот метров над уровнем моря, дни тёплые, а ночи прохладные, почти холодные.
Сегодня воскресенье. Барриос распорядился сделать привал в десять часов утра в посёлке Мансанарес, чтобы присутствовать на мессе в маленькой часовне. Его сопровождали два офицера. Валенсия остался возле часовни, он беспокойно расхаживал из стороны в сторону и с нетерпением посматривал на часы.
За Барриосом, Валенсией и Пабло я наблюдаю с особым вниманием. Первый как будто постоянно находится в мистическом трансе. Когда к вечеру мы прибыли в Санта-Мария-де-ла-Сьерра, иностранные корреспонденты окружили его, чтобы сфотографировать и получить интервью. Валенсия в таких случаях всегда исчезает. Его можно принять за тень Барриоса, но тень эта гораздо более значительна, нежели личность, которая её отбрасывает. Это кальмар, который прячется, выпуская тёмную жидкость. И всё же Валенсия, без сомнения, подлинный творец этой революции, или, вернее сказать, её генеральный директор. Он никогда не покидает генерала. Вступает в разговор в самых необходимых случаях, но делает это очень скромно, ненавязчиво. Он устанавливает время интервью, просматривает фотографии генерала и осуществляет самую строгую цензуру всего, что пишется о революции и её вожаках.
Пабло Ортега чувствует себя всё более подавленным по мере нашего приближения к Серро-Эрмосо. Я спросил его сегодня, окажет ли столица сопротивление. Он ответил, что не думает. «Это будет прогулкой в правительственный дворец. Скоро мы получим сообщение, что в столице идут уличные бои и что несколько батальонов правительственных войск примкнули к нам». Я понимаю, что заботит Ортегу: в Серро-Эрмосо его мать, его дом, его друзья, его прошлое… И могила его отца.
26 октября. Мы всего в тридцати километрах от Серро-Эрмосо, с возвышенности уже видна столица, её дома, белеющие в зелени. В десять часов утра Барриос принял делегацию повстанцев в походной, грязной и пропотевшей одежде. Они пришли сообщить, что столица только что пала. В основном это люди из народа и студенты. Они рассказали, что сражение, длившееся двое суток, было ожесточённым, с обеих сторон имеется много убитых и раненых. Барриос слушал молча. И когда Валенсия спросил: «Где Каррера?», глава делегации ответил: «К несчастью, ему удалось добраться до аэропорта и на собственном самолёте улететь в Сьюдад-Трухильо». Барриос не сдержал раздражённого жеста, а Валенсия воскликнул: «Неужели никому из вас не пришло в голову, что прежде всего надо захватить аэропорт?» — «Мы пытались, но были отброшены с большими потерями». Валенсия продолжал спрашивать: «Вам известно, кто бежал с диктатором?» Повстанцы переглянулись, помолчали, и наконец один из них ответил: «Члены его семьи, и может быть, кое-кто из генералитета». Валенсия задумался. «Но как ему удалось бежать, если правительственный дворец был окружён?» — «Из дворца Каррера бежал на вертолёте. В аэропорту его прикрывал отряд правительственных войск, пока самолёт не поднялся в воздух. У нас же самолётов не было, и мы не могли преследовать беглецов».
Снова помолчав, Валенсия спросил: «Кто командовал обороной аэропорта? Полковник Сабала?» Студент покачал головой. «Дон Габриэль Элиодоро Альварадо. Он же возглавлял гарнизон столицы. Сабала давно сдался.» — «Габриэль Элиодоро убит?» — «Он был ранен в сражении за аэропорт и взят в плен нашими солдатами». Глаза Валенсии заблестели: «Позаботьтесь хорошенько о нём и о Сабале! Они не должны умереть, ибо нам не нужны мученики. Этих мошенников, как и других преступников, будет судить народный трибунал. Об их чудовищных преступлениях узнает весь мир, и они будут расстреляны как бандиты, а не как невинные жертвы!»
«Невероятно! — сказал мне Пабло, когда мы остались одни. — Я-то воображал, что Габриэль Элиодоро в Европе… Вот не думал, что он способен на такую верность! Чем её объяснить?» — «Я журналист и должен сообщать только факты. Моим шефам не очень-то нравится, когда я пытаюсь их анализировать…»
Мигель Барриос позвал Пабло, чтобы продиктовать ему первое воззвание главы народного революционного правительства к гражданам Сакраменто и всего мира. В течение двух часов они работали в доме, где разместился штаб колонны. Роберто Валенсия, как обычно, находился тут же и по ходу дела вставлял свои замечания: «Слишком возвышенно. Об этом пока рано говорить. Не стоит дразнить или успокаивать какую-либо страну или экономическую группировку. Пусть остаются в неведении… По-моему, воззвание не должно содержать более двухсот слов».
Сегодня вечером прибыли делегаты бригад Пуэрто Эсмеральды, Лос-Платанос и Парамо, принимавшие участие в штурме Серро-Эрмосо. Они собрались, чтобы обсудить обеспечение охраны порядка и подготовку вступления Барриоса и его войск в столицу, которое намечается на завтра.
Ночью Роберто Валенсия отправился в Серро-Эрмосо с членами студенческих делегаций, представителями населения и офицерами революционных отрядов.
27 октября. Перед рассветом Валенсия, не спавший всю ночь, явился за Барриосом, который тоже глаз не сомкнул.
Вступление повстанческих отрядов в Серро-Эрмосо было назначено на десять утра. Колонна медленно двинулась в половине восьмого. Снова сияло солнце! (Здесь травы зелёные и сочные, как на лугах Виргинии.) По обеим сторонам от шоссе стоят изящные белые виллы, многие из них увиты бугенвилией, которая переливается всеми оттенками красного. Жители посёлков, соседних с Серро-Эрмосо, устлали путь нового Освободителя листьями, цветами и ветками деревьев. Маленький любительский оркестр, несыгранный, но полный трогательного энтузиазма, исполнял марши на площади, где собралась толпа, взволнованно размахивающая яркими платками, букетами и флажками. Из своего джипа Барриос машет собравшимся. Шипят и рвутся в небе фейерверки. Кто-то пытается произнести речь, но отказывается от этого, заглушённый приветственными криками и взрывами фейерверка…
У городских ворот кортеж остановился. Около фонтана в колониальном стиле нас ждал чёрный лимузин. Из него вышел священник, который приблизился к джипу Барриоса и, склонившись, что-то ему сказал. Барриос обменялся взглядом и несколькими словами с Валенсией, затем кивнул священнику, и тот возвратился к лимузину. Тогда дверца машины открылась, и из неё вышел дон Панфило Аранго-и-Арагон. Поистине историческая сцена, которая так и просится в репортаж! Барриос тоже вышел из джипа, но не сделал шага навстречу церковному владыке, сияющему своим непорочным одеянием и улыбкой. Толпа замолкла. В руках дон Панфило нёс подушку с ключом от города. Я встал поближе, чтобы не упустить ни одной подробности великого момента и сделать несколько снимков на цветной плёнке. Вот они в пяти шагах друг от друга. Архиепископ протягивает руку для поцелуя, но Барриос лишь пожимает кончики его пальцев.
Вскоре образуется круг, в центре которого два героя происходящей сцены.
В свои семьдесят лет архиепископ-примас — ещё красивый мужчина, с прямой осанкой, свежим, благородным и очень располагающим лицом. Улыбка, с которой он вышел из машины, понемногу гаснет, когда он натыкается на ледяные взгляды Барриоса и его офицеров.
Вручая Барриосу золотой ключ, прелат сказал:
— Имею честь приветствовать вас, генерал, и вручить вам символический ключ от нашей любимой столицы.
— Вы должны согласиться, выше преосвященство, что немного опоздали, — сухо ответил Барриос. — Теперь он нам не нужен, мы взломали ворота Серро-Эрмосо, жертвуя своими жизнями.
На какое-то время дон Панфило опешил. Затем откашлялся, огляделся по сторонам, и, снова приняв высокомерный вид, проговорил:
— Надеюсь, вы по крайней мере оценили мою вежливость.
— Мы пришли сюда не за вежливостью, а за лучшей долей для народа.
Губы архиепископа дрогнули, и голос его прозвучал глухо:
— Пусть так! Но во имя христианского милосердия прошу вас не допустить в нашем бедном городе кровопролития, злодеяний, насилий и смерти, даже если этого требуют самые высокие принципы.
— Господин архиепископ, — Барриос улыбнулся, — уже много лет в нашей стране мужчины, женщины и даже дети терпят притеснения и несправедливость, умирают от голода, болезней или под пытками, однако всё это не очень тревожило христианские чувства вашего преподобия…
Архиепископ побледнел, но Барриос тут же добавил:
— Одно я вам могу обещать: правосудие!
— Помните, генерал, непогрешимый суд господний выше непогрешимого правосудия людей. Он может опоздать, но никогда не ошибается.
— Однако этот непогрешимый суд пока не свершился, поэтому, господин архиепископ, приходится довольствоваться несовершенным людским правосудием. Будьте здоровы!
Их взгляды скрестились. Дон Панфило слегка поклонился и, повернувшись, увидел Ортегу. Он узнал его, и между ними состоялся недолгий разговор вполголоса, о содержании которого я узнал на следующий день от Пабло.
— Я соборовал дона Дионисио, — сказал архиепископ. — Последнее слово, которое произнёс твой отец, было твоё имя, Пабло. Своим поступком ты смертельно ранил его.
— Вы мне рассказываете это, ваше преосвященство, — ответил Пабло, — чтобы вызвать во мне чувство вины? Вы полагаете, как и моя мать, что я убил отца?
Архиепископ, немного поколебавшись, всё же не удержался от напыщенной фразы:
— Любой, кто восстаёт против существующего духовного, социального и экономического порядка, сын мой, убивает собственного отца… И очень часто в самом прямом смысле. Да будет господь к тебе милосерд!
Очевидно, дон Панфило хотел отыграться на Пабло за унижение, которому его подверг Барриос. Но Пабло поклонился, иронически улыбнувшись.
— Я очень благодарен вашему преосвященству за слова, преисполненные самых высоких христианских чувств.
С поднятой головой прелат твёрдым шагом направился к своему чёрному лимузину.
42
На следующее утро в Вашингтоне, в канцелярии посольства, доктор Хорхе Молина узнал из газет о победоносном вступлении Мигеля Барриоса и его войск в Серро-Эрмосо. Репортаж был получен от Уильяма Б. Годкина, корреспондента агентства Амальпресс. Объективное сообщение без прикрас давало ясное представление о спектакле, разыгранном на улицах столицы: параде под гром оркестров и народном шествии… (Колокола всех церквей молчали.) Около пятидесяти тысяч человек, собравшихся на Оружейной площади, криками приветствовали Барриоса, появившегося на балконе президентского дворца. Годкин подчёркивал, что благодаря мерам, принятым Центральным революционным комитетом, в городе не было беспорядков, грабежей и насилий, никому не было позволено сводить личные счёты. Полиции удалось повсеместно обеспечить порядок.
Кроме членов кабинета Хувентино Карреры, были арестованы и ожидали суда несколько генералов, крупных чиновников, телохранителей президента и сотрудников его полиции. Очевидно, сообщал далее Билл Годкин, после бегства Хувентино Карреры двумя основными подсудимыми будут начальник полиции Педро Сабала, ненавистный народу своей жестокостью, и Габриэль Элиодоро Альварадо, который является наиболее ярким воплощением всех пороков своего кума — коррупции, произвола и обогащения за счёт народа. Корреспондент Амальгамэйтед Пресс полагал, что Центральный революционный комитет придаёт исключительно важное значение суду над этими людьми.
Встав, Молина нервно заходил по кабинету. В здании посольства царила тишина: Молина отослал домой всех машинисток и младших сотрудников.
Больше часа он рвал и жёг бумаги. Это был конец. Решение он уже принял: он не станет дожидаться нового посла.
Вызвав звонком Клэр Огилви, Молина заметил, что глаза секретарши красны, но ничего не сказал.
— Могу я курить, доктор?
— Садитесь и делайте что угодно.
Клэр затянулась, шумно вздохнув, словно между рыданиями.
— Мисс Огилви, вы, конечно, в курсе дела, — заговорил Молина. — Я хочу просить вас о последней услуге. Поскольку с сегодняшнего дня я считаю себя свободным от возложенных на меня обязанностей, пожалуйста, присмотрите за помещением и прислугой… Шофёром, садовником, поварами, уборщицей… И за этими молодыми людьми, которых я отослал сегодня домой… И за канцелярией, конечно.
Огилвита молча кивнула.
— Так или иначе, — продолжал Молина, — вы, сеньорита, теперь представляете республику Сакраменто, де-факто, во всяком случае. — В его словах не было юмора.
— А вы, сеньор… куда направляетесь? Я спрашиваю об этом только затем, чтобы перенаправлять вам корреспонденцию…
Молина скорчил безразличную гримасу.
— Переписка больше меня не интересует…
«Если только с богом, — подумал он, — но мне не удалось выяснить его почтовый адрес». Как объяснить американке, что на земле у него больше не будет адреса?
— Я потом напишу вам.
С каким-то болезненным сладострастием он подумал о смерти, к которой готовился всё утро, приводя в порядок наиболее важные дела. И всё же его пугала мысль, что он останется в кровати, пока его не найдут по запаху. Своё тело он привык уважать (очевидно, целомудрие Молины и объяснялось этим гипертрофированным чувством), поэтому его ужасал смрад, который будет от него исходить. Наверное, подумал Молина, я слишком хорошо помню, как воняло от отца ромом, когда он напивался. Ромом и потом, этот кислый запах маленький Хорхе ненавидел.
— И ещё, мисс Огилви, у меня к вам просьба, совсем особая. Зайдите завтра в полдень ко мне на квартиру. — Молина покраснел и умолк, испугавшись двусмысленности этого предложения. — Меня не будет, но я дам вам ключ… Вы возьмёте письма, которые найдёте на моём секретере, уже запечатанные, с марками, и опустите их в почтовый ящик. Да! Одно письмо будет вам… с инструкциями.
— Мне?
— Вам. Повторяю, вы должны прийти ровно в полдень. Возьмите ключ.
Мисс Огилви протянула руку, и Молина представил себе её испуг, когда она увидит его в кровати, бледного и неподвижного, как восковая кукла. И сразу всё поймёт.
— Хорошо, господин министр.
— Я больше не министр.
— Хорошо, сеньор Молина. Я выполню вашу просьбу. Можете на меня положиться. — Резким движением погасив сигарету, Клэр сказала: — Я прочла о господине после…
— Бывшем после.
— Доне Габриэле Элиодоро. Как вы думаете, его расстреляют?
— Скорее всего.
— Есть у вас известия от Пабло Ортеги?
— От него самого нет.
— Неужели он?..
Молина покачал головой.
— Не беспокойтесь. С ним не случилось ничего плохого. В репортаже, опубликованном сегодня, мистер Годкин пишет, что он стоял рядом с Ортегой, когда Барриос обращался к народу с балкона правительственного дворца.
Молина надел пальто, взял свой портфель и шляпу и оглядел кабинет, словно прощаясь.
— До свидания, мисс Огилви. Не знаю, как отблагодарить вас за всё, что вы сделали и сделаете для меня. Очень важно, чтобы вы пришли ко мне на квартиру ровно в полдень. Уверен, что вы не подведёте в эти решающие для меня дни, как не подводили никогда прежде.
Хорхе Молина протянул руку, и Клэр вздрогнула, коснувшись его ледяных, как у покойника, пальцев. Неужели бедняга заболел? И что он имел в виду, когда говорил о решающих для него днях? Но бывший министр-советник быстро отнял руку и направился к двери, а Клэр осталась стоять, слушая, как удаляются шаги этого странного человека, гулкие в пустом коридоре, как под сводами катакомбы.
Выйдя из канцелярии, Молина долго смотрел на парк и на резиденцию посла, но мысли его были далеко. В парке, прыгая по деревьям, резвились белки. Одна из них подбежала совсем близко к Молине, и тому неудержимо захотелось погладить зверька. Но он продолжал стоять, чувствуя в груди какую-то холодную пустоту. Снова вспомнился отец. «Бога нет! — кричал старик. — Если бы он был и на земле были справедливость и добро, твоя мать не умерла бы, родив тебя!» Прекрасное оправдание для пьяницы, не желающего бороться со своим горем. Да и для того, чтобы не мыться, не чистить зубов, по нескольку недель не менять белья…
На углу Массачусетс-авеню и 34-й улицы он остановил такси.
С полудня до трёх часов Хорхе Молина просидел в своём кабинете, подписывая счета за квартиру, освещение, газ, и оформляя последние взносы за Британскую энциклопедию. Потом он взялся за письма. Первое из них было адресовано похоронному бюро «Дженкинс энд Дженкинс», каталог которого Молина тщательно изучил. Он ставил бюро в известность, что предпочитает скромные похороны и поэтому выбирает вариант 3-А с кремацией. «Убедительно прошу, — писал он дальше, — не гримировать меня, что будет не только смешно, но и бесполезно. Панихиды не надо, так как у меня нет ни родственников, ни друзей. Тело кремируйте немедленно после окончания необходимых формальностей. Подательница сего, мой бывший секретарь мисс Клэр В. Огилви, позаботится о моём прахе. Прилагаю чек на покрытие всех расходов в соответствии с расценками, указанными в вашем каталоге. Примите заранее благодарность от искренне уважающего вас…»
Следующее письмо было адресовано мисс Огилви.
«Простите меня за потрясение, которое, возможно, вы испытаете. Войти в квартиру и найти там покойника, должно быть, не очень приятно. Но догадываясь, что особой привязанности ко мне вы никогда не питали, я надеюсь, что потрясение это не будет слишком сильным. И эта надежда немного смягчает моё чувство вины перед вами.
Не стану пытаться объяснять мотивы своего самоубийства. Это было бы слишком сложно и скучно, а главное, они показались бы вам неубедительными. Важно одно: только я отвечаю за этот поступок, отнюдь не продиктованный отчаянием. Я в трезвом уме и здравой памяти. Поэтому примите факт как свершившийся и не задавайте никаких вопросов ни себе, ни другим. И не браните меня слишком сильно за беспокойство, которое я вам причинил.
Прошу вас оказать мне любезность, приняв небольшой подарок — чек на тысячу долларов, который я к сему прилагаю, и послать письма, оставленные на этом столе, в том числе и адресованные полицейским властям Вашингтона.
Насчёт похорон я распорядился в письме, адресованном бюро «Дженкинс энд Дженкинс», которое я прошу передать адресатам лично. (Это письмо я разрешаю вам прочесть.) А теперь перейдём к моему праху. Я не вижу необходимости хоронить его или хранить где-нибудь. Он никому не нужен, поэтому найдите скромный и практичный способ освободиться от него. Советую, например, бросить его в Потомак, или же в первую попавшуюся мусорную яму, а может, и в ваше помойное ведро. Поверьте, предлагая это, я не испытываю ни малейшей горечи. Я уважал своё тело, пока оно было живым, но мёртвое оно меня нисколько не интересует.
Спасибо, мисс Огилви, ещё раз спасибо за всё. Я всегда питал к вам самое глубокое уважение и восхищение. Искренне ваш…»
Молина внимательно изучил свой банковский счёт: после снятия сумм по выписанным им чекам останется немногим более тридцати тысяч долларов… Эту сумму Молина оформил на имя падре Каталино Сендера, и запечатал в конверт вместе с чеком следующую записку: «Дорогой падре, возможно, вы не помните меня — мы виделись всего два-три раза. Посылаю вам деньги на благотворительные нужды». Молина хотел было поставить подпись, но замер с поднятой рукой и горькой улыбкой на бледных губах. Может быть, добавить: «Надеюсь, она не потребуется на поддержку революционного движения против правительства Мигеля Барриоса?» Нет, не стоит. «Молитесь за меня». И подпись.
Он встал. Всё готово. Поглядел на часы — начало четвёртого. Если он примет снотворное до четырёх, и мисс Огилви войдёт в его спальню завтра ровно в полдень, будет поздно везти его в больницу и делать промывание желудка. Ещё не хватало, чтобы его спасли!
Молина пошёл в ванную, разделся, сел в тёплую воду, потом побрился и, надев своё монашеское одеяние, вернулся в гостиную. Но уже не один. Его отец и падре Каталино следовали за ним. Старый Молина кричал: «Разве я тебе не говорил? Бога нет!» Но шёпот падре Сендера заглушал голос пьяницы: «Мне не нужны ваши деньги, сын мой, мне нужна ваша душа». «Какая душа?» — кричал старый Молина. И бывший министр-советник почувствовал запах его пота, его дыхание, отдающее ромом и гнилыми зубами. Когда-то Хорхе Молина решил поступить в семинарию, желая доказать отцу, что бог существует и его милосердие безгранично, а значит, не всегда понятно людям. Сейчас же он не мог не признать: старый пьяница в конце концов победил. «Нет! — сказал падре Сендер. — Уже одно то, что вы так упорно вспоминаете об отце, доказывает существование бога!»
Молина снова сел за свой секретер, вытащил из ящика все материалы по биографии дона Панфило Аранго-и-Арагона и стал их рвать. Когда трёхлетний труд был уничтожен, он подумал, что Грис был прав, когда называл дона Панфило лицемерным лжецом. Какой позор! Церковный владыка унизился перед Мигелем Барриосом! Поспешил навстречу мятежникам, вместо того, чтобы, храня достоинство, молиться в архиепископском дворце, смиренно согласившись с политическим остракизмом, который лишь возвеличил бы его. Пусть мятежники сами пришли бы к нему просить духовной поддержки или расстрелять. Молина чувствовал, как злость охватывает его.
Да, именно падре Каталино Сендер представляет собой подлинно христианскую церковь, которая знает сердце людское и исцеляет его страдания, которая не прельщается славой, почестями и тщетой преходящей власти, а поэтому стоит непоколебимо, несмотря на бурные события истории.
Обильный пот стекал по лицу Молины, его руки уже сковывал могильный холод, но в сердце ещё теплился огонёк, быть может, тот, который горел у забытого алтаря его детства?
Ему вдруг стало жутко в пустой, безмолвной квартире. Молина взглянул на часы. Сейчас он проглотит содержимое двух флаконов секонала и ляжет. А если Клэр не придёт? Если Клэр не придёт… он останется в постели, и соседи, никогда его не уважавшие, возненавидят его не только потому, что трупный смрад отравит воздух их квартир, но и их мозг мыслями о праве человека покончить с собой. Но нет. Клэр воплощение исполнительности. Она не может его подвести, этот своего рода deus ex machina.
Он вытер холодный пот, который покрыл его руки. Нащупал участившийся пульс, в горле стоял комок, дыхание было прерывистым и затруднённым, ноги и руки как ватные. Неужели страх? Нет! Он без малейшего сожаления погрузится в вечный сон.
Всё ли он сделал? Вспомнив о своей библиотеке, Молина дописал пост-скриптум в письме к мисс Огилви: «Все мои книги, в том числе и словари, отдайте в библиотеку Католического университета. А мою одежду — благотворительному обществу по вашему выбору».
Молина пошёл на кухню. Падре Сендер, ссутулившись, следовал за ним, его сутана волочилась по бурой земле Соледад-дель-Мар. «Подумай хорошенько, сын мой. Ты готовишься убить человека, значит это преднамеренное убийство». «Он уже убил собственную мать!» — крикнул отец. Молина открыл кран, налил в стакан воды, вернулся в спальню и сел на кровать. Снова заговорил падре Каталино: «Помни, мать носила тебя девять месяцев и испытывала при этом не только тяжесть, но и радость и надежду. Она умерла, произведя тебя на свет, однако не по твоей вине, Хорхе, а потому что такова была воля божья. А ты не имеешь права уничтожить человека, которого твоя мать родила и любила. Это не простое убийство, это братоубийство».
Хорхе Молина долго смотрел на портрет матери, стоявший на тумбочке, и слёзы навернулись на его глаза. Сколько лет он уже не плакал? Двадцать? Тридцать?
Он взял флаконы со снотворным и высыпал их содержимое на ночной столик.
«Если бог существует, — думал Молина, — сейчас, должно быть, он смеётся надо мной. Или страдает? Но если он способен смеяться или страдать, он не бог… А если его воля может меня спасти, почему же он меня не спасает?» Ответил падре Сендер: «Уже то, что ты задаёшься этими вопросами, сын мой, говорит о возможности твоего спасения».
Молина положил таблетку на язык и выпил целый стакан воды, проглотив таким образом, свой вступительный взнос смерти. Ему на память пришло первое причастие: как трудно было проглотить просфору. А тётка предупредила: «Разжёвывать нельзя, мой мальчик, это грех, ты причащаешься тела и крови Иисусовой». Зато потом его охватило ни с чем не сравнимое ощущение покоя и чистоты. Вспомнил он и кулёк со сладостями, который дала ему тётка…
Ему вдруг захотелось помолиться, встав на колени, он сложил руки, взглянул на портрет матери и, закрыв глаза, прошептал: «Salve, Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve». Опять вмешался отец: «Если бога нет, откуда взялась богородица? И зачем молиться? Кому?» «Ad te clamanus exiles filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et fluentes in hoc lacrimarum valle. Eia ergo, advocate nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende — Он был дурным плодом. — O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria» — Дурным плодом. Кислым и гнилым. Аминь.
Молина встал. Колени ныли, болел живот, голова кружилась. Он ничего не ел со вчерашнего дня… Взглянул на часы. Без двадцати четыре. Взор заволокла мутная пелена, сквозь которую он видел пилюли на столике… Мост на «ту» сторону… Забавно, люди почему-то связывают со смертью пространственные понятия… По ту сторону… Иной мир… Почему не «иное» время? Значит, бог, житель Вечности, не может торопиться или приходить в нетерпение. Но у Хорхе Молины сейчас оставалось всего несколько минут для совершения последнего шага. Он снова взглянул на таблетки. Когда-то в детстве он переходил реку, ступая по камням, и не замочил ног. А теперь эти таблетки помогут ему перейти на другой берег реки, отделяющей жизнь от смерти, дешёвые таблетки массового производства… Снотворные средства продаются в аптеках вместе с кока-колой, сандвичами, журналами, игрушками, сказками про Микки Мауса. Эти маленькие блестящие цветные таблетки могут лишить его жизни. «Подумай хорошенько, сын мой, — шептал падре Сендер. — Ты не пошёл в церковь искать ответа на свой вопрос, ты купил готовое решение в аптеке».
— Один из абсурдов человеческой жизни! — ответил Молина вслух. — Бог покинул меня. — Падре Каталино улыбнулся. «Нет, — прошептал он, — бог послал самого жалкого и шелудивого из псов своих лаять у тебя в ногах, предупреждая об опасности. Не пересекай реку. Оставайся на этом берегу и жди… Когда-нибудь бог придёт тебе на помощь».
А может, он просто сошёл с ума? Возомнил себя богом и сам решил свою судьбу… Отец однажды назвал его трусом и, наверно, был прав. Он действительно трус, всегда боявшийся жизни. И к тому же тщеславный! Сейчас он понял, что его никто не любил лишь потому, что он сам был неспособен на любовь, дружеское участие, терпимость. А его бунт против бога разве не был бунтом против отца? И разве он попытался хоть когда-нибудь понять его, полюбить, простить? А в архиепископе-примасе разве не восхищали его прежде всего могущество и слава церковного владыки?
Да, он тщеславен! Настолько тщеславен, что едва не вообразил, будто весь мир, все люди сговорились против него. И он, глупец, не понял, что бог может существовать в каждом из своих созданий и что его неспособность любить бога — это прежде всего неспособность любить его творения. Идиот! Всю свою жизнь провёл он в поисках бога, который принадлежал бы только ему, был бы понятен, как математическая формула, светлым как солнце, видимым и доступным, всегда готовым протянуть ему руки и сказать: «Приди, возлюбленный сын мой, и будь рядом со мной»…
Размышляя об этом, Хорхе Молина не сводил взгляда с таблеток. Достаточно сделать жест, который под силу маленькому ребёнку или сумасшедшему: положить таблетки в рот и проглотить их, и он окажется по другую сторону жизни.
Молина вдруг вскочил на ноги: он не хочет умирать! Ссыпав таблетки в пригоршню, он выбежал в ванную, бросил таблетки в унитаз и спустил воду…
«А теперь?» — подумал он, в волнении переоделся, спустился вниз, вошёл в кабину телефона-автомата и набрал номер канцелярии посольства.
— Мисс Огилви? Говорит Молина… Да, Хорхе Молина. Слушайте меня внимательно. Не приходите завтра ко мне на квартиру, как я просил. Понятно? Не приходите. Я изменил свои планы. Теперь всё в порядке. Большое вам спасибо, и да благословит вас бог!
Молина положил трубку, прежде чем секретарша успела задать вопрос, и вернулся домой. Теперь нужно было уничтожить письма, кроме тех, в которых он рассчитывался с долгами.
Из ящика комода Молина вытащил паспорт. Затем торопливо стал укладывать чемоданы. Испания! Ему вспомнился тёмный готический собор в Барселоне. В мире нет лучше места для встречи с богом. Сегодня же вечером он купит билет на самолёт, летящий в Мадрид. «Менины» Веласкеса, «Безумства» Иеронима Босха. Тридцать с лишним тысяч долларов — это большие деньги! Он легко получит место в Саламанкском университете. Испания! Снова жизнь! Другая жизнь! Другой человек!
Он насвистывал, напевал, делал какие-то нелепые движения… Пот опять покрыл его тело, но это была жизнь, а не смерть. Молина вдруг обнаружил, что голоден. Ещё бы! Ведь он не ел почти целые сутки!
Молина открыл холодильник, взял бутылку молока, несколько листьев салата, ломоть сыра, кусок ветчины и, сделав огромный сандвич, стал есть, испытывая необыкновенное счастье от своей прожорливости. Хлебные крошки он сунул в карман, чтобы бросить их белкам. Водятся ли они в парках Мадрида?
Он отправится по свету в поисках бога! Сейчас он понимал как никогда ясно, что бога можно найти повсюду. Даже в холодильнике.
43
В это самое время, сидя за письменным столом в кабинете на третьем этаже правительственного дворца Серро-Эрмосо, Пабло Ортега тоже ел сандвич и пил молоко. Но он не думал о боге. Он думал о Роберто Валенсии, который в определённом смысле пытался взять на себя роль всемогущего и вездесущего. Вездесущность его обеспечивалась четырьмя телефонами, стоящими на его письменном столе, и мощной радиостанцией, установленной во дворце, с помощью которой он сообщался со всеми районами страны, передавал приказы, получал сообщения и донесения. А всемогущество — полным подчинением Мигеля Барриоса и назначением своих людей на посты губернаторов провинций, а также в Центральном революционном комитете.
Символом революции для общественного мнения многих стран был Мигель Барриос. На самом же деле управлял страной Роберто Валенсия, который никогда не произносил речей, не давал интервью и никогда не разрешал себя фотографировать.
Он обладал необычайной физической силой, светлым умом и железной волей. Работал не менее пятнадцати часов в сутки, спал не больше четырёх-пяти. Завтракал за письменным столом, не выходя из кабинета, смежного с кабинетом Барриоса. Каждое утро к нему приходил парикмахер, который его брил, пока он диктовал письма стенографисткам, совещался с помощниками и говорил по телефону. Он был автором первых декретов, подписанным Мигелем Барриосом, о роспуске политических партий, закрытии газет, учреждении комиссий по расследованию дел, связанных с подкупом членов свергнутого правительства, а также проверке торговых документов отечественных и иностранных компаний. Финансист, пользующийся его абсолютным доверием, был назначен временным правительственным представителем в федеральный банк, в котором при Хувентино Каррере производились самые крупные махинации.
Сейчас Валенсия был озабочен ещё и тем, чтобы немедленно создать в стране народно-революционную партию, единственно легальную. Он сам составил проект её программы и устава, поручив специальной комиссии окончательную редакцию этих документов. Рассматривался вопрос и о новой конституции Сакраменто, к созданию которой были привлечены юристы — почти все они в правление Карреры находились в изгнании либо томились в сырых подземельях. Кроме того, занимала Валенсию и организация профсоюзов. По этому вопросу он принимал делегации крестьян, рабочих и представителей свободных профессий. Но категорически отказывался встречаться с репортёрами и корреспондентами иностранных газет и информационных агентств, отвечая на их просьбы лишь лаконичными записками: «Наши действия говорят сами за себя. Что касается будущего — я не пророк. Господам журналистам придётся подождать». Словом, приобрести благосклонность представителей печати он не стремился.
Ортега не мог не восхищаться (если это слово уместно) аскетизмом, беспристрастностью и волей этого человека, немногословного, сдержанного, будто не ощущавшего ни малейшей потребности в музыке, поэзии и даже любви. О его личной жизни достоверно было известно только, что его жена после нечеловеческих пыток погибла в полицейских застенках в те времена, когда начальником полиции был Угарте. Больше он не женился, и если у него были связи, о них никто ничего не знал.
Пабло Ортега съел сандвич, допил молоко и вытер руки бумажной салфеткой. Затем подошёл к окну, выходящему на площадь, где сейчас против дворца собирались мужчины, женщины и дети. Пабло улыбнулся. Немного спустя уже скопилась толпа, и люди стали кричать хором: «Ба-рриос! Ба-рриос! Ба-рриос!» Тот появился на балконе и, встав перед микрофоном, соединённым с множеством громкоговорителей, произнёс импровизированную речь, как всегда около пяти вечера.
В первые дни после падения Карреры революционное правительство не допускало грабежей и расправ со стороны вооружённых групп, которые бродили по улицам, пьяные от победы и рома. Чтобы не дать волю тёмным инстинктам, Роберто Валенсия ещё раз прибег к высокому авторитету Мигеля Барриоса: тот с балкона правительственного дворца или в других местах произносил пламенные речи, призывая народ быть достойным великих целей революции, и разъяснял, что его правительство в своих действиях намерено руководствоваться не местью, но справедливостью: «А под справедливостью я понимаю не только наказание преступников из правительства Хувентино Карреры, но также изобильную и счастливую жизнь для нашего великого, мужественного народа!» Тем временем Валенсия и его люди принимали меры к тому, чтобы организовать в городе полицейский надзор и убедить население сдать оружие. Согласно древнему требованию, правительство думало не только о хлебе, но и о зрелищах: организовывались балы под открытым небом, фейерверки, шествия с флагами и оркестрами, а также митинги, где многочисленные ораторы, как правило, экспромтом, выступали с горячими речами, которые сопровождались криками и приветственными возгласами слушателей. Уже через неделю по распоряжению Революционного комитета театры, кино и цирки открыли свои двери. И с первого же дня благодаря Роберто Валенсии столица бесперебойно снабжалась продовольствием. Валенсия реквизировал у местных торговцев несколько тонн мяса и зелени и организовал на городских рынках бесплатную раздачу продовольствия наиболее нуждающимся.
Он отказался принять представителей местной торговой палаты, заявив, что вызовет их, если сочтёт нужным, и отклонил приглашение дона Панфило на завтрак в архиепископском дворце, куда пригласили также и Барриоса.
Выполнявший функции помощника министра пропаганды и информации Пабло Ортега редко общался с Валенсией, хотя работали они в одном здании. Однако с недоумением и тревогой следил он за этим необыкновенным человеком, который неизбежно оставлял свой след на каждом мероприятии нового правительства. Так, не без его содействия был создан народно-революционный трибунал под председательством старого профессора уголовного права, противника Карреры, прожившего в изгнании почти семь лет. Было решено также, что суд присяжных со сменным составом сформируется из революционных офицеров, представителей интеллигенции, рабочего класса и сельскохозяйственных рабочих.
Трибунал обосновался во Дворце спорта, который вмещал пять тысяч человек, и заседания начались почти тотчас же. Габриэль Элиодоро Альварадо находился ещё в госпитале, поэтому первым подсудимым, представшим перед трибуналом, оказался полковник Педро Сабала, начальник полиции при Каррере, самый ненавистный из всех сакраментских тиранов. Вместе с ним по делу проходили его мелкие сподвижники: инспекторы, комиссары, сыщики, тюремщики и телохранители — всего восемьдесят четыре человека. Это первое заседание трибунала короткой речью открыл Мигель Барриос, который призвал творить правосудие, невзирая на лица и исключительно в интересах народа.
Когда полковник Педро Сабала и его соучастники в наручниках и в сопровождении охраны, вооружённой автоматами, появились в зале, присутствующие разразились свистом и угрожающими возгласами, не смолкавшими более десяти минут. Председатель трибунала терпеливо подождал, пока аудитория успокоится, а затем объявил заседание открытым, предоставив слово общественному обвинителю.
Пабло Ортега присутствовал на этом заседании. Не представляло ни малейшего труда полностью доказать виновность подсудимых. Три заседания были посвящены допросу потерпевших, которых снимали операторы кино и телевидения.
Свидетельские показания приобретали особую силу, потому что прокурор вызвал в суд в качестве свидетелей обвинения преимущественно политических заключённых, которых освободили совсем недавно. У многих из них раны ещё кровоточили. Очень часто, подбадривая робких или пресекая излишне многословных, прокурор помогал наводящими вопросами. Пабло Ортеге казалось, что он никогда не сможет забыть то, что здесь услышал. Худая и бледная женщина, стоя перед микрофоном, который непривычно усиливал её голос, рассказала, как её изнасиловали полицейские лишь за то, что она приютила у себя племянника-студента, которого разыскивали по обвинению в организации беспорядков в университете.
Охваченные ужасом люди узнали об одной из излюбленных пыток палачей Сабалы, которая применялась к женщинам, подозреваемым в «подрывной деятельности»: у этих несчастных с помощью горчицы вызывалось сильное кровотечение.
Ещё молодой мужчина сказал, что получил зверский удар ниже пояса от полицейского агента, и на вопрос прокурора, сможет ли потерпевший опознать преступника, указал на одного из подсудимых, с непомерно развитой мускулатурой, бронзовой кожей и бычьим затылком.
Некоторые свидетели, сняв рубашки, демонстрировали рубцы, оставленные стальными плётками. А один из них рассказал о самом последнем «изобретении» Сабалы — пытке, которую он назвал «пирогравюрой». На груди и на спине особенно упрямых раскалённым железным прутом делали рисунки либо писали непристойности, что казалось полицейским очень забавным.
Среднего возраста мужчина, бедно одетый, но с благородной внешностью, протянул членам суда свои изуродованные руки и рассказал, как полицейские вырвали клещами все его ногти. Когда кто-то из присяжных спросил, в чём он обвинялся, мужчина пожал костлявыми плечами и сказал: очевидно, в том, что написал на стене «Да здравствует свобода!» Перед трибуналом прошли и те, кто был кастрирован либо подвергался пыткам электрической иглой, изобретённой Угарте. Наибольшую сенсацию на втором заседании трибунала вызвало появление журналиста, которого поддерживал санитар. Журналист казался совсем ослабевшим, его лицо было лимонного цвета, руки дрожали. Прокурор посмотрел сначала на публику, затем на присяжных и сказал: «Этот свидетель не может говорить, господа присяжные: агенты Сабалы отрезали ему язык!»
В этот момент Сабала, коренастый, уже в годах, с наголо обритой головой, разразился рыданиями и закрыл лицо скованными руками. Зрители вскочили на ноги, послышались крики: «Смерть бандиту!», «Линчевать его! Линчевать!» Публику удержали только взятые на изготовку автоматы охраны. Председательствующий звонил в колокольчик, призывая к порядку, но заседание возобновилось лишь через пятнадцать минут.
На третий день суда были проведены последние допросы свидетелей, очные ставки. Задачу прокурора значительно облегчило то обстоятельство, что подсудимые, рассчитывая улучшить своё положение, обрушились друг на друга с обвинениями. Были зачитаны протоколы из архивов центральной полиции, которые Сабала не успел уничтожить. Эти документы неопровержимо доказывали, что более двухсот человек, среди них несколько десятков студентов, умерли от болезней и истязаний в различных тюрьмах Серро-Эрмосо и его окрестностей, тела их были похоронены в общей могиле, а родственникам даже не сообщили о «случившемся». На этом прокурор счёл возможным закончить обвинение, и председатель суда предоставил слово защитнику, назначенному Центральным революционным комитетом. Тот заявил, что, принимая во внимание столь тяжёлые улики, он не считает возможным защищать своих подопечных, больше того, не просит об их помиловании. Заявление адвоката, вызвавшее аплодисменты, не длилось и минуты.
На рассвете следующего дня Педро Сабала и его восемьдесят четыре сообщника были расстреляны во дворе казармы 2-го пехотного полка, расположенной на окраине Серро-Эрмосо. Сотни людей столпились у ворот казармы и громкими криками требовали впустить их, но войти им не разрешили, и тогда они принялись кричать ещё громче и бросать камни в окна казармы.
Этот факт позволил Роберто Валенсии прийти к выводу, что исстрадавшийся и жаждущий справедливого возмездия народ имеет право присутствовать при казнях, своими глазами видеть, как осуществляется революционное правосудие. Расстрелы преступников отныне должны были происходить на арене для боя быков, вмещавшей более тридцати тысяч человек… Пабло Ортега счёл эту мысль чудовищной и компрометирующей революцию, на что Валенсия ответил:
— Капитан Ортега, вы работаете в департаменте пропаганды и информации, вот и занимайтесь своим делом, а я буду заниматься своим.
На публичных казнях, которые проводились под гром оркестров и фанфар, Пабло отказался присутствовать. Его мутило при одном взгляде на фотографии, помещавшиеся в органе нового правительства, единственной газете, издававшейся теперь в Сакраменто. Тела расстрелянных, как мёртвых быков, уволакивали с арены лошади под смех, крики, аплодисменты и пение толпы. Оле! Оле! Оле! Мальчишки даже будто бы требовали уши быка.
На арене для боя быков уже состоялось около трёхсот расстрелов. Начинали всегда с преступников помельче. Крупные быки оставлялись к концу спектакля.
Ортеге в конце концов удалось получить аудиенцию у Барриоса.
— С этими мрачными представлениями надо покончить, генерал. Прочтите, что пишут иностранные газеты. В мире создаётся ложное представление о нашей революции.
Барриос долго смотрел на Пабло изучающим взглядом, а потом спросил:
— Скажи, капитан Ортега, ты считаешь приговоры, вынесенные этим преступникам, справедливыми?
— В большинстве… да.
— Они признаны виновными?
— Да.
— Тогда остальное, господин капитан, значения не имеет. Во Франции — гильотина, в Англии — виселица. В Соединённых Штатах — электрический стул и газовая камера. Расстрелы мы и дальше будем производить публично. Народ заслужил право видеть это, а крупная буржуазия извлечёт урок. — И уже другим, отеческим, тоном, добавил: — Разве было бы лучше, если бы мы предоставили толпе самой осуществлять правосудие, чиня расправы прямо на улицах, врываясь в дома богачей, насилуя их женщин?
Пабло Ортега отдал честь (этот жест он всегда находил смешным) и хотел удалиться, но Барриос удержал его.
— Вчера помощник архиепископа попросил у меня аудиенцию. Я принял его, но всего на пятнадцать минут. Он принёс мне послание архиепископа-примаса, который убедительно просит прекратить эти расстрелы. — Запрокинув голову, Барриос отрывисто рассмеялся. — А знаешь почему? Потому что, по мнению его преосвященства, революционный трибунал действует слишком поспешно, подчиняясь необузданным страстям публики, которая присутствует на суде и криками требует осуждения преступников…
Встав, Мигель Барриос заложил руки за спину и принялся расхаживать по кабинету.
— Знаешь, что я ответил? «Передайте его преосвященству, что народно-революционный трибунал нисколько не больше подчинён страстям, нежели трибуналы святой инквизиции. Но не забывайте, дорогой господин епископ, что мы милосерднее инквизиторов. Мы убиваем осуждённых залпом карательного взвода, а не сжигаем их на медленном огне».
Барриос усмехнулся, подошёл к Пабло и, положив руку ему на плечо, не без гордости сообщил, что несколько минут назад его посетил посол Соединённых Штатов.
— Он явился ко мне с кое-какими советами, но я их, конечно, не принял. Посол сказал, что отправляется завтра в Вашингтон, чтобы проконсультироваться со своим правительством. И ещё имел наглость намекнуть, что если расстрелы будут продолжаться и мы осуществим национализацию американских компаний без справедливой компенсации в долларах, то государственный департамент, весьма возможно, не признает нового правительства. А я ему ответил: «Соединённые Штаты — свободное и суверенное государство. Таким государством хочет стать и Сакраменто. Будьте здоровы, господин посол!»
Сейчас, глядя на площадь, Пабло Ортега вспоминал эти события последних дней. Головные боли возобновились, спал он мало и плохо, и единственным, кому он ещё мог открыться, был Годкин, оставшийся в Серро-Эрмосо по заданию Амальпресс.
Он не раз пытался увидеть мать, но та продолжала оставаться непреклонной, не позволяя Пабло переступить родной порог. Иногда они с Годкиным проезжали мимо дома Ортега-и-Мурат и сквозь решётки ограды видели в глубине парка старое, печального вида здание, увитое плющом, с закрытыми окнами…
Пабло часто сталкивался на улице со своими друзьями и знакомыми — людьми его круга и его возраста, и все они притворялись, что не замечают его или же, сталкиваясь носом к носу, смотрели на него как на постороннего.
Однажды сеньора — старый друг их семьи, мать многочисленного знатного семейства, подъехала к Пабло и, тыча в него пальцем, воскликнула: «Вам должно быть стыдно, Пабло Ортега, носить эту форму и путаться с революционной сволочью. Вам мало того, что вы убили дона Дионисио? Хотите убить и донью Исабель?» Прежде чем Пабло успел что-то ответить, дама повернулась, села в автомобиль и уехала. А Пабло счёл эту выходку просто смешной, как в дешёвой мелодраме.
Как-то он позвонил д-ру Моро, их семейному врачу, назвал себя и спросил, как поживает донья Исабель. Доктор лаконично ответил: «Она здорова настолько, насколько можно быть здоровой после смерти мужа и всех других огорчений». И повесил трубку.
Услышав шум шагов, Пабло обернулся. В кабинет вошёл помощник Роберто Валенсии.
— Начальник хочет вас немедленно видеть, капитан.
Ортега знал, о ком идёт речь, но, раздражённый этим «немедленно», спросил:
— Какой начальник? Барриос или Валенсия?
— Полковник Валенсия.
— Скажите, что сейчас приду.
Помощник удалился, а Пабло продолжал перебирать бумаги, притворяясь перед самим собой, что занят чем-то важным. Он знал: все здешние сотрудники сорвались бы с места по первому зову начальства, но Пабло ненавидел прусскую дисциплину, которую Валенсия стремился установить для своих подчинённых. Может быть, это и было необходимо, но неприятно. Лишь через пять минут Пабло спустился в кабинет Валенсии. Тот сидел один за столом, роясь в кипе бумаг, и не пригласил Пабло сесть. Несмотря на это, Пабло сел. Валенсия продолжал писать, будто не замечая Пабло. Так прошло несколько минут. Наконец Валенсия поднял глаза.
— Капитан Ортега, я ознакомился с вашими замечаниями на полях проекта нового закона о печати.
Пабло молча смотрел на Валенсию, а тот продолжал:
— Ваши замечания ошибочны и до смешного наивны.
— Это ваше личное мнение?
— Не только, это мнение Барриоса и других товарищей. В общем, это мнение Центрального революционного комитета. Должен поставить вас в известность — вы не подходите для поста, который занимаете.
— Почему?
— В частности потому, что вы неправильно понимаете свободу. Для вас, буржуазных либералов, свобода может существовать вне тесной связи с жизнью и благополучием народа. Что-то вроде драгоценности, которую хранят, но не носят, ибо она является семейной реликвией. На мой взгляд, это фальшивая драгоценность. И бесполезная.
— А вам не напоминает этот взгляд на свободу взгляды Чаморро и Карреры?
— Не будьте смешным! Научитесь мыслить диалектически, хотя от литератора этого требовать нельзя. — Он взял лежавшие перед ним бумаги, поднял их и бросил на стол — очевидно, обычная выдержка изменила Валенсии. — Значит, по-вашему, в Сакраменто можно осуществить нашу революционную программу, не ликвидировав предварительно коммерческих газет, которые всегда являлись рупором олигархии и иностранных компаний? По-вашему, мы позволим, чтобы эти мерзкие листки продолжали отравлять умы читателей ложью в интересах богатых и привилегированных классов? Пошевелите мозгами, Ортега! Свобода не может быть самоцелью. Это способ завоевать лучшую жизнь для большинства. И если она этому не послужит, грош ей цена.
— Значит, наша газета будет правительственным рупором, единственным и непогрешимым?
— А почему бы и нет? Или вы хотите, чтобы мы каждый день согласовывали с ЮНИПЛЭНКО и «Шугар Эмпориум» содержание наших передовых статей? Реакция живуча. Если мы не примем мер, она в конце концов заползёт в самую узкую щель, которую мы оставим в наших крепостных стенах. А если они снова будут хозяйничать в стране — не тешьте себя иллюзиями, — они нас расстреляют. Помните Морено? Он был слишком наивен, полагая, что сумеет осуществить программу социальных реформ, оставив свободу капиталистической прессе, которая стала нападать на него, едва он вступил в правительственный дворец, и не успокоилась, пока не уничтожила его.
Валенсия снова взял бумаги, аккуратно сложил их и передал Пабло.
— Просмотрите ещё раз и постарайтесь проникнуться революционным духом. Даю вам эту возможность.
— Я перечитывал проект больше десяти раз, моё мнение изложено на полях. Этот закон, с моей точки зрения, очень сильно отдаёт тоталитаризмом.
Роберто Валенсия усмехнулся, закурил сигарету и, выпустив дым, твёрдо взглянул в глаза Пабло.
— Свобода! — воскликнул он. — Свобода! Вы, интеллигенты, играете словами, как дети игрушками. Вдохновлённые этим мифом, буржуазные писатели уже несколько веков создают литературу, оторванную от классовой борьбы, от реальной действительности.
— Пресловутый социальный заказ! Но почему художник должен непременно чувствовать свою связь с коммунистической партией, будто она является единственным носителем истины? Почему он не может писать просто о человеке, о жизни во всём её разнообразии, о её противоречиях, бесчисленных лабиринтах и тайнах? Вы, коммунисты, жонглируете двумя шарами: историей и человечеством, но забываете о личности, считаете оправданным убийство человека для спасения человечества. Таким образом, смерть для вас тоже стала абстракцией.
Валенсия, казалось, находил удовольствие в споре. Лёгкая улыбка на секунду смягчила его жёсткий рот.
— Как-то в горах ты сказал мне, что считаешь себя гуманистом. Я тогда был слишком занят одной операцией и не мог терять время на теоретические дискуссии. Однако теперь я тебе возражу: гуманизм и либерализм — всего лишь роскошная мантия короля, который оказался голым. Вы, интеллигенты, тоже заворачиваетесь в эту мантию, стараясь избежать ответственности, отказываясь занять решительную позицию.
— По-вашему, я не занял такой позиции?
— Заняли, но против воли и без достаточной моральной подготовки, чтобы быть последовательным до конца.
— Что значит «до конца»? Признать законными убийство и насилие? Согласиться с тоталитарной системой правления? Нет, Валенсия, в этом на меня не рассчитывайте!
— Откровенно говоря, я ни в чём на вас не рассчитываю. И никогда не обольщался на ваш счёт. Слишком хорошо знаю людей вашего типа. Я уже говорил вам однажды и повторяю сейчас: вас больше интересует собственное спасение, чем спасение народа. Вы можете отрицать, но религиозное воспитание оставило в вашей душе семена, которые взошли чувством вины и желанием её искупить. Люди, подобные вам, никогда не смогут бороться за социальную справедливость.
Пабло Ортега встал.
— Как и положено литератору, — продолжал Валенсия, — вы не перестаёте играть словами. А при виде первой же капли крови вы и вам подобные недотроги съёживаетесь, заболеваете медвежьей болезнью и убегаете в кусты. — Жестом прокурора он протянул руку в сторону Ортеги. — Держу пари, что через несколько недель вы будете ворчать (если уже не ворчите), что это не та революция, о какой вы мечтали. И в конце концов при первой возможности удерёте в Майами, где станете загорать, ходить по казино, пописывать статейки против революционного правительства Сакраменто и сочинять поэмы о народе, который стонет под «коммунистическим сапогом». Своим мученическим видом вы завоюете расположение американских старушек, пекущихся о спасении «банановых республик», а ваши статьи очень хорошо будут оплачивать редакторы-янки.
— Вы ошибаетесь, Валенсия, я не уеду отсюда. Я останусь, чтобы получить то, что революция обещала народу. Я имею на это право.
— Вашего права я не оспариваю, но сомневаюсь, что вас хватит на это.
— Поживём, увидим…
Валенсия взял термос, налил в стакан немного воды, проглотил таблетку из железной коробочки и запил её водой. Его рубашка цвета хаки пропотела под мышками. Жужжал вентилятор. Вдруг зазвонил телефон, и Валенсия схватил трубку.
— Да, Валенсия… Что случилось? Что? Сейчас нет. Минут через пять вели ему войти.
Положив трубку, он сел на край стола и скрестил на груди руки.
— Послушайте, Пабло. Ваш друг Грис говорил, что есть насилие, которое он приемлет, хотя и без восторга. Это насилие справедливости над насилием бандитов. Сейчас перед нами стоят гигантские задачи, и мы не можем терять время на пустяки.
— Если вы считаете жизнь человека пустяком, у меня мало надежд на будущее этой революции.
— Не беспокойтесь, мы, истинные революционеры, позаботимся о её будущем, в которое верим.
Несколько дней спустя Ортега и Годкин, пообедав, гуляли по вечерним улицам Серро-Эрмосо, когда услышали передаваемое по радио сообщение о том, что Габриэль Элиодоро Альварадо выписан из госпиталя и в ближайшее время предстанет перед революционным трибуналом.
— Ты знал об этом? — спросил Билл.
— Да. Со вчерашнего вечера. Последнее время я много думал о нём…
— Неужели ты полагаешь, что ответствен и за его судьбу?
Они вошли в бар выпить кофе.
— Я уже принял решение, Билл: предложу себя в защитники Габриэля Элиодоро.
Годкин закурил трубку, выпустил дым и взглянул на друга.
— Зачем?
— Не знаю. Просто так.
— Нет, не просто. Ты хочешь что-то доказать. Но кому и что?
Пабло пожал плечами. Барменша, смуглая девушка с большими глазами, подведёнными синим карандашом, кокетливо улыбнулась, ставя чашки с кофе на мраморную стойку.
Пабло залпом выпил горячий кофе и сморщился, так как забыл положить сахар.
— Что ты скажешь о моей идее?
— Она может стать самоубийственной. Особенно после твоего разговора с Валенсией.
— Ну и пусть! Пей кофе, и пойдём в кино.
На следующее утро Пабло удалось повидать Барриоса и сообщить ему о своём решении защищать Габриэля Элиодоро.
Барриос внимательно выслушал его.
— А вы подумали о том, что это может вам повредить?
— Да.
— Публично защищать такую сволочь, как Габриэль Элиодоро, — отвратительная и неблагодарная задача. Я удивлён тем, что вы добровольно вызвались на это грязное дело. — Немного подумав, он добавил: — Никто не поймёт вас.
— Знаю.
— Ваше положение может значительно ухудшиться.
— Это меня мало интересует.
— Но я надеюсь, что вас по крайней мере интересует революция!
— Разумеется.
— И вы считаете, что, защищая Габриэля Элиодоро, поможете нашему делу?
— А вы, генерал, как считаете: имеет Габриэль Элиодоро право на защиту или нет? — запальчиво спросил Пабло.
— Имеет, хотя и не заслуживает этого. Мы хотели дать ему профессионального адвоката, но раз вы настаиваете…
— Настаиваю.
— Надеюсь, впоследствии вы не станете оправдываться тем, что вас заставили взять на себя эту щекотливую роль.
— А разве мне придётся оправдываться?
— Ещё один вопрос. Вам известно, кто будет на этом процессе прокурором?
— Нет.
— Сам Роберто Валенсия. И знайте, он будет беспощаден. Не исключено, что когда вы кончите свою речь, прокурор попросит слова и сотрёт в порошок не только преступника, но и вас.
— Могу я быть откровенным, генерал? От Роберто Валенсии можно ждать многого: ума, мужества, стойкости… только не пощады.
— Вы критикуете нашего товарища?
— Хочется верить, что мы ещё не обожествляем вождей революции, а значит, от критики они не ограждены…
— Вы отдаёте себе отчёт, насколько опасен такой образ мыслей?
— Да, но иначе думать я не могу.
Мигель Барриос в упор взглянул на Пабло.
— Хорошо! Я скажу председателю трибунала, что не возражаю против вашей просьбы защищать своего друга Габриэля Элиодоро Альварадо.
— Должен внести ясность: Габриэль Элиодоро не является моим другом.
Мигель Барриос нетерпеливо хрустнул пальцами.
— Пусть так, капитан! Можете идти.
В тот же день Пабло Ортега получил разрешение переговорить со своим подзащитным, находившимся в казарме 2-го пехотного полка под охраной двух автоматчиков. Квадратная комната оказалась просторнее и светлее, чем Пабло ожидал. Тусклый свет этого душного облачного вечера проникал сквозь зарешеченные окна, выходившие во внутренний двор казармы.
Переступив порог, Пабло Ортега услышал голос, которому старались придать бодрость.
— Входи, входи, господин первый секретарь!
Габриэль Элиодоро встал с железной кровати и протянул Пабло руку. Тот, поколебавшись секунду, пожал ладонь своего бывшего шефа.
— Не смущайся, Пабло, от меня воняет. Почти неделю я не мылся и не менял белья. Парикмахер не приходил уже три дня… — Он провёл ладонью по щекам, заросшим седой щетиной, и рассмеялся коротким, сиплым смешком, похожим на хрип. — Помнишь то апрельское утро, когда я вручал верительные грамоты президенту Эйзенхауэру? Ты ещё сказал тогда, что я слишком сильно надушился… — Он указал на свою пропотевшую грязную рубаху, свои измятые, покрытые пятнами холщовые брюки и пробормотал: — Как видишь, всё переменилось. Но ничего, такова жизнь. Садись, дружище!
Пабло придвинул стул к койке Габриэля Элиодоро. И пока бывший посол жаловался на плохую еду, грубое обращение охраны, которой было запрещено говорить с заключённым, на жару, на горниста и барабанщика, раздражавших его, Ортега рассматривал человека, жизнь которого он попытается спасти.
Габриэля Элиодоро трудно было узнать. Он очень похудел, его опухшие, утратившие прежний блеск глаза говорили о бессонных, беспокойных ночах. В голосе не было слышно властных нот, а бронзу его индейского лица покрыла зелёная плесень усталости и страдания. Особенно потрясли Пабло совсем седые волосы Габриэля — перед ним сидел человек, которому можно было дать шестьдесят лет.
— Ни слова, Пабло. Я знаю, что ты думаешь. За последние недели я постарел лет на двадцать. Когда в больнице я посмотрелся в зеркало, я не узнал себя. Но ничего. Я буду выглядеть иначе, когда меня побреют, подстригут и дадут мне приличную одежду. Перед этим дерьмовым трибуналом я хочу стоять с высоко поднятой головой. И если они думают, что я буду просить пощады и лить слёзы, то ошибаются!
Он сел на кровать, поднял штанину и показал грязный бинт на колене.
— Они чуть не отрезали мне ногу. Рана до сих пор болит, но постепенно заживает. Да! Когда состоится суд?
— В ближайшую пятницу. Поэтому я здесь.
Пабло подошёл к окну и стал глядеть во двор, где солдаты играли в футбол.
— Я пришёл спросить, согласны ли вы, чтобы я защищал вас, — продолжал он, не поворачиваясь к Габриэлю Элиодоро.
— Ты?
— Вам это кажется странным?
Габриэль улыбнулся.
— Нет. Ты всегда относился ко мне с симпатией, хотя и не хотел этого. А я относился к тебе, как к сыну, о котором я мечтал, но которого бог не дал мне. Поэтому меня особенно огорчили твои слова, когда ты пришёл ко мне с просьбой об отставке… Будь это кто-нибудь другой, я бы вышвырнул его пинком под зад… Я не ожидал, честное слово, не ожидал, что ты возьмёшь на себя мою защиту… Признаюсь, твоё намерение меня радует…
Наступило молчание. Пабло вдруг подумал, что в камере, очевидно, установлен микрофон, и принялся его искать. Заглянул под кровать, встав на стул, осмотрел патрон лампы… Трудно было спрятать микрофон в этой комнате, где стояли лишь железная койка, столик, два стула, жестяной таз на полке и глиняный кувшин для умывания.
— Я знаю, что ты ищешь, и, думаю, напрасно. Микрофона тут нет. Я давно уже тут всё осмотрел. Твои товарищи, наверно, не очень интересуются нашей беседой, так как уверены, что при всех условиях я буду приговорён к смерти.
— Итак, согласны вы или нет с моим предложением?
— Поскольку это пустая формальность, согласен, но прежде всего, чтобы выразить тебе свою признательность. Я не строю никаких иллюзий и знаю — это конец. Но они постараются из суда надо мной сделать спектакль. У тебя есть сигареты? Мои кончились.
Пабло дал ему целую пачку.
— Оставьте её себе. Я ещё пришлю.
Пабло поднёс зажигалку к его сигарете. Некоторое время оба молчали, пока Габриэль задумчиво курил. Потом, усмехнувшись, он сказал:
— Как это они додумались расстреливать приговорённых на арене для боя быков! Такого не было даже при куме Каррере…
— Согласен, зрелище угнетающее. — Пабло сел. — Я хочу, чтобы вы знали о моих намерениях: я постараюсь спасти вас от смертного приговора.
Габриэль Элиодоро рассмеялся, но этот смех лишь отдалённо напоминал прежние оглушительные раскаты.
— Они не пощадят меня. Они будут судить не Габриэля Элиодоро Альварадо, а весь режим…
— Против вас выдвинуты тягчайшие обвинения.
— Какие?
— В хищении государственной собственности, биржевых спекуляциях, незаконном обогащении, семейственности, казнокрадстве, злоупотреблении властью…
— Разве эти преступления караются смертью?
— Вы обвиняетесь также как соучастник похищения и убийства доктора Леонардо Гриса.
Габриэль Элиодоро вскочил с кровати.
— Я не имею никакого отношения к этой истории! Наверное, это мерзавец Сабала постарался! И разве можно обвинять в убийстве, не предъявив даже трупа жертвы? Дон Леонардо Грис, может быть, и не умирал вовсе!
— Ещё вас могут обвинить в соучастии, прямом или косвенном, в убийствах и пытках федеральной полиции при Угарте и Сабале.
— Я убивал только в боях и на дуэли, клянусь богородицей Соледадской, жизнью моей жены, моих дочерей и внуков! — Он схватил Пабло за плечи. — Веришь мне?
В комнате стало совсем душно. Пот стекал по лицу, шее, по всему телу Габриэля, и Пабло чувствовал его запах, напоминавший о пеонах, которые работали под палящим солнцем в поместье отца.
— Веришь? — снова спросил Габриэль Элиодоро.
Пабло стряхнул с себя его грязные руки, поспешил отойти от его липкого тела.
— Верю. Но нужно добиться, чтобы и суд поверил. А это нелегко. Тысячи людей будут требовать вашей смерти…
Габриэль Элиодоро заходил по камере, хромая, как раненый зверь. Потом подошёл к окну, взялся за прутья решётки и, немного задыхаясь, стал смотреть во двор.
— Я хочу попросить тебя об одном, Пабло. Поступай, как знаешь, говори, что сочтёшь нужным. Но, я прошу, я требую, чтобы ты даже не упоминал о моей матери, слышишь? Но слова о «бедной потаскухе». Я запрещаю. Не проси их о милосердии. Вообще не произноси этого слова. Не представляй меня раскаявшимся трусом, который от страха напустил в штаны. Слышишь? Я не хочу, чтобы они жалели меня, уж лучше пусть ненавидят! Обещай мне! Обещай!
— Обещаю, — прошептал Пабло, чувствуя, что и его рубашка начинает липнуть к телу.
Габриэль Элиодоро подошёл к тазу и, постанывая, умылся водой, которую, очевидно, давно уже не меняли. Смочив волосы, руки и грудь, он повернулся к Пабло. Казалось, он принял какое-то решение — распрямился, глаза блеснули, даже голос на миг обрёл прежнюю звучность.
— Уходи, Пабло! Не надо защищать меня. Это бесполезно. Спасай свою шкуру, иначе тебя заклеймят позором твои же товарищи!
В камере нечем было дышать. Голова Пабло раскалывалась от боли, горло пересохло. Больше всего ему сейчас хотелось выбраться на свежий воздух. Он мог уйти, забыть обо всём этом… Вспомнились слова Годкина: «Ты обвиняешь Валенсию в том, что он разыгрывает из себя всеведущего бога, а сам берёшь на себя роль Иисуса Христа. Поверь, Габриэль Элиодоро не заслуживает такой жертвы. Ты повторишь трагедию на Голгофе — тебя распнут вместе с разбойниками».
— Уходи, Пабло! — снова крикнул Габриэль. — И не думай больше обо мне!
Ортега, расстегнув рубашку, вытер платком шею и грудь, посмотрел прямо в глаза Габриэлю и сказал:
— Я ваш адвокат, Габриэль Элиодоро. Это решено, и я не отступлю. Но сейчас я должен поговорить с вами как мужчина с мужчиной. У меня были все причины ненавидеть вас и желать вашей гибели.
— Не надо меня ненавидеть, Пабло, и знаешь почему? Потому что ты в чём-то ты хотел бы походить на меня, однако не смел из-за этой чепухи, которую вы называете принципами. Признайся! И как ты можешь судить, кто из нас избрал правильный путь?
Пабло пытался привести свои мысли в порядок: Валенсия дал ему понять, что это будет его первое и последнее свидание с Габриэлем Элиодоро, которого он увидит потом лишь в день суда.
Габриэль растянулся на кровати, с трудом переводил дыхание. Он снова закурил, и пепел падал на его потную грудь, на ладанку с изображением богородицы.
— Говори, Пабло. Спрашивай, что хочешь. Мне осталось жить не больше недели.
С чего начать? Надо было задать столько вопросов…
— Меня интересуют некоторые черты вашего характера…
— Какие?
Сейчас, лёжа с полузакрытыми глазами, Габриэль казался более спокойным.
— Вы ведь низкого происхождения, были когда-то босым, оборванным, голодным мальчишкой… Видели, как солдаты Чаморро расстреливали и пытали ваших друзей. В двадцать один год вы вступили в революционную армию Карреры и не жалели жизни, борясь против диктатора. Обещали народу социальную справедливость и лучшую жизнь, но в конце концов полностью забыли свои обещания. Женились на богатой девушке, совсем потеряли совесть, подружившись с Каррерой, который оказался ещё более жестоким, нежели Чаморро. Почему так случилось?
— Не спрашивай этого у меня. Спроси у бога. Но бог — Великий Немой. Никто ещё не понял, что ему нужно. Я знал только одно: у меня есть тело, и я ни в чём не хотел ему отказывать… Ведь для человека нет ничего ближе с самого рождения и до смерти…
— Вы никогда не чувствовали угрызений совести от того, что предавали своих друзей?
— Предавал? Вся жизнь — сплошное предательство. Тот, кто жив, уцелел только потому, что предал того, кто умер. Едва проснувшись и до тех пор, пока мы снова не ляжем в постель, мы все предаём других поступками или мыслями, желая того, или нет. Все люди эгоисты и отличаются друг от друга лишь одним: у некоторых есть мужество быть тем, кем они есть, другие же трусят, жалуются на жизнь, оправдывая своё бессилие философскими рассуждениями. Для меня важно было одно: сегодняшний день. Я подчинил себе память и научился забывать всё, о чём не хотел помнить. Я хотел жить, и только.
— Но теперь вы умрёте.
— Зато я прожил сто жизней. Многие ли могут похвастать тем же?
— Меня интересует другое, — снова заговорил Пабло после недолгого молчания. — Ваша совесть. Она никогда не беспокоила вас? Вы сделали жену Виванко своей любовницей, испортили жизнь этому бедняге и в конце концов стали косвенной причиной его смерти…
— Виванко был червём, которому вообще не стоило рождаться. — Он рассмеялся. — Надеюсь, меня не обвинят в убийстве Виванко?..
— Нет, и всё же вы уклоняетесь от ответа на мой вопрос. Неужели никогда — ни среди дня, ни среди ночи — ваша совесть не заговорила? Или вы так не похожи на других людей?
Ортега смотрел на этого человека, дни которого были сочтены: он курил, улыбался, внешне был спокоен. И Пабло не мог понять, что он чувствует к Габриэлю Элиодоро. Он считал его грубым циником, откровенным эгоистом и всё равно зла ему не желал.
— И ещё меня интересует один ваш поступок, который кажется непоследовательным, неожиданным и необъяснимым…
— Говори.
— Вы знали, что Каррере конец, и отправили семью в Доминиканскую республику. Верно?
— Верно.
— Вы были в Вашингтоне, могли попросить убежища у американского правительства, вылететь в Сьюдад-Трухильо или в Швейцарию, как Угарте… как другие. Почему вы не сделали этого?
— Неужели надо объяснять?
— Конечно! Ведь вы так любили жизнь и не захотели ещё пожить?
Какое-то время Габриэль молчал, затем щелчком послал окурок в потолок.
— Кто по-настоящему любит жизнь, тот не боится смерти. Одно без другого немыслимо. Жизнь и смерть — это две стороны одной монеты. — Он повернулся к Пабло. — Красиво сказано? Разрешаю тебе использовать эту фразу. Не знаю, сам ли я её придумал, или где-нибудь прочёл. Кто любит жизнь, тот в определённом смысле любит и смерть.
— Это слова, Габриэль Элиодоро, пустые слова.
— Допустим. И всё же надо быть мужчиной. Неужели тебе больше понравилось бы, если бы я не поехал защищать своего кума, а убежал в Швейцарию, как этот трус Угарте?
— Конечно нет, но…
— Вот видишь! Кто умеет жить, тот умеет и умереть.
Он сел, спустил ноги с кровати, снова закурил и взглянул на Пабло.
— Одно меня тревожит. Я боюсь умереть по-свински на арене для боя быков, со связанными руками и ногами… Перед толпой, которая будет развлекаться зрелищем моей смерти…
Но Пабло Ортега упрямо покачал головой, словно хотел сказать, что объяснение Габриэля его не удовлетворяет.
— Я, может быть, невежда, но не дурак. Знаю жизнь и людей. Ты думаешь, что пришёл сюда ради меня? Нет! Ты пришёл ради себя самого. Тебе ещё не ясно, избавит ли народ от нищеты эта революция, как обещают её вожди. Сколько членов бывшего правительства расстреляно за последние недели? Триста? Четыреста? И эта бойня не скоро прекратится. Ты не можешь смотреть на неё без тошноты. Наверно, ты убивал только в бою, поэтому то, что ты называешь совестью, причиняет тебе страдания, и ты хочешь уверить себя, что это насилие, эта бойня необходимы… А так как мой расстрел ляжет ещё одним камнем на твою совесть, ты хочешь постараться спасти мне жизнь. — Габриэль встал. — Когда я лежал в госпитале, фельдшеры приносили мне вашу газету… Как она называется? «Революсьон»! Я читал то, что в ней написано, но читал и между строк… Мигель Барриос — лишь марионетка, а за верёвочки его дёргает Роберто Валенсия. Правильно?
— Да.
— Отлично. Послушай меня, Пабло. Мне никто ничего не говорил, но я готов поклясться, что ты не любишь Валенсию так же, как он не любит тебя. По своей сущности ты его антипод. Но учти: прав он, а не ты!
Пабло поднял голову.
— Почему?
— Постарайся меня понять: он жаждет моей смерти, и всё же я не могу им не восхищаться. Он знает, чего хочет. Не жалеет сил и не брезгует никакими средствами для достижения своей цели. Настоящая революция может совершаться только такими людьми. Помни, Пабло, победители всегда правы.
— Я не согласен с этим.
— Напрасно. Факты говорят за себя. Рано или поздно ты будешь расстрелян на арене для боя быков, если не сумеешь скрыться за границу. Это всего лишь вопрос времени.
— И всё же я с этим не согласен. Революция не может и не должна принадлежать Валенсии. Она наша, она принадлежит народу.
Пабло сжал руками нестерпимо болевшую голову. Во дворе казармы резко и пронзительно заиграл горнист. Габриэль снова принялся расхаживать по камере, волоча раненую ногу.
Пабло вдруг вспомнил Леонардо Гриса.
— Я хочу рассеять некоторые из своих сомнений, и вы должны мне ответить со всей откровенностью. Вы заставили весь мир поверить, будто в ту трагическую ночь президент Морено покончил жизнь самоубийством. Что произошло на самом деле?
Габриэль Элиодоро взял кувшин с водой, шумно и жадно глотнул, потом вытер губы тыльной стороной руки и, взглянув на Пабло, сказал:
— Доктор Морено не кончал с собой.
— Грис так и полагал. Вы его убили?
Габриэль покачал головой.
— Мне наплевать, поверят ли присяжные моим показаниям. Но я хочу, чтобы ты, Пабло, знал правду. Зачем я буду тебе лгать, если знаю, что так или иначе мне конец? — Немного помолчав, он глубоко вздохнул. — Доктор Хулио Морено умер от сердечного приступа. У него уже было два, ты, должно быть, помнишь, газеты сообщали об этом. Я первый вошёл в его кабинет: он был уже мёртв… Клянусь богородицей Соледадской, я говорю правду. Врач осмотрел его и констатировал смерть. Остальное выдумали кум Каррера и начальник его полиции… без меня.
Ортега указал на ладанку с изображением богородицы, висевшую на шее у Габриэля.
— Эта ладанка… преданность вашей покровительнице так нелепы, так противоречат всему остальному, что я не в силах понять…
— Я тоже. Но разве сами священники не говорят, что религия основывается не на логике, а на вере?
— Но даже вера… — начал было Пабло, но Габриэль прервал его:
— Ты веришь в бога?
— Я агностик. Я не утверждаю и не отрицаю его существования.
— Ну а я верю в высшее существо. Смешно! Я, верующий, веду себя, как безбожник, а ты, неверующий, придерживаешься христианской морали. Жизнь так противоречива!
Пабло собрался уходить. От головной боли он даже смотрел с трудом.
— Значит, договорились? Я беру на себя вашу защиту и постараюсь воспрепятствовать смертному приговору.
— Напрасно потеряешь время. Но, если это успокоит твою совесть, я не возражаю. И всё же требую, чтобы ты не просил у них снисхождения и не упоминал о моей матери. Дай мне прожить последнюю неделю как мужчине. Заметь, Пабло, как мужчине, а не ангелу или святому. — Габриэль протянул Пабло руку. — Не бойся пожать эту руку. Характер не передаётся, как заразная болезнь, иначе человечество было бы охвачено хронической эпидемией…
Ортега пожал руку Габриэля.
— Увидимся в суде.
— Прошу тебя, добейся, чтобы мне принесли приличную одежду, дали как следует вымыться, и в день суда прислали парикмахера. И ещё вот что, Пабло: не лезь из кожи вон. Не рискуй своей головой. Помни, что я тебе сказал о Роберто Валенсии. Это опасный человек. Суд надо мной может превратиться в суд над тобой…
— Я знаю…
— Если знаешь, зачем берёшься защищать меня?
Ничего не ответив, Пабло повернулся, направляясь к двери.
— Наш падре Каталино, — почти весело крикнул ему вдогонку Габриэль, — любил цитировать один стих из Библии: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Я никогда не верил в это. Кротким достаётся небо, а земля принадлежит мужественным людям.
Ортега стукнул в дверь, которую открыл солдат из охраны, бросил последний взгляд на бывшего посла и вышел в коридор, разжёвывая таблетку аспирина.
44
Даже зная, что Амальгамэйтед Пресс сократит, по крайней мере на две трети, его репортаж о суде над Габриэлем Элиодоро Альварадо, Билл Годкин решил всё же передать самые острые моменты словесного поединка между Роберто Валенсией, выступавшим в роли прокурора, и Пабло Ортегой, защитником подсудимого.
Начинался репортаж с описания зала суда: «Вообразите себе более пяти тысяч человек, жарящихся на медленном огне в огромном помещении с железной крышей, которая накаляется к полудню, как расплавленный металл. К тому же никто в мире не сравнится с гражданами Сакраменто в умении невероятно шуметь в многолюдных собраниях.
Сотни людей в семь часов утра уже были здесь, чтобы занять хорошие места. Они принесли с собой кульки с жареными курами и мясом, сандвичами, пирожками, ветчиной, сыром… Опасаясь хулиганских выходок, власти запретили приносить бутылки и вообще тяжёлые предметы, которые могут пойти в ход, если слова понадобиться подкрепить действиями. Те, кому не хватило сидячих мест, стояли в коридорах или сидели на полу у стен; мужчины, женщины и даже дети, в большинстве своём смуглые, с чёрными, живыми глазами, — все лоснились от пота. И пока «спектакль» ещё не начался, они беседовали, ели, пили, курили, плевались, жевали чикле, выкрикивали приветствия, или вопили «долой», или вдруг разражались свистом либо аплодисментами, причину которых мне не всегда удавалось установить, или же принимались стучать ногами, требуя, чтобы заседание суда скорее начиналось. От жары воздух словно стал густым и жирным, и вентиляторы, жужжавшие в этом просторном помещении, лишь создавали какую-то варварскую смесь из всех этих запахов — человеческого пота, жареного мяса, рыбы, чеснока, лука и табака.
Снаружи около тысячи человек тоже кричали и свистели, возмущённые тем, что не смогли войти. Им придётся следить за процессом, стоя у громкоговорителей, установленных в центре и по четырём углам здания, оцепленного отрядом солдат революционной милиции, которые вооружены пулемётами и бомбами со слезоточивым газом. Говорят, толпа пыталась силой ворваться во Дворец спорта, хотя в громкоговорители было объявлено, что «в зале негде яблоку упасть».
Согласно данным метеорологической службы температура в Серро-Эрмосо в пятницу тринадцатого ноября была тридцать три градуса, влажность воздуха — восемьдесят процентов. Прежде чем войти во Дворец спорта, Билл Годкин взглянул на затянутое облаками небо, и уже не в первый раз ему на ум пришла фраза, которую ему очень хотелось вставить в один из своих репортажей: «В такие дизентерийные дни даже оптимист начинает подумывать о самоубийстве».
Единственная телевизионная компания Сакраменто, уже национализированная, установила в зале телекамеры и прожекторы, которые, вспыхнув, осветили присяжных заседателей, сидевших за длинным столом, членов суда, заморгавших от ослепительного света, и председателя — благодушного старца, который недовольным жестом прикрыл глаза рукой. Мигель Барриос, занимавший почётное место среди присяжных, держался совершенно спокойно, наверное, понимая, что сейчас его изображение появилось на тысячах телевизионных экранов столицы и её окрестностей. Фотографы и кинооператоры тоже принялись за дело. Члены суда обмахивались и отгоняли мух веерами либо папками с фотокопиями многочисленных документов, представленных обвинением. На отведённых для прессы местах более сорока иностранных корреспондентов газет, журналов и информационных агентств что-то писали, говорили по телефону, беседовали между собой, пили без конца ледяной лимонад и вытирались уже намокшими платками.
Председатель суда зазвонил в колокольчик, требуя внимания, но публика замолчала не сразу и не совсем, хотя голос из громкоговорителя объявил, что его превосходительство напоминает, что во время заседания в зале должна стоять абсолютная тишина.
В двадцать минут десятого Габриэль Элиодоро Альварадо в сопровождении конвоя, вооружённого автоматами, появился в зале. Он был в наручниках, без пиджака, но в чистой рубахе и брюках. Его свежевыбритое лицо имело болезненный вид, хотя и оживлялось лихорадочно блестевшими глазами. Время от времени Габриэль облизывал свои потрескавшиеся губы, но шёл, высоко подняв голову и глядя прямо перед собой. Заметив, что бывший посол прихрамывает, Билл Годкин почувствовал к нему сострадание, о котором он упомянул в своих записях, желая, как и положено репортёру, ничего не утаивать.
При виде подсудимого толпа разразилась криками и оскорблениями, совсем как на футболе. Шум долго не стихал, хотя председатель суда беспрерывно звонил в колокольчик, а голос из громкоговорителя требовал тишины, угрожая, что его превосходительство будет вынуждено распорядиться очистить помещение.
Билл Годкин прочёл презрение и ненависть на большинстве лиц. Брань не утихала: «Вор! Убийца! Распутник! Бандит! Развратник! Свинья!»
Выпрямившись на скамье без спинки, Габриэль Элиодоро Альварадо старался ни на кого не смотреть. Кто-то из первых рядов запустил в него тухлым яйцом, которое разбилось о лоб и потекло по лицу, расплывшись на рубахе горчичным пятном. Сержант кинулся в сторону, откуда было брошено яйцо, на короткое время там возникла суматоха. Однако Габриэль Элиодоро продолжал сидеть неподвижно, даже не пытаясь вытереть лицо. Не вывели его из себя и грязные оскорбления, которые выкрикивала толпа. Подсудимый держался невозмутимо, но когда мужской голос, перекрывая другие, крикнул: «Сын потаскухи!» — Билл заметил, что лицо Габриэля Элиодоро исказилось гримасой, а шрам на лбу налился кровью.
С этого момента корреспондент Амальпресс решил забыть о беспристрастной объективности и принялся торопливо записывать не только то, что происходило в зале, но и то, что сам испытывал. Он надеялся использовать эти записи для книги, которую редакторам его агентства не удастся искалечить.
Председатель предоставил слово Роберто Валенсии, и тот, не теряя времени на реверансы, сразу же бросился в атаку: «Мы собрались здесь для того, чтобы судить не только этого человека, но целый режим, мрачную эпоху, которая долгие годы лежала позором на истории нашей родины, угнетая наш несчастный народ!» Он тщательно, ничего не забыв, перечислил преступления, в которых обвинялся подсудимый: злоупотребление властью, незаконное обогащение, биржевые спекуляции, казнокрадство, соучастие в преступлениях федеральной полиции, непосредственное участие в крупной сделке на строительстве нового правительственного дворца. Затем обвинитель перешёл к личной жизни подсудимого, остановившись на оргиях в его знаменитой загородной резиденции неподалёку от Серро-Эрмосо. Два часа он излагал подробные доказательства своих обвинений (одни не очень убедительные, другие неоспоримые). Он назвал десятки людей, которые могли дать показания, и порекомендовал присяжным ознакомиться с подтверждающими его обвинения фотокопиями.
Пропал Габриэль Элиодоро Альварадо. Валенсия мог бы и кончить, так как уже выиграл партию. Однако он продолжал говорить. Он доказывал, что этот «гнойник на теле человечества» был одним из авторов «мифического заговора», приписанного коммунистам и давшего Хувентино Каррере предлог, необходимый, чтобы остаться у власти, создать пресловутое Движение национального спасения, результатом чего явились аресты, пытки и смерть многих невинных людей. Ещё он сказал: «Этот бандит возглавил пятую колонну, действовавшую в столице, когда узурпатор в 1955 году вернулся из изгнания, а помогали этой пятой колонне американские компании «Юнайтед плантейшн» и «Кариббен шугар эмпориум». Он же со своими наёмниками ворвался в правительственный дворец и застрелил президента Хулио Морено!»
Толпа взревела, а потом стала гневно скандировать: «К стенке! К стенке! К стенке!» Так продолжалось несколько минут. Пабло Ортега, сидящий за столом защиты, то делал какие-то пометки, то нервно играл карандашом, то вытирал платком мокрые лицо и шею. Он сильно вспотел, и, мне кажется, я даже видел, как кровь бьётся в его жилах.
Когда наконец стало тихо, Валенсия продолжал: «Я обвиняю Габриэля Элиодоро Альварадо не только в хищениях и убийствах: он виновен в смерти доктора Хулио Морено и косвенно виновен в похищении и убийстве профессора Леонардо Гриса, который был усыплён в Вашингтоне агентами Карреры, по приказу бывшего посла посажен в частный самолёт и, как некогда профессор Хесус Гальиндес, выброшен в море!» Подсудимый наморщил лоб и посмотрел на адвоката, однако тот, низко опустив голову, изучал свои заметки. «Этот безнравственный и развратный человек, — продолжал прокурор, — несёт также ответственность за убийство секретаря сакраментского посольства в Вашингтоне Франсиско Виванко, жена которого была любовницей Габриэля Элиодоро. Он не только способствовал убийству человека, которому причинил столько горя, но и не постыдился запятнать его память ложным обвинением в участии в вымышленном заговоре». Тут почти вся публика вскочила на ноги и снова стала скандировать: «К стенке! К стенке! К стенке!» Председатель напрасно звонил в колокольчик. Несколько солдат, примкнув штыки, ринулись в толпу, послышалась брань, завязалась драка, сержанта ударили по голове, и в конце концов командир охраны приказал солдатам сделать несколько выстрелов в воздух. Поднялась паника, и только минут через двадцать порядок был восстановлен, тишина снова воцарилась в этом миниатюрном аду. Роберто Валенсия продолжал, закончив свою речь следующими словами: «Господа присяжные, мне нечего больше добавить, я лишь прошу вас от имени революционного правосудия и самого народа приговорить Габриэля Элиодоро Альварадо, олицетворяющего собой диктатуру и коррупцию, к наказанию, которого он заслуживает: к смертной казни!» Грянули аплодисменты, раздались крики одобрения, пронзительный свист, оскорбления — казалось, под натиском этой бури рухнут стены спортивного дворца…
45
Председатель суда предоставил слово защите. Пабло Ортега медленно поднялся. Его рубаха цвета хаки была тёмной от пота. Он отошёл от своего стола, поклонился в сторону Мигеля Барриоса и направился к микрофону. Первые же его слова были прерваны оглушительным свистом, мне удалось разобрать выкрики: «Заткнись, предатель!», «Долой фашиста!», «Поставить и его к стенке!» Солдатам снова пришлось восстанавливать порядок. Председатель суда коротко объяснил публике, что закон любому преступнику предоставляет право на защиту.
Пабло Ортега ждал, расставив ноги, как по команде «вольно», и заложив руки за спину. По-моему, он держался спокойнее, чем я предполагал, возмутительное поведение публики, очевидно, не столько пугало его, сколько придавало ему решимости.
Твёрдо и отчётливо он начал свою речь, заявив, что даже не будет пытаться оспаривать доказательства, касающиеся бесчестного поведения своего подзащитного в общественной и личной жизни, но категорически отвергает его обвинение в убийстве доктора Хулио Морено, которое прокурор выдвинул, руководствуясь эмоциями, а не логикой либо неопровержимыми уликами. «Нет ни одного человека, могущего засвидетельствовать, что Габриэль Элиодоро Альварадо был организатором или прямым исполнителем этого преступления. Что же касается убийства профессора Леонардо Гриса, то как можно говорить о нём, если вообще нет уверенности, что оно совершилось? Разве кто-нибудь видел труп профессора?»
Сидевшая в первом ряду смуглая и толстая женщина почти бегом поднялась по ступенькам, ведущим к трибуне, и, прежде чем солдаты спохватились, плюнула в лицо Пабло Ортеге, вызвав дружные аплодисменты. Два солдата схватили её и вывели из зала, где опять начался беспорядок. Внешне спокойный, Пабло Ортега вытирал лицо, и впервые с начала заседания я заметил возмущение на лице подсудимого, который заёрзал на скамье и попытался даже вскочить, но солдаты из охраны удержали его.
Среди шума выделялся мужской голос, дрожащий от негодования: «Неблагодарный! Доктор Грис был твоим учителем и другом!» Пабло ответил на это печально и без злобы: «Я любил доктора Гриса как отца. Если бы я был убеждён, что Габриэль Элиодоро Альварадо хоть в какой-то степени виновен в его исчезновении, я бы пришёл сюда не защищать его, но обвинять!» Однако эти слова вызвали новый взрыв возмущения, и, когда он улёгся, Пабло говорил ещё несколько минут, стараясь доказать нелепость намерения рассматривать Габриэля Элиодоро как олицетворение преступного режима Карреры, Угарте, Сабалы и других бандитов из свергнутого правительства. Подсудимый — человек, а не символ, и судить его надо за преступления, им совершённые. Пабло вновь прервали единодушные выкрики: «К стенке! К стенке! К стенке!», и он, повернувшись к председателю, воскликнул: «Господин председатель, я предлагаю перенести заседание на другой день и в другое место, ибо данному составу присяжных не обеспечены условия, в которых можно спокойно вынести решение: суд испытывает давление со стороны публики, требующей для обвиняемого смертного приговора!»
Поднявшись, Валенсия крикнул: «Протестую! Мы не можем терять время на юридические тонкости. Народ имеет право выражать свои чувства, ведь у нас демократия, а не диктатура! Присяжные же — люди мужественные и достойные доверия, они способны вынести решение, руководствуясь бесспорными доказательствами, представленными обвинением!»
Вновь аплодисменты и яростные вопли. Телевизионная камера повернулась к адвокату, который, взглянув в упор на Роберто Валенсию, крикнул: «Эта революция совершалась для того, чтобы установить социальную справедливость и истинное правосудие, но не для того, чтобы сводить личные счёты! А господина прокурора, похоже, больше интересуют кровавые спектакли на арене для боя быков, чем правосудие. Я признаю своего подзащитного виновным в ряде преступлений, за которые он как опасный для общества элемент заслуживает пожизненного заключения. Осудите его на вечное заключение, но сохраните ему жизнь! На нас смотрит весь мир, и варварское зрелище на большой арене создаёт у других народов превратное представление о нашей революции!» Он вытащил из кармана газетную вырезку и повернулся к Мигелю Барриосу. В позавчерашнем интервью с иностранными корреспондентами, которые спросили, сколько человек ещё будет расстреляно, генерал Барриос ответил буквально следующее. Читаю его слова: «Наша чистка подходит к концу. Мы уже ликвидировали четыреста девяносто девять бандитов. Расстреляв в ближайшее воскресенье Габриэля Элиодоро Альварадо, крупнейшего преступника диктатуры, мы закончим казни. Если господ журналистов интересует статистика, с удовлетворением сообщаю: Альварадо будет пятисотым расстрелянным». Барриос как будто заволновался; приподнявшись со стула, он бросил взгляд на Валенсию, словно прося о помощи. Пабло Ортега повернулся к публике: «Дамы и господа, только что прочтённое заявление Мигеля Барриоса превращает этот суд в трагический фарс!» Сунув газетную вырезку в карман, он поклонился судьям и произнёс: «Я сказал, господин председатель революционного трибунала». Под улюлюканье публики Пабло вернулся на своё место.
Роберто Валенсия опять попросил слова. Председатель кивнул, и он, подойдя к микрофону, с улыбкой поднял руки, прося у публики тишины. Аплодисменты стихли. Валенсия говорил почти двадцать минут, но вся его речь состояла лишь из нападок на Пабло Ортегу: «С тех пор, как этот молодой человек появился в нашем лагере в горах Сьерра-де-ла-Калавера, я понял, что его больше интересуют личные проблемы, нежели освобождение народа от гнёта и нищеты. Выходец из среды крупных помещиков, Пабло Ортега-и-Мурат является самым характерным из известных мне представителей колеблющейся интеллигенции, рабов ложных абстракций. Он принадлежит к числу тех, кто хочет и в то же время не хочет революции, кто хочет и в то же время боится изменения социально-экономической структуры общества». Пабло слушал своего врага, опустив голову и что-то чертя в своём блокноте. «Люди, подобные Пабло Ортеге, — продолжал Валенсия, — носят в себе бациллы, которыми заражены все революции и которые в один прекрасный день перерождаются в дезертирство, саботаж и контрреволюцию». Он указал на Пабло, а тот, сурово нахмурившись, теперь смотрел ему в лицо, скрестив на груди руки. «Этот молодой человек с холёными руками, хорошими манерами и добрыми чувствами (общий смех) несколько лет — заметьте это, — несколько лет получал больше тысячи долларов в месяц от правительства Хувентино Карреры, сначала как секретарь посольства в Париже, а затем в Вашингтоне. И пока наш дипломат не почувствовал угрызений совести, которые заставили его подняться на Сьерра-де-ла-Калаверу, он разъезжал в роскошном автомобиле по улицам Вашингтона, развлекался на приёмах и банкетах, пописывал стихи, а многие из нас в ту пору страдали от пыток и жестокого обращения в застенках Угарте и Сабалы, либо были убиты; наших жён, дочерей и сестёр зверски насиловали полицейские. Много же ему понадобилось времени, чтобы устыдиться своего положения и попытаться искупить вину! Основываясь на этом, дамы и господа, я лишаю Пабло Ортегу права критиковать нашего вождя и этот суд и снова обращаюсь к присяжным с призывом: смерть преступнику Габриэлю Элиодоро Альварадо! Вас не должны растрогать слова этого утончённого поэта, так боящегося крови, которую он увидел впервые, хотя несёт ответственность за то, что она лилась при Каррере!»
Закончив, Роберто Валенсия под гром аплодисментов и одобрительные возгласы вернулся на своё место. Пабло Ортега быстрым шагом подошёл к микрофону, но председатель трибунала объявил: «Прения прекращаются. Присяжные удаляются на совещание для вынесения приговора».
И всё же Ортега обратился к судье: «Господин председатель, только что против меня были выдвинуты серьёзные обвинения, я прошу дать мне десять минут на защиту».
Судья наклонился к Мигелю Барриосу, шепнул ему что-то на ухо, тот кивнул.
«Хорошо, — сказал судья, — капитану Пабло Ортеге даётся ровно десять минут, и ни секунды больше, на «защиту», как он выразился.
Ортега взглянул на Роберто Валенсию, который сидел с бесстрастной улыбкой, придававшей ему сходство с древней статуей.
«Господин прокурор добился того, чего ему давно хотелось: посадил и меня на скамью подсудимых. И выбрал для этого очень удобный случай, когда более шести тысяч человек слышат его в зале суда, сотни тысяч смотрят и слушают трансляцию процесса по радио и телевидению».
Немного помолчав, Пабло снова взглянул на Валенсию: «Но и я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы обвинить его публично в извращении целей нашей революции! Мы ещё не успели сосчитать, сколько граждан Сакрамено пали мёртвыми, были ранены либо искалечены в борьбе против Карреры, но мы в неоплатном долгу перед этими героями и мучениками. Мы обязаны до основания разрушить полуфеодальную олигархию, которая столько лет нас угнетала. Придёт день, когда социальная справедливость восторжествует и у нас в стране. Наш народ действительно должен быть избавлен от нищеты, болезней, невежества, позорное прозябание должно смениться счастливой, богатой и свободной жизнью. Ни одна страна в мире не может мириться с произволом кучки привилегированных семей и иностранных компаний!»
В зале вдруг наступила тишина. Когда Пабло умолкал, казалось, было слышно, как жужжат мухи. Я взглянул на часы. Четверть второго. Уже хотелось есть.
«Одно из зол диктатуры, против которого мы боролись и которое особенно возмущает мыслящих людей, — отсутствие свободы слова и свободы мнений». Указав на Валенсию, Пабло Ортега произнёс громко и отчётливо: «Я обвиняю полковника Роберто Валенсию в том, что он уже сейчас пытается установить законы, направленные на уничтожение свободы слова!»
Валенсия вскочил, и мне показалось, что сейчас он выхватит из кобуры револьвер и застрелит Ортегу. Однако он тут же сел, и на его лице вновь появилась всё та же бесстрастная улыбка.
«Роберто Валенсия, — продолжал Пабло, — закладывает основы тоталитарного государства, в котором все мы вновь перестанем быть людьми, превратясь в статистические и бюрократические единицы, иначе говоря, в абстракцию!»
Валенсия не сдержался: «Да перестань ты болтать, идиот!»
Пабло Ортега с улыбкой обратился к публике: «Именно это я и утверждал. Роберто Валенсия предпочитает оскорбления диалогу».
Председатель ударил в тимпан, и Ортега взглянул на свои часы: «У меня ещё семь минут, ваше превосходительство».
«Если капитан Ортега действительно хочет диалога, — поднявшись, крикнул Валенсия, — я ему отвечу: революция совершается не поэтами, художниками и литераторами, которые боятся крови и насилия, не наивными мечтателями, но людьми, которые, когда это необходимо, сначала стреляют, а уже потом задают вопросы. Перед нами сильный враг, которому покровительствует одна из самых могущественных на земле империалистических держав. Если меня и можно в чём-нибудь обвинить, то лишь в том, что я точно знаю, чего хочу и защищаю определённую идеологию».
Валенсия сел, в зале раздались аплодисменты.
«Идеология! — подхватил Пабло. — Я рад, что бесстрашный полковник употребил это слово… А по-моему, оно растягивается, как резина, в зависимости от политических требований. Если идеологию не заключить в строгие рамки морали и этики, она в конечном итоге станет антигуманной и под её сенью расцветёт тирания. Полковник Валенсия сказал, что революция совершается людьми, которые сначала стреляют, а уже потом задают вопросы. Я знаю, как называются эти люди: «фанатики». Я видел их в чёрной сутане, в мундире полицейского или на бое быков, требующих смерти быка, тореадора или из обоих!»
Зал разразился криками. Пабло же следил по часам, сколько времени продолжится этот шум, и, когда тишина восстановилась, продолжал:
«В заключение я хочу заверить не только полковника Валенсию, но также всех, кто меня слышит, что я не намерен ни дезертировать, ни совершать акты саботажа, ни тем более принимать участие в контрреволюции. Потому что эта революция наша, она не может подчиняться ни Вашингтону, ни Москве». Он снова повернулся к Валенсии: «После всего сказанного мною сегодня Центральный революционный комитет может применить ко мне любые санкции. Но как бы там ни было, я хочу, чтобы мои слова послужили предупреждением: если мы сочтём, что для фундамента нового Сакраменто лучшим цементом явятся кости и кровь наших врагов или тех, кто с нами не согласен, мы можем не избежать опасности повторить трагическую историю латиноамериканских диктатур. Потому что, если в фундаменте этого прекрасного здания, которое станет нашим будущим, кроме нашего труда, нашей мысли, нашей честности, нашей неусыпной бдительности, не будет терпимости и любви, наш дом окажется построенным на песке!»
В свете прожектора бледный, с синими губами, Пабло Ортега вернулся на своё место. Председатель объявил, что присяжные удаляются на совещание.
Валенсия продолжал сидеть, скрестив на груди руки, но бесстрастная улыбка древней статуи исчезла с его лица.
46
На следующий день подзаголовком «Бывший посол в Вашингтоне приговорён к смерти» «Вашингтон Пост» опубликовала следующее сообщение: «Серро-Эрмосо, 14 (от Уильяма Б. Годкина, корреспондента Амальпресс). Габриэль Элиодоро Альварадо, который до сентября нынешнего года занимал пост посла республики Сакраменто в Соединённых Штатах, вчера был приговорён к смерти народным трибуналом, созданным революционными силами, захватившими власть после свержения правительства Хувентино Карреры.
Прокурором на процессе был полковник Роберто Валенсия, генеральный секретарь временного правительства, защиту подсудимого взял на себя капитан Пабло Ортега, который почти два года выполнял обязанности первого секретаря сакраментского посольства при Белом доме и Организации американских государств.
Габриэль Элиодоро Альварадо будет расстрелян завтра в десять часов утра на большой арене для боя быков в Серро-Эрмосо».
— Как это отвратительно! — воскликнула Клэр Огилви, бросая газету на стол. Орландо Гонзага, который несколько минут назад встретился с нею в этом баре на Коннектикут-авеню, где он прежде часто бывал с Годкином и Ортегой, молча кивнул и отпил из стакана с коктейлем. Это уже был третий, Клэр выпила столько же, пока они тепло и не без грусти вспоминали Пабло.
Клэр открыла сумочку, вытащила из неё связку ключей и швырнула её на газету, пробормотав:
— Ключи от посольства и канцелярии. Видишь, Гонзага, какие шутки выкидывает жизнь… Я, Клэр Огилви, гражданка Соединённых Штатов — поверенная в делах республики Сакраменто… пока не прибудет новый посол.
Гонзага покачал головой.
— Он прибудет не так-то скоро. Держу пари, государственный департамент помурыжит этого Мигеля Барриоса.
— Я иногда бываю в канцелярии, — задумчиво проговорила Клэр, — открываю окна и, дрожа от холода — здание не отапливается — брожу одна по коридорам и комнатам, вспоминая о тех, кто здесь был… И мне начинает казаться, что я на кладбище… Холод только усиливает это ощущение. Там могила доктора Хорхе Молины… Дальше — могила генерала Угарте. Вхожу в кабинет дона Габриэля Элиодоро и слышу аромат его гаваны и его духов, которыми он злоупотреблял… И вдруг натыкаюсь на суровый взгляд дона Альфонсо Бустаманте, старик будто требует от меня отчёта о делах Сакраменто… В коридорах оживают призраки похотливых лейтенантов, капитанов и майоров, которые так любили рассматривать бюсты и ноги машинисток… только не Мерседиты, конечно. Плавно, как в танце, проплывает Титито… Бумажные голуби Виванко парят передо мной, а может, это его послания с того света… Но когда я вхожу в кабинет, где работал Пабло, сердце у меня сжимается и я реву, как дура, пока не вспоминаю, что могу простудиться в этом мавзолее. Тогда я вздыхаю, закрываю двери и окна и возвращаюсь домой. Гарсон, ещё один «манхаттан», пожалуйста! Что с тобой, Гонзага? У тебя тоже дела обстоят неважно?
— Увы, да. Посольство предупредило правительство о том, что бразильские дельцы готовятся приобрести большую партию фасоли, но сделка всё же состоялась, а потом выяснилось (газеты писали об этом скандале), что фасоль оказалась гнилая.
Принесли коктейль.
— Что же теперь? — спросила Клэр.
— Ничего. — Гонзага сделал глоток. — Гнилая фасоль! Поистине символ нашего режима, нашего правительства и наших политиков. Бразилию, Клэр, грабят все, кому не лень, изнутри и снаружи… И никто не отвечает за это, никого не сажают в тюрьму. Мы безгранично добры, наше сердце из чистого золота! Мы такие весёлые и считаем, что весь мир должен нас обожать. Ведь мы так гостеприимны и так хорошо говорим! Мы над всеми смеёмся, в том числе и над собой. Мы знаем лекарства против болезней, поразивших другие страны, но свои лечить не можем. Обаяние в Бразилии ценят превыше всего. И наше обаяние, Клэр, наше стремление казаться хорошими парнями губит нас как нацию, хотя в кругу друзей мы можем быть очень приятными. В Бразилии за обаяние прощают всё. Поэтому симпатичные, безответственные и легкомысленные бразильцы ждут, что всё упадёт им с неба, поэтому он голосуют за невежественных или же нечестных людей, претендующих на общественные посты. Если бразилец — правитель или политик, он, желая прослыть обаятельным, согласится на всё, о чём его просят, хотя и не выполнит обещанного. Добрые парни, мы предоставляем доходные места или концессии — не всегда законные — родственникам, приятелям, кумовьям, знакомым… и — чёрт возьми! — самые большие уступки делаем себе, удовлетворяя все свои прихоти. И эта наша доброта, наше золотое сердце мешают нам требовать соблюдения закона, а в результате бандиты и воры остаются на свободе и становятся нашими сенаторами, депутатами, губернаторами и даже президентами. Мы считаем, что все должны помогать нам, не требуя у нас ничего взамен, ведь мы такие симпатичные! Такие умные, такие изобретательные! А между тем мы ничего не планируем, производим мало, тратим слишком много, и вечно уповаем на какое-то волшебство, ибо у нас всерьёз полагают, что даже deus ex machinа — выдумка бразильца. Ах, Клэр, неужели ты не заметила, как мы обаятельны? Мы обаятельны настолько, что привыкли мириться с нищетой, в которой живёт более двух третей нашего населения… Жуткой нищетой на северо-востоке Бразилии, она может сравниться лишь с азиатской… И так как мы симпатичны и добры, мы иногда по воскресеньям ходим к мессе, издали улыбаемся богу, считая его, должно быть, тоже симпатичным парнем, подаём милостыню нищим, надеясь таким образом разрешить социальные проблемы…
— Ты преувеличиваешь, Гонзага. Бразильское сальдо не столь уж дефицитно.
— Знаю, но сегодня у меня мрачное настроение, и я уже почти напился.
— Через несколько лет Бразилия станет одним из самых мощных государств мира.
— Не буду с тобой спорить, но эта песня мне уже изрядно надоела. Страна будущего… чёрт возьми! — Гонзага допил залпом коктейль. — Не думай, что я выгораживаю себя, я ничтожество. Но ещё большее ничтожество — мой уважаемый отец, к тому же он отпетый негодяй!
— Не говори так о своём старике!
— Моя бабушка была воплощённая добродетель, разумеется, в политическом смысле этого слова. А доктор Северино Гонзага — сенатор от партии, которая, как и все прочие, представляет собой сборище рвачей и попрошаек без определённой политической и социальной программы. Те, кто помельче, просят доходных мест и других благ, за которые расплачиваются голосами, аплодисментами и приветственными криками на митингах. Те, кто покрупнее, обладая властью и престижем, используют своё положение, чтобы совершать сделки, законные и незаконные, тешить своё тщеславие… Исключение составляют лишь очень немногие, их можно сосчитать на пальцах. Так вот, сенатор Гонзага, благослови его господь, разводит породистых лошадей… Это ещё куда ни шло. Другие делают вещи похуже. ООН или какая-то другая международная организация, взявшая на себя заботу о голодных детях, отправила однажды в Бразилию бесплатную партию порошкового молока. Но это молоко до места назначения не дошло и было продано, обрати внимание, продано на чёрном рынке. И сенатор Гонзага, весьма симпатичный человек, купил несколько сот мешков сухого молока и кормит им своих породистых лошадей! Великолепно! Сколько детей умирает ежедневно в Бразилии? Не знаю! Я не силён в статистике. Наверное, сотни, а может, и тысячи… Представь себе красивую породистую лошадь, скачущую на ипподроме перед возбуждённой толпой, в которой выделяются элегантные дамы, надевшие свои самые дорогие платья и шляпки, чтобы попасть в светскую хронику и иллюстрированные журналы… Ты не находишь, что дамы и лошади куда красивее и благороднее худосочных, больных и голодных детей Бразилии? И уж конечно, им, а не детям, надо отдать наше молоко и наши симпатии!
— Перестань пить, Гонзага!
— Пить я перестану, но не говорить. Скольких тонн сухого молока лишились бразильские дети? Никто не знает, и никто ни у кого не требует отчёта. Мы все на редкость симпатичны. Сенатор Гонзага — истинный джентльмен, акционер банка, который ссужает деньги под очень высокий процент. И не смотри на меня так, потому что и в твоей замечательной стране совершаются грязные сделки…
— Не мы, дорогой мой, создали человека.
Орландо Гонзага уставился на дно своего стакана.
— Не думай, что я уважаю себя за эти разглагольствования. Повторяю, я ничтожество. Вот Пабло настоящий мужчина, он принял правильное решение. А я паразит, как и мой отец, который, подобно большинству крупных коммерсантов и промышленников Бразилии, утаивает доходы, чтобы не платить налоги, и на эти деньги покупает доллары, которые вкладывает в банки Швейцарии или Манхаттана. Ещё один банк Швейцарии, бой… то есть, ещё один «манхаттан»!
Клэр, однако, сделала знак гарсону и попросила счёт.
— Пошли, Орландо.
— Плачу я, поскольку я очень симпатичен.
Он вырвал счёт из рук официанта. Взглянув на часы, Клэр вздохнула.
— Почти семь. Подумать только, наступает последняя ночь дона Габриэля Элиодоро! Представляешь, что он сейчас чувствует, ожидая смертного часа?
— Кстати о доне Габриэле Элиодоро. Он тоже симпатичный. Настолько, что дурак Пабло рисковал своей головой, защищая этого каналью… — Поднеся руку ко лбу, Гонзага сделал движение, будто запирал что-то на ключ. — На сегодня хватит, я остановил свою мозговую машину. Хочешь пообедать со мной? Нет? С кем-то уже условилась? Что ж, пообедаю один. Потом пойду в кино, посмотрю широкоэкранный стереофонический фильм, очередную чушь, состряпанную в Голливуде. И, наверно, разозлившись, уйду на середине, сяду в машину и поеду искать женщину на ночь.
— Это не решение вопроса.
— Согласен, зато другой вопрос будет решён хотя бы на одну ночь…
Они встали. Гонзага заплатил по счёту, и солидные чаевые заставили гарсона показать золотой зуб, что случалось очень редко.
Уже в дверях бразилец спросил:
— Но каково же решение?
— Говорят, что, умирая, писательница Гертруда Стайн спросила мисс Токлас, свою верную компаньонку: «Каков ответ?» И, прежде чем та успела открыть рот, добавила: «Но каков вопрос?»
Промозглый ноябрьский холод охватил их.
47
В тот же субботний вечер Пабло Ортега и Билл Годкин, только что пообедав, шли по Пассео-де-Боливар. Рекламы не горели, так как новое правительство нормировало потребление электроэнергии. Однако уличные фонари в колониальном стиле, стоявшие вдоль тротуаров, были зажжены и придавали главной улице Серро-Эрмосо праздничный вид. Народу было много, кафе, кино, рестораны и бары переполнены. Многие носили форму революционной милиции. Почти все лица выражали умиротворённость и веселье. Солдаты гуляли под руку с девушками, громко смеясь и напевая, или сидели на скамейках бульвара, тесно прижавшись к подружкам и застыв неподвижно, как статуи. Пабло улыбнулся, вспомнив Гленду Доремус, потом Кимико Хирота и, наконец, Пию… Её фамилию он забыл, а может и не знал никогда.
Вчера, после утомительного дня в суде, он нашёл отдохновение в объятиях машинистки, своей подчинённой. Эта смуглянка с миндалевидными глазами, чем-то напоминавшая мисс Хирота, охотно пошла с ним. Пабло как никогда нуждался в женской ласке.
— Я уснул, обнимая её, — рассказывал он сейчас Годкину, — а когда проснулся на рассвете, её в постели не было. Я услышал какой-то шорох, повернул голову и увидел, что она роется в моих бумагах на письменном столе, потом в ящиках комода, наконец в карманах моего костюма… Я притворился спящим, а она вернулась в постель и снова обняла меня…
— Шпионка Валенсии?
— Возможно.
— А теперь взгляни на того субъекта в белом костюме и панаме. Он был в ресторане и, пока мы ели, не сводил глаз с нашего столика, а потом пошёл за нами.
Годкин и Ортега свернули с центральной улицы, которая, по мнению журналиста, потеряв национальный колорит, приобретала американский благодаря небоскрёбам, закусочным и кафетериям. Они направились в старую часть города — Пабло любил её узкие улицы, мощённые брусчаткой, её дома, выложенные изразцом, её испанские карнизы, порталы и крыши. И пахло здесь чем-то старинным: оливковым маслом, жжёным сахаром, лавандой, жимолостью, подвальной плесенью и воском.
Иногда друзья останавливались полюбоваться внутренним двориком в севильском вкусе. Билл следовал за Пабло и вскоре понял, куда тот направляется: минут через двадцать они оказались перед домом Ортега-и-Мурат. Пабло приблизился к железным воротам, обеими руками вцепился в решётку и долго смотрел на родной дом. «Как узник», — подумал Годкин. Окна по-прежнему были закрыты. Годкин знал, что больная донья Исабель с поистине испанской гордостью отказывается не только видеть сына, но и отвечать на его телефонные звонки.
Друзья пошли дальше, и, когда Билл остановился у фонаря набить трубку, Пабло, осторожно оглянувшись, увидел всё того же человека в панаме.
— Как ты думаешь, Билл, мать смотрела трансляцию из спортивного дворца?
— Может быть. А тебе хотелось бы, чтобы она была там?
— Не знаю. Всё так сложно…
Выйдя на слабо освещённую улицу, друзья вдруг обнаружили, что уже совсем стемнело: над ними простиралось необъятное тёмно-синее небо с мерцающими звёздами.
Они повернули к центру, и тут Билл как бы невзначай пробормотал:
— Да, забыл тебе сказать: я уже купил билет на завтра. По-моему, больше мне в Сакраменто делать нечего.
— В котором часу ты улетаешь?
Билл покачал головой.
— Не надо меня провожать. Я не люблю прощаний. Лучше пожмём друг другу руку у дверей моей или твоей гостиницы. Договорились?
— Хорошо.
— Хочешь мне что-нибудь поручить?
— Передай Гонзаге и Клэр, что я скучаю по ним и часто их вспоминаю. А когда у тебя будет время, черкни мне несколько строк.
Они проходили мимо кафе.
— Давай выпьем чего-нибудь холодного, — предложил Пабло. — А заодно я напишу записочку, которую попрошу тебя передать мисс Хирота.
Усевшись за столик, они попросили мороженого. Сиреневый свет телевизионного экрана рассекал густой табачный дым. В кафе было много народу, и все смотрели в сторону телевизора, слушая комментарии о суде над Габриэлем Элиодоро. Годкин заметил, что Пабло смутился, очевидно боясь быть узнанным. Но никто даже не взглянул на них. Ортега вытащил записную книжку, вырвал из неё листок и написал:
Безрассудный садовник Всю жизнь он выращивал, Того и не ведая, Цветок своей смерти.И вдруг увидев презрительную улыбку Валенсии, раздражённо скомкал листок и сунул его в карман.
— Я передумал. Лучше позвони мисс Хирота и скажи, что я иногда вспоминаю о ней. Впрочем, не надо. Сейчас Вашингтон далёк от меня так же, как другие города, где я когда-то жил…
Диктор говорил о предстоящей назавтра казни «знаменитого сообщника Карреры» Габриэля Элиодоро, которая завершит собой карательную фазу революции. Потом сообщил, что все билеты на арену для боя быков уже проданы, но «камеры нашей мощной станции» будут транслировать завтра казнь с первой до последней минуты.
— Давай уйдём, — прошептал Пабло, кладя пять лун на мраморную крышку столика. — От всего этого меня начинает тошнить.
После дымной духоты кафе приятно было вдохнуть чистый ночной воздух. Человек в панаме стоял на углу.
— Что теперь, Пабло?
— Я уже говорил тебе, что остаюсь. Я не струшу. И постараюсь повлиять на Центральный революционный комитет. Я не один. Сегодня утром ко мне приходили товарищи, с которыми я воевал. Они заверили меня, что согласны со мной и не хотят мириться с диктатурой Валенсии.
— А если это его агенты?
— Пусть! Я не затеваю контрреволюционного заговора, а лишь пытаюсь вести диалог… И ещё хочу, чтобы Барриос и другие руководители выполнили обещанное в манифестах и речах: установили социальную справедливость и создали правительство, гарантирующее нам демократические свободы… Кроме свободы отнимать свободу у других… Мой бедный народ не может быть ещё раз обманут!
Некоторое время они шагали молча, и человек в белом шёл за ними, отстав метров на тридцать.
— Как видишь, — улыбнулся Пабло, — Валенсия не старается скрыть, что за мной следят. Он хочет меня запугать, но это смешно.
— Напрасно ты недооцениваешь Валенсию. Он очень опасен.
— И всё же он человек. Его суровость меня не пугает, я готов встретиться с ним лицом к лицу. Я вложил в эту революцию всё, что имел, и хочу получать дивиденды не в виде командных постов и крупных сумм, но в виде благ, распределённых среди несчастных сакраментцев. Я не собираюсь эмигрировать либо пускать себе пулю в лоб. Я останусь. Оказывается, я упрямее, чем я думал. Эта революция помогла мне узнать себя, даже если она не послужит ничему больше. Признаюсь, моё пребывание в аду не было для меня совсем неприятным.
Годкин кивнул. Они остановились у гостиницы «Серро-Эрмосо-Хилтон» и какое-то время стояли молча. Потом пожали друг другу руки.
— Прощай, Пабло. Я всегда буду счастлив тем, что дружил с тобой.
— Спасибо за всё, Билл. Я не скажу «прощай» — «до скорого свидания». — Он улыбнулся. — И прошу тебя, выбрось этот ужасный галстук цвета желчи. Я тебе пришлю другой…
Американец снова кивнул и вошёл в гостиницу. Закурив сигарету, Пабло вспомнил о Габриэле Элиодоро, но тут же прогнал эту мысль. Он сделал всё возможное, чтобы его спасти. Совесть Пабло была чиста. Голова стала ясной и больше не болела.
48
Пабло направился к своей гостинице, человек в белом пошёл за ним.
После суда Габриэля Элиодоро отвезли в подвал здания, где прежде размещалась центральная полиция. В этой камере он должен был ждать казни.
На рассвете в субботу он расхаживал по камере, волоча ногу, ноющую от боли. В камере не было электричества, и она скудно освещалась свечой в латунном подсвечнике, стоявшей на грубо отёсанном столе. У стола сидел, опустив седую голову на грудь, старый священник. Это был падре Каталино Сендер, который пришёл из Соледад-дель-Мар, чтобы поддержать осуждённого в его последние часы. Слабое пламя падало на жёлтое, морщинистое лицо священника.
— Перестань ходить, Габриэль, — попросил он своим слабым и хриплым от хронической простуды голосом.
— Да, я уверен! — воскликнул осуждённый. — Абсолютно уверен! Именно в этой камере ровно тридцать шесть лет назад я просидел два месяца. Нас было пятеро парней, все совсем молодые. Полиция схватила нас, когда мы писали на стенах города лозунги… Я отлично помню, что написал где-то здесь: «Долой диктатуру! Да здравствует свобода!» Подписался и поставил число… Ноябрь или декабрь двадцать третьего года. Я не сомневался, что меня расстреляют. — Он взглянул на свои руки. — У меня не было ни карандаша, ни угля, и я нацарапал это ногтями…
Хромая, он подошёл к столу, взял свечу и стал осматривать сырые, покрытые плесенью стены, что-то тихо бормоча себе под нос. Потом опустился на колени, снова поднялся со стоном. Габриэль весь дрожал, он ослаб от высокой температуры.
— Дайте-ка мне ваши очки, падре. Я ничего не могу разобрать…
Священник вытащил очки из кожаного очешника и протянул Габриэлю Элиодоро, который, кое-как надев их, снова принялся искать надпись. Падре вернулся на своё место, его сморщенные губы задвигались, произнося слова молитвы. Он был подавлен: Габриэль Элиодоро отказывался от исповеди. «Бог знает меня. Знает мои грехи и добродетели. Он судья беспристрастный и свершит своё правосудие. Если я действительно преступник, он накажет меня. Не настаивайте, падре. Я не стану исповедоваться. Я ни в чём не раскаиваюсь», — сказал Габриэль.
Поднося свечу к стенам камеры, Габриэль Элиодоро с трудом разбирал каракули, оставленные виновными и невиновными. Попадались и непристойные рисунки. «О Мариэтта, отдавшая мне…» «Начальник полиции — трус». «Чаморро рогоносец». «Да здравствует родина!» «Прощай, дорогая мамочка, я умираю с мыслью о тебе». «Мужчины умирают стоя…» «Клянусь богом, я невиновен…» «Моё имя — Антонио Перес, моя судьба — ад».
«Кажется, — пытался вспомнить Габриэль Элиодоро, — я писал стоя на коленях, пожалуй, в том углу».
Он с трудом добрался до противоположной стены и сел на пол, задыхаясь. Воск капал ему на пальцы, рана сильно болела, лоб пылал. Его надпись была нацарапана большими буквами, а под конец ногти обломались, и он кровью нарисовал сердце.
Габриэль заставил себя подняться и почти в бреду продолжал осматривать стены камеры, но падре, обняв его за талию своей худой слабой рукой, отвёл к столу и усадил.
— Успокойся, Габриэль. Ведь это было тридцать шесть лет назад, и стены с тех пор не раз перекрашивали…
— Нет, падре! Ни один начальник полиции ни при одном правительстве никогда не красил такие подвалы, в них всегда полно всякого сброда. Однажды здесь набралось около пятидесяти человек, и все они отправляли естественные надобности прямо на пол. Вонь стояла невыносимая. Кого здесь только не было: политические заключённые, мошенники, распутники, пьяницы. И всё же я должен найти свою надпись… Должен!
— Зачем, сын мой?
— Хочу найти то, что напомнит мне о другом человеке: двадцатилетнем Габриэле Элиодоро. Революционере. Борце против диктатуры.
— Допустим. Но даже если ты найдёшь эту надпись, молодость не вернётся.
— Знаю, и всё же сейчас ничего другого у меня нет. Ровным счётом ничего.
Священник приложил руку ко лбу Габриэля.
— У тебя, наверное, высокая температура. Я просил директора тюрьмы, чтобы он прислал врача, но так никто и не пришёл.
— Врача? Зачем, если завтра меня не станет? Гангрена убивает медленнее, чем карательный взвод.
Габриэль Элиодоро уставился на пламя свечи и вдруг воскликнул:
— Проклятая камера! В ней не поймёшь, ночь сейчас или день. У вас никогда не было часов, а мои кто-то стащил… Может быть, уже светает.
— Почему бы тебе не написать письмо своим близким? У меня карандаш и бумага…
— Нет. Может вырваться жалоба. Напишите вы, падре, позднее. Скажете, что я много думал о них в свою последнюю ночь. Пусть они простят меня… Я был плохим мужем, плохим отцом, плохим дедом… И пусть не волнуются обо мне. Смерть не самое страшное, что может случиться с человеком.
Падре Каталино прижал руки к животу.
— Язва болит?
— Немного. Но это ничего. Я привык.
— Уходите, падре. Вы больны, и бессонная ночь вам не пойдёт на пользу.
— Дай я взгляну на твою рану… Сейчас тебе хорошо бы пропотеть… Если б был аспирин… Или что-нибудь болеутоляющее…
— Не беспокойтесь. Боль я умею переносить. Но скажите, падре, зачем вы пришли?
Священник пожал плечами и грустно улыбнулся.
— Думал, что смогу тебя немножко поддержать.
Габриэль Элиодоро потянулся к глиняному кувшину, сделал большой глоток, потом поднялся и, взяв свечу, стал снова осматривать стены.
— Храбрый этот парень… — пробормотал он.
— Кто?
— Пабло Ортега. Не испугался Валенсии и этих варваров, готовых меня растерзать. И сдержал своё обещание: не просил у них милосердия, не унижал меня, не вспоминал о моей матери. Я не выношу сострадания, даже ненависть для меня легче. — Габриэль с подозрением покосился на священника. — А вы, падре, тоже, может быть, пришли из сострадания?
Тот покачал головой.
— Нет, сын мой. Точнее будет сказать: из любви.
Габриэль Элиодоро растянулся на койке.
— Я думал, что умру в пять утра у кладбищенской стены, как Хуан Бальса. С пятью пулями в груди.
Дрожащими руками он провёл по волосам.
— А не в десять на арене для боя быков. Под оркестр, исполняющий пасодобль… Как на празднике… В десять утра, падре. Так почему бы вам не поспать немного?
— Нет, сын мой. Человеку в моём возрасте это уже не так нужно. А вот тебе не мешало бы поспать. Закрой глаза, я расскажу тебе что-нибудь…
— Я не ребёнок…
— Именно ребёнок. Для меня ты всегда был мальчиком, который прислуживал мне в соледадской церкви. Попробуй заснуть.
— Через несколько часов я засну навсегда.
— Навсегда? — Священник покачал головой. — Ты проснёшься в мире лучшем, чем этот.
— В аду?
— Надо верить в милосердие божье.
Каталино Сендер взял бутылку с молоком, стоявшую рядом с его стулом, и налил немного в жестяную кружку.
— С твоего разрешения…
Он пил молоко, не спуская глаз с осуждённого, который метался на койке. Наступило долгое молчание. Свеча догорала, где-то далеко слышался собачий лай, доносившийся, казалось, из прошлого, когда Габриэль Элиодоро бродил по улицам Соледад-дель-Мар, боясь вернуться домой.
— Падре, вы, конечно, помните мою мать…
— Ещё бы!
— Она исповедовалась вам?
— Очень редко, к сожалению.
— Она говорила, кто был мой отец?
— Нет. Никогда. А если бы и сказала, я бы не мог нарушить тайну исповеди.
— Ладно, теперь это уже не имеет для меня значения.
Снова наступило молчание. Падре Сендеру показалось, что Габриэль уснул. Он покрыл его солдатским одеялом, от которого пахло псиной, как от мокрой собаки.
— Должна же она где-то быть, — пробормотал осуждённый.
— О чём ты, сын мой?
— О фразе, которую я нацарапал. Мне было двадцать лет. Помните день, когда вы отвели меня на вершину Сьерры? Я ещё сказал, что хочу умереть за свободу. А за что я умру? Ни за что. Бесполезная смерть.
— Бог пишет прямо на кривых линиях, и пальцы его тоже иногда кровоточат.
Габриэль Элиодоро закрыл глаза, он весь дрожал. И пока он бредил, ему казалось, что он в горах, молодой и свободный, рядом с небом и кондорами… Потом он спросил:
— В котором часу за мной придут?
— Не знаю, друг мой. Вероятно, в девять или полдесятого.
— Я хочу обратиться к вам с просьбой, падре. Вы пользуетесь у Барриоса авторитетом… Попросите его, но только от своего имени, чтобы мне не связывали рук и не завязывали глаз. Я хочу умереть как человек, а не как зверь. Хочу смотреть смерти в лицо.
— Твоё желание будет выполнено. Даю тебе слово.
Габриэль Элиодоро как будто немного успокоился и принялся теребить ладанку с изображением богородицы, словно ребёнок, который не может заснуть без игрушки.
49
Как писал политический обозреватель газеты «Революсьон», казнь Габриэля Элиодоро Альварадо в воскресное утро 15 ноября 1959 года представляла собой «незабываемое зрелище, полное символического значения». Метеорологическая служба сообщала накануне, что в ближайшие сутки удержится хорошая погода: температура от 23 до 28 градусов, влажность воздуха не больше 60 процентов, ветер восточный, умеренный.
По общему мнению, ещё никогда на арене для боя быков не собиралось столько публики, если не считать памятной корриды 1923 года со знаменитым испанским матадором Манолете.
Небо в это воскресенье было девственно голубым, и ласковый солнечный свет, скорее серебристый, чем золотой, заливал бархатную зелень на холмах и в парках, а также крыши столицы Сакраменто.
Сотни людей, опасавшихся остаться без места, хотя и имели билеты, так как нумерованные места были только для властей и представителей печати, начали собираться с семи часов утра.
Около девяти часов арена уже была полна, и власти распорядились закрыть ворота. Полицейским отрядам пришлось наводить порядок и даже прибегнуть к бомбам со слезоточивым газом, чтобы сдержать толпу, которая окружила арену и штурмовала ворота, напоминая о своём праве присутствовать на казни.
Обозреватель «Революсьон» писал: «Приятно было видеть народ, представителей всех социальных слоёв, за исключением, конечно, развращённой олигархии и так называемых «высших классов», собравшихся на большой арене в трогательном единстве, поющими и танцующими под звуки пасодобля и болеро, которые исполнялись превосходным оркестром отважной пожарной команды. Когда мы смотрели на скамьи, в особенности на освещённые солнцем, на эти непрерывно движущиеся яркие флажки, платки и мантильи самых разнообразных оттенков, нам казалось, что перед нами гигантский красочный калейдоскоп. Песок же под лучами солнца казался медным…
Когда председатель Центрального революционного комитета генерал Мигель Барриос в сопровождении членов своего правительства вошёл в ложу для почётных гостей, тридцатитысячная толпа встала и устроила овацию, которая продолжалась более десяти минут. Затем был исполнен национальный гимн».
Режиссёр телевидения обещал накануне обеспечить «драматичную и правдивую трансляцию казни. Господа телезрители увидят одновременно карательный взвод, дающий залп, и лицо осуждённого крупным планом в то мгновение, когда пули войдут в его тело».
В двенадцать минут одиннадцатого Габриэль Элиодоро Альварадо и вооружённый конвой вышли на арену. Габриэль шёл с трудом, рана в ноге болела, и он кусал губы, чтобы не закричать. Однако старался ступать твёрдо держать голову высоко.
Толпа тотчас же разразилась свистом и криками, хотя и не столь свирепыми, как на суде. В конце концов день сегодня выдался отличный, многие уже сходили к утренней мессе, а весёлая музыка настраивала на праздничный лад, совсем как перед спортивным соревнованием.
Падре Сендеру, который шагал рядом с осуждённым, удалось добиться, чтобы Габриэлю не связывали рук и не завязывали глаз в решающую минуту.
Габриэль Элиодоро поднял лицо, и солнце ослепило его. Но это не мешало ему видеть толпу. Холодный пот струился по его лихорадочно горевшему телу. Он чувствовал, что рядом с ним движется чёрная фигура падре, прижимавшего к груди тёмное распятие.
— Стой! — крикнул лейтенант, командовавший взводом, который уже был выстроен в центре арены.
Габриэль Элиодоро не услышал приказа, он сделал ещё несколько шагов, но падре Каталино удержал его за рукав. Два солдата взяли осуждённого под руки и подвели к огромной железной плите, поставленной против ворот, откуда в дни коррид выпускали быков. Из громкоговорителей раздался внушительный громоподобный голос, исходивший, казалось, с неба, как глас божий, возвещающий о страшном суде. Медленно и трагически он зачитал приговор. Публика молча выслушала список преступлений, совершённых врагом родины, и апокалиптический голос умолк.
Лейтенант подошёл к ложе Барриоса и, щёлкнув каблуками, отдал честь. Тот встал и кивнул головой. Раздалась барабанная дробь.
Падре Каталино Сендер подошёл к осуждённому и прошептал ему на ухо: «Мужайся, сын мой. Через несколько минут ты будешь в руках всевышнего». Затем поднёс распятие к губам Габриэля Элиодоро, который сначала поцеловал распятие, потом ладанку с изображением богородицы Соледадской, своей покровительницы, и приготовился умереть.
Но ярость вдруг закипела у него в груди. Лейтенант крикнул: «Готовься!» Десять вооружённых против одного безоружного! Он был один, и у него отобрали всё, кроме страдающего больного тела и гниющей, вонючей ноги… А теперь эти трусы готовятся стрелять в него. «Целься!» — прокричал лейтенант в солнечной утренней тиши.
Габриэль Элиодоро оглядел арену и, собрав последние силы, хрипло прорычал всем этим людям, которые пришли насладиться его смертью:
— Эй, вы! Завещаю свой хуй Национальному музею!
И так как ему показалось, что лейтенант, командовавший взводом, замешкался, он снова крикнул, чувствуя себя почти счастливым:
— Да стреляйте же, сукины…
Залп прервал его. Обливаясь кровью, он скорчился и упал на землю. Оркестр заиграл военный марш. Толпа завопила: «Оле! Оле! Оле!»
Вынув револьвер из кобуры, лейтенант с каменным лицом подошёл к ещё подёргивающемуся телу Габриэля Элиодоро Альварадо и выстрелил ему в голову, будто поставил точку.



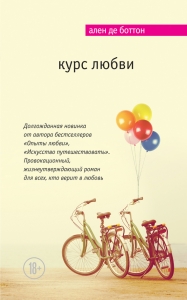

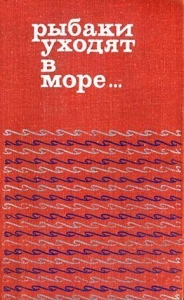
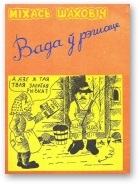
Комментарии к книге «Господин посол», Эрико Вериссимо
Всего 0 комментариев