Юлия Добровольская Голос ангела
Кристине и Дагу с любовью и благодарностью.
Юлия Добровольская
For Kristina and Doug Brendel with love and gratitude.
Julia Dobrovolskaya
«Мне часто думалось, что надо бы написать книжку, объяснив, как у меня возникают те или другие страницы, может быть, даже одна какая–нибудь страница», — повторяю я вслед за Генри Миллером.
Каждая история, написанная мною, — каждая! — имеет свою историю. И если все свои истории я рисовала сама — повинуясь какому–либо импульсу, — то одна из них нарисовала мне картинку, которая через несколько лет стала явью…
«МАЛЕНЬКИЙ МЕДНЫЙ КЛЮЧИК, или Очень короткая история без начала и конца» — один из самых первых написанных мною рассказов. Я писала его долго. То есть начала писать, а потом отложила на какое–то время. Пыталась продолжить, но история не давалась мне.
А потом вдруг она сложилась сама собой… И вскоре после этого я встретила и полюбила Мужчину, который оказался похожим на героя моей истории — точнее, на двух ее героев: на Молодого Художника и на бородача. И даже профессия у моего Любимого похожая — он художник–фотограф. Мы счастливы по сей день…
Может, именно поэтому я часто говорю тем, кто мечтает о счастливой взаимной любви: «Рисуй! рисуй своего возлюбленного! тщательней прорисовывай каждую деталь его внешности и души! и как только ты закончишь, он тут же выйдет тебе навстречу».
НОЧНОЕ ТАКСИ
Киноповесть
Середина девяностых.
Лето. За полночь.
Широкий проспект. Огни и шум большого города создают атмосферу если не праздника, то отдыха от дневного напряжения и суеты.
Тротуар отделен от проезжей части рядом больших деревьев и клумбами с цветами и густой травой.
Под знаком «стоянка такси» — несколько машин с зажженными «гребешками». Последней стоит серебристо–белая «альфа–ромео». Постепенно стоящие впереди автомобили разъезжаются, забирая пассажиров, и «альфа–ромео» занимает место первого.
Водитель — худощавый мужчина средних лет, одетый в джинсы и джинсовый жилет поверх клетчатой рубашки с закатанными ниже локтя рукавами. Он сидит откинувшись на спинку и положив руки на затылок.
Его лицо — лицо человека пережившего или переживающего какую–то драму и при этом явного интроверта: чуть сдвинутые темные густые брови; плотно сжатые губы; взгляд, направленный в себя. У него приятная мужественная наружность, его жесты размеренны и скупы.
Тихо звучащая из приемника музыка сменяется тирадой диджея, а та — песней со словами «…что никто никогда не любил тебя так, как я…».
Голос мужчины — тихий, низкий, почти без эмоций, бесцветный — обращен к себе. Речь прерывается долгими паузами.
«И меня никто не любил, как ты… И я никого не любил, как тебя… А теперь я не знаю, люблю ли?.. Правда, не знаю.
Раньше знал — я люблю, ты любишь… мы любим. Порой дыхание перехватывало… И привыкнуть невозможно было. День начинался тобой… я начинался тобой… жизнь начиналась тобой.
Теперь — тебя нет, меня нет… И только жизнь начинается каждый день. А к этому, оказалось, привыкаешь… Инстинкт самосохранения, как сказала бы ты… Чтобы не сойти с ума, не покончить с собой… Просто принять и привыкнуть.
Только почему?.. Почему?!. Кто это придумал? Для чего?.. За что?.. Бог, есть ли Ты?.. Если есть, куда же Ты смотришь? Или мы заслужили это? Чем? Объясни!..
Есть надежда… А стоит ли цепляться за нее? Может, лучше не расслабляться?..
Скоро твой праздник… Неужели последний?..»
Мужчина встряхивает головой, пытаясь прогнать тяжелые мысли, проводит ладонями по лицу.
Снова жизнерадостный голос диджея молотит какую–то чепуху. Мужчина выключает приемник.
К машине подходят четверо подростков — обритых наголо и одетых по–спортивному в майки и кроссовки.
— Шеф, свободен?
— Куда?
— На Озерную и назад. Только быстро, шеф!
— Без «шеф» и без «быстро». И деньги — вперед.
— А че это — вперед? Вернемся — заплачу.
— Я знаю, как вы платите, «когда вернемся».
Один из них достает несколько купюр и показывает водителю. Тон его несколько любезней, чем вначале:
— Вот. Деньги есть, если не верите.
— Вот и заплати вперед. А повезу только одного.
Другой напирает, но тоже сбавив тон:
— А че за правила? Ехать надо. Да поскорей. — Он пытается открыть дверцу.
— Ладно, только вон того милиционера прихватим… Это я себе безопасность обеспечиваю.
При этих словах подростки заозирались и быстро скрылись.
«Неужели побалуются и бросят?.. Женятся, детей заведут?..
Не верится. Откурят мозги или отколют и кончат в лучшем случае в тюрьме.
Когда я узнал впервые про наркотики? Пожалуй, вместе со страной… Хотя нет, раньше — в армии. Да и то — намеками. Ходили слухи, что двоих в дисбат турнули, за то, что курили что–то не то…»
Издали приближается стройная, ярко одетая девица. Раскованной походкой направляется к машине.
«Что, длинноногая, красивая, кто ж тебя одну посреди ночи бросил?..»
— Шеф, свободен?
— Куда вам, девушка?
— Да могу и с тобой, если деньги есть. Тачка–то твоя — ничего себе.
— А… сколько мне надо иметь?
— Если у тебя на хате — стольник. Если ко мне — полтора… Можно в машине, по–быстрому, тогда — полтинник.
— А ты дорогая!
— А ты дешевку предпочитаешь? Езжай на вокзал. Там за банку белой — без проблем. Только руками не трогай, — грубо смеется, — а то потом лечиться будешь, не вылечишься. А я со справочкой… Ну, давай. Ты мне уже понравился — грудь у тебя волосатая и руки большие… Я это люблю. Заведусь — не отпустишь! Я денег зря не беру. А?
— Уговорила. Вот только за деньгами смотаюсь — весь год на отпуск копил. Гуляем на все пятьдесят зеленых. Жди. Я вернусь!
Он заводит мотор и медленно трогается с места.
— Козел!
Девица уходит.
«Конечно, козел. Сразу не понял, что в таких нарядах среди ночи к маме в гости не ездят. И домой к мужу тоже…»
К стоянке приближается прилично одетый мужчина средних лет с длинной розой в руке. Он изрядно навеселе, но держится. Машет рукой. Машина останавливается.
«А вот… вот к жене — в любом виде можно вернуться и в любое время. На то она и жена…»
— И куда нам?
— Д-друг… Дай сяду, потом скажу… Ой, моя роза! Не сломай… — Он с трудом усаживается и откидывается облегченно на спинку кресла.
— Где обитаем?
— А-а?
— Где ждут тебя? Куда едем?
— Г-главный проспект…
— Мы и так на Главном.
— В конец… сосорок… ссо сорок семь — и-ик! Прости, друг. Прости, шеф… Сто сорок семь а–а–а-ик! А — в смысле дом «а». Сто сорок семь «а», — наконец удается ему вся фраза.
— Деньги есть?
— Обижаешь, ше–е–еф… Во — видишь? — тычет водителю в лицо цветком.
— Это роза, а я за деньги работаю.
— Да… Правильно… Это роза. А ты знаешь, скока она… и–и–к! стоит? Не–е–т, не зна–а–аешь… Шеф, будь другом, угости сигаретой, я враз протрезвею…
— На, держи… Извини, не «Мальборо», к твоей розе не очень подходят… Так что у нас с деньгами?
Пассажир с наслаждением затягивается раз, другой и на глазах приходит в себя.
— Шеф, вот… кошелек, возьми сам. Можешь зелеными. Мы сегодня объект сдали. Так нам по договору нашими дали, а премию — зелеными… Я вот жене розу купил… Хороша, а?
— Хороша. Положи сзади, а то поломаешь. Кошелек возьми. Приедем — по счетчику заплатишь.
Включает мотор, трогается с места.
— Спасибо, шеф. Это ты здорово с розой сообразил…
— Если не затруднит, не называй меня шеф.
— Ну мне же надо тебя как–то называть. Ехать нам далеко, xa–xa!.. — Пассажиру явно полегчало, он расположен к общению.
— Лев.
— Класс! Шеф по имени Лев. Жене расскажу. Ну, ты прости, это я так — забавно… Вишь, я уже рифму чувствую, трезвею, значит. Может, к дому совсем… и–и–к! протрезвею. Жену жалко… Я — сволочь! А как тут, елы, по–другому?.. Ты, ш… то есть Лев, знаешь, что такое стройка? А–а–а… Не знаешь! А я уже двадцать два года строю. Раньше–то было — страх. А сейчас — просто ужас! Материалы дорогие, заказчики — звери: им еврокачество подавай! А работяги–то у нас те же остались. А их как учили — плюс–минус пол–лаптя на допуски–припуски… Да что я тебе рассказываю! Ты, поди, на потолок иногда, смотришь? Или все жена больше? А? Ха–аха–ха… Ты прости, Лев, это я по–нашему, по–простому пошутил… Ты–то человек интеллигентный, я ж вижу… А у тебя жена есть? А, ну да — кольцо вон… Хорошая жена? А?
— Хорошая.
— Прости, Лев, я лезу к тебе с базарами. Мне–то хорошо — я поел, выпил. Банкет у нас был. Заказчик нас гулял — доволен остался… Ты–то небось голодный?.. Слушай, у меня идея! Пошли в ресторан — я угощаю. Едем! Около моего дома есть ночной. Я, правда, там не ел, но заходил — красиво… Только не говори «нет» — обидишь. А прораба обижать нельзя. Прораб и так жизнью обижен… Знаешь, у нас в институте шутка гуляла: было у отца три сына, двое умных, а третий в строители пошел!.. Ах–ха–ха!.. Ну что, Лев, гуляем?
— Конечно нет.
— Ну просил же, как человека…
— Моя жена не поймет. Да и твоя тоже. Волнуется наверняка. Ты вон ей розу везешь, она ж завянет.
— Мы и твоей купим!.. Я куплю… Ну, как бы от тебя.
— Уговорил. Только сперва заезжаешь домой, отдаешь розу, а потом едем кутить.
— О’кей, Лев! Вон там — направо, во двор. Вот к этому дому… Хороший ты мужик, Лев. Наш мужик. Кто прораба понимает — наш мужик!.. Стой! Мы кутить идем, так? Жена с нами не пойдет — не любит она рестораны. Я должен ей купить бутылку «Амаретто». Просто обожает «Амаретто»… А я — нет. Шампунь какой–то… Давай, друг, мотнемся, я плачу. Это как раз около ресторана нашего с тобой…
Машина разворачивается, выезжает из двора. Подъезжает к небольшому магазину. Пассажир выходит более уверенной походкой, чем прежде. Направляется к магазину.
Возвращается с двумя плоскими темными бутылками.
— Все о’кей, Лев. Вот это — моей, а это — твоей. Твоя любит «Амаретто»? Я купил, думаю, все бабы «Амаретто» любят… И розу я отдам твоей, а своей завтра еще куплю.
Машина возвращается во двор. Около подъезда нервно ходит женщина в накинутой на плечи кофте, в брюках и тапочках.
— О! Тормози, Лев. Что это моя во дворе делает? — Он выходит и неуклюже обнимает женщину. — Марин, ты че это тут делаешь?
— Живой? И не ограбили? Или как в прошлый раз?
— Не, Марин, вот смотри — кошелек, деньги… Это нам сегодня дали. Ах, елки, даже заначку не успел сделать, все в кошелек положил…
— В прошлый раз только заначка и осталась цела… Сколько он вам должен?
— Не–е–е, Марин, ты кошелечек–то отдай. Мы с Львом идем поговорить. Вот это тебе, Марин. — Отдает ей бутылку. — Я же помню, ты любишь… Я тут тебе еще розу купил, но решил ее отдать жене Льва. Он — хороший мужик, Марин, наш мужик… Я тебе завтра три куплю. Ладно, Марин? Ты не обижайся, а мы пойдем…
— Завтра с Львом поговоришь… Поблагодари, что возился с тобой да по счетчику взял…
Лев отдает пассажиру розу и бутылку:
— Иди, друг, домой. Не собирался я в ресторан идти, мне работать надо.
— А ты — подле–е–ец! Я думал, ты наш мужик, а ты — подлец. Обманом меня бабе сдал, а сам — поехал! Эх ты… Розу возьми и ликер, а то я вспыльчивый — и об асфальт могу! Ну?..
— Вспыльчивый, пошли домой, отстань от человека. Я уже не знала, что думать: сижу, жду, машина подъезжает, смотрю — ты сидишь. Потом — развернулась, уезжает. Я номер запомнила, думаю, если через пять минут не вернется, в милицию звоню… Потом — смотрю, едешь… Спасибо вам, извините… Пошли, вспыльчивый…
— Ладно, Лева, прощаю. Скажи спасибо жене моей — она всегда меня успокоить может. Она хорошая у меня… Ты, Марин, самая хорошая… Только, Лева, розу с «Амареттой» возьми.
— Не возьму. У меня жена в отпуске. Ты своей покупал, вот и отдай ей.
— Ладно… Марин, вишь, какой Лев хороший мужик, я ж говорил, наш мужик… На розу, Марин. А бутылку, Лева, разобью, если не возьмешь.
— Возьмите, пожалуйста. И спасибо вам… Пошли, вспыльчивый…
Они уходят.
Лев садится в машину, выезжает из двора и медленно едет по проспекту.
«Хороший ты мужик, прораб. И жена у тебя хорошая. И не болеет…»
Машину останавливает молодой мужчина, коротко стриженный, в спортивном ярком костюме.
— Куда вам?
— В начало проспекта, там ресторан есть, заберем одного человека — и назад.
— Маршрут сложный, деньги вперед.
— Без проблем! Держи. Зелеными пойдет?
Садится в машину. Едут молча. Тихо звучит музыка.
— Шеф, курить можно?.. Спасибо.
Через некоторое время, заметив одинокую покачивающуюся фигуру, пассажир останавливает машину и выходит.
— Э-э… ты куда пилишь? — Он хватает за руку разодетую нетрезвую девицу и заталкивает ее в машину. — Едем назад, шеф. А ты, гадость, куда это? Нажралась… Деньги взяла?..
— Не надо ругаться, а то не поедем дальше.
— Ладно, шеф… А ты мне сейчас все расскажешь. Деньги покажи! Стерва… Как работать будешь? Говорил, не напивайся, клиент ждать будет. Ща получишь у меня нашатыря — мало не покажется!.. Сиди, не рыпайся! Как дал бы по морде… Сюда, шеф. Вылазь, сволочь…
Пассажиры выходят.
«И эта тоже не болеет. И не заболеет… Одноклеточные почему–то меньше болеют».
Небо с одного края начинает стремительно светлеть. Становятся бледнее огни фонарей, щиты рекламы. Отчетливей проступает архитектура города: старые, довоенной постройки помпезные здания, широкие улицы и проспекты, пересекающиеся под прямыми углами. Деревья вдоль улиц — толстые опиленные стволы со свежей порослью вверху, во дворах — пышная зелень, похожая на пену, которая вот–вот перельется за борта, образованные стенами домов, замкнутыми в четырехугольники.
То тут, то там появляются первые трамваи и троллейбусы, почти пустые в этот ранний час. На крупных перекрестках желтые мигающие огни светофора сменяются на попеременно горящие красно–желто–зеленые. Прибавляется машин на проезжей части.
Рядом с крупным гастрономом останавливается серебристо–белая «альфа–ромео». Загорается аварийный сигнал. Лев выходит и направляется к гастроному.
Основная часть магазина отделена решетчатой загородкой, там темно. Ярко освещен винный отдел со стеллажами, уставленными бутылками, и витриной с дежурным набором фасованных в пакеты и банки продуктов.
За прилавком сидит девушка с карандашом в руке, склонившаяся над газетой. В стороне, опершись о колонну, стоит охранник в милицейской камуфляжной форме и наблюдает за действием, происходящим на экране закрепленного под потолком телевизора, из которого доносятся звуки, характерные для не претендующего на гениальность фильма: крики, выстрелы, взрывы, скрип тормозов и тому подобное.
Внутрь входит водитель. Охранник лишь мельком удостоверился в том, что вошедший — обычный покупатель, к тому же хорошо знакомый, и продолжает с интересом участвовать в киношных событиях: на его бесхитростном лице отражаются перипетии столь же бесхитростного сюжета.
Девушка узнает вошедшего и, как будто ждала именно его, улыбается. Ее лицо преображается из уставшего и скучающего над надоевшим кроссвордом в оживленное и радушное.
— Доброе утро.
— Доброе.
— Вам как всегда? — И она, не дожидаясь ответа, выходит из–за прилавка и скрывается в темной части магазина.
Выйдя оттуда, она кладет перед ним пакет молока и плетеную булку с маком, обернутую целлофаном. Включает кассу и выбивает чек.
— Не хотите свежей ветчины? Очень вкусная — я уже попробовала.
— Правда, вкусная?
— Правда–правда.
— Беру.
Девушка достает с витрины пакет с нарезанной ветчиной, снова пробивает чек. Ей явно не хочется расставаться с покупателем, но повода задерживать его больше нет.
А сам покупатель не намерен задерживаться. Он расплачивается и, улыбнувшись продавщице, кивком благодарит ее и выходит.
Она провожает его худощавую ссутуленную фигуру взглядом до двери, смотрит в стеклянную витрину. Видит, как он, сев в машину, снимает «гребешок», отключает аварийные огни и трогается с места. Она еще долго смотрит за стекло, но уже не на то, что может увидеть глаз.
Через несколько метров машина сворачивает в арку, едет по засаженному старыми деревьями двору и останавливается у подъезда.
Над дверью все еще горит фонарь, хотя нужды в нем уже нет — утро вступает в свою силу.
Выйдя из машины с пакетами под мышкой и нажав на кнопку брелка, Лев включает сигнализацию. Машина, мелодично пискнув, отпускает своего хозяина на отдых.
Он открывает кодовый замок и входит в просторный гулкий подъезд. Широкие лестницы с ажурными решетками, старый лифт — за решетчатой же дверью. В глубине парадного — стол, на нем лампа с абажуром, рядом тахта. На тахте, прислонившись к спинке, дремлет над книгой пожилая женщина.
Услышав стук двери, она проснулась и кивает вошедшему:
— Доброе утро, Лев Сергеевич. Вам телеграмма, поздно вечером принесли. Вот.
— Спасибо, Елена Марковна.
Зажав сложенный вчетверо листок губами, он поднимается к лифту, одновременно нащупывая в связке нужный ключ.
— Как работалось? — Вахтерша не прочь бы немного поболтать с этим милым мужчиной, но, зная его немногословность, не ждет ответа, а сама отвечает за него новым вопросом–утверждением: — Ездоков, поди, немного — начало недели…
Но Лев неожиданно останавливается, поворачивается к ней и говорит:
— Ездоков всегда достаточно, Елена Марковна. — Помолчав немного, решается на вопрос: — Елена Марковна, вы в Бога верите?
Женщина удивлена, оживляется, приготовившись к разговору.
— В Бога?.. Что это вы, Лев Сергеевич, какой Бог? Человек — вот бог. Каждый сам себе бог. Двадцать первый век на носу, а вы — бог!.. Это все от нечего делать… Бог… Народ как с ума свихнулся — в церковь попер. Космос, атом, человека вон в пробирке выращивают… Бог! Что это с вами? Вы ж образованный человек…
Разговора не получается. Монолог повисает в воздухе. Лев, опустив голову, идет к лифту, открывает дверь.
— Всего доброго, Елена Марковна.
Елена Марковна, поняв, что перегнула и упустила случай поточить лясы, спохватывается:
— Погодите, Лев Сергеевич, а что это вы вдруг?..
Но тот уже захлопнул лифт, и светящаяся кабина медленно поползла вверх.
Лев, открыв большие двойные двери, вошел в просторную прихожую и включил свет.
Слева — вешалка, на ней зонт, плащ, куртка. Под вешалкой, на темном пыльном паркете — несколько пар мужской обуви. Справа, дальше от двери — старый комод со стопкой газет и журналов, телефонным аппаратом старого, довоенного образца. За ним — стеллаж до потолка, заполненный книгами и толстыми литературными журналами, расставленными по годам. Над комодом зеркало с двумя бра по сторонам. На комоде слой пыли, только на ближнем к двери углу она свезена: видно, что этим углом пользуются. Сюда Лев и кладет ключи, продукты и сложенный листок.
Он переобувается в домашние тапки, берет с комода продукты. Передумав, снова кладет их на место и, распечатав телеграмму, монотонным голосом произносит по слогам:
«Бу–ду про–ли–отом пи–атни–тсу поздра–вли–аю ли–ена».
Ленка летит из Рима… Вот и славно. Анна будет рада… А я хоть уборку сделаю».
Он проводит ладонью по нетронутой пыли, отряхивает ее и долго смотрит на календарь рядом с зеркалом: на фоне оранжевого заката Колизей и цифры — 1995.
«Пятница… пятница у нас через три дня…»
Лев берет пакеты и идет в кухню. Там — следы легкого невнимания к порядку, как и в прихожей.
Просторная кухня обставлена старой и современной мебелью вперемежку. В ней уютно от обилия зелени на широком подоконнике и разнообразных ярких предметов и деталей.
Лев кладет продукты на стол, наливает в чайник воду, ставит его на плиту и выходит.
Он стоит в ванне, подставив лицо колючим струям. В его сознании возникает картина: под душем он и женщина с мокрыми темно–рыжими волосами; они целуют друг друга и ласкают — без страстных порывов — нежно и немного лениво; по всему видно, что это занятие им никогда не надоест.
Раздается звонок в дверь. Лев опоминается, накидывает на мокрое тело халат и выходит в прихожую.
— Кто там?
— Телеграмма.
Лев расписывается и закрывает дверь. Возвращается в ванную, садится на угол стиральной машины, распечатывает и читает:
«Поздравляю нашим днем люблю люблю люблю твоя Белка».
Рука с листком бумаги опускается. Он смотрит прямо перед собой пустым взглядом.
Свистит чайник. Лев встает, роняет на машину телеграмму и идет в кухню. Снимает с плиты чайник, смотрит на него, пожимает плечами и, выключив плиту, ставит на стол рядом.
Он сидит в кухне за круглым столом с яркой клетчатой скатертью, над столом — большой лоскутный абажур. Налив в стакан молока, отхлебывает его без аппетита и закусывает плетенкой, которую отламывает небольшими кусками.
Доев и допив, закрывает лицо ладонями, проводит по нему, словно стирая усталость и одолевающие мысли. Убирает за собой со стола и выходит.
Спальня — просторная длинная комната с большим полукруглым эркером, занавешенным тяжелыми плотными шторами.
Лев раздвигает их и входит в эркер, пол и подоконник которого заставлен цветами и растениями так же обильно, как и кухонное окно. За стеклами — густая листва деревьев, сквозь которую пробивается свет восходящего солнца. Доносятся звуки раннего утра: хлопанье дверей, шаги, голоса, шум заводимых моторов, которые перекрываются разноголосым птичьим гомоном.
Лев распахивает окно — звуки усиливаются. Он стоит несколько мгновений, подставив лицо лучам солнца, которые подрагивают, пробиваясь через листву, колеблемую легким ветерком. Он снова проводит руками по лбу, щекам, словно отгоняя щекочущие кожу солнечные зайчики. Выглядывает в окно. Внизу на капоте его машины сидит пушистая трехцветная кошка и сосредоточенно занимается утренним туалетом.
Лев задергивает за собой шторы, в комнате водворяется мрак. Подходит к постели и падает на нее навзничь. На потолке узкой полоской мельтешат тени листьев. Он смотрит на эти блики, пока не начинает видеть другую картину.
Яркое летнее закатное небо. На его фоне ветви кустов, деревьев. Птичий гомон, жужжание и стрекот насекомых, первые пробные трели лягушек. Постепенно в поле зрения попадает кромка далекого леса, ниже — зеркальная гладь озера, в которой отражается и лес, и зеленеющее небо. Маленький песчаный пятачок на берегу, окруженный густыми высокими кустами.
На песке лежат обнаженные Лев и рыжеволосая женщина. Они лежат не шевелясь, взявшись за руки и глядя в небо — в яркое летнее закатное небо с едва подрагивающей листвой…
* * *
На потолке уже нет мелькающих теней. Звуки, проникающие в комнату, более отчетливые: скрип качелей, гомон детей, обрывки разговоров, отдаленный, но ясный шум города.
Лев лежит на боку, подложив под щеку ладонь. Переворачивается на спину и открывает глаза. Лицо сразу становится напряженным. Резко повернув голову, смотрит на часы: на электронном циферблате — зеленые цифры «15:42».
Он так же резко встает, распахивает шторы, потягивается. Окно уже в тени, и в него попадают лучи отраженного света из окон напротив.
Лев выходит из спальни, и в глубине квартиры раздаются звуки его шагов, журчание воды, хлопанье дверец шкафов и т. п.
Обстановка спальни проста и в то же время неординарна. В глубине длинного помещения — напротив эркера стоит широкая низкая лежанка, покрытая лоскутным покрывалом. По бокам, в изголовье — низкие полки–стеллажи, на которых лежат насколько книг, баночки с кремами, часы, несколько фотокарточек в рамках.
Между эркером и кроватью — два больших кресла с высокими спинками, покрытые такими же лоскутными накидками, между ними — торшер, под ним — небольшой столик, на столике две–три школьные тетрадки. На стенах картины в рамках и без — в основном виды природы и городские пейзажи, много фотографий.
Слева от эркера дверь, ведущая в гостиную.
Это — большая комната с двумя окнами на одной стене и балконной дверью на торцовой. И здесь старая мебель соседствует с современной. По стенам — высокие, до потолка, стеллажи с книгами, разными старинными и не очень безделушками и фотокарточками в рамках. На свободных от полок участках стен — картины.
В глубине, рядом с балконной дверью стоит старое пианино с канделябрами.
В центре комнаты — современный низкий полукруглый диван и два таких же кресла образуют квадрат, внутри которого на пушистом сером паласе стоит стол со стеклянной столешницей. Под стеклом в легком беспорядке лежат газеты, журналы и, как и на стеллажах, разнообразные забавные безделушки. На стекле — слой пыли и ваза с давно увядшими и опавшими пионами.
Вдоль стены с дверью, ведущей в спальню, две современного вида тумбы. На одной из них — большой телевизор с видеомагнитофоном, на другой — музыкальный центр и множество кассет и дисков.
В прихожей раздается звук открываемого замка и чуть погодя хлопает дверь. Затем — гулкие шаги, лязганье двери лифта и шум опускающейся кабины.
Лев подходит к машине, она издает тихую трель и мигает фарами. Он не успевает сесть, как его окликает пожилая женщина из окна первого этажа:
— Левушка, добрый день.
— Добрый день, Настасья Викторовна.
— Как там наша Аннушка?
— Спасибо, лучше.
— Как бы мне ей гостинчик передать?
— Не стоит беспокоиться, Настасья Викторовна, у нее диета строгая, а все, что нужно, я привожу ей. Вот привет передам с удовольствием.
— Да–да, Левушка, передайте ей привет, скажите, что желаем скорейшего… скорейшего выздоровления.
— Обязательно, спасибо.
Выехав из двора, Лев выставляет на крышу автомобиля «гребешок».
* * *
Людная улица, предвечернее небо. За несколько метров до остановки транспорта, заполненной большим количеством народа, останавливается серебристая «альфа–ромео», из нее выходит пассажир. Машина трогается с места, но тут, едва не попав под колеса, к ней подбегает средних лет женщина с сумками в обеих руках.
Голос Льва:
«Что ж ты, тетушка, под колеса кидаешься, я и так тебя вижу».
— Вам куда?
— Добрый вечер… пожалуйста, только не говорите, что не поедете… мне очень, очень надо! Это далеко, но пожалуйста!..
— Куда, куда вам?
— В Дубравы, пожалуйста…
Лев смотрит на часы:
«Половина шестого, там будем в двадцать–двадцать пять седьмого… пускают до половины восьмого…»
— Садитесь. — Открывает дверь.
— Ой, спасибо! Спасибо вам… — Усаживается, примостив сумки. — Ну никто ехать не хочет… у всех вдруг конец смены наступил… А я на автобусе не успею… один пропустила, не войти было…
Лев убирает гребешок.
— Ой, а что это вы? Уже не такси, что ли?..
— Такси, такси… Ремень пристегните, пожалуйста.
— А, да, да… Как он тут у вас?.. Что–то не тянется…
— Отпустите, а потом плавно потяните.
— Ага, вот… А что, штрафуют?
— Ремнем пользуются для того, чтобы избежать неприятностей, а не штрафа.
— Да, да, конечно… Ой, скажите, а сколько это будет мне стоить? Вдруг у меня не хватит?..
— Хватит, не беспокойтесь.
Пассажирка пристально смотрит на водителя. Лев, повернувшись к ней, улыбается одними глазами:
— Не волнуйтесь вы, хватит. Можно мне закурить?
— Ой, вы спрашиваете!.. Машина–то ваша… Курите, у меня дома все курят… Впору самой… только не нравится мне это дело… Пробовала — ничего не понимаю… ну втянул, ну выдул… Нет, не понимаю… Какая машина у вас красивая! А удобно как! Как она называется?
— «Альфа–ромео».
— Ой, а название–то! Еще красивей… Правда?.. Да вы уж, поди, привыкли и к названию, и к машине… Сейчас столько машин красивых! А раньше, помните, «Волга» — самая роскошная была… У моего свекра «Жигули» были, шестерка… синяя… Тоже красивая машина… Ну не такая, конечно…
«Ой, тетушка, лучше бы ты курила… Я ж водитель, а не собеседник… Укачаешь ты меня!..»
Добавляет вслух, сбавив скорость:
— На минутку остановимся, не возражаете? — Выходит из машины и направляется к рядам киосков, торгующих цветами.
Возвращается с букетом белых лилий и кладет их на заднее сиденье.
— Ой, как пахнут! Я цветы люблю!.. У свекра на даче…
— Вам музыка не помешает?
— Нет, что вы! Я музыку люблю. Так даже еще лучше будет… Ой, Агузарова! Давно ее не слышала. Это радио или магнитофон?
— Радио.
— Хорошая песня, правда? — Подпевает. — Мне-е хорошо-о рядом с тобо–о–ой… Простите, я что–то разошлась… Просто у вас как–то… хорошо очень… Уютно… Простите…
«Это ты меня, тетушка, прости. Не в духе я сейчас, а то бы вместе спели… и сплясали бы… Пусть уж Агузарова одна поет… и пляшет… Тетушка… Да ты ж моя ровесница, бьюсь об заклад!.. Но на дядюшку я как–то еще не готов… Выходит, моя Белочка — тоже тетушка?.. тетенька… Тетенька Белочка».
Усмехается почти вслух.
— Вы что–то сказали?..
— Нет, простите.
«Ты у меня еще девушка, Белочка. И меня молодым сделала… Все ведь только началось у нас с тобой… Господи, как больно! Почему?.. Больно! Да, больно. Вот что теперь неотступно со мной — боль. Боль… Просыпаюсь с болью, засыпаю с болью… живу с болью… Как раньше — с любовью. Господи, где ж Ты есть?!.»
За окнами — сельский пейзаж: поля, хутора. Солнце клонится к горизонту. Стрекочут цикады.
— Ой, а что это вы свернули?.. Нам не туда! — Пассажирка обеспокоена.
— Не волнуйтесь, нам туда.
— Нет! Я же помню, автобус по другой дороге всегда едет. Остановите! А то я выпрыгну!
— Успокойтесь же! Автобус ходит по той дороге, а нам нельзя — там мост ремонтируют. Проезд разрешен только общественному транспорту.
— Правда? Вы меня не?.. Ой, простите! Дура! Ха–ха–ха!.. Не похожи вы на такого…
— На какого?
— Ну, на бандита…
— Не похож?
— Не-а…
— Жаль…
— Почему это?
— На самого, выходит, напасть могут…
— Нет! На вас не нападут! Не–ет!
— Почему не нападут?
— А что–то в вас такое есть… не знаю… Нет, на вас не нападут. Что–то в вас…
— Так что?
— Ой, не знаю, правда… Глаза у вас такие… честные… Нет, не то!
— Что — не честные?
— Нет… Ой, да! Честные… Запутали вы меня… Не знаю, как объяснить. Какая–то в вас сила есть… Мужская… Настоящая. Нет, на вас нельзя напасть…
— Ну и хорошо… Значит, не нападут.
«Знала бы ты, тетушка, как нападали… и среди дня белого, и среди ночи…»
Впереди стоит автомобиль с надписью ГАИ. Инспектор останавливает жезлом машину, подходит, представляется:
— Старший сержант… Ваши документы. Из машины не выходить. Ногу со сцепления… Ручной тормоз… Все в порядке, можете продолжать движение. Скорость — не более сорока, за поворотом пробка.
Какое–то время дорога идет по лесному массиву. За поворотом лес резко обрывается, открываются поля по обе стороны. На дороге — следы аварии. Милиция, «скорая помощь». Скопилось несколько машин, которым не дают проезда.
— Ой, господи! — запричитала пассажирка. — Ой! Спаси и сохрани… Как же его далеко в поле–то вынесло!.. Ой, боже… А грузовику–то ничего, поди, и не сделалось… А те–то, те… Ой, страшно подумать!.. А долго мы тут?.. А вон, смотрите, по полю объезжают.
Они вслед за остальными объезжают место аварии по полю. Лев, помолчав, спрашивает:
— Вот вы говорите, Господи. А что это такое? Вы можете объяснить?.. Есть ли Бог на самом деле, или это выдумки?
— Ой, конечно, есть! Сейчас–то все знают, что есть… А вы что, не верите?
— Не знаю… В детстве некому было мне об этом рассказать… Дедушек–бабушек не было, родители — коммунисты… Какой там Бог?..
— Да… А я вот из деревни. У нас там всегда Бог был… Не очень–то, конечно, о нем говорить можно было, когда ты пионер, комсомолец… Считалось, что это только для бабушек малограмотных. Но церковка была… Маленькая, красивая такая… Белая–белая всегда… даже в дождь. Прямо сияла всегда. Сейчас рядом побольше построили. Тоже красивая… А та часовенкой стала. А иконы красивые какие были! У нас в соседней деревне — километра за три — иконописец жил. Он молодой был, только из–за бороды казался старше… Он и сейчас там живет… Иконы пишет… на заказ. Теперь, говорят, за это большие деньги платят…
— Понятно, иконы, церковь… а Бог–то где?
— А вот на иконах… В церкви.
— И все? И больше нигде?
— Ну нет, почему… Не знаю… Знаю только, что в церковь сходишь, на иконку помолишься, свечку поставишь… так хорошо станет… легко.
— А Он добрый или злой — этот Бог?
— Н-ну… Наверно, с добрыми добрый, со злыми злой…
— А вы много злых видели, которым… тяжело живется?.. которых Бог наказывает?
— Не думала я как–то… Вы меня о таких вещах спрашиваете…
— А попросить у Бога можно что–нибудь?
— Ой, конечно! Все, что хочешь, можно попросить.
— И что — даст?
— Ну, наверно… конечно, даст. Да, думаю, даст…
— Все, что угодно?.. А вы просили о чем–нибудь?
— Я… Ну да, прошу всегда: спаси и сохрани… здоровья дай всем.
— И что — дает?
— Дает, слава Богу. Все живы, здоровы… Ну, кто от старости помирает, так все там будем… Вот свекор мой болеет. Так тоже старенький… Но жалко–то как!.. Ой, простите, сейчас расплачусь… Я вот к нему в больницу еду…
— А Бога просите за него?
— Ну, свечки ставлю… Что просить–то — рак у него… у нас рак–то не лечат.
— А Бог, что — с раком справиться не может? Какой же Он тогда Бог?
— Ой, ну вы скажете! Он все может.
— Так что — почему же ваш свекор не поправляется? Может, просите не так? Или не там?
— Ой, не знаю, может, и правда, не так прошу?
— А как вы просите?
— Ну, свечку поставлю, помолюсь… дай, мол, Господи, исцеления рабу твоему Захарию… это свекра моего Захарий зовут… Совсем вы меня смутили… Может, правда, плохо прошу?..
Машина въехала в ворота клиники: большие современные корпуса, сад, больные прогуливаются или сидят на скамейках.
— Ой, приехали, мне вот сюда… Сколько с меня? Я на такси–то ни разу не ездила сюда…
— Нисколько. Не надо. Мне по пути было.
— Нет, что вы! Нет! Возьмите! Ну мне неудобно… Так далеко везли…
— Я же сказал вам, мне по пути было.
— Ну спасибо… прямо не знаю… Храни вас Бог!
— И вас.
Лев с цветами выходит из машины и направляется ко входу в один из корпусов. Входит в вестибюль. Обращается к гардеробщице:
— Добрый вечер… Я в двадцать вторую… Вот тот халат, подлиннее который…
— Вы знаете, в двадцать вторую сегодня нельзя…
— То есть? Что значит — сегодня нельзя?
— Врач предупредил, чтобы сегодня не пускали… Не волнуйтесь вы так! Все в порядке, просто сегодня нельзя…
— Дайте мне халат!
— Ну нельзя… Куда вы? Стойте!
Лев, перепрыгивая через ступеньки, бежит вверх. Распахивает дверь палаты с номером 22.
В палате две койки, одна пустая, на другой сидит рыжеволосая женщина с бледным лицом. Обхватив колени, она раскачивается вперед–назад. Лев подходит к ней, садится рядом на корточки:
— Рыжик, привет! А меня чуть было… Белка! Это я! Ау-у!
Ее стеклянный взгляд останавливается на Льве. Она, словно узнав его, становится возбужденной и агрессивной:
— Уйди! Уйди вон! Ты тоже с ними заодно! Уходи, предатель!
— Ты что, Рыжик! Маленькая моя! Что с тобой?
Лев берет ее за руки.
— Белка, я твои любимые лилии принес… Я телеграмму твою получил.
Она говорит все так же возбужденно, но уже без агрессии:
— Они все залезли на крышу и кидали в меня чем попало. И ты! Ты тоже был с ними. А крыша зеленая. Зачем вы ее в зеленый покрасили? Я же просила!..
— Маленькая моя, не плачь.
— Уходи! Ты коляску бросил! И смеялся. И они все смеялись… Но ты… как ты мог? Смеялся!..
— Я больше не буду…
Она снова нападает на Льва и отбивается, когда он хочет дотронуться до нее.
— Это ты только говоришь так! Ты уже обещал! А сам тоже все двери снял… Куда ты их дел? Куда?
— Белочка, я больше не буду! Иди ко мне… И они тоже не будут… Правда. Не веришь? Иди ко мне. Чшш… Все, поплакала немного, и хватит…
Она затихает, Лев берет ее на руки. Под длинной просторной рубашкой — худое тело.
— Предатель… Они травили меня, а ты смеялся…
— Ну все, мы больше не будем… Ну–ка, обними меня за шею. Вот так. Хочешь, пойдем погуляем?
— Нет, там дождь. И там эта зеленая крыша! — Снова возбуждается. — Я же просила! Просила!
— Все, все, тихо. Не пойдем. Чшш… Закрывай глазки. А я тебя покачаю. А–а–а… Моя маленькая Белочка… Закрывай глазки… Мы больше не будем. Моя маленькая девочка…
В палату врывается старшая сестра.
— Как вы сюда?..
— Чшш… Тихо! Она засыпает. — Лев холодно–спокоен.
— А ну–ка, покиньте палату! Вам сказано — сегодня нельзя! Почему без халата?! Я распоряжусь вас вообще сюда пускать не будут!
— Распорядитесь, только сейчас уйдите.
— Что?! Это уже слишком!..
— Говорите шепотом. — Лев разговаривает спокойным, тихим голосом, продолжая качать Анну, что еще больше раздражает сестру. — Моя жена засыпает. Не мешайте ей.
— Какая наглость!.. Покиньте палату!
— Шепотом! Шепотом кричите. Я человек терпеливый, но и у моего терпения есть предел. Я ведь могу вас в окно выкинуть. Так что уйдите. — Он едва сдерживается. — Моя жена заснула, вы ей мешаете. Здесь в вас нет надобности. Идите… у вас столько больных… Все вас ждут… Идите.
— Наглец! — Сестра кипит от возмущения.
— Да, я — наглец. Каюсь. Простите. Достаточно? А теперь — идите.
Входит доктор — человек средних лет.
— Что здесь?..
— Антон Антонович! Полюбуйтесь! Ворвался… без халата… я не позволяла, а он…
Лев, не обращая ни на кого внимания, кругами ходит по палате, качая на руках Анну, которая, обхватив его за шею, то ли спит, то ли просто ни на что не реагирует.
Доктор обращается к сестре:
— Идите, я разберусь…
Сестра выходит, не прекратив возмущаться.
— Почему вы… — Он обращается к Льву. — Вам же сказали, что сегодня нельзя…
— Доктор, у вас есть жена? дети? братья–сестры? Теща, тесть?.. Есть?
— К чему это вы?..
— Моя жена — это все, все, что у меня есть в этой жизни. — Лев говорит взволнованно, но пытаясь держаться в рамках. — И если будет нужно, если я сочту это нужным, я — не вы, доктор, то я принесу сюда надувной матрас и буду тут жить. Буду носить мою жену на руках. Буду кормить ее… Буду петь ей… или плясать. И вы ничего не сможете со мной сделать! Ни–че–го! Доктор, вы поняли?
Доктор опустил голову.
— Зайдите ко мне потом. Я сегодня дежурю в ночь.
Лев стучит в дверь с надписью «дежурный врач».
— Можно?
— Заходите… Садитесь. Чаю попьете? Может, вам немножко… грамм пятьдесят?..
— Спасибо, с удовольствием бы… я за рулем.
— Тогда — чаю.
— Спасибо.
Доктор наливает в две чашки чай и ставит блюдце с конфетами.
Лев изменился, стал неуверен, суетлив, виновато извиняется:
— Простите меня, доктор. Я испугался… Что с Анной?.. Что с моей женой?
— Страшного ничего. Ей сменили наркотик. Такая реакция…
— Что? Почему? На более сильный?..
— Нет, на более слабый.
— Почему?
— Ваша жена на днях попросила делать ей уколы через раз… Терпела… Тяжело было ей, но терпела… Сильная женщина… Не подумаешь… Я решил интервалы оставить, а лекарство заменить. А реакция… это нормальное явление… Бредовые видения… ну, вы сами видели. Это не надолго. Обычно через сутки–полтора проходит. Завтра она опять будет в норме…
— А потом? Что потом?.. Сколько?..
— Я же говорил вам, есть надежда. Я не играю с вами в прятки. Мы лечим ее, лечим… Да, шансов мало… Но они есть! И ваша жена нам помогает. В ней такая сила — все удивляются… Просто диссертабельная тема… Простите… Да, нерядовой случай. И вы помогаете… она за вас держится. Это обнадеживает. Очень обнадеживает… Она вас… любит. Знаете, что она сказала мне?.. Что ей было бы легче…
— Да, я знаю, она мне говорила…
— Ни в коем случае не отчаивайтесь! Мы боремся…
— Не надо, доктор, это слова… Спасибо вам… Извините еще раз… Я пойду… Я загляну еще к ней? — Он встал и подошел к двери.
— Да, зайдите… между прочим, ваша жена говорила, что вы хорошо готовите. Вы не хотите ее чем–нибудь побаловать? Диета, конечно, остается, но…
Лев, прислонясь к косяку, закрыл глаза и, кажется, вот–вот упадет. Доктор подскочил к нему, взял за плечи и встряхнул, подвел к стулу и усадил. Лев пришел в себя и закрыл руками лицо. Доктор смочил ватку нашатырем и поднес к лицу Льва. Тот вздрогнул, убрал руки.
— Простите…
— Нет, дорогой мой Лев Сергеевич! Это совсем не то, что вы решили… Ваша жена, пожалуй, сильнее вас… У нее строгая диета, очень строгая, никаких послаблений… и очень надолго… и после выздоровления… В последний раз мы отпускали ее домой… что–то около месяца назад? Да. Мы вам строго–настрого запретили давать ей то, чего нельзя. И вы прекрасно справились… Ваша жена потом рассказывала сестре, что вы очень вкусно ее кормили, хотя и диетической пищей. Еще сказала, что уговорила вас сделать ей вареники с вишней. И хотя большого нарушения в этом не было, кроме сметаны, пожалуй, она решила, что наелась того, чего нельзя, и вот — ей ничуть не хуже, а даже лучше… она за три дня полтора килограмма прибавила и посвежела заметно… Так вот, я разрешаю… рекомендую вам приготовить какой–нибудь «запретный плод». В разумных пределах, разумеется. Вы помните рекомендации?
— Да, доктор… Конечно… Простите меня, расклеился… До свидания. А на выходные ее можно забрать?..
— Пока нет, пока колем ее… Может, через пару недель. У вашей жены контрольное обследование через… — заглядывает в папку, — через шесть дней. Посмотрим, тогда решим.
— У Анны день рождения через одиннадцать дней…
— Вот и хорошо, если все будет в порядке, сможете устроить ей домашний праздник.
Лев заходит в палату. Анна спит, замерев в нелепой позе.
Лев укладывает ее удобней, садится на край постели и смотрит на нее долго. Потом прижимает ее ладонь к губам.
«Моя рыжая Белочка… Почему я не могу взять на себя твою боль?.. Отдай мне… отдай ее мне… Пусть меня колют, режут… пусть мне будет больно. Нет, тебе и тогда будет больно… как мне сейчас. Так что все одно… Это наш… наш общий крест… И нести нам его вместе… мы же не можем по–другому, правда?.. Господи!.. Где же ты есть? Вмешался бы…»
Он встает, берет с тумбочки вазу со слегка увядшим букетом больших ромашек, споласкивает вазу, наливает в нее воду и ставит лилии. Глянув на ромашки, выбирает несколько еще свежих, обламывает стебли и укладывает головки в тарелку, в которую наливает немного воды.
Склоняется над женой, целует и выходит.
На улице уже совсем темно. Выехав за ворота, на автобусной остановке Лев замечает свою попутчицу.
«Тетушка, что это ты припозднилась? Надеюсь, свекор твой… надеюсь, ему не хуже…»
Он подъезжает к ней и открывает правую дверь:
— Садитесь. Поедем назад.
— Ой, это вы?.. Что ж это, меня, что ли, ждали?.. Нет, езжайте… Автобус через пятнадцать…
— Да что вы в самом деле!.. Садитесь.
— Нет, не могу, вы меня сюда бесплатно…
— Садитесь скорей, меня сейчас оштрафуют по вашей милости! Здесь стоять нельзя.
— Ой, ну вы… Прямо не знаю… — Садится.
— Ремень.
— Что?
— Ремень пристегните.
— А, да–да.
— Ну как ваш свекор?
— Спасибо… так же. Ходит уже. После операции он. Кушает только плохо. Худой…
— Давно оперировали?
— Три недели тому.
— И что говорят?
— Что они скажут? Не знают… От организма зависит.
— Ну, если бы не знали, не оперировали бы.
— Говорят, вырезали все… метастазов не было. Он вообще–то сильный, здоровый всегда был. Курил только много… вот в легких и завелось. Такой человек хороший был… Ой, что это я? был! Есть! Господи… Может, поправится еще… Но почему такое всегда с хорошими людьми?
— А вы говорили: с добрыми — добрый…
— Ой, да… Что же это? как же?.. А вы у кого были?.. Ой, не надо, если не хотите… Я совсем совесть потеряла…
— У жены.
— Ой… простите…
— Не извиняйтесь.
Лев включает музыку, не желая сейчас разговаривать ни о чем.
«Эх, тетушка… Свекор — не муж, и теща — не жена. Им вроде положено раньше… уходить. У тебя муж останется — кольцо вон на пальце…
Белка, не уходи. Я не знаю, как жить без тебя. Для чего? Я люблю тебя, Рыжик… И еще мне очень больно. Очень, Анна…
Почему так мало, Господи? Почему пять лет? Мы что, не заслужили больше? Или за такую любовь нужно жизнью рассчитываться?.. Любовь — кровь… Почему? Почему, Господи, за стеной нашей квартиры смертным боем бьются муж с женой, вот уж лет тридцать, поди… и ничего, живы… и не болеют. Кто мне объяснит что–нибудь? Кому тетушкин свекор мешал? Я ей верю, что он мужик хороший. Верю! Она врать не станет, она сама хорошая. Тетушка…»
— Как вас зовут?
— Светлана.
— Очень приятно. Меня — Лев. Или тигр. — Усмехается.
Светлана смотрит на него, не понимая шутки.
— Правда, Лев, Лев Сергеевич, если угодно. Я в год Тигра родился, меня жена иногда тигром зовет.
— Ой, я тоже… Только вы ни на льва, ни на тигра не похожи.
— Правда? Жаль.
— Почему?
— Мне кажется, настоящий мужчина должен быть похож на…
— А вы и похожи на настоящего мужчину. Вы мне моего свекра напоминаете. Он тоже настоящий мужчина. Правда!
— А что такое настоящий мужчина?
— Ну, не знаю… Нет, знаю, конечно, только объяснить не могу. А вы знаете?
— Откуда мне знать? Я в мужчинах не разбираюсь.
— Вот вы даже шутите, как мой свекор… Во всем–то вы разбираетесь. И даже знаете, что вы — настоящий мужчина. Только вы скромный. И никогда в этом не признаетесь. Вам жена говорила, что вы?..
— Она необъективна ко мне. Просто она меня любит.
— А вы? Вы ее любите?.. Что я спрашиваю! Это же видно, что любите.
— Как это вам сразу все видно? Вы меня знаете час с небольшим…
— А я сердцем вижу…
— Как настоящая женщина?
— Да, настоящая, только вот… Ой, смотрите! Вон она побитая лежит… Как вы думаете, мог в ней кто–нибудь уцелеть?
— Если пристегнуты были.
— Нет, я серьезно…
— И я абсолютно серьезно. Если были пристегнуты, могли уцелеть. Поболтало, конечно, хорошенько… до сих пор, поди, тошнит… Вам куда в городе? На ту же улицу?
— Нет, это я там работаю. А живу… Вы меня у метро высадите.
— Ну вот! А говорите, настоящий мужчина!
— ?..
— Разве настоящий мужчина высадит женщину… настоящую женщину у метро?
— Нет, наверно… Но только я тогда вам заплачу…
— Адрес?
— Тихая… Знаете?
— Знаю. Мне по пути.
— Вот и успокоили, вам хоть до дому близко будет… А то катаете меня весь вечер.
— До дому мне еще долго. Я часов до четырех работаю.
— А что — смена такая?
— Ночью заработать можно. Днем — автобусы, метро… Днем я сплю… Где сворачивать? Какой дом?
— В самый конец, вон тот дом… Да, вот здесь, приехали… А вы поможете мне сумку на четвертый этаж донести? Вы же настоящий мужчина!
В просторной квартире скромная стандартная обстановка.
Хозяйка сопровождает гостя в кухню.
— Сумочку вот сюда… не разувайтесь, глупости какие!.. на кухню. Сюда, сюда. А теперь — садитесь, и пока не поедите, не выпущу. Впрочем, если умыться надо — вот туда, пожалуйста… Обед будет по полной программе, вам еще силы нужны. Вы небось на одной яичнице живете… да на сосисках. А? Правда?
— Правда.
— И давно… жена? — Светлана хлопочет у плиты, не прерывая разговора.
— Скоро четыре месяца.
— Ой–ой… Вот, кушайте. Я бы вам вишневочки предложила, да вы за рулем… у меня свекор уже успел в этом году сделать. Чего только не делает на даче своей… нашей. Всю зиму едим и пьем его произведения. А яблок сколько в этом году! Неужто пропадут без него? Он из яблок и джем, и вино, и уксус делает. Вы ешьте, не обращайте внимания. Вам что сварить — кофе, чай? Я кофе вкусный варю, не смотрите, что из деревни… Я из эстонской деревни, там кофе умеют варить.
Они пьют кофе. Светлана смотрит на Льва, улыбаясь:
— А вы обманули, что яичницей да сосисками перебиваетесь…
— Это вы сказали, я просто не возражал.
— Я не я буду, если вы не умеете вкусно готовить!
— Умею. А как вы узнали?
Светлана засмеялась:
— Как и про все остальное.
— Вы опасная женщина… А опасная женщина, которая варит вкусный кофе, просто вдвойне опасна…
— Это почему же?.. Ой, извините, телефон.
Лев закуривает. Через некоторое время возвращается Светлана.
— Простите. Это муж звонил.
— Как вашему мужу понравится эта картина? — Лев жестом показывает на себя и нее.
— Не волнуйтесь, это он об отце спрашивал. Он уже давно мне не муж. Ушел к другой… Теперь иногда к нам в гости с ней ходит. Мы здесь со свекром и сыном моим — его внуком, стало быть, — живем. Свекровь умерла семь лет назад. Потом мой муж загулял. Отец его выгнал, нам не позволил уйти… Сказал, все здесь ваше, вам и останется… А потом все помирились. Свекор отдал сыну свою квартиру, а сам сюда переехал. Мы с ним очень ладили… Ой, да что это я? Как похоронила уже… Он мне как отец… Добрый. Внука любит… Настоящего мужчину из него делает… Я своего отца почти не помню, он в море погиб, рыбаком был… А свекор все говорит: когда же я тебя замуж выдам? где глаза у мужиков?.. Ой, скажет же! А я не хочу замуж… Не за кого. Нет мужиков на свете больше настоящих. А так — лишь бы штаны по дому ходили… — Светлана спохватилась: — Что это я разболталась?.. Простите. Может, вам кофе еще?
— Спасибо вам за все. — Шарит в нагрудном кармане жилета.
У Светланы сперва вытягивается лицо, а потом она звонко хохочет:
— Ой, умора! Я решила, что вы за деньгами…
Лев, достав ручку, тоже улыбается. Срывает с висящего рядом с плечом отрывного календаря листок и пишет на нем номер телефона:
— Вот мой телефон. Вдруг чем помочь смогу, не стесняйтесь. Захотите к свекру поехать, звоните, нам теперь в одну сторону…
— Нет, что вы… Я автобусом привыкла…
— Надеюсь, вы понимаете, что сказали глупость? — Лев улыбается, глядя на Светлану, она тоже улыбается и опускает смущенно глаза.
— Спасибо, Лев. — Смотрит на номер. — А вы умеете врать… Живете–то вы аж на другом конце города.
— Больше не буду. — Лев встает.
Светлана открывает шкаф и достает оттуда банку:
— Вот, возьмите для жены. Это вишня с орехами. Мой свекор такой деликатес делает.
— Ей нельзя сейчас этого… Спасибо, не стоит.
— Ну, съест, когда можно будет. Берите, я не отстану.
— Еще раз — за все спасибо, Светлана. До свидания.
— Это вам спасибо, Лев. До свидания.
Лев, отъезжая от дома Светланы, выставляет «гребешок» и почти сразу берет пассажира.
Его работа идет своим чередом: он развозит разных людей, стоит на стоянках, снова куда–то едет…
«Белочка моя… Мне страшно. Не уходи, прошу тебя… Четыре месяца… как нелепая шутка. Я до сих пор не могу принять это всерьез… Дикий розыгрыш… Просыпаясь утром, я каждый раз верю, что кошмар кончился, что, открыв глаза, увижу тебя рядом… твое лицо, твои губы… почувствую тебя всем телом… Но приходит тупая боль — рядом пусто… твоя подушка пуста… моя жизнь пуста…
Бог! Что мне сделать, чтобы умолить Тебя? Возьми у меня руку, ногу, глаз… только верни все на свои места! Ведь это Ты все устроил? Ты? Нашу встречу пять лет назад… Милые забавы — дал, взял… Хорошего понемногу?.. Может, я несправедлив? Прости…
Вокзал… Наше любимое место… Как мы любили с тобой куда–нибудь уезжать! А возвращаться!.. Неужели, больше никогда?..
Стоп! Стоп…»
Лев резко тормозит и останавливается. На заднем сиденье молодая пара взволнована:
— Что–то случилось?.. Мы не опоздаем?..
Лев, проведя ладонями по лицу, выходит из машины со словами:
— Нет, ребята, мы никуда не опоздаем.
Лев преобразился: на лице — едва сдерживаемый восторг и возбуждение. Открыв капот, он склонился над мотором и делает вид, что выясняет причину каких–то неполадок.
«Лева, или ты спятил, или… или это — гениальная идея!.. Да, одно из двух…»
Изобразив, что что–то подправил под капотом, Лев садится в машину. Глядя в зеркало заднего вида, он спрашивает своих пассажиров:
— И куда же мы едем?
Пассажиры слегка удивлены такой перемене: из хмурого молчуна водитель преобразился в своего парня и балагура. На его вопросы они отвечают вдвоем: часть фразы произносит девушка, часть — парень.
— Мы?.. На море…
— На море! Класс! И на какое же море мы едем?
— На Черное… В Крым.
— Замечательно! В Крыму в августе просто замечательно!.. По путевке или дикарями?
— Дикарями… В свадебное путешествие.
— Да что вы! Поздравляю! Любите друг друга, а? Конечно, любите. Вот и любите! И живите долго и счастливо. И чтоб в один день… в один день чтоб умерли… как в сказке.
Доставая из багажника сумки, Лев говорит:
— По такому случаю я с вас полцены беру.
Молодые наперебой пытаются уговорить его не делать этого. Но Лев непреклонен. Они недоуменно замолкают.
Лев садится в машину и машет им рукой:
— Счастливо! И помните — только в один день!
Уже не столь возбужденный, Лев сидит в машине, пристроившись в хвост вереницы такси.
«Да, умирать надо в один день. Так мы и сделаем. Белка! Если бы ты знала! Здорово я придумал…
Море… На какое бы море нам поехать?.. А, Белка? У нас с тобой еще целая куча денег осталась. Мы мечтали о каком–нибудь сногсшибательном круизе. Вот мы его и осуществим…
Я тебя забираю после обследования, на твой праздник, а назад не отдам. Пока они тебя совсем не закололи… И — сколько отпущено нам — все наше…»
В машину садятся пассажиры. Лев включает музыку, чтобы отгородиться от всего мира. Звучит песня «Битлз» It’s getting better.
«И впрямь — it’s getting better!..[1] Просто не по дням, а по часам… Вот только как уколы делать? Думаю, освою… Собаку свою, было дело, месяц колол — получалось. Попрошу сестру пару–тройку дней потренировать меня. Лекарство… это уже проблематичней… На три дня доктор даст, а потом?.. Да-с! Прокол… Думай, Лева, думай, мужик!..»
Брезжит рассвет.
Лев подъезжает к тому же гастроному, снимает «гребешок» и выходит.
Оборачивается на скрип тормозов и вспышки фар подъехавшей сзади белой новенькой «тойоты».
Из нее выскакивает поджарый энергичный мужчина средних лет и бросается на Льва:
— Левка! Ты?!
— Витька!.. — Лев удивлен и обрадован.
Они обнимаются и похлопывают друг друга по плечам.
— Мужик! Я вон с того перекрестка тебе мигаю! Задумался о чем? — Перебивая сам себя, приятель Льва продолжает: — Ты под красным стоял, я подъехал, смотрю — ты, не ты? Ты! Обалдел просто — Левка! Сидит — суровый такой… ни фига вокруг не видит… Зеленый дали — как дунул… я за тобой…
— Ты откуда свалился? Сто лет тебя не было…
— Стоп! Все по порядку! Ты сейчас куда?
— Оттаксовал, домой.
— Дома один?
— Один.
— О’кей! Меня примешь? Посидим, поболтаем.
— Разумеется!
— Машину где ставишь?
— Во дворе.
— Ты все там же?
— Нет, вот в этом доме живу.
Виктор присвистнул:
— Ничего себе… Ладно, об этом потом… Я вообще–то на какую–нибудь стоянку ехал приткнуться. Машина тепленькая еще… без номеров… Здесь где–то около школы…
— Есть. Я там тоже иногда ставлю.
— Давай туда, а назад на твоей. О’кей? И через гастроном! Я гуляю.
Они садятся по машинам и отъезжают.
* * *
Квартира Льва.
В гостиной Виктор — ходит по комнате, рассматривая все подряд. На столе — бутылки, банки.
Входит Лев с сервировочным столиком–тележкой. Расставляет тарелки, раскладывает приборы — сервирует стол по всем правилам.
Виктор подходит к музыкальному центру:
— Крутой аппарат… Что слушаем — старое, доброе, вечное?..
— Поставь что–нибудь.
Виктор вставляет диск. Звучит Santana.
— Пойдет?
— Более чем.
— А ты — тот же… словечки те же.
Они садятся. Виктор откупоривает две маленькие бутылки пива, чокается горлышками:
— За встречу! Для начала.
Они едят, запивают, почти не разговаривая. Утолив первый голод, откидываются почти одновременно на спинки. Смеются и закуривают. Лев спрашивает:
— Значит, отслужил у швейцаров? Что делать думаешь? От Родины, поди, отвык за шесть лет… Остаться не было мысли?
— Была мысль. В первый год… потом прошло. Помнишь, я тогда приезжал, мы классом встречались на какой–то годовщине выпуска… Эй! Вспомнил! Ты тогда влюбленный до безобразия был, с какой–то роскошной рыжеволосой… Жена вроде?..
— Потом… Давай дальше.
— Ну, потом так потом… Так вот, я тогда чуть всем не ляпнул, что в последний раз видимся… прощайте, родные, прощайте, друзья… съезжаю в Швейцарию, мол. Но сдрейфил. Не сказал. Уехал. А потом прошло как–то. Да и Родина подтягивается, смотрю… Глянь на стол — семь лет назад глаз бы выпал. А теперь — пошел, купил… Аж противно…
— Это если есть на что…
— У тебя что, туго?
— У меня–то, слава богу, не туго, а скольким на хлеб с молоком не хватает.
— Ну, такие всегда были. И везде есть. И в жирной Швейцарии, будь уверен!
— Только там это — исключение, а здесь — пока правило… Рассказывай.
— Служил я там в крупной клинике, в Лозанне. Уважя–я–и-мый чилавек был, панимаишь… Дом дали, там же, около клиники городок… Места роскошные! Сады… Придешь — покажу, фото, видик… Во–от… После трех лет контракт продлили. На год, потом — еще на два. Спикать–шпрехать научились. Любашка наша в Женеве второй год учится. А мы с Иркой решили вернуться… Она сейчас у родителей в Городке. Я тут уже неделю в суете: машина, квартира… Я чего вернулся–то — Ипэ делать буду. Со швейцарами. Стоматологическую клинику…
— Этих клиник сейчас как собак нерезаных. А зубы лечить негде — цены кусаются.
— О! А у нас цены — для народу будуть.
— Вас же бить через день будуть.
— Будь спок, мужик! Забыл, какая у меня крыша?
— Если знал…
— У Ирки же дядька родный в МИДе.
— А, да… Он замом сейчас, вот–вот министром станет.
— Вот–вот! В курсе, чем страна дышит… А мы там, знаешь… — Виктор продолжает о чем–то оживленно рассказывать, энергично жестикулируя.
«Славный ты наш дантист… Мне бы твои проблемы, доктор…
Стоп! Доктор… доктор — рецепт — лекарство… О’кей, как ты говоришь. Может, мне тебя как раз Тот Самый послал? А?..»
Виктор, закончив рассказ, обращается к Льву:
— Ну а ты как?
— Я как?.. Давай выпьем.
— Что тебе — мартини, «Смирноффа»?..
— Мартини… Как у нас с этикетом — можно мартини ветчиной с маслинами закушивать?
— Можно. Только наоборот — ветчину с маслинами запивать мартинями.
— Пардон…
— Эх, мужик! Не тиранили тебя этикетами да протоколами… Так что ты — как это ты из программистов в таксисты подался?
— Завод наш распинали…
— Фиговые дела на Родине, если таких программистов распинывают!
— Мне предложили работу… но не совсем по мне, вот я и ушел. Лицензию взял — зарабатываю не меньше… Иногда по старой памяти приглашают на несколько дней то туда, то сюда… наладка, учеба. Платят тоже хорошо. На заводе за месяц столько не выходило. Так что — и квалификацию не теряю, и на жизнь хватает…
— О! Теперь за жизнь! Почему здесь? С кем? Где она? Давай — в свободной форме… порядочек–то в квартире холостяцкий!..
— Чего рассказывать? Жену мою ты видел — Анну…
— Да, мужик! Мы тогда покачнулись все! Это ж надо — в тридцать стать холостяком, да еще каким — матерым, железобетонным холостяком! А потом, в сорок три такую даму отхватить!.. И ведь никто ничего не знал. Телефон, говорят, молчит… залег наш Левчик на дно. Я, конечно, гад — не писал… Но там такая жизнь бурная… Ну так что?.. рассказывай.
— Вот и все.
— Ха! Рассказал мне друг за жизнь! Где женато? Это ее дом?
— Ее.
— А твоя хрущоба?
— Продали.
— Неплохо, поди, продали? У тебя ж там такое было — не разберешь сразу, куда попал…
— Неплохо.
— А жигуль?
— Тоже.
— Лева, не рассказ, а песня! Где твоя рыжеволосая Анна?
— В отпуске.
— А ты?.. Ладно, не темни — разошлись?
— Да нет, все о’кей, как ты выражаешься… Налей водки… в стакан.
— Так… Мужик, ты если о’кей говоришь, так у тебя физиономия отставать не должна… А у тебя на ней фигня какая–то нарисована, а не о’кей.
Виктор озадаченно смотрит на Льва и наливает ему в стопку. Тот переливает в стакан и доливает до половины. Выпивает как воду.
— Дай сигару.
— На! Ты хоть курил их?.. Не затягивайся сильно.
Лев закуривает. Откидывается на спинку дивана, с наслаждением выдыхает густой дым в потолок и говорит будничным тоном:
— Анна в больнице… умирает от рака.
Виктор присвистнул:
— Прости, мужик… Неожиданно…
— Прощаю.
Лев наливает еще водки — себе и Виктору.
— Ну, будем! — Выпивает, не дожидаясь друга, затягивается.
— Э, ты полегче, закусывай давай. И про Анну живо все по порядку! Рак чего, когда началось, что сейчас?
— Почка правая… Зимой заболела, в апреле положили на химию. Не помогло… — Снова выпивает и затягивается. Его на глазах развозит. — Сейчас на наркотиках…
— Что колют?
— А фиг его… Сегодня сменили… она бредит… я чуть не рехнулся… думал, все… Нет моей Белки.
— При смене это бывает… Так, завтра… а, елки, уже сегодня — едем к лечащему. Я беру это в свои руки.
— Ты что, онколог? Ты ж дантист…
— Я, Лева, врач! И связи у меня не где–нибудь, а в крупнейшей мировой клинике.
— А мне бы очень пригодились твои связи с аптекой за углом… ик!
— Не понял.
— Налей! Я тебе гени… ик! гениальный план расскажу… ты ик! в этом плане записан… поможешь мне его астюстествить… ик!
— Хватит пить! Что за план?
— Хочу увезти Белку на какие–нибудь Багамы… кстати, посоветуй, а? ик!
— Посоветую. Дальше?
— А дальше… мы живем там, сколько нам оттуда, — показывает пальцем в потолок, — спустят… И ти–и–ик! ти–и–хо уходим вместе. Помнишь Грина: они жили долго и счастливо… мы жили недолго и счастливо… Мне нужно лекарство. Денег у нас куча… Хочешь — квартиру оставлю… Все равно ик! пропадет…
— План архигениальный! Ты уже и Белке… Анне рассказал?
— Не–е–а… он мне только сегодня в голову стукнул.
— Надо бы тебя в другое место, да посильней! Все, ложимся, перекемарим и поедем… Где мне можно лечь?
— Где хошь… три комнаты — выбирай. — Пытается встать, снова плюхается.
— Тебя отвести?
— Я сам… ик! Полотенца, простыни, халаты — там в шкафу…
* * *
Вторая половина дня. Лев в одних шортах, с мокрыми волосами делает уборку квартиры. Звонок телефона.
— Да? Витька, ну ты даешь. Если бы не остатки на столе, я бы решил, что у меня крыша съехала… Ага. В пять жду.
Некоторое время спустя.
Лев сидит в гостиной на диване. В своем обычном одеянии — джинсы, рубашка в клетку, жилет. Перед ним на столе несколько тетрадок. Одну из них он читает.
Звонок в дверь.
Лев открывает с тетрадкой в руке. На пороге Виктор.
— Привет, проспался?
— Ладно тебе, заходи. Чай, кофе? Может поешь?
— Что–нибудь по–легкому. Мотался весь день, присесть некогда было. Что это ты читаешь?
Идут в кухню.
— Анна мне письма такие пишет.
— Так, про Анну. У меня в Лозанне друг есть. Альгис. Бывший наш — он ребенком туда попал с родителями… из Литвы… мать русская… Они обрадовались нам, как родным… ну мы и дружили. Так вот, он — профессор. Онколог. Зав клиникой онкологии. По злой иронии судьбы его жена десять лет назад заболела раком. По доброй иронии он ее вылечил… и еще многих вылечил, между прочим. У них там лечение начинается с установки на выздоровление… а не на лечение. А это — великая сила, Лева. Едем сейчас к лечащему. Я представляюсь кузеном Анны, доктором… не важно каким, прошу историю болезни, факсую ее Альгису. Жду ответа с резюме. О’кей?
— М–м–м…
— А твою гени–ик! — альную идею мы отложим про запас. О’кей?
— Кей о.
* * *
Лев и Виктор подходят к гардеробу. Нянечка, не дожидаясь просьбы, говорит:
— А ваша жена гуляет.
— Прекрасно. Спасибо.
Они идут по главной аллее. Лев замечает в стороне сидящую на скамье Анну. Она сидит с тетрадкой на коленях и с ручкой в руке. Глаза закрыты, лицо она подставила лучам закатного солнца. Ее темно–рыжие волосы, рассыпанные по плечам, сияют огнем.
Услышав приближающиеся шаги, Анна оборачивается. Увидев Льва, она вскакивает и бросается ему на шею:
— Левушка! Милый мой! Мне сказали, что я тебя так напугала вчера…
Лев целует ее, забыв о Викторе и о больных, прогуливающихся по саду. Виктор смущенно отходит в сторону.
Спохватившись, Лев представляет Анне друга.
— Это Виктор… Анна.
Виктор говорит:
— А мы знакомы.
Анна смущенно пожимает плечами:
— Простите…
Лев:
— Анна, Виктор хочет поговорить с доктором. Ничего, если он представится твоим кузеном?
— Ничего…
— Иди тогда, кузен. Второй этаж, первая дверь в лоб. Поговори, а мы тебя здесь подождем.
Виктор уходит, а Лев и Анна садятся на скамью. Анна, приникнув к мужу, ласкается, как котенок, о его щеку.
— Ты измучился со мной…
— Что моя Белка хочет услышать?
— Прости… Я ерунду говорю…
— То–то! Как ты себя чувствуешь? Что тебе вкусненького приготовить? Доктор разрешил.
— На наш праздник?
— Думаю, про наш праздник он не знает. А тебе спасибо за поздравление. — Целует Анну. — От Ленки телеграмма. Поздравляет. Прилетает в пятницу.
Анна тусклым голосом произносит:
— Ура–а–а…
— Не грусти. Скоро все будет хорошо. Доктор сказал.
— Я знаю, скоро. Я тут тебе что–то интере–е–есное пишу… Мне так хочется тебе одну тайну выболтать!
— Выболтай.
— Нет. Я тебе ее как подарок к нашему второму главному дню берегу…
— Тогда я подожду. Два денечка осталось.
— Ну скажи, что ты не можешь терпеть… хоть я и знаю, что ты самый терпеливый на свете.
— Я самый терпеливый на свете, но меня раздир–р–рает любопытство!
— Все! Тогда точно не скажу! Вот через два денечка и получишь. — Она машет перед лицом Льва тетрадкой.
— Ну хорошо.
Они сидят молча, прижавшись друг к другу, словно им невыносимо холодно.
Анна:
— Я так хочу домой… Хочу спать, прижавшись к тебе…
— Не думай об этом. Я умираю, когда начинаю об этом думать.
— Я знаю, мой милый… — После паузы. — А знаешь, у меня еще одна тайна есть… не очень хорошая… но такая назойливая.
— Ну?
— Может, не надо?
— Если назойливая, лучше от нее избавиться поскорей.
— Ты прав… Только ты не подумай… ты должен знать — я все–все понимаю…
— Это уже интересно… ну?
— Зря я начала…
— Начала — продолжай.
— Ладно… Знаешь, недели две назад… и еще раз на днях, я звонила тебе поздно–поздно… — Анна виновато посмотрела на Льва.
— Так, и что?
— А тебя не было дома… Я, конечно, понимаю, Левушка… — Она замолчала.
Лев поднял ее лицо.
— Ну? Дальше, таинственная ты наша. Что ты понимаешь, моя смышленая?
— Что–что… Что тебе плохо одному… ты же мужчина… настоящий притом… А мужчины долго не могут без женщин…
— Правда? Что вы говорите?
— Да… — Анна, закрыв лицо руками, захлюпала носом.
— Вчера ты говорила гораздо более умные вещи.
Лев достал большой клетчатый платок.
— Дуем вот сюда… Хорошо… — Вытирает Анне нос, лицо. — А теперь я свою тайну буду рассказывать. Хорошо?
Анна кивает и смотрит на Льва с надеждой.
— Помнишь, ты была дома в последний раз? Так вот, в тот день я уволился с работы. Нам давно говорили про сокращения… Поскольку я не беременный, не многодетная мать и даже вообще не мать…
— Ты мать! Ты самая заботливая на свете мать!
— Мой начальник только об этом не догадывался… Вот и стал я безработным. Но к тому времени я уже получил лицензию… на извоз. И работаю извозчиком. По ночам. Вот такая тайна страшная…
— Левушка, прости меня. Почему ты мне раньше не сказал?
— Хотел сюрприз сделать. Думал, тебя когда забирать буду, шашечки нацеплю, фуражку шоферскую напялю — и с ветерком тебя покачу. Фокус не удался…
— Прости меня…
Подходит Виктор. Лев спрашивает:
— Ну что?
— Все о’кей! Дай мне ключи, я в машине кое–что почитаю. Ты не спеши. — К Анне: — До свидания, Анна.
— До свидания, Виктор.
Лев и Анна в обнимку идут к корпусу. На ступенях Анна вдруг прижимается губами к уху Льва и говорит шепотом:
— Я все же скажу тебе свою тайну… не всю, а немножечко.
Она отстраняется и заговорщически смотрит ему в глаза. Он улыбается и кивает.
— Я скоро вернусь домой насовсем… навсегда. — Снова смотрит на Льва.
Он молча прижимает ее к себе.
Анна гладит его по лицу и говорит:
— Иди, мой милый, у нас ужин скоро, и тебя ждут.
* * *
Лев и Виктор в машине возвращаются в город.
Лев:
— Рассказывай.
— Сначала я начал врать… про кузена… потом плюнул и попер начистоту. Оказалось, к лучшему. Ваш доктор, оказывается, знает нашего Альгиса… по его статьям, разумеется… он вообще продвинутый доктор, ищущий… Ясное дело, хотел бы поработать там, ясное дело, понимает… да что там понимает — на собственной шкуре знает, как у нас трудно лечить людей — наука не дурней, а денег нет, вот и стоим на месте или идеи продаем, а потом сами же и покупаем… Ну ладно. Язык общий мы нашли. Главное, я сразу от него факсанул всю историю Альгису. Ответ придет доктору… Я тебе, мужик, скажу — рано на Багамы собрался. Сначала, возможно, в Швейцарию придется слетать. Где–нибудь к Рождеству. Там в Рождество, Лева!.. А через годик — и на Багамы…
— Что ты имеешь в виду?
— А то, что ты рано на жене своей крест поставил, мужик!
— Мне Анна примерно то же самое на прощание сейчас сказала… — Лев резко затормозил и остановил машину. — Витя, ты в Бога веришь?
— М–м–м… Скорее да, чем нет. Вот Альгис — верующий. Пытался кое–что мне рассказать…
— Что, что? Расскажи!
— Ой, Лева, это тебе лучше с Иркой моей поговорить… Она с ними в церковь ходила… крестилась там.
— Ну ты–то не в стороне был…
— Нет… Стой! У Альгиса есть монография… исследование на тему… что–то вроде «Вера в Бога и ее влияние на ход болезни». У меня есть эта книжка… только вот на английском она…
— У меня же Анна переводчик! Где книга?
— Ну ты прямо быка за рога…
— Где книга?
— Да здесь, в багаже. Я еще не распаковывал…
— Где багаж?
Виктор внимательно смотрит на Льва и говорит:
— Поехали.
Машина трогается с места.
* * *
Несколько дней спустя Лев и молодая эффектная женщина едут по знакомой дороге в Дубравы. На заднем сиденье большие пакеты и два букета: один — из крупных садовых ромашек, другой — из огромного количества разноцветных маленьких розочек.
Женщина говорит:
— Лева, я волнуюсь… Как она выглядит? Я не испугаюсь?..
— Похудела, побледнела… Но выглядит бодро… особенно последние дни. Она там какое–то открытие сделала… тайна пока. А еще я ей книгу отвез… Я говорил тебе.
— Швейцарского доктора?
— Да.
— И что?
— Ее это просто преобразило.
Женщина закрывает лицо руками:
— Ой, Анька, Анька…
— Перестань, Лена.
— Не буду, прости… Лева, ты лекарства доктору отдай, если не подойдет Анне, пусть использует для других.
— Богачка ты наша…
— Богачка… Вот если бы можно было счастья купить…
— Ты несчастна?
— Как тебе сказать?.. Ты ж меня знаешь. Я всегда всем довольна, пока не задумаюсь. Живу в работе по уши… Любви у меня уже не будет… — Она посмотрела на Льва. — Такой любви. Другой не хочу. — Она помолчала и усмехнулась. — Это ж надо!.. С таким мужчиной разминуться!
— Судьба–а–а… — Лев тоже улыбается.
— Это ты точно — судьба! Кто знает, чем бы все кончилось, встреть ты меня тогда в аэропорту… с Анной вместе. Я бы, конечно, сразу в тебя влюбилась бы. Анька тоже… Во треугольничек бы получился!.. А ты?.. Вот увидел бы ты нас двоих, вместе… кого бы предпочел?
Лев хлопает Лену по руке:
— Перестань… Ты — красивая… роскошная… Я бы смылся сразу… от вас обеих.
— Не надейся, я бы тебя не упустила! Догнала бы… А Анька бы не стала…
— Не стала бы…
— А ты умеешь догонять женщин?
— Ну Анну же догнал…
— Ой!.. Умру сейчас! Догнал! Охотник! Тигр… Лев… — Лена смеется. — Это ты называешь «догонять»?
— Я совершил абсолютно не присущий мне поступок: заговорил с незнакомой женщиной и пригласил ее… куда–то там…
— На озеро…
— На озеро — это потом. Сначала я предложил пообедать вместе.
— Однако пообедали вы гора–а–аздо позже!..
— Ну я же не знал, что до обеда влюблюсь…
— Ой, Левка!.. — Лена смеется и закрывает руками лицо.
Неожиданно ее смех переходит в рыдания.
— Лена! Лена! Ну что ты?
— Не обращай внимания, сейчас пройдет. — Она достает из сумочки платок, пудреницу и приводит себя в порядок.
Лев изредка поглядывает на нее.
Через некоторое время Лена говорит:
— А что, если Аньке забеременеть?.. Говорят, беременность творит чудеса… А если… все же… я тогда воспитаю… я смогу. — На ее лице смешанные чувства: понимание абсурдности сказанного, надежда, мольба…
— Лена… — Лев улыбнулся. — А что, если тебе самой этим заняться?
— Мне?! — Она удивленно смотрит на Льва. — Ты что?.. Ты не знаешь ничего?..
Лев недоуменно и виновато глянул на Лену.
— Ты не знаешь, что я уже однажды делала это? Ты не знаешь, что мой муженек и наши многочисленные родители заявили, что рано на третьем… или каком–то там курсе заводить детей? Убедили… Я, когда из больницы вернулась, видеть не могла моего… муженька заботливого… Так хотелось и ему… аборт сделать. Мне ж сразу тогда сказали, что это первый и последний…
— Прости, Лена… я не знал.
— Да ладно… это ты прости. — Она молчит, потом добавляет: — Я так надеялась, что вы ребеночка заведете… А вы сами друг другу как ребеночки… куда вам третий лишний?
* * *
Неделю спустя. Вечер.
Больничный двор, Лев и Анна выходят из машины и направляются к главному входу. У Анны бодрая походка, она с букетом цветов. Лев несет большой пакет. Они поднимаются в палату.
Анна ставит цветы в вазу, Лев выкладывает из пакета вещи и продукты, складывает в тумбочку.
Рядом с кроватью две табуретки, на одной — пишущая машинка, на другой несколько книг, бумага.
Анна раздевается, остается в пижаме. Садится на постель, поджимает ноги. Лев пристраивается рядом, обнимает ее за плечи.
— Ну что, будешь спать?
— Ты же меня доктору не сдал.
— Я зайду к нему.
Анна прячет лицо на груди Льва и говорит тихо:
— Надо все–таки было утром уезжать.
— Почему?
— Ну… Тогда было бы — после ночи с тобой… А так получается, что на ночь расстаемся.
— Ты разошлась, Белка… А я на поводу пошел.
Она смеется:
— Глупыш… Дай я что–то тебе скажу.
Она шепчет на ухо Льву что–то, что заставляет его рассмеяться своим характерным тихим смехом — сквозь плотно сжатые губы.
Анна отстраняется, смотрит на Льва:
— Да–да! Не веришь?
Он молчит и улыбается, глядя ее по щеке.
— Говорю тебе — да! Я доктору завтра скажу. Или нет, он ведь зайдет на приемо–передачу меня, я ему и скажу.
— Белка, не глупи.
— Я не глуплю. Может, это открытие в медицине.
— Тебе не достаточно одного открытия? — Лев кивает на пишущую машинку.
— Ну, во–первых, это не мое открытие… — Анна берет в руки небольшую книжку, перелистывает ее. — Осталось, между прочим, меньше половины перевести…
— Доктор читал?
— Читал. А во–вторых, я абсолютно уверена, что мне для окончательного выздоровления это просто необходимо! И вообще… когда меня уже к тебе отпустят?
— Что доктор говорит?
— Говорит — можно…
Лев смеется и прижимает Анну к себе.
— По поводу книги что говорит?
— Ценная, говорит, книга. Если найдет издателя, мне за перевод заплатят. Только… ты ведь не будешь против? Я решила гонорар больнице оставить. К тому же как они там с автором договорятся по поводу авторских?.. Впрочем, если он верующий, уверена, проблем не будет.
— С чего ты так уверена?
— Знаю верующих… Ты читал мою последнюю тетрадку?
— Читал.
— Ну вот…
Они сидят какое–то время молча. Потом Анна говорит:
— Иди, мой милый… Мне грустно. Но… Надо. Тебе ехать далеко. Уже поздно… Будь осторожен, пожалуйста.
— Буду. Ты тоже.
— И еще… включи нашу волну. Там хорошая передача будет в восемь тридцать.
— У меня и так всегда наша волна… а что за передача?
— Ну… хорошая… послушаешь.
Они целуются. В это время открывается дверь и входит доктор.
Лев смущенно говорит:
— Возвращаю… мою жену. Кажется, все в порядке. Диету соблюдали… Поправились немного… — Обращается к Анне: — Сколько ты прибавила?
— Кило восемьсот, — с гордостью говорит она. — А главное… Ну ладно, это потом, без тебя. — Она смотрит на Льва и улыбается.
— Белка… Анна… Перестань.
Доктор говорит:
— Замечательно. Что с уколом?
— Делали в шесть, второй, — отвечает Лев.
Анна перебивает:
— В двенадцать не надо… Если не проснусь и не попрошу.
— Хорошо. — Доктор смотрит на Льва: — Зайдите, когда будете уходить. Доброй ночи, Анна Владимировна. — И выходит.
Сдавая в гардеробе халат, Лев замечает Светлану и окликает ее. Они обрадованно приветствуют друг друга. Лев говорит:
— Как ваши дела?
— Слава богу! Пока все хорошо. А ваши?
— Тоже… слава богу! Вы домой?
— Да.
— Я вас довезу.
— Спасибо.
— Вот это мне нравится! А то — «нет–нет, я на автобусе!».
Они смеются и выходят из вестибюля.
На улице почти темно, начинается дождь.
Лев и Светлана бегут к машине.
В лобовое стекло хлещет ливень. Дворники не справляются с ним. Лев говорит:
— Вы не спешите? Что, если мы переждем? Думаю, это ненадолго.
— Да, конечно!
Машина останавливается. Становится слышней музыка. Лев смотрит на часы — на них 20:33. Он делает чуть громче звук и говорит Светлане:
— Белка… то есть Анна сказала, какая–то передача интересная в двадцать тридцать.
— А почему Белка? — Светлана смотрит на Льва.
— Я какое–то время звал ее Анна — Белла… а потом сократил…
Голос диджея сообщает, что передача по заявкам продолжается, и объявляет следующую песню.
— Как она сейчас, ваша Анна?
— Вот вернул ее после четырех дней домашнего режима… У нее день рождения был, отпустили. Поправилась… Колют реже — один укол в сутки сняли. Анализы лучше… И сама как–то бодрее. Книгу переводит.
— Что за книга?
— Швейцарского онколога… что–то вроде: зависимость хода болезни от отношений пациента с Богом.
— Интересно…
— Да, интересно…
Голос диджея:
«Интересно, слушает ли нас сейчас… читаю… пилот… э–э–э… «бета–джульетты»?.. Пилот «бета–джульетты» серебристо–белого цвета! Вам передает привет… белка. Тут написано с большой буквы… Белка. Ну, я уж не знаю, о чем тут речь…»
Лев закрывает лицо ладонью. Светлана смотрит, ничего не понимая, на него, но молчит.
«…Белка… «бета-Джульетта»… не знаю, ребята, надеюсь, те, кому это адресовано, поймут все сами. Итак, звучит… звучит «Ю кип он мувин»… Темно–лиловые!»
Светлана, недоуменно:
— Это вам?
Лев отнимает руку. Его взгляд устремлен сквозь стекло и дождь. На губах тень улыбки.
— Мне…
— А что такое «бета–джульетта»?
— То же, что «альфа–ромео»…
Лев заводит машину, и они трогаются. Дождь утих.
— Счастливая ваша Анна… И вы тоже… счастливый. Она поправится. Вы должны верить.
— Я верю. Она уже поправляется… Я бы дал вам ее письма почитать. Но там слишком много…
— Я понимаю… Расскажите просто то, о чем хотите сказать.
— Обязательно. И копию перевода дам. Обязательно. Помните, я приставал к вам в прошлый раз, что вы знаете о Боге?.. Так вот, там ответы на мои вопросы. И на ваши, думаю, тоже есть… Как ваш свекор?
— Спасибо, лучше. Уже о выписке поговаривает. Он без дела просто не может. Чуть зашевелился, заходил — уже о саде–огороде переживает… Я ему: вы о себе сейчас думайте. А он: это и есть я, если не смогу заниматься делом, то не я буду, зачем тогда жить, говорит…
— Я его понимаю… Ну, дай ему бог поскорее к делам вернуться… Почему вы не звоните мне, когда в Дубравы ехать собираетесь? — Лев посмотрел на Светлану.
Она улыбнулась:
— Автобусы пока ходят исправно… У вас других забот нет?
— Не говорите глупости.
— Хорошо, не буду.
* * *
Тихий зимний день.
На стоянке аэропорта паркуется белая «тойота». Из нее выходят Лев с Анной и Виктор. Мужчины берут сумки, и все направляются к зданию.
Под табло с объявлением о начале регистрации на рейс до Вены и Женевы они сдают багаж, заполняют бумаги и прощаются. Виктор уходит, изредка оборачиваясь и помахивая рукой Льву и Анне.
Анна спрашивает у Льва:
— У нас есть минутка?
Лев кивает.
Она, взяв его за руку, тянет к лестнице, ведущей в верхний зал ожидания. Там она прислоняется спиной к колонне и смотрит сквозь стекло на бесцветное небо, заснеженные взлетно–посадочные полосы, на самолеты и прочую технику, занятую своими обыденными делами.
Лев стоит чуть поодаль и смотрит на Анну.
Она снимает шапку, рыжие волосы рассыпаются по воротнику распахнутой дубленки.
— Жарко, — говорит она и оборачивается к Льву.
Лев улыбается и подходит к ней.
— Вас не утешит стаканчик чего–нибудь холодного? — говорит он.
Она смеется, обнимает Льва.
В его памяти мелькают картины пятилетней давности: этот же зал, за окнами знойное марево, разлитое по полю, Анна в легком шелковом костюме, прислонившаяся спиной к колонне; они в машине, застрявшей в пробке на выезде из аэропорта, смотрят друг на друга сначала смущенно, потом с откровенным интересом и недвусмысленными чувствами; лесное озеро, закатное небо, они лежат обнаженные по плечи в воде, разговаривают и смеются, потом обнимаются…
Лев возвращается в реальность. Смотрит на бледное осунувшееся лицо Анны, в ее горящие глаза и говорит:
— Как ты себя чувствуешь?
— Замечательно!
— Звучит жизнеутверждающе.
Она снова смеется и прижимается к нему щекой.
— Это мое словечко! — говорит она.
— Вот и прекрасно. С удовольствием оставляю его в твое безраздельное пользование.
СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ, ПАСМУРНЫЙ ВЕЧЕР
Часть первая
Я заметила его в первый же день, в день приезда. Ничем особенным он не выделялся — в смысле внешности или одежды. Чуть выше среднего роста, широкоплечий, худощавый… И все, пожалуй. Не совсем, нет. Его лицо… какое–то не наше. Не знаю.
Женщина рядом. Совсем обычная. Невысокая, полная, все время улыбается. А он словно отстранен от нее… от всех.
Потом, через несколько дней, я снова его увидела.
Я сидела за столиком кафе в саду — мы с мужем обнаружили, что здесь замечательно готовят кофе по–восточному. Сидела одна — муж ушел на три дня в горы. Их отвезут к перевалу, который они преодолеют и спустятся сперва на лыжах, а после — на лошадях назад к морю. Осталась по двум причинам: не переношу горных серпантинов и отсутствия элементарных удобств. Этот поход входил в программу путевки, и муж предвкушал его заранее. Когда я сообщила, что остаюсь, он готов был пожертвовать удовольствием, и мне стоило больших трудов уговорить его отправиться без меня.
И вот я сижу с чашкой кофе и смотрю на улицу, где начинается карнавал по случаю дней города, который продлится неделю.
Народ подтягивался к решетчатой ограде сада, и вскоре я видела одни только спины. От нечего делать я оглянулась по сторонам. Тогда–то я и заметила его.
Он сидел через два столика от меня и тоже потягивал кофе. И тоже один. Вероятно, поджидал жену, отправившуюся за покупками. Его лицо было обращено ко мне, но за зеркальными стеклами очков не было видно глаз. Я отвернулась.
Меня тянуло снова посмотреть в его сторону. Я выждала и, как бы ища кого–то, скользнула взглядом по нему.
Я надеялась, что он уже не один. Но он по–прежнему сидел в одиночестве. Точнее, рядом расположились два парня с бокалами пива, но жены не было.
Он поставил чашку. Снял очки и посмотрел на меня. Взгляд был прямым и словно немым: он ничего не выражал — ни вопроса, ни приветствия. Если бы он улыбнулся, я бы ответила, а так… Я смутилась и не знала, как себя вести. Все, что подсказывало мне мое неискушенное в вопросах отношений с мужчинами воображение, это не дать ему догадаться, что он меня каким–либо образом потревожил. Я посмотрела в чашку, сделала последний глоток и поднялась с места.
За решеткой и перед ней началось оживление, послышались звуки марша. Я подошла поближе, мне уступили место.
В конце улицы показалась колонна марширующих барабанщиц. Они были как на подбор — стройные, хорошенькие, в неимоверно нарядных костюмах. Они выделывали своими палочками замысловатые движения, извлекая из узких сверкающих барабанов сложные ритмические пассажи. Это завораживало.
Сзади перестали толкаться и давить. Я заметила две мужских руки, опиравшихся на прутья решетки по сторонам от меня: смуглая кожа, густые волосы на запястьях и широкие рукава рубахи в знакомых ярко–синих пальмах.
Повернув голову, я поймала устремленный на меня все тот же немой взгляд.
Мне ничего не оставалось, как продолжить наблюдать за происходящим. Но интерес к уличному действу был потерян.
А по мостовой уже двигался цирк: акробаты, жонглеры, дрессировщики с животными — все это ярко и шумно. Народ бурно выражал восторг. Мой добровольный телохранитель, видимо, больше не в силах был сдерживать натиск любопытных. Я почувствовала спиной его тело: мышцы груди, живот, бедра, колени. Его кофейное дыхание на своем плече. Это привело меня в смятение. Спокойную, выдержанную женщину приводило в смятение нечто совершенно непонятное… Этого не может быть, просто потому, что этого не может быть никогда. Во всяком случае, никогда не было прежде. Поэтому, что с этим делать, я не знала.
В голове всплыл разговор с дочерью, который произошел у нас несколько месяцев назад. Даже не всплыл, он постоянно крутился в моей голове последнее время. Но сейчас мне показалось, что тема его как–то перекликается с ситуацией…
Часть зрителей потянулась за процессией, другие возвращались за столики. Мы остались одни — он и я. Я повернулась к нему лицом. Он опустил руки и отступил. Мы медленно пошли вдоль ограды к выходу.
Есть только здесь и сейчас, говорила дочь.
Здесь, в маленьком южном городке, утопавшем в цветах и дивных пряных ароматах буйной растительности, устремленном узкими улочками с зеленых гор к синему морю, сейчас было лето, середина июля, полдень. И я рядом с незнакомым мужчиной.
Я не испытывала ни обычных для меня рефлексий по поводу затянувшихся пауз, ни необходимости что–либо объяснять. Я постаралась «быть прозрачной». Это тоже цитата из моей дочери.
— Где ваша жена? — Вопрос прозвучал неожиданно. Я словно услышала его со стороны.
— Там же, где и ваш муж. — У моего спутника был низкий голос. Очень подходящий к его внешности, подумала я.
— Откуда вы знаете, где мой муж? — Я посмотрела на него.
Он словно ждал, когда я повернусь, и тут же накрыл меня своим взглядом.
— Я провожал их сегодня утром.
— Правда?.. А я не нашла в себе сил встать в пять часов…
— Вы не любите раннее утро?
— О нет. Не представляю, что могло бы заставить меня встать раньше девяти утра… кроме трудовой дисциплины.
— А рассвет над морем?
— Я люблю только закаты… В любой точке горизонта.
— Вы только поэтому не поехали с мужем в горы?
— Не только. Я не люблю гор.
— А море?
— Море я предпочитаю всему на свете.
— И карнавалу?
— В первую очередь. Карнавалы и цирк я даже в детстве не любила.
— Тогда, может быть, пойдем на море?
— С удовольствием.
— На городской пляж или на дикий?
— Я не знаю пока диких пляжей, мы здесь впервые.
— Это не близко.
— Я хороший ходок и никуда спешу.
Мы шли почти молча — трудно было разговаривать, пробираясь по узким скалистым тропам, — и минут через тридцать вышли к небольшой лагуне: крутые берега, желтый песок и множество кустов, торчащих из расселин.
— Осколок рая… Возможно, один из последних, — сказал мой спутник.
— Очень похоже, — сказала я.
Я попросила его дать мне возможность переодеться в купальник.
Он сказал, что в раю не носят купальников, и вообще, море и солнце нужно принимать в обнаженном виде.
— Я еще не настолько свободна, — сказала я и добавила: — Увы.
— Ваше «увы» вселяет оптимизм. — Он посмотрел на меня и впервые открыто улыбнулся.
— Моя дочь сказала бы то же самое.
— Ваша дочь воспитывает вас в духе отказа от условностей и прочей чепухи, мешающей жить здесь и сейчас?
— Откуда вы?..
Мое лицо, вероятно, отразило неподдельное удивление.
Он засмеялся:
— У меня есть сын. Ему двадцать два.
Я тоже засмеялась:
— Моей двадцать пять.
Было легко и хорошо. Его взгляд, смягченный улыбкой, стал понятней.
Мы долго плавали, потом лежали на солнце. Мы почти не разговаривали. И в этом тоже не было ни неловкости, ни напряжения.
Когда мы вернулись в город, уже стемнело.
— Вы ужинаете в столовой? — спросил мой спутник.
— Через раз, — сказала я.
— И что у вас сегодня?
— Сегодня хочется чего–то более интересного, чем столовка.
— Вы не будете против моей компании?
— Было бы смешно разойтись по разным ресторанам, проведя вместе целый день.
— Тогда, может быть, следует познакомиться?
Мы рассмеялись. Почему–то до сих пор ни одному из нас не пришло в голову представиться друг другу.
Он протянул мне руку:
— Сурен.
— Наташа.
Его рукопожатие было приятным… не знаю, как объяснить… но то, как человек пожимает тебе руку, говорит о многом. По крайней мере мне.
О чем говорило это рукопожатие? О прямоте характера и цельности натуры, что, впрочем, неотделимо одно от другого, по–моему. Еще?.. О деликатности. О нежности…
Нет, тут я, пожалуй, уже фантазирую. Это просто мое впечатление о новом знакомом.
Мы запивали французскую кухню — я, правда, не уверена в этом, поскольку во французской кухне не очень–то разбираюсь, — красным, французским же, вином. Вино было терпкое, настоящее. В винах меня научил разбираться мой муж.
— Вы не против, если я закурю? — спросил Сурен.
— Я думала, вы не курите, — сказала я.
— Я бросил, но не разучился, — улыбнулся он. — А вы курите?
— Я не курю, но умею.
Сурен протянул мне пачку сигарет.
— Можно я закажу свои?
Он подозвал официанта, и я назвала марку моих любимых дамских сигарет.
Место было не очень удобным в смысле обзора окрестностей, и мне волей–неволей приходилось смотреть на Сурена. Он, словно понимая это, не отводил своего взгляда от меня. Может, то была его уловка?..
Но смущения я не испытывала — мы улыбались друг другу, как люди, которым просто хорошо и абсолютно нечего скрывать, в том числе и это.
У него была приятная улыбка и открытый взгляд.
Исчерпав возможности организма насыщаться, мы вышли из ресторана и, не сговариваясь, спустились к набережной. В открытом море светились огни прогулочных катеров.
— Вы не устали? — спросил Сурен.
— Не успела задать себе этот вопрос, — сказала я.
— Задайте. — Я услышала улыбку в его голосе.
— М–м–м… Кажется, нет.
— Не хотите прокатиться по морю?
— Это приглашение?
— Да.
— Принимаю.
Мы выбрали сорокаминутный маршрут вдоль побережья.
Играла музыка. Море было спокойным, и даже вдали от берега воздух казался безнадежно раскаленным дневной жарой. Только движение нашего катера создавало иллюзию легкого ветерка.
В городе всюду шло веселье. То тут, то там вспыхивали фейерверки. А в полночь огненное представление переместилось на центральную набережную, и в течение десяти минут море переливалось всеми цветами радуги.
От пирса было рукой подать до места нашего обитания, и мы — снова не сговариваясь — направились туда.
Я наконец–то ощутила усталость и подумала, что за всю проведенную здесь неделю у меня еще не было такого длинного дня. И еще: за всю мою сознательную жизнь у меня не было такого романа. Собственно, у меня и был–то всего один роман — с моим мужем. Но он был очень коротким и быстро закончился замужеством и рождением Ленки. А замужество — это уже не роман…
Стоп. Как раз обратное утверждает моя дочь: брак — если он заключен в любви — это самый увлекательный роман.
* * *
В конце прошедшей зимы я подхватила страшную ангину и сидела на больничном. У учителей не очень–то принято болеть, но мой предмет — не математика и даже не словесность. Считается, что для полноценного образования в области истории искусств подрастающему поколению достаточно двух академических часов в месяц. Да и то — начиная с девятого класса.
Я сидела дома и готовила лекцию по истории скульптуры для технического колледжа. Не столько для дополнительного заработка, сколько для поддержания формы.
Хлопнула соседняя дверь — это вернулись дочь с мужем. Они жили рядом — в двухкомнатной квартире, принадлежавшей когда–то бабушке моего мужа, Ленкиной прабабушке, стало быть.
Когда наша дочь вышла замуж на первом курсе, поставив нас перед фактом, пришлось попросить жильцов, снимавших квартиру, освободить ее до оговоренного срока. Не отправлять же молодоженов в общежитие, даже если у Ленкиного мужа — отпрыска одной из древнейших ветвей индийских императоров, принца белой кости — была отдельная, полностью благоустроенная комната.
Я помню день нашего знакомства с неожиданно свалившимся на голову, как снег… Забавный каламбур, если учесть, что Радж черный, как африканец, — есть, оказывается, индусы светлокожие, а есть не очень… Так вот, вошла наша Ленка и объявила:
— Ма, па, я вышла замуж, — и втащила за руку высоченного темного парня.
Как и любого нормального советского человека, этот факт не должен был бы нас смутить. Как–никак, мы воспитывались в духе интернационализма… Но одно дело — идеология и теория, а другое — родная дочь…
Шок длился недолго. Мы вскоре забыли даже о том, что дочери нашей едва исполнилось восемнадцать и вся учеба у нее впереди…
Радж был воплощенное благоразумие и благородство манер. А русским владел едва ли не лучше некоторых, для кого этот язык является родным.
Сказать, что он был красив — значит не сказать ничего. Высокий, атлетически сложенный, с длинными, до лопаток, густыми сияющими волосами, белозубый и с глазами, словно срисованными с древних индийских миниатюр… На удивление, наша хиппующая дочь, не признающая иной одежды и иных манер, кроме джинсовых, выглядела вполне гармонично рядом с прекрасным сказочным принцем.
Мой муж тут же извлек все возможные и невозможные плюсы из этого брака — он всегда подчинял своим интересам любые обстоятельства.
И вот им остался год до защиты диссертаций по педагогике. А после они отправятся на родину Раджа, в Бомбей, на другой край материка, и будут там учить учителей Индии. Индии очень нужны учителя…
Изредка я принималась грустить по этому поводу — по поводу скорого расставания. Но Ленкино легкое к жизни отношение — не легкомысленное, а именно легкое, открытое — заражало и меня. Я училась принимать жизнь такой, какова она есть, и понимать, что такой я делаю ее сама, стало быть — смиряйся или меняй, только не ной. А наш последний разговор… Впрочем, вот тут–то он и завязался.
Хлопнула дверь. Я знала, что дочь со своим мужем вернулись из университета, пообедав где–нибудь в ведическом ресторане — они занимались пищей самостоятельно довольно редко. И что сегодня вечером они ужинают у нас по причине пятницы — традиция, заведенная и поддерживаемая на протяжении вот уже семи лет главой нашего семейства.
Мне понадобилась энциклопедия, и я пошла в кабинет мужа. На пороге я замерла от непонятных звуков: с интервалом в несколько секунд кто–то сдавленно вскрикивал.
Когда я сообразила, наконец, что звуки раздаются из–за стены, где расположена спальня наших детей, я страшно смутилась. Разумеется, я знала, что вот уж семь лет наша дочь… занимается… со своим законным мужем тем же, чем и все взрослые граждане… Но я никогда так вплотную не сталкивалась с этой стороной ее супружества и тем более над этим не задумывалась.
Я вообще на эту тему предпочитала не думать, даже в отношении себя. Во мне — не знаю уж откуда — гнездились пуританские комплексы, которые, впрочем, не очень меня беспокоили и вполне устраивали моего мужа.
Неимоверно расширившееся за последние полтора десятка лет информационное пространство сделало доступным то, о чем многие — в том числе и я — раньше и не подозревали. Но меня по–прежнему смущали слишком откровенные сцены в фильмах, и я по–прежнему считала, что в реальной жизни так не бывает.
И вот… Моя дочь столь бурно предается тому, чем я предпочитала заниматься не концентрируясь на этом действе, мимоходом, только в ответ на желание мужа и, уж конечно, не выказывая эмоций… Впрочем, никаких эмоций и не было.
Я застыла в дверях, хотя понимала, что нужно немедленно уйти…
Раздавшийся внезапно мужской вопль отрезвил меня.
Забыв, зачем шла, я вернулась в свою комнату и села в кресло. В ушах стояли стоны дочери и рев ее благородных кровей супруга.
Я пыталась представить себе их лица… точнее, сопоставить слышанное с образом Раджа и Ленки. У меня ничего не получалось: перед глазами вставала какая–то невразумительная картина, не имеющая ничего общего с нежным обликом одного и другой…
Раздался звонок в дверь. На пороге стояла дочь.
Ее длинные светлые волосы по обыкновению распущены, просторная майка до колен, тапки на босу ногу — моя маленькая худышка с детской грудкой, не знавшей ни одного бюстгальтера в жизни… И это хрупкое тельце десять минут тому назад было терзаемо черным громилой… пусть и принцем… пусть и красавцем…
— Ма, у тебя зеленый чай есть? У нас закончился… — Она осеклась. — Что с тобой? Ма? Я тебя разбудила?
— Нет… Чай? Да… Есть, пойдем…
От дочери, как всегда, пахло благовониями — вся их квартира пропиталась ароматными дымами Индии прекрасной… Впрочем, как и вся наша лестничная клетка.
Я протянула ей пачку чая. Она взяла ее, но продолжала озабоченно на меня смотреть.
Чтобы отвлечься, я сказала:
— Ты не простынешь?.. И вообще, может быть, неприлично ходить в таком виде перед мужем?
— Ма… ты что… да мы дома голые ходим.
— Как — голые?..
— Так. Голые.
— Совсем?
— Голее не бывает.
— Зачем?..
— Нравится.
— Что нравится? — Я искренне недоумевала.
— Нравится смотреть друг на друга.
Похоже, этот короткий диалог добавил выражению моего лица новую порцию растерянности.
Ленка рассмеялась:
— Ма! Что тебя так удивляет?
Я села за стол. Я была окончательно обескуражена.
— Ма, да что с тобой? Говори! Я не уйду, пока не скажешь, что случилось.
Как уж у меня повернулся язык…
— Я зашла в папину комнату несколько минут назад…
— Ой… — Она опустила лицо. — Мы, наверное, сильно шумели? Ну извини…
— Ну что ты! Мне просто неловко стало, вот я и…
— А вы с папой что, не шумите разве?
— Лена!..
— Ма… Я сказала что–то неприличное?
— Как ты можешь об этом так…
— Мам! Но ведь это — жизнь.
— Что значит — это жизнь? Это всего лишь маленькая часть жизни, предназначенная к тому же исключительно для продолжения рода…
Ленка раскрыла рот.
Дочь с детства была очень непосредственным ребенком. Отцовские попытки привить ей строгие манеры не оставили ни малейшего следа на Ленкиной вольной натуре. Я всегда удивлялась и немного завидовала ей — так открыто смотреть и реагировать на жизнь, на мир, на людей, не выглядя при этом «невоспитанной»… Даже напротив — в ее повадках было столько очарования, даже шарма…
Я же с детства была застегнута на все пуговицы — и буквально, и фигурально.
— Девочка должна быть аккуратной, — говорила мама, и я не смела выйти из дому с невыглаженными лентами в косе.
— Не сутулься! — шлепала она меня по лопаткам, и я держала спину в напряжении, словно аршин проглотила.
— Умей владеть своими чувствами! — И я научилась сдерживать и смех, и слезы, и все промежуточные эмоции.
Мой муж был таким же полноценным результатом строгого воспитания. В продолжение совместной жизни он довел дело, начатое нашими родителями, до совершенства. Совершенные манеры — поведения, общения. Совершенство стиля — в одежде, в оформлении жилища. Никаких излишеств. Тем более — вольностей. Все строго и отточено. Он любил отточенные фразы, жесты. Он набирался этого из книг и фильмов, реже — от окружающих: он предпочитал, чтобы окружающие перенимали у него то, что для него отточили благородные герои, признанные всем цивилизованным миром. Он вставлял отточенное ими в нашу жизнь, словно клише в форму.
— Милая, как скоро ты вернешься?.. Милая, я хотел бы предложить…
Милая — это из Папы Хэма.
Симфонические концерты мировых знаменитостей, премьеры спектаклей, о которых «говорят», вернисажи, бомонды — это из жизни цивилизованных людей.
— Мы — цивилизованные люди, — напоминал он по любому удобному поводу.
Мне не претила такая жизнь. Она была созвучна моим запросам — и этическим, и эстетическим, и прочим… Во всем должен быть порядок, логика… Так проще делать выбор между нужным и ненужным, правильным и неправильным, хорошим и плохим…
— Нет хорошего и плохого, правильного и неправильного! — говорит наша дочь. — Все относительно в этом относительном мире, каждый делает свой выбор, и каждый имеет право быть правым.
Мы не спорили с ней, хоть и не соглашались.
— Это возраст и время, — говорил муж. — Пройдет! В конце концов, и из хиппи вышло немало приличных людей. Ты согласна, милая?
Но оно не проходило, а напротив — укоренялось и развивалось.
И вот — наша дочь словно и не наша. Так далеко укатиться от яблоньки…
У нее буквально отвалилась челюсть.
— Ма, ты что… серьезно… или это в педагогических целях?
— Серьезно. Вполне.
— Подожди… еще раз… Ты серьезно думаешь, что сексом занимаются только для продолжения рода? — На ее живом лице застыла гримаса напряженного вдумчивого внимания.
Как нынче легко произносят это слово, которого до некоторых пор у нас действительно просто не было… Слова, во всяком случае.
— Н-ну… — Я чувствовала себя двоечницей, выкручивающейся из тупика на экзамене. — В основном да…
— Ты хочешь сказать, что после того, как вы с папой зачали меня, вы больше не занимались… этим?
Я представила себе возможность подобной беседы со своими собственными родителями… То есть полную невозможность чего–либо подобного.
Я взяла себя в руки — я была современной мамой.
— Ну почему же… бывает…
Ленкино лицо все еще было вытянуто по вертикали.
— Что значит — бывает? Вы хотите еще одного ребенка?
— Да нет…
— Ну и?..
— Что — ну и?..
— Значит — для удовольствия?
— Для какого удовольствия? О чем ты?!
Дочь собирала душевные и умственные силы: она закрыла глаза, поджала губы и наморщила лоб. Для пущей сосредоточенности она приложила пальцы к вискам.
Потом резко расслабилась, села прямо и сложила руки перед собой — одна на другую, как учат в первом классе.
— Мам, — начала она. — Давай поговорим как женщина с женщиной.
— Давай. — Я стала совсем смелой и совсем современной.
— Я понимаю, — сказала дочь, — твое воспитание, время, в которое ты жила… папа, наконец…
— А что — папа? — Я не поняла ее мысль.
— Что, что… Зануда, педант, сноб…
— Лена! Как ты можешь?..
— Стоп! — сказала Лена. — Не иди на поводу у стереотипов. Я констатирую факт, а не обругиваю.
И она привела словарные формулировки употребленных понятий. На самом деле — ничего обидного, просто характеристика человека…
— Так вот, все это вполне соответствует вам… конкретным вам, тебе и папе. Но я знаю жизнь… — Она осеклась и виновато глянула на меня. — Прости… я немного знаю жизнь…
«Дочь! — говаривал муж, пытаясь в чем–нибудь убедить или, наоборот, разубедить ее. — Ты только приближаешься к настоящей, большой жизни… Ты только приоткрываешь завесу…»
— Я знаю… ну, догадываюсь, что далеко не все счастливы в браке… Да и без брака тоже… Что многим так и не удается в силу различных обстоятельств познать всех прелестей… э–э–э… невегетативного размножения… Но что ты… моя мама, не знаешь, что секс… что это ни с чем не сравнимая радость!.. Я предполагала, что у вас с папой все в порядке… Папа же такой страстный парень… — Она смутилась и сказала, извиняясь: — Ну, прости… я уже все–таки женщина… и вижу, что из себя представляет каждый мужчина… Да, снаружи вы как английские лорд и леди. Но я была уверена, что, оставшись наедине, вы позволяете себе съехать со всех катушек…
Ленка смотрела на меня со странным выражением лица: словно ждала, что я, наконец, брошу ломать комедию, расхохочусь и скажу: «Ну как я тебя? А?»
Но я молчала.
Зазвонил телефон над столом. Я сняла трубку.
— Тебя… Радж.
Она опомнившись, воскликнула:
— Ой, Раджик! — И словно песня полилась ее индийская речь (кажется, хинди, хотя она выучила еще и родной язык своего мужа).
Ленка схватила пачку с чаем и метнулась из кухни, крикнув мне:
— Ма, не шевелись, я сейчас!
Я все–таки шевельнулась. Чтобы включить чайник.
Ленка вернулась через мгновение и снова села напротив меня.
— У тебя есть коньяк? — спросила она, хотя знала, что у папы всегда есть в запасе несколько бутылок разных марок.
— Есть.
— Налей себе.
Я посмотрела на нее вопросительно.
— Налей, налей. Улучшает кровообращение в гландах — раз, и снимает нервное напряжение — два.
Я, словно зомби, налила в рюмку коньяк.
— А тебе?
— Спасибо, нет. — Ленка засмеялась. — У меня ни гланд, ни нервного напряжения.
Пока заваривался чай, я цедила мелкими глотками ароматный напиток. По пищеводу разливалось тепло, словно я глотала остывшее до комнатной температуры солнце — оно заполнило желудок, и вот я уже ощущаю его в крови, в кончиках пальцев.
— Так о чем ты хотела со мной поговорить как женщина с женщиной? — спросила я непринужденным тоном, ставя чашки на стол.
— О сексе… Ну, или об интимных отношениях мужчины и женщины, если тебе больше нравится.
— Говори. — Я смотрела прямо, не пряча глаз, словно это была самая обыденная для меня тема.
— Скажи… ты… э-э… испытываешь… мм… удовольствие при… контакте?
— При каком контакте? — Я туго соображала. То ли от выпитого коньяка, то ли… то ли я и впрямь полный ноль… круглая двоечница в этих делах…
— При интимном контакте с папой… или с другим мужчиной…
О чем она?! Какой другой мужчина?.. Но я решила пока не отвлекаться.
— О каком удовольствии ты говоришь?
— Ну, мама… ну когда папа… ну когда он уже… и когда ты… ну когда все заканчивается… что ты тогда испытываешь?
— Ну как тебе сказать?..
— Сравни с чем–нибудь… Голова, может, кружится?.. Или сознание теряешь?
— Сознание?.. А ты что, сознание теряешь?
— Ну, вообще–то это мягко сказано… Как бы тебе это объяснить? Ну, словно взрываешься… на атомы распадаешься.
— Как это?..
Ленка чесала то лоб, то нос, подыскивая нужные слова к тому, что словами, скорее всего, не описывается. Она смотрела на меня с отчаянным выражением лица — так смотрят на тупицу, неспособного понять, что такое синус.
— Ну какое самое сильное ощущение ты испытывала в жизни?.. О! — Она вспомнила. — Ты высоты боишься, я знаю. Так вот, что ты испытываешь, когда смотришь вниз с большой высоты?
— М–м–м… Дух захватывает.
— Вот! — обрадовалась она. — Адреналин! Это и есть! Только в тысячу раз сильнее!
Похоже, я не была безнадежна — кое–что мы все–таки одолели. Можно было двинуться дальше.
— Вы с папой целуетесь? — двинулась дочь.
— А как же! — обрадовалась я. — Ты же… ну ты же видишь это с детства…
Муж целовал меня при любом удобном случае в лоб, в щечку: спасибо, милая; до встречи, милая; доброе утро, милая…
Но Ленка скисла.
— Мама, это не называется «целоваться». Я имею в виду настоящие поцелуи… в губы… с языком…
— Зачем?! — вырвалось у меня.
Дочь уронила голову на согнутые в локтях руки и зарыдала в голос.
— Лена! Что ты? — Я испугалась не на шутку.
Она подняла на меня перекошенное лицо. Выпила залпом остывший чай и снова села в позу терпеливой училки.
— Ма, Пожалуйста. Прошу тебя. — Лена говорила с паузами. — Это важно. Попробуй описать мне все, что и как происходит между тобой и папой в спальне.
Я не смела ей возражать. Я сосредоточилась, как прилежная ученица, в надежде, что вот сейчас наконец–то все получится правильно, и начала:
— Э-э… Ну, если папа поворачивается ко мне… и прижимается ко мне… я тогда, ну, как бы… стараюсь расслабиться… позволяю раздеть себя… ну, потом… когда все заканчивается… он целует меня в лоб… говорит: спасибо, милая, все было чудесно…
Я смотрела на Ленку выжидающе: удалось мне правильно ответить урок или нет?..
— А ты?.. Ты что?
— Что я?.. Я ничего… Так надо мужчине… это его потребность…
— То есть как пописать.
— Ну что ты говоришь!
— Так это выглядит у тебя: мужчине нужно справить вот такую нужду!
— Ну… может, и так. — Я не стала идти на поводу у стереотипов.
— А твоя нужда? У тебя–то есть она?
— Кажется, нет.
— И что — с самого начала не было? Как у вас все произошло в первый раз? Что ты чувствовала в первый раз?
— В самый первый… Если честно, только жуткую боль…
— И что папа? Он что, не попытался сделать это не больно?.. Ну ладно… а потом?
Я вспомнила, что где–то на третьем месяце беременности я начала ощущать нечто незнакомое мне… Да, словно потребность… потребность в интимном контакте. Я даже стала ждать этого с трепетом. Но когда все происходило, то чего–то… чего–то не хватало. Я попыталась очень деликатно попросить мужа, чтобы он… не мог бы он немножко подождать… совсем чуть–чуть… и сделать вот так… чтобы мне тоже… Глупости! — отрезал он, все замечательно!
Еще вот… Однажды он подошел ко мне сзади и коснулся губами шеи. Меня словно пронизало каким–то сладким током, так, что казалось, зазвенело внутри. Конечно, это выразилось во внешней реакции: я вздрогнула и попыталась обнять мужа, и дыхание сбивалось… Муж вдруг возмущенно сказал: это еще что такое?! Мне стало невыносимо стыдно. Мне было девятнадцать лет, муж был и первой любовью, и первым мужчиной… Откуда мне было знать, что такое хорошо, а что такое плохо? Не бежать же с этим к маме!..
Потом он прекратил контакты, объясняя это заботой о здоровье будущего ребенка. После родов он год «берег меня». Тебе так досталось, милая, нежно говорил он.
Потом, поскольку дети больше в его планы пока не входили, он стал пользоваться… резиновыми изделиями. От них у меня возникли проблемы, но я не решалась сказать об этом мужу, чтобы не расстроить его и не испортить ему удовольствие, которое, как я все же подозревала, он испытывал.
Поэтому и остался в моей жизни этот самый контакт как не слишком приятная необходимость. Но, к счастью, это происходит все реже и реже.
— Реже и реже — это как? — Ленка была похожа на человека, изо всех сил старающегося понять другого, говорящего на совершенно непонятном языке.
— Ну… раз в два–три месяца.
Теперь ее лицо выглядело так, словно я сообщила ей о нелепой трагедии, в которую невозможно поверить…
— Да… — протянула она. — Сказать, что это ужасно, — значит не сказать ничего.
— Ну что ты говоришь, Лена? Что тут ужасного? Я не понимаю тебя… Неужели ты и впрямь столько внимания уделяешь… уделяешь интимной жизни?
Она словно не расслышала, переваривая сказанное мной прежде.
— Жизнь прошла мимо… А ты не пыталась завести любовника?
Ну и разговорчик у мамы с дочкой получается!..
— Зачем мне любовник?
— Действительно, зачем… Хочешь, я расскажу тебе, что такое се… интимные отношения? Что такое эта самая часть нашей жизни?
И она стала рассказывать.
Как нашим детям удается узнать больше своих родителей? Да еще в области, о которой эти родители и знать не хотят.
Она начала с медицины. Потом перешла на психологию. Это, кстати, ее конек. И тема диссертации: «Психология подростков…» — а дальше трехкилометровое описание какой–то запутанной, но весьма распространенной в среде тинейджеров ситуации.
Потом рассказала о Камасутре, о тантрическом сексе и каких–то других его видах.
А потом о себе.
Они с Раджем уделяют данной «части жизни» не последнее место и занимаются этим почти каждый день — а то и не раз. Даже в критические дни. Это заменяет им дополнительные источники энергии, в частности — мясо, и дополнительные источники удовольствия — алкоголь, например. Хотя они и пробовали из любопытства совместить интимный контакт с алкоголем и даже с наркотиками, но им не понравилось — самые чистые ощущения от секса только на чистую голову, сказала дочь.
Интимный контакт прибавляет ясности разуму и стимулирует трудоспособность. И вообще — придает жизни позитив.
— А что, в вашей жизни не хватает позитива? — спросила я.
— Если бы я не знала, что ты смотришь телевизор и читаешь прессу, я бы не удивилась твоему вопросу. А если бы ты интересовалась духовным устройством мира…
— Постой, а искусство — это разве не духовное?..
— Это человеческая духовность. Если можно так выразиться. А есть еще Божественная духовность. Если бы ты знала Бога… не так, как большинство сейчас его знает… точнее, думает, что знает… Так вот, если бы я знала, что ты знаешь Бога, я не говорила бы тебе о негативе, позитиве… Ни того ни другого нет. Все относительно… Но это другая тема.
— Говори… — выдохнула я. — Ты никуда не спешишь? — Я опомнилась, ведь моя дочь — занятой человек.
— Если ты не устала… — Она посмотрела на меня удивленно и тепло одновременно.
Она говорила о Боге, о человеке, о Земле, о Вселенной…
Не скажу, что я все понимала или что ничего не понимала. Это было похоже на воспоминание давным–давно забытого. Или… на прорастание интуитивных догадок. Так бывает, когда услышишь или прочитаешь фразу, и кажется, что ты всегда это знал, только так точно сформулировать не мог, не мог увязать все воедино. И еще было ощущение, что я вошла в приоткрытую дверь, мимо которой доселе ходила, не удосужившись заглянуть внутрь, где, оказывается, так много всего интересного, и у меня появилась теперь возможность все это познавать.
Мы стали ближе после того разговора. Исчезла грань, разделявшая нас на два лагеря — детей и родителей.
И вот последние месяцы я только и делаю, что переоцениваю прожитую жизнь и пересматриваю устоявшиеся понятия.
* * *
Мы подошли к нашему корпусу.
— Вы хотите спать? — спросил Сурен.
— Кажется, нет. Я — поздняя птица.
— Я тоже… Впрочем, я по обстоятельствам могу быть и совой, и жаворонком. Побродим немного?.. Или посидим?
— Пожалуй, — сказала я.
И мы — опять не сговариваясь — пошли к морю.
Пляж был почти пуст. Вдалеке расположилась тихая компания, то ли три, то ли четыре человека.
Мы сели у самой воды на теплый песок. Было светло от луны и звезд. Едва шуршало, засыпая, море.
И тут снова началось… Меня охватило смятение, хотелось вскочить и убежать. Но любопытство не отступало: а что дальше?
И я, как говорила дочь, сделала свой выбор. Я отдалась интуиции, которая подсказывала: впереди, за поворотом, может открыться новая ситуация, в ней могут проявиться новые возможности познания себя, а стало быть — мира, в котором я живу…
Постепенно мысли, чувства, неведомые импульсы вернулись в состояние равновесия. Тихо мерцали звезды и перешептывались волны.
Сурен взял мою руку в ладони. Я подумала, что, если бы это было кино, он должен был бы поцеловать меня через какое–то время.
Но ничего не происходило. И это ничего, как ни странно, не обременяло. Возможно, поэтому с моих губ слетели слова, которых я не собиралась говорить:
— А что, если сейчас какой–нибудь мужчина вот так же держит за руку вашу жену?
— Если вот так же, с теми же чувствами, что я держу вашу… Я порадовался бы за нее. Только это не моя жена.
— Как? — Я повернулась к нему.
— Это моя сестра. — Он тоже посмотрел на меня.
Вероятно, в моем молчании сквозило сомнение.
— Это моя родная сестра.
— А где же ваша жена? — Это был не совсем уместный и совсем некорректный вопрос. Я что, от Ленки, что ли, заразилась такой прямотой?
— У меня нет жены… То есть мы в разводе.
— А у меня есть муж. И мы не в разводе. — Это тоже была дань стереотипам, которые пока еще довлели над моим сознанием. Или просто неопытность в отношениях с мужчинами?
— Я знаю. — Он улыбнулся.
— И что, несмотря на это, вы собираетесь меня соблазнить? — Я понимала всю неуклюжесть игры, которую повела, совершенно не владея жанром.
— Да, — сказал он просто.
Я обалдела от такой прямоты.
Он оставил мою руку и повернулся ко мне всем корпусом.
— Я собираюсь вас соблазнить, — повторил он.
— Зачем?.. Почему меня?..
Господи! Да что это со мной? Я осознавала глупость, ненужность, да просто непозволительность всего произносимого мной уже в момент, когда оно слетало с губ.
— Я потом вам все расскажу.
— Когда — потом? — Я растерялась окончательно.
— Когда–нибудь потом. — Он все так же спокойно улыбался, глядя на меня.
— Вы полагаете, у нас с вами есть потом?
— Конечно. Потом есть у всех и всегда.
Я понемногу брала себя в руки.
— Но потом бывает не только совместным, но и раздельным.
— Ничего не бывает раздельным после того, как было совместным.
Я словно слышала эхо наших с дочерью бесед.
Лицо Сурена было так близко, что я ощущала его дыхание. На мгновение мне представилось, что я стою на краю бездны. И дух захватило. На мгновение.
Он протянул руку и коснулся тыльной стороной пальцев моей щеки, потом шеи, плеча.
— Вы казанова? — спросила я, стараясь казаться спокойной.
— Нет. Я одинокий, не очень смелый и не очень уверенный в себе мужчина.
— Приехавший на курорт скоротать одиночество?
— Нет. — Он был все так же спокоен. — На курорт я привез свою сестру. Она очень больна. Она захотела побыть на море.
— Простите… — Я едва не расплакалась от стыда. — Простите, ради бога…
— Прощаю. Успокойтесь… не надо…
— Все равно это глупо… некрасиво… бестактно… Я обычно не позволяю… я не умею… это от волнения… глупости эти…
Я поднялась. Он тоже. Мы молча пошли к спальным корпусам и несколько натянуто простились на пороге моей комнаты.
* * *
Завтрак я проспала и отправилась в городской сад выпить кофе. Я очень хотела увидеть Сурена. Я даже заволновалась, подходя к ярким зонтикам.
Он сидел лицом ко мне, точнее, в ту сторону, откуда должна была появиться я. Я была уверена — он ждал меня.
Он поднялся навстречу. Мы оба не могли скрыть ни радости, ни смущения.
Нет, он не казанова. А я… я — просто несовершеннолетняя барышня. Это все Ленка! Раньше я четко знала — в какой ситуации как себя вести, что говорить, а что нет…
Этот день повторил вчерашний — мы выпили кофе и отправились в лагуну, потом поужинали шашлыками. Только, в отличие от вчерашнего, мы говорили без умолку.
Мы узнали друг о друге… пожалуй, все. Я ловила себя на мысли, что так бывает в детстве…
Не у всех бывает — поправила бы меня тут же моя дочь.
Так вот, у меня в детстве было так: если кто–то вызывал во мне интерес, я готова была доверить ему все — даже самое сокровенное. Интерес и доверие для меня были синонимами.
Но от такого подхода к отношениям меня отучил мой муж в самом начале нашего романа. Как–то в ответ на откровение о моей первой любви он резко сказал:
— Знать ничего не хочу, и тебе советую забыть эту детскую чепуху.
Еще он сказал, что свой внутренний мир лучше всего держать запертым от посторонних глаз и ушей.
— Но ведь мы собираемся пожениться, — сказала я, — какие же мы теперь посторонние?
— Да, мы теперь не посторонние, но у каждого из нас должно оставаться право на неприкосновенность внутреннего мира, — сказал он. — У нас будет достаточно общих дел, которые мы и будем обсуждать вместе, а всякие там глубины души пусть так и остаются в глубинах.
Да, меня и моя мама тому же учила… Неужели именно поэтому и мы с моей дочерью не были прежде близки?.. Надо будет у нее спросить, что она думает об этом как дочь и как психолог.
Не знаю, что со мной случилось. Расслабляющее воздействие гармонии дикой, не подмятой под брюхо бульдозеров и скреперов, не замурованной в асфальт природы, принявшей нас за своих? А может быть, это все тот же разговор с Ленкой?.. Только я словно со всех тормозов соскочила. Я с интересом слушала Сурена и реагировала на его слова, забыв о «правилах приличного поведения». Я смеялась, удивлялась и огорчалась. Я сопереживала от всей души его рассказам и с азартом говорила о своем. Да, я словно вернулась в детство и стала открытой и наивной девочкой, для которой интерес и доверие — синонимы и душу которой еще не успели загнать в рамки взрослой жизни.
И снова мы расстались у моей двери. Но мы были уже другими. Казалось, что нашей дружбе не один десяток лет.
* * *
Завтра к полудню вернутся наши. Наши… А потом, через пять дней, мы разъедемся — я в Москву, а Сурен в Питер. Увидимся ли мы еще? Конечно, это зависит от нас… от нашего выбора. Но, похоже, мы уже сделали его — мы доверились друг другу.
«Ничего не бывает раздельным, после того как было совместным… После соприкосновения».
Он прав — прошло полчаса, а я уже скучаю… По его голосу, жестам, улыбке… По его душе. Я скучаю по его душе…
Я заплакала. Да так горько, что сама испугалась.
Когда я выплакалась и мне полегчало, я попыталась разобраться в причине этих слез.
«Если не понимаешь, что с твоим настроением, попробуй включить анализирующий орган», — говорит моя дочь.
Я включила.
Чего я разревелась? Жаль расставаться с хорошим человеком.
Жила же я без этого хорошего человека как–то. Да, жила, я же не знала, что бывают такие… такие интересные, такие добрые, открытые… Нет, все не то… такие живые мужчины…
Ленка вот говорит, что в ее понимании идеальный муж — это друг тире любовник. Да чтоб ровнехонько пятьдесят на пятьдесят… Даже лучше — сто к ста. А остальное — может быть, а может и не быть.
А что мой брак? Дочь, достаток, карьера… Карьера мужа, правда, не моя. Устроенность. Приличные друзья.
Муж… То, что слово «любовник» — все же, думаю, я правильно понимаю его значение — ну никак не подходит к нашим отношениям, это ясно как день. А друг ли он мне?..
Что такое друг?
Подруга у меня есть. В Ленингра… в Питере. Мы с ней в одном доме росли, потом она вышла замуж в Ленинград. Но мы видимся часто: то она ко мне махнет, то я к ней. Похожи ли наши отношения с ней на мои отношения с мужем? Ну разумеется! Разумеется, ничего общего!
Пожалуй, Нуська… Это мы ее так зовем, вообще–то ее имя Лена, Ленуська, и моя Ленка в честь нее названа. Так вот, Нуська — единственный человек, с которым я снимаю с себя все маски… Надо же, я ни разу прежде не задумывалась над этим! Да, с Нуськой я такая, какая я есть в своей… в своей сердцевине. Хотела сказать — в сущности, но нет, сущность моя уже не та, сущность моя так же похожа на сердцевину, как глина кувшина — на воду, налитую в него.
Только наедине с моей подругой я могу не быть леди. И зовут меня тогда Татка — Нуська любительница всяких милых кличек. Мой муж у нее — только не в глаза, конечно! — Лордик.
А она… а она так и осталась той, какой всегда была — необузданной стихией, со своими суждениями, не подчиняющимися никаким правилам, стереотипам, условностям… Прямо как моя дочь. Или моя дочь — как она?.. У Нуськи детей нет, и она обожает мою дочь до сих пор, как свою родную.
— Лялька, — так она зовет Ленку, — моя душечка! — говорит Нуська. — Кровиночка твоя, а душечка моя.
Да, это правда…
Сегодня с Суреном я была такой, какой бываю только с Нуськой…
Выходит, с мужем у нас нет дружбы? Ведь дружба — это прежде всего искренность. Да хотя бы просто — общие интересы. Помимо хозяйственных. Но мы не обсуждаем фильмы, спектакли — за нас это делают другие, а мы должны прочитать, что думают знатоки и специалисты своего дела, и принять их мнение как истину в последней инстанции.
— Наше мнение может быть ошибочным, — говорит муж, — надо ориентироваться на мнение людей, понимающих в этом больше нас, мы же понимаем только в вопросах нашей специальности.
Но и о его специальности я знаю только из названия его профессии и должности.
— Тебя интересует, милая, чем я занимаюсь на работе? Но это же скучища для непосвященных! — И он не стал меня посвящать.
Да, я знаю его кулинарные пристрастия. Еще я знаю, что он скажет в том или ином случае. А что он чувствует, что переживает?..
— У меня образцово–показательный муж, — сказала я.
— Вам позавидовали бы многие женщины, — сказал Сурен.
— Но оказалось, что я его не люблю, — сказала я. — И никогда не любила.
— А вот тут, вероятно, многие не поняли бы вас, — сказал он.
— Но я не знала об этом еще совсем недавно, — сказала я, тут же спохватившись, что говорить такие вещи мужчине, который дал тебе понять, что заинтересован тобой, по меньшей мере неосторожно. А может быть, просто неприлично…
Неужели я необратимо заражена бациллами Ленкиного мировоззрения: чем бесхитростней ты живешь, тем проще жить; будь прозрачной; прими интуицию как единственного надежного поводыря и доверься своему жизненному опыту.
— А как же правила приличия, нормы морали, рамки благопристойного поведения?..
— Мама, если правила приличия — единственная цель, зачем тогда жить? Так живут мертвецы! И вы с папой живете, как мертвецы. Любовь — вот главное и единственное правило приличия! Любовь в широком смысле: тут и «не суди», и «не пожелай ближнему того, чего не пожелал бы себе», и «твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого»… Любовь — вот единственная цель существования! Любовь должна стать единственным мотивом любого поступка.
Может быть, она права?..
Я снова заплакала. Неужели правда — жизнь прошла мимо?
— Жить под одной крышей с мужчиной из каких–либо соображений, минуя духовную и телесную привязанность, — это самоубийство личности. Это не плохо и не хорошо. Это просто неблагодарность по отношению к Создателю. В любом человеке есть присущие лишь ему таланты, возможности, способности — и развиться они могут только в благоприятной среде. И среда эта — любовь, а не рамки приличия, — так говорит Ленка.
Я не нахожу, что ей возразить.
Любовь… Возможно, как талант композитора, художника, она дается не всем, и я обделена этим талантом?..
Но я же не могу сказать: я не умею любить.
А что, умею?.. Я ведь еще не пробовала.
Господи, как все, оказывается, сложно…
Господи… Я так часто употребляю это слово, не задумываясь, что оно значит. А ведь это обращение к Тому, по Чьей воле я родилась и живу…
Ленка порадовалась бы за меня — это серьезный шаг! Я уже начинаю не только понимать, но и ощущать многое из того, о чем она мне говорила.
Господи, если Ты здесь, дай мне знать…
Я вздрогнула от неожиданности — зазвонил телефон, стоящий на тумбочке. Я ни разу не слышала этого звонка — кому звонить сюда?.. Мужу с гор? Ленке? Нуське? Но я даже сама номера не знаю…
— Да?
— Наташа… — Это был Сурен.
— Да, Сурен, слушаю вас.
— А я вас слушаю.
— Что вы хотите услышать?
— Просто ваш голос… Не могу уснуть.
— Сейчас вы сова, да?
Он усмехнулся:
— Да. Сова… Я не разбудил вас?
— Нет.
— Не хотите завтра побыть жаворонком?
— Нужен очень серьезный мотив… Вы что–то хотите предложить?
— Кроме своей компании, мне нечего предлагать… здесь, во всяком случае. Вот когда вы приедете в Питер…
— А я приеду в Питер?
— Да. А вы не знали?
— Нет, я знаю, что я когда–нибудь туда приеду, у меня там подруга, я говорила вам…
— Вы приедете ко мне.
Что это — наглость? Нет, к Сурену это слово никак не относится. Как бы то ни было, я должна бросить трубку. Но я не могла и не хотела этого делать.
— Ну, об этом потом. А что насчет завтрашней зари? — добавил он.
Я была совершенно растеряна — с этим человеком я становилась другой. Я менялась, кажется, даже внешне. Я хотела быть завтра жаворонком ради того, чтобы провести с ним еще один день!
— Если вы разбудите меня, я готова полетать в вашей компании.
Он снова усмехнулся:
— Хорошо. Тогда, спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
На часах около двенадцати. Нужно постараться заснуть, чтобы успеть выспаться.
Стоп! Мысли вернулись к прерванному звонком открытию… Я сказала: «Господи, если Ты со мной, дай мне знать», и тут же зазвонил телефон.
Мистика. Глупости… Чистое совпадение.
— Не бывает ничего случайного в этом мире, — говорит Ленка, — а то, что мы принимаем за случайные совпадения, это путеводные огни к счастью… это как стрелки на асфальте в казаках–разбойниках, которые указывают: твоя цель там.
— Ты что, хочешь сказать, что всем… каждому человеку вот так вот и нарисован его путь к счастью? — удивляюсь я.
— Не так все просто, но ответ — да. — Ленка задумывается, пытаясь перевести это «не все так просто» в удобоваримую форму. — Человек создан для счастья… Ты знаешь. И не верь, когда кто–то авторитетно заявляет, что у каждого своя судьба: кому–то счастье, кому–то несчастье. Это — ложь. Для одних эта ложь как вожжи, чтобы управлять другими, а для тех, кем управляют, — хорошая психотерапия. Наша жизнь только в наших руках.
— Почему же тогда…
— Не все счастливы?
— Да.
— Элементарно, Ватсон! Не все видят эти путеводные стрелки… — Ленка перебивает сама себя. — Смотри: маленький ребенок, младенец, сам знает, когда, сколько и чего ему нужно съесть, выпить, когда поспать… когда пукнуть… Его счастье, если родители не перечат природе, не заставляют питаться по графику и не впихивают в него то, чего он не хочет, даже если, по их мнению, это категорически полезно… если дают ему свободу самому познавать мир и примерять его на себя. Узнать самому, что острое больно колет, а огонь — это опасно… Такой ребенок растет в гармонии с природой. У такого ребенка не подавлен тот самый орган, который улавливает путеводные огни, эти вот стрелки, ведущие к счастью. Ребенок, растущий в любви и свободе, растет счастливым. А точнее — гармоничным. Ведь счастье — это гармония. Все другие определения счастья говорят лишь о замусоренности человеческого разума… о разделенности разума с духом. Счастье ведь у каждого свое. Это категория философская. А гармония… она и в Африке гармония. Счастье — духовное понятие.
— Хорошо… ясно. А почему большинство все же не видит этих маяков? — Мне хотелось закрепить пройденный материал.
— Если человеку с младенчества навязывают чуждые ему, его природе, правила… ставят его в накатанную колею и говорят, что это единственно верный путь, потому что он проверен и опробован предыдущими поколениями… да просто — потому что так и не иначе… потому что оканчивается на «у»… Тогда он забывает, для чего рожден на этот свет, ведь за него все решили родители, общество, государство. Он забывает свою цель и поэтому теряет способность видеть свой путь. Он уже слышит не свою душу, свой дух, а только ум, напичканный чужими правилами, стереотипами, предрассудками. Человек становится роботом, управляемым системой. Какая уж тут гармония?..
И мой разум, и моя душа с этим готовы согласиться.
Лена, я хочу поскорей к тебе, я хочу рассказать, что со мной происходит…
Но встретимся мы не раньше сентября. Они с Раджем сейчас в летних лагерях где–то на Оке, с детьми–сиротами.
Я подумала: они что, и в лагере умудряются… э-э… вступать в близость?.. Как? В брезентовой палатке? Ведь никакой звукоизоляции…
Что за глупости лезут в голову!..
А Сурен? Какой он… как любовник? Почему–то мне показалось, что он тоже… «шумный». Как наш принц белой кости.
Да, похоже. В его темно–серых глазах с рыжим обводом… как бы это сказать?.. В них читается страстность.
Я попыталась вспомнить глаза мужа. Светлые, стальные… нет, стеклянные. Нет — ледяные!
Как трудно оторваться от стереотипов и не читать подтекстов… Хотя какой подтекст может быть у слова «ледяные»?
У моего мужа светло–серые — почти прозрачные — блестящие глаза, похожие на кусочки того, что называется лед. Они совершенно не изменяются — как у птицы… Да, как у голубя. Когда он смеется или улыбается, они просто суживаются. Когда говорит: «До вечера, милая» или «Чем тебя сегодня порадовали твои оболтусы, дорогая?» — они не выражают ничего. Они словно вне лица. Вне содержимого человека, которому принадлежат. Словно два чисто вымытых окошка, за которыми — ничего. Даже неба. Пустота.
У Ленки отцовские глаза — светло–серые. Но до чего же они переменчивы! В точности как ее лицо. Они постоянно искрятся, лучатся, переливаются разными оттенками, подобно ограненному аквамарину.
Я зажгла лампу и взяла с тумбочки зеркало: а какие глаза у меня?
Тоже серые. Но с какими–то зеленоватыми вкраплениями. Интересно, а они лучатся, переливаются разными оттенками?..
Господи, чем я занимаюсь?!
Опять — Господи…
Господи, где Ты, что Ты?.. Можно ли с Тобой общаться? Как? Надо уйти в монастырь? Или просто прийти в церковь? А здесь и сейчас?..
Мне приснился сон. Один из очень немногих, какие западают в душу.
Снился семейный совет. Во главе него были Сурен и Радж. Они задавали нам вопросы вроде «готов ли ты?» и ставили перед нами задачи вселенского масштаба — о том, как мы будем распространять любовь по земле. В углах стояли саженцы и лопаты…
В подробностях я не смогла бы воспроизвести всего, но атмосфера была очень впечатляющей — все были преисполнены энтузиазма и ответственности.
* * *
Когда раздался тихий стук в дверь, за окном едва светало. Сурен сказал, что подождет меня на улице.
Я пошла в ванную. Передо мной в зеркале стояла обнаженная загорелая женщина сорока с небольшим лет. Вполне в форме: ничего лишнего — ни жиринки, ни складки. Заботясь о моем теле, муж купил мне домашний тренажер. Еще он покупал мне кремы для лица и тела. Я была ухоженной женщиной. Женщиной, ухоженной мужем. Ведь я была частью его имиджа — имиджа безупречного мужчины.
Волосы светлые и волнистые от природы он заставлял меня коротко стричь. Сколько раз, глядя на своих Ленок, я просила разрешения отрастить их. Но через пару месяцев муж выпроваживал меня в парикмахерскую. Конечно — где вы видели длинноволосую английскую леди?..
Глаза… Что в них?
Я попыталась всмотреться. Но, как и вчера вечером, мне стало неловко, словно я решила подглядеть чужую жизнь через замочную скважину. Странно… Если глаза — зеркало души, выходит, я смущаюсь заглянуть в свою собственную душу?..
Сурен! Меня же ждет Сурен…
Часть вторая
Однажды в середине октября раздался звонок.
Я подняла трубку и услышала знакомый голос:
— Здравствуйте, Наташа. Это…
— Сурен! Как я рада вас слышать. — Лишь на миг мелькнула мысль о неприличности подобного рода признаний, но я словно перенеслась из пасмурного осеннего вечера в солнечный летний день, где можно быть другой.
* * *
Все эти месяцы я не переставала думать о нем.
Я рассказала Ленке все: и о нашей дружбе, длившейся два с половиной дня, и о том, что, возможно, наши чувства были похожи на любовь.
— Любовь узнаешь сразу, — сказала она.
— Как?
— Да так — весь мир сходится в одной точке. И точка эта — любимый.
Сказать, что моя жизнь сошлась на Сурене, я не могла.
Может быть, я не умею любить?
— Не любила — это одно, а не умеешь — это другое, — сказала Ленка, — ты еще знать не знаешь, на что ты способна.
Это обнадежило меня. Как обнадеживало все, что говорила мне моя дочь.
Мне неодолимо захотелось испытать это чувство — чувство взаимной любви. Мне… — страшно признаться! — захотелось узнать, что такое настоящий… э-э… настоящая телесная любовь. Я все пристальней, преодолевая смущение перед самой собой, всматривалась… нет, смотрела я по–прежнему с чувством неловкости — вдумывалась в происходящее на экране между мужчиной и женщиной.
Я вглядывалась в мужа и в наши отношения с ним, ища, за что бы зацепиться, чтобы назвать это любовью. Но чем глубже я анализировала, тем больше понимала, что в том, что касается любви, мы — мертвецы. Мы — слаженный трудовой коллектив, безупречно справляющийся со всеми задачами, стоящими перед ним. Настолько слаженный, что стал походить на механизм…
* * *
— Я в Москве, — сказал Сурен.
— Надолго? — У меня перехватило горло.
— Дня на три–четыре, как дела пойдут.
Мы замолчали.
— Вы не хотели бы встретиться?..
— Конечно. Да, конечно. Очень…
Как–то разом мы стали косноязычны и с трудом договорились о месте встречи.
У меня было часа два на то, чтобы собраться с мыслями и силами.
Ленка!.. Хоть бы она была дома!
— Ты не занята?.. Можешь зайти?
— Сурен звонил? — спросила она на пороге.
— Откуда ты?..
— Мам!.. — Она посмотрела на меня выразительно. — У тебя ж на лице написано. Он в Москве?
— Да… — Я была на грани истерики. — Мы встречаемся в шесть. Что мне делать?..
— Сядь, — сказала Ленка.
Я подчинилась беспрекословно. Она села напротив.
— Может, мне коньяку выпить? — вспомнила я Ленкино средство от нервного напряжения.
— Нет. Твое нынешнее возбуждение вполне уместно. Волнуешься — волнуйся.
— Что мне делать?
— Идти на встречу.
— А потом?
— Потом — сердце подскажет.
— А если подскажет не сердце?..
— Мамуль! Если бы ты слушала не сердце, а какой–нибудь другой орган, разве ты бы спрашивала совета у меня?
Как ей удается так все разом оценить, во всем разобраться?.. Психолог…
Она зашла перед моим выходом.
— Все в порядке, — сказала дочь, окинув меня критическим взглядом.
— Лен… Тебе не смешно?
— Ты о чем?
— Сорокапятилетняя тетка, твоя родная мать… при живом муже, твоем отце, отправляется на свидание…
— Мать моя! Я желаю тебе счастья, любви и радости. А то, как ты жила… даже при том, что речь идет о моем родном отце, твоем муже, это не жизнь… Это недостойная тебя жизнь. Ну а что касается возраста… если бы твоему Суре ну нужна была молоденькая козочка…
— Какая ты у меня… замечательная.
Мы обнялись, и я ушла.
Я узнала его сразу. Хотя было совсем темно, шел дождь и на нем была не рубаха с синими пальмами, а длинное черное пальто. И стоял он ко мне спиной.
Наверно, он тоже почуял меня: когда я была шагах в десяти, он резко обернулся.
Мы смотрели друг на друга и молчали.
Я протянула ему руку. Он сжал ее. Его ладонь была холодной, просто ледяной. Может, он давно тут стоит?
Я неожиданно для себя прижала ее к своей пылающей щеке. Рефлекс… Когда окоченевшая Ленка возвращалась с улицы, я согревала ее ладошки на своих щеках, а нос — губами.
Он протянул вторую руку. Наши лица были так близко…
Сердце колотилось в гортани. Неужели это я?.. Неужели так бывает?
Мы вышли в дождь, словно не замечая его, и куда–то пошли.
— Я думал о вас непрестанно.
— Но вы не звонили…
— Я все время помнил о вашем муже, о вашем семейном очаге.
— А сегодня? Забыли? — Я улыбнулась.
— Нет, сегодня я обессилел в борьбе с собой. — Он тоже улыбался, я слышала. — К тому же я здесь. Разговаривать оттуда… Все, что мог, я вам уже сказал и рассказал. Осталось только одно. — Он замолчал. — А это одно лучше говорить в глаза… не по телефону.
Он остановился и взял меня за локоть. Мы стояли под одним большим — его — зонтом. Я знала, что услышу от Сурена.
— Я вас люблю, Наташа.
— Сурен… Я не знаю, что ответить.
— Вот и хорошо. Не отвечайте ничего, я вас умоляю.
— Ладно, — сказала я.
Он привел меня в ресторан в переулке рядом с Тверской.
— Это наше с подругой любимое место, — сказала я, когда мы спускались по лестнице в подвал.
— Правда? — Сурен остановился. — Может, пойдем туда, где вы не были?
— Что вы! Наоборот, мне очень приятно… Это даже символично.
Оказалось, что Сурен приехал на крупную полиграфическую выставку как представитель издательства, в котором работал.
— Что вы делаете завтра? — спросил он, когда мы расставались.
— У меня три урока, а в час я свободна.
— Хотите со мной на выставку?
— Очень!
Это было сущей правдой: я неравнодушна ко всему, что напечатано на бумаге… Кроме газет.
— Прекрасно. До часу у меня семинары, а потом мы можем с вами пообедать и посмотреть выставку.
Сурен записал мои отчество и фамилию — для пропуска — и представился в ответ. У него была короткая и такая же звучная, как и его имя, фамилия, а вот отчество… оно напоминало протяжную песню гор и долин, полную солнца и вековой печали…
Его мама эстонка, папа — армянин, из Еревана. Они познакомились на строительстве Магнитки. В Ленинград попали после войны, где и родился Сурен.
Это я узнала еще там, в нашей лагуне. Как и все, что я узнала о нем.
Я узнала, что его сестра — ученый–биохимик — после какого–то эксперимента тяжело заболела и теперь продолжает эксперимент на самой себе. Ставка, что называется, жизнь.
Родители уехали в Эстонию еще до распада страны и сейчас живут в Тарту. Живут хорошо, но с одной кручиной — не могут навестить родные места отца, слишком это дорогое удовольствие для пенсионеров. О беде, произошедшей с их дочерью, они не знают — Милена запретила брату даже думать о том, чтобы сообщить им. В периоды ремиссии она навещает мать с отцом, а те и заподозрить не могут, что что–то не так с их жизнерадостной и энергичной дочерью. Они не знают и о том, что с мужем она уже не живет, он бросил ее после того, как узнал о диагнозе — испугался, что это какая–нибудь разновидность СПИДа.
Брак Сурена распался сам собой, без трагедий и даже драм. Возможно, поэтому и с сыном, и с женой он в теплых отношениях.
— Я волк–одиночка, — сказал он, — меня не то чтобы не тяготит одиночество, я просто не замечаю его, это мое естественное состояние.
Я не решилась спросить его, почему же он тогда вздумал приударить за мной.
* * *
Вместо того чтобы войти в свою дверь, я позвонила в Ленкину.
Открыл Радж в белой тунике… или как там это у них называется.
До чего же иногда природе удается ее творение, думала я каждый раз, глядя на своего зятя.
— Аленушка! Наша мама пришла! — крикнул Радж в глубину квартиры. Русский фольклор — его конек.
— Вот только молочка не принесла, — сказала я.
— Ничего, у нас есть чай.
Он помог мне раздеться, а Ленка сразу утащила в кухню.
— Первым делом доложимся… — сказала она, набирая номер телефона. — Папулька, мама у меня, я подкараулила ее у лифта. Мне очень нужен ее совет. Чмок!
— Помнится, я с детства учила тебя говорить только правду…
— А я и не сказала ничего, кроме правды: ты у меня, остальное — детали. — Она порхала вокруг меня, готовя чай. — То, что ты пришла со свидания с другим мужчиной, еще не вся правда. Всей правды ты не знаешь даже сама. Она еще не случилась. А зачем папе полправды? Что он с ней делать будет? Додумывать остальное? Прогнозировать будущее? Изведется только и тебя изведет.
— Что бы я без тебя делала?
Ленка прижала мою голову к груди и чмокнула в макушку — совсем как когда–то это делала я.
— Жила бы себе как жила, в полной уверенности, что счастлива… Да ты и была по–своему счастлива.
— Что значит по–своему счастлива?
— Помнишь Жванецкого: когда другого не видел, наше во какое. Ну, прожила бы ты нынешнюю жизнь без любви… без чувственной ее составляющей, в следующей, возможно, подошла бы и к этой стороне.
— А что вы с Раджем будете делать в следующей жизни?
— Ну, ты думаешь, чувственная любовь — это предел роста? Познание любви — только самое начало. Чтобы выйти на духовные высоты, нужно начать с любви. А вершина любви — это абсолютно безусловная любовь.
— Что это значит?
— Когда любишь не за что–то… не за то, что мама, папа, брат… друг… не за то, что тебя любят, а просто — чтобы любить, чтобы насыщать другого любовью…
Я еще долго слушала дочь.
Надо же! Когда–то она нуждалась во мне, теперь — я в ней…
— Так что сказать папе?
— Что была в кино с Серафимой.
— Но это же… вранье.
— Нет, в данном случае это милосердие. Не терзай других, пока сама не разберешься в происходящем.
* * *
Выставка была очень интересной, несмотря на узкую профессиональную специализацию.
Сурен заметил, как заблестели мои глаза у стенда, на котором было представлено оборудование для многоцветной печати, и тут же — огромные фолианты, выполненные на нем, с репродукциями моих любимых импрессионистов.
Мы перекусили здесь же, на выставке, в уютном кафе, и Сурен спросил:
— Будет приличным, если я приглашу вас к себе в гостиницу? Это в двух шагах.
— Почему вы спрашиваете? Ведь сейчас это ваш дом. Разве вы не пригласили бы меня к себе домой?
Вместо ответа, он благодарно улыбнулся.
Гостиница была совершенно советской. Темные полированные поверхности шкафов, панелей, столов и спинок производили гнетущее ощущение казенности. Мне вдруг стало жаль Сурена, словно он был бесприютным сиротой.
Мы снова говорили, говорили…
Около семи я сказала, что мне пора, и он проводил меня до метро.
— Мы увидимся завтра? — Сурен держал мою ладонь в своей.
— Отгадайте с трех раз, как говорит моя дочь.
Он улыбнулся.
— Вы любите кино?
— Хорошее — да.
— Как вам… — И он назвал старую милую французскую комедию с Анни Жирардо.
— Где вы ее откопали? — удивилась я.
— Да все здесь же, неподалеку.
* * *
Спустившись в метро, я ни с того ни с сего решила заехать к мужу в институт. Я знала, что сегодня у него заседание кафедры, которое заканчивается около восьми. И это по пути.
Я села в скверике напротив. Было тепло. Еще не рассеялся дым костерков, в которых сжигали остатки осенней листвы. Еще не все птицы утихомирились на ночь.
Окна кафедры светились, машина мужа стояла среди немногих оставшихся на стоянке.
В восемь из института стали выходить его коллеги. Разумеется, я была знакома с каждым и с каждой из них, с некоторыми даже накоротке. Но мне не хотелось баламутить пустыми протокольными беседами то драгоценное состояние, в котором я пребывала после встречи с Суреном. И я осталась сидеть, дожидаясь мужа.
Он появился не один. Рядом была Валентина, его зам. Они подошли к стоянке. Валентина открыла дверь своей машины. Муж подошел к ней…
Почему я продолжала сидеть, я не смогу объяснить. Ведь, чтобы завести машину и отъехать, мужу понадобилась бы минута, не больше, и мне пришлось бы окликать его или бежать вслед…
Сначала я подумала, что они просто разговаривают. Но тут загорелось окно на первом этаже, и я отчетливо увидела, что мужчина и женщина, стоящие между двух автомобилей, слились в страстном поцелуе… Это было вам не «до встречи, милая» в щечку.
Когда заурчали оба мотора и машины скрылись за поворотом, у меня все еще стоял в глазах силуэт двух прижавшихся друг к другу фигур.
Оказывается, так бывает не только в кино, подумала я. Это касалось не только пылких объятий мужчины и женщины, но и ситуации, в которой обманутая жена становится свидетельницей измены собственного мужа.
Я сидела и смотрела, как гаснут последние окна.
Я ничего недоброго не испытывала ни к мужу, ни к Валентине. Я не пережила ни шока, ни даже удивления. Все произошедшее словно не касалось меня лично — опять же как в кино. В плохом кино. В кино, которое не взяло за душу.
Я подумала, что, видно, и впрямь ничего не происходит в жизни просто так, по случайности. Вот тебе еще один маячок…
Еще один?.. А что, уже случалось в моей жизни что–то, что я должна была бы заметить, отметить и проанализировать?..
Да. Было…
— А ты уверена, что любишь его? — Это Нуська спросила меня накануне свадьбы.
Я ответила:
— Конечно!
И только потом задумалась: а люблю ли? И что вообще это такое — любовь?
Но долго размышлять было некогда: дата свадьбы намечена, кольца куплены, платье сшито, гости приглашены.
Жених воспитан, образован, хорош собой, с меня пылинки сдувает — что еще нужно для полного счастья?
Утром в день свадьбы меня тряхнуло: ведь это навсегда! А что, если я просто еще не знаю, что значит любить?..
Помню это паническое чувство, охватившее меня. Захотелось стянуть с себя подвенечный наряд, забаррикадироваться в своей комнате и крикнуть оттуда:
— Оставьте меня! Дайте мне время подумать!
Только для такого шага я была слишком ответственной: как же я могу поставить в неловкое положение родителей, обидеть жениха, подвести столько народу?!.
И я пошла по натоптанному большаку, сделав вид, что не заметила стрелочку, указывавшую в другом направлении, ведущую на мою собственную тропинку.
И еще.
Когда муж так решительно пресек мою попытку душевного сближения, а потом безжалостно затоптал едва проклюнувшийся росток моей чувственности, я втайне от него плакала. Я понимала, что так не должно быть. А если и должно, то я так не хочу! Я даже думала уйти от него.
Но опять чувство ответственности перед всеми и вся взяло верх: я не должна огорчать родителей, я не могу выставить мужа в неприглядном свете…
Я даже с Нуськой не поделилась.
Я прошла мимо последнего указателя.
Больше знаков мне, скорей всего, не посылали. Или я их просто уже не замечала.
И вот… Это даже не знак! Меня просто ткнули носом… Так глупому котенку объясняют, что он сделал что–то не то.
* * *
Поймав такси, я приехала домой.
Муж уже скинул пиджак и расслабил галстук — он не любил домашней одежды, по крайней мере после работы, и ходил в «цивилизованном виде» до самого отхода ко сну. В выходные он носил джинсы и ковбойку — никаких тренировочных брюк.
— Добрый вечер, милая. — Чмок в щечку. — Припозднилась. Где вы на сей раз с Серафимой время проводили? Поди, кофе пили?
Вот так, не нужно дожидаться ответа, а то вдруг начну рассказывать, где была, что видела — а это лишнее, никого это не интересует. Вопрос задан, ответ предусмотрен — все свободны.
— Я была на свидании с мужчиной, — сказала я.
— Восхитительно! — Муж похохатывал уже из своего кабинета.
Интересно, но во мне ничего не изменилось после увиденного. Мне даже было все равно — давно ли это у них?
С Валентиной мы были знакомы сто лет и, как говорят сейчас, тусовались в одной большой компании.
К моему заявлению муж больше не возвращался. Поистине, хочешь, чтобы тебе не поверили, — скажи правду!..
Когда мы легли, он изъявил желание супружеской близости.
Я повернулась к нему и сказала:
— А давай по–настоящему.
Муж опешил:
— Что значит по–настоящему?
— Ну, как в кино… и без… без резинки.
— Милая… — Он с трудом брал себя в руки. — Это что, приближение менопаузы? Что за прихоть? А вдруг ты забеременеешь? Искусственное прерывание беременности, — он выражался только цивилизованным языком, — ты знаешь, неблагоприятно сказывается и на здоровье, и на психике женщины.
— Резиновые изделия, к твоему сведению, ранят тело и психику не меньше, чем аборты. А забеременею — рожу. Ты же состоятельный, с положением, прокормишь. Ленка уже взрослая, скоро уедет… В Америке, между прочим, сейчас бум сорока–пятидесятилетних рожениц…
— Милая, мы не в Америке… Да что это с тобой? Я озабочен… — Он форсировал нотки озабоченности. — И потом, что значит как в кино?
— Ну, с воплями, стонами… с паданием на пол и разрыванием простыней… — Какой силой я держалась, чтобы не расхохотаться?!
В темноте мне показалось, что мой муж засветился от перекала.
— Кхм. — Он кашлянул, чтобы не выдать растерянности. — Для того чтобы, как ты выразилась, вопить и стонать, нужно прежде всего испытывать подобные этому чувства.
— А ты их не испытываешь?
— Мы цивилизованные люди…
— А что, цивилизованным людям претят сильные чувства?
— Цивилизованные люди умеют управлять своими чувствами. Или должны уметь. Поэтому стоны и вопли — это из жизни животных.
— А я думала, что это страстная любовь.
— Ты меня озадачила, милая. Поговорим завтра. Доброй ночи.
И он коснулся моего лба губами, к которым я не имела иного доступа. В отличие от Валентины.
Где же они встречаются?
Валентина замужем, у нее две девчонки взрослых, ровесницы нашей Ленки, живут пока с родителями…
Командировки — весьма частое явление в жизни моего мужа. Пару раз в месяц он уезжает на день–два, а то и три. Рабочий график — весьма свободный, можно сказать, условный. Он не читает лекций с некоторых пор, а занимается чистым администрированием.
Сказать Ленке?..
Нет! Ни в коем случае! Пусть хоть отец останется для нее образцом порядочного семьянина…
Стоп. Но я пока еще не проявила супружеской неверности.
Пока?.. А что, это возможно?
Я вспомнила волнение, охватывавшее меня при встрече с Суреном. Но представить себя с ним в постели… Бррр!.. Меня передернуло.
О, конечно же не потому, что это Сурен, а потому, что в постели. Нет, для меня это отнюдь не романтическое место! И уж никак не атрибут любовных отношений…
* * *
Свежевыбритый, благоухающий муж с полотенцем на шее наклонился надо мной.
— Как ты спала, милая? — Чмок в лоб. — Все в порядке? — Вопрос–утверждение. — У тебя сегодня нет первого урока? — То же самое. — Ну, поваляйся, я позавтракаю один. — И вышел.
Вот и пообщались. Все. Все свободны до вечера.
Я вспомнила, что мы с Суреном встречаемся в четыре, и внутри сладко заныло…
Еще я вспомнила шальную мысль о… о постели. И нас с ним… в ней… И снова холодок прошел по коже, и едва не испортилось настроение.
«Я вас люблю», — сказал он. Этим не шутят.
«Я собираюсь вас соблазнить» — это тоже не звучало как шутка.
Его ладони на моих щеках, его глаза, глядящие в мои, губы, произносящие мое имя… Еще то, самое первое ощущение волн, исходящих от него, короткое прикосновение тел…
Стоп! Это что: попытка возбудить в себе плотское желание? Или прощупывание своих возможностей?..
* * *
Я стояла одетая в прихожей, когда хлопнула соседняя дверь и загудел вызванный к движению лифт. Тут же раздался звонок.
На пороге стояла Ленка — теперь дня не проходило, чтобы мы не увиделись. Из–за ее спины мне махнул рукой и послал свою ослепительную белозубую улыбку прекрасный индийский принц.
Она вошла и прикрыла дверь.
— Ты сегодня?..
— Да, в четыре.
— А как вчера?
Я в двух словах рассказала о вчерашнем дне и о планах на сегодняшний.
— А потом?
— А потом будет завтра и послезавтра. А потом он уедет. А я умру.
— Мамулька! Как же я рада это слышать! — Ленка бросилась мне на шею. — Это слова живой женщины! — Она поцеловала меня. Потом отстранилась и посмотрела серьезно: — Ладно, до «умру» у тебя еще есть два дня.
И мы вышли в туманное осеннее утро.
* * *
«Красная стрела» сияла глянцевыми боками.
Сурен держал мои ладони в своих. Горячая армянская кровь высекала искры из серых балтийских глаз, а степенная эстонская сжимала желваки на смуглых скулах.
Моя славянская кровь то стыла в жилах, то закипала. Волновалась ли я так хоть раз в своей жизни?..
Объявили, что через пять минут…
— Я буду в Питере через две недели. — Я подняла глаза. — У меня каникулы…
Это был наш с Ленкой сюрприз. Домашняя заготовка.
Сурен изменился в лице. Его буйный темперамент прорвался сквозь заслон сдержанности.
— Наташа! — И он прижал меня к себе.
А потом поцеловал.
Как я могла прожить двадцать семь лет в браке, не узнав, что такое поцелуй мужчины?
Да вот так и могла…
Часть третья
— Татка! — Нуська кричала с конца перрона и бежала ко мне, размахивая руками.
Мы вцепились друг в друга, крутанулись пару раз, едва не сшибив кого–то с ног. Видел бы Лордик… При нем мы ведем себя гораздо сдержанней.
— Поедем или пройдемся?
— Пройдемся.
Погода стояла тихая и теплая, совсем не ноябрьская, вещей у меня было всего–навсего сумка с парой тряпок и мелочами.
— Согласная я, — сказала Нуся.
И мы пошли по хмурому каменному городу, который я так и не сумела полюбить, в отличие от моей подруги. Для того чтобы любить его, думала я, в нем нужно родиться. Или пережить нечто значимое.
Правда, теперь, когда я знала, что здесь живет человек, воспоминания о котором приводили меня в совершенно незнакомое доселе состояние, я ступала с благоговением по его земле.
Мы сели в кафе позавтракать.
Я думала: рассказать все прямо сейчас или позже, дома?
Но единственная подруга на то и таковая, чтобы чуять тебя до нутра. Безо всяких слов.
— Сейчас расскажешь или потом?
Вместо ответа, я расплакалась.
Нуська молча протянула мне пакет с носовыми платками.
Когда я, отсморкавшись, подняла на нее глаза, она улыбалась во весь рот.
— Тебе что, Лялька сказала?
— Что сказала? — Она играла со мной.
— Ну… то, о чем ты спрашиваешь…
— Что ты, влюбилась, что ли?
Я молча опустила голову.
— Да у тебя ж на лице все написано! — Нуська засмеялась. — Ну… кроме имени.
— Сурен…
— Краси–иво! — Она прицокнула языком и достала сигарету.
— Тебе правда Лялька ничего не рассказывала?
— Нет, нет же! Говори! — Нусины глаза азартно блестели.
В отличие от меня Нуська знала, что такое любить и быть любимой. Со всеми сопутствующими этому состоянию обстоятельствами. Она посвящала меня во все свои романы и связанные с ними переживания.
Иногда она рассказывала о тонкостях в интимной сфере своих отношений с мужчиной. Но это для меня было все равно что лекции по высшей математике, которые я слушала полтора года в нашем гуманитарном вузе, абсолютно ничего в ней не понимая. Правда, сдала на пять…
Как–то на заре моего замужества она спросила:
— Ну и как твой Лордик в постели?
Я очень тактично дала ей понять, что на эту тему она может и не пытаться задавать мне вопросов.
— Ладно, ладно, — сказала Нуська, — я же вижу, что он огненный мужчина, у вас небось до утра простыни дымятся… Скромница ты моя.
Неужели она так и думала?..
Я коротко рассказала подруге о моем летнем романе длиной в два с половиной дня и его четырехдневном продолжении в Москве.
— Так ты еще… вы с ним еще… мальчик и девочка, что ли?.. — сформулировала Нуся как могла деликатно животрепещущий вопрос.
— Да, — ляпнула я, даже не успев сообразить, что эта часть моей жизни всегда была под табу.
— Н-да… — протянула она. — Завидую, у тебя все еще впереди…
— Что впереди?
— Новый поворот… То, что за ним… Это всегда восторг. Правда, — добавила она, — бывают и разочарования… Но мы–то с тобой женщины взрослые, имеем опыт… с посредственностью связываться не станем…
— Нуся… — Я посмотрела на нее умоляюще. — Какой опыт! Я вообще еще женщиной не была!
— Что?!.
Мы продолжили у нее дома.
До встречи с Суреном у меня было время. Несмотря на субботу, он на работе — сдача тиража. Я должна позвонить ему в час.
Нусино лицо в продолжение моей исповеди принимало те же выражения, что и лицо дочери. А мне потребовалось уже меньше эмоций для рассказа. Я даже посмеивалась над собой в некоторых местах.
— Да-а, дорогая… — сказала подруга после того, как я замолчала. — Возможно, это тот случай, когда лучше поздно…
— Я боюсь, Нуся. — Это была правда.
— Чего?
— Что не понравлюсь ему… в… ну, как женщина… А я, кажется, уже люблю его.
Я была на грани слез. Но плакать мне сейчас было нельзя — на моем лице слезы не высыхают бесследно, как у киношных героинь, мне потом с красным носом и опухшими глазами полдня ходить.
— Любовь тебя и научит, — не очень уверенно сказала Нуся. — Но мы еще что–нибудь придумаем. Ты к нему идешь?
— Нет. Предполагалось, что я живу у тебя.
— Тем лучше, время есть. — Она усмехнулась. — У меня никогда не получается выдержать паузу… во всяком случае, если обоим все понятно. Чего тянуть, в пионеров играть? Взрослые люди… осознанно делают свой выбор…
Я снова слышала слова дочери.
Сурен схватил трубку — не успел закончиться гудок.
Мы договорились встретиться через полчаса около моста, рядом с нашим домом. Еще на море мы выяснили, что, оказывается, и он, и моя подруга живут в одном районе, в десяти минутах друг от друга, по разные стороны Фонтанки.
Я была в полуобморочном состоянии. Нуське даже пришлось на меня прикрикнуть — и это помогло.
Ровно через тридцать минут Сурен подходил к мосту — мы смотрели из Нусиного окна на втором этаже.
— Без цветов… — разочарованно протянула подруга.
Я металась по прихожей — от двери к зеркалу. Где моя выдержка? Где мои манеры? Где мое все?..
Сурен распахнул пальто и протянул мне маленький букетик крохотных белых цветов.
— Вот… Моя коряга расцвела… Перед вашим приездом.
Сурен рассказывал, что в его квартире чего только не растет. Стоит ему воткнуть в землю любой огрызок, отросток, бросить семечку — как все это принимается буйно зеленеть и цвести.
— Спасибо. — Я незаметно помахала букетиком за своей спиной, я знала, что Нуся во все глаза смотрит сейчас нам вслед.
Сурен спросил о моих планах. Я сказала, что в полном его распоряжении. И еще — если он не против, моя подруга ждет нас вечером на чай с тортом собственного приготовления.
Он был не против.
В квартире Сурена и вправду всюду буйствовала зелень. Он подвел меня к той самой коряге, разродившейся белыми живописными венчиками. А рядом в горшке под банкой пробивался зеленый росток.
— Это из лагуны, — сказал Сурен. — Я загадал, если прорастет…
— Тогда что? — Конечно, я догадывалась об ответе.
— Вы ко мне приедете.
— Вот я и приехала.
— Нет, не так… Навсегда. — Он обнял; меня.
У меня захватило дух. Но я еще не была готова. Я пребывала в сомнениях и опасениях. Я боялась расслабиться.
Сурен почувствовал это и отпустил меня.
Меня растрогали романтизм и деликатность этого сурового мужчины.
Интересно, подумала я, осматривая жилище Сурена, моя квартира — такое же продолжение меня?
Меня какой? — спохватилась я, настоящей или той, какую из меня сделали мои родители и муж?
Моя квартира — стерильное во всех отношениях жилье. Ничего лишнего, ничего не на своем месте, ничего, что могло бы смутить стройное течение мыслей, поступков, самой жизни…
По–настоящему моя обстановка — в Нуськиной однокомнатной, тесной, напичканной всякой всячиной квартирке. И еще у Ленки мне нравится.
У Сурена мне тоже понравилось. Аскетизм плавно перетекал в артистизм. Разномастица обстановки выглядела как реализованная эклектика — все легко и непринужденно, практично и функционально.
Сурен накормил меня вкусным обедом.
Мы снова много говорили, но электричество накапливалось в воздухе.
Около шести часов мы оба, похоже, с облегчением засобирались к Нусе.
— Какие цветы любит ваша подруга?
— Большие белые хризантемы.
— А из напитков что предпочитает?
— Мартини.
* * *
Мы пришли упакованными по высшему разряду. Нуся принялась причитать по поводу бешеных трат — она волновалась и несла всякую чушь.
— А я вас знаю, — сказала она, когда я представила их друг другу. — Я вас в гастрономе нашем встречаю.
— К сожалению, — сказал Сурен, — не могу ответить тем же, я почти не смотрю по сторонам.
— Ничего удивительного, я женщина незаметная… Не то что наша Тата. — Нуся беззастенчиво кокетничала.
Благодаря моей подруге и — отчасти — напиткам, принесенным Суреном и выставленным хозяйкой, атмосфера постепенно разрядилась, и мы уже болтали и хохотали, как будто всю жизнь провели в одной компании.
Неожиданно раздался звонок. Нуся взяла трубку.
— Да? — И вдруг ее лицо преобразилось. — Вася! Ты где? — Она сияла и только что не визжала от счастья. — Да! Конечно!.. Счастье мое!.. Жду!
Она посмотрела на нас обалдевшими глазами и сказала:
— В Мадриде забастовка.
Видя, что нам не стало понятней, она добавила:
— Профессора бастуют.
А-а, вон что!.. — сказали мы оба своим видом, словно это объясняло все.
Нуська, в конце концов, все же пришла себя и, расхохотавшись, пояснила:
— Мой Вася… Василий Владимирович читает курс лекций в Мадридском университете. А их профессора устроили недельную забастовку. Вот он и решил махнуть на родину. Не сидеть же там неделю…
Я не подала виду, что имя Вася… Василий Владимирович слышу впервые.
Нуся рассеянно поставила еще один прибор на стол. Она уже витала где–то над трассой Пулково — Петербург.
Когда раздался звонок в прихожей, ее снесло из–за стола.
Огромный, как шкаф, Вася схватил в охапку нашу нехрупкую Нусю и кружил ее по прихожей. Под ноги полетела его стильная овчинная шляпа. Туда же чуть было не отправился букет нежно–розовых роз.
Потом наступила тишина. Если не считать утробного рычания страстно целующихся мужчины и женщины…
Мы с Суреном выковыривали остатки торта из наших тарелок, не поднимая глаз.
Нуся представила всех друг другу.
Вася оказался еще коммуникабельней моей подруги, и через несколько минут все были на «ты». Кроме нас с Суреном, разумеется…
Вася вывалил на стол новую порцию яств. Мадридских в том числе.
Мы еще немного понасыщались и стали замечать, что в Нусиной комнате становится все теснее. Нас с Суреном просто размазывало по стенам…
— Ой, Татка, где бы мне тебя положить, чтобы… чтобы мы тебе не мешали спать? — Нуся была бесхитростна.
— На кухне… — растерянно сказала я. — У тебя большая кухня, мне там будет хорошо.
Вася смотрел недоуменно то на меня, то на моего спутника, то на свою возлюбленную: о чем вы, ребята?..
Нуся всем своим видом отвечала ему: я тебе потом все…
Вмешался Сурен:
— Я могу поселить вас у себя. — И, словно поясняя остальным ситуацию: — У меня две комнаты…
— Ну вот, все решаемо! — обрадовалась Нуся, даже не дожидаясь моего согласия.
Дольше оставаться в Нусиной квартире было нетактично: нас здесь уже не видели.
Перед выходом подруга утащила меня в кухню и сунула в руку пузырек с какими–то пилюлями.
— Одну желтую и одну голубую… не раньше, чем за полчаса… до.
— До чего?.. О чем ты, Нуся?
— Это вместо резинок.
— Но я не собираюсь…
— Ну, мало ли! Вдруг соберешься. Бери с нас пример! — И ее глаза засияли.
Мне стало завидно… и обидно: что же это я такая… увечная?
Но, когда мы пришли к Сурену, все встало на свои места.
В мое распоряжение была предоставлена гостиная.
* * *
Следующий день и следующий — до самой пятницы — мы весело проводили время в нашей теплой компании. Сходили на новый американский блокбастер, на камерный концерт, съездили в Петродворец. Ужинали в ресторанах, каждый раз в другом. Я забыла обо всем на свете — я словно только что родилась, и жизнь моя только начинается…
Однажды, вернувшись домой, мы с Суреном хохотали над чем–то в прихожей. Я покачнулась, разуваясь, и он подхватил меня.
Наш смех оборвался. Мы стояли совсем близко, почти прижавшись друг к другу. Сурен обнял меня. Внутри поднялась внезапная паника. Захотелось броситься опрометью из квартиры, лишь бы не испортить всего того, что было в эти несколько дней — таких легких, таких светлых и беспечных.
Да, порой меня посещало то самое смятение чувств, которое, вероятно, сопутствует влюбленности, которое я испытала впервые много–много лет тому назад. Но это происходило в совершенно неподходящий момент и быстро улетучивалось. Словно некий автомат–предохранитель отключал напряжение — ведь когда–то это было пресечено не самым деликатным образом.
И опять он понял, что меня нужно отпустить.
Я села и, глядя в пол, сказала:
— Сурен, простите меня. Я не хотела вас обманывать…
— О чем вы?
— Я не смогу быть вашей… вашей любовницей.
— Мне не нужна любовница, — сказал он. — Мне нужна возлюбленная. Это разные вещи.
— Наверно, возлюбленной я тоже не смогу стать… — Я была на грани слез.
— А другом? — Он приподнял мое лицо.
— Другом смогу, — сказала я.
— Вот и хорошо. Будем друзьями. — Он улыбнулся.
Я была ему безмерно благодарна.
* * *
Утром в пятницу позвонила Нуся и предложила присоединиться к ним с Васей — они едут на дачу друзей, там сейчас пусто, хозяев нет. Зато есть баня и рыбалка.
Я передала Сурену ее предложение, он обрадованно согласился.
На место прибыли уже в сумерках.
Мужчины принялись топить дом и баню, а мы с Нусей — готовить ужин. На удивление, и в доме, и в бане очень скоро стало тепло.
Стол накрыли прямо в предбаннике.
— Банные фанаты заклеймили бы нас позором! — сказал Вася. — Ты не фанат, случайно? — спросил он Сурена.
— Нет, я сочувствующий, — ответил тот.
— А ты? — Это Вася ко мне.
— Я присоединившаяся.
— Вот и славно, трам–пам–пам! — Вася обнял Нусю и спросил: — Ну кто первый?
Нуся деликатно предложила:
— Девочки!
Вася был слегка разочарован — он, вероятно, совсем по другим критериям делил наше общество на пары — но взял себя в руки:
— Ладно, девочки так девочки! Вперед!
Нуся, разумеется, сразу поставила меня к стенке:
— Ну, рассказывай!
— Не о чем… — сказала я.
Она разочарованно хлопнула себя по пышным голым бедрам.
— Да, ребята… — сказала только она.
На ее не менее пышной груди и под ней ясно читались весьма характерные темные пятна.
Потом пошли мальчики.
Мы слушали громкие шлепки веников, их вопли и забавлялись — взрослые, солидные мужчины, а бесятся, как дети. Почему–то мне было ужасно приятно, что Сурен такой… ну, вот такой.
Как бы мне хотелось съехать со всех катушек — как это бывало, когда мы проводили время наедине с Нуськой.
— Выпей–ка водочки.
Она словно услышала мои мысли. Я подумала как раз: а не снять ли напряжение испытанным народным средством?
Но это не очень помогло. Правда, и не помешало.
Через какое–то время Вася с Нусей плюнули на наши с Суреном заморочки и отправились париться вдвоем.
Сурен рассказывал мне о забавном случае в бане пионерлагеря, я хохотала и, глядя в задорные глаза моего собеседника, едва держалась, чтобы не сказать: «Слушай! Давай кончим валять дурака! Ну ладно, я… я — ущербная женщина, но ты ведь мужик, возьми ситуацию в свой руки!..»
Но — нет. Я все еще не могла ни проломить, ни перепрыгнуть китайскую стену фундаментального благородного воспитания, унизанную колючей проволокой стереотипов.
Следующий день прошел в том же духе. Мы погуляли по лесу, нажарили шашлыков. Намеченная рыбалка, правда, не состоялась по причине отсутствия удочек у рыболовов. Подурачились вдосталь. А к вечеру субботы Вася вызвал по своему мобильному телефону такси, и мы покинули место нашего буйного веселья — Васе утром улетать, а мне вечером на поезд.
На прощание Сурен спросил Васю:
— Когда там следующая забастовка в твоем Мадриде?
Вася расхохотался, и они обнялись, как закадычные друзья.
— У меня через три недели курс кончается, — сказал он. — К Новому году возвращаюсь. Соберемся?
* * *
Мы с Суреном еще немного поболтали на кухне и решили лечь спать — оба были слегка уставшими. Главным образом из–за почти бессонной ночи на даче.
Нуся с Васей уложили нас в крошечной комнатушке без дверей. Вторая — та, в которой разместились они — вообще не была комнатой, это был аппендикс кухни. Они поерзали на своей узкой скрипучей тахте, болтая шепотом о чем–то веселом, с трудом сдерживая смех, и ушли.
— Мы пошли в баню! — крикнула Нуся. — До утра не ждите.
— Спокойной ночи! — сказали мы.
— Ну уж дудки! — хохотнул Вася и хлопнул дверью.
Я слушала дыхание Сурена, а сама старалась дышать неслышно. Мы были на расстоянии вытянутой руки друг от друга: я на раскладушке, а он рядом на полу. Уйти на освободившийся топчан никто из нас не решился тем не менее.
Но заснуть я не могла и здесь, в доме Сурена. Я ворочалась почти без мыслей. Точнее, их было так много, что сосредоточиться на чем–нибудь было трудно.
Глянув в очередной раз на часы — без четверти два, — я пошла на кухню: после острых шашлыков и соусов я никак не могла утолить жажду.
Дверь в комнате Сурена была открыта, горел тусклый зеленый свет.
Я заглянула. Он лежал по пояс обнаженный, в наушниках, руки за головой, ноги раскинуты в стороны под тонким одеялом, и казался спящим. Темные впадины подмышек, темная шерсть на груди и запястьях, почерневшие подбородок и щеки.
Меня заворожило это зрелище. Вероятно, любая женщина — вне зависимости от ее осознанных предпочтений — так или иначе реагирует на брутальность.
Я вошла. Сурен не шевелился. Спит? Не спит?..
Я села на край дивана.
Он резко открыл глаза. Потом сорвал наушники и замер.
Я скинула халат и осталась в тонкой ночной сорочке.
Сурен отодвинулся к стенке и откинул край одеяла.
Я легла к нему лицом и закрыла глаза.
* * *
Я закрыла глаза.
Сомкнутые веки и мерный стук колес надежно огородили меня от окружающего мира, и я возвратилась в свой.
Не знаю, долго ли мы лежали неподвижно. Сурен шевельнулся первым. Я открыла глаза — его лицо было рядом.
— Ты пришла, — просто сказал он.
Это было как… как пробитая брешь. Словно рухнули все стены, заборы… или что у них есть еще там.
Это его «ты»… Вот что было нужно!
— Я пришла к тебе.
Мне показалось, что даже голос мой сделался другим… или говорить стало легче.
— Не верю. — Сурен мотнул головой, словно отгоняя наваждение.
— Что ты слушаешь? — спросила я.
Он выдернул штекер наушников, и в колонках зазвучал старый альбом Криса Ри.
— Мне нравится.
— Мне нравится, что тебе нравится, — улыбнулся он.
Мы все так же спокойно смотрели друг на друга, как будто провели в этой позе полжизни. Сурен запустил свои пальцы мне в волосы:
— Зачем ты стрижешь такие густые красивые волосы?
— Это не я, это парикмахеры.
Он засмеялся.
— Я хочу увидеть твою гриву.
— Прямо сейчас и начну отращивать.
Он снова засмеялся. Я тоже.
Его ладонь сползла мне на шею. Он гладил пальцами ключицы, подбородок. Расстегнул верхние пуговицы сорочки, и рука двинулась к груди.
Я, к собственному удивлению, поспешно выпросталась из сорочки.
Тут же обожгло прикосновение его обнаженного тела.
Он поцеловал меня. Как когда–то давно, на перроне в Москве. Только дольше. Гораздо… бесконечно дольше.
Мы устали от поцелуя.
Сурен лег рядом — запрокинув голову и прикрыв глаза.
Тогда я склонилась над ним.
Я всматривалась в его лицо. Это было самое красивое лицо на всем белом свете. «Самое–самое–пресамое в жизни!» — как говорила моя маленькая дочь, когда ей не хватало слов для выражения восторга.
Я не могла бы сказать, чего больше было в моих ощущениях — наслаждения или изумления. Одно через мгновение сменялось другим.
Это был катарсис. Неведомые мне доселе переживания вытесняли наносное, внушенное, неприсущее мне. Так ветром сметает пыль, волной — мусор. И этот ветер, эти волны длились и длились…
Тугой поток неистовой ласки врывался в глубь меня. Горячий, как солнце. Он растекался по венам и заполнял все мое существо — до кончиков пальцев.
Потом все повторилось. Потом снова.
Потом я с ужасом вспомнила про таблетки. Потом — про резинки… Я плюнула мысленно на все — мне было так хорошо, что я готова была заплатить за это любую цену.
В купе мы долго целовались, не стесняясь проходящих мимо пассажиров.
Потом поезд тронулся.
Я закрыла глаза.
Я уезжала от Сурена, чтобы вернуться к нему как можно скорее.
ГОЛОС АНГЕЛА
Моему сыну Жене
Он очень спешил. Подвела мелочь, издержки холостяцкой жизни: любимая рубашка, которая так идет ему, оказалась грязной. Пришлось стирать, потом сушить на вентиляторе и, естественно, гладить.
Не то чтобы он опаздывал, но его план прийти раньше всех и самому угадать: кто? — проваливался. А тут еще оказалось, что адрес остался на работе, в кармане халата. И вот он — уже одетый и в перчатках — набирает Боба, Вовку то есть.
— Да?.. — Прозвучавший голос вызвал в голове короткое замыкание: она уже там? а она ли это? если это она — то он готов…
— Алло, говорите.
— Добрый вечер.
— Добрый…
Это не голос… это… это…
— Пригласите, пожалуйста, Владимира… Викторовича.
— Вы, вероятно, ошиблись.
— Минутку! Минутку… — Если она сейчас отключится, я погибну. Медленно и мучительно, как рыба, выброшенная на сушу… — Это номер…? — И он назвал номер Боба.
— Нет. Вы неверно набрали одну цифру.
— Какую?! Скажите, какую?.. — Но он кричал уже в пустоту.
Его вопрос, его смятенные чувства… да что там! — сама его жизнь, рванувшаяся туда, к этому Голосу, разбивалась о невидимую стенку, отлетала от нее осколками сигналов отбоя и исчезала в немой бездне, чтобы кануть в ней навсегда…
Он сполз по стене, поставил аппарат и долго сидел, зажав в руке трубку.
Придя в себя, словно после тяжелого наркоза, он попытался осознать произошедшее.
Он звонил Бобу. Набрал не ту цифру. Услышал Голос и… — как бы это поделикатней?.. — съехал с катушек.
Номер Боба — семь цифр. Если предположить, что какую–то из этих семи он недо- или перекрутил, получится… получится не так уж много номеров!
Он сбросил перчатки, уселся, вытянув ноги, прямо на пол и принялся судорожно вертеть диск. Первые два номера ответили мертвым молчанием, третий — отбоем. Он с надеждой продолжал атаковать этот третий. Ну и болтают же у нас по телефону!.. Никакого терпения не наберешься… И тут же спохватился: а вдруг это Она?.. тогда не болтает, а… Нет, он не находил определения этому Голосу. Все сравнения типа: «песнь песней», «звуки сфер» и тэ дэ — казались невообразимой пошлостью.
Прошло не меньше четверти часа. Он набирал номер без пауз: отбой — набор, отбой — набор. Может, трубка не лежит… На другой номер он не решался переключиться — боялся, что Она, закончив говорить, уйдет от аппарата…
Он вывихнет себе палец…
О чудо! Пошел длинный гудок… другой, третий.
— Слушаю! — Словно ушат ледяной воды: прокуренный мужицкий бас.
Он положил трубку и окончательно пришел в себя.
Во–первых, к телефону может подойти кто угодно. Во–вторых, она могла выйти из дому. В-третьих… и так далее.
Короче, в твоем распоряжении четырнадцать номеров и вся оставшаяся жизнь. Разумеется, желательно поторопиться.
Какой Голос…
Он прожил на свете двадцать восемь лет. Все это время он провел среди огромного количества голосов: школа, учителя, спорт, всяческие курсы и кружки, бесчисленные друзья родителей, институт. Теперь вот поликлиника — коллектив, больные дети, их мамы… сотни, тысячи мам. А магазины, улица, общественный транспорт… И ни разу ничего подобного!
Раздался звонок. В голове снова поехало: Она… Он попытался придать своему голосу нотки интимности и задушевности:
— Да. Слушаю вас…
— Ты что, заснул? — Это был Боб.
Ах, Боб! Чтоб тебя…
— Я твой адрес забыл в халате.
— А телефон где забыл?.. Пиши…
— Пишу.
Записав адрес, он поднялся и посмотрел на себя в зеркало. Симпатичный высокий молодой человек без вредных привычек. Хорошо сложен, добротно одет. В голове — без ложной скромности — много чего интересного, и душа отнюдь не пуста. Полная гармония формы и содержания. Теперь бы и тому и другому рука об руку и нога в ногу — да в гору.
В жизни тоже все хорошо складывается. Любимая работа — спасибо маме: сумела разглядеть его склонности и вовремя подогреть интерес, не давя и не внушая своего. Отдельная квартира — тоже спасибо маме: убедила папу, что взрослый человек должен жить независимо, — разменяли трехкомнатную.
И едет он — такой благополучный — к другу Бобу на новоселье. Правда, новоселье состоялось аж полгода назад, то есть — заселение. А сегодня — как бы окончание обустройства и начало новой жизни в новых стенах.
У Боба семья, двое детей: девочка и… девочка. Очаровательные создания. Это не потому, что он — детский доктор и любит детей. Просто эти двое — в самом деле необыкновенные.
Встречаются такие дети, но очень редко. Это он из своего опыта говорит. Он зовет их про себя ангелами. Ему даже всякий раз хочется лопаточки их пощупать: нет ли там бутончиков, из которых крылышки проклевываются. Выяснить, что из таких детей потом получается, он себе целью жизни поставил. Наблюдает вот двух мальчиков: одному три — из многодетной семьи полупьяниц, другому — восемь, родители интеллигентные, ребенок очень поздний, первый и, скорей всего, последний. Да вот еще девчонки Боба — четырех и пяти лет. Удивительно, что в одной семье — и сразу два ангела. Он ангелов безошибочно узнает — они словно нимбом мечены, и еще по голосу…
По голосу!.. Он вспомнил Голос. Это был Голос ангела. Взрослого ангела. Он во что бы то ни стало найдет ее!
Пересадка на метро, потом — троллейбусом пять остановок. Ну и забрался Боб! Взять, что ли, такси? А чего я вообще туда еду?.. Меня ж знакомить собираются — сватать. Сам ныл: семью хочу, детей… А теперь — не хочу. Вернее, хочу, но только тот Голос. А если она замужем? А если это — невесть что? Нет! Нет, нет и нет. Я ее найду. А там посмотрим…
Как она произнесла: «Да?..» Это же невозможно спокойно слышать!.. А потом: «Алло, говорите». Ф-фуф! Нет, невыносимо… А как она, интересно, говорит: «Ты вынес ведро?» Или: «Убери штаны с кровати»?
Мама всегда говорила, что у меня слишком экзальтированное для мужчины воображение. Но ведь ты меня таким сама сделала. И кроме благодарности, я ничего не могу к тебе испытывать за это. Голос… Что бы ты о нем сказала?..
Не опоздал. В сборе почти все. И она уже здесь.
Она — племянница Бобовой жены. Двадцать пять. Образование высшее, училась в Москве, вернулась домой — поскольку здесь квартира и недавно овдовевший папа. Замужем не была. Интеллектуалка — кинокниготеатралка.
Не синий ли чулок? — поинтересовался он, когда ему предложили эту партию. Якобы нет.
С чувством юмора как? Якобы полный о’кей.
А что ж до сих пор одни-с? Якобы ждут принца.
А я потяну на принца? Якобы да.
— Привет, раздевайся.
Квартира — инфаркт обитателя хрущоб! Прихожая — как зал, за ней — холл размером с две кухни, гостиная — как вся двухкомнатная вместе с санузлом. А там еще две комнаты, но это потом.
— Знакомьтесь, мой друг, детский доктор от Бога, Глеб.
— Здрасте, здрасте… — Этих знаю, этих тоже. Валя — не она ли? Вася — коллега Боба, Инна — его жена. Симпатичная. Марта — может, эта? Имя одно чего стоит!.. Этих тоже видел у Боба… — Привет. Привет…
— Женя, наша племянница.
— Очень приятно, Глеб.
Спасибо тебе, мама, что ты наряду с зачатками эстетства и морали привила мне способность смотреть в корень, в глаза то бишь, и в душу. Может, поэтому я до сих пор не вляпался в какой–нибудь бездарный брак по нужде?
Женя хороша. И голос — ничего. Но не тот. Не тот… Елки–палки, надо же было мне забыть в халате эту бумажку, а потом не туда запихнуть палец!..
— Ну что, мужик, как тебе наша Женя?
Они курили в кухне с Бобом. Наверняка сейчас Наташка, жена Боба, задает тот же вопрос своей племяшке, затащив ее в детскую.
— Представляешь, Боб, случилось непоправимое.
— Что?! Ты?.. Ты вляпался?!
— Вляпался. Только не туда, куда ты подумал.
И Глеб рассказал свою историю.
Они с Бобом — друзья с колясок и песочницы: родители соседями были. Разметало их, только когда каждый свой институт выбрал. Но это — лишь в пространстве. Дружба осталась. Они знали друг о друге все. Без преувеличения.
— Глебушка, ты сбрендил!
— Называй как хочешь.
— Да брось! Завтра все пройдет. А Женя, по–моему, на тебя смотрит…
— Надеюсь, она не ждет, что я ее сразу к себе поведу?
— Это уж вы сами разбирайтесь.
Появилась Наташка и сказала:
— Марш отсюда! Вторая перемена блюд.
Глебу нравилась Наташка. В смысле — замечательная жена лучшего друга. Все у них было хорошо и всегда весело. И дети — плоды любви. Может, потому и ангелы?.. Хотя правило ли это? Если да, то что ж тогда, все остальные — не в любви зачаты?.. А как?
Птички–бабочки, как называл Юльку и Анютку Глеб, были у бабушки с дедушкой. Поэтому хочешь — танцуй, хочешь — пой. И временем не ограничены. Домой можно и под утро, с первым транспортом.
Но Глеба тянуло уйти. Скорей сесть за аппарат и начать поиски. Четырнадцать комбинаций — это не много. Но всякие накладки типа занято, или не отвечают, или не тот подошел…
Женя явно положила на Глеба глаз. Эх, если бы не эта его оплошность!.. Теперь придется хорошую девушку обижать.
С мамой бы поговорить. Но не отсюда же!..
Он решил все же позвонить, чтобы напроситься на поздний разговор — мама полуночница, но кто знает, какие планы у нее на сегодня?
— Ма, привет… Я от Боба, новоселье празднуем. Где папа?.. Привет ему. Поболтать хочу. Нет, не сейчас… Ничего не случилось… Ну правда, все в порядке. Ты сегодня поздно?.. К вам с ночевкой? Классная идея! Хотя нет, мне завтра рано на работу, а от вас далеко. Я позвоню, как приеду. Целую. Пока.
Он откланялся в одиннадцать. Предлог более чем уважительный — завтра утреннее дежурство в стационаре, а значит, в семь тридцать он должен быть на месте и в халате.
Наташка, которой Боб наверняка успел рассказать о несчастье, постигшем их друга, смотрела на Глеба, как на больного.
— А что Женя?.. — спросила тихо она.
— Замечательная девушка. Ее будет кому проводить?
— Ее–то проводят, — вмешался Боб, — а вот ты не пожалел бы.
Дома Глеб был около полуночи. Искать Голос было поздно. Он набрал родителей. Трубку взял папа, рассказал Глебу про статью в «Огоньке» на тему последних достижений в области медицины и сказал, что отложит ему почитать, очень полезная информация.
Потом Глеб выложил маме все как есть. И про Женю тоже. Мама сказала:
— Я тебя понимаю.
Потому Глеб и звонил ей. Он не ждал советов в чистом виде. Ему нужно было мнение человека, которому он безоговорочно доверял. И понимание — именно такое. Мама даже предложила помочь ему в поисках.
— Ведь ты на работе, — сказала она.
— А как же ты ее узнаешь? — спросил Глеб.
Мама засмеялась:
— Уж будь спокоен, в этих вещах я разбираюсь, не мой ли ты сын?
— И вправду, — сказал Глеб. — А Боб решил, что я сбрендил.
— Его проблема, — сказала мама.
— Но ты ведь так не думаешь?
— Конечно нет, сынок. Подожди–ка минутку… — В трубке сначала затрещало, потом зашуршало. Потом мама зашелестела страницами и сказала: — Слушай.
И она прочла Глебу стихотворение Роберта Рождественского про объявление в аэропорту Орли.
Глеб стонал и рычал.
— Отпечатай мне, ладно? — сказал он. — Я Бобу в нос суну.
Засыпая, Глеб все старался представить себе Лицо того Голоса. Чего он только не рисовал в своем богатом воображении!
Потом он погрустил о своей первой большой любви. Было это… на четвертом курсе, когда он подрабатывал медбратом в детской поликлинике.
В пустом коридоре плакал мальчик лет трех. Плакал очень тихо, но так горько, что Глеб понял: это не капризы. Он разбирался в детских плачах — то был плач смертельного отчаяния.
На вопрос, где мама, мальчик показывал пальчиком в конец коридора и принимался плакать еще горше.
Глеб сперва решил: подкидыш. Приемы все окончены, даже полы в коридорах вымыты, а сам он собирал карточки по опустевшим кабинетам.
Потом подумал: а вдруг с мамой что–нибудь случилось, в туалете, например, упала, потеряла сознание, ее унесли, и никто не знает, что в коридоре поликлиники остался сын.
Он попытался взять мальчика на руки и спуститься с ним вниз. Но тот мотал головой и хлопал ладошкой по скамейке, на которой сидел. И всхлипывал так, что сердце Глеба разрывалось на части.
Появилась заплаканная мама мальчика. Глеб пошел провожать их и узнал печальную историю о неудачном замужестве, скандалах в семье и вытекающих из всего этого последствиях.
Как Робин Гуд, доблестный рыцарь Айвенго, Дон Кихот и прочие образы воплощенного благородства, вместе взятые, Глеб решил спасать мальчика, которого звали Митя, и его маму, которую звали Лена.
Мама Глеба поддерживала его как и чем могла и спустя несколько месяцев, была согласна принять их в свой дом — как семью сына. Папа не был в восторге, но не сопротивлялся, уважая чувства своих слегка не от мира сего ближайших родственников.
Почему его возлюбленная не хотела официального развода, Глеб узнал гораздо позже. Как, впрочем, и многое другое, что повергло его сначала в шок, а потом в долгую депрессию. Любовь продлилась около года, но оправлялся он от нее больше двух лет. У него и по сей день сжимается сердце, когда он вспоминает Митьку, которого полюбил, как родного, и с которым подружился, как редкий папаша способен дружить со своим сыном. Лену он тоже любил — ведь она была мамой Мити. Одно утешение, что все они уехали вместе с неудачным мужем и отцом далеко и навсегда — иначе не отсох бы Глеб.
Первый вечер не дал результатов. Голос не объявился.
Зато позвонил Боб и сказал, что Женя спрашивала о Глебе: подробности его жизни, интересы и так далее.
— Ну что, мужик, будешь гоняться за синей птицей или на землю спустишься?
— Можешь издеваться сколько влезет.
— Ладно, подождем, когда пройдет блажь. А Жене скажу — заболел.
— А Жене скажи, что в степи замерз. Лучше всю правду и сразу.
Прошло две недели. Мама начала отговаривать Глеба продолжать поиски.
— Ты допускаешь, что мог вставить палец не в соседнюю цифру, а через одну? Подсчитай тогда, сколько комбинаций получается в этом случае. И еще: ты подумал, что у нее может быть семья… что она может оказаться просто невесть кем… Ты же не скажешь: я хочу связать жизнь с вашим голосом! Подумай, малыш.
Еще месяц Голос не обнаруживался. Но и ни один номер нельзя было исключить.
Басовитый дядька стал подозревать свою жену: вероятно, Глеб замучил его звонками с последующим отключением. Однажды тот взял трубку и, не рявкнув свое обычное «слушаю», сказал: «Иди, хахаль твой опять ломится». Глеб замер. На другом конце провода раздалось еще более прокуренное и пропитое «алле». Но у них, возможно, есть дочь, соседка… да кто угодно. Не мог он снять этот номер с дистанции.
Он испытывал муки совести оттого, что, вероятно, вносит разлад в дома своими звонками. Но найти Голос Глеб был готов любой ценой.
Два номера хронически не отвечали. На них возлагались особые надежды: хозяйка уехала, дома никого не осталось, значит, она одинокая. О том, что она могла уехать с мужем и пятерыми детьми, он старался не думать.
Два раза он встречался с Женей. По ее инициативе. Они сходили в кино, поужинали в ресторане, погуляли.
Когда Глеб в первый раз проводил ее до| дому, она сказала, что пригласить его на чашечку чая не может. Он сказал, что при всем желании не согласился бы: его рано утром ждут страждущие дети.
Во второй раз Женя спросила: не хочет ли он пригласить ее. Но у него был трудный день, а завтра — снова ранняя работа…
Боб сказал, что Женю Глеб теряет, пусть опомнится, пока не поздно, лучше пары он не найдет, что он псих и не лечится, и добавил пару непечатных выражений, что было великой редкостью для их отношений.
Пришла весна. Впереди маячил отпуск и двадцать девятый день рождения.
Женя больше не домогалась Глеба.
А он никак не мог забыть этот дивный тембр и невероятные модуляции: «Да?..» — и все, и нет Глебушки. И продолжал обзванивать всех своих абонентов, изредка допуская какую–нибудь случайную комбинацию из посторонних цифр. Если бы теория вероятности имела для него хоть малейший авторитет, он давно бы бросил это занятие. Вот и мама советует…
— А ты бы бросила? Ну, честно! Бросила бы?
— Бедный мой малыш… — сказала мама. — Ты в отпуск едешь?
— Не знаю… А ты что скажешь?
— Отгадай с трех раз.
— Хорошо, поеду.
— К Наталке?
— А куда же?
И он уехал на все три недели к папиной сестре в Крым. Купался, загорал, ловил с дядькой рыбу в море. Отдохнул, загорел… Отвлекся. Но Голос не забыл.
Вернулся за два дня до выхода на работу и стал накручивать диск телефона. И прокуренная тетка, и все остальные были на местах.
Неожиданно ответил один из двух безнадежно мертвых доселе номеров.
— Да?.. — Женский голос.
Другой, но что–то едва уловимое в интонации… Или ему мерещится? Глеб опешил. Он так долго искал, что забыл, с какой целью.
— Говорите, вас слушают.
— Добрый день…
— Добрый день. Алло, говорите. Вам кто нужен?
И Глеба понесло. Мамина школа: если хочешь, чтобы тебя поняли, будь предельно искренним и не пасуй, а посмеются — будь прозрачным, не обращай внимания.
— Мне нужен, — сказал Глеб, — голос молодой женщины, который я однажды услышал, неправильно набрав номер друга. Только, пожалуйста, не думайте, что я хулиган или маньяк…
Женщина усмехнулась и сказала, что так не думает. И спросила, как же он собирается искать этот голос.
Глеб рассказал, как вот уже восемь месяцев кряду набирает предполагаемые номера.
— И что? — спросила Женщина.
— Ваш телефон молчал все это время, но, когда вы ответили, мне показалось, что ваш голос очень похож на тот…
— Но не тот, — сказала Женщина.
— Но похож, — сказал Глеб.
— Предположим, — сказала Женщина, — вы найдете владелицу этого голоса, и что дальше?
— Я с ней познакомлюсь.
— Это ваше желание, — сказала Женщина, — а если этого не захочет она?
— Я об этом не подумал, — сказал Глеб, — спасибо вам… А что бы вы посоветовали мне, как женщина мужчине?
Женщина засмеялась приятным грудным смехом.
— Сколько вам лет, мужчина? — спросила Женщина.
— Двадцать девять, — сказал Глеб.
— Солидный возраст, — сказала Женщина.
— Это ирония? — спросил Глеб.
— Не обижайтесь, — сказала Женщина. — А мне сорок девять.
— Начало разумной жизни, — сказал Глеб.
— Разумно говорите, — сказала Женщина. — Думаю, советов моих вам не требуется, скорей всего, вы привыкли учиться на собственном опыте.
— В основном да, — сказал Глеб, — но к умным людям я прислушиваюсь.
— Ценное, если не бесценное, качество, — сказала Женщина.
— Простите, — сказал Глеб, — мы уже так долго общаемся, давайте познакомимся. Меня зовут Глеб.
— Очень приятно, Глеб, — сказала Женщина, — а меня Маргарита.
— Просто Маргарита? — спросил Глеб.
— Просто Маргарита, — ответила Маргарита.
— Очень приятно, Маргарита, — сказал Глеб. — Можно я буду иногда вам звонить?
Маргарита снова засмеялась и сказала, что запретить она этого, конечно, ему не может, поэтому, если у него, Глеба, будет желание, пусть звонит.
— А если, — сказал Глеб, — к телефону подойдет ваш муж, мне можно попросить позвать вас?
— У меня нет мужа, — сказала Маргарита.
Глеб не знал, как на это отреагировать, и замолчал.
Маргарита засмеялась:
— Вас это смутило?
— Даже не знаю… похоже что так… — сказал Глеб.
— Вы искренний… чуть не сказала «мальчик», — сказала Маргарита. — Вы мне определенно нравитесь. — И добавила: — Вы как–нибудь представляете себе эту девушку, которую ищете?
— Иногда да, иногда нет, — сказал Глеб.
— А если у нее семья, дети? — сказала Маргарита.
— Мама попыталась приготовить меня к такому варианту, — сказал Глеб.
— И что, вы приготовились? — спросила Маргарита.
— Не очень… — ответил Глеб.
— А если она набитая дурочка? — продолжила Маргарита.
Глеб промолчал.
— А если она калека? — опять сказала Маргарита.
— Я доктор! — оживился Глеб.
— Доктора не всемогущи, — сказала Маргарита.
— Увы… — согласился Глеб.
— Так что подумайте, продолжать ли вам поиски, Глеб, — сказала Маргарита. — Если это блажь, лучше купите много пластинок великих певцов и певиц и слушайте их волшебные голоса. А за голосом, который ищете вы, стоит чья–то судьба. «Не навреди» — таков девиз врача, верно?
Глеб задумался на несколько дней.
Конечно, ребячество — ломиться вот так напропалую в чужую жизнь. В голос влюбился… А что, если там и вправду семья, счастливая семья… А тут я: я люблю ваш Голос!.. Ну и люби, только подальше отсюда.
Или, в самом деле, одноклеточное что–нибудь… Голосом единым сыт не будешь.
Или калека… Ну и что? Калеке уход нужен, забота… А если кто–то уже заботится о ней? Заботы и любви много не бывает.
Глеб верил в судьбу. То, что произошло, произошло с какой–то целью: для чего–то же я нарвался на этот Голос, и не нахожу его тоже не просто так! Мама говорит, это чтобы ты научился по земле ходить, но и про небо не забывал.
А что думает Маргарита?
— Добрый вечер, Маргарита, это Глеб.
— Добрый вечер, Глеб, я вас узнала.
— Я не отвлекаю вас? — спросил Глеб.
— Нет, — сказала Маргарита.
— Можно задать вам вопрос?
— Задавайте.
— Вы верите в судьбу? — спросил Глеб.
— Я верю в Бога, — сказала Маргарита, — в руках Которого все судьбы.
Они много говорили о том, для чего человек рождается, для чего живет и, когда умирает, что потом.
Глеб задумался еще серьезней. Он перестал накручивать диск телефона. Не то чтобы он решил оставить поиски… Просто Голос этот из навязчивой идеи, из зова плоти превратился в нечто недосягаемое и заповедное — как свет солнца, луч звезды… Как воздух, которым дышишь и который всегда с тобой.
Наступил декабрь. Пошел второй год с того вечера, когда Глеба угораздило ошибиться номером. Он подружился с Маргаритой, и не проходило недели, чтобы они не поговорили по телефону.
Глеб рассказывал ей о своей работе и даже поведал, что у него появился еще один подопечный ангел. Это была девочка шести лет, музыкально одаренная, которую вот–вот должны были забрать у отца — одиночки и пьяницы, матери у нее не было, родственников — никаких, и все, что ей светило, — это жуткий казенный дом–интернат. Глеб убивался по этому поводу и хотел удочерить девочку, но ему говорили, что затея глупая и безнадежная, ведь у него нет семьи. Он стал уговаривать своих родителей оформить опекунство на себя, и они сейчас в раздумьях.
— Откуда это в вас, молодой человек? — сказала Маргарита.
А Глеб рассказал, как в детстве, когда ему было лет шесть–восемь, он любил собирать у себя малышню и играть с ними — сначала в детские игры, потом в школу. Он помнит, что самую большую радость доставляла ему возможность заботиться о ком–то, кто слабее его.
И про первую несчастную любовь рассказал.
— Мама с папой не удосужились родить кого–нибудь после меня, вот я и вымещал свой потенциал старшего брата на соседских детях… А потом на женщине, которая девятью годами была старше меня.
Глеб все больше узнавал о Боге, в Которого верила Маргарита. Он купил себе Библию и углубился в нее с усердием прилежного ученика. Он задавал Маргарите вопросы, а она терпеливо отвечала ему.
Глеба приятно удивляло то, что его идеалы, казавшиеся окружающим если не дурью, так блажью, воплощались в Божьи заповеди. И то, во что он верил в глубине души, оказывалось более всего угодным Богу.
Однажды Маргарита сказала:
— Завтра Рождество, и я хочу пригласить вас к себе в гости. Мы знакомы уже полгода, а еще не виделись. Что вы об этом думаете?
— Я польщен… И смущен.
— Я слышу, — засмеялась она. — Вы готовы записать мой адрес?
Глеб не помнит, когда он так волновался в последний раз.
Дверь открыла высокая крупная женщина, своей осанкой похожая на певицу — примерно такой ее и представлял себе Глеб.
Он протянул Маргарите большую коробку конфет и сказал:
— Я еще не умею отмечать Рождество и не знаю, с чем нужно приходить…
Маргарита улыбнулась:
— Главное — это открытое сердце. — И добавила: — Вы не обидитесь, что я вас не предупредила… мы будем не одни.
Она провела Глеба в комнату.
На диване сидела молодая женщина с большими голубыми глазами. Ее ноги от самого пояса были укутаны пушистым клетчатым пледом.
— Это Глеб, — представила его Маргарита. — А это моя дочь, Анна.
— Очень приятно, — сказал Глеб.
— Очень приятно, — ответил Голос.
ЛИЛОВАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
1
Я села к нему почти сразу.
На это «почти» не потребовалось и пары секунд: рядом остановилась темная иномарка, дверь раскрылась, я услышала «садитесь» и шагнула к двери. Возможно, я все же успела заметить, что за рулем приятный мужчина. А может, я выдумываю — ведь стекло заливало водой, дворники метались из стороны в сторону, как очумевшие, но все равно не справлялись. И темень непроглядная.
Шансов раздумывать над предложением у меня не было. Я села в машину.
— Я вам все здесь затоплю.
С меня лило, не хуже, чем из первоисточника.
Жалкий пластиковый пакет, которым я прикрыла голову, только и спас макушку да косметику на лице.
Он достал из бардачка пачку бумажных платков.
— Спасибо, у меня есть.
Я полезла в сумку. Но вместо платков я наткнулась… разумеется, на зонт. Он благополучно лежал на самом дне. Я застыла, не зная, что делать — признаться в собственной рассеянности или проигнорировать находку.
Благодетель уловил мое замешательство. Пока я рылась в недрах торбы, которой очень подошел бы слоган «все свое ношу с собой», он распечатал–таки пачку и расправил для меня пару мягких очаровательных бумажек бледно–сиреневого цвета с лиловыми морскими звездами по углам и розовым рапаном посередине. Одной рукой я приняла предложение и промокнула щеки и подбородок, а другой — отвечая на его немой вопрос — продемонстрировала мой любимый, такой маленький и незаметный, клетчатый зонтик.
Я засмеялась, он улыбнулся.
Зонт я кинула назад, в темные глубины баула, тут же радостно и бесследно поглотившие его, и принялась приводить себя в порядок.
Водитель снова проявил предусмотрительность и откинул козырек с зеркалом с моей стороны. С макияжем все было в порядке, волосы распушились и закурчавились от влаги, глаза блестели — то ли от… Не важно отчего. Блестели, и все тут.
Я повернулась к нему:
— Я готова.
Он улыбнулся, чуть задержал на моем лице взгляд, погасил лампочку у нас над головами, и мы тронулись.
До города было километров пятнадцать, и можно было пока не обсуждать тему направления движения.
В душе плескалось и громоздилось… куча не пойми чего. Похоже на свежеприготовленный пунш: легкий градус и привкус неведомых плодов — чуть туманит сознание и возбуждает аппетит.
Я заметила, что звучит музыка — звук, видно, уменьшили, когда приглашали меня сесть, но старые добрые Uriah Неер своей ошеломительной Sympathy прорывали любые заслоны.
— Можно?.. — Я потянулась рукой к регулятору, но не могла сразу сообразить, на что же нажимать: на панели было множество кнопок и горело множество красных и голубых циферок и символов.
— Громче? — спросил мужчина.
— Если можно…
Он сделал громче.
— Еще?
— Ну, если вы не…
— Я не против. — Он улыбнулся и сделал совсем громко.
Вот это был звук! Теперь уже не внутри меня — а я сама плескалась в вибрирующих упругих волнах, меня подбрасывало и переворачивало и уносило куда–то за пределы материального мира.
Закончили Uriah Неер, мужчина потянулся к кнопкам — вероятно, чтобы убавить звук. Но тут же вступили Credence, не менее темпераментно: «I put a spell on you–u–u-u!..»
— Ой! — сказала я, пытаясь перехватить его руку, и тут же осеклась и рассмеялась. — Простите.
— За что?
— Ну… это, наверно, нескромно с моей стороны…
Конечно, я вела себя неподобающе и возрасту — мне не двадцать уже, — и обстановке — ну, выручили, выдернули из–под дождя, так сиди тихонько–скромненько. А причиной моего возбуждения было приподнятое настроение, которое не смог испортить даже внезапно рухнувший на меня вечерний ливень, грозивший смыть с лица тщательно выверенный макияж «для особых жизненных ситуаций» — как говорится в толстых журналах для бездельниц — и вообще превратить меня из расфуфыренной дамы средних лет в общипанную пожилую курицу, что было бы ну совершенно некстати, ведь направлялась я…
— Куда вас доставить?
— До первого на вашем маршруте метро…
— А если точнее?
Я назвала улицу, но она была длиннющей, и одно ее название ни о чем не говорило. Разумеется, он спросил номер дома. Я сказала. И тут же добавила, что не стоит беспокоиться, я прекрасно доберусь до места пешком, мол, зонт–то нашелся… — рефлексивная дань хорошим манерам, которые я сама же и попрала с самого начала…
— Вы опаздываете?
— Нет… А что, похоже на то?
Ну зачем вот эти всякие добавочки?! Спросили — ответила, сиди дальше!
— М–м–м… Да нет, не похоже. — Он повернулся ко мне и снова улыбнулся, чего не следовало бы делать под таким ливнем… В смысле — поворачиваться. А улыбаться… хм… улыбка у него очень милая.
— Вы не возражаете, если мы на заправку заедем, я последний раз заправлялся в… — И он произнес название города, до которого почти пятьсот километров!..
— Конечно, не возражаю, — сказала благовоспитанно я. И тут же перечеркнула начавшие было проклевываться хорошие манеры: — Из командировки?
— Нет, — коротко ответил он. И добавил, вероятно, для вежливости: — Дела. — И чтобы быть совсем уж лордом: — Личные.
— А-а… — сказала я, не раскрывая рта. Получилось какое–то «кху–гх–м-м».
Мы повернули по указателю к заправке, и впереди замаячило ярко–желто–синее неоновое зарево, которое тут же безжалостно, но вполне живописно размазалось дворниками по стеклу. Через полминуты зарево приобрело более конкретные очертания, и мы въехали под навес.
Мой лорд вышел.
Хлопок двери — очень тихий такой «чпок» — обдал меня влажной волной, перемешанной с весьма серьезным, освеженным этой влажной волной парфюмом.
Приятный мужчина. И дорогой… м-да… машинка–то не хухры–мухры… Назвала бы марку, да рекламу за так делать не хочется. Не «порш», конечно… но если проиндексировать с учетом наших дорог, то — почти. М–м–м… молодой — лет до тридцати пяти. Стало быть, игривое настроение за кокетство не примет — я ему в мамы гожусь, моей собственной малышке уже тридцать два… Не хотелось бы, правда, думать о своем возрасте… но что поделаешь! К тому же период перехода и адаптации в новую… не так возрастную, как внешностную категорию я уже пережила пару лет тому.
Ну, меня и разбирает, право, сегодня! До встречи еще часа полтора…
А вот и мы. Ох, хороши… Не красавчики какие смазливые… Хм! Да… Елки–палки, как хороши!..
Нет, женщины на таких не вешаются. Напротив даже: те женщины, которые вешаются на мужчин, таких если не избегают, то просто не замечают. С такими нелегко — с ними по верхушкам не попрыгаешь. Такие мужчины для меня.
Глаза глубокие. И лет–то побольше, чем мне поначалу показалось! М-да!..
— Что вы сказали?.. О да, с удовольствием! — Он предложил по чашечке кофе в постель… кхм, в машину.
Отогнал нашу темно–лилово–металликовую крепость — теперь я рассмотрела ее цвет — к месту стоянки и вышел снова.
Я воспользовалась случаем и заглянула в зеркало. Все в порядке… насколько это возможно в мои преклонные лета… И все тот же блеск в глазах.
Развернемся–ка лордам навстречу… вот так… плащом животик ненавязчиво задрапируем… волосы на ближнее к нему плечо перекинем… Моими духами пахнуло… тоже, между прочим, не хухры…
А вот и кофе! И дивная конфетка в хрустящем целлофане — круглая и белая, как маленький снежок… Тоже не для рекламы, но все догадались.
Кофе весьма недурен для придорожного кафе. Даже не в разовом пластике, а в фарфоровых чашечках. Как положено.
Выпили молча. Под шум дождя.
Мне стало окончательно ясно, что мужчина, спасший меня от разверзшихся хлябей, во–первых — слегка утомлен и весьма удручен, во–вторых — гораздо старше, чем мне показалось, но все же явно моложе меня и в-третьих — довольно приятен в манерах и вполне интеллектуален, а вовсе не примитивно крут, чего вполне хватило бы для такой оснастки…
Как я все это поняла, если мы провели пять минут в полном молчании? Разрешаю отгадать с трех раз!
Он отнес чашки и вернулся с запахом сигарет — видно, покурил по пути. Тоже приятный штрих — меня смущают некурящие мужчины. И я бы, впрочем, закурила, но мне не предложили. Ладно, не умру…
Тихо мурлыкнул, заводясь, мотор, и прервавшаяся музыка зазвучала снова. Теперь это были темно–лиловые, как мы их когда–то звали, в слегка измененном, против начального, составе — с новым умопомрачительным вокалом… да, точно, альбом семьдесят пятого года.
— Что это за волна? — спросила я.
— Это диск. Сборный.
— Довольно длинный.
— Эм пэ три. На семь с половиной часов.
— А–а–а… И все семь с половиной — вот такой замечательный коктейль?.. И вам нравится?
Он сказал с улыбкой:
— На оба вопроса ответ — да.
— По–моему, вы слишком молоды, чтобы любить подобную музыку.
Ну вот, началось… А ведь я не собиралась…
— Хотите сказать, что вы старше меня?
Хмм… Достойный лорда ответ.
— А вы хотите сказать, что моложе?
Это уже водевилем отдает, дамочка…
Мой собеседник оказался умнее:
— Какая разница, кому сколько лет. — И коротко глянул на меня. — Правда?
— Правда, — сказала я и как–то подуспокоилась.
Не время сейчас для флирта — не то настроение у моего спутника. Да и я не в том возрасте… Ну ладно, ладно! Ладно… Просто, скажем так, не те обстоятельства у меня сейчас.
Поехали.
В стекло били неутихающие потоки весеннего ливня. Мы молчали. Звучала музыка — аккомпанемент, иллюстрация, свидетель всей моей юности… Да что там юности!.. я по сей день с этой музыкой.
Забавные порой бывают в жизни совпадения! Только я подумала о том, как похожа наша нынешняя ситуация на кадры из лелюшевского фильма, как Пьер Барух затянул ту самую самбу… ну, под которую, типа, про Бразилию своей жене, Анук Эмме, рассказывал.
Но это, оказалось, еще не все…
Мой сосед по подводной лодке усмехнулся:
— Я как раз вспомнил этот фильм.
Я засмеялась:
— Не поверите! Я тоже.
— Поверю. Что ж тут мудреного! Случайные попутчики… Мужчина и женщина… под дождем в автомобиле.
И вдруг в нашей лиловой громадине стало совсем тесно. Как в том, приплюснутом, спортивном автомобильчике… совсем как в белом мустанге…
Нет, мне это совсем ни к чему! Ни сейчас, ни вообще.
Но почему?.. Что значит — ни к чему?..
А Джаггер уже шепчет на ухо чужой жене: «Angie… Angie…»
Я ж под это в своего мужа влюблялась на четвертом курсе… И у Ирки на дне рождения под нее мы поцеловались впервые… На кухне… Весной.
Потом было лето и July Morning — мы все дурели тогда от Uriah Неер… И нашу малышку под них зачали… Может, потому и хороша так — и формой, и содержанием… и так гармонична… Наверно, в этом что–то есть… Как ты там, моя маленькая?.. Давно не виделись… Будь счастлива! Ну, хотя бы как я — это уже не плохо. И муж пусть тебя любит, как твой папа меня любил.
— Вы Мураками читали?
В первый момент вопрос спутника меня удивил, честно говоря. Но тут же я поняла ход его мысли, его ассоциации.
— Вы о Рю или о Харуки?
— О Харуки.
— Харуки читала. — Я засмеялась. — Полагаю, вы тоже, иначе не спросили бы… Как он вам?
— Забрал.
— И меня забрал.
У меня тут же мурашки по коже пошли. И ком к горлу подкатил — такая вот реакция на немудреную прозу этого такого неяпонского японца.
Я повернулась к моему капитану. Правда, очень усталое лицо. Понятно — за рулем как минимум пятьсот километров… А то и больше.
Он тоже глянул на меня.
Глаза хорошие. Если подобной музыкой и литературой увлекается — ничего удивительного. И при этом — бизнесмен?.. Интересно, в какой области? А может, ученый?.. Или писатель?
Опасное это место — автомобиль! Да еще под дождем. Опасней, чем купе на двоих в поезде дальнего следования. Не зря меня муж научил и в такси, и в попутку садиться только сзади. Знал, о чем беспокоился! Даже после того, как все кончилось, после развода, помню, если приходилось с ним ехать куда, я только сзади к нему в машину и садилась. Пару раз вначале села на свое обычное место, сразу поняла — не стоит, опасно… главного назад не вернешь, а так, длить агонию — зачем?..
Мы въехали в город. Дождя уже не было. Город сиял пронзительными, словно с нашатырным спиртом отмытыми огнями.
— Остановите у метро, пожалуйста, это как раз моя линия.
— Вы не рассердитесь, если я все же до места вас довезу?
— Мне неудобно…
Он промолчал.
Ну конечно, я бы разочаровалась, высади он меня у метро…
— Вот сюда. Спасибо.
Он заглушил мотор.
Мне не хотелось с ним расставаться.
Да! Мне не хотелось никуда идти! Даже на эту долгожданную, многообещающую и волнующую встречу!
— Спасибо вам. Большое.
— И вам спасибо.
Я засмеялась:
— Мне–то за что?
— За приятную компанию.
— Мне тоже было очень приятно. Правда, — сказала я и смутилась чуть не до слез. — Спасибо.
Но открыть дверь и выйти я не могла.
Почему он не предлагает встретиться? Может, самой это сделать? Я ведь всегда так и поступала — все первые шаги исходили от меня. А тут — ступор. И он молчит.
Ну и ладно! Как хочешь! Я потянулась к ручке двери:
— Всего вам доброго. Вам стоит отдохнуть, вы очень устали.
— Вы правы. Я так и сделаю.
— Спасибо еще раз.
— Не стоит.
— До свидания.
— До свидания.
Я вышла.
Клак — чпок!.. До чего же мягко… даже нежно все работает в дорогих машинах!..
Он не окликнул.
Я вошла в арку. Тишина за спиной.
Я выждала и выглянула на улицу. Он сидел, откинувшись на спинку кресла.
Мне захотелось броситься назад. К нему.
Но я вошла в подъезд.
* * *
У Ирки дым коромыслом. Да, у той самой Ирки — моей подруги с яслей, одноклассницы, однокашницы и коллеги. Ей сегодня пятьдесят пять.
Мне велено было прийти за полчаса до назначенного гостям времени, во всей красе, в подготовке не участвовать, чтобы внешность не попортить. Дядька ее овдовевший, видите ли, на меня глаз положил… не помню уже где, но недавно совсем — заинтересовался. Впрочем, меня–то он знает давно, лет десять — как из Приморья сюда переехал, — у Ирки и виделись несколько раз. Но мы при мужьях–женах обретались до недавнего времени да под крышей ближайших друзей–родственников собирались, так что, считай, бесполыми были… Категория возрастная хоть и одна, да по статусу мы не ровня, в разных социумных нишах, как теперь говорят, тусовались. Он — полковник каких–то там войск, нынче при штабе служит… А, вспомнила — пограничник. Молодой парень, на два года всего старше нас — пятьдесят семь минуло. Бравый такой, спортсмен — легкой атлетикой занимался, разряды какие–то имеет. Аккуратен и приятен внешне. И не дурак. Здоровый образ жизни: зарядка, природа, витамины. Только вот к военным у меня… как–то душа не лежит. Не знаю даже почему, объяснения нет. И к некурящим. И к зарядке утренней с витаминами тоже…
Сказать, что я сильно замуж рвусь, не могу. Так, для поддержания тонуса разве… А может, что и получится. Старость коротать вдвоем все же веселей. И материальная сторона — увы, не последнее дело.
Господи!.. Да о чем это я?! Старость! Какая старость?! Я и старость — понятия несовместимые! По крайней мере в ближайшие пятьдесят лет. Материальная сторона… ой, меня сейчас вырвет!..
Ладно. Успокоились! Просто проверим свои женские способности. Я после развода себе еще ни разу не позволила, между прочим… А уже два года прошло. Ну, не то чтобы я мораль блюду — чепуха все это! — просто никто меня пока не раскочегарил до такой степени, чтобы…
Как не раскочегарил?.. А сегодняшний спаситель? Кстати, как он там — бедный, усталый?.. Какой же приятный мужчина! Фу, пошло прозвучало… Лучше так: вот это мужчина! Я бы в него влюбилась! Просто очертя голову!.. А может, уже влюбилась?.. Неужели не встретимся больше? Жаль… Город большой… Да и отсюда ли он вообще? Может, проездом? Если судьба — встретимся, я знаю! Даже на другом конце земли — если судьба. А если нет?.. Тогда и жалеть нечего! А ведь жаль… Ой, как жаль. Просто хоть плачь…
И я заплакала. Бо–оже мой — как же я разревелась!..
Ирка потащила меня в ванную.
— С ума сошла?! Что с тобой? Посмотри на себя! Пришла — ягодка, а не баба! И — на те! Сейчас нос распухнет! Да что с тобой? Родная моя… Ну что с тобой? Волнуешься, что ли? Да он у тебя в кармане! Он мне говорил. Даже невзирая на красный нос!
— У–у–у… Так и сказал, что ли?.. У–у–у… — выла я.
— Так и сказал… Ну все! Хорош! Разошлась невеста! Быстро — холодную маску… сейчас лед принесу… Вон, уже народ повалил… Красься сейчас же! Я пошла гостей встречать.
Я привела себя кое–как в порядок. Только глянула в последний раз в зеркало, снова как разревусь…
Влетела Ирка. Увидела новые потеки свежей краски под глазами.
— Тебя по щекам отхлестать? Чтоб в себя пришла?.. Ну, Симонушка, ну что с тобой?
— Я влюбилась…
— Боже мой! Когда ты успела?
— Час назад.
— Господи! В кого?!
— Не знаю… — И я снова заревела.
Ирка не стала церемониться, наклонила меня над раковиной и принялась смывать второй вариант боевой раскраски для особых жизненных ситуаций. Промокнула мне лицо ледяным полотенцем и вышла. Через минуту она принесла стопку коньяку и заставила выпить.
Меня, естественно, посадили рядом с Ростиславом Евгеньевичем. Он, естественно, вел себя как уже вошедший в права владения. Деликатно, конечно, но вполне конкретно.
Иркина мама, Мирослава Евгеньевна, поглядывала на нас тоже совершенно конкретно — с тихой умильной радостью. Ее младший братик — любимец и гордость их большой славной семьи. Славной во всех отношениях: славный некогда папа, Иркин дедушка, Евгений Ростиславович, ученый–филолог, славный дедушка–прадедушка, капитан парусного судна еще при царе — плюс пятеро славных детей: Мирослава, Болеслав, Владислава, Ярослав и Ростислав — и ни одного слесаря! Или товароведа овощного магазина, на худой конец.
Чем ее радовала такая партия для братика, как я? Ума не приложу!
Первые тосты отгремели залпами шампанского и отзвенели хрусталем. Массовики–затейники с нашей кафедры, руководящие юбилейным процессом, объявили перерыв. Я рванула на кухню — покурить и отдохнуть от тотальной опеки.
Ирка, конечно — за мной.
— Ну что — прошло?
— Не-а. Только началось.
— Что ж теперь Ростиславику, наизнанку выворачиваться?
— Не стоит. Я попробую… — И осеклась. — Господи!
Ирка проследила за моим взглядом:
— Что?.. Что еще?!
В другом конце двора, напротив Иркиного окна, стояла наша лиловая подводная лодка со спящим в ней капитаном дальнего… очень дальнего плавания.
— Я сейчас. — И я бросилась прочь из квартиры.
Он и вправду спал — откинул свое кресло и спал. Галстук ослаблен, верхние пуговицы сорочки расстегнуты, руки на груди скрещены, дышит глубоко и ровно…
Я не хотела его будить. Но на улице было еще не слишком тепло, а я выскочила, как была — в своем вечернем наряде и на шпильках.
Я обошла машину и тихонько попробовала дверь.
Клак! — открыто.
Какая халатная беспечность!.. Какая милая оплошность!..
Он не слышит. Так устал! А если бы это была не я, а злоумышленник?..
Услышал.
— Простите! Я не хотела вас тревожить. Я… я замерзла.
Он недоуменно посмотрел на меня. Потом улыбнулся. Поднял спинку кресла. Глянул на часы.
— Почти два часа проспал.
— Вы все время здесь?..
— Мне некуда ехать… Пока, во всяком случае.
— Поехали ко мне! — Я не успела даже обдумать приличность такого предложения.
— А мы разве не у вас?
— Нет. — Я засмеялась. — Мы у моей подруги. У нее юбилей… Ой! — опомнилась я. — Вы, наверно, голодный… А от меня, наверно, шампанским… Ну не будете же вы ночевать в машине! У меня трехкомнатная совершенно пустая квартира. Я вас покормлю. Не возражайте! — Впрочем, он не очень спешил это делать. — Я сейчас!
Я влетела к Ирке. Затейники уже рассаживали народ на второй присест.
— Ир! На минутку! — Мы зашли на кухню. — Прости меня. Я тебе все–все!.. Потом!.. Ну, ты же моя родная, единоутробная подруга! Ты женщина, наконец! Ты не можешь меня не понять!.. Он меня спас, между прочим! Я не могу его бросить! Сюда тоже не могу привести — ты же понимаешь…
Но Ирка уже собирала мне пакет с едой:
— Водку? Коньяк? Шампанское?..
— Моя ты драгоценная! — Я едва не плакала от распиравших меня чувств. — Я тебе все–все потом расскажу… Прости.
* * *
— Раздевайтесь. Проходите. Я на кухню. Хотите в душ? Или ванну примите… Вот только мужского у меня в доме ничего нет, чтоб вам переодеться.
— У меня все с собой. — Он потряс объемной сумкой — дивной сумкой из натуральной кожи, моей мечтой, можно сказать, я к такой уже лет десять приглядываюсь, да за ценой все никак не угонюсь…
— Вот здесь располагайтесь. — Я провела его в дочкину комнату. — Шкаф почти пустой… располагайтесь.
Я накрыла стол в гостиной, приготовила своему постояльцу постель, а он все не выходил. Заснул? Послушала — нет, плещется.
Появился — свежевыбритый и благоухающий, в джинсах и джемпере — по–домашнему.
— Ничего, что я в таком виде? Устал от костюма…
— Просто замечательно! Ничего, что я так?.. Не успела от вечернего наряда устать. Да… не пора ли нам?.. — Я протянула руку. — Симона.
Он улыбнулся:
— Очень приятно. Олег.
Мы ели какое–то время молча. Впрочем, я не была голодна. А гость мой, похоже, желудок свой заправлял еще раньше и дальше, чем бензобак.
Выпили шампанского за мою подругу. Потом — за дождь. Потом я сварила кофе — после того как Олег меня убедил, что спать он не хочет, а захочет, так никакой кофе ему не помешает.
Но спать мы не захотели еще очень долго. Мы проговорили часов до четырех. А когда все же разошлись, я не смогла уснуть. Я лежала, глядя в потолок, и почти беспрестанно плакала. Подушка промокала, я переворачивала ее, потом брала другую…
Отключилась я, когда на соседнем перекрестке стали погромыхивать трамваи и солнце уже ползло по крышам.
Я проснулась тем не менее первой. А может, Олег не выходил, пока меня не услышал?..
Было около десяти. Мы завтракали на кухне.
— У вас есть сегодня дела? — спросил Олег.
— Встреч никаких. А дела мои… они всегда со мной. Но ничего срочного. Можете…
— То есть вы будете дома?
— Могу быть, могу не быть. Лучше скажите, если вам что–то нужно. Я к вашим услугам.
— Да нет, помощи мне не требуется. Мне нужно заняться разведкой и кое–какими формальностями, от этого будут зависеть мои дальнейшие планы. Вы не против, если я до вечера оставлю у вас свои вещи?
— Ну конечно! О чем вы!.. А что вечером?
— Если все пойдет удачно, будет где остановиться… или сниму гостиницу.
— А если не удачно?
— Не знаю. — Он опустил глаза. — Возможно, буду проситься к вам еще на одну ночь.
— Вам о-очень долго придется проситься! — Я сказала это таким тоном, что он вопросительно и почти испуганно вскинул на меня взгляд. — Потому что вы меня обидели, — добавила я, глядя на него.
Он понял, в чем дело, и улыбнулся:
— Простите.
— Прощаю. Езжайте. До вечера.
Я дала ему свои телефоны, взяла его номер и сказала, что, как максимум, могу отлучиться к Ирке, но не надолго, и чтобы он звонил немедленно, как только будет знать исход сегодняшнего мероприятия.
— Ну, и просто так звоните. Я переживаю за вас.
— Спасибо. Обязательно. — И ушел.
Я проводила машину взглядом из окна его… то есть дочкиной, спальни и пошла в свою, плакать дальше.
Позвонила Ирка. Я рассказала ей все по телефону: приехать она не могла — вот–вот ближний круг на обед соберется. А я сама туда ехать не хотела. Я ничего не хотела. Я никого не хотела видеть. Кроме.
— Ну и что ты ревешь?
— Не знаю, Ирка! Как начала у тебя, так остановиться не могу.
— Плохой это признак, дорогая. Аналогичный случай был в Тамбове… Помнишь мою давнюю любовь?
— Помню, ты рассказывала, я тогда понять не могла… А сейчас вот сама… Прямо извержение…
— Ну что делать?.. Поплачь… Я с тобой. Я люблю тебя. Сказать тебе «брось» не могу. Сердцу не прикажешь. А вдруг радостью обернется?
— А вдруг…
— Так или иначе, теперь только вперед. И глупостей не делать. Так?
— Так. Хотя… когда же еще глупости делать, если не сейчас? Нельзя ж совсем без них жизнь прожить…
— Ростиславик расстроился. Соврать пришлось.
— Ой, как мне это сейчас до лампочки!
— Ой, как я тебя понимаю! Если б ты клюнула на него… ну, прости, я бы тебя не поняла… честно! Ты б меня разочаровала…
— Ах ты, паршивка!.. Что ж ты меня тогда сватала?!
— Да не я, говорю ж тебе, мамуля моя.
— Наташку надо ему мою подсунуть, ну, старую деву, ты знаешь. Вот парочка будет: утренние пробежки, жевание сырого овса…
— Аутотренинг, — подхватила Ирка, — релакс, отвары трав на ночь…
— Очистительные клизмы…
Мы повеселились по этому поводу, и я слегка отошла.
— Спасибо тебе, Ир. Прости меня.
— Все хорошо. Целую. Пока.
— Пока. Целую.
И мне вдруг окончательно полегчало. Акуна матата! Так или иначе.
* * *
Когда он сказал: «Я беден как церковная мышь», я засмеялась и сказала, что, наверное, это какая–нибудь ватиканская церковь.
Он тоже засмеялся и сказал, что у этой мыши даже церкви теперь нет, только и осталось — машина, то, что на ней, мыши… на нем то есть, надето, да крошки в карманах: пластиковая карточка с мелочью сотен в шесть–восемь и если удастся какой–то счет спасти, так еще несколько тысяч евро.
Ничего себе мелочь, подумала я скоропалительно, но потом поняла: у кого жемчуг мелкий, а у кого щи пустые… Все закономерно.
Нет, с такими глазами в бизнес забираться противопоказано. Хотя… там ведь в основном жена бывшая всем заправляла да ее семейство. А он — интеллигент, на своей репутации все дело держал. Доверчивый до глупости — вот и обвели его вокруг пальца. Еще неизвестно, сама ли жена с собой покончила… Это он с похорон едет.
Но я‑то у Ирки ревела — еще знать ничего не знала! Да и ночью и сейчас не над его же тяжкой судьбиной убиваюсь.
А что тогда? Не знаю… не знаю. Просто душу тянет… ну просто клещами и тисками… Может, правда, сердце безнадегу чует? Как у Ирки тогда — так ничем и закончилось, только крови со слезами пролила море. А ведь вначале все прекрасно было — просто сказка! Ну ни дать ни взять — плохое кино! А она ревет, дуреха. Сначала мы думали — от счастья. Потом поняли — от счастья не плачут месяц и другой. И точно: полгода — и конец. Как чуяла. А может, наоборот — наплакала–накликала?.. Мысль–то материальна!..
Тогда — хватит! Только позитив в сознании!
Кстати, скоро пять, Олег может вот–вот вернуться. А ну–ка — в ванную!
Его бритва, одеколон, щетка зубная… Все дорогое, добротное. Рубашка… пахнет приятно… Полотенце даже с собой взял… пушистое, тоже пахнет приятно. Он им вытирался…
Стоп! Спокойно. Не впадайте, женщина, в преждевременный экстаз… И плакать не надо! Ну что это такое?! Может, климакс близится?..
Запиликал мобильный. Высветилось: ОЛЕГ.
— Да, Олег, слушаю вас.
Он сказал, что все хорошо, что будет в течение получаса.
Я сказала: жду с нетерпением.
На душе расцвели подснежники. Это сразу же отразилось на лице.
Вот и хорошо, так держать!
* * *
Он пришел с полными пакетами всякой всячины.
Я вопросительно посмотрела на него.
— Отпразднуем маленькую удачу.
— По–моему, вы всю свою маленькую удачу вот сюда… — я показала на пакеты, — вот сюда и спустили.
Он усмехнулся, а я добавила:
— Хотя, вероятно, у нас с вами масштабы разные.
Этот вечер не был похож на вчерашний. Мой гость был оживлен и, если бы не его сдержанные манеры, можно было бы сказать — игрив. Он не стал рассказывать, что за удача ему улыбнулась. Сказал только, что это еще не все, что забрезжила другая надежда. Но кроме этого, появилось и нечто более важное: осознание суетности, неполноценности и ограниченности его существования… Одним словом, его наивысшее представление о себе и своей жизни никак не вяжется с нынешним реалиями.
Не так давно мы с Иркой, всю жизнь задумывавшиеся над такой тривиальной, но неразрешимой темой, как смысл существования конкретной личности и человечества в целом, начали подбираться к ответам на свои вопросы. Если до недавних пор в нашем распоряжении были только философские труды идеологов материализма, потом — Библия и ее толкования религиозными идеологами, то сейчас открылись несметные богатства «независимой» духовной литературы, которую мы то рвали друг у друга из рук, то зачитывали одна другой целыми страницами по телефону. Так что его размышления мне очень хорошо знакомы…
Он рассказал… нет, это слишком громко сказано — несколькими короткими фразами он дал мне понять, что на протяжении вчерашнего дня, проведенного за рулем, он переосмыслил всю свою сознательную жизнь: и дело, которым занимался последние десять лет, и отношения с женой и дочерью, и даже с самим собой. Подозреваю, что, если бы он был чуть разговорчивей, я могла бы узнать много любопытного. Не про его личную жизнь конечно же! — а про его личные поиски и открытия. Но с большей непосредственностью он говорил на общие темы, нежели о себе.
Мы вновь завелись — как на музыке. Это была та же перекличка: словно паролями, мы перебрасывались именами, терминами, понятиями. И здесь у нас был один общий знаменатель.
Все с большим интересом мы всматривались друг в друга. Все чаще замолкали, и все теснее становилось в комнате…
Я поднялась под предлогом убрать со стола, предложив гостю покурить, если у него есть желание, — и вышла на кухню.
Олег пришел за мной почти тут же. Я стояла у раковины и мыла виноград. Он встал рядом, прислонившись к дверному косяку. Я закончила свое дело и сложила фрукты в миску. Спрашивать его, не нужно ли ему чего, зачем он пришел и так далее, было бы абсолютно глупо. Мы оба прекрасно понимали все — и почему вышла я, и почему он последовал за мной. Я просто стояла у раковины, повернувшись лицом к нему и глядя на полотенце, которым тщательно вытирала и без того уже осушенные руки.
Он сделал шаг ко мне, забрал и положил на стол полотенце. Потом едва коснулся рукой моей щеки.
— Если я не то делаю, остановите меня, — тихо сказал он.
Я подняла лицо и положила ладонь ему на грудь.
— Давайте на ты?
— Давайте, — сказал он.
* * *
Я говорила, что живу без мужчины почти два года?.. Говорила. Не сказала только, что это весьма нелегко для женщины моего склада. С одной стороны — я не ханжа, и секс всегда был моим любимым занятием, с другой — секс без любви или, как минимум, без близких дружеских отношений для меня абсолютно невозможен. В этом смысле я совершенно не вписываюсь в стандарты, бытующие на страницах глянцевых журналов для шалуний и баловниц, кишащих разнообразными советами женщинам. И одиноким, в частности.
Моя замужняя жизнь сопровождалась гармоничными физиологическими отношениями, и три мои измены — одна по жуткой влюбленности, другая по случайности, а третья из любопытства — только укрепили привязанность к мужу и убедили меня в собственной моногамности и в непреложной необходимости супружеской верности лично для меня.
Расставшись с мужем, я попыталась восстановить отношения с мужчиной, с которым мы были близки какое–то время… С тем, с которым из любопытства. Мы были коллегами несколько лет, у нас было множество общих интересов и… как бы это сказать… одна волна, что ли, — мы общались порой без слов. Однажды нас занесло. Это было восхитительно — в постели мы тоже оказались на одной частоте. А главное, не было тоски при расставании и изнывания при ожидании встреч. Просто — тихий праздник жизни, который всегда с тобой. Потом он уехал на несколько лет. Потом вернулся, но работали мы уже в разных местах.
Когда я осталась одна, я долго раздумывала, прежде чем позвонить ему. Подвернулся повод — его день рождения, который рядом с моим, на день раньше. Я позвонила, поздравила. На следующий день мы встретились, поужинали в ресторане — это было его поздравление мне. И я поняла, что дважды в одну реку… не возвращайтесь к былым возлюбленным… — ну и так далее. Он был уже не тот. Мы были уже не те. Он предложил вспомнить старое, но у меня ничего не дрогнуло внутри — а без этого я не могу. Я чем–то отговорилась тогда, а потом все забылось. Мы по–прежнему звоним друг другу в Новый год и дни рождения. Между нами все та же теплота и абсолютное понимание. Но больше мы не виделись — вскоре после нашей последней встречи он уехал очень далеко и навсегда.
Если с учетом моего столь долгого одиночества разделить произошедшее на двадцать восемь, то все равно — это было здорово!
В самом начале я по оплошности — ну да, потеряла навык, вот и крыша съехала! — опередила его на полшага. Он тут же, без сопротивления уступил мне инициативу. Похоже, он остался не просто доволен, а еще и приятно удивлен. Скажу без ложной скромности, я умею доставить наслаждение мужчине — такое же, как себе, а может, и большее — я в любовных отношениях без комплексов.
Потом мы говорили, говорили… И Олег стал другим.
Да, я всегда знала: постельное общение — если двое увлечены обоюдно и отдаются друг другу на равных — ни с чем… почти ни с чем не сравнить… Ну разве что с Богом вот так же, без деления на ты и Он… всем существом… всеми семью существами… или сколько там их у нас…
Потом капитаном был он. И тоже меня удивил: откуда… ну откуда он знает, что мне так, а что не так?.. Хотя вопрос, конечно, риторический.
А потом, разумеется, я снова плакала, не объясняя причины. Тем более что я ее и не знала. Мой деликатный мужчина истолковал это, видимо, как–то по–своему и ни о чем не спрашивал. Только гладил меня по волосам и целовал в висок.
* * *
В субботу у меня в час занятия — одна пара. Олег предложил отвезти меня в институт, а потом забрать.
Мы ехали по солнечному городу. Я смотрела на него всю недлинную дорогу. Он изредка поворачивался ко мне и улыбался.
Меньше двух суток прошло с того темного дождливого вечера, а мир изменился так резко: теперь вот солнце и день. И мы совсем другие. Правда, мне по–прежнему пятьдесят пять, а ему — сорок четыре. Но это уже не важно.
Ирка была на кафедре — у нее тоже в час пара.
— Все ясно, дорогая, — сказала она, глянув на меня, и обняла.
— Правда? — спросила я и смутилась.
— Как божий день… Все еще плачешь?
— Иногда.
— Ну, это уже обнадеживает.
У нас не было больше времени, и мы договорились на днях повидаться.
После занятий нас встречали: меня Олег на… ну, на своей машине, Ирку — муж на «Жигулях». Но это так, ни к чему…
Вышли вместе. Я подошла к ее Ваське, мы чмокнули друг друга в щечку и обменялись парой дежурных фраз. Мы с ним были своими до безобразия и знали друг о друге все и даже больше. За тридцать–то пять лет!.. Ирка два раза пыталась уйти от него. В первый раз дети были неподходяще маленькими — восемь и три — подумала она, подумала да и осталась. А во второй, семь лет назад, уже и ушла было, да сперва матушка ее к благоразумию призывала: ну как же, не подобает их славным семьям распадаться по иной причине, кроме кончины!.. — а потом уже и уходить не к кому было… Это та самая ее кроваво–слезная любовь была. А Васька… Васька хороший парень, но пресный до исступления — как Ростиславик.
Я сделала обоим ручкой и пошла к своему лайнеру цвета лилового жемчуга.
Мне навстречу, перекрывая свет весеннего солнца, сияли темно–серые глаза и едва заметная улыбка на губах. На теплых, нежных, ласковых до умопомрачения губах… Так хотелось целовать их…
Он смотрел на меня. Я — то на него, то опускала взгляд.
Я не выдержала:
— Мы так и будем?..
— Можно тебя поцеловать? — перебил он.
— Я же этого жду, — сказала я и попыталась быть веселой.
Мы утолили жажду. Сразу стало легче. Даже несмотря на то, что страшно захотелось продолжения.
— Ты свободна?
— От всего и всех, кроме тебя. А ты?
— Я третьи сутки… как птица.
— И у тебя сегодня никаких дел?
— Нужно в одно место заехать, кое–что проверить. Хочешь со мной?
— С тобой я хочу все.
Он завел мотор.
* * *
Старая часть города. Старый дом, старый двор с решетчатыми забором и воротами. Дворницкую будку уже успели употребить в качестве киоска по продаже пива, сникерсов, памперсов и прочей насущной мелочи и закрыть по причине внедрения принципов глобализации — борьбы с мелкими торговыми точками. Как след недавнего предназначения кирпичного флигелька, над забитым досками окошком еще болталась выцветшая вывеска с омерзительно–жутким названием, выкопанным из недр какого–нибудь научно–популярного справочника по морской флоре и фауне.
Мы поднялись на второй этаж. На площадке было всего две двери. На месте третьей явно читался след замурованного и закрашенного проема.
Олег принялся отпирать массивную, обитую мятой кожей дверь. Четыре ключа, по очереди вставленных в замочные скважины, — и мы вошли.
Внутри оказался весьма прилично обустроенный офис. Олег закрыл за нами дверь на ключ и цепочку. Щелкнул выключателем — никакого результата. Поднял трубку ближайшего телефона и сказал: «Отключен, разумеется». Потом предложил мне осмотреться и стал тасовать кипу вынутых из почтового ящика бумаг. Рекламные листовки и проспекты он отправлял в мусорную корзину, стоящую тут же, у стола, а письма сортировал, разложив на кучки.
Я осмотрелась. Три больших помещения на два и три рабочих стола, комната — то ли для отдыха, то ли для посетителей — с диванами и креслами, кабинет посолидней на одного, два туалета, две душевых, кухня. Я открыла холодильник — несколько коробок с соками, раздувшаяся упаковка сливок, две скукоженные пачки сыра и окаменевший эклер. На окнах зачахшие растения. По всему видно, что здесь давненько не ступала нога человека.
— Это твое? — Я вернулась к Олегу, он сидел за столом и отстраненно смотрел перед собой.
— Есть надежда, что мое. Проверю в понедельник, — сказал он куда–то в пустоту, словно робот–автоответчик. Потом, вернувшись в реальное пространство, обратился ко мне: — Был бы свет, здесь можно было бы жить.
— Тебя что–то не устраивает там, где ты живешь сейчас?
Он, видно, готовился к этому разговору.
— Симона, — начал он, сосредоточенно потирая пальцем край стола. — Выслушай меня. — Он глянул мне в глаза. — Я еще не все знаю о своем нынешнем положении. Мне многое нужно выяснить, проверить, уточнить. Я не хочу быть тебе обузой, у меня много проблем… Я не хочу, в конце концов, навлекать на тебя…
Я не дала ему договорить:
— Олег. Я могу уйти. Просто, без обоюдных объяснений… без базаров. Приедешь, заберешь свои вещи.
Как благородно!.. У меня уже начинал подрагивать голос. Но плакать я не собиралась! Ни в коем случае!
— Нужно будет с женщиной переспать — я к твоим услугам, — добавила я.
Как изящно! А?!.
Он поднялся, подошел ко мне:
— Прости. Ну прости. Симона.
А я уже заливалась в платок…
Он попытался обнять меня. Я вырвалась и отошла в угол, к погибшему фикусу — лучшей декорации для моей скорбно вздрагивающей фигуры придумать было бы трудно — села на подлокотник кресла и принялась сморкаться и вытирать щеки.
Не могу сказать, что я злилась или обижалась. Все–то я прекрасно понимала: его лучшие намерения по отношению к малознакомой женщине… просто и конкретно. В душе моей был покой. Но упустить предлог избавиться от невесть с чего и каким органом начавшей два дня назад активно генерироваться слезной жидкости я, конечно, не могла.
Я гордо поднялась и независимой походкой отправилась в туалет. Вода в кране, не в пример электричеству и телефонной связи, имела место быть. И даже двух разновидностей — холодная и очень холодная… Холодная, правда, скоро стала–таки горячей.
Я отерла лицо — макияж не сильно пострадал. Когда я встретилась в зеркале с собственным отражением, мне стало одинаково и стыдно, и смешно. Посмеявшись и постыдившись, я вышла.
— Олег, — сказала я, не глядя на него. — Давай с самого начала и откровенно… — Я разглядывала глянец маникюра на среднем пальчике с поломанным ноготком. — О себе… Я женщина свободная. И в том числе от страхов, предрассудков и рефлексий. Мне много лет. У меня богатый жизненный опыт. У меня солидный духовный багаж. Поэтому, если я что–то делаю, на что–то иду, что–то выбираю, я делаю это о–соз–нан-но. — Я подняла глаза. Он смотрел на меня серьезно, но как–то… легко.
— Я попросил у тебя прощения. Еще раз — прости. Я тоже свободный мужчина. От многого. Но, как видно, не от рефлексий, как ты это называешь. В данном случае я бы назвал это ответственностью. Понимаешь?.. Я пока не знаю, что меня ждет. Возможно, полное разорение. Это в лучшем случае. В худшем… — Он взял со стола, за которым сидел, надорванный конверт и сложенный лист и протянул мне.
Конверт был чистый, бумага тоже. Я посмотрела и то и другое на просвет — ничего.
— Что это значит?
— Это очень плохая весть, — сказал он.
— Что ты имеешь в виду?
— Это наш с женой условный сигнал. Мы договорились еще очень давно, когда дело свое начинали… Ну, знаешь, насмотрелись тогда и фильмов, и сводок, и процессов… Короче, если что, мы извещаем друг друга вот таким образом.
— Но о чем он должен сказать: получателю что–то грозит или отправителю?
— Хороший вопрос! — Он усмехнулся. — Если лист один, значит, отправителю, если два — обоим, если три, то получателю.
— Но он не по почте отправлен. Как же узнать дату?
— По большому счету, это уже не важно.
— Ну да… — дошло до меня.
— Не важно, но интересно, — сказал Олег. — Так вот. Наш ящик имеет такую конструкцию, что каждая опускаемая в него корреспонденция падает на предыдущую. Это… — Он сделал жест в сторону конверта и бумаги. — Это лежало между прошлой пятницей и нынешним понедельником. Она по… она умерла в воскресенье.
— А как вы предполагали доставлять сигнал?
— Тоже хороший вопрос! — Олег снова усмехнулся. — Если есть возможность, доставить самому, если нет — курьером.
— А где ваше… ну, ваше дело?..
— Где расположено наше производство?
— А у вас производство?..
— Да. У нас… Впрочем, не важно пока. Так вот, оно здесь, в пригороде. А это — один из офисов. В нем уже не было большой нужды, и мы его прикрыли пару месяцев назад. Все ключи только у меня. Главный офис там, откуда я еду. Моя жена оттуда родом, там же ее дядья и брат, которые участвовали в деле…
— И которые тебя обобрали?
— Да. Так вот, она оттуда порой неделями и месяцами не выезжала. Я с прошлой среды был на выставке в Москве и должен был вернуться только в нынешний четверг, она это знала. Тем не менее каким–то образом она привезла или переправила этот пакет сюда за день–два до гибели. А в воскресенье вечером позвонил ее брат и рассказал о произошедшем… Похороны были в среду. В четверг утром я двинулся сюда.
— А как она?..
— Якобы… повесилась. В подвале. В бойлерной. В нашем… в своем доме. Мы когда–то большой дом построили там, она в нем и жила последние года три. Там места красивые… очень красивые…
— Одна?
— Жила? Одна. Кто–то был у нее… но не слишком легально. У него семья…
— Так ты хочешь сказать?..
— Честно, я настолько туп в детективно–дедуктивном аспекте… Я ничего не могу сказать, потому что мне ничего не ясно, что касается ее гибели. Она была формальным директором. Брат младший — фактическим. Оба дядьки ее вроде снабженцев, но контролировали абсолютно все. Я был… что–то наподобие отдела договоров в одном лице: переговоры, контракты и всякая всячина представительская. Наши с ней проценты начали волновать родственников несколько лет тому назад. Они все пытались устроить перераспределение. Хотя пришли в уже раскрученное дело… На наши деньги раскрученное и нашими силами. Нам просто стало не хватать людей, решили, что свои лучше чужих. — Он достал сигареты и спросил меня: — Можно? — Я тоже закурила. — Когда мы с ней развелись, то договорились, что все остается по–прежнему. Я рассказывал тебе в общих чертах… Она не возражала. Ну а они, видимо…
— Неужели можно убить родную сестру и племянницу из–за денег? Нет… я знаю, можно и за бутылку водки убить… Но они–то не того уровня, я так понимаю?
— Она из странной семьи. Очень странной. Я ничего не знал о ней, когда мы познакомились. Меня смущало, конечно, что она с родителями не контачит: ни меня с ними не знакомила, ни на свадьбе их не было.
— Ну ты–то в дело родственников брал — видел же, что за люди.
— Видел. Хваткие мужики, сметливые, шустрые. Башка на месте. То, что нам в то время и нужно было. Крутились, живота не жалели. Потом, когда выплыли на ровное течение, приосанились…
— …Времени много свободного появилось. Осмотрелись они и призадумались…
— Да. Так и получилось.
— А следствие было?
— Вроде было. Все всем вроде бы очевидно. Она попивала… в последнее время особенно. Никто не сомневался в том, что это… суицид.
— А ты веришь?
— Пятьдесят на пятьдесят.
— Но как же ты все это тогда оставил, если допускаешь убийство?
— Вот это — главный вопрос. Давай позже продолжим. У тебя есть выход в Интернет?
— Ай, все руки никак не дойдут модем купить… Дочь ругает…
— Я возьму модем и подключу тебя. Надо бы почту проверить, но… тут электричества нет. Кстати, офис этот — единственное, что на меня было оформлено из недвижимости.
— А они не будут тебя?..
— Это такие копейки по сравнению с тем, чем они завладели! Они, наверно, и не помнят о нем. Мы с женой им занимались — и выбирали, и покупали, и ремонтировали.
— Тут же две квартиры! Ну это ж не меньше чем… боюсь предполагать, я тупая в этих делах… тысяч сто?
Олег засмеялся.
— Однажды в третьем классе на уроке арифметики учительница писала на доске задание и транслировала его вслух. И вот она диктует… мы тогда деление больших чисел с нулями проходили… диктует: сто тысяч… Тут я как свистну! От неожиданности… Такая вот реакция на большое число. Анисья Трофимовна… это учительница первая моя, оборачивается. Я, поняв, что произошло, смотрю на нее выжидающе, и тут Людка, моя соседка по парте, говорит: это я, Анисья Трофимовна, я больше не буду. Ну, та укоризненно покачала головой, и все. Пронесло. Я Людке потом говорю: что это ты решила меня выгораживать? А она: тебя бы из класса выгнали, а меня нет… Она отличница была. — Олег помолчал. — Так вот, если я скажу, сколько это стоит теперь, свистнешь ты.
— Не говори! Потом… Ничего же себе они тебя обобрали, если это — копейки!
— М-да.
— И что ты намерен?..
— Пока — отдохнуть. До понедельника. Ты не возражаешь?
И он принялся собирать что–то в большую коробку, которую достал из кладовки.
— Я не разглядел, что у тебя за компьютер, давай заберем какой–нибудь? Они здесь мощные все… мы не мелочились.
— Не надо. Пригодятся еще…
— Ну, если только на хлеб менять. — Он усмехнулся. — Бизнесом я больше не занимаюсь.
* * *
— Ты так спокоен, — сказала я, — словно просто проиграл партию в шахматы.
— Ты в точку попала, — сказал он, — возможно, даже не просто спокоен, а радостен. Это то, о чем я размышлял всю ночь после похорон и день за рулем…
— Пока меня не подобрал, — перебила я.
— Пока тебя не подобрал, — повторил он и прижал меня к себе. — Ты мне как ангел послана была, ты знаешь это?
— Мы все друг другу ангелы, ты же знаешь…
— Да, — сказал он, — знаю… ничего просто так не происходит на белом свете. Не просто так все, что со мной произошло, не просто так именно ты… Как мудрые учат: не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней. Когда пресс родственников усилился, я стал подумывать о выходе из дела… — Олег усмехнулся. — О выходе! Меня и не было в этом деле. Даже квартира, в которой я жил… — он назвал улицу в центре, — тоже на жене, они у меня ключи забрали на похоронах. Так вот, меня не было ни в одной бумаге. Получал официально зарплату как наемный клерк. Офис, правда, на мне… как квартира на частное лицо, куплен. И один из счетов на мое имя открыт, левый, так сказать… так мы с него оба снимали когда кому и сколько нужно.
— Это тот, который ты проверить хочешь: цел или подчищен?
— Да. Так вот, о ситуации. Я собирался все это бросить по двум причинам. Во–первых, занялся я этим случайно… долго рассказывать всю историю… подвернулась возможность, короче. Мы с женой азартные были ребята, рискнули кое–чем, а оно возьми да и закрутись. Легко далось, легко шло. Только было я заскучал, как заказ большой свалился с неба, расширили производство… а тут и родственники подвернулись. И вот вскоре и тесно стало, и скучно. Во–вторых, развод… мы отдалились, и мне совсем неинтересно было уже заниматься не своим делом да с чужими людьми. Короче, не мое это было с самого начала, а последнее время просто тяготить начало. Я жене говорил: давай поделим все, и я уйду, а вы работайте дальше, мне ничего не надо с ваших прибылей. Родственников не устраивало, что мне достанется половина, они–то на большее претендовали. Ну, вот и добились… теперь все в их руках. Может, плюнь я на все и уйди раньше, жена жива бы осталась.
— Только не начинай из себя причину ее смерти лепить! — возмутилась я. — В конце концов, то, что произошло с ней, тоже не просто так. Тоже ее личный выбор. Даже если это и не она сама… Прости.
— Я понимаю…
— А дочь?
— Дочь… Дочь хиппует. В семнадцать ушла из дому, обвинив нас обоих в заземленности, примитивности, мелкобуржуазности. Жила у друга, музыканта довольно известного. Потом, год назад, они оба как–то умудрились в Европу проникнуть. Там, похоже, и болтаются автостопом до сих пор. Германия, Франция, Испания… Она открытки только присылает раз в два–три месяца: вид города какого–нибудь или места… и ни слова. При этом знает, что счет у нее в банке приличный.
— Сколько ей?
— Двадцать два.
— А вы не сделали ее наследницей? И вообще, как вы этот момент предусмотрели: кто и что наследует в случае чего?
— Я об этом не думал… а жена… Интересный вопрос, мисс Марпл! — Олег взял мое лицо в ладони и повернул к себе. — Архиинтересный вопрос! Ты детективы, поди, в перерывах между Мураками и Уолшем читаешь?
— Ты смеешься? Первый и последний детектив в моей жизни был прочитан в восьмом классе, что–то там из Конан Дойля. Мои мозги не тянут этот вид литературы.
— Вот и мои тоже, — сказал он.
2
Мы с Иркой откровенно напились. Вернее, сидели и напивались. Сидели на ее даче и напивались. Иногда мы умели это по старой памяти. Когда кому–то из нас было хреново, мы садились и пили. Такое случалось, надо сказать, и когда бывало хорошо — слишком хорошо, чтобы просто так это хорошо выносить.
Но теперь было плохо. Очень плохо. Мне.
Олег исчез.
Через день после нашей поездки в офис, в понедельник. Он уехал утром, как я думала, зондировать свой банковский счет. Впрочем, так он и сказал.
Часам к шести вечера я начала беспокоиться, почему он ни разу не позвонил, и позвонила сама. К удивлению, я обнаружила его телефон, издающий приджазованный Groovy Blue, в кожаной папке на замке, лежащим поверх каких–то бумаг. Папка, в свою очередь, лежала, не замеченная мной, в прихожей, под висящей на вешалке одеждой. У меня сразу екнуло сердце: это неспроста, такие люди не забывают свои мобильные телефоны и деловые бумаги. Восприняв это как знак, оставленный Олегом, я, разумеется, сразу к Ирке.
Трубку поднял Васька. Это было то, что нужно.
— Вась, привет. Тебя–то я и хочу!
— Ой, я еще душ не принимал… — начал было стебаться Вася.
Но мне было не до шуток.
— Скажи, если деловой человек оставляет свой мобильный… не забывает, а оставляет, и оставляет папку с деловыми бумагами, что это может означать?
Я не была уверена, что он понимал в таких вещах — слишком все мы были далеки от подобного рода реалий.
— Это означает полную фигню, — тем не менее уверенно сказал Васька.
— Конкретней!
— Ну, как бы это помягче…
— Мне не надо мягче! — Я кричала на него.
— На дело поехал.
— На какое?
— На важное…
— Вася!.. Я сейчас убью тебя! На какое дело?!
— На разборки.
— Логика?
— Оставил все, чтоб не ставить никого под удар… в случае неблагоприятного исхода…
— Что мне делать?!
Разумеется, с Васькой мы и словом не обмолвились о моем внезапном романе, но я была абсолютно уверена, что он знает не меньше того, что знает Ирка, — так уж мы привыкли жить.
— Не паниковать — первое. Ждать — второе.
— Я умру!
— Выпей чего–нибудь и засни.
— Это ваш мужицкий принцип — спрятал голову в песок…
— У тебя есть варианты?
— Нет, — захлюпала я. — Потому и звоню–у–у-у…
— Во! Пореви — это уже ближе к делу! А ты говоришь, нет вариантов… Сейчас Ирку дам.
Я пробулькала Ирке то же, что и Ваське.
— Кошмар! — резюмировала она. — Вась! Машина под окном? — крикнула она в глубины своей квартиры. — Сейчас буду. — Это уже мне.
Ирка водила свой жигуль очень лихо — в смысле мастерски. Я тоже владела рулем, но, в отличие от нее, не любила этого дела. Поэтому, когда мы с мужем решали, что кому, я сразу сказала, что наш «опель–рекорд» мне не нужен. Был бы это «жук», добавила я, я бы еще подумала.
Она примчалась через пятнадцать минут.
Мы покурили, попили чаю с ее свежеиспеченной и теплой еще шарлоткой, я немного поревела, Ирка поуспокаивала меня, как могла, и вернулась в семью.
Прошла неделя. Я жила на автопилоте: занятия в институте, абитуриенты дома, перевод искусствоведческой статьи в каталог и научной — в журнал.
Мои чуткие друзья решили не оставлять меня одну и забрали на выходные — а их свалилось целых три дня по причине праздников — на свою дачу. На ту самую дачу, уезжая с которой я была подобрана на большаке Олегом…
И вот мы сидим и потягиваем водку.
После сорока мы как–то незаметно отдали предпочтение этому чистому — в отличие от сомнительного происхождения вин — напитку. А вином пробавлялись лишь по случаю, когда позволял кошелек, и покупали что–нибудь подороже и пофранцузистей — дабы не рисковать здоровьем.
— Вернется, — в который раз сказала Ирка. — Кишками чую, вернется, — добавила она для убедительности.
— Когда?! — возопила я в небо. Получилось, правда, в дощатый потолок.
— Когда надо, тогда и вернется. — Это должно было служить успокоением для меня.
— А мне надо сейчас.
— Это тебе надо. А ему не надо…
— Почему это ему не надо?
— Потому, что оканчивается на «у»…
— Нет, договаривай! — лениво завелась я.
— Да ладно… Расскажи лучше, что в нем такого? Он что, лучше твоего Сережки?
— При чем тут Сережка? — Сережка — это мой муж. Бывший, разумеется.
— По Сережке ты так не убивалась.
— С Сережкой просто все кончилось. Чего убиваться–то?
— Ну ладно, а тут что?
— Тут любовь.
— А-а… Любовь… Тогда понятно…
— Все–то тебе понятно…
— Ну а чего ж непонятного? И он конечно же… — Ирка чиркала отсыревшей спичкой по отсыревшему же коробку, обе наши зажигалки разом, не сговариваясь, издохли. — И он конечно же волосатый…
— Да! Он конечно же волосатый!
— Ф-фу!.. Какая гадость! Что у тебя за вкус!.. Всегда удивлялась…
— Дура ты. Что такое гладкий мужик? Это ж баба, а не мужик. А у моего запястья даже с внутренней стороны волосатые…
— И грудь, конечно…
— Конечно.
— И живот…
— Еще как.
— Ф-фу!.. Какая гадость.
— А ты пробовала?
— Что?
— Ну… волосатую грудь пробовала?
— Бе–е–е… меня сейчас стошнит!
— Нет… у тебя дефект, ей–богу! Может, ты розовая?
Ирка, так и не прикурив свою замученную сигарету, заплакала.
— Ты что? Ир?
— Ничего… — хлюпнула она.
— Ну ладно тебе. — Я попыталась высечь для нее огонь, но у меня тоже ничего не получилось.
Я поднялась и неровной походкой пошла к буфету. К счастью, там лежала упаковка спичек. Они загорались на раз.
Ирка раскочегарила сигарету и сказала: налей.
Я налила. Бутылка закончилась. У нас, конечно, было с собой еще, но эту–то мы вдвоем…
Мы выпили и закинули в рот по куску соленого хрустящего — из прошлогодних Иркиных заготовок — огурца. У нее всегда отменные огурцы и помидоры. И всегда — до следующего урожая.
Она прожевала и посвежевшим голосом сказала:
— Это я просто тебе завидую…
— Да ладно… престань…
— Да. Завидую. У меня ж женского счастья так и не было… — И вдруг завыла в полотенце. Я переждала этот короткий приступ.
— Идиотка. Сама себя урыла, — сказала она с совершенным французским прононсом. — Сначала пеленки с кандидатской вперемежку, потом гарнитуры, потом дача, машина… вот эта вот… — она ткнула пальцем на видневшийся в окне капот, — вот эта вот великолепная «семерка». Почему нас не учили быть женщинами?.. Вот тебя учили?
— Меня нет.
— Ну, у тебя крови литовские, а вы народ европейский, цивилизованный… Твоей маме, поди, в голову не пришло бы утюг чинить поломанный… Не–е–ет. А я вот все умею… — Она снова повыла немножко, просморкалась и продолжила: — И вот это вот мое счастье… — она ткнула тем же пальцем в то же окно, только чуть левее, откуда прямо на нас смотрела… смотрел зад ее благоверного супруга, ковырявшего истосковавшуюся по ласке крепких хозяйских рук, радостную весеннюю землю, — вот оно тоже все умеет, блин! Кроме одного… У–у–у-у… — Новый приступ, но уже на исходе. — А моя маменька, думаешь, знала, что такое женское счастье? Ни фига! Прежде думай о Родине, а потом о себе. А в постель ложатся, только чтобы детей делать, смену достойную… Сделали, как положено, троих, чтобы не только воспроизвести, но и приумножить…
— Да брось ты! Ты утрируешь…
— Что?! Мне мамуля говорила после Маришки: вот отдохнете пару лет и третьего рожайте. Я: мам, зачем, я и на второго–то по нужде пошла. А она: время такое, доча, рождаемость падает, и война много жизней отняла у страны… Ну ты представляешь?! Я стране детей должна рожать! А она мне будет в месяц платить сто пять, …! — Ирка выругалась в рифму, у нее это легко и как–то ловко получалось. — А через пять лет по пятерке добавлять, …! — Она опять ругнулась, тоже в рифму, но уже по–другому. — И хрущевку двухкомнатную даст… может быть… когда троих рожу. Хорошо, времена другие нынче, заработать можно… если есть чем. Да и то — полулегально. Я ж только с репетиторства да с левых переводов и имею себе на трусы да на прочие прелести… Да что я тебе рассказываю!.. Налей.
— Давай Васятку подождем.
— Перебьется! Налей!
Я открыла новую бутылку «Гжелки».
— Вот скажи, как у тебя так получилось?.. Росли вместе, учились вместе, работаем вместе… а у тебя все не как у людей… На дачах ты не ломалась, банки не укупоривала сотнями, ни на чем не экономила. Жила, как хотела…
— Вот то–то! Как хотела! А ты жила, как твоя родня хотела. Кто тебя за Васятку выдал? Родня. Кто тебя рожать заставлял, когда ты поняла, что фигня, а не семья у тебя, политически–экономический альянс… кто? Родня! Кто решал, уйти тебе к любимому или остаться в болоте?.. Дальше продолжать?
— Ты права, мать! Выпьем за мое несостоявшееся счастье!
Она опрокинула в рот рюмку и поперхнулась, пришлось пару раз по спине хрястнуть.
— К чему бы это? — сказала она, прокашлявшись.
— Может, к тому, что еще не все потеряно?
— Думаешь?
— Попробуй!
— Это в мои–то годы?.. хотя… Ты что, моложе, что ли?.. Ты вон толстая, а я даже после двоих всего на три кэгэ поправилась. Как я, сойду еще для таких дел?
— Во–первых, я не толстая, а полная. У меня, между прочим, ничего нигде еще не висит. И-ик!.. Во–вторых, тощая корова — еще не лань. А в-третьих, для каких это таких дел? Тебе любовь нужна или любовник? И-ик!
— Ты права, — сникла Ирка. — Не получится у меня никакой любви. У меня этот орган, которым любят, отсох давно. А любовник… Вон Карен Владленович с сентября клеит. Хоть сейчас бери. Тридцати нет.
— Карен? К тебе?..
— Да! Ко мне! — Ирка задрала подбородок и выпятила невыдающуюся грудь, изображая достоинство королевы. — А что ты так удивилась?
— Ир! Ты дура или прикидываешься? Ты ж у него руководитель кандидатской.
Ирка посмотрела на меня и протрезвела.
— Точно! — Она расхохоталась так, что я думала, у нее истерика началась.
Васька обернулся — видно, аж на огороде слыхать стало наше веселье. Утер пот с высокого умного лба, поправил на носу старые очки — новые–то на огород жалко — и снова уставил на нас свой обтянутый задрипанными трико еще советского образца — теща дюжинами покупала все, что под руку попадалось во времена тотального дефицита, — тощий работящий зад.
А мне вдруг стало его так жалко… Ломался мужик всю свою жизнь: пять дней в неделю стулья задом плющил, а два корячился в огородах — то в тещиных, то потом в своих. Двух спиногрызов вынянчил — только что грудью не кормил, пока мамка их диссертации писала да переводы ночами строчила. А ему ведь тоже небось хотелось обнять женщину, а не гибрид домашнего комбайна «Хозяюшка» и пишущей машинки «Рейнметалл». Хотелось. И таки обнимал… Меня. Мы даже до поцелуев дошли, а он еще и до моей груди продвинулся. Было все это, правда, в большой нашей обычной компании, на виду у всех, в темной прихожей — стало быть, безобидно, по–дружески, и ничем не кончилось, если не считать головной боли у всех нас наутро от безбожно перемешанных напитков.
Я заплакала. Ностальгия накатила. По нищим беспечным временам.
— Ты что? Сим? А?..
— Ва–аську жа–алко… — рыдала я.
Ирка тут же присоединилась. Да так громко, что муж ее снова обернулся. Не знаю, что уж он подумал, увидев двух баб, уткнувшихся распухшими мордами каждая в свое полотенце и воющих в голос.
Что надо, то, поди, и подумал. И снова принялся тискать жадное до крепкой ласки тело матушки–земли. А мне еще больше стало его жалко. А заодно — всех советских мужиков, которые поистесались в борьбе за свое светлое будущее, вкалывая на трех работах да на огородах… которые уже и не мужики давно, которым радости жизни только и были доступны, что в зеленой безответственной юности, когда за пятерку можно было девчонку в ресторане погулять, а потом в общагу через окно протащить.
— А Се — Серегу… не жа–а–алко? — сквозь полотенце и рыдания проговорила Ирка.
— У–у–у… — ответила я, и новые потоки слез полились из моих заплывших очей.
С Сережкой мы прожили счастливо и радостно почти тридцать два года. Благо ни его, ни мои родители не совали носы в нашу жизнь — все вопросы мы решали вдвоем. Даже порой, прося совета у Ирки, я на него не рассчитывала и следовать ему не собиралась — я сама слишком хорошо знала всегда, чего хочу, а чего не хочу.
Почему мы разошлись? Наверное, всему на этом свете отмерян срок — и любви в том числе. А может — любви в первую очередь. И тут главное оставаться адекватным и вменяемым и слушать только себя, руководствоваться только собственными соображениями — а не опытом других, чьими–то правилами и шаблонами.
Да, разлюбили. Но теплых чувств не растеряли. Зачем же в угоду… даже не знаю кому — обществу? родне? друзьям? — зачем в угоду кому–то изображать несуществующее? Не осталось того, что зовет в постель, зато сохранилось то, что дает оставаться близкими — так остановитесь, сохраните хотя бы это! И все порадуются, не будучи поделенными на два враждующих — или делающих вид таковых — лагеря с тайными и явными перебежчиками.
А если прошло только у одного, а у другого — нет? Ну что ж, попробуйте тогда через суд принудить его любить вас по–прежнему!.. Ребенка (детей) в ход пустите, друзей, родню… Все это было бы смешно, когда бы не было реально…
Не помню, у кого из нас с Сережкой это прошло у первого. Возможно, у обоих разом — ведь мы были совершенно органичным целым.
Однажды, после не слишком захватывающей близости, он сказал, обняв меня, как обнимал обычно, когда мы были готовы отойти ко сну:
— Представляешь, кажется, я влюбился.
— Ой! — рассмеялась я. — В кого, в студентку, в лаборантку?
— Бери выше, — сказал он.
— В завкафедрой? — ткнула я пальцем в небо.
— В зав, — сказал он, — только не кафедрой, а отделом, в завотделом МИДа.
Я повернулась к нему лицом:
— В Валерию… как ее?.. Валентиновну?
Он спрятал лицо у меня на груди — он любил мою грудь.
— Да? — уточнила я.
— Угу, — кивнул Сережка.
— Это серьезно, — сказала я и прислушалась к своим глубинам — не колыхнется ли где свирепый когтисто–зубастый зверюга, чудовище с зелеными глазами.
Внутри тишина. Нет… вот что–то шевельнулось. Что это?.. Оказалось, легкий адреналиновый фонтанчик — такой же, какой сопутствовал моим ожиданиям встречи с последним любовником. Мое бессознательное существо порадовалось за любимого мужа и даже попыталось сопереживать ему в радости! Вот это да!..
Я крепко прижала голову Сережки к себе и чмокнула в макушку.
— А она в тебя? — спросила я с волнением в голосе.
— И она в меня, — сказал он и заплакал. Мой мужественный муж, мой стопроцентный мужчина заплакал, как ребенок.
— Ну что ты? — успокаивала я его. — Это ж здорово, что у вас взаимно.
Не знаю уж, от избытка каких чувств — благодарности ли ко мне, так мило отнесшейся к столь рисковому известию, прилива ли любви к своей недосягаемой сейчас возлюбленной, дорога к которой теперь вся сплошь зеленый светофор, того ли и другого, вместе взятых, — только муж мой устроил мне настоящее пиршество плоти. Иногда, остановившись и едва сдерживая себя, он говорил: ты не думай… я тебя сейчас люблю… только тебя… Ну и много разной — принадлежащей только нам с ним — любовной чепухи. Я верила ему. Я просто знала это!
— Чего мне Серегу жалеть? — сказала я, успокоившись. — Он со мной в любви прожил и теперь с любимой живет.
— И откуда вы такие?.. Несоветские… Блин… — Ирка хрустнула огурцом. Ее тон выдавал полное безразличие к ответу на заданный вопрос: эмоции выплеснулись, а новых еще не подкопилось.
Я промолчала — я тоже чувствовала опустошенность — и закурила новую сигарету.
3
Заканчивался август. Мы снова сидели на Ирко — Васькиной даче, на веранде, окруженной бордовыми и белыми, абсолютно царственного вида, георгинами. Эти дивные цветы, кстати, посадила я, своею легкою рукой, убедив хозяев, повернутых на показателях исключительно плодово–овощного поголовья, измеряемого в банко–литрах, в том, что эстетика еще никому и ничему не помешала. Георгины удались. Как все или почти все удается неискушенным — это был едва ли не первый мой сельскохозяйственно–озеленительный опыт.
Васька раскочегарил мангал и укладывал на него разряженные в розовый перламутр шампуры, мы с Иркой уже помыли ручки после шашлычного мяса–лука и глотали слюнки, запивая их холодным пивом, в ожидании ритуального — сакрального, можно сказать, — яства. Эдакого советского национального жертвоприношенческого блюда, воскурявшего аппетитный фимиам всем святым тоталитарным праздникам — со всех дач, со всех биваков, разбитых на просторах лесов, полей и рек, в снежные ли, солнечные или дождливые дни — в дни всевозможных пролетарских солидарностей. Сегодня никакого особого повода к солидарности не наблюдалось — рядовая суббота с последующим рядовым воскресным праздником, Днем шахтера. Я, вернувшись после недолгого отсутствия — в несколько радужных весенних дней — в свой прежний статус одинокой подруги старинных друзей, опекалась ими по полной программе. Да и мне ни с кем так не хотелось проводить время, как с Иркой и Васькой, пребывая в непринужденном полете мыслей и чувств и столь же непринужденном положении тел. С ними не нужно было ничего из себя корчить, нам всем позволялось быть самими собой — это ли не свобода? Васяткиной большой и доброй души хватало на нас обеих — это ли не тихая радость осенней поры жизни?.. (Ой, сейчас стошнит… но как сказано–то, а?..)
Моя короткая любовь была оплакана по всем канонам — сорок дней я точила слезы, почти не переставая, лишь с перерывами на институтские занятия. Потом это как–то прошло, и Ирка принялась агитировать меня сделать свободный и решительный выбор в пользу Ростиславика. Мы с ней пару раз подискутировали на его тему всерьез, пару раз постебались, потом чуть не умерли со смеху, расписав все прелести жизни с ним под одной крышей и одним одеялом, а потом взяли да и сосватали славного парня к Наташке. В сентябре свадьба. Аминь.
Личная моя жизненная позиция — или по вышке, или никак — осталась неколебимой. А я осталась одна. Потихоньку все брошенные залетным принцем на произвол судьбы вещи я перестирала и сложила в кожаную сумку моей мечты, защелкнула на ней замок, сверху положила деловую кожаную папку с заточенным в нее телефоном образца 2002 года, спрятала все это в пустой дочкин шкаф и занялась йогой в облегченном варианте, для дамочек «за пятьдесят», дабы, за отсутствием секса, хоть чем–нибудь поддерживать мышцы своего устаревающего и расползающегося по сторонам организма в каком–никаком тонусе.
А вот и шашлыки подоспели! Радостный Васятка разложил по тоскующим тарелкам четыре клинка со шкварчащими, вполне гаргантюачьими порциями.
Только я с вожделением приникла к первому куску румяного ожерелья, зазвонил мой телефон…
Дальше не рекомендую читать тем, кто не верит в хеппи–энды и прочую дамскую хрень. Поэтому для них — конец фильма (звучит культовая грустная мелодия «Одинокий пастух» Джеймса Ласта).
4
Для всех остальных — часть четвертая.
На дисплее отобразилась надпись вполне в духе происходящего со мной в последние несколько месяцев: «Номер не определен».
— Да? — говорю я.
— Симона… — говорят мне, и мне не нужно ничего больше.
Если бы моя история была выдумкой, уж будьте спокойны, я придумала бы что–нибудь позанимательней! Например: звонок раздался в новогоднюю ночь. Ну, на худой конец, в рождественскую (надо сообразить, правда, 25 декабря?.. или все же 7 января?..). Или, скажем, в мой день рождения. Который, кстати, наступал через два дня после этого самого Дня шахтера, который мы шашлыками предваряли.
Но звонок раздался, когда раздался, и я услышала голос Олега.
Я сказала ему, что жду его на той же самой остановке автобуса, где… Ну, понятно.
Еще не успевший усугубить холодного пивка мой замечательный, мой верный, мой прекрасный друг Вася отвез меня на большак.
— А шашлыки?.. — лопотала вослед мне, невменяемой, Ирка.
Ира, дорогая, драгоценная моя подруга!.. Какие, блин, шашлыки!..
Васятку я выпнула с места предстоящих событий едва ли не ногой под зад.
— Тебя жена, между прочим, ждет! — аргументировала я.
Он послушался и даже не стал подглядывать из–за кустов. Его пыльный жигуль поплелся по пыльной дороге на закат августовского солнца.
Вот и все. Вот и все, девочки мои! Ну и мальчики — если кто остался с нами, девочками… Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец.
Вы хотите сказать, что вам невероятно интересно, где он был и что делал?..
Ну какое это имеет значение!.. Главное, что он вернулся — живой и невредимый. Главное, что он не бросал и не забывал меня. Главное, что все только началось у нас после того, как я написала, что сказочке конец. Главное, что моя упрямая вера в чистоту и порядочность тех, кто показался тебе чистым и порядочным, вера в то, что «все люди добрые» — или, как минимум, те, кто показался тебе добрым, — неколебима и не поддается никаким тренингам продвинутых психологов от реалий жизни.
А если уж так любопытно, то вот… Только, простите — коротко. Вся эта посттоталитарная хрень не достойна бумаги, по которой ее размазывать придется…
Олег вернулся в городок, где недавно похоронили его бывшую жену. Блефанул перед взалкавшими земных сокровищ неуемными родственничками неким письмом от их сестры–племянницы, которое он получил после того, как ее закопали во сыру весенню землю… А было это, в сущности, чистейшей правдой — такой же чистейшей, как лист того самого письма, что он показал мне в своем блокадном офисе.
Родственнички прикинулись испуганными, усадили его за ломящийся от яств стол переговоров — как раз девять дней подоспело, — раскурили трубку мира, чего–то подсыпали в поминальный напиток, чем–то трубку… то есть сигаретку шпиганули…
Очнулся Олег в том же подвале, где, типа, его жену из петли вынули. Негоцианта прислали к вечеру следующего дня. Тот нежно просил выдать то самое письмо. Олег сказал, что не дурак, чтобы такие вещи возить с собой, письмо в надежных руках и, если через три дня вся бражка не заявится с повинной в местную прокуратуру, ее — бражку — свезут туда в белом лимузине под белы ручки.
Олега били. Нет, я об этом не хочу… не могу…
Продержали три недели в подвале. Поняли, что прокуратура ничего не знает, намылили веревку на трубе, показали угол, где бетон уже ковырять начали — типа, вот, и никто не узнает, где могилка твоя… Предложили условия: дочкин счет и все, что при тебе, — твое, и вали отседова. А нет — и тебя уроем, и дочурку твою с еенной дочуркой достанем, ибо знаем, где она, ибо она с мамашкой своей поактивней контачила, адресок имеется, хоть и зарубежный. А будешь хорошо себя вести, так можем подсобить с воссоединением остатков семьи…
Конечно, Олег выбрал жизнь — свою, дочки, внучки. Все эти химеры вроде социумной справедливости — суета сует и фигня фигнь в сравнении со вселенским законом личного выбора. Не уголовный кодекс тебя ждет и не Господне наказание, а… если образно — яма, тобой же вырытая. Или розы, тобой посаженные. Опять же если образно…
Дали они ему адрес дочери, вернули содержимое кошелька — вместе с кошельком. Про двухквартирный офис не вспомнили.
И поехал он на юг Испании. Там на берегу синего моря в белом доме среди зеленого сада осела его некогда бунтовавшая, а ныне присмиревшая дочь, ставшая матерью очаровательной дочери по имени Симона, которой уже скоро годик стукнет… Откуда его дочка взяла это имя для своей дочки?.. Так звали одну известную французскую актрису времен нашей советской молодости, и однажды мать нынешней матери сказала своей дочери, что очень хотела назвать ее в честь этой актрисы, но ее отговорили в ЗАГСе — политические соображения тогда были более вескими аргументами, нежели личные… А потом наш кучерявый рокер запел на всю страну про девушку своей мечты, Симо–о–о-о-ну, королеву красоты, она, типа, прекрасна, как морской рассвет… Дочка услышала тогда и пожалела, что мама так нерешительна оказалась… Живут они со своим музыкантом ладно и счастливо. Дочь теперь художник — художественную школу когда–то закончила с отличием, да вот захипповала, поступать дальше не стала… Но от судьбы не уйдешь, как говорили наши бабушки… А мы говорим: будь осознанным. Вот они и осознали себя, свои не суетные, не в пику кому–то и чему–то интересы, живут нутром, интуицией. Самовыражаются — благо возможности для этого есть.
Почему не звонил, не писал?.. Опасался, что история не закончена, не хотел меня под удар ставить. Когда понял, что от него отстали окончательно и бесповоротно — кстати, сами и дали ему об этом знать, некое подобие сердца шевельнулось в жестоковыйных, — вернулся и позвонил.
Вот теперь все.
В смысле — все только начинается.
МАЛЕНЬКИЙ МЕДНЫЙ КЛЮЧИК, или ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ БЕЗ НАЧАЛА И КОНЦА
Перспектива старой, мощенной булыжником Узкой Улочки.
Дома, обремененные архитектурными излишествами в виде лепнины — а может быть, многочисленными и разнообразными заботами людей, проживающих в них?.. — куполом нависли над мостовой.
По их фасадам высоко вверх — к небу и дождю — уползают серебристыми змеями гулкие водосточные трубы. Узорчатые чугунные решетки арок в грустном смирении несут свою бессмысленную вахту: давно уже никто не распахивает их перед нарядным экипажем или сверкающим глянцевыми поверхностями и хромированными деталями ландо.
Все серо в проеме Узкой Улочки: серые стены, серая мостовая, серые люди с серыми лицами. Это вечерняя тень окрашивает в серый все, что попадается ей под руку. Или вечерняя усталость?..
А может быть, проще: Художнику не захотелось возиться с красками, и он плеснул на сырой ватман разбавленную черную тушь, в неразбавленную обмакнул перо и рисует эту коротенькую историю без начала и конца. Или так: у него вдруг разом закончились все краски…
Но нет. Краски у него есть. И похоже, он их очень даже любит.
Во–он там, в проеме крыш, видна неровная полоска ярко–сиреневого цвета с желтыми, розовыми и зелеными перышками закатных облаков. А последние этажи домов на правой стороне Улочки — тех, что повыше, — освещены последними лучами солнца и от этого кажутся одного цвета. Цвета спелого апельсина.
На самом же деле, и Старенькая Кинокамера это хорошо знает, они все совсем–совсем разные. И если отмыть с них серую усталость и апельсиновое солнце, то каждый дом сразу обретет свое лицо. Но что поделать — это не входит в замысел Художника. А главный здесь, как ни крути, — он. И дело Старенькой Кинокамеры — послушно снимать на кинопленку все, что он ни нарисует.
И Старенькая Кинокамера добросовестно выполняет свою работу. И даже не без интереса. Хотя давно уже отвыкла от черно–серых фильмов, которые снимала в своей далекой юности. Вероятно, поэтому при каждом удобном случае она поднимает вверх свой Близорукий Объектив, чтобы хоть немножко полюбоваться на сиреневое небо, зеленые облачка и апельсиновые стены.
А случай такой выпадает только тогда, когда Молодой Художник отвлекается на минутку: то ли ему понадобится почистить перо, то ли прикурить сигарету, то ли заварить чашечку крепкого ароматного кофе. А то вдруг послышится ему звонок в дверь, и он, сорвавшись с места и опрокидывая все на своем пути, несется в прихожую…
Кто–кто, а Старенькая Кинокамера знает, кого он так ждет. Но это — совсем другая история…
И тогда она с грустью вглядывается в неровную полоску неба.
Там, в небе, которое начинается прямо на крышах, наверняка летают сейчас ее старинные друзья — ласточки. Они очень любят это время. Время перед заходом солнца.
Когда–то давно, когда Старенькая Кинокамера была еще молодой, она тоже умела летать. Она совсем не боялась высоты, как некоторые ее коллеги, и за это ее очень уважал и ценил Маститый Оператор. Он без сомнений поручал ей самые ответственные и рискованные съемки.
Теперь они оба состарились. Оператор ушел на пенсию и пишет разные занимательные истории для детей и взрослых. В них, между прочим, есть и про нее — Старенькую Кинокамеру. То есть, конечно, про еще юную и полную сил, про ту, с которой Оператор давным–давно сделал много замечательных фильмов.
Что и говорить, нынешняя ее работа — вовсе не та, что раньше: стой себе на одном месте да снимай все, что происходит на листе бумаги по мановению пера в руке Молодого Художника.
В этом занятии — ни риска, ни азарта. Но Старенькой Кинокамере нравится любая работа — уж лучше, чем пылиться в чуланах Киностудии.
И с Молодым Художником она подружилась. Несмотря на то что поначалу он часто злился на ее основательность в подходе к кадру и, как ему казалось, нерасторопность.
Что поделаешь — молодость нетерпелива. Старенькая Кинокамера еще не забыла своей молодости и того, что часто бывает довольно малейшего пустяка для раздражения. Как, впрочем, и для восторга.
К тому же она очень сочувствовала Молодому Художнику, влюбленному в прекрасную Огненноволосую Девушку, которая вот уже почти два месяца не навещала их уютную Квартиру — Мастерскую. Почему? Об этом Старенькая Кинокамера не знала, а спрашивать Молодого Художника не решалась — еще вспылит… Или обидится. Молодые не нуждаются ни в сочувствии, ни в советах…
А вот и он! С чашкой свежезаваренного кофе и сигаретой. Снова, поди, до утра работать собрался.
Ей–то, Старенькой Кинокамере, что! У нее все равно бессонница. А вот Молодому Художнику не мешало бы спать по ночам: загонит себя смолоду ночной работой да сигаретами с кофе… Вдохновение! Меру тоже знать надо. Вон на кого похож стал: щеки впали, под глазами круги. А бородища–то!.. Как забыл два месяца назад побриться, так и ходит до сих пор. А ну как она все же придет! Испугается ведь…
Но Старенькая Кинокамера ворчала не зло. Напротив, ей было очень жаль своего друга. И она ну ничем не могла ему помочь…
Итак — Узенькая Улочка.
Люди, спешащие по своим бесконечным, неотложным и важным делам. Спешащие, даже если таковых и нет. Спешащие просто по привычке куда–нибудь спешить.
И в этой спешке им, похоже, совершенно все равно, какого цвета стены домов и есть ли над ними небо. Пожалуй, прав был Молодой Художник, не став возиться с красками — не нужны они никому на этой серой Узенькой Улочке…
Здесь никто никому не нужен. Все бегут, по сторонам не смотрят и без конца толкают Старенькую Кинокамеру — то плечом, то тяжеленной сумкой заденут…
Но — раздражение в сторону! Мотор, камера!
Пошел звук.
Шаги — тысячи звонких и шаркающих шагов, тысячи ударов подошв и каблуков по мостовой — тысячи нот.
Стук и скрежетание дверей магазинчиков и бистро.
Хлопанье занавесок, выпархивающих на сквозняке то тут, то там из растворенных окон вместе со звоном посуды, шкварчанием сковородок, обрывками музыки или футбольного репортажа.
Шелест шин по булыжной мостовой, скрип тормозов…
Да, это скрипнули тормоза, и рядом со Старенькой Кинокамерой остановился Маленький Круглый Автомобильчик, очень похожий на Божью Коровку, только — серого цвета.
Из Автомобильчика выглянул Молодой Мужчина, Приятный Во Всех Отношениях. Он посмотрел в проем ближайшей к нему арки и, не обнаружив там никого, устремил нетерпеливый, взгляд вверх — к раскрытому окошку на самом последнем этаже.
Когда Старенькая Кинокамера скользнула своим Близоруким Объективом вверх — за взглядом Молодого Мужчины, — она вновь увидела там сиреневую полоску неба, разноцветные облачка, и ей даже показалось, что она разглядела–таки на сей раз своих пернатых друзей и услышала их звонкую деловую перекличку.
Молодой Мужчина коротко нажал на клаксон, и тут же из окошка на последнем этаже выглянула Молодая Женщина.
Она улыбнулась Молодому Мужчине и махнула ему рукой, склонившись вниз. Ее пушистые волосы водопадом хлынули из–за спины.
Если бы Молодой Художник надумал раскрасить ее волосы, подумала Старенькая Кинокамера, они непременно были бы огненно–рыжего цвета…
Молодой Мужчина жестом поторопил Молодую Женщину и вышел из Автомобильчика. Окошко на последнем этаже захлопнулось.
Старенькой Кинокамере очень понравилась Молодая Женщина. Ей даже показалось, что она чем–то похожа на…
Не отвлекаться! Работа еще не закончена.
Теперь — правая сторона Узенькой Улочки.
На краю мостовой стоит Высокий Бородач с букетом роз. Он, то и дело взмахивая свободной рукой, пытается остановить такси. В отличие от всех остальных — просто спешащих, — он ОЧЕНЬ спешит.
А такси, как назло, не останавливаются — они все заполнены седоками, опаздывающими по своим неотложным делам. И с этим ничего не поделать…
Вот Бородач в очередной раз поднял руку, и — чудо! — машина остановилась. Снова скрип тормозов.
Но что это? Бородач замер с поднятой вверх рукой и, похоже, никуда уже не торопится. Он напряженно вглядывается в даль. Лицо его растерянно.
Водитель такси мог бы, конечно, обидеться и посадить в свою машину другого желающего сэкономить время. Но он пытается выйти, чтобы спросить Бородача — ждать того или нет?
Ему никак не удается этого сделать — Узенькая Улочка так узка, что проезжающие мимо автомобили просто не позволяют Водителю открыть дверь. Тогда он, наклонившись над сиденьем для пассажира, выглядывает в окно. Но Бородача и след простыл…
Старенькая Кинокамера в смятении — где же, где же он?..
Ага! Спрятался за стеклянную дверь кофейни и замер, прижав к груди букет роз, словно кто–то его собирается у него отнять.
Глаза широко раскрыты — они ЖДУТ.
Нельзя сказать, что глаза Бородача очень похожи на глаза Молодого Художника. Просто в них — та же пронзительная печаль…
Вот, наконец, Бородач разглядел то, во что сперва не хотел верить, что могло оказаться ошибкой… И боль пополам с изумлением — точно от внезапного удара — наполнили его глаза до самых краев.
Но кого же, кого увидел Бородач? Старенькая Кинокамера мечется своим Близоруким Объективом и никак не может определить, чей же крупный план сейчас давать. А Молодой Художник так увлекся переживаниями Высокого Бородача, что забыл обо всем на свете.
Наконец, все становится ясно: в кадр попадают две спины. Они медленно удаляются, и вот уже обе фигуры видны в полный рост. Это Стройная Женщина и Спортивный Мужчина.
Спортивный Мужчина коротко острижен. Плечи его так и переливаются мускулами под тонкой спортивной рубашкой. Походка его уверенна и крепка. Он легко подхватил Стройную Женщину под руку и о чем–то увлеченно рассказывает ей.
Стройная Женщина весело и звонко смеется, закинув голову. По ее густым волнистым волосам пробежал легкий ветерок, и она поправила их своими тонкими длинными пальцами.
И снова Старенькой Кинокамере показалось, что волосы эти тоже должны непременно быть огненно–рыжего цвета…
Медленно–медленно проходят Стройная Женщина и Спортивный Мужчина мимо стеклянной двери кофейни с замершим за ней Бородачом и ничего не замечают вокруг себя, увлеченные друг другом.
Но почему они не спешат, как все остальные? Может быть, Молодой Художник нарочно все так подстроил, чтобы Высокий Бородач смог повнимательней разглядеть их?
Нет. Бородачу вовсе ни к чему разглядывать их: Спортивный Мужчина его совершенно не интересует, а Стройная Женщина… Да он и без того помнит каждый ее жест, каждый изгиб прелестной стройной фигуры.
Бородач вышел из кофейни и побрел в другую сторону.
Водитель такси, которому все же удалось выбраться из своей машины, решил было окликнуть его, но по тому, как безнадежно упала рука, сжимавшая букет роз, он понял, что в его услугах уже нет надобности.
Художник нервно прикурил новую сигарету от догорающего окурка, и — мотор, камера!
Ну нельзя же так! Сколько раз Старенькая Кинокамера говорила Молодому Художнику: если у тебя появилась новая идея — набросай ее на листе бумаги, чтобы не забыть. Но комкать незаконченный эпизод из–за этого не стоит.
И курить все–таки так много не надо! Что это он — из–за Бородача, что ли, так разнервничался?..
Знаешь, дорогой, если из–за каждого персонажа так убиваться, долго не протянешь. Уж лучше тогда займись Репкой или Дюймовочкой — там, по крайней мере, хеппи–энд гарантированный…
Ладно — мотор так мотор. Поехали!
Итак, закончим с Молодой Женщиной и Молодым Мужчиной.
Вот она выбегает из арки навстречу ему. Ее светлые глаза лучатся радостью. Волосы разметались по плечам. Она похожа на солнечный лучик, невесть как попавший сюда, в царство серой тени.
Но что случилось с Молодым Мужчиной?.. Он хмурится и даже не протянул ей руки. Похоже, вместо приветствия, он говорит Молодой Женщине что–то очень сердитое. Она изумленно смотрит на него. В ее широко раскрытых глазах уже блеснули слезы…
Нет–нет–нет! Стоп! Стоп!.. Так не годится!
У Старенькой Кинокамеры лопнуло терпенье.
ЕСЛИХУДОЖНИКНЕВНАСТРОЕНИИ — лучше бросить на сегодня работу!
Зачем же заставлять страдать ни в чем не повинных людей! Тем более — Молодую Женщину! Тем более — так похожую на… Все! Молчу! Не кури! Иди спать, завтра закончим. Спать не хочешь? Еще бы — столько кофе в себя набухать!..
Ладно. Камера, мотор.
Так–то лучше! Молодой Мужчина уже извиняется перед Молодой Женщиной. У него в руке даже появился букетик фиалок.
Слезы, к счастью, не успели выкатиться из прекрасных глаз. И Молодая Женщина уже простила Молодого Мужчину — как и всякая любящая женщина на этой земле…
Они садятся в Маленький Автомобильчик и скоро благополучно прибудут туда, куда спешили.
Ну вот. Можно немного передохнуть.
Кстати, что это за идея мелькнула в голове Художника? Он все–таки что–то запечатлел на обрывке листа. Хочет порвать… Нет–нет, постой–ка! Может же Старенькая Кинокамера хоть краем объектива глянуть на набросок!.. И что же тут?
Эге! Противный Старикашка. С Плетеной Корзиной в руке. Из Корзины кое–где выбиваются несколько прутьев. Он направляется к булочной. А что тут?
Ага! У дверей булочной образовалась небольшая пробка. Дело в том, что Длинный — Предлинный Гражданин, выходя из двери, поднял над головой длинный–предлинный батон, чтобы не поломать его в толкучке, и угодил им прямо в дырку Чугунного Калача, висящего над дверями булочной на красивом витом кронштейне. Пока он пытался высвободить свой батон, и приключилось столпотворение.
Вот тут–то и должен был появиться Противный Старикашка со своей не менее противной Корзиной, чтобы попортить ею чулки и колготки ничего не подозревающим женщинам, попавшим в сутолоку у дверей и от души сочувствующим увязшему батоном в калаче Гражданину…
Ну, знаете!.. Это запрещенный прием! Во–первых, колготки нынче стоят не так дешево, чтобы менять их после каждого похода в булочную, а во–вторых, у женщин и без этого хватает забот и огорчений. Так что пусть Противные Старикашки ходят по магазинам по утрам, когда там не бывает народу.
И правильно, что Молодой Художник раздумал вставлять эту маленькую пакость в свой фильм. Он затянулся новой сигаретой и о чем–то задумался, разрывая на мелкие клочки Старикашку с его Корзиной.
Старенькая Кинокамера не стала отвлекать его от грустных — это было видно — мыслей. Она решила воспользоваться паузой и, близоруко прищурившись, стала всматриваться в сиреневую полоску неба.
Какое оно все–таки настоящее получилось у Художника! Сам его цвет, кажется, наполнен звуками заката. Если бы не этот непрекращающийся шум на Узенькой Улочке, можно было бы расслышать и звенящую тишину, и перешептывание облачков, и пересвисты ласточек — маленьких неустанных тружеников. Конечно, они там — ведь до наступления темноты им много дел надо переделать. Что ни говори, а так радостно и свободно трудиться возможно, только имея крылья.
И снова Старенькой Кинокамере показалось, что она видит их — крошечные юркие капельки на острых, полумесяцем, крыльях. Она приподнялась на цыпочки.
— Ой–ой! — Это скрипнул Старенький Штатив. — Не забывайте, у меня все–таки радикулит!
Старенькая Кинокамера очень деликатно попросила еще са–амую капельку, еще совсе–ем немножко приподнять ее над мостовой. Вот–вот–вот…
Но что это?! Она… Не может быть!.. Она — ВЗЛЕТАЕТ!
У–у–ух! Вот она уже поднялась над головами прохожих, только что толкавших ее сумками и плечами…
У нее захватило дух.
Выше, выше — в проем крыш! В небо! В сиреневый простор! В музыку свободного полета!..
Звуки Узенькой Улочки постепенно стихли. Они остались там — внизу, в глубоком сером ущелье. Где все так же размеренно движется поток людских забот — больших и не очень, вечных и сиюминутных, — поток страстей — зарождающихся и увядающих, плодоносных и разрушительных. И ни одного лица! Ни одного человеческого лица — только уныло ссутуленные усталые плечи…
— ЛЮДИ! — хотелось крикнуть Старенькой Кинокамере. — ЛЮ-ЮДИ! Поднимите головы! Взгляните в небо! Прикоснитесь к нему глазами — и оно вольется в ваши души! Оно наполнит вас жаждой — жаждой жизни, жаждой полета, жаждой свободы… Вам непременно захочется утолить ее. И тогда вы раздвинете стены своих квартир. Вы распахнете ваши сердца. Вы стряхнете паутину с ваших душ. И уже никто никогда не сможет заставить вас быть несчастливыми!..
Так хотелось крикнуть Старенькой Кинокамере.
Конечно, она знала — не все люди глядят только себе под ноги. За свою долгую жизнь она была знакома со многими, чьи души были наполнены Небом. Вот, например, Молодой Художник… Кстати, как он там?
Старенькая Кинокамера так опьянела от радости, что совсем забыла про него. А он, похоже, забыл про все на свете — сидит в той же задумчивой позе. Но взгляд у него уже не такой печальный. Старенькая Кинокамера даже разглядела в нем — или ей только померещилось? — лучик Надежды и отсвет Новых Идей.
Это так обрадовало ее, что она попыталась повторить за пролетавшей рядом ласточкой крутой рискованный вираж. От собственной смелости у нее закружилась голова.
Все же не следует быть такой неосторожной — не стоит забывать о возрасте! Передохну–ка я немножко и полюбуюсь на город с высоты птичьего полета. Тем более что ой–ой–ой как давно это было в последний раз!..
Поэтому ли Старенькая Кинокамера не узнает ничего внизу?.. Где Большие Зеленые Облака Дубовых и Березовых Рощ, среди которых нежился под Теплым Солнцем Маленький Кирпичный Городок? И где сам этот Кирпичный Городок? Что это с ним?! Почему он превратился в серую бесформенную кляксу? Почему подернулись безотрадной тоской Голубые Глаза Земли?..
Если бы Старенькая Кинокамера не знала, что сердце есть только у живых существ, она решила бы, что это оно так больно — невыносимо больно! — сжалось у нее внутри…
Маленький Кирпичный Городок!.. Его больше нет. Красные черепичные крыши заменили — серыми шиферными. Не потому ли так уныла и бесцветна стала жизнь людей, что зарождается она и протекает под этими СЕРЫМИ крышами? — подумала Старенькая Кинокамера.
Серые щупальца однообразных новостроек почти совсем задушили Зеленые Облака, а на их широких неуютных проспектах корчатся чахлые бледные саженцы. Нет, никогда не стать им Большими Зелеными Облаками. И не их в этом вина…
А что, если… Старенькой Кинокамере пришла в голову неожиданная дерзкая мысль.
Да! Да–да! Так она и сделает! Прямо сейчас. Не откладывая в долгий ящик!
И она стала решительно снижаться.
Она расскажет обо всем Молодому Художнику. ОБО ВСЕМ! И о том, какое удручающее зрелище предстало перед ее объективом. И о том, КАКИМ был когда–то давно Маленький Кирпичный Городок. Какой чудесной мозаикой играли его черепичные крыши. И у каждой крыши был свой — СВОЙ! — неповторимый цвет: от морковно–желтого до сочно–вишневого. Если поднапрячь память — что–что, а память у Старенькой Кинокамеры была в полном порядке, — то можно припомнить цвет каждой конкретной крыши…
Вдруг какой–то легкомысленный перезвон отвлек ее от серьезных раздумий. Может быть, это из магазинчика, в котором торгуют хрусталем?
Нет. Оказалось, это Солнечный Лучик, стукнувшись о закрытое окно мансарды, отскочил от него и тут же угодил в другое — тоже закрытое — на другой стороне Улочки. Оба окошка — одно за другим — отворились, и из них выглянули Хмурый Мужчина и Сердитая Женщина. Покрутив головами и так и не обнаружив нарушителя тишины, они оба — не сговариваясь — взглянули вверх: на сиреневое небо, на разноцветные облачка, на ласточек…
Трудно сказать, о чем они подумали, но хмурые и сердитые складки на их лицах расправились, а глаза просветлели и превратились из серых — в голубые у Мужчины и в янтарные у Женщины. И тут они совершенно случайно встретились взглядами…
Что было потом, так и останется для нас неизвестным. Потому что Старенькая Кинокамера уже спешит дальше. Спешит поведать Молодому Художнику то, о чем он не знает, то, о чем она еще помнит…
Она уверена, что Художник захочет и сумеет вернуть крышам Городка их прежний вид.
А новостройки?.. Что ж, и на них у него хватит и фантазии и красок. И люди, обитающие в Городке, сразу ПОЧУВСТВУЮТ — не смогут не почувствовать! — что что–то изменилось в их жизни. Они еще не будут знать, что именно, но уже захотят изменить большее.
Они поломают асфальт во дворах и посадят там много цветов и деревьев. Они станут ухаживать за ростками, словно за детьми, и скоро — очень скоро! — гораздо скорей, чем это бывает на самом деле, хрупкие деревца нальются силой и превратятся в Большие и Добрые Зеленые Облака.
А еще люди непременно заметят, что Голубые Глаза Земли тяжело больны. Что они вот–вот могут совсем ослепнуть и помертветь. И они вылечат их, вернут им прежнюю ясность и глубину, чтобы Синему Небу и Золотому Солнцу было где плескаться вместе с веселой ребятней…
Старенькая Кинокамера сперва решила, что она не туда попала — таким неожиданным было увиденное.
Молодой Художник спал в своем любимом Огромном Кресле. Его уставшие — перемазанные тушью — руки лежали на мягких подлокотниках. Он… Он улыбался во сне. И Старенькая Кинокамера даже знала, что ему сейчас снится. Да и что ему могло сниться!..
У его ног — на полу — скинув свой тонкий плащ, сидела Девушка. В ее огненно–рыжих волосах поблескивали лунные капельки ночного дождя.
Она гладила своими тонкими пальцами руки Художника и покрывала их поцелуями.
Но как она попала в квартиру? — подумала Старенькая Кинокамера. И тут же поняла, в чем дело.
Рядом с Девушкой лежал Маленький Медный Ключик. Тот самый, который когда–то смастерил Молодой Художник. Этот Ключик висел у него в прихожей на стене и очень нравился Огненноволосой Девушке.
Однажды Художник понял, что никогда прежде, никому на свете ему так не хотелось отдать этот Ключик — ключик от своей собственной жизни, — как Огненноволосой Девушке. И он подарил его ей.
Правда, Старенькая Кинокамера и не подозревала, что этим ключиком можно открыть дверь квартиры… Хотя чего только не бывает на белом свете! Вот сидит же здесь, в комнате, Огненноволосая Девушка, а Молодой Художник улыбается во сне…
Они не станут его будить — пусть отдохнет, ведь у него впереди так много работы.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Ему становится лучше (англ.).
(обратно)
![Голос ангела [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/519699/primary-large.jpg)

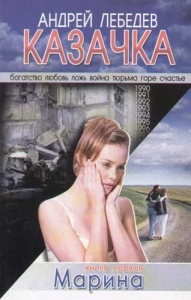

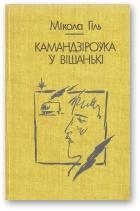






Комментарии к книге «Голос ангела [сборник]», Юлия Григорьевна Добровольская
Всего 0 комментариев