ЖАННА ПОЯРКОВА КОДЕКС
В «Китаянке» Годара есть момент, когда Жан-Пьер Лео рассказывает про обмотанного бинтами китайца. Тот кричит на демонстрации, показывая на копов: «Посмотрите, что эти свиньи сделали со мной!», затем разматывает бинты, но лицо не повреждено, на нем нет отметин. Друг говорил, что эта издевка над протестующими вполне в духе Годара. Я же уверена, что это лучшая метафора необратимых изменений личности. Ты выглядишь таким, как был, потому что раны находятся внутри. Все изменилось, города ушли под воду, а ты знакомо отражаешься в зеркале, хотя привычную оболочку носит кто-то другой.
Проба
– Кажется, он повернул, – сообщил Док.
– Точно.
Корвин выглядел окончательно замерзшим. Он надел модное коричневое пальто, больше похожее на пиджак.
Мужчина растаял. Я крутила головой, но грязная улица была уставлена машинами, в каждой из которой мог оказаться исчезнувший человек. Преследователями мы оказались дрянными, к тому же когда за тобой следят трое, заметить слежку нетрудно. «Объект» ничего подобного не ожидал, просто торопился убраться с мороза. Мы переглянулись, почувствовав себя глупо в роли сыщиков. Я некоторое время побродила, разглядывая машины, потому что ощущала необходимость закончить дело. Удовлетворившись силуэтами мужчины и его жены в одной из машин, мы вернулись в Мак.
Коза попросила проследить за показавшимся ей подозрительным то ли журналистом, то ли фотографом сразу после того, как тот поспешно собрался и ушел. Она часто поддавалась паранойе, но я рассудила, что лучше выгнать из группы пару невиновных людей, чем нарваться на милицию. При разговоре даже о незначительных деталях встречи все выключали телефоны, вынимали батареи, собирались в шумных местах вроде «Макдональдса» или других кафе, чтобы никто не мог подслушать.
Перед нами стояла задача провернуть репетицию акции «Охранник – друг мента». Идея простая: зайти в магазин, набрать продуктов, подобраться к кассе, делая вид, что мы случайные посетители, а по сигналу обрушить шквал еды на охранника, погребая его под селедками, тортами и манго. Олег говорил, что каждый третий здоровый мужчина в России если не мент, то охранник, а это неправильно. Идеологически акция несколько страдала, но поначалу это не слишком беспокоило. Проведение требовало кучи репетиций, поэтому мы искали «мушники», как их называли Олег с Козой, оценивали планировку, количество касс, охранников, камер, а потом совершали налеты, чтобы снять подготовительный материал. Воинство летящей мороженой рыбы и с хрустом разбивающихся яиц. Сама акция должна была занять от силы минут десять вместе с выбором продуктов, но получить удачные фотографии за несколько минут скомканного нападения невозможно, поэтому мы оттачивали навыки и работали на камеру, оставляя охранников неприкосновенными до решающего момента.
Особенно запомнилось, как снимался подготовительный этап. Мы встали у касс в крупном супермаркете и молча замахивались продуктами, повторяя действия снова и снова на глазах у недоумевающего люда. «Еще!» – командовал фотограф. «Еще!» – хмурился Вор. «Еще!» – веселилась Коза, запуская в меня яблоком. Большинство из рядовых активистов вели себя неестественно, напрягались, но Козе и Олегу было хоть бы что, они принимали позы и кидали булки в остальных с лицами пламенных борцов с капитализмом. Работники супермаркетов равнодушно наблюдали. Коза отменно швыряла рыбу и очень яростно впечатывала торты. Мои пижоны-друзья в роли неистово кидающихся едой радикалов выглядели неожиданно. Корвин с топорщившейся шевелюрой сурово сдвигал брови. Док в очках, запускающий упаковки через проход, вызывал ассоциации то ли со сбрендившим студентом, то ли с сумасшедшим доктором. Сразу вспоминалась песня «Развлекайся» группы «Наркотики»: «Зайди в магазин, кидайся едой, пусть все узнают, кто ты такой».
Сосиски, мерзлая рыба, мука, плоды, плюшки, – все это летало по-разному. За прошедшие в оледеневшей до кишок Москве несколько недель я научилась незаметно разрезать веревки на тортах, выбирать смешно выглядящие и удобные для броска продукты, метать овощи и связки сарделек, кидаться мукой, чтобы не слишком испачкаться, презирать охрану, находить камеры, воровать еду, вычленять среди обычных посетителей подставных покупателей и делать множество схожих вещей. Коза хотела быть абсолютно уверенной, что в решающий момент никто не испортит акцию, так что мы кидали и кидали, будто спортсмены под руководством тренера, – облепляли снежками изображающих охранников активистов, стоящих посреди нарисованной на снегу схеме с кассами, азартно выгребали подходящий мусор из помоек, чтобы набить руку, устраивали шоу в магазинах. Мы замерзали до одури на почти тридцатиградусном морозе и двигались петлями – от супермаркета к супермаркету, от метро до Мака, от Мака до очередного магазина. К концу срока нас тошнило от магазинов и еды.
Война звала фотографов, на месте объясняя им, что нужно делать. Многие из приглашенных ужасались, потому что буйство у касс противозаконно, а мы – проклятое хулиганье. Чувствовать себя хулиганьем было приятно. Фотографы кривились, но ради сюжета и возможности поработать с арт-группой себя превозмогали. Новичков-блогеров тоже сильно корчило, и я любила на это смотреть: как кто-то преодолевает жажду комфорта или наоборот пятится, спешно изобретая новые и новые оправдания. Олег обрабатывал какого-то неофита, Лысый прилаживал на кепку скрытую камеру, Коза пыталась починить постоянно ломающийся приемник на ноутбуке. Чевенгур моргал, Лина хохотала, Корвин курил и наблюдал. Я любила его, от этого становилось больно, но смотрела на Дока, потому что его я любила больше.
Изнутри раздирала невыносимая нежность к миру, смешанная с тоской, какая-то уитменовская жажда, страсть к жизни. Словно агонизировать в экстазе. Чтобы справиться с собой, нужно было буйство, действие, вакхические пляски. Больше огня, больше, еще больше чертового огня, хотя от него выгорают внутренности. Стоило кому-то застопориться, начать тратить время зря, как внутри начинал отсчет таймер ядерной бомбы. Я смотрела на Дока. Когда он входил в двери очередного кафе, где мы устраивали подготовку, речь окружающих становилась вязкой, звуки останавливались. Но предметы, фигуры, жесты воспринимались так, словно с картины стирали пыль, ни одна вещь не оставалась прежней. Воздух натягивался как полиэтилен, и мне хотелось прорвать его пальцами, чтобы дотронуться до укрытого пальто тела Дока. Все становилось новым, диким, свежим и ярким, как порез.
Почему
С Войной я познакомилась из-за текстов. Их первая попытка связаться оказалась неудачной: кто-то из активистов оставил предложение присоединиться, на которое я не ответила. Война набирала членов группы разными методами, уже на месте определяя, подходит человек или нет, а я была отчетливым «симпатизантом». Мне очень нравилась их дерзость, способность совершать вылазки прямо в центр зла, без страха и без стыда. Они врывались в суд, распевая дурным голосом обвинения прямо в лицо системы, приходили даже в участок, устраивая вакханалию перед теми, кто должен был их арестовать. Наглость, способность действовать на территории врага особенно привлекала потому, что крах союза НБП и либералов к тому времени был совершенно очевиден. Марши Несогласных выглядели жалкой пародией на протестное шествие. Я искала проявления политической жизни, но все варианты были тупиковыми, так что выходки Войны оказались очень кстати. Мне не нравилось, что современный арт задвигает в тень прежде такую яркую НБП, но это происходило, от фактов не отвернешься. Мы с Корвином запомнили Войну еще со времен кошек в Макдональдсе. Летящие в сторону касс животные и внешняя бессмысленность происходящего напомнили поэзию дадаистов.
Зимой 2009 я была членом питерской НБП, мутировавшей в Другую Россию, но к тому времени скорее виртуальным. После полутора лет активных маршей и горячих переживаний я испытывала разочарование. Как и многим нацболам, хотелось действия, хотелось революции, захвата, романтики, горячих пуль в сердце, подвигов, переворота лживого и надоевшего хода жизни большинства, а Лимонов держал курс на легализацию. Понять Лимонова нетрудно, он избавлялся от оттенка маргинальности, но мы любили маргинальность, а союз с либералами закончился провалом. Нацболы готовились пробивать ограждения, размахивая алыми и черными полотнищами, однако «союзники» то ругали наши флаги, то шли на отталкивающие компромиссы с властями. Азарт от участия в голосованиях, жажда живой политики и способность часами клеить стикеры ради идеи перед лицом предательства либералами поувяли. Цена политики, которую я после чтения Платона называла «искусством управлять», не выдержала проверки реальностью и резко упала. Ружья простаивали. Бывалые члены партии выражали недовольство, но смирялись перед волей Лимонова, у меня же со смирением дела обстоят плохо. До того, как предложить свою помощь только что запрещенной НБП, я наблюдала за ними много лет, и снова возвратилась на позицию наблюдателя, отправляя статьи в «Лимонку».
НБП для меня много значит, но я не люблю тупики. Были и другие причины, вызвавшие «кризис веры», хотя по первому сигналу чего-то стоящего я была готова сорваться. Однако ничего из того, что я видела, не говорило об изменениях; Лимонов все больше превращался в одинокого старого вояку, он самовлюбленно противостоял миру, который не понимал его правил. Мне же нужно было убийство царя, бомбы в фартуках, обещанные буйные девочки на вертолетах, дичь и простор. Тупой, монотонный повтор пути в уазик и обратно в план не вписывался. Нужно было стать более хитрыми и мобильными, уходя от лобовых столкновений. Моими кумирами являлись Ульрика Майнхоф[1] и Черные Пантеры[2], в голове кипели идеи о полном переформатировании государства, кулаки сжимались в желании что-то делать, так что я пыталась избежать ощущения провала, оглядываясь в поисках подмоги. Мне нужен был новый опыт, который можно применить.
Как раз тогда, в разгар выборов, Война сделала акцию «Ебись за наследника Медвежонка», вызвавшую фурор в сети. Трахающиеся в биологическом музее некрасивые люди провоцировали обывательский шок и жажду немедленной расправы. Венчал действо клоун Плуцер Сарно, держащий над групповухой плакат, словно швейцар у двери. Представить что-то более безвкусное трудно. Народ изнемогал. Секс! С беременной! Это же-увидят-дети! Участников клеймили, брызгая слюной, пытались выгнать с философского факультета, что выглядело особенно ошеломляюще. «Мы готовим не философов, а преподавателей философии», – буйствовал декан. Ну, ясное дело, «парламент – не место для дискуссий». Преподаватели философии, готовящие преподавателей философии, вызывали в голове мысли о проблеме спама.
Войну призывали казнить, посадить на кол за бесстыдство и пустить по кругу в тюрьме. Кровожадные призывы изумляли. Секс действовал как красная тряпка, ради защиты приличий спокойные на вид граждане готовы были растерзать ближнего своего, заходясь в возмущенном вопле. Олег позже говорил, что главное назначение Войны – раздражать обывателя. С этой задачей они справились великолепно: шквал осуждения, попытки свести непристойное высказывание к оценке внешности, пошлые комментарии и рассуждения о вездесущих детях, которые пострадали в результате акции так же, как и преподаватели философии, не прекращались неделями. А ведь кроме обнаженки акция имела вполне определенный посыл: это и пародия на уродливый политический процесс, и намек на традиционность, преломленную в балаганном ключе, когда люди совершают обряды плодородия во славу царя. Акция всего лишь называла вещи своими именами, свальный грех – свальным грехом, балаган – балаганом. Биологический музей как место действия тоже добавлял колорита.
Меня фотографии не шокировали, хотя я нашла «Ебись за наследника» отталкивающей, вроде Венеры из Виллендорфа. Но суть в том, что акция и должна была быть такой – отражением российской политики, проигрыша, непристойности и как раз неприкрытого бесстыдства, с которым всех прокатили. Всех отымели, все проиграли, но продолжали механически двигать бедрами под лозунги Едра, выставившего вместо Путина никому не известного карлика и хладнокровно посадившего этого мини-мы на трон. Я считала, что секс не может быть орудием политической пропаганды, потому что отвлекает внимание от любого содержания; секс профанирует политические идеи. Война считала иначе, и в данном конкретном случае их убежденность работала. Создавая скандал, они вписывали его внутрь текущего информационного поля, за счет чего групповуха становилась посланием.
Но больше интересовало другое: то, что все участники шли на изрядное насилие над собой. Многие комментаторы визжали, что акционисты просто хотят внимания, им лишь бы покрасоваться, что совершенно не соответствовало действительности. На деле совершить подобный поступок сложно, для большинства участников это было самоизнасилованием, тяжелой работой, но они это сделали, чтобы расширить границы возможного, разбить понятие о запретном. Затем похожую вещь в плане преступления общественных ограничений проделал Шиитман, устроив имитацию секса с девушкой в платочке напротив здания украинской Рады. Его акция имела другой смысл, так Шиитман протестовал против комитета по морали, но просто тоже не было. Странный способ самодрессировки, которым занималась Война, вызвал интерес. Они не получали легкого кайфа, не резвились, они воевали – и с собой в том числе.
Встреча с Войной немного пугала. Дело не в том, что они делали, а в том, что участники Войны казались мне язычниками, их мораль – неясной, хаотичность настораживала. Я была уверена, что они гораздо более пластичны, не столь уперты и озабочены нарушением внутренних правил, что они бродяги, хитрые воры, летучая группа мошенников. Для банды трикстеров я слишком категорична, так что они околпачат меня и пустят по миру, весело хохоча. Я вполне могла стоять на их стороне, но стать частью табора не удастся, я чужак. Так что на первое предложение присоединиться к Войне я промолчала. К тому же ради знакомства нужно было ехать в Москву, а я работала.
Позже Война заявила о себе всерьез – последовал целый каскад запоминающихся акций, одна лучше другой, изредка перемежающихся провалами. Во-первых, лаконичная и сильная при простоте исполнения акция «Мент в поповской рясе». Высокий, статный Воротников надел рясу, эффектно развевающуюся при ходьбе, повесил на грудь крест и надел милицейскую фуражку. Зачесанные русые волосы добавляли простонародного, православного духа, а невозмутимо серьезное, полное осознания безнаказанности и даже какого-то неуместного достоинства лицо завершало картину. Вор набрал продуктов и прошествовал мимо касс, не заплатив, символизируя безнаказанность властей. Мент и поп – им позволено все, обоим из опаски, хотя она имеет разный характер. Россия как страна, где все подчиняются либо милиции, либо попам, где одно бывает неотличимо от другого по своей отталкивающей мощи, где духовенство слито с властью и хочет выполнять ее карательные функции. Это было проделано очень точно, не требовало сверхусилий и оказывало стопроцентный пропагандистский эффект на тех, кто не разучился думать. Это было смешно, точно и, пожалуй, изящно.
Следующая акция, которая привлекла мое внимание, – это «Штурм Белого Дома», в ходе которого Война спроецировала на Белый Дом лазерный череп с костями. Война действовала озорно, не зацикливаясь на политической подоплеке, как бы играя. «Штурм» – это масштабная, но при этом абсолютно несерьезная выходка, похожая на хакерскую атаку, дефейс «just for lulz». «Штурм» остается для меня-зрителя одной из любимых акций именно из-за плана исполнения, так что я не раз потом просила Козу рассказать о том, как они ее делали. Хотя я историю уже слышала, нравилось слушать повторения для новичков, потому что сущность Войны как группы ловких мошенников, отлично планирующих свои действия, здесь проявилась на все сто.
Один из принципов Войны – малая стоимость акций, возможность собрать все нужное из подручных материалов, украсть реквизит или воспользоваться им так, чтобы никто не понял, в чем дело. Коза повторяла, что Война показывает пример остальным, демонстрирует, что в революции может участвовать каждый, что делать громкие акции просто: это может группа бродяг, значит, это можешь – и должен – делать ты. «Штурм» требовал дорогостоящего оборудования для проекций, которое нужно было затащить на самый верх стоящего напротив Белого Дома здания, затем спроецировать череп несмотря на протесты наблюдателей, зафиксировать рисунок и сбежать. Ребята сделали следующее: 1) взяли оборудование на тест-драйв, придумав занимательную историю и уговорив специалистов помочь им затащить все на чердак, чтобы оценить «дальнобойность» системы; 2) обеспечили доступ на закрытый чердак; 3) отвлекли внимание техников во время проецирования черепа с костями; 4) а затем еще и сбежали, ни за что не заплатив и оставив недоумевающих спецов все убирать. Проделано все было жестко и ловко.
Симпатии росли, но кульминация была впереди. Сначала Война нагло и деловито заварила двери дорогого ресторана «Опричник», а в мае 2009 ворвалась в здание суда во время процесса по делу Ерофеева[3]. Активисты пронесли музыкальные инструменты в зал и исполнили песню о том, что менты – ублюдки. Глумливый ACAB[4] посреди учреждения, которое должно вызывать уважение и трепет, начисто лишил присутствующих ощущения серьезности судебного процесса.
Война последовательно боролась со страхом, с уважением к законам, инстанциям, приговорам, правилам. Неудивительно, что высказавшись так прямо, участники Войны моментально стали моими кумирами. Фотография Толоконниковой[5], дерущейся с милиционером, превратилась в личное постмодернистское переложение картины Делакруа. Одна строчка хроники «В зал суда незаметно были пронесены гитары, барабан, два портативных гитарных усилителя» чего стоит. Анархический, дурацкий, диковатый протест был как раз таким буйным и абсурдистским, как мне хотелось. Особенно он был хорош потому, что Ерофеев, оказавшийся в суде за «Запретное искусство», негодовал по поводу акции едва ли не больше судьи. Пока охранники сообразили, в чем дело, Войне удалось как следует порезвиться. Обе акции были проведены на территории врага, с редкостным цинизмом и расчетом, но при этом выглядели, как карнавал. Никто не пострадал кроме репутации суда и приставов.
После «Опричника» и концерта в суде я по-настоящему зауважала Войну. Кто-то снова предложил познакомиться, но я решила, что с такими людьми нельзя просто распивать чай и говорить «привет», словно ты какой-то зевака или болтун. С ними нужно действовать. Аноним (это был Чевен, один из активистов) написал, что если хочется экшна, есть возможность встретиться во время акции в Москве. Это было кстати.
К тому времени я ушла с работы. Изображать, будто мне нравится быть частью корпорации и сидеть, видя вместо монитора лицо Дока, было ни к чему. Множество людей ежедневно выполняют обязанности, без которых вполне можно обойтись. К тому же наемный труд окончательно разочаровал как концепция: я начиталась Боба Блэка, половину существующей деятельности называющего бесполезной, а оставшуюся – возможной в условиях анархического «государства» без традиционной схемы наниматель-наемный рабочий. Трикстерская сущность Войны тоже больше не пугала, так как прежний кодекс не казался исчерпывающим. Я влюбилась в лучшего друга, но не могла этого произнести, так что нужно было действовать, испытывать себя, и предложение оказалось к месту.
Собираясь на встречу, я позвала Корвина, взяли и Дока, хотя я собиралась сперва сама все разведать. Корвин – ходячий Сид Вишес, наделенный интеллектом, его ничем не проймешь, и в нем я была уверена на все сто. Закрытый, молчаливый Док не меньше нас с Корвином, участвовавших в акциях НБП, был увлечен бунтами, духом мятежа. Я ожидала неожиданных поступков: стоит обстоятельствам сложиться удачно, Док отмочит что-нибудь почище нас, а внешнюю невозмутимость и спокойствие сметет коктейль Молотова.
Мы отправились в Макдональдс на Пушке[6], чтобы встретиться с Войной. Участники группы предстали перед нами, как цыганский табор или воровская шайка, расположившись с грязноватыми ноутбуками, скарбом, рюкзаками и подобранными с соседних столов объедками и стаканами на стульях и столах Мака. Немытые и лохматые, выглядевшие так, словно их основная задача тебя наебать, они начали издалека подходить к тому, что им нужно. Первое впечатление от Войны, думаю, сразу отсеивало больше половины потенциальных активистов, и это было мудро, потому что акции на 90 процентов состояли из скитаний, тренировок и прочесываний помоек. Картинная романтика появлялась только после завершенного дела.
Тощая и красивая Коза выглядела, словно дикарка. Каспер, ее ребенок, ползал повсюду, будто маленький живой танк. Олег, в растянутых штанах и расстегнутой дубленке, развалился на стульях. Были и другие – Чевенгур, длинноволосый рохля, с которым крайне интересно разговаривать; фотограф, веселушка и мастер магазинной кражи Лина; Лысый и множество других персонажей. Они вели себя свободно, даже развязно. Олег попросил выключить телефоны и вынуть батареи. Я кратко поделилась впечатлениями о Войне, представила друзей и спросила, какую акцию планирует арт-группа и чем мы можем быть полезны. Олег начал издалека – что это будет акция в супермаркете, что никто не пострадает, что это неопасно. Больше он собирался рассказать, только если мы согласимся участвовать. Запахло шпионской романтикой или разводом. Мы помолчали, обдумывая решение. Каждый ценил свое слово достаточно высоко, так что вписаться, а потом сбежать никому не хотелось.
По сравнению с Войной выглядели мы откровенными «мажорами». Коза потом так и спрашивала: «Где твои парни-мажоры?». У меня внешность пай-девочки, что не раз помогало в процессе наблюдений или во время бегства от ментов. У Корвина – как у парня-стиляги, у Дока – как у московского студента.
Я ответила «да», потому что именно за этим и пришла. Преодоление щемящего чувства подставы входило в план. Согласился и Корвин. Док, сидевший с выражением лица, будто его втягивают во что-то крайне сомнительное, тоже решился. Так мы узнали про акцию «Охранник – друг мента» и стали частью Войны. Это оказалось нетрудно.
Воруй, убивай
Одним из полезных навыков, которые я приобрела с помощью Войны, была кража продуктов. Прежде я ничего не крала, а для Войны вынос из магазинов – основной способ существования, так как все им нужное они берут, не заплатив. За все время, что я находилась с Войной, я ни разу не видела, чтобы они хоть раз вынимали из карманов деньги. Для Войны неиспользование денег – одно из условий жизни радикального художника. Ни копейки государству, никакого наемного труда, никакого съема квартир и комнат, нет оплате транспорта. Презренные бумажки – только в крайних случаях, например, для закупки оборудования.
Как-то раз они перепрыгивали через турникеты в метро группой человек в десять, причем одним из прыгающих был режиссер документального кино Андрей Грязев с профессиональной видеокамерой и подставкой к ней. Даже из маршрутки, где все, казалось бы, на виду, Война умудрялась выходить, не потратив ни копейки. При виде Козы с Каспером водители в большинстве своем размякали, если же встречались черствые или непреклонные, в дело вступал Олег и убалтывал или задерживал бушующих мужиков, пока все остальные улепетывали. Я поступала по желанию – то прыгала, словно гопота на концерте, то платила.
В совершении магазинных краж Коза и Олег достигли небывалых высот – брали продукты нагло, быстро, привычно. Позже они научили кражам и остальных, но так бесцеремонно, четко и результативно не получалось больше ни у кого. Глядя на то, как они работают, я испытывала смесь восхищения и ужаса. Это было виртуозно. Обычно кража происходила так: Коза и Олег заходят с рюкзаками в магазин, Леня встает со стороны продавца или охранника, закрывая обзор, а в это время экспроприаторы буквально заваливают рюкзак продуктами. При усложненной схеме дополнительные наблюдатели занимают посты на подходах, тыря по мелочи и давая сигналы Козе с Олегом, если что-то идет не так. Набив сумки, Война невозмутимо продолжала путь с добычей, по дороге к выходу незаметно захватывая мелкие вещи. Продукты исчезали с полок молниеносно, причем Война не брала, что попало, – только нужное и лучшее. У Лени позднее, когда он окончательно присоединился к Войне, появилась специальная рабочая сумка – на лямке и с распахивающейся крышкой, чтобы было удобно класть, не приходилось возиться с застежками и можно было закрыть одним движением руки. Я обычно засовывала упаковки с едой в рукав, шапку или штаны. Как-то, обнаглев, вынесла упаковку мидий, запихнув ее под футболку.
Кража из супермаркета совершенно не задевала чувства справедливости, потому что супермаркет обезличен, а убытки от предполагаемого воровства уже включены в цены на продукты. Война позиционировала себя как своеобразный вид городских партизан, поэтому обеспечение ресурсами за счет центров потребления выглядело разумным. Как писал Маригелла[7] в учебнике для городских партизан: «Огромные затраты революционной войны должны падать на крупных капиталистов, империализм и латифундистов, а также на власти, как федеральные, так и местные, поскольку все они являются эксплуататорами и угнетателями народа». Иногда какие-то вещи было удобнее купить, но Война признавала только кражу, возведенную в догмат.
Сначала мы с Доком и Корвином напрягались, так как воровать нам прежде не приходилось. Не знаю, чего боялись друзья, а я опасалась быть пойманной, позора перед остальными. Любопытно было наблюдать за Доком, ему кражи давались непросто. Неловко наклоняя туловище и с опаской глядя по сторонам, молодой интеллигентный москвич крал еду и напитки. Но чаще мы просто отвлекали внимание. Корвин потом воровал дорогой сыр для завтрака, удивляясь, почему не додумался до этого раньше – не платить же такие деньги за чертов сыр.
У меня кражи не вызывали ни азарта, ни особенного отторжения; мне было все равно. Сперва мы шли «на слабо», чтобы не выглядеть «мажорами», но затем кражи стали восприниматься обыденно, хотя так легко, как у Войны, у нас не получалось. Мы толкались у прилавка, наматывали круги и отвлекали продавцов, попутно хватывая что-нибудь небольшое вроде упаковки масла, кексов или пачки орехов. Иногда Коза делала заказ украсть что-нибудь конкретное, нужное по хозяйству. Как-то мы обворовали аптеку, в которой оставалась только девушка-консультант, внимательно следившая за лекарствами. Я, Док и Леха несли какую-то чепуху, чтобы ее отвлечь, пока Коза и Олег снимали памперсы с витрины.
Рассказывали, что однажды украли даже синтезатор.
Они крали из крошечных салонов сотовой связи под носом у охранников – высший пилотаж. Зимой, на день рожденья Лехи мы все во главе с Вором совершили рейд по проспекту, на котором находилось около десятка «мушников», и целой командой награбили два гигантских рюкзака еды и выпивки, засовывать было некуда.
Война лукавила по поводу значения краж, ведь революционной армией группу художников, эпатирующих обывателей, не назовешь. Но после того как их поставили вне закона и лишили документов, опыт такой жизни оказался как нельзя кстати. Война выгодно отличается от леваков тем, что способна обеспечить себя необходимым минимумом для жизни в любых условиях.
На первом этапе кражи были для нас полезны: мы с друзьями все дальше выходили за рамки закона, идея о незыблемости правил, изрядно девальвированная участием в оппозиционных выступлениях, окончательно ставилась под сомнение, а главное – мы получали опыт выживания. Уже через несколько месяцев после знакомства с Войной я оказалась в мерзлом Питере без денег и друзей. Тогда я не раз вспоминала Козу и Олега хорошим словом, покупая картошки на двадцатку – и запихивая в шапку, рукава и штаны куски сыра и брикеты творога. Главное – сохранить невозмутимый вид. Если выглядишь уверенно, никто не заподозрит, что ты – вор. И не воровать слишком дорогие продукты, иначе правонарушение из области административного права переместится в область уголовного, а ты – из магазина в тюрьму.
Люди постоянно разговаривают друг с другом, но все, что они сообщают, можно разделить на болтовню и рецепты, живое знание. Рассказы развлекают, но стоит тебе оказаться в тяжелой ситуации, как ты скорее вспомнишь совет дяди Васи по поводу того, как варить суп из топора, чем очередную поэму. Живое знание – это рецепт бомбы, которая взорвет стену тюрьмы, это план, как доехать от Москвы до Питера без денег, это инструкция, куда бить, если на тебя навалился двухметровый детина. Война научила меня красть, и я была благодарна за это. Но я не перестала считать кражи паразитизмом на обществе потребления, которое они горячо порицали. Лось, активист ДСПА[8], об этом писал так: «Воровство как акцию, как призыв к бунту я приемлю. Воровство как революционную перспективу я высмеиваю. Воровство возведенное в догмат, в мораль, я резко осуждаю».
Кроме краж у Войны был еще один пункт, связанный с жильем. Группа постоянно дрейфовала и жила у тех, кто мог их у себя приютить. Дня два они прожили и у меня, пока хозяйки квартиры не было дома, потом я через приятеля вписала их у нацболов. Коза, Олег и Каспер останавливались у друзей-художников, у фанатов, в полузаброшенных квартирах, на заводах, в шикарных хоромах и на улице, – они побывали везде. Однажды Док рассказал, как они пытались заночевать у питерского городского сумасшедшего, который сначала пригласил внутрь, а потом решил позвать милицию. Леня некоторое время жил в холодном подвале-наркопритоне недалеко от Сенной, потому что нормальных вариантов не подвернулось, а жить где-то было нужно.
У Войны выработался специфический распорядок – всю ночь члены группы могли бодрствовать, исследуя места будущих акций, гуляя, разыскивая необходимые материалы или просто читая книги и размещая видео в сети, а днем укладывались спать. Костяк оставался постоянным, но постоянным было и движение в группе – активисты, журналисты и знакомые приходили и уходили, так что любая стоянка превращалась в проходной двор. Нервы у хозяев не выдерживали, и рано или поздно Войну просили на выход. Дольше всех выстояла Лена, журналист и поэт, в огромной квартире которой Война прожила почти все лето 2010-го. Периодически она просила нас покинуть помещение, давая себе передышку, но затем позволяла вернуться. Истерику хозяев Олег высмеивал, намекая, что Война приносит в их унылые жизни огонь.
Если говорить объективно, назвать классическими приятными гостями Войну действительно трудно. Это текучая коммуна с изменяющимся составом членов, они привносят свой порядок, но большинство проблем решают сами – добывают еду, готовят, стирают, развлекают. Война щедро угощает имеющейся пищей всех, кто к ним пришел, независимо от статуса; несколько раз Коза хотела наделить меня одеждой из той, что удалось обнаружить на улицах, подарила пару значков. При этом барские выступления Олега, речи о нежелании подчиняться условностями, о буржуазности и об общественных нормах, которые следует презреть, вытерпит не каждый хозяин независимо от того, есть ли в сказанном хоть доля истины.
Странствия выработали у Войны совершенную небрезгливость. Они очень мобильны и нетребовательны, могут спать – и без разговоров спят – на полу, везде обустраиваются и чувствуют себя как дома. Очень полезный навык для тех, кому приходится скрываться, которого не хватает большинству тепличных «оппозиционеров». Как-то мы вписались в московскую квартиру, грязную, с горами немытой посуды , неработающим толчком и запасами вонючей, протухшей еды в холодильнике. Всем, кроме Лени, по характеру самого собранного, было наплевать, но ему стало не по себе, так что парень взялся за тарелки и начал наводить порядок, избавляясь от наиболее зловонных пакетов. Олег с Козой к таким условиям относились равнодушно – была крыша над головой, была еда, были люди, были планы, а все остальное – мелочи. Война – не гости, вежливо посиживающие на диване; это перемещающаяся между пунктами и совершающая необходимые безобразия ячейка, для которой любой дом – всего лишь очередная остановка в череде сотни других, не приятный выход в люди, а необходимость. Особого пиетета или благодарности Война проявлять не станет.
Говоря о небрезгливости, стоит уже рассказать и о Лене. Леня мне нравится, потому что одновременно рассудителен, спокоен и даже непробиваем, но восторженно относится к любым бунтам. История его прихода в Войну стоит внимания: вот парень участвует в либеральной мертворожденной «Солидарности»[9] и работает менеджером среднего звена, а вот он бегает по машине с синим ведром на голове, потом сбривает волосы, бросает работу и становится членом радикальной арт-группы. Леня – ходячая классика, пример, как человек может поменять свою жизнь, буквально следуя протестным убеждениям. Его не в чем упрекнуть – он воплотил в жизнь то, о чем многие только разговаривают. Леня открыто, как-то очень просто и уязвимо рассказывал о том, как решил окончательно присоединиться к Войне; это подкупало. Если Олег часто позирует, играет на публику, то Леня чистосердечен, в чем-то наивен, но честен, дисциплинирован и достаточно умен. В обычной жизни он молчал и занимался делом, когда же речь заходила об идеологии или участии в чем-то, он немедленно оживлялся. Впервые я встретила его на репетиции «Охранника» и запомнила как лохматого, резвого парня, нервное поведение которого выглядело подозрительно. На вопросы в духе «кто будет метателем?» или «кто будет задерживать охранников?» он сразу же отвечал «я!» в то время как другие задумывались.
Так вот Леня считал своим долгом подбирать разный мусор из урн и допивать напитки в Маке не потому, что не хватало еды, а по идеологическим причинам – так он себя воспитывал. При этом сосредоточенный и скудный в проявлении эмоций Леня, становившийся возвышенным, когда дело касалось акций, был, наверное, самым чистоплотным членом группы. Часто в то время, когда остальные смотрели видео, обсуждали, «заносил» ли Лоскутов[10] ментам, или валяли дурака, он намывал посуду и убирал квартиру. В панк-период у меня были похожие настроения: я поднимала с пола жвачку и допивала всякую дрянь и мне казалось, что нужно преодолеть отвращение – и так обрести дополнительный контроль над реальностью.
Я понимала Леню, но его поведение выглядело смешным.
Тема самопреодоления, через которое приходишь к свободе, в компании Войны поднималась часто, даже если прямо об этом никто не заговаривал. Каждая новая акция, да и самые обычные будни, были отмечены печатью самопреодоления. Активистам нередко приходилось ломать внутренние границы.
Коза говорила, что у Войны каждый день – это серия мини-акций, и живут они так, что жизнь – нескончаемая череда различных арт-поступков или маленьких революционных выступлений. Во время подготовки к акциям так оно и было. Ты занимался целой массой неожиданной работы – от слежки за милиционерами до сортировки списка магазинов, где есть нужные для создания определенных веществ ингредиенты. От выбора подходящих по размерам заброшенных машин до испытания огнемета. То залезал в морозильник, посыпая себя пельменями под изумленные взгляды убегающих покупателей, то изучал электронные схемы. Зимой, в начале нашего знакомства, Коза подошла ко мне и хитро улыбнулась: «Можно вместе встать между вагонами и проехаться, но нужно как следует держаться». Есть у нее такая привычка – предлагать вещи, реализация которых кажется делом простым, обыкновенным, но которые не так-то легко сделать на самом деле. Я как раз размышляла о черно-белом «Балете пуль» Цукамото[11], о сцене, в которой девушка стоит на самом краю платформы, – и мне захотелось проехаться вместе с Козой, чтобы стать друзьями.
Док
Я всегда хотела быть рыцарем Дока.
Чтобы кто-нибудь напал на него, а я ворвалась и заставила врагов обратиться в бегство. Хотелось встать на колено, наклонить голову, чтобы он произвел меня в рыцари, связав узами верности. Он был частью вечного отряда, в котором я хотела находиться. У Муркока[12], прочитанного в детстве, была концепция Вечного Героя, который может умирать множество раз, но снова и снова возрождается в разных странах и разных мирах, потому что везде есть народы, которые нужно спасти, войны, в которых нужно победить. Вечный Герой ищет Танелорн, город, в котором сможет наконец умереть, но смерть недоступна – он перерождается снова и снова. Убежать от предназначения не суждено. Спутники Вечного Героя тоже возрождаются. Они выглядят по-разному: то становятся его соперниками, то лучшими друзьями, – но крепкая связь между ними не зависит от времени.
Я верила в то, что если я Вечный Герой, кредо которого восставать против несправедливости, то Док – член моего отряда. Иногда воображение рисовало его молодым королем, а я должна была быть лучшим, первым из воинов, генералом-советником или личным асассином. Док был уклончив, я же мало чего боялась, но контраст и делал выбор значимым. «Мое оружие принадлежит тебе», – говорят рыцари в фильмах, произнося клятву. Я клятв не произносила, но мое оружие совершенно точно принадлежало Доку. В этом было мало от подчинения, больше от обетов, когда ты направляешь себя с помощью другого. Король без вассалов, принесших присягу, – никто, но и жизнь феодала бессмысленна, лишена чести без стремления направить себя целью, без желания спасти короля. Ты выбираешь долг не потому, что иначе не можешь, а потому, что он заставляет преодолевать препятствия, делает тебя лучше.
Я познакомилась с Доком, когда ему было семнадцать, а мне двадцать два. Никому из приятелей он раньше не показывался – общались в вирте, но тогда пришел, так что мы смогли удовлетворить любопытство. Док был чертовски высок и тощ. Он с недоверием посматривал вокруг, как будто вышел в мир впервые и теперь хочет знать, что тот даст ему взамен. Низкий, густой голос резко контрастировал с бледным лицом и худым телом. Док порой становился едким, но при этом оказался крайне уязвим – неуверенный в себе умный затворник, которого мы вытащили наружу. Из-за недостатка опыта Док иногда мог быть настоящей задницей, но чаще казался невинным, колючим, любопытным. За своеобразное чувство юмора мы его любили, но знали болевые точки, так что могли обезоружить. О себе Док ничего не рассказывал, да и вообще был предельно немногословен, больше наблюдал. Мне он доверял больше остальных, но лишь до определенной черты. Я же задалась целью завоевать доверием Дока всецело.
Многое из того, что нам казалось обыденным, Дока вначале удивляло. Мы казались на его фоне условно «дворовыми» ребятами, громко ездящими по ушам своей образованностью за стаканом дешевого вина. Док при таком раскладе смотрелся воспитанным парнем из хорошей семьи, попавшим в дурную компанию. Я опасалась, что он сбежит после визита вежливости, но я слишком плохо его знала. Док остался, быстро адаптировался и стал неотъемлемой частью группы, центром сарказма. Сдержанность, серьезность, контроль – и смешные подростковые вспышки, которыми все это разбавлялось, привлекали. Он интересно двигался, как будто взвешивал каждое движение, ходил квадратной, нависающей походкой, внимательно слушал.
Позже, когда Док привык к нам настолько, что позвал к себе, и мы увидели гигантскую квартиру, в которой он жил, поведение стало объяснимым. По сравнению с каморками, в которых обитали мы с Корвиным, это жилище было настоящим стадионом. В одной из комнат пустой квартиры Док сидел перед монитором и казался штрихом на огромной карте. Его фигура терялась в сумраке, и хотелось сделать что угодно, лишь бы Док никогда больше не оставался там один.
Часто Док не понимал чужих эмоций, только обдумывал их. Он был незрел, иногда по-детски жесток. Как у любого подростка, у Дока хватало недостатков. Главными были пассивность, замкнутость и выводящая из равновесия неуверенность в себе, которая с годами никуда не исчезала. Дока отличали недоверчивость и осмотрительность, граничащая с трусостью, но и места беспечности хватало с избытком. Неуверенность часто доводила до бешенства – особенно тем, что мне была не понятна ее причина. А во всем остальном Док оказался отличным парнем.
Корвин относился к моему восхищению Доком как к личной слабости. «Он же ничего не создает», – пожимал плечами Корвин, проведя между нами и ним черту. Я воспринимала Дока иначе – как осторожного зверя, выбирающегося из леса. По негласным правилам я могла сколько угодно писать о Доке в своих текстах, в жизни же главным было – не приближаться к нему слишком близко. Так я и поступала.
Док сразу же занял в моей личной мифологии особенное место. Сомневаюсь, что кто-либо когда-либо еще вызывал во мне настолько возвышенные чувства. Может, я запоздало попала в ловушку хулиганов, идеализирующих молчаливую девочку с косичками, но за него хотелось сражаться. Если бы существовали турниры, я бы отправляла побежденных к порогу Дока. Упоминание его имени вызывало непроизвольную веселую усмешку – дескать, да, крутой чувак. По-своему он был красив – хрупкой, изменчивой, трудно уловимой красотой человека, который красоты своей не осознает. Большую часть времени мы проводили, разглядывая друг друга, однако было очевидно, что Док еще подросток, не мужчина, и стоит оставить его в покое. Он был невинен, замкнут в защитной оболочке, законсервирован внутри нее. Док представлялся мне прекрасным андроидом. Мы же с Корвином стали, как Бонни и Клайд и неслись вперед, буйные, способные на все.
Компанией ветреных, готовых к вызовам бездельников мы переходили от одного бара к другому, от одной квартиры к следующей, кратковременно опьяняясь друг другом, книгами, чокнутыми теориями. Если мы долго не встречались, это не воспринималось как пунктир.
Помню, мы стреляли из пневматического револьвера в лесу, потом пили текилу, и Док бежал за Корвином, стиснув рукоять в руке, будто бы и впрямь хотел его застрелить. Или: я шла по мосту около Проспекта Культуры, держа Дока за руку и надеясь, что мост не закончится.
Однажды, когда он несколько недель находился в гостях, я не выдержала напряжения и неожиданно для себя самой запустила кружкой в стену, когда Док, совершенно безучастный, сидел напротив. Кружка пролетела рядом с его головой и с шумом врезалась в плитку. Хотелось ударить Дока, заорать «Какого черта?!», чтобы понять, чувствует ли он что-нибудь. Док вздрогнул, посмотрел мне в глаза и вернулся к еде, не произнеся ни слова. Я налила новую кружку чая.
Дружба имеет сакральный статус, потому что кажется незыблемой. Это миф, постоянно нарушаемый ходом жизни, но слишком притягательный миф, чтобы от него совсем отказаться. Мужчины, женщины, возлюбленные – они приходят и уходят, постепенно ты забываешь, что им нравилось, а что вызывало отвращение. Но друзья остаются, они защищены внутри потока времени, они вечны. Для многих женщин «дружба» с мужчинами означает лишь, что те не хотят от них секса и отправляют их в утиль. Для меня же все обстояло иначе – я с юности общалась только с мужчинами из-за сходства интересов и склада характера. Я часто – и совершенно ошибочно – воспринимала себя скорее как эдакого приятеля. Одно было очевидно: если хочешь остаться с кем-то по-настоящему, навсегда, ты должен стать его другом. Можно уехать на другой конец света, но связь не разрушится – она не подвержена коррозии. Док был моим другом. Мне хотелось остаться с ним навсегда.
СБПЧ[13] в песне «Снупи» поет: «Я хочу, чтобы ты никогда не вырос, и никто не называл тебя Снуп». Я хотела, чтобы Док никогда не «вырастал», перенимая чужие привычки, а остался чистым, вечно юным. Принять чужие правила легко, сохранить индивидуальность – нет. Стремление научиться поддерживать светский разговор, к месту шутить, вступать в контакт – разочаровывали: воспроизводя чужие клише, он терял завершенность. При каждой встрече невинности в нем становилось чуть меньше, чем прежде.
С другой стороны, было ясно, что ему необходимо выбраться из защитной оболочки, начать совершать поступки, а не просто анализировать мир. Восстать, вступить в драку, – помочь в этом нельзя, есть вещи, которые человек делает один.
Иногда, устав, пропадал Док, иногда из своего окружения его исключали мы. Существует определенный предел взаимодействий – можно врываться в чужой мир только в рамках негласно выделенных полномочий «чужака», «приятеля», «друга», «родственника», а Док предельно сужал возможность проникать в свой внутренний мир для всех. Мы бросили попытки лезть не в свое дело, а просто брали его с собой. Если возникала ситуация выбора между друзьями, я вставала на сторону Корвина. Сначала я оберегала Дока от собственного непостоянства – увлеченности людьми, которая быстро исчерпывалась; потом сдерживал кодекс.
Однажды он исчез на год – получал собственный опыт, затем так же неожиданно вернулся – с дилерами и девушкой, которую мы так и не увидели. В наших отношениях ничего не изменилось, разве что теперь мы обдалбывались втроем то фенэтиламинами, то кислотой. В каком-то смысле это было лучше, чем съездить в Нью-Йорк – путешествия по прогибающимся слоям реальности. Время пластично извивалось или застывало, тело разваливалось на части, музыка перестраивала физиологию, но внутри хаотического трипа была точка, куда нужно вернуться. Как Хаксли, меня постоянно интересовало, как можно примирить становящийся диким лесом мир вещей и размывание смысла человеческого. Обыденность преображалась в части мира обдолбанной Алисы, но изображение Дока наркотики не улучшали – именно его я считала эталоном красивого.
Спустя некоторое время мы в ответ взяли его на площадь. Взметались флаги, митингующие дрались с омоном, нацболы храбро ломились вперед. Жалкие согнанные солдаты оцепляли кривляющихся врагов, трещали щиты. Мы проигрывали, и это был обидный, неравный проигрыш. Неизвестный храбрец развернул на крыше знамя НБП. Внутри кипело негодование и желание схватки, мне хотелось, чтобы кипение от несправедливости передалось Доку, зажгло его. Вряд ли можно подарить что-то большее, чем мятеж. Он смотрел на волнующуюся людскую массу, и глаза искрились насмешливым азартом. Тогда я решила, что Док вполне может оставить дом и присоединиться к волнениям, что он такой же, как я.
Бывали и другие времена – например, поездка в Вену. Новогодние прыжки по странам Европы должны были стать новой ступенью. Охватывало веселое возбуждение – но поездка неожиданным образом превратилась в странствие посторонних. Происходящее напоминало утро после «кислоты», когда даже небо кажется бездушным, бесцветным, свинцовым. Мюнхен был плох – мы сидели за столиком, разговор не клеился. Мерзлая Вена оказалась гораздо хуже – Док предоставил квартиру отца-бизнесмена, потешаясь над его дурными стихами, а в пиццерии зачем-то, размахивая чужими долларами, назвал нас завидующими деньгам нищебродами. Пик бессмысленного соперничества, когда в ход идет все подряд. Это был поганый поступок, о котором Док сразу начал сожалеть, но он уже не мог остановиться. «Пойдем со мной, к черту его», – говорил он, желая досадить Корвину, используя меня как вещь, трофей, аргумент в споре. Это не на шутку задевало. Я хотела, чтобы он забрал меня, но не так. Мы бросили Дока чуть позже, там же, в Вене. Но спустя год снова втроем сидели в кабаке.
Меняются декорации, меняется время, но одно остается неизменным – то волнение, напряжение, которое чувствуешь, когда спускаешься по ступеням к очередному месту встречи. Воздух уплотняется от азартного ожидания. Каким ты будешь в этот раз, Док? Встречаться – словно знакомиться заново. У каждого появляются новые воспоминания, новая одежда и новые шрамы. Это чувство... Все люди вызывают друг в друге чувства. Малозначительные движения или взгляды могут запоминаться надолго, позами можно передавать мысли. Можно любить многих людей, но любовь всегда будет чем-то разным. С Доком она походила на свист ветра в ушах, когда прыгаешь с чертовой горы. Он изменился – стал более уравновешенным, более уверенным и ироничным. Док вырос.
Forêt et soleil[14]
Я вхожу в лес, совершаю нечто противоестественное, противоположное логике самосохранения. Лес – древний, старый, нечеловеческий, у него есть края, но он никогда не кончается, и людей соблазняет злая бесконечность. Со дна слышно, как вверху гудит черное солнце. Его вращение носит одновременно механический и физиологический, телесный характер. Я – исследователь и паразит, застрявший в чужих мягких тканях, мне нравятся слизь, плесень, кровь, сокращение скользких сердечных желудочков. Стволы шевелятся, они мягкие, как губка, и вбирают в себя шаги, они твердые, словно минералы, наступают частоколом геометрических фигур, они прошиты психоделическими стежками оставшихся цветов, по ним ползают змеи. Я слышу шелест жуков, шевелящихся в почве червей, я ищу запах – горький, искусственный, способный изувечить. Я жажду мудрости, пугающего равнодушия. Лес расчленит, размоет смысл существования чего-либо кроме него, набив протестующий рот мхом и землей. Я стану жертвой, лежащей в грязном ручье, на которую будут смотреть, склонив голову, птицы. Я хочу потеряться, никогда не встречать никого кроме мертвых животных, ищу полного уничтожения, познания черного. Я нуждаюсь в следах, намеках, загадках, в том, чтобы не покидать движущийся, вечный лес, воплощение неизменной мрачной изменчивости. Я буду искать своего волка, дышать его дымом, погружать пальцы в следы, и мокрый песок и трава, налипающие на руки, станут реальнее реальности.
Зима
Зима 2009–2010 была дьявольски холодной. Улицы вымирали, воздух трещал. Мы же постоянно находились в переулках скрипящего города и мерзли, как последние сволочи. Коза дала задание составить список подходящих «мушников»: не слишком маленьких – с тремя-четырьмя кассами для свободного отхода, с небольшим количеством охраны и слабой системой видеонаблюдения. Я прочесывала малознакомый район, сверяясь с картой. Бесконечная шеренга магазинов проходила перед глазами – маленькие, почти вбитые в узкое помещение кассы и втиснутые друг против друга лабиринты, аляповатые цвета, грязноватые ленты, много пластмассы и потертых корзин.
Даже сейчас, покупая еду, я по привычке отмечаю расположение камер.
В свободное время мы с Корвином прятались от холода на самом верху старой многоэтажки, и я наблюдала сквозь окно башни, как курятся люки, а деревья превращаются в покрытые хлопьями белые лапы. Мне не нравилось думать, что скоро придется его здесь оставить. Башня сразу становилась непомерно высокой, а фигура угловатого, решительного Корвина внутри нее – маленькой. Я обещала не лгать и должна была выполнить обещание.
Прежде я была уверена, что существует набор личных правил, кодекс чести, который позволяет урегулировать любые катастрофы. Может наступить конец света, но рыцарь все равно будет искать Грааль, а аскет – медитировать, в то время как зеваки начнут носиться, сталкиваясь лбами и паникуя. Долг, кодекс превращают рохлю в героя. Но что являлось долгом в мерзлом городе? Что бы ты ни делал, появятся пострадавшие, и чем активнее ты будешь действовать, тем больше их станет. Мне хотелось, чтобы никому не было больно, но при этом мы трое, как у Джойса, вдруг «стали кем-то еще». Было ясно, что придется действовать, выбирать, разрывать связи. Наверное, так и становишься взрослым. Корвин, Док, Корвин, Док, – эти люди жили внутри головы, стали частью системы мышления. Когда кто-то становится настолько близок, хочется от него избавиться.
Каждый день я шаталась с Войной, мы бесконечно репетировали в супермаркетах разной величины. Несколько раз провели акцию, щекоча нервы, но из-за недостатка удачных кадров предать работу огласке было нельзя. В первый раз я набила корзинку до отказа, встала в очередь, изображая обычного покупателя. Рядом стояли другие члены Войны. Чевенгур планировал хватать продукты из моей корзины, а я (как и остальные, подносившие «боеприпасы») могла в случае опасности закосить под обычного посетителя, ставшего жертвой хулиганов. Для колорита предполагалось возмутиться в духе «Какого черта? Что у вас тут происходит?», глупо рассмеяться и уйти. Корвин стоял с фотоаппаратом у выхода, Док шел с корзинкой. Фотографы валяли дурака у выхода, неубедительно изображая, что ждут приятелей, и готовились снимать.
Охранник не подходил под описание типичного сторожа-старичка или разжиревшего любителя пива – оказался бодрым и спортивным. Он увернулся от летящих снарядов и попытался схватить улепетывающих парней, но потерпел неудачу. Мы успели удрать. Задыхаясь и смеясь, бросились врассыпную, к разным станциям метро.
Когда встретились снова, выяснилось, что съемки скрытой камерой провалились, фотографии тоже вышли так себе. Все впустую.
Выбирать супермаркеты со слабой, бесполезной охраной тоже входило в обязанности разыскивающих «мушники», но угадать смену подходящего охранника было трудно – сотрудники постоянно менялись.
В следующий раз мы просто гуляли, когда Коза решила, что минимаркет подходит идеально и акцию нужно проводить немедленно. К тому времени мы все уже могли на автомате устроить действие, вот только размер магазина угнетал – ввалившись в него, мы образовали подозрительную толпу. В таких условиях изображать «случайных» прохожих получилось бы только у профессиональных актеров. Продавцы сразу напряглись, а когда мы начали снова и снова ходить около полок, ожидая сигнала идти к кассам, происходящее приобрело абсурдный характер. Я разрезала веревку у торта и ждала, когда смогу его передать. По сигналу в молодого, совершенно перепуганного охранника, сразу ринувшегося вглубь магазина, полетели торты и яйца. Работники даже не пытались нас задержать, так были изумлены. Мы некоторое время потешались над обделавшимся парнем, слишком смешное у него было лицо. В итоге получился только один удачный кадр, на котором в охранника летят яйца. Завершающей, состоявшейся на все сто, акции, мы, казалось, не сделаем никогда. Процесс начал напоминать развлечения гопников.
Основная проблема заключалась в том, что без ударных кадров анонсировать что-либо невозможно. «Бюджетность» акции должна быть компенсирована энергичными, яркими снимками. То, что делает Война, – это шоу, карнавал, сочно оформленное послание, которое должно доходить до получателя в лучшем виде. Нет документации – нет акции, хоть двадцать раз ограбь магазин или расстреляй охрану банка. Но получить хорошие снимки оказалось не так-то просто. То у фотографов выходила размазанная дрянь, то мы просто не могли найти профессионалов, способных не пугаться происходящего и спокойно работать. Я пыталась подключить знакомых, отдала свою видеокамеру Войне; Док тоже старался расширить круг фотографов Войны, но результат не впечатлял. Коза с Олегом начали приглашать фотографов из Живого Журнала. От одного из них мы позже убегали, так как Коза заподозрила добрячка в связях с органами. Когда мы подходили к очередному магазину, наткнулись на ментовскую машину, но все-таки решили зайти внутрь. Пока набирали еду, Коза позвонила и сказала, чтобы все немедленно выходили наружу. Дальше она шепнула на ухо: «Акция отменяется. Уводите фотографа к метро, а там скажите, пусть едет в Мак на Пушке. Сами будем встречаться в другом месте». Коза с остальными исчезли, а мы с Корвином, Доком и, кажется, Лехой остались наедине с фотографом. Мужчина выглядел как огорошенный беготней и прятками обыватель, пытающийся снять напряжение при помощи прибауток и веселых баек.
Такие внезапные задания Козы изрядно оживляли обстановку, потому что я не была уверена, что дурачат не нас. Но задание есть задание, так что мы поспешно изобразили уход от погони по подворотням и кустам, а потом сплавили фотографа, что-то соврав. Игра в партизан окончательно обескуражила мужика. Позже, сидя в Маке всей командой и обсуждая происшедшее, мы пришли к выводу, что фотограф был чист, но никто особенно не расстроился. Коза выглядела счастливой. У нее настоящий талант располагать к себе людей, обаяние, которое вызывает желание оказывать ей услуги.
Так или иначе, почти месяц безрезультатной работы и несбывшихся ожиданий сильно расхолаживал. Активисты устали, вымотались и начали покидать группу. Магазины отвращали, однообразие действий доставало. Коза относилась ко мне доброжелательно и предлагала бросить мысли о поиске работы, присоединиться к ним насовсем и жить привычной для Войны бродячей жизнью. Я всерьез обдумывала предложение, так как для нормальной работы из-за овладевшей мной лихорадки все равно не годилась, но проводить столько времени с Войной была не готова. В коммунах я начинаю раздражаться, ощущать себя одиночкой. Диктат правил группы, который появляется невольно, сам по себе, заставляет противоречить.
Коза давала мне задания и снабжала информацией сразу на всех троих, словно локальному координатору. Мы с Корвином и Доком часто находились вместе, и это перестало быть правильным.
Я начала курить потому, что любила, как это делает Док. Когда он стал курить, я увидела в этом разложение, еще один намеренный прием социализации. Но делая то же самое, я как будто становилась ближе. Никто не знает, что когда я курю, я думаю о дыме, который он выдыхает; никто не обвинит меня в нарушении кодекса. Мы сидели в бесконечных кафе, я угощала плохими индийскими самокрутками без фильтра всех подряд. Дым разъедал желудок. Коза и Олег доносили до очередных пришельцев свои идеи, фотографы щелкали аппаратами. За зиму накопилось громадное количество всевозможных цифровых отпечатков и видео. Я смотрела на фотографии, которые в изобилии делали документаторы Войны, и меня сердило чужое выражение, приставшее к моему лицу.
Нам втроем никогда не нужно было не то что обманывать, но и штриховать, использовать лживую вежливость, продумывать каждую реплику, ходить внутри ваты, прятать наросты, шипы и перепонки ради сомнительного, гнусного перемирия. Док представлял для меня опасность, и нужно было встретиться с ней, а я отступала. Совершая чужие поступки, становишься чужаком. Можно долго гадать, что еще стоит делать, чтобы снова почувствовать себя настоящим: кидаться едой, стрелять в политиков, угонять водометы и поливать водой копов, выступать на панк-концертах, вопя песни не по возрасту. Но я знала, что не почувствую силу превращения, которую дает любой бунт. Что бы ни делала, я останусь фальшивкой, потому что не говорю правду.
Я не собиралась быть фальшивкой. От обмана теряешь сверхсилы, а епитимьи и принуждение отвратительны. Корвин в изумлении кричал: «Но я же лучше!», – и он был прав. Дело только в том, что реальный человек может быть сколь угодно хорош, но он не заменит мечты. Док был мечтой. Живым электричеством. Док был чертовой мечтой.
Новый год мы с Корвином неожиданно встретили вместе с Войной. После очередной акцией «Стратегии 31», где старушка Алексеева нарядилась Снегурочкой[15], торчали перед участком, ожидая, когда выпустят тех, кого забрали, строили пирамиду из человеческих тел, распевали песни и просто топтались, чтобы согреться. Потом отправились на квартиру одного из знакомых Войны, где все шло по обычному сценарию безобидной квартирной пьянки, хотя люди собрались не из последних. Единственным ярким моментом был порез Олега – он наступил на разбитую чашку, кажется. Быстро сориентировавшись, Олег расписал кровью футболку Лысого, а потом носился по квартире, раззадоривая пьяный народ. Саморазрушительная выходка встретила полную поддержку с моей стороны, но Коза быстро утихомирила Вора и увела в отдельную комнату, где спал Каспер. Коза часто срабатывала ограничителем для Олега, которого, бывало, несло. Она могла быть сосредоточенной и суровой.
Мне нравилось их присутствие, но единения с членами Войны я не чувствовала. Все были далекими, незнакомцы казались ближе знакомых. Мы с Линой зашли в ванную, я позировала в приглушенном свете лампочки. «Поцарапаю пленку и пришлю тебе», – пообещала она. Лина была напористой, весело смеялась и уверенно действовала. Такая энергичность подкупает. Когда выпивка закончилась, Олег сагитировал всех идти красть спиртное. Док распевал «Poker face»[16], с вызовом усмехаясь, Корвин чихал от аллергии. Каждый должен был спереть по бутылке, так что пришлось напрячься. Мы разом ввалились в магазин и начали выполнять план. Я запихнула бутылку то ли вина, то ли мартини в штаны, прижала поясом и пошла к выходу. Бутылка соскальзывала вниз, и я представляла, как она разобьется прямо перед кассой, вывалившись из штанины. Док тоже вышел с добычей, всклокоченный и счастливый.
Вернувшись с мороза, все расползлись по углам. Хозяин квартиры расплылся, рассказывая о книгах и знакомых, речь его стала тягучей. Гости становились все ближе друг к другу, их везло, ощущение личных границ терялось. Лина плюхнулась на свободное место рядом с Доком. Пышная и громкая, она тянулась к выпивке, соприкасаясь с ним руками. Лина флиртовала, ее выдавали движения тела и тембр голоса. Она – щедра, телесна, весела. Док – странен, он почти заискивает, каждая реплика – попытка вымолить у мира порцию признания и секса. Чтобы наладить контакт, он зачем-то повторяет то, что прежде рассказывал о музыке мне. Я – в бешенстве, особенно оттого, что Лина слушает в полуха, а Доку не нужно задабривать мир. Я – лучше Лины. Я лучше всех и, черт возьми, могу это доказать. Но моя судьба в тот вечер – сидеть в углу с книгой Фуко и ломать пальцы, потому что я чужая женщина. Тянет вскочить, бросить перчатку, вызвать Лину на дуэль, хотя на Лину я не зла, – просто, чтобы Док видел, какая я бесстрашная. Сидя в углу, я понимаю, что когда верность достигается подобной ценой, она глубоко порочна и никому не нужна.
Запомнила такую сцену из той зимы: мы втроем сидели в коктейль-баре, и вдруг Док уставился в угол. Он выглядел сломленным, погруженным в себя; мы его не интересовали. Я жгла палец зажигалкой, чтобы не потерять контроль. Корвин молча пил и курил сигарету за сигаретой. Боль от огня отрезвляла, не давала расплыться и оказаться в мягком облаке опьянения. Было бы проще, если бы мы устроили поединок, заключили пари, договорились встретиться на том же месте через три года, сыграли бы в рулетку или проиграли друг друга в карты, Корвин бы это понял, это было бы правильно. Я пыталась оградить друзей от собственного помешательства, но ограничения превращались во что-то извращенное, глубоко неверное. Никто больше не был счастлив, никто ни с кем по-настоящему не говорил, все желали чего-то, чего у них не было.
– Я хочу так же, – мрачно сказал Док, глядя куда-то за спину.
В углу сидела самозабвенно целующаяся пара, которой не было никакого дела до окружающих. Они не были пошлы, не были и милы – совершенно обыкновенные люди, увлекшиеся друг другом. «Так забери меня! – фраза крутилась в голове без остановки. – Забери меня. Забери меня».
Спустя неделю мы встретились с Козой, Олегом и Линой, украли вина и стали пить его на улице, празднуя Рождество. Было радостно их видеть и вот так, по-семейному, прятаться от ветра за уступом и переговариваться. При этом я никогда не ощущала себя Войной, хотя могла бы – парни и Коза относились к остальным как к своей неотъемлемой части (за исключением совсем уж случайных людей). Когда я говорю «Война», чаще подразумеваю ядро – Олега, Козу и Леню, полностью посвятивших себя деятельности группы. Мы же были наемниками.
– Как вам Новый год? – спросила Коза.
– Полный отстой, – с чувством ответила я.
– Да ладно?! – удивился Олег. – А что вам не понравилось?
– Да, худший Новый год в моей жизни, – согласилась Коза и отпила из бутылки.
Акцию мы так и не показали. Кроме «Охранника» была еще забава, которую называли «Восстание зомби». Во многих супермаркетах посередине зала есть большие холодильники, забитые пельменями и замороженными овощами. Коза, я, Чевенгур, еще несколько активистов залезали внутрь холодильников, обсыпая себя полуфабрикатами, а потом «восставали». Неожиданной оказалась реакция покупателей – подавляющее их большинство пыталось немедленно уйти, нервно хихикая. Послания в «Восстании зомби» не было, сплошное дурачество.
Стать бесстрашными
Людей, которые совершают странные поступки, общество пытается заклеймить маргиналами. Первое, что делает официальная пропаганда – представляет любого, кто идет против системы, опасным психопатом, у которого нет логики. Или смешным дурачком. Ради незыблемости устоев, управляемости общества его члены должны считать любое неожиданное выступление всплеском эмоций больного. Тебе запрещают обдумывать причины, по которым люди поступили именно так, подсовывая простое объяснение. Слово «маргинал» имеет два основных значения, и в ходу то, которое означает выброшенного изгоя, бродягу, отброса, отторгнутого обществом, чокнутого, не такого. Маргинализация оппозиции прессой служит цели не позволить к ней присоединяться. Членов оппозиционных движений рисуют фанатиками, террористами, идиотами, да кем угодно, лишь бы их общество выглядело отталкивающе, смешно или стыдно. Война – бродяги, воры, неудобная банда трикстеров, несущих злой карнавал на улицы. Но это не результат помутнения рассудка, это результат осознанного выбора, сделанного неоднократно. Это не диагноз, а почти миссия. Получив пару миллионов от Бэнкси[17], Война пустила их на политзаключенных и продолжила так же прыгать через эскалаторы и спать в цехах заброшенных заводов. Маргинал – это ведь и человек, переступивший черту, вышедший за границы. Коза как-то ответила на вопрос, в чем цель деятельности Войны: «Стать бесстрашными». Эта цель заводит.
Я не вижу ничего плохого в том, чтобы быть маргиналом. Этим словом можно напугать только тепличного холуя. Россия полна маргиналами до краев, это страна изгоев, бедняков, пьяниц, городских сумасшедших, нищих, инвалидов, бандитов. Их настолько много, что умные, целеустремленные и развитые люди зачастую выглядят на их фоне странными. Многие главы регионов или администраций – ненормальные или преступники, от чего их беспокойство о духовности выглядит боязнью конкуренции со стороны площадных психов. Да и о каких маргиналах может идти речь в стране, где на центральных телеканалах рассказывают о лечении мочой?
Для художника заслужить прозвище маргинала – награда. Стать маргиналом в России – значит стать отличным от серой массы, пребывающей в перманентном творческом параличе и бесконечно потребляющей, в том числе чужое искусство. Быть маргиналом в России – почетно. Дикари, врывающиеся в гостиные, нужны любому закоснелому обществу. Рембо, отливающий на стол, за которым сидят бездарные поэты, Ницше, ударяющий посохом Заратустры, – вряд ли их можно назвать друзьями добропорядочного гражданина. Знаковый творец – всегда преступник. Остроумная шалость добродушных писателей или серьезный культурный экстремизм – это соль творчества, которое стремится выйти за рамки, уничтожить стереотипы, сорвать дряхлые шторы стандартов. Всякий, кто берется за главные вопросы или перестает лгать – экстремист, потому что мешает ровному течению жизни. А хорошее произведение искусства обязательно этому течению мешает, вызывает беспокойство, создает конфликт. Художник не есть благонадежный гражданин. Писатель, чувствующий нить мироздания, не есть опора общества. Музыкант, отдающийся миру музыки, с трудом интегрируется в мир обыденности. Все они – культурные рецидивисты, боевики революции духа, восставшие за или против, ренегаты.
Вот только Война не совсем художники, завороженные опасными набегами; они – раздражитель. Участники группы делают то, что другие делать боятся, они выходят за рамки абстрактного «современного искусства» и смешивают его с политикой; они, неудобные и часто злые, снова и снова уходят безнаказанными. В атмосфере опаски и подчинения это вызывает неприязнь хотя бы потому, что примером собственной разнузданности и наглости Война указывает обывателям на их трусость.
Неожиданный фурор акции на Литейном, а затем прессинг и СИЗО привели к тому, что Война потеряла легкость. Уголовное преследование добавляло остроты, Олег безудержно издевался над ментами, не упуская ни одной возможности им насолить. Он звонил следователю из туалета Мака и ехидно интересовался, как идут поиски, а затем выкладывал в сеть издевательский мастер-класс по демонстрации бесполезности угрозыска на всеобщее обозрение. Но потом давление начало сказываться, и издевательства над ментами из забавы превратились в месть. У Козы отобрали паспорт, уголовное дело на Олега то открывали, то закрывали, хотя доказательств было недостаточно. Олег и Коза – на редкость упорные люди – замкнулись на «мушниках» и воспевании собственного быта. Группа начала деградировать.
Когда Олега и Леню посадили в тюрьму, первой реакцией публики было пакостное облегчение, тишина. В России уважают тех, кто «занят делом», а «не ходит по митингам всяким». Патриархально настроенной публике Бычков[18], издевающийся над наркоманами, или Тесак[19], обливающий мочой педофилов, гораздо приятнее Лоскутова, о котором написал кто-то: «здоровый лоб, а ерундой занимается». Именно поэтому неудобная, пробивная Война была нужна. Она – живая в затхлой атмосфере постоянного страха и по-настоящему другая в период неумения придумать новое – поляризовала. Она заставляла вставать за или активно протестовать против, осознавать воззрения даже тех, кто воззрений никогда не имел. В двадцать пятый раз нам предлагалось одно и то же – мир вещей, обмана, снова Путин, беспредельная наглость, местечковый феодализм, взывание к проплаченной массовке и запугивание. В плоском, гнилом мире есть особый тип сладострастного счастья – разрушать, кромсать, уничтожать кучи ненужных предметов. Счастье бунта, гнева. Собственно, единственный вид настоящего удовольствия в этом мире – это удовольствие с ним бороться, его ненавидеть. Но при таком раскладе ты никогда не доходишь до стадии конструирования небывалого.
Война многому меня научила – от устранения недочетов планирования до ведения собственного восстания. Я и до акций обладала опытом, но Война сделала трусость окончательно невозможной. Война – школа по преодолению страха.
Даже находясь далеко, я легко могу представить участников группы. Олег часто что-то придумывает и записывает: от серьезных мыслей и обрывков идей до шуточной чепухи в русском ярмарочном духе. Он не упускает ни одной сочной, остроумно-оскорбительной, точной фразы, когда такие приходят в голову, а потом мастерски использует их в спорах, в интервью или просто в беседе. Он фонтанирует идеями, среди которых полно как грубых, уродливых, бессмысленных, так и разжигающих желание немедленно их воплотить. Как-то мы с Доком нашли потрепанную книжку коммунистических высказываний Пазолини, на полях которой и по всем страницам было множество карандашных отметок. Не знаю даже, что было читать интереснее, – сами тексты или заметки, оставленные то ли Олегом, то ли Козой. Чужакам спорить с Олегом непросто – он давит, расставляет ловушки, приводит десятки аргументов, он наблюдателен, хотя часто валяет дурака, доводя собеседника до исступления или полного недоумения. Злить фанатов Войны, да и людей вообще, представая перед ними полным ушлепком, – одно из его любимых занятий. Он шумный, говорливый, ему необходимо быть центром внимания, вторгаться.
Иногда Олег – авторитет, маскирующийся под громогласного рубаху-парня, он нравится сам себе, красуется, выступает, даже если зрителей – всего пара человек из группы. Он посмеивается над слабаками, над чьими-то наивными идеалами, подтрунивает, грубовато подначивает, подталкивает к переосмыслению принципов, и с ним нужно держать ухо востро, хотя смешить он умеет превосходно. Олег хорош во время действия, но от безделья становится невыносимым. Он расшатывает чужие принципы легко, походя, весело и с прибаутками, просто потому, что может. Он любит назвать черное белым, а белое черным ради тренировки, ради забавы, а может потому, что ему нравится разрушать идеалы, так как собственные размазались в ходе бесконечных дискуссий. Те, кто не сталкивался с таким давлением, могут считать Олега приятелем и молодцом. Но только до тех пор, пока очередь не дойдет до них.
Коза – другая, она сглаживает противоречия добротой, ее мир идеализирован, он вполне определен и черно-бел. Коза неостановима, одержима действием, поэтому я чувствовала себя рядом с ней как дома. У нее постоянно был план, пусть даже невыполнимый; последовательность действий. Стоило начаться делу, как Коза превращалась в требовательного координатора, все просчитывала и репетировала множество раз. Она была полностью сосредоточенной, сжималась в точку, превращалась в направленную стрелу. Иногда Коза становилась агрессивной и раздражительной, нервной, подозрительной, но благодаря ее паранойе нам не раз удавалось уходить без потерь. Если Олег издевательски шутлив и нарочито раскован, то Коза чаще серьезна. Она похожа на дикарку: длинные пушистые волосы, тонкая фигурка, нервный рот и огромные глазища. Коза – женщина-воин, готовая бросаться на то, что она ненавидит, снова и снова. Она не идет на компромиссы, но часто игнорирует то, что не вписывается в героическую картину ее реальности. На фоне давящего своей громкостью Олега она может показаться милой, но это обманчивое впечатление – Коза крайне жесткая, целеустремленная, дикая, с мечтой обзавестись командой супергероев, собственным аналогом семьи-коммуны, живущей по правилам Войны. Эта мечта никогда не исполнится, потому что люди постоянно меняются и потому что жизнь внутри Войны мало похожа на сказку. Кто-то уходит, и на его место обязательно приходит другой – не по одной причине, так по другой. Есть у Козы и талант понимать, когда кому-то в группе плохо, когда с ним происходит что-то не то, она очень чуткая и всегда ощущает, когда у находящегося рядом поехала крыша или его одолела тоска.
Леня стоит особняком. С самого начала в Войне он увлекся идеей саморазвития, самопреодоления, поэтому молча и уперто брался за любую работу, какой бы сложной она ни была. Он изучал материалы о вещах, в которых ничего не смыслил (вроде изготовления взрывчатки или создания радиоприемников), выполнял самый опасные части акций, брал ответственность на себя, даже не рассматривая возможности на кого-то ее переложить. Наверное, Леня – это единственный человек из группы, которому я доверяю. Во время акций у меня ни разу не возникало мысли, что Олег или Коза меня не поддержат, не помогут в случае нападения ментов или при возникновении любых других сложностей – на акциях на них можно было положиться на все сто. Но у меня также ни разу не возникло мысли о том, что мы с ними друзья. С Леней мы друзьями тоже не были, но при этом я твердо знала, что с легкостью встану на его сторону в споре. В глазах общественности он – псих, дурачок, запрыгивающий на машины с ведром на голове, тогда как на деле Леня – самый здравомыслящий человек в группе. Его поступки – желание превозмочь себя, преодолеть страх, который возникает после того, как ты согласился на что-то неподобающее для среднестатистического гражданина. Уверена, что перед началом акции с ведерком[20] он думал: «Какого черта я все это делаю? Я спятил, я проклятый идиот», – а потом просто побежал.
Особую ярость у наблюдателей вызывает наличие в группе ребенка, Каспера, которого Коза отважно тащит на себе в любую передрягу. Но Каспер для Войны – полноценный член группы, как и взрослые, и он не может не участвовать в акциях. Я помню, как Коза с гордостью говорила нам про совсем мелкого тогда сына: «Когда Каспер видит мента, он плачет». Типа, чувствует зло, а милиция для Козы – это безусловное зло. Схожий подход к милиции был свойственен всем нам. Еще помню, как Каспер спер первый пакет чипсов, и Коза сияла, словно солнце. Она часто выглядела счастливой, распространяла это ощущение, хотелось улыбаться. Мне кажется, что желающим улучшить жизнь чужого ребенка не стоит лезть не в свое дело. Каспер обут, одет, накормлен, родители его обожают. Для Козы любые обвинения комментаторов акций в том, что она плохо заботится о сыне, были самыми обидными, потому что были они несправедливыми. А что касается воспитания, то Каспер воспитывается в среде людей, которые не приемлют понятия капиталистической собственности, не боятся несправедливых законов и т.д. Кто из него вырастет – чудовище или герой – неизвестно, но посмотреть стоит. Впрочем, для меня идеалом матери является Ульрика Майнхоф, которая собиралась взять своих девочек в лагерь палестинских террористов.
Как-то мы с Доком поссорились из-за Каспера. Так как ребенка воспитывали без запретов, он постоянно забирался то туда, то сюда, пробовал предметы на вкус, валял все подряд. Олег с Козой спали после ночной разведки, Каспер полз то ли по креслу, то ли по дивану, и вот-вот собирался упасть. Каспера опекали не только родители, но и остальные активисты. Когда Док жил с Войной, занимался этим и он. Меня дети оставляют равнодушной, поэтому я наблюдала за ползками Каспера в уверенности, что падение будет неплохим опытом. Заметив мое бездействие, Док страшно обиделся, забрал Каспера, перенес в безопасное место и некоторое время не разговаривал со мной.
Единственное, чего Каспер был лишен, – общения со сверстниками.
К разочарованию многочисленных критиков Войны должна сказать, что отбросов в группе я никогда не видела. Более того, некоторые участники имели довольно высокий социальный статус и не испытывали никаких проблем с деньгами, над чем, бывало, подшучивал Олег. Но у всех была своя, неочевидная причина присоединиться к группе. Большинство активистов – образованные, начитанные люди, имеющие опыт протеста, например, рыжая «бабка Любка», которая сейчас курирует книжный магазин. Были, конечно, ребята и попроще.
Обычные люди живут в стереотипном мире, потому что рамки делают окружающую действительность простой, удобной, легко объясняемой. Наверное, легко представить Войну в виде табора бесноватых нищебродов, но она, к счастью, не такая. Из-за отношения к Войне как к группе бомжеватых психопатов часто возникали весьма комичные ситуации во время интервью. Хорошим пример – интервью Марине Ахмедовой для журнала «Русский репортер», которое Олег и Леня дали сразу по выходу из тюрьмы. Я не видела их несколько месяцев, а когда мы встретились, оказалось, что надо отправляться на сессию в мини-отель. В руках я держала букет гвоздик, который подарил отец. В отеле сразу началась показуха: Олег расхаживал перед Мариной в дырявых штанах, открывающих большую часть зада, рассказывал, что штаны последние, а еще что он купался в проруби, а потому должен переодеться, что и проделал немедленно.
Первая линия нападения Войны – полное презрение к собственности. Оно сразу же сковывает врагов, которые из ложной вежливости боятся вступать в открытый конфликт, но оскорбляются от каждого прикосновения к своим вещам. Пара новых хиппарей расположилась прямо на полу, они веселились и валялись, набрав продуктов с чьего-то чайного столика в коридоре. Марина пыталась провоцировать Олега, неся буржуазные банальности, которых не разделяла, Олег провоцировал Марину, называя журнал фашизоидным, а ее откровенно дразня. Воздух в крохотном номере быстро закончился, стало душно, жарко, а Марина все вещала и вещала о том, как любит дорогие маечки, как будто здесь был кто-то готовый ей поверить.
В течение нескольких часов она не задала ни одного стоящего вопроса.
Мне быстро надоело наблюдать за бессмысленной бравадой Олега и сидящей будто с колом вместо позвоночника Ахмедовой, которая, видимо, ощущала себя умелым провокатором. Так что я всучила ей цветы в знак утешения и немедленно удалилась.
В статье я фигурировала как безымянная злая активистка, которая ненавидела лично Ахмедову, а цветы наверняка сперла. Забавно, что тогда я как раз работала ведущим IT инженером на автозаводе, то есть была весьма уважаемым, по классификации Ахмедовой, рабочим человеком. Но такова жизнь. Интервьюеры никогда не интересуются ни мнением, ни биографией других активистов, считая их чем-то вроде свиты Войны.
Весной же, перед тем, как Война переместилась в Питер, меня вполне можно было назвать маргиналом. Я пять месяцев не работала, задолжала около ста тысяч, едва не вписалась в ограбление пункта обмена валюты со знакомым дилером, пила и шлялась по bdsm-клубам.
Именно тогда я поняла, что выражение «разбить сердце» – не совсем образное. Док сказал, что ему плевать, что со мной случится – и в следующую секунду я захлебнулась осколками. Я сломалась. Терять было нечего, и хотелось использовать резерв отчаяния для чего-то полезного.
Оживление вызывали любые, самые сумасшедшие затеи – чужая оппозиционная деятельность сошла на нет, Война осталась единственным мотором. Когда летом Олег рассказывал об очередной задумке – назовем ее для простоты «операция с высотками» – я сразу завелась. Невероятной дерзостью и масштабом акция затмевала все, что Война проводила ранее. Док с досадой говорил: «Да тебе все равно, что делать, лишь бы была движуха. Их сразу посадят в тюрьму. И тебя посадят». Я считала, что он боится. Мне же было так хреново, что тюрьма не пугала, и чем более диким выглядел проект, тем сильнее хотелось его реализовать. Любая акция, несущая однозначно считываемый посыл и оказывающая сильный эффект, встречала с моей стороны полное одобрение независимо от степени сложности. Никто не действовал, значит, должны были мы. К сожалению, после «Дворцового переворота» Война так и не реализовала проект, он оказался слишком сложным в техническом плане и требовал сумасшедших ресурсов.
Инстинкт самосохранения тогда работал плохо, но и сейчас затея кажется мне великолепной.
Элиот[21] в эссе о поэзии писал, что задача поэта – переживать то, что обыватель никогда не переживет, и показывать ему это. Что то, что обычный человек только смутно ощущает и никак не может облечь в слова, поэт выражает точно и ясно, вызывая у читателя катарсис. Если иронизировать, то мы именно это и делали – перелагали смутные народные желания во вполне определенные вещи: проклятья попам, демонстрацию гигантского хуя в сторону ФСБ или поджог автозака. Какое время, такое и искусство.
Странно: Олег всем давал звонкие клички, а мне не дал, разве что ради забавы закодировал во Фрейлину Морскую. Когда я спросила его, что он может сказать обо мне, он ответил: «Ты ненормальная».
Башня
Почему, почему мы не делаем это на дороге, где кожа пахнет нездешней травой и шевелится, как ящерица? Теплые выемки песчаных луж, разогретая кожура трассы, – можно смотреть вверх, запуская руки в запутанные волосы, глазеть и улыбаться, подрезать взглядом птицу. Ты здорово улыбаешься, когда жаждешь каверз. Я хочу быть твоей каверзой. Давай играть, давай дружить, давай валяться на дороге, до беспамятства сжимать пальцы, разговаривать о своей мечте... Почему мы все еще здесь? Почему не совершаем прекрасные безобразия?Fever
В поэме «Лейли и Меджнун» Алишера Навои рассказывается, как араб Кейс от любви к Лейли почти теряет рассудок. Нет, он не сошел с ума, но Лейли полностью заняла его мысли, он настолько ей очарован, что ничего не может делать, его интересуют только вещи, связанные с Лейли. При встрече с ней от интенсивности переживаний он теряет сознание. В итоге его прозывают Меджнун, «одержимый», и показывают на него пальцем, потому что так вести себя постыдно. Меджнун тянется к шатрам Лейли, не может спать, ничего не ест, бродит по пустыне и общается с животными. Родные не выдерживают – и отправляются с Кейсом в Мекку, надеясь, что парень помолится у Каабы, и Аллах вернет ему разум. Но когда Меджнун начинает произносить свою молитву, родственникам приходится отступить, ведь он говорит следующее (вольное изложение): «Я не собираюсь просить избавить меня от сумасшествия, ну уж нет, я хочу больше огня. Давай, Аллах, добавь еще, засыпь меня камнями, сожги меня дотла! Если я отправлюсь в пекло, сделай его еще горячее от желания, я истощен, но мне мало, пусть в меня ударит молния. Все вокруг говорят «Возьмись за ум», но они просто опасливые трусы, слабаки и глупцы. Вскипяти мне кровь, можешь забрать душу, оставив вместо нее только мысли о Лейли, – это меня полностью устроит».
Я – Меджнун.
27 февраля я провела собственную акцию. Это был военный поход, может, запоздалая, но решительная экспедиция прямо в центр чужого мира. Мне было неизвестно, что делает Дока несчастным, но больше один на один с этим он не останется. Я оставила Корвина, взяла электрогитару, надела красное пальто на окончательно исхудавшее тело – и села на самый быстрый поезд до Москвы. В моем мире люди с электрогитарами побеждали, взбегая по ступеням, вышибая ногой двери и скидывая одежду там, где сидели в одиночестве их герои. Я должна была узнать, так ли восхитительно целовать Дока, как я запомнила, – или умереть. Как герой Джойса я хотела совершить самую огромную ошибку в мире – и несомненно совершала ее, но к тому времени это уже был вопрос выживания – я перестала есть и спать. Целью стало преступление, освобождение от ожидания, от сомнений, бунт против старых, священных правил, война. Я хотела его, как хотят любовника, мечту, музыку, Бруклинский мост, как стремятся сделать самое важное на свете открытие, захватывающее тебя целиком. Дьявольская смесь секса и дружбы, безумная качка между дуэльной горячкой, убийственной нежностью и садистским прищуром. К черту страх. К черту репутацию. К черту чувство вины. К черту кодекс. К черту все. Надоело делать вид, что я хочу понравиться людям. Я хотела только одного – понравиться Доку без одежды в его ванной.
Док – далекая Америка, ошарашивающая Индия, ради которой плывешь в никуда, полоски пустынь, Северный Полюс, неизведанная земля с горами и болотами, над которой пролетают птицы. Я не предлагала себя мужчине прежде, не признавалась в любви – безрассудно, отчаянно, зажмурив глаза, как будто если их откроешь, увидишь, как все вокруг взорвалось. Поцеловать Дока – словно свергнуть богов. У меня не осталось ничего – ни обязательств, ни имущества, ни социального статуса, только непреодолимое желание немедленно сделать это.
Мы играли Doors голыми и пели «Shaman blues»[22], пальцы Дока медленно и пугливо перемещались по грифу, создавая параллельную реальность. Я усмехалась. Ему казалось, что я смеюсь над ним, но он был священен, какой уж тут смех. Просто нравилось, как возникают звуки, потому что это реально, а не вымышлено, не отчаянная фантазия – я могла научить чему-то настоящему, что вызывает удовольствие. Музыка вибрировала, проходила сквозь тело невидимым ситом, разбирая на атомы, а потом ты собирался снова, но уже чуть-чуть другой. Хендрикс расцветал в голове психоделическими цветами, глуховатый голос Моррисона заставлял отключаться. Док и гитары, гитары и Док, – не знаю, что нравилось больше, но теперь они сплавлялись вместе в существо, берущее первые в своей жизни аккорды. Я пришита взрывом к стене, полный экстаз. Необъяснимым образом Док становился музыкой, я видела его частью соло, песни мира рассказывали только о нас, о женщине-ронине и ледяном парне. Периодически мы грубовато, извращенно и неуверенно трахались, это не удовлетворяло, потому что хотелось большего. Никакой расплаты не было, небоскребы не падали, но прошлое разрушалось, делая меня кем-то другим. Я зашла с Доком в душ, и это походило на жертвоприношение. Чертов душ.
Начиная писать, я хотела избавиться от воспоминаний, распределить их и упорядочить, чтобы лишить силы. Но ничто из происходившего не поддается классификации, ни один из героев ни черен, ни бел – ни Олег, ни Коза, ни Док, ни я. Люди, слишком живые и несовершенные для увековечивания в мраморе, прихотливо меняют оттенки. Для Козы ты мог быть лучшим другом, но вот что-то изменилось – и ты уже враг, «личный враг», на котором висит мишень. Док как-то сказал мне: «Ты не воспринимаешь меня всерьез». Это прозвучало абсурдно, ведь я хотела драться за него. Но вряд ли было неправдой.
Я каждый раз спотыкаюсь, когда нужно описать отношение к Доку, потому что суть размывается. Попробую быть проще: Док – это соло Хендрикса в «All along the watchtower»[23]. От того, как Хендрикс виртуозно владеет гитарой, по спине бегут мурашки, от чумовых бендов тянет внутри, а в позвоночник словно втыкают мятный стержень, распространяющий вибрации во все стороны. Многие способны это почувствовать, но никто не трахает соло Хендрикса. Оно объективно существует, ты его слышишь и сходишь с ума, но оно нематериально, к нему нельзя прикоснуться. Существуют физические законы, которые нельзя нарушить, хотя некоторые безумцы все же пытаются совершить невозможное. Я хотела заняться сексом с соло Хендрикса, превращая мир в гигантскую кислотную дискотеку. И за такую наглость мир поставил меня на место, хотя произошло это не сразу.
Док был безупречен, насмешливо-серьезно выводя из экстатического припадка в состояние, в котором я могла быть собой; мне нравилось просыпаться рядом. Он заботился обо мне в сдержанно-ироничной манере, намыливал волосы, заставил вспомнить о еде; я чувствовала, что он мне рад. Просыпаясь и осознавая, где нахожусь, я улыбалась и жмурилась, а Док посмеивался над выражением моего лица. Может, со стороны это и выглядело обыкновенными действиями, но в действительности это было покорением космоса. Кожа, как ландшафт Венеры; я запускала зонды на другие планеты. Каждое движение – нарушение табу, вызывающее острый восторг. Я бродила за ним по квартире, ступая след в след. Никогда не чувствовала себя такой беззащитной. Хотелось отдать все, что я знаю, показать лучшие места мира, рассказать о самых важных вещах. Когда я держала Дока за руку, то держала за руку весь мир: равнины, обрывы, поезда, вулканы и магистрали.
Док отказался быть моим мужчиной, говоря про нежелание разочаровывать и ненависть к себе, пусть я и важнее остальных. Такой отказ не останавливает – причины неубедительны. Пусть Док не умел любить, наплевать – я собиралась обрушить шквал, вырвать наружу, взять в свои приключения. Вера в то, что я способна изменять реальность, была исключительной. Раньше мне не приходилось находиться в такой странной роли – когда лежишь в постели мужчины, но не знаешь, кто ты для него. Это дезориентировало, но необъяснимое «Нет» одиночки раззадоривает, это вызов. Я не сдамся, я буду спрашивать снова и снова, пока ты не согласишься или я не умру.
Расслабленность, легкость, безалаберность Дока воспринимались как экзотика. Мы с Корвином контролировали развлечения, в поле зрения попадали только важные вещи. Фильтр ужесточился с момента увлечения политикой, когда для меня стала определяющей идеология, для Корвина же – эстетика, оригинальность. У каждого существовал собственный вид самодисциплины, позволяющий ограничивать потребление, мы старались заниматься только стоящими вещами, чтобы бессмысленный информационный шквал не притуплял мысли. Я делала исключение только для фильмов, так как писала для журналов. Кино для просмотра вместе обосновывалось концепцией или ссылкой, желанием получить определенное знание или опыт; книги должны были содержать важные идеи, их выбор определялся комбинацией целого ряда факторов. Избирательность граничила с открытым снобизмом, но помогала соблюсти особость, полностью отделиться от окружающих людей, их ограниченности и неприятных привычек, мнений, традиций. Сохранить позицию, независимость от распадающегося, аморфного большинства не так просто, масса постоянно давит тоннами спертых клише и пугливых мнений о жизни. Избирательность необходима, но у меня она трансформировалась в абсолютную нетерпимость к любым этическим и эстетическим изъянам мышления.
Дисциплина необходима, но наш подход стал сковывать, мешать мыслить непредвзято. В отсеве мы были очень жестки. Помню, отказались встречаться со старым другом Томминокером только потому, что он был «недостаточно революционен» – во времена, когда я принмала активное участие в деятельности нацболов, разговоры о сортах анаши и клубе «MOD»[24] выглядели неуместными. Мисима описывал схожее страстное желание не потерять невинность в «Мчащихся конях», где молодые парни хотят убить императора. Они готовы умереть, чтобы ограда вокруг них, сдерживающая «здравомыслие» мира, не обрушилась. У Корвина страх потерять особость выражалась сильнее, чем у меня – зачастую он поступал так, а не иначе исключительно из нежелания хоть чем-то быть похожим на обычных людей. Мне казалось, что особость – не внешнее проявление, а часть личности, что развитой человек способен обнаружить в чем-то банальном свежие мысли. Мы часто спорили на эту тему.
Дока такие вещи не беспокоили. С ним было легко – никто не оценивал списки твоих книг. Он обладал избирательным вкусом, но не зацикливался. Док интересовался протестами, но вел жизнь бездельника. Разочаровавшись в учебе и бросив аспирантуру МГУ, он стал жить в небольшой квартире родственников совершенно один. В то время как мы разрабатывали план по доставке оружия из Абхазии или учили испанский, чтобы уехать в Чили, Док курил коноплю, смотрел сериалы, слушал музыку и круглосуточно играл в «Left»[25]. Я была уверена, что все это видимость, которая служит защитой от чего-то нам неизвестного, но Док не рассказывал о планах и неудачах. Он ничего, кроме личных обид, не воспринимал слишком близко к сердцу, окружающий мир являлся объектом для шуток. Я считала это своеобразной смелостью и свободой.
Мне требовалась такая свобода – возможность валяться, разговаривать, переплетаясь, играть музыку, заговорщически смотреть друг на друга и не думать о фильтрах. Док казался серьезным, слегка циничным, неуместно вспыльчивым; мне нравилась простота, аккуратность, некоторая грубость. В быту он был более естественным, чем мы, хотя дергался из-за разной чепухи.
Особенно заводило вернувшееся восприятие музыки – воздух был ей пропитан, движения Дока перетекали в гитарные партии, фортепианные соло Манзарека[26] сыпались и вызывали желание их повторять. Все, лишенное меры, превращается в дрянь. Лживая аскеза, скрывавшая конфликты и сделавшая нас с Корвиным из любовников солдатами, осточертела. Я чувствовала себя монашкой на каникулах, сбросившей рясу и вдыхающей воздух с моря. Эта монашка отплясывала, как заведенная. Пока Док не отказался от меня, я ощущала невероятную свободу.
Я прожила в Москве неделю, а затем собралась обратно, хотя он удерживал. «Ты можешь жить здесь, сколько захочешь», – сказал Док и обнял меня. Но было ясно, что это неправда, что скоро я перестану себя контролировать, а он испугается.
Я до сих пор благодарна за эти слова.
Никто не был для меня так важен, как Док. Однако вылазка закончилась провалом: его искренне забавляла и трогала привязанность, нравилась и появившаяся власть, к тому же вместе со мной он не чувствовал себя одиноким. Рассчитывать на что-то большее не приходилось. Хотелось, чтобы кто-нибудь, пусть даже не я, прорвал защиту Дока, вечную пленку, которой он окружен, попал прямо в глубину, вернул чувства. Чтобы Док был живым, диким, смелым.
Хуй
Под проливным дождем я, Док и Коза шатались по дворам у Гражданки, заглядывали в помойные баки и искали пятилитровые пластиковые бутыли из-под воды. Сначала работенка выглядела чересчур грязной, но потом мы свыклись и настойчиво забирались в урны, баки, ковыряли палкой мокрые мусорные кучи под предводительством неунывающей Козы. В задачу входило обеспечение тарой тренировок, так что мы по мере сил изображали заинтересованных в добыче бомжей. По пути я обнаружила бесхозную лопату и из залихватской, дурной жажды действия украла ее.
Война появилась как раз тогда, когда я, осознав, что качусь по наклонной, предприняла ряд шагов для самосохранения. Я резко сократила количество свободного времени, перестала общаться с Доком, когда окончательно потеряла контроль над собой, и устроилась инженером на корейский автозавод. Суровый уклад, менеджеры-мракобесы, напряженная работа, а также необходимость просыпаться в пять утра оставляли мало времени для переживаний. Вечерами я либо напивалась, шатаясь по городу, потому что находиться дома было невыносимо, либо бесконечно слушала музыку, каждая нота которой вонзалась в сердце, словно спица. Битва с внутренним Доком забирала все силы. Это было поистине изнурительно, так что появление Войны обрадовало – личная кома не сказывалась на желании выражать политический протест. Коза, Олег и Леня с Каспером и рюкзаками сидели у Чкаловской и ждали анархистов. Леваки европейского типа, беззубые и по уши погрязшие в бесполезной благотворительности и иллюзиях, мне не понравились. После разговора антипатия только усилилась: анархисты сообщили, что у них поездка в Европу, так что они принять участие в акции не могут. Это же юмористическая сценка, нет?
Находясь в гостях, Коза с Олегом рассказали про то, что планируют сделать. К тому времени они уже измерили мост, прикинули, откуда рисовать, понаблюдали за охранниками. Несколько дней подряд патруль из активистов следил за тем, сколько остается охраны и где она стоит в момент, когда дорога для машин через Литейный уже перегорожена.
К нам присоединились знакомые с Лоскутовым ребята из Питерского Уличного Университета. Встающий напротив ФСБ изрисованный разводной мост показался весьма остроумной выходкой, в которой виделся как присущий Войне кураж, так и политическая острота.
Я, конечно, вписалась.
Коза спросила, кто из моих друзей придет, так как нужны были люди, и я назвала Дока. Казалось, что ему не составит никакого труда сорваться и приехать, потому что он ничем не занят. К тому же парню требовалась встряска.
Он и впрямь быстро сорвался, так как дома ничего стоящего не происходило.
Рисовать мы тренировались на пустой здоровенной парковке рядом с гипермаркетом на Гражданке. Набрав нужное количество пустых бутылей из помоек, мы наполняли их водой в туалете гипермаркета, грузили в тележку и везли наружу, потом в воду добавляли немного краски. Асфальт был размечен, по сигналу мы бежали, выливая воду. Размер фигуры оценивали на глаз – по меткам. В течение нескольких секунд мы стремительно рисовали каждый свою часть – и убегали. Несколько банок краски Война заготовила – украла из магазина – но Коза волновалась, что мы не успеем добыть достаточное количество до акции. И после тренировки Леня с Олегом пошли искать строймаркеты.
Самым сложным оказалось резко поворачивать с канистрой в руках – вода разбрызгивалась в разные стороны. Надпись должна была быть читаемой, а линии «расползались».
По изначальной задумке рисунок состоял из схематического изображения члена и надписи «ПЛЕН» внизу, что расшифровывалось как тюремное «Пиздец легавым ебаным начальникам». Тюремная, воровская эстетика Олегу импонировала. Коза с Каспером за спиной, быстро орудуя канистрой, рисовала зарубку и головку, без которой рисунок выглядел бы неканонично. Олег отвечал за правую сторону гигантского ствола, Леня – за правое яйцо, бабка Любка – за левое яйцо, ее друг рисовал левую часть кривоватого эллипса-хуя. Я, Док и еще пара активистов из Уличного университета были ответственны за буквы. Мы так друг друга и называли в шутку: яйцо, буква, залупа. «Буквы», во-первых, не должны были мешать друг другу, во-вторых, нарисованное должно было быть понятным, в-третьих, буквам полагалось выглядеть одинаковыми по ширине и высоте, так что пришлось побегать.
В момент выполнения акции мы планировали разделиться на группы и гулять по мосту, кося под припозднившихся туристов, которые не могут оторваться от видов ночного Питера. Когда охранники начнут ставить заграждения, блокируя въезд машин на мост, – выйти на позиции, а по сигналу одновременно добежать до своих «точек», синхронно все нарисовать и немедленно свалить в противоположную от рисунка сторону. Так как мост разводится, охранники за линию излома не побегут, а люди с другой стороны будут не в курсе происходящего – и нас никто не задержит. Мы разделили стороны отхода, чтобы не смешиваться и затруднить возможное преследование: кто-то бежал вправо, кто-то влево. Продумали и как добираться домой. Синхронность и быстрота действий имели большое значение.
Была еще мысль запрыгнуть в катер и слиться, как в «Джеймсе Бонде».
Некоторые акции Войны – например, «Дворцовый переворот», требовали месяцев подготовки, но «Хуй» получился легко и непринужденно. Ночью, взяв канистры, мы выдвинулись от Финляндского вокзала, около Ильича переложили их в полиэтиленовые пакеты, чтобы не привлекать внимания. Горлышки канистр оставили открытыми, чтобы не тратить время на раскручивание крышек, распутывание полиэтилена – и не допустить позорного провала акции. Лить краску собирались, не вынимая канистр из пакетов. Во время подготовки некоторое время спорили, что делать с канистрами после того, как нарисуем. Леня предлагал выбросить с моста, чтобы не оставлять улик. Я решила, что это лишняя трата времени, которого после акции и так не будет, и предложила бросить канистры там же. Сошлись на том, что лучше швырнуть там же и улепетывать, и еще решили, что в случае чего канистры можно будет бросать в преследователей – чтобы задержать.
Кроме девяти человек, которые рисовали, на акции присутствовала целая бригада документаторов – кто с камерой, кто с фотоаппаратом. Все они должны были занять наблюдательные точки на высоких зданиях и неподалеку от моста, так что некоторое время мы ждали, когда все приедут, и нервно бродили туда-сюда.
Док прокатил на спине, настроение поднялось.
А потом мы пошли на мост.
Перед разведением Литейного с обеих сторон толпятся люди: опаздывающие, которые в последнюю минуту пытаются перебежать мост, экстремалы-велосипедисты, которых тянет перепрыгнуть со створки на другую сторону, и многие другие,– поэтому затесаться в толпе нетрудно. Когда охранники начали ставить ограждения, мы молчаливо разделились на две группы и пошли на мост, к его середине. Я осталась с незнакомыми активистами, и это нервировало. В себе я уверена, в Лене, остальном ядре – тоже, но храбрость неизвестных людей ставила под сомнение. Они сильно напрягали тем, что застопорились, не желая приближаться к линии разлома, потому что считали, что еще рано, и нас могут заметить. Их тактика – их право, но я настаивала, что пора выдвигаться. Мне хотелось быть ближе к месту акции.
Дальше события развивались стремительно: мост перекрыли, к нам подошел охранник и дал понять, что время любования окрестностями вышло. Я сбивчиво выдала байку про опоздание и виды. На мосту хватало зазевавшихся туристов, так что мужчина отвлекся на остальных. Затем на мост попыталась въехать машина, водитель разразился речью в духе «мужик, очень надо», охранники вступили с ним в спор. Нерешительность могла стоить дорого. Если мы не успеем на позицию точно в срок – ничего не получится.
Тогда, на мосту, я в первый и в последний раз испытала страх во время акции, и связан он был с тем, что могут подвести другие и все сорвется. Страх щекотал нервы, но возможность его преодолевать казалась приятной. Я смотрела на Леню на другой стороне и ждала сигнала, напряжение усиливалось, охранники теряли терпение, мост был практически пуст... И вот он сигналит, все несутся, как бешеные, Олег стремительно начинает рисовать, я выбегаю с канистрой на отмеченный в уме квадрат, выливаю краску на асфальт, не переставая бежать, разворачиваюсь – и вижу охранников в темной одежде. Они были настроены решительно, их туши неслись на нас, как пушечные ядра. Не знаю, что они вообразили, но ускорились они как следует. Я поддала, что есть силы, перед этим кинув канистру под ноги охранникам. Впереди уже улепетывал Док, долговязую фигуру было трудно не заметить.
Не успела я пробежать и двадцати шагов, как сзади с силой врезалось чье-то тело – это охранник, прыгнув с разбега, мощно ударил меня по ногам. Разница масс была впечатляющей – мой вес держался тогда в районе сорока семи килограмм. В глазах потемнело, я рухнула, как подкошенная, но тут же попыталась встать. Охранник тоже упал. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы встать, но схватить меня он уже не успел. «Вставай! Вставай!» – ободряюще кричал то ли Олег, то ли Леня. Подбадривание, дружелюбное и громкое, оказалось очень кстати. Ноги после удара повиновались плохо, но я мобилизовала силы и, плохо ориентируясь в пространстве, побежала на этот крик.
Я бежала, не оглядываясь, кое-как неслась прочь. Последовал второй удар, после которого встать оказалось гораздо труднее. «Вставай, Мор! Вставай!» – Голос действовал, я поднялась, а Олег с Леней отбили от охранника, давая возможность уйти. Набрав скорость, я пересекла изгиб моста, что было равнозначно победе, затерялась в ничего не подозревающей толпе и двинулась вслед за Доком, который несся, словно болид. Никто нас не преследовал. На пустой улице мы поймали машину и поехали домой. Меня распирало – хотелось секса, веселья, движения. Док был занят переживанием собственного опыта.
– Можно положить руку тебе на колено?
– Давай.
Так мы и ехали.
Больше всего терзало любопытство – получилось или нет? Дома мы приникли к монитору и бесконечно обновляли страницы. Я постепенно покрывалась синяками. Первое видео мы получили с онлайн-вебкамеры. Это был отличный момент. Все замерло, занавес в сторону – и ты, еще не знающий, что получилось, наконец-то можешь оценить результат. Это выглядело... монументально.
Было ощущение, что каждый штрих вывел лично ты, что именно ты стоял и смотрел в окна здания ФСБ, когда мост поднимался.
Акция «Охранник друг мента» так и не стала достоянием общественности, и мы уже начали считать себя участниками секретных операций, о которых никто не узнает и которые никто не увидит. Но на этот раз все было видно отлично.
Самое смешное заключалось в том, что буквы, которые мы вчетвером усердно выводили, оказались невидны – мы не учли конструктивных особенностей моста, и когда Литейный развели, надпись оказалась скрытой от глаз публики. Работа была выполнена, но она была не видна. Если бы в целом рисунок стал от этого хуже, мы бы всерьез расстроились, но так как мощь хулиганской мазни была кристально ясна, ошибка воспринималась шуткой судьбы. Психоделическая картина, достойная хорошего «прихода»: ты идешь по ночной улице, освещенной расплывчатыми шарами фонарей, впереди дорога загибается вверх, втыкаясь в небо, и на огромном куске дорожного полотна – площадный, грубый, гигантский, как Годзилла, хуй. Вакх и радикализм, торжество дерзости. Заборный рисунок как вызов, как насмешка, глумление шута, как манифест, как знамя, декларация войны и окончательная точка. Хуй как символ мощи и свободы, неприлично гигантский, своей неуместностью и неожиданностью вызывающий дикий восторг.
Думаю, ощущение отчасти походило на то, которое описывал Джерри Рубин[27]:
«Мы бежали, визжа и улюлюкая, по улицам, прочь от железной дороги, как ватага чокнутых ебланов. Мы были воинами-победителями. Мы познали экстаз. Мы остановили поезд с войсками».Мы развернули изображение на полный экран, забрались на диван и смотрели на монитор, свыкаясь с реальностью, как художники, оглядывающие завершенное полотно или портные, рассматривающие хорошо скроенное платье. Несколько пожарных машин тщетно пыталось смыть художество Войны, но рисованный Хуй нагло продолжал стоять прямо перед окнами ФСБ. Стойкость краски превзошла все наши ожидания. Все получилось.
Сразу после акции телефоны активистов были выключены, но затем с нами связалась Коза и сообщила, как обстоят дела. Леню поймали, и это очень беспокоило. Вместо меня в клетку посадили его – это он и Олег отбили меня у охранника.
Когда Леню освободили, и я благодарила его, он только пожал плечами – никаким героем он себя не ощущал, его больше интересовал результат акции.
Из-за поимки Лени Война не делала в журнале Плуцера[28] никаких заявлений, но зрители, которых было немало, сами распространяли фото, теряясь в догадках, кто и зачем сотворил такое. История ходила по сети, обрастала версиями, становилась народной, что было на руку. Как обычно, чистоплюи сравнивали акцию с пачкотней на заборе и вспоминали про «культурную столицу», но им не хватало воображения. Акция была настолько же политической, насколько смешной. Ее простецкий символизм заводил.
Когда ситуация с Леней прояснилась, Плуцер анонсировал акцию – и Война перешла в другую лигу.
Постэффект
Последовавшего за акцией на Литейном успеха мы не ожидали. Все считали, что акция вышла что надо, но реакция оказалась ошеломляющей. Внезапно свалилась слава. Мы начали работать звездами на час. Каждый день Олег, Коза и Леня давали интервью то журналам, то газетам, то радио, то ходили на неформальные выступления в клубы, иногда посещали несколько мероприятий в день. Больше всех отжигал Олег, он мог делать это без конца – каждый раз что-нибудь новенькое. Олег отлично «держал» аудиторию, при этом любил дурачить журналистов – например, представить человека, который случайно зашел поесть пельменей, самым важным активистом Войны. Мы снимались для «Афиши», мы снимались для «Собаки», мы снимались для кучи других изданий. Война ходила, по-моему, даже на радио. В одной зарубежной заметке нас назвали «девятью храбрыми воинами», это льстило. О Войне писали в России и за границей, наши художества показывали по телевизору, велись дискуссии, на дебатах группу поддерживали молодые люди с повышенным уровнем гражданского самосознания. Мы были звездами рок-н-ролла, и Война в целом сильно повысила свой рейтинг. Обычный народ разродился целым шквалом стихотворений, да что там – од и поэм – посвященных Литейному хую. Выходка пришлась ко времени и снесла всем крышу.
Я вдруг ощутила абсурдность происходящего вокруг. Обзавестись девочками-фанатками из-за того только, что нарисовала напротив ФСБ хуй (да даже не хуй, а букву к невидимой надписи) – это чересчур.
Времяпрепровождение в течение нескольких месяцев было похоже на бесконечную вечеринку. Мы объездили весь город. Олег с Козой давали интервью, затем мы развлекались, пили, вписывались то у журналистов, то у новых фанатов.
И сегодня, когда я еду по ночному Питеру, я автоматически вспоминаю о Войне. Кажется, каждый изгиб моста и каждая улица были пройдены вместе.
Сначала вал встреч воодушевлял, народ придумывал идеи одна безумнее другой, но чем дальше, тем очевиднее становилось, что нам нужно действовать дальше, брать следующую планку. Отшлифовав реплики для толпы, Война стала сильно преувеличивать свою значимость. Рефрен слов о радикальности и величии, исправно печатаемый популярными изданиями, напрягал. Нельзя сказать, что группа ничего не делала – обсуждались грядущие акции, делались приготовления к нескольким стоящим проектам, параллельно шел поиск заброшенных машин для акции «Дворцовый переворот» – нужно было понять, сколько человек сможет перевернуть железную коробку. Но обстоятельства сложились так, что в течение нескольких месяцев Война, постоянно находясь в движении, ничем серьезным не занималась.
Богемный период разлагающе подействовал на всех – Коза нервничала, предлагала невыполнимые акции и кричала на расплывшегося Олега; Олег валял дурака, от нечего делать доставал членов группы и всех, кто попадал под руку, – например, приехавшего из Новосибирска Леху, который хотел прославиться, а вместо этого влип в период между акциями.
Журналистка Лена сказала, что народа в квартире стало слишком много, встал вопрос о переселении. Через знакомого я вписала активистов у нацболов, таким образом, линии Войны и НБП пересеклись. Я заново знакомилась с не помнящими меня легендарными нацболами – это было забавно.
Док к тому времени переселился к Войне, так как вернулась хозяйка квартиры. Находясь вместе с ними круглосуточно, он начал попадать под влияние Олега. Довелось Доку пожить и с нацболами, заселившись в квартиру с контрабасом и отличной библиотекой; к концу приключений он жил уже на заброшенном заводе.
Меня бездеятельность расхолаживала. Хотелось чего-то живого, настоящего. Не хватало друга. Я стремилась к общению с Доком, но как с личностью, не как с частью табора. Для меня мнение окружающих ничего не значит, но Док держал нейтралитет, соблюдал основные правила. Из-за того, что он жил с Войной, общаться удавалось не всегда – он не мог или не хотел переключаться, оставаясь частью компании. По той же причине не получалось и полноценно общаться с Войной – присутствие Дока вызывало паралич. Помню, как Док повел меня на берег Невы – показать ночное фаер-шоу. Красивые девушки в черных туниках крутили зажженные факелы на фоне душного летнего воздуха, темного и густого. Они были босиком, в волосах одной, тонкой и пластичной, белел цветок. Доку нравились барабаны, их сбитый варварский ритм.
Однажды мы поспорили, и Док закричал: «Как ты можешь?! Ты же часть Войны!». Это напомнило школу, когда принадлежность к банде накладывает массу обязательств. Я напряглась – оказывается, я уже не друг, а «часть Войны», я должна что-то помимо того, за что беру на себя ответственность.
Любой активист принимает обязательства, накладываемые участием в акциях, но представить, что мои взгляды или бытовые привычки будут определяться чужаками, невозможно. Как я теперь понимаю, реплика Дока сильно повлияла на дальнейшее развитие событий – я почувствовала угрозу для его самостоятельности.
Кодекс в этом случаях требовал стать альтернативой группе.
Для меня Война – солянка активистов, самых разных, но объединенных неким стержнем, желанием действия. Я считала, что бытовые неурядицы, знакомства с кучей людей и новый опыт оживят Дока, но в тот момент поняла, что у медали есть две стороны.
Я моментально перестала вести себя как часть коммуны, стала отделяться, самостоятельно обдумывать действия – отчасти оттого, что мне не нравились происходящие во время простоя процессы, отчасти, чтобы стать полюсом для Дока. Он не должен был потеряться внутри бродячей «семьи», а для человека, которому некуда возвращаться, это просто.
Общаясь с радикалами, легко выделить несколько стандартных типов людей – идейные бунтари, бездельники, мошенники, камикадзе. Последние – отчаявшиеся по тем или иным причинам люди, которым нечего терять (или они так думают), отчего в приступах саморазрушения они участвуют в самых рискованных предприятиях. В духе уйти в иностранный легион из-за несчастной любви.
Обычно я была рассудительна и идейно уперта – настолько, что порой это казалось смешным, но в случае с Войной из-за личных переживаний вела себя, как камикадзе. Но когда ты на пороге совершения обыкновенного, «реакционного» самоубийства, гораздо лучше, как писал Хьюи Ньютон[29], заменить его самоубийством революционным.
Проблема заключалась в том, что я была распалена гаргантюанскими планами, а деятельность Войны представлялась мне слишком мирной. Мне нужен был взрыв Парламента, мне хотелось заслонить собой Дока, чтобы пули превратили меня в решето – а вместо подвигов мы обсуждали, как привлечь сомневающуюся порнозвезду. Я, со своим Хейзингой[30], королем Артуром и цитатами из Ульрике Майнхоф, надолго в лагере бродячих концептуальных художников задержаться не могла. Док ускорил процесс моего отдаления от Войны. К тому же, одержимость делала невозможной полноценную связь с другими людьми, они становились фоном. Я мало ими интересовалась и жалею об этом.
Вместо дел Война «накачивала» прессу, мне же необходимо было чем-то заниматься. Я пришла в Войну как «боевик», ходячее орудие. Паузы нервировали. Реклама, разъяснение взглядов Войны людям – от пролетария, который смотрит только телевизор до последнего хипстера, читающего модный журнал – это тоже работа для группы, но главной задачей я воспринимала только действие. Действие избавляло от изнуряющего притяжения, от ощущения невозможности что-то исправить.
С завода я шла на встречу с Войной или Доком, чтобы опять попасть на арт-вечеринку, попойку или прогулку, уходила домой глубокой ночью, спала пару часов, вставала в пять утра и отправлялась к роботам и конвейерам. Иногда я вообще не спала, оставалась на чужих квартирах, и занималась бессмысленной выматывающей работой – наблюдала за скучающей Войной.
Мне нравились большие сварочные роботы, ловко переворачивающие корпуса, длинная линия, по которой двигались машины, шум линии, пыхтенье труб, постоянное движение рабочих, забитый контейнерами контейнер-ярд, циркуляция предметов.
Примерно в это же, не самое удачное с точки зрения зрелищ, время Войну начал снимать Андрей Грязев[31]. Не помню, как именно он появился, просто во время одной из встреч я обнаружила, что Война постоянно находится под прицелом камеры черноволосого мужчины, наездами живущего вместе с ребятами. Наличие собственного летописца народ воспринял как закономерное явление. Каждый, наверное, думал, что пора увековечить Войну. Андрей постепенно приучил ребят не бояться камеры. Часто он ничего не снимал, просто таскал аппарат с собой, и люди со временем перестали дергаться. Даже я, ненавидящая съемки, постепенно привыкла и перестала камеру замечать. Грязев казался здравым человеком. Он наблюдал за всем, что происходило, и это создавало странный эффект – Андрей одновременно был с нами, но в то же самое время все мы являлись материалом, а каждая наша размолвка или триумф превращалась в кадры. Рождение собственного сына он встретил с Войной, вдалеке от жены, – напился с Олегом.
Была в нем скрытая под дружелюбной улыбкой жестокость «автора материала».
Формально Андрей стал одним из активистов – он снимал «Курицу», «Дворцовый переворот» – но идей Войны не разделял, да и вообще не видел идейности в действиях Олега и Козы. Война же собиралась сделать из него нового Адати – режиссера, который поехал снимать фильм про японскую RAF[32], а потом отложил камеру и сам стал террористом. По мере съемок фильма камера должна была стать «камерой прямого действия», а с автором – случиться метаморфоза. Андрей же быть Безумным Сесилом Б.[33] отказался и снимал обыкновенную хронику.
История с фильмом закончилась неожиданно – Олег с Козой объявили автора «безыдейной поделки» врагом и охотником за наградами, написали, что никакого отношения к фильму не имеют. Они препятствовали показу фильма на Берлинале[34], подавали в суд. Андрей в свою очередь искал самые разные способы преодолеть сопротивление группы, часть его действий восторга не вызывала.
Я резко выступила против запрета фильма, каким бы он ни был. Запрет противоречит идеологии Войны.
Тогда же, летом, Олег начал систематически травить Лоскутова, новосибирского основателя Монстрации. Он считал, что Лоскутов «занес» ментам, заплатив штраф, что было недопустимо. «Я заношу, я заношу. За анашу, за анашу», – издевательски напевал Олег, вызывая всеобщий смех. Кое-как сопротивлялся только Леха, для которого Лоскутов был авторитетом; всем остальным, включая меня, было плевать. Почуяв это, Олег начал прикалываться над Лехой и Лоскутовым одновременно. «Акции» Лоскутова казались Олегу чересчур легковесными, он видел в них издевку над акционизмом, так что себя не сдерживал.
Помню, мы сидели на пляже после фотосессии «Афиши», Олег сочинял тексты для шуточного панк-альбома, посвященного Лоскутову. В нем лирический герой Лоскутов то заносил ментам миллионы, то предавал Родину, то совершал разнообразные комичные преступления. Была ария, которую Олег написал от лица бабки Любки, знавшей Лоскутова по Новосибирску. За несколько минут, зарывая ноги в теплый песок, мы набросали кучу текстов, Олег уже начал живо описывать, как Ксения будет петь, а я – играть на электрогитаре. Представление, которое живописал Олег, выглядело уморительным. Хотя и я от скуки придумала множество издевательских стишков, вскоре песни про Лоскутова сидели в печенках. Записывать что-либо я отказалась – слишком мелко. Участвовать в травле акциониста во времена, когда любого, сказавшего слово против властей, сажают в тюрьму, я считала недопустимым.
Лето было разнообразным: безалаберные фотосессии на питерских крышах и испытания огнемета, прогулки по городу в костюме привидения и песни Ксении, «Алые паруса»[35], превращающие город в безумное место, заваленное мусором и разведка на зданиях...
Мы с Доком научились ездить автостопом, бесплатно – платить за проезд стало нечем. Процесс был занимательным. Останавливаешь машину, просишь подвезти до Пионерской, водитель спрашивает «Сколько?», ты – «Бесплатно». Дальше, чаще всего, следует увлекательная пантомима – многие водители делают лицо, будто ты предложил им секс с козлом. Им кажется, что их оскорбили, остановили зря, они злятся и уезжают. Человека, готового помочь бесплатно, встречаешь, как правило, после нескольких попыток.
Раньше бытовало выражение «находиться при ком-то». «Он был при нем гувернером». Я находилась при Доке, но определить в какой именно роли, было сложно. Формально я была женщиной Дока, реально – нет. Он продолжал безоговорочно доверять, но не позволял приближаться. Вместо рыцаря я стала ронином, нелюбимой наложницей. Самое плохое заключалось в том, что даже причиняя друг другу боль, мы все еще оставались друзьями, а это не самый удачный расклад – воспринимать как друга человека, который невольно стирает тебя в порошок. В приступе безжалостной любви я бродила по городу и хотела отдать эту любовь кому угодно, хотела исцелять больных, воскрешать мертвецов. Оставшись без адресата, любовь рвала в клочья. Док был рядом, но недостижим, беспол, абстрактен.
«Держать тебя за руку – все равно что держать за руку поезд!» – выпалила как-то я, думая об уитменовских локомотивах, полных мощи, вопящих и несущихся вперед. Сделать их союзниками, вступить в шипящий пар чумазым и неистовым – вот чего мне хотелось. Поезда были огромны, Док тоже был огромен, как шагающая электростанция, как гремящий мост.
Он посмотрел на меня так, будто я сказала несусветную глупость. Поезда поблекли. Осталась только я, улица и мертвый Док.
Ксения
Ксения стала настоящей бомбой. Я ее заметила сразу. Помню не все разговоры и даже далеко не всех, кто там присутствовал, но то, как она выглядела, я помню прекрасно. Ксения совершенно не походила на озабоченных собственной важностью людей, улыбалась, словно хмельная. На груди висели бусы с гигантскими красными бусинами; длинные, взлохмаченные волосы были едва ли не до пояса; лицо с лукавой, любопытной улыбкой и широковатым забавным носом – как у героинь Годара. Во всем ее облике виделось что-то от французской «новой волны». Подведенные черным большие глаза. Героиня шестидесятых. Она была неловкой и грациозной одновременно. Такие девушки приходят – и в них влюбляются все. Она пила вино, отпускала нарочито неуместные шутки, поглядывала, напевала песни и была очень довольна, она возникала везде, рассказывала, размахивала руками, постоянно играла с окружающими и с собой, – выходило очень обаятельно. Вывеска из девичьих чудачеств, не обманывала – Ксения была гораздо умнее и взрослее, чем изначально хотела казаться.
Я на мгновение забыла о Доке и с вызовом разглядывала ее. Это заводит, сработало и тут. Она плела истории о том, что мы похожи на команду супергероев, что Война – это легенда, и она хочет нарисовать про нас комикс. Ксения – знакомая Лося, одного из основных участников ДСПА, и она определенно была единственным восхитительным существом на вечеринке. Я следила за каждым ее движением, за тем, как падают пряди, как она смеется, как взахлеб говорит. Было непонятно, почему все вокруг не останавливаются, не перестают в сотый раз обсуждать, как рисовали на мосту хуй, – и не смотрят только на нее. С хуем уже все давно было ясно, а с Ксенией – нет. Я была покорена, хотя старалась вести себя сдержанно. Чувствовала себя гвардейцем в черном, который смотрит сквозь толпу на женщину-фейерверк.
После прихода Ксении в команде появился дух здоровой конкуренции, ее хотелось впечатлить, но нельзя было перестараться – она слишком привыкла ко всеобщему вниманию. Такая задача развлекала, к мужчинам вернулся задор. Я помню, как мы ради забавы крали для нее орехи, еще какую-то дрянь. Мне она напоминала гибрид Жульет Берто[36] и Энн Вяземски[37], девушку из марксистского периода Годара – особенно это смешение чистосердечного флирта и риторики в духе французских студентов, вера в ситуационизм и восторженные речи о Лосе. В ней море жизнелюбия, брызжущего в разные стороны, молодой творческой энергии, очень заразительной и привлекательной. Иногда казалось, что еще немного – и она лопнет. Мне Ксения нравилась – девчоночьи повадки, одежды, разноцветные дырявые чулки, зажигательные речи; хотелось носиться босиком по улицам, никакого отчаянья, только танцы на горячем асфальте. Ксения – буйство красок, несколько избыточное, но притягательное.
Олегу она тоже понравилась, он приглашал Ксению на фотосессии Войны, называл активисткой Блаженной (от Ксении Блаженной, питерской святой), хотя ни в одной из акций Ксения всерьез не участвовала. На фотосессии для Афиши Ксению подкинули, вырвали из Невы, и она, летящая в солнечных брызгах, в мокром полотнище цвета кумача, такой и вспоминается. Вряд ли ее можно назвать красавицей, но когда ты рядом с ней, она именно такая. Ксения была целиком пропитана французским шестьдесят восьмым[38], его яркими лозунгами, «Будь реалистом – желай невозможного», студенческими восстаниями, абсурдистским вторжением в жизнь. Война ее вдохновляла, заставляла писать стихи и музыку, она хотела присоединиться и немедленно сделать что-нибудь возмутительное. При этом Ксения была стопроцентной женщиной, и стоило ей войти, как парни сразу же поднимали головы. На дебаты Войны в «Грибоедове» мы с Доком пошли только ради нее. Он сворачивал для нее папироски, а я комментировала ход спора.
Громкость и неконтролируемая женственность Ксении напоминали о том, что я слишком задержалась в несвойственной мне роли. Это я должна была играть на гитаре, ловить чужие взгляды, выбирать мужчину на вечер и запускать руки в чужие волосы, а стала ненужным телохранителем холодного друга. Ксения искрилась, что-то в ответ шевелилось во мне – снова протест, желание выбраться наружу? Наблюдать за ней было замечательным занятием – столько поз, выражений лица, такая мимика. Застой внутри Войны, связанный с отсутствием новых акций, сильно способствовал такому ядреному эффекту на меня. Своим жизнелюбием Ксения даже уменьшила одержимость Доком, мучительное чувство обреченности, сопровождавшее любой контакт; она слегка сбила фокус, напомнила, кто есть кто. Я рассказывала о ней парням-дилерам из подъезда так зажигательно, что они сразу же хотели с ней познакомиться, чтобы удостовериться, что такие девушки существуют.
Помню, как мы c Войной ходили в «Порядок слов»[39] смотреть фильм Андрея Грязева. Грязев к тому времени уже снимал нас. Ксения приехала на велосипеде, в пышной длинной юбке и в буденовке. Лично я до этого не знала ни одной девушки, которая бы не выглядела в буденовке смешно. Ксения не выглядела.
Велосипед у нее в тот же или на следующий день украли, и я широким жестом предложила свой. У парней это вызвало неожиданный фурор. После, когда Леха пытался узнать, есть ли у него шансы с Ксенией, Олег смеялся: «Даже не надейся, Мор уже подарила ей велосипед».
Новый, щеголеватый оранжевый Gary Fisher и видеокамера – все имущество из прошлого, которое чего-то стоило. Отдавая велосипед Ксении, я заодно хотела избавиться от последнего предмета, который связывал мои планы с планами Корвина – не потому, что уехать на край света на велосипеде мне не хотелось, а чтобы дать себе понять, что у меня иной путь, выбор сделан, рефлексия бесполезна. Ксения удивилась, но подарок приняла.
На следующий день она принесла букет незабудок, чем покорила еще больше. В широких штанах и хипстерских очках в толстой оправе на голове, чтобы собрать стремящиеся рассыпаться волосы, Ксения шла между мной и Доком и рассказывала то о том, как посещает марксистский кружок по пятницам, то какие безобразные студенты приходят к ней сдавать философию и как она не любит догматиков. Рассказ о марксистском кружке Лося смешил до колик. Я так и видела, как он горячо, серьезно, с продуманной аргументацией обсуждает политику с, дай бог, десятком человек. «Он же святой», – поднимает брови Ксения, и мне становится обидно за Лося и его старомодную принципиальность.
В итоге мы с Доком негласно соревновались, кто получит больше ее внимания, я очевидно побеждала. «Готов слушать это щебетание вечно», – сказал Док, когда она ушла. Он называл ее Ксюшей, мне это казалось фамильярным, я звала ее Ксенией. Самой Ксении это, конечно, было по барабану.
– Ты хочешь ее трахнуть? – в его глазах зажглись огоньки любопытства и эдакого мальчишеского нахальства.
– Не думаю. Но мне нравится себя вести так, как будто хочу.
– Зачем ты отдала ей велосипед? Он же стоил кучу денег! – не унимался Док.
Просто так. В том, чтобы отдать годаровской девушке в буденовке оранжевый Gary Fisher была магия момента. Они подходили друг другу – яркая, взбалмошная Ксения и оранжевый велик. Мне ничего от нее не было нужно, да и вещи мне были не нужны.
– Лучше бы мне отдала, – покачал головой Док.
Док был совсем тощий, наклонял голову, словно птица, а белое лицо рассекала особенная усмешка – одновременно очень наивная, недоверчивая и задиристая.
Антипод Ксении, с которым они соседствуют в памяти на удивление гармонично, – Лось. Я следила за Движением сопротивления Петра Алексеева из-за Жвании, а точнее – его книги «Путь хунвейбина». Жвания поучаствовал во всех мало-мальски стоящих протестных питерских организациях – от крохотных анархистских ячеек до питерского отделения НБП, которое тогда было гораздо более радикально. Историю о том, как он раздавал листовки на проходных заводов, пока не возненавидел рабочих и не понял, что революцию это не приближает, я читала с хохотом. Упорство и организаторская хватка Жвании, заставляющие снова и снова пытаться создать какой-то процесс, организацию, перегруппироваться, импонировали, хотя по биографии он был слишком романтичен, чтобы безоговорочно нравиться. Из «Пути хунвейбина» я извлекла неочевидную мысль о том, что отказываться от старых убеждений ради новых – не «предательство идей», как это любят представлять, а обыкновенная эволюция, во время которой ты вырастаешь из железной скорлупы идеологий, развиваешься, ищешь. Жвания на протяжении книги не раз превращался из троцкиста – в кого-то еще, из нацбола – в интернационалиста, оставляя нерушимым костяк воззрений. До этого я считала подобную гибкость неумением стоять на своем, но Жвания поколебал подростковый максимализм, потому что смог внятно объяснить, что в тупике человек должен попробовать развернуться и начать двигаться в другом направлении. Разочаровавшись в деятельности окружающих организаций и получив разносторонний опыт, Жвания организовал ДСПА, названное в честь малоизвестного революционера. ДСПА совершало летучие акции, руководствуясь отчасти ситуационистским подходом деконструкции реальности, отчасти придерживаясь классических левых теорий.
Лось – один из костяка ДСПА, крайне похожий на Жванию упертостью и способностью к утомительной ежедневной работе ради достижения идеалистических целей. В рассказах Ксении Лось представал борцом с несправедливостью мира, современным донкихотом, храбрым, принципиальным и честным. В некоторых романах используется мощный прием представления героя через восприятие другого человека – когда ты сначала слышишь рассказы, увлекаешься и только потом видишь того, о ком говорили, воочию. Особенно этот прием силен в «Сердце тьмы» Конрада – там главный герой становится воином Курца задолго до того, как добирается до него в джунглях. Слушая ее рассказы, я начала уважать Лося задолго до того, как его увидела. Ксения была заражена Войной, польщена тем, что ее взяли в круг, и готова к любым безумствам, но по-настоящему задевал ее только Лось. В компании, где каждый был рад оказаться рядом с Ксенией, Лось оставался совершенно спокоен. Говорил он только по делу, убедительно, точно, будто руководствуясь текстом о сандинистах[40]: «Подлинный революционер-сандинист должен избегать пустой «революционной фразы». Мы должны подтверждать наши действия глубоким пониманием революционных принципов». Увидев Лося, Ксения смирела. Иногда, наоборот, шла вразнос, была буйной, вездесущей, громко пела, яростно проявляла себя, привлекала внимание, но результат был точно такой же – нулевой.
Как-то мы всей компанией сидели на квартире очередного знакомого Войны. Кухня дома в районе площади Восстания была микроскопической, грязной – такой классической старой закопченной кухонькой. Мы набились туда, притулились, кто где мог, налили вина. Кто-то сидел, кто-то стоял, все разговаривали, потом появился Лось и начал что-то сдержанно рассказывать Ксении. Если бы я была художником, я бы нарисовала картину в духе старых мастеров, где она стала бы центром сияния, а коричневые детали окружения, закопченная посуда, грязная клеенка, узкое окно отступали бы перед красотой ошибки. В некоторых фильмах есть сцены в клубах, когда вдруг происходит наезд камеры, изображение фокусируется на ком-то одном, и его переживания затмевают окружающее безумие. Когда парни пытались флиртовать с Ксенией, мне казалось, что они идиоты. Уходя, видела пьяного поэта в женском платье. Он мог бы находиться на краю той воображаемой картины, вроде Брейгелевской маленькой фигурки с раскинутыми штрихами ног.
ДСПА занималось множеством вещей, которые после акций Войны или деятельности НБП смотрелись детскими развлечениями, но Лось относился к своим занятиям серьезно. Когда мы познакомились, я сказала пару слов об акциях ДСПА, но не смогла назвать конкретных примеров, и он сразу же потерял к разговору интерес. Абстрактная болтовня его не интересовала, он был невероятно конкретен. Лось одинаково ответственно подходил к левым стачкам, агитации рабочих и к ситуационистским выдумкам. Такой парень старой закалки, делающий свою работу, даже если от нее нет немедленных результатов. В отличие от большинства, дрейфующего от одних убеждений к другим, у Лося был четкий кодекс, а люди с кодексом вызывают уважение.
Как-то ночью мы с Войной, Ксенией и Лосем шатались по городу и клеили «бабблы», подписи к рекламным плакатам, которые превращали рекламу в радикальные листовки или насмешку. Например, надпись «продай и купи оружия» после хвастливого лозунга «получи приз от Avon!». Или «отдамся за томик Маркса» рядом с полураздетой женщиной, рекламирующей то ли мороженое, то ли чупа-чупс. Нужно было налету придумывать надписи, мы так развлекались, иногда получалось остроумно. Лось днем раньше выступил против травли Лоскутова Олегом, написал текст про то, что не считает кражи идеологией – и Война над ним подтрунивала. Он и впрямь выглядел слишком прямолинейным, предсказуемым. Мне показалось важным дать понять, что он прав, так что я подошла и пожала ему руку: «Ты молодец, что написал». Лось удивился и, кажется, сразу изменил обо мне мнение.
Помню очередную вечеринку в большой квартире журналиста, где окна выходили прямо в небо, стесненное крышами. Внизу был узкий двор-колодец, и, окруженный стенами, он был похож на изрезанную окнами глухую трубу. Я сидела, курила и смотрела вниз.
– Не сиди здесь, – вдруг сказал Док и осторожно поднял меня.
Я удивилась, а он продолжил как-то неожиданно откровенно, словно получил обратно чувства:
– Я каждый раз волнуюсь, что ты упадешь вниз, когда ты так близко к краю садишься. И когда ты воруешь, я все время боюсь, что тебя поймают, просто не могу на это смотреть. Не воруй больше, Мор.
Коза с Олегом включали музыку, мы прыгали, танцевали, пели, смотрели в окна, пили вино, а потом все выбрались на крышу, и город стал нашим – море крыш, труб, выступов. «Ты клевая», – улыбался Док. Вдруг оказалось, что он боится высоты. А Ксения бесстрашно носилась под питерским небом, я – с ней, с крыши на крышу, цепляясь за статуи.
Помню, как мы танцевали. Ксения была игрива, неискренне поцеловала в шею. Док жадно смотрел, будто ждал продолжения, girl and girl action. Жадность вызвала неприязнь. Слова о падении обесценились, внезапно стало одиноко и больно, словно внутренности набили стеклом. Он больше не смотрел так, как раньше, когда мы переговаривались через стол одними взглядами или толкали друг друга плечами – приятельски, заговорщически, чтобы подбодрить и прикоснуться. Да, я «клевая», но зачем это, если ничего не меняется, сколько бы я ни старалась? Пошло все к дьяволу.
Коза несколько раз подряд включала одну и ту же песню, Грязев снимал, потом отошел выпить кофе, а дальше зазвучала «Lovesong» Cure. Ксения стала двигаться, хотя остальные потеряли к танцам интерес. Она сказала: «Когда я впервые услышала эту песню, мне казалось, что я умру». Я слушала Lovesong, музыка звучала очень честно. Все, что я хотела сказать, но не могла, произносил Роберт Смит. Печальный Пьеро-Смит никого не интересовал, но фразы – слишком откровенные – проникали за щиты, и движения женщины передо мной лишь подчеркивали это.
Уитмен
Чертова дружба, ее отчаянно перехвалили. Я больше не верю в дружбу. Под бинтами лицо нетронуто, но если приглядеться, увидишь сплошные шрамы.
И все-таки у меня есть друг – Уолт Уитмен, пьющий, едящий, рождающий. Он сжимает в объятьях, как последнего беспутного бродягу, и мы – братья, мы делим свой хлеб. Я слышу густой голос, громкий, буйный, непокорный, полный жажды жизни, кипящий, как вулкан. Все поэты мира пишут обо мне, все они знают, что у меня на уме, и я сама – Уолт Уитмен. Я хочу слышать, как едут американские поезда, как вздымается Бруклинский мост, как стучат каблуки певичек на улицах Нью-Йорка, меня тянет петь, танцевать, глазеть на их ноги, пить обжигающий джин. Нервные струны джаза, хриплый стон сакса – это мои струны, это мой стон. Отдаваться тебе в горячей траве, на дырявом асфальте заброшенных дорог – лучше букв, лучше текстов, лучше любой философии. Почему ты не хочешь поехать со мной? Почему ты не любишь меня, Док?..
Курица
Идея акции, где курицу крадут из «мушника», запихнув в вагину, пришла в голову Олега давно, и он часто этой идеей с нами делился. В описаниях это выглядело то как былинное свершение, то как мастерская издевка. Параллельно с приготовлениями к другим акциям Война пыталась наладить контакт не то с порноактрисой, не то просто с безбашенной чувихой, которая должна была сыграть в «Курице» главную роль, но постоянно что-то не складывалось – то мы были заняты, то героиня. Было любопытно увидеть человека, готового на подобные подвиги. «Люди посмотрят на акцию и поймут, что раз уж курицу можно в пизде унести, раз другие даже на это способны, то просто взять продукты и запихнуть в сумку, не заплатив, они обязаны», – ухмылялся Олег и похлопывал себя по ляжкам.
Абсурдность идеи, совершенная беспощадность к акционистам и предолагаемый шоковый эффект на публику, размякшую после художеств на Литейном, мне нравились. В минус шла полная бессмысленность, пошлость и сомнительная возможность исполнить задуманное в принципе. Время проходило за обдумыванием, кто пойдет на такое и где найти подходящую курицу. «В порно чего только туда не засовывают, так что курица – вполне нормальный объект», – утверждал Вор. Док усмехался, Леня хитро щурился. Несмотря на зажигательные речи Олега, увязывавшего курицу и восстание, ясно было, что цель – разозлить зрителей и развлечься. Думаю, Олегу славословия широкой публики в адрес Войны тоже изрядно надоели, и он задумал ответный удар. В качестве шутки, которую можно повторять, приписывая колоритные подробности и покатываясь от смеха, «курица» была идеальна. Но в реальности мне представлялось довольно жалкое зрелище. При наличии задумок гораздо более опасных, мощных и амбициозных увлечься очередной магазинной историей в духе дурного анекдота сложно. Так что я не особенно задумывалась о курице, считая ее экстравагантной хохмой.
Однако дни шли, а идея продолжала циркулировать среди участников Войны, подогреваемая живым интересом Олега. Градус абсурда становился фактором увеличения интереса, а не наоборот. Война стала популярной. Шквал стихов, прославляющих Литейный, не иссякал. Каждый день участники то давали интервью для журналистов, то отвечали на вопросы на семинарах, то писали тексты, то знакомились с очередными фанатами Литейного. Такое внимание льстило, но и надоедало тоже – фальшивый шум, издаваемый ограниченными снобами. Война не звезды, не шоумены, хотя отлично владеют техникой достигать яркого эффекта; они способны ударить ботинком в лицо так же легко, как и развеселить. Расслабившаяся публика должна быть наказана.
Короче, низкопробная задумка с курицей продолжала всех занимать, отпадала то одна кандидатура, то другая, процесс очень медленно, но шел. Меня акция не интересовала, я ждала настоящего действия. После Литейного мы не сделали ничего стоящего, только играли в поп-звезд. Несколько раз мы всей гурьбой ходили по магазинам, крали замороженных куриц более-менее подходящего размера и затем на кухне прикидывали, подходят они или нет. После осмотра курицы отправлялись в котел.
Кандидатами на роль той, что войдет в вечность с курицей между ног, побывали практически все знакомые женщины Войны кроме, разве что, меня. Не знаю, почему мне не предложили – то ли дело в изначальном презрении к акции, то ли в Доке. Коза и Олег редко ошибались в оценке того, на что способен тот или иной человек, поэтому в качестве конечного варианта представлялась либо повидавшая все женщина, либо чокнутая молодуха, которая желает экстрима и сомнительной славы. Но Войне впервые удалось меня как следует удивить.
В тот вечер все сразу пошло не так. Я появилась слишком поздно, была неподходяще, чересчур вызывающе одета, и поэтому чувствовала себя неуютно. Короткая юбка, чулки в цветах, которые выбрал Док, майка и каблуки, – настоящая девочка. Роль девочки жала.
– Ну ты даешь, Мор, – одобрительно присвистнул кто-то, Олег поднял бровь.
Док сдержанно поздоровался, так что я села на подоконник рядом с Грязевым и взялась за пиво. Народа оказалось немало, все чем-то занимались, пришла Ксения, в углу стояла камера Андрея, в казане что-то готовилось. За спиной Ксении виднелись розовые крылья.
– Нашли на помойке, – объяснила Коза. – Мы еще там одежды целую кучу для Каспера нашли удобной! Постоянно выбрасывают хорошие вещи, можно целый отряд одеть.
Она показала находки. Каспер проковылял ко мне и задорно ухватил за ногу. Люди шумели, Олег балагурил, все было как всегда. Коза делилась обрывками новостей. Она совсем отощала, но выглядела веселой. Ксению заслонял жбан пива, но зато Дока, который прижимался к ней, и обрывки розовых крыльев я видела хорошо. Она рассказывала про какую-то французскую книжку и произнесла что-то вроде Juliette dort avec tous ses amis. Французская речь из ее уст взбудоражила. Для меня она была женщиной из марксистского периода Годара, соединившая в своем образе революцию, искусство и элемент игры, надувательства, свойственный любому фильму мэтра «новой волны». Французский в устах Ксении окончательно переносил в кинореальность.
– Что это означает?
– Джульетта спит со всеми своими друзьями.
Фраза меня завела. В ней была ирония. Я вспомнила Корвина, посмотрела на Дока, который вел себя чересчур развязно, и ухмыльнулась.
– Повтори еще раз.
– Juliette dort avec tous ses amis.
– Еще.
– Juliette dort avec tous ses amis.
Фраза звучала превосходно. Ничего лучше я бы в ее уста не вложила.
– Черт, еще.
Она скривилась – надоело, а мне хотелось больше. Это было смешно, хотя шутка получалась чересчур личной.
– Да отстань ты со своим Годаром, – нахмурился Док.
– Андрей, можешь снять ее? – я повернулась к Грязеву. – Мне хочется иметь возможность увидеть это снова.
Ксения без большой охоты произнесла фразу на камеру. После все увлеклись своими делами, разговорами, шутками, роликами, чтением комментариев о Войне в сети.
Док всегда находился на периферии зрения; это словно идти по дороге рядом, когда краем глаза видишь плечо друга. Я почувствовала что-то неладное, когда у него изменился тон. В низком голосе Дока появились незнакомые нотки, он лавировал, подбирал слова, вел себя непривычно. Я напряглась и прислушалась к тому, что происходит. Док разговаривал с Ксенией про ее воззрения, размазывая суть вопросами, в глазах появилось азартное выражение, как будто он на что-то поспорил. Чем дольше Док говорил, тем более подлым становилось лицо.
– А на что ты готова ради революции?
– На все, – уверенно ответила Ксения.
Меня охватило плохое предчувствие.
– На что ты готова ради Войны? – издалека приближался к делу Док, заговорщически склоняясь к ней. – Ты же говорила, что сделаешь, что угодно, чтобы присоединиться к Войне. Это так?
Ксения действительно не раз это говорила. Но чтобы присоединиться к Войне, никакие посвящения и жертвы не требовались. Доку это было известно лучше всех, но он изображал таинственность и нагонял тумана, словно продавал подержанное дерьмо.
– Ну да, – подтвердила Ксения, крылья за ее спиной шевелились. – А что нужно делать?
Тут меня наконец осенило. Я оглянулась: остальные замерли, наблюдая за разговором. Ксения выглядела заинтригованной, любопытной, она спрашивала, о чем идет речь, но Док продолжал говорить загадками, словно заправской сутенер. Я не могла в это поверить: мой друг пытался разговаривать с Ксенией с позиции несуществующей власти, вкрадчиво, глупо и подло, вместо того, чтобы просто выложить все, как есть. То ли он был слишком труслив, то ли ему нравился процесс вербовки. Еще недавно он описывал Ксению, словно девчонку-мечту, а теперь использовал идеи революции, чтобы подбить ее запихнуть в себя мерзлую курицу! Даже поза его изменилась, жесты, лицо.
Я спросила, какого черта здесь происходит, но Док надменно дал понять, что я многого не знаю. Я опешила. Нужно было прекратить происходящее прежде, чем он дойдет до конца. Ксения вышла, я резко встала и уставилась на всех сразу.
– Стойте! Что вы собираетесь сделать?
Олег с Доком сообщили, что планируют подписать Ксению на акцию с курицей.
– Парни, неужели вы это всерьез говорите?
Док молчал, к лицу прилипла гадкая ухмылка. Олег уставился на меня с любопытством, Грязев ждал, что будет дальше. На собравшихся мне было плевать – я хотела услышать ответ Дока, но только не тот ответ, который он дал. Я повернулась к Андрею, тот кивнул. Если бы в компании оставался еще кто-то, кто вызывал доверие, я бы спросила и у него. Но задавать вопрос стало некому и незачем.
Акция с курицей не пугала. И даже кандидатура Ксении не пугала, но все должно было происходить иначе. Ей не давали выбора, ее дурачили, подбираясь исподволь, напирая на прежние громкие заявления, лишая дороги назад. Нельзя пользоваться детским восторгом для того, чтобы подписывать, на что угодно. Зная характер Ксении, можно было предположить, что она не спасует. Особенно было обидно и гадко, что Док приплел сюда революцию. Блядь, да что ты вообще знаешь о революции?!
Я села, опрокинула стакан пива, попыталась переварить полученные данные, – и меня накрыло.
– Блевать пошла, – подытожил Олег.
Состояние он уловил верно, но я сдержалась. Я пошла в туалет, где расплакалась от злости и отвращения. Плакать перед Войной – плохое решение, рассказать Ксении о сущности акции и о том, почему я против, тоже нельзя: акции – секрет, я обещала, но меня разрывало от протеста. Я вспоминала вкрадчивый голос Дока, который становился все более и более сальным, эти расплывчатые фразы и намеки на власть принимать решения, которой он не обладал.
В дальнейших действиях расчета не было. Я влетела в комнату – в голубой короткой юбке, как у черлидерши, чулках в розовых цветах, майке с зайчонком и с мокрым лицом я выглядела довольно смешно и четко осознавала это:
– Вы все – свиньи! – это было здорово, сказать: «Вы – свиньи». – Так нельзя! Так неправильно! – кричала я.
От осознания того, что все делалось бесчестно и низко, текли слезы. Я сказала, что немедленно забираю Ксению с собой, но из-за обещания не рассказывать об акциях я не смогла толком объяснить девушке, что и почему неправильно, – это выглядело истерикой. И к черту! Происходящее напоминало фильм, отчего становилось страшно, все вдруг, включая друга, оказались врагами. Андрей достал камеру и начал снимать, но мне все же удалось увести Ксению на улицу. Док так ничего и не сделал – он не смеялся, не оправдывался, не пытался мне помочь, он просто стоял.
– Да что случилось? Я могу сделать кучу вещей. Раздеться, если надо, тоже могу, – Ксения пыталась меня успокоить.
– Они хотели взять тебя на акцию, для который ты не подходишь. Просто поверь мне – ты не подходишь.
Курица разрасталась до размеров Годзиллы, разрывая Ксению на куски.
Вышел Леня и объяснял, что они действительно обсуждали возможность подключить Ксению, но решили, что, конечно, нет. Я ему не верила, но спокойствие и добродушная отрешенность Лени вызывали симпатию. Трудно представить, что он серьезно может участвовать в чем-нибудь подлом, разве что по ошибке. Мы отправились к Троицкому мосту, где посадили Ксению в такси.
Пока она не уехала, я не успокоилась, а потом всю ночь не могла уснуть и думала о Доке. Он был жалок, подл, труслив и слаб. Восстание, бунт, раскрепощение, – все то, о чем он полюбил рассуждать, было несовместимо с тем, что он пытался сделать и сделал бы, если бы я вдруг не захотела увидеть его тем вечером.
Парадокс самурая
В романтическом пласте литературы существует проблема, которую я называю «парадокс самурая». Если даймё[41] – недостойный человек, подлец и садист, должен ли самурай быть верным ему до конца, воспринимая происходящее как испытание? Или долг самурая состоит в том, чтобы пресечь зло, остановить даймё, не дать ему запятнать себя и закон? Можно ли преступить обет верности ради того, чтобы остановить безнаказанный поток мерзостей? У каждой стороны есть убедительные доводы. «Парадокс самурая» лег в основу многих японских фильмов и литературных произведений, где показан конфликт между самураями первого и второго типа. Наиболее драматичными являются истории, в которых самурай поступает вопреки воле дайме, так как этого требует честь, но затем делает сэппуку, осуществляя самонаказание за нарушение обета верности.
В европейской традиции легко можно найти сходные случаи. Предположим, преданные вассалы узнают, что король обманывает их и народ, что провозглашаемые им идеи – ложны, а сам он порочен, глуп и жесток. Честь требует объявить о том, что король – лжец. Огласка лживости важна, так как прекращает поток новобранцев, желающих служить королю, разрывает цепь повиновения дурному человеку. Власть сакральна за счет того, что король достоин служения, на этом зиждется легенда – король лучший или стремится им быть, заручившись поддержкой рыцарей. Если он недостоин верности, нет ничего дурного в том, чтобы его покинуть. С другой стороны, долг верности требует быть на стороне короля независимо от того, бьет ли он по лицу или одаривает, хороший он или плохой, белый господин, который милует, или черный, который карает. Долг не включает в себя рефлексию, он – безусловное правило. В долге почти совершенно отсутствует ценностный взгляд на фигуру короля. Вместо короля можно поставить чучело – и рыцарь все равно будет нести службу, потому что ключевым вопросом становится дисциплина, исполнение обещания. Эта определенность, однозначность делает скупой долг привлекательным своей неуступчивостью, стремящейся к абсурдности. Однако это обязательства сторожевого пса, не человека.
В итоге рыцари не могут предать огласке дурные дела короля потому, что первыми же вступятся за него, если повелителя осудят – смерды не смеют порочить имя господина, каким бы он ни был, враги не могут насмехаться над королем, какие бы грехи он ни скрывал. В то же время рыцари не могут не озвучить ложь короля, потому что преданность «лучшему» превращается в профанацию, форму без содержания. А лишь это потерянное содержание, доверие решениям короля и одухотворяет рыцарскую верность, придает ей качество. Иными словами, врагом короля, которого нужно уничтожить, становится сам король. Это психологическая ловушка. Не существует компромисса, что-то придется выбрать. В том, чтобы служить черному господину, невзирая на его поступки, нет логики, но есть странное величие веры. Такое прямолинейное понимание кодекса прежде нравилось – самоуничтожение во имя противоестественной преданности. Но в пути отступника, который продолжает любить короля, но больше не может ему потакать, присутствует гораздо больше личного достоинства.
«Парадокс самурая» легко перенести на верность партии или другой схожей организации. Изначально для идеалиста верность партии безусловна, как для самурая безусловна верность господину, потому что партия идентифицируется с идеями, которые влекут радикала. Он страстно влюблен в идеи – идею переформатирования мира, всеобщего равенства или какую угодно еще; он предлагает свой ум, тело и смелость тем, кто обещает идеи воплотить. Задача партии – олицетворять идеи, организовывать людей и переносить тезисы из мира романтики в реальность. Других важных задач у партии, по большому счету, нет – организацию или инерционное управление может осуществлять любая другая структура. Партия – это совокупность людей, вырабатывающих и воплощающих определенные идеи. Именно поэтому меня забавляют сегодняшние «партии», не имеющие ни программы, ни кодекса. Разочарование, постигающее тебя, когда партия искажает идеи или же отказывается их воплощать, продолжая при этом декларировать, приводит к ситуации, схожей с «парадоксом самурая». Ты должен развенчать партийцев за уродование идеи и искажение правды, но одновременно ты не можешь отдать партию на растерзание врагам, потому что это будет предательством. Это тоже психологическая ловушка. В зависимости от того, как люди из нее выбираются, можно разделить их на четкие категории. При этом каждое решение на свой лад достойно уважения.
Слово «предатель» любят использовать в отношение всех, кто не согласен с догмами, хотя несогласие само по себе никакого предательства не означает. Интересна разница между предателем и отступником, ведь, хотя они и делают внешне схожие вещи, один из них злодей, а другой – герой. И предатель, и отступник нарушают долг или предписания верности, однако если предатель втайне меняет одни принципы на другие, то отступник – рыцарь, который, глядя в лицо королю, говорит, что тот – лжец. Декларируя восстание против принципов, частью которых отступник являлся, он объявляет войну. У предателя чести нет – он труслив, лжив и слаб. Предатель обманывает доверие – он лжет и приносит вред. Отступник же – человек чести. Он демонстрирует бывшим соратникам намерения, дает время на подготовку и перегруппировку. Предатель трусливо свалит с поля боя, подставив товарищей; отступник дождется конца схватки, выполнит долг, а затем снимет с себя обязательства по отношению к королю-лжецу. Отступник – драматическая фигура. Преданность отступника так велика, что он лично убьет короля, если потребуется, чтобы удержать его от падения.
Что касается внутренних конфликтов, то «парадокс самурая» всегда всплывает, когда постулаты кодекса вступают в битву с чувством собственного достоинства, гомеровским arete. Личный кодекс удерживает от распада, он обещает дисциплину и равновесие тем, кто слишком вспыльчив и плохо себя контролирует, но может быть доведен до абсурда, может выдохнуться и стать тюрьмой, которую стоит разрушить. Нас учат давать и нарушать обещания, но не учат их не давать. Неужели жизнь человека чести, человека ритуала – это избавляться от одного кодекса, чтобы становиться рабом другого? Но ведь без стержня жизнь людей такая жалкая.
В детстве я доставала себя вопросом, смогу ли выдержать пытки и не выдать товарищей, буду ли достаточно смелой, если попаду в плен. Я разглядывала свои тонкие руки, представляла, как их ломают железными прутьями, и оставалась недовольна. Ручонки выглядели слабыми, боль пугала, а значит, я была недостаточно хороша. Ночами снились королевства, которые нужно спасти, города, которые только я могла удержать от падения. Помню, как лет в семь заставляла себя читать толстую религиозную книгу, написанную унылым канцеляритом. Никто меня не заставлял, но если я совершала что-то, что считала неправильным, самонаказанием являлось чтение – казалось, так я стану сильнее. Я ненавидела книгу, но заставляла себя читать ее, потому что таков был самостоятельно созданный долг. Многие из моих представлений о долге были не переняты, а сконструированы. Я выдумывала что-то сложное, чтобы испытать выдержку или возможности,– чем старше, тем сложнее.
В случае с Доком парадокс заключался не столько в односторонней преданности, сколько в вере в то, что я должна защищать Дока независимо от его слов или поступков. Несмотря на то, что он порой превращался из друга в почти враждебное существо, я только смотрела исподлобья. Несвойственное мне самопожертвование. К тому же смирение было откровенно лживым, вроде молчаливой забастовки, когда рабочие сидят, насупив грязные морды, и чего-то ждут. Раз мне запрещается совершать громкие, звонкие, как удар о медь, подвиги, значит, придется уйти в подполье. Буду оставаться рядом, пока не появится кто-то, способный сделать недоступное мне, кто-то, кому можно доверить друга. Но Война и случай с курицей заставили романтическую скорлупу треснуть. «Разбитые сердца – для мудаков», – пел Фрэнк Заппа[42]. Односторонняя дружба – смехотворное зрелище, а Док – неподходящая кандидатура для упражнений в рыцарстве и вечной любви. Его следовало оставить в покое.
Я решаю «парадокс самурая» так: рыцарь, выступающий против короля-лжеца, проявляет настоящее благородство, следует не букве, а духу, внутреннему компасу. Отступничество – последний дар преданности перед тем, как ты окончательно покидаешь короля.
Варенье
То ли во время нацбольского рейда, то ли на предыдущей вписке, то ли на помойке Война нашла коричневое варенье. Съедобное – я пила с ним чай. Используя варенье вместо краски, парни с Козой написали на больших картонных плакатах буквы, вместе складывающиеся в слово «Безблядно», гибрид «бесплатно» и «без бля», то есть без прогибов и лажи. Идея заключалась в следующем: мы идем в любой магазин с видеонаблюдением, находим точки прямо под камерами, занимаем позицию – и поднимаем буквы над головой. Видеоизображение с каждой камеры поступает на пульт наблюдения, и на мониторах охранников оказывается слово, которое должен снять наш товарищ с камерой. Задание простое, но грязное – проклятые плакаты за ночь не высохли, мазались, ползли и оставляли липкие косточки на руках и одежде. Похоже было, будто бумага перемазана дерьмом. Это составляло часть концепта, но почему мы должны провозглашать свободу брать продукты с помощью написанных дерьмом букв, я не помнила. Продуктовая тема к тому времени изрядно достала, но я решила, что раз уж согласилась, сделаю работу. Подписался и Лось. Задача была скорее рутинной, чем рисковой.
Уродливая, сонная, одетая в старые штаны и мятую футболку, я вернулась туда, откуда часов шесть назад сбежала. Почти все еще спали, умаявшийся Леха, кое-как укутавшись простыней, скрывался от налетевших за ночь комаров. Я поздоровалась с проснувшимися, как бы демонстрируя свою адекватность. Отсутствие на акции показало бы, что я ставлю личные переживания выше дела, а такой образ претил. Наши с Доком дела касались лишь нас. К Войне претензий не было – я ожидала от них самых разных выходок.
Война не старается стать чьим-то идеалом или приятелем. Напротив – они существуют, чтобы вызывать у сидящего в кресле чувство дискомфорта, заставлять ворочаться. Мир и так полон приятных людей, отлично описывающих свои стратегии. Война же может быть очень неприятной, особенно для тех, кто чересчур социализировался или нечасто противостоит авторитетам, и именно поэтому я выбрала их для приключения, проверки собственных смелости и умения совершать такие же дерзкие вещи. С Войной необязательно дружить, они не для посиделок, – это люди действия, с которыми нужно совершать поступки. Им плевать, кто ты, – мальчик-мажор, учительница или гопник. Всем найдется место, для всех будет выделена подходящая роль, но это не означает, что твои чувства для них имеют значение. Идеи, которые ты не решился бы реализовать сам, – вот что такое Война. Ты хочешь еще – врезаться в Кремль на дельтаплане, заставить поезда кружить вокруг орбиты, родить атомную бомбу. Ты хочешь плюнуть и свалить от них подальше. Так и не иначе.
«Что вы можете предложить обществу?» – спрашивал очередной цивилизованный мальчик, глядя на Олега и Козу на дебатах в «Грибоедове».
Какого дьявола Война должна что-то тебе предлагать, сынок? Они не собираются кормить программами и учить, как действовать, становясь личными поводырями. Единственное, что предлагает Война, – возможность увидеть, что пришла пора предложить все себе самому: дерзкий выход, смелость, восторг, выходку, преступление, идею, шаги. Люди любят требовать программы, им нужны поводыри, но Война говорит, что люди должны ходить сами. За требование большего хочется врезать. При этом Война опасна, она для взрослых, а не для беспокойных детей, желающих развлечений. С Войной внутри и вовне себя еще нужно как-то совладать, постоянно существуя на границе восторга и отвращения.
Парни долго не просыпались, кухня была пуста, там сидел только Док с ноутбуком. Он дружелюбно посматривал, намекая, что пора свести все к шутке. Заманчивый вариант, но достаточно было вспомнить вкрадчивый вопрос о революции, чтобы лирика отступила. Воспоминание моментально выводило из себя, я закипала. Единственный способ сохранить спокойствие – не ввязываться. Хотелось схватить его за плечи и вытрясти ответ – какого черта это было, хотелось дать возможность защищаться, но не получалось сказать ни слова. Так что мы сидели и молчали. Я пила чай на подоконнике, он читал новости. Появился Грязев и начал снимать.
На примете у Войны оказалось несколько подходящих магазинов, где открывался обзор на мониторы, транслирующие изображение с камер; мы посетили некоторые из них, порепетировали. Все можно было проделать феноменально быстро, но Козе показалось, что за нами следят менты, поэтому первую половину дня мы просидели по подворотням, вторую – на ступеньках школы, ожидая то Лося, то фотографов. Ничего противозаконного в данном случае мы не делали: может, поднимать странные плакаты в магазине и некрасиво, но наказывать тут точно не за что. Однако в России никакая паранойя не бывает чрезмерной, привлекать лишнее внимание не хотелось.
Активисты носились по залитым солнцем и перечерченным тенями питерским дворикам, позировали, дурачились, оттирали варенье от штанов и рук. Вскоре к нам и впрямь подошел сотрудник милиции. Коза налету придумала шикарную историю о нестандартной рекламе варенья. «Что за варенье? Что за реклама?» – напирал мент. Хотелось сказать: «Не твое дело, мудак». «По контракту мы не можем разглашать эти данные», – перефразировав, ответила Коза.
Мент осмотрелся, увидел сидящих людей с буквами, приветливо сложившимися в слово «БЛЯ», и выдал новую порцию вопросов. Коза – одновременно идеальная мошенница и отличный искренний боевик – была великолепна. С гранитным самообладанием и легкой улыбкой она продолжала настаивать на первоначальной версии, пока у мента от жары не закипело в голове. Избавившись от мента и дождавшись Лося с Ксенией, наконец-то выдвинулись. Лось брезгливо посмотрел на плакат с буквой, который должен был держать. С революцией грязный кусок картона не ассоциировался, но Лось привык выполнять обещания.
Мы вошли в продуктовый магазинчик с четырьмя мониторами, заняли заранее выбранные точки и по сигналу Козы подняли плакаты. Надпись на экранах снял Грязев, мы, не мешкая, вышли и скрылись в подворотне. Лось выглядел недовольным, ему казалось, что он вписался во что-то мелкое и даже постыдное. Коза никак не могла решить, что делать с плакатами – ей было жалко их выбрасывать. Нахмурив брови, она разглядывала грязную бумагу, как будто та – полезный ресурс. Ксения находилась во главе незнакомой маленькой компании и выглядела, словно странствующая вакханка. Возникла неловкость. Когда женщина кокетливо говорит «мой спаситель», это звучит, словно тебя только что назвали дураком.
Может, я и была таким дураком. Доном Кихотом. Пелинором в погоне за Искомой Зверью. Но я действительно искала ответ в кодексах чести. Они говорили, что там, где остальные ничего не делают, не желая возиться, друзья должны сопротивляться. Никто из чужаков не станет разбираться с тобой, будет соприкасаться только удобными гранями, наблюдая, как в иное время ты валяешься в дерьме. Чужие ошибки проще игнорировать, над ними можно посмеяться. Приятели выбирают в тебе только знакомое, ты подходишь под цвет их штор или музыкальный вкус, они придут послушать записи, выпить или посмотреть кино, но то, что заставляет тебя царапать ночью стены, их не волнует. Друзья не такие – они должны удерживать от ошибок. В «Темной башне» Кинга, если герой совершал какой-то дурной поступок, использовалось выражение «ты забыл лицо своего отца». В моем мире Док «забыл лицо своего отца», а может, и не знал его никогда. Я должна была что-то сделать.
Через пару дней молчания Док попытался восстановить статус. Он говорил, что может принимать решения, которые хочет, даже если они отвратительны. Необъяснимая озабоченность своей социальной ролью и тем, достаточно ли самостоятельно он выглядит в глазах Войны, которой на это плевать, озадачила. Он запретил прикасаться – просто ради забавы, в качестве наказания за собственный проступок. Я по инерции пыталась нарушить запрет, хотя ничего не хотела. Док не был ни самостоятелен, ни достоин уважения, а я все равно нуждалась в нем – в чувстве священного, потерянного тепла. Лишающая воли тяга, проклятая любовь из нуаров, которая ведет однотипных упертых героев по ночным улицам – и приводит прямо в ад, к смерти в подворотне от ножа или беспробудного пьянства. Аморальность страсти не в том, что она наполнена сексом, нестерпимой жаждой, которую невозможно утолить, а в том, что тебя не интересуют моральные качества объекта страсти. Тебе попросту плевать, пока кожа прикасается к коже. «Все теперь считают, что ты – лесбиянка», – сказал Док с укором, как будто это наносило урон его репутации.
Он и впрямь ненавидел себя. Не был удовлетворен тем, что видел, тем, что делал, но попытки измениться не увенчивались успехом. Он избегал любых столкновений, оказывался в ловушке собственной неуверенности, но не хотел всерьез с ней сражаться. Его стали называть «Снуп» – он отказался от прежнего имени, начал представляться новым, но, изменив имя, он не изменил прежним слабостям. Сильные люди великодушны, в Доке великодушия мало. Мы оказались отчетливо разными, но я не догадывалась, что разница характеров может причинять столько боли. То, что кажется одному шуткой, другого заставляет страдать. Правила, которые пытался ввести Док и которые не собирался соблюдать, выглядели, как неприятная попытка ограничивать, сдерживать, как наказание за дерзость. Дрессировать друга – непростительный поступок.
На следующий, кажется, день Док трахнул меня на чужой кровати. Не уверена, что чувствовала что-либо, хотя внезапность, решительность, с которой он затащил меня в комнату, захлопнул дверь и смел мешающие предметы, завела. Потом мы сидели, в окне виднелась старая католическая церковь, крыша, залитая солнцем, с выступами и башней. Тянуло туда, выбежать из дома с множеством комнат, кроватей, вещей, забраться на высоту, сделать все иначе.
– Я хочу трахаться там.
– Это слишком опасно.
Какого черта. Подол красного цыганского платья прилипал к пальцам. Остались только первичные реакции на тепло, укусы комаров или темноту. Секс был безрадостным. Тело – еще не все, Док поражал своим равнодушием. Хотелось отдаться кому угодно живому, потому что происходившее оказалось плохой схемой, возможностью самоутверждения, терапией, наказанием или жестом милосердия, но не настоящим сексом, когда ты отдаешься мужчине или берешь женщину.
Вечером Леня и Леха решили подстричься, я бодро обкорнала Леху машинкой. Нацболы откуда-то притащили таз мидий, те медленно подыхали, издавая сиплые звуки. «Хочешь, возьми с собой парочку», – предложил Док, когда я уходила.
В один из последующих дней мы репетировали акцию с курицей. По задумке Олега должны были отснять подготовительный материал в магазинах. Когда я пришла, парни были в предвкушении. «Кто будет засовывать курицу?» – поинтересовалась я. Я хотела увидеть героиню акции не меньше остальных, эдакое простонародное любопытство. «Увидишь! – бодро ответил Олег. – Кстати, Ксения наверняка расстроится, что ее не взяли». «Ну что ж, – пожала плечами я, – придется потерпеть». Оказалось, что героиней станет Лена, чья интеллигентность и внешняя респектабельность сильно контрастировали с периодическими дикарскими выходками. Я раньше уже задавалась вопросом, что заставило ее участвовать в акции в Биологическом музее – яростное желание буйства, действия или предельная раскрепощенность. В быту Лена была меланхолична, почти апатична, задумчива, как будто сонна, двигалась с ленивой грацией и говорила, что думала. «Мы уже обыскались, – рассказывал Олег, – а она говорит – какого черта вы раньше не сказали? Прикинь?»
Андрей снимал, как Лена идет; это по непонятной причине завораживало. Как будто я смотрела на жертвоприношение. Большие печальные глаза, мягкая, неправильная походка, апатичное лицо – мысли прочитать было невозможно. «У нее необычная походка», – сказала я. «Хе, поглядим, как она с курицей пойдет!» – хохотнул Олег. Мы следовали на расстоянии, чтобы не вторгаться в фильм, – будто паломники или ученики, глазеющая банда. Я не могла оторвать взгляда от Лены, от недосыпа я залипала на то, как она покачивается. Если Лена и решила наказать себя за что-то нам неизвестное, всем было плевать, так как она заняла пустующий слот. Все устали от бездействия, его нужно было прервать, пусть и таким способом; что-то уже должно было случиться. Я думала, героиня будет выглядеть глупо, беззащитно, станет жертвой, но Лена была взрослой, защита ей была не нужна.
Олег решил снять предварительный материал, где женщины берут куриц и обсуждают, какого размера должна быть птица, как она должна выглядеть, какие части лучше. «Мор, давай, подключайся, – позвал Олег. – Ты как раз сегодня фифа». Нам втроем с Леной и Козой предстояло изображать болтовню кумушек о весе и форме птицы, двойной смысл которой будет затем грубо раскрыт в самой акции. Я снялась в паре таких разговоров, без энтузиазма поговорила перед камерой о продуктах, но это быстро осточертело. Ярмарочные выходки – не мой профиль. Задумка давила вульгарностью, тупым, почти злобным юмором, предельным реализмом, – плохо в ней было абсолютно все. Мне не хотелось, чтобы Док смотрел на то, как женщина запихивает в себя мерзлую, мокрую птицу. Зрелище не предполагало ни веселья, ни возбуждения, только сплошную неловкость.
Некоторое время я не появлялась, не желая участвовать в этом и видеть это.
Мы поговорили после того, как акция все-таки состоялась. Фотографии выглядели отталкивающе, прибауточный текст Плуцера еще хуже, но публику Война выпорола на ура – обывателей выворачивало.
– Ну, как акция? – усмехнулась я.
Док помолчал, потом посмотрел в глаза:
– Да так, если честно.
Girl with one eye[43]
На свой концерт Ксения сильно опаздывала. Маясь, мы с Доком и Леней ходили около клуба и не находили себе места. Равиль тоже пришел – обаяние Ксении подействовало даже на покрытого шрамами вояку.
Ксения постоянно напевала что-то, кружась и танцуя на ночных улицах, но это не трогало – так я умела делать и сама. Так что когда мы решили сходить на концерт Levitation Magnetique в «Манхэттен»[44], я ничего особенного не ожидала.
Леня заглядывал в урны и с невозмутимым видом допивал напитки из мятых банок. Стояла жара, напитки были липкими, сладкими и теплыми, они не утоляли жажды, но Леня все равно пил. Около площади под ногами валялись яблоки, и Леня возмущался, словно ребенок: «Целые яблоки выбросили... Вы посмотрите – абсолютно целые же яблоки! Вот кто это сделал?» – смотрит на табличку: «Ну да, военкомат. Ясное дело».
Через некоторое время нам надоело ждать. Деньги платить не хотелось, да их и не было.
– Как называется группа? – спросил Док.
– Levitation Magnetique.
– Давай ты представишься Ксенией, а мы музыкантами – и зайдем внутрь.
Идея всех приободрила. Мы еще помаялись некоторое время, но скука сделала свое дело. Я вспомнила фильмы о мошенниках, со спокойным видом выдающих себя за других, и подошла к охраннику.
– Я Ксения из Levitation Magnetique, мы сегодня выступаем. А это часть моей группы. Гитарист запаздывает, но мы уже устали ждать, так что посмотрим выступления остальных, – порола я, тыча пальцем в список в руках охранника.
Мне удалось кое-как прочесть пару имен, этими именами и были названы Док и Леня. Охранник оказался покладистым, так что пять минут спустя мы уже сидели внутри. И вскоре поняли, что особенно стремиться сюда не стоило – на сцене царил российский артхаус: аляповатый, плоский, претенциозный и импотентный. Был там рэпер в халате доктора, читающий плохо рифмованные стихи, была парочка концептуалистов, поющих про водку.
– Если она не придет, предлагаю выступить самим. Подмены никто не заметит, – предложила я.
Док засмеялся. Мне показалось, что он не прочь это провернуть.
Когда Ксения все-таки пришла, в красных чулках и чем-то зеленым, мы уже порядком устали.
– Тебе стоит надеть футболку «Я девушка-динамо».
Она немного опешила от недружелюбного приема и усмехнулась:
– Если вам не понравится, я так и сделаю.
– Договорились.
Но после того как она спела, я не вспоминала ни о каких футболках. Это было мощно. Сцена отшелушивала все лишнее, что в ней было, а игра, нарочитая в жизни, становилась уместной, позволяла менять образы, становиться стопроцентной женщиной, – обманчивой, лживой, опасной, привлекательной, смешливой, трогательной, печальной.
Ксения управляла мной, управляла Доком, и мы сели на пол, чтобы смотреть на нее. Восторг и абсолютная невыносимости жизни переполняли – хотелось немедленно выбежать прочь, потому что невозможно было оставаться на пике. Когда она пела «я видела тебя по-настоящему», слова звучали, будто ее сердце разрывалось. Наваждение напоминало кислотные концерты Вудстока, Ксения завладевала вниманием и была чертовски хороша. В ней была сконцентрирована масса энергии, она рвалась куда-то вперед, ломая перегородки. Ксения танцевала в красно-зеленом свете, танцевала прямо во мне.
Такие ошибки совершать приятно. Я хотела ее, хотела, чтобы Ксения пела для Дока вместо меня, раз при нем я перестаю дышать. Она переступала босыми ногами, садилась на сцену, взмывала вверх, игривая дикарка, которая то зовет в бой, то издевается, то плачет. После концерта даже невозмутимый Леня выглядел немного размякшим, в глазах горели огни. «Дааа, Ксюха дала...» – протянул он.
Равиль подобрел.
Ксения спрыгнула со сцены:
– Ну, что там с футболкой?
– Я сама ее надену, – честно ответила я.
Мы отправились за ней, еще слегка завороженные, украли пива в крохотном ларьке, нагло и безалаберно, но Ксения снова нас посрамила – трубкой с отменной травой.
Док завязал оживленную беседу, я постепенно стала отделяться от мира, шагая по мостовой и отвечая на вопросы Вовы, молодого фаната блюза дельты[45]. Наша завороженность не нравилась Ксении, она начала дерзить.
Сейчас мне кажется, что Ксения хотела общаться без охранных периметров и игл, но я шла, засунув руки в карманы, в суровом пиджаке, чрезмерной серьезностью напрашиваясь на насмешки.
Равиль по пути оставлял следы – стикеры «Стратегии 31». Человек из мира долга, а не постмодернистского веселья; узнавалась старая нацбольская закалка, и мне нравилось смотреть на поджарое, сухое тело, четкие движения, загорелое лицо с бородкой.
Потом мы курили траву. Не люблю курить с чужаками, потому что не готова доверять посторонним, но не хотелось еще сильнее отдаляться от Лени, Дока и Ксении. В тот вечер Док тоже был чужаком, даже не приятелем, и мне не хотелось терять контроль. Большая часть сил уходила на то, чтобы подавлять действие «шишек». Взяла досада – вместо того, чтобы почувствовать единение с остальными и избавиться от отчуждения, я значительно это отчуждение усилила.
Наступила темнота, мы сидели на детской площадке, а Ксения стояла в центре. Песочница превратилась в подмостки, с которых она произносила монолог. Театр под открытым небом. Мы плыли на волнах «шишек» и ее историй, пока я вдруг не почувствовала невыносимую фальшь момента. Вместо мечущейся внутри звуковой сферы богини, раздающей куски себя, Ксения превратилась в кого-то иного – в плоский, враждебный образ. Речь длилась и длилась, мне хотелось ее оборвать, потому что искренность исчезла, я видела только пустой флирт со всеми и ни с кем, погоню за вниманием не нужных ей людей, которые даже не понимают, где кончается шутка и начинается пренебрежение. Оборачиваясь, я видела, что никто ничего подобного не чувствует. Ну ладно, я молчу, детка, но вместо самой настоящей девушки на свете ты превратилась в пластикового монстра.
Ксения продолжала говорить, перемежая городские байки шутками: сначала перерабатывала мемы, затем глумилась над дешевой романтикой. Годаровская девчонка словно старалась почувствовать остроту чужого внимания, сконцентрированного на ней, немного лениво, обаятельно и бездушно. В процессе она уставала и начинала кратковременно ненавидеть тех, кто все это только что видел. В последней истории Ксения-из-рассказа сидела и писала новую песню, не зная, что герой, ее любовник, собирается прыгнуть с крыши. Постановка обыгрывала вульгарные исповеди о несчастной любви, мы посмеивались над тем, как она выделяла фразы и жестикулировала.
Итак, в тот самый момент, когда героиня доделывает работу, чтобы все изменить, герой все-таки прыгает вниз и летит мимо окон. Когда Ксения дошла до прыжка с крыши, то вдруг резко обернулась и посмотрела на меня. В этот момент что-то случилось, ложь стала превращаться в правду, хотя я сопротивлялась перелому. Ксения не останавливалась, внезапно отбросив интонации плохой актрисы и оказавшись обнаженной. Ее голос наполнился печалью, бредовая история стала казаться реальной, как будто девушка в форме балаганной шутки, под мои усмешки рассказывает о настоящей ошибке, о чем-то, что она потеряла. Я была уверена, что это не так, даже несмотря на умение вдохнуть в жалкую конструкцию жизнь, но в тот момент сомневалась.
Ксении удалось проломить барьер, сложить из нескладной лжи нечто живое, заставить поверить в то, над чем потешался разум. Ты сидишь и смеешься, потому что не хочешь оказаться дураком, но в глубине души сомневаешься, а не над трагедией ли ты хохочешь.
Хотелось спросить, что в рассказе является правдой, но это вопрос означал бы поражение. Думаю, я слишком привыкла защищаться, и шишки просто усилили параноидальный эффект. А Ксения «гнала» без задней мысли.
– Я хочу отдать песню тебе... – голос Ксении сломался, когда она посмотрела из темноты. – Да, именно тебе.
В дворовом полумраке не было видно, как я вздрогнула. Старый, как мир, прием – находишь бастион сопротивления и выделяешь его, делаешь особенным. Большинство женщин пользуется такими вещами, не отдавая себе отчета. Я не понимала, зачем ей я, зачем она завершает балаган мной, и злилась. В тот вечер она уже владела всеми вокруг, но зачем-то захотела довершить картину и добавить в корзину трофеев еще и смурную женщину с поднятым воротником.
Чуть позже, когда я собралась уходить с нацбольской кухни, оставляя Ксению с Доком и остальными, она сказала:
– Твое любимое слово «нет», верно?
– Ты права, – удивилась я попаданию в точку. – Люблю говорить «нет».
Кай
«Когда-нибудь я буду вспоминать это как лучшее время в жизни», – сказал Док, улыбаясь. Мы вернулись из музыкального магазина и сидели на кухне моей каморки. Купили электрогитару – пижонскую на вид, дешевую, но с выдающимся за такие деньги звуком. Док увлеченно играл, периодически поглядывая в мою сторону. Солнце делало его юным, невероятно красивым.
Док опасался меня, я – его. Сначала мы наносили друг другу психотравмы, а потом старались их излечить.
Я научилась играть на электрогитаре из-за троюродных братьев, в панк-группу которых сильно хотела попасть. Они были жестки, буйны и просты, издевались над каждым моим промахом. Но вскоре один брат взял меня в группу, выставив другого, опешившего от такого расклада, – со мной играть стало проще. После такого опыта проблемы Дока в освоении гитары казались мелкими.
Я спорила, чтобы не терять независимость, иногда воспринимала Дока как младшего брата, но в этом не было угрозы – младшим братьям не отказываешь в интеллекте или способностях, только в опыте. Иногда я подкидывала что-то слишком сложное – нестерпимо хотелось играть вместе, передавать горячку, одержимость рок-н-ролльными риффами. Я, Док, гитары – сногсшибательный микс, но он сердился и не желал показывать неумение.
Солнце светило ему в глаза, они загорались зеленоватым светом, искрами подозрения и каверз.
Человеку вроде меня сложно признать, что он проиграл, что существует что-то, с чем нельзя справиться. Я не раз спрашивала себя, почему ничего не вышло, что я сделала не так, что я могла бы совершить иначе. Машина времени становилась навязчивой идеей, я переживала моменты снова и снова, пытаясь найти ключ, увидеть ошибку, которую можно было исправить. Много месяцев я не могла спать, размышляя над тем, что еще могу сделать. Был Док рядом или нет, не имело никакого значения – все, что он говорил и делал, бесконечно повторялось, преломлялось и умножалось в моей голове. Я ждала цели, на достижение которой смогу бросить силы, но Док такой цели не давал. Можно было пытаться, изобретать, пробовать сотни способов, чтобы оживить друга, я безоговорочно верила в Дока, но сам он сдался. Каждое брошенное невпопад или от дурного настроения слово оставляло шрамы. Я сделала ставку – и проиграла; забралась на башню, ободрав руки, а принцесса сбросила вниз.
Написать слово «проиграла» стоит больших усилий.
Несмирение – та черта, которая бросает на баррикады, заставляет таких же, как я, бороться с чем-то непобедимым. Несмирение, противоположность рабскому принятию судьбы, заставляет пытаться снова и снова. Это работает в отношении социального устройства, когда ты выступаешь против, сжимая в руке кирпич и вспоминая тексты 1968-го; это работает и в отношениях людей. Видеть то, что не можешь изменить, что никак от тебя не зависит, невыносимо. Но фанатичная упертость смешна – ты, во власти романтических страстей, забираешься на башню, а вместо крошки принцессы встречаешь зомби. О таком в сказках не пишут.
Расклад, в котором есть место смирению, называют «порядком вещей». Одно это словосочетание взводит – невыносимо хочется отбросить покорность. Смирение входит в список худших качеств на свете. В людях воспитывают умение принимать проигрыши. Люди привыкают желать малого.
Но резервации не для меня. Несмирение, непокорность, храбрые, сумасбродные поступки превратили сборище обезьян в королей небоскребов. Люди, умеющие дерзать, уже научились стягивать пространство с помощью самолетов и кораблей, но время накладывает бессмысленные ограничения. Идея покорения бесконечности распаляет и режет. Какого черта я не могу гнуть временные дуги? Почему дороги заканчиваются? Почему люди ломаются? Почему бы не изменить законы? Почему так сильна необходимость в невозможном? Внутренний миф требует прорваться в бесконечность, научиться управлять временем и неизбежностями. Порядок вещей ненавистен, любые попытки его превзойти вызывают сочувствие.
Я разбивалась о Дока, резалась о проклятую пустоту, лживую безмятежность. Он, позволяя себя целовать, был так далек, что дистанция изматывала. В одиночестве мир превращался в темную, матовую бездну, населенную уродами и призраками. Недостатки чужаков распухали, как гангрена. Но с ним, лежа в постели, было гораздо хуже. Не знаю, как это описать – когда тянешься к чему-то, что никогда не сможешь поймать, что всегда ускользает и обманывает, даже когда желает быть рядом. Я не умерла, но что-то безвозвратно изменилось. Никто не делал со мной более жестоких вещей, чем Док.
Полагаю, мы друг друга стоили. Иногда тянуло стать Доком, я была уверена, что смогу распоряжаться его телом гораздо лучше, чем это делает он сам.
С тем же азартом и полным неистовством, с которым я желала секса, я бы, весело смеясь, катала по полю его отрубленную голову. Нравилось драться, позволять причинять физическую боль – она ослабляла психологическое напряжение, которое к тому времени стало сводить с ума. Нежность смешивалась с яростью от того, что Док бесчестно пытался приручить. Он будто старался вылепить обыкновенную женщину, поставить на место, сделать безопасной. Снизить ущерб от вторжения, уклоняясь от необходимости иметь дело с личным адом вместо того, чтобы вместе стереть этот ад в порошок. Это вызывало ненависть. Я не какая-то женщина.
Я врывалась, он, не понимая последствий, осаживал. Док насмешливо останавливал у самой границы, дразнил, давал возможность поверить, что все может быть по-другому, а потом вставал и уходил, будто это шутка, когда у меня от возбуждения шла носом кровь. Однажды он поцеловал так, что хотелось остановить время, а потом резко прекратил, намекая, на что способен, но не желая продолжать. Это было подло – и фальшиво. Док вряд ли смог бы продолжить, даже если бы захотел, потому что ничего не чувствовал. Он был испорчен, как может быть испорчен механизм. Я тянулась передать то, чего во мне хватало для рождения сверхновой, – а он выставлял за дверь, заставляя ощущать себя ничтожной, бесполезной. «Я ненавижу тебя», – бросала я, не выдерживая. «Правда?» – грустно оборачивался он. Нет. Да.
Мы дрались в постели, катались, сплетаясь в узлы. Это служило заменой и сексу, и настоящей драке – мы изрядно выматывали друг друга. Я не могла отступить и успокоиться, эта настойчивая одержимость злила Дока. Он защищался. Меня же взвивали безволие, апатия, недостижимость. За них хотелось отомстить. Драться было славно, но Док зачем-то пытался победить. Тяжесть и мускулы не мой конек, но я усердно извивалась и толкалась изо всех сил. «Ты сильнее, чем я думал», – смеялся Док, прижимая к кровати. Он вжал меня в матрас и навис сверху: «Сдавайся». Я делала яростные попытки вырваться, которые он с трудом сдерживал. «Отпусти», – было по-настоящему больно. «Скажи, что сдаешься», – повторил Док. Все неожиданно ожесточилось, игра превратилась в войну. «Нет». «Сдавайся» Это начинало походить на психологическое изнасилование. «Никогда». Мне было странно, ведь Док должен был знать, с кем имеет дело: что я скорее позволю сломать себе руки, чем сдамся. Но он не знал.
В детстве я была вспыльчива и слишком часто дралась. Меня словно накрывало. В младших классах чуть не сожгла девочку, притащив ее за руку к зажженной газовой конфорке. В старших – вкрутила тлеющую сигарету в тело парня, забывшего мое имя. С возрастом вспышки гнева сошли на нет. Но когда мы дрались с Доком, я поняла, что если сейчас он ослабит хватку и даст выбраться, я его убью. Что его не спасет статус друга, особенность, весь этот ворох высокопарных правил и странная, хрупкая любовь. Что если я не сдержусь, то просто разорву человека в клочья, потому что он меня разрушает. Стало страшно.
Я постаралась объяснить, тщательно подбирая слова. Док выслушал, прислонившись к стене, он выглядел подавленным – вряд ли хотел вызвать такую реакцию, просто мы плохо друг друга знали. На следующий день руки покрылись синяками.
В садомазохистских играх, в которые мы играли, все было непросто. «Тебе ведь это нравится», – говорил Док, оставляя на мне следы. Да, мне нравилось. Боль как увлекательная игра в доверие. Я любила разглядывать оставленные им синяки. Но мне требовалась не игра, а настоящая принадлежность, настоящая верность, настоящая сталь. Выжечь на спине Дока клеймо – вот чего мне в действительности хотелось. Я хотела его до самого нутра, я предлагала себя всю, так какого черта мы разменивались на мелочи?
Док же только дурачился, боясь любой глубины. Он полагался на меня, но не брал ответственности за то, что делал. У него не было целей, не было стремлений, не было кодекса; он был потерян, обтекаем, грустен. Я много раз задавалась вопросом, поступала бы я так же, если бы мы поменялись местами?
Нет. Я слишком ценю друзей, чтобы пытаться превратить их в игрушки.
В детстве сказка про «Снежную Королеву» сердила. Кай не заслуживал спасения, потому что был жесток, капризен и никчемен. Осколки злого зеркала казались не причиной нового поведения Кая, а средством, которое раскрыло истинную сущность мальчишки. Упорство Герды, готовой на все ради его спасения, вызывало раздражение. Кай должен был замерзнуть. Герда же шла на любые жертвы ради человека с куском льда вместо сердца. Какого черта, Герда?
Док стал Каем. Настоящей Герде повезло – она знала, куда направить ракеты. А куда ехать мне? Док не отвечал, только смотрел с насмешкой, заранее уверенный в провале.
Машины
Акция с курицей изрядно накалила отношения с левыми и многими симпатизантами, не понимающими сути группы. Все они во главе с Лосем сразу же открестились от Войны, сочтя произошедшее в магазине отвратительным и безыдейным. Это забавляло. Кадры с «Безблядно» вставили в ролик акции с курицей, поэтому Лось в ней поучаствовал, сам того не желая, хотя лицо и скрывал плакат. Коза с Олегом посмеивались, потому что акция укладывалась во внезапно появившуюся стратегию – сначала погладить общественность по головке, а затем отшлепать ее по лицу мокрой курицей. Брезгливость Лося стала второй любимой темой для шуток Олега. Шутить Олег умел и любил, часто вторгаясь в область абсурдного, сочиняя панковские стишки и просто играя фразами, произнося их густым, душевным баском, с насмешливой интонацией и театральным обаянием. Стоило ему начать стебать Лося, как все вокруг непроизвольно замирали и смотрели оратору в рот. Олег отлично владел вниманием аудитории, у него были остроумные ответы на все вопросы, однако самовлюбленность приедалась. Олегу хотелось быть дружелюбным паханом, эдаким всеобщим папой с наебкой в усах, а в группе, раз уж он так любит рассуждать о группах, не должно быть безусловных авторитетов. Авторитеты в таком контексте отталкивают, особенно когда им внимают. Гогочущие над чужой твердой позицией походят на стаю гиен. Я начала думать, что охвачена параличом, но принципы существовали – и в такие моменты начинали сильно жать. Я тоже часто потешалась над Лосем, он напрашивался, но когда издевательство над ним длилось и длилось, так и подмывало не согласиться.
Постепенно вырисовывалось несколько направлений деятельности, которые Война планировала развивать. Для одной из операций мы обследовали высотки, проверяя выходы на крыши. Мы проникали внутрь подъезда, поднимались наверх, перелезали через закрытые решетчатые двери на чердак. Я пробиралась за дверь сбоку, по перилам, или сверху, а Док помогал слезать на обратном пути. Ему не нравилось, когда я рисковала собой.
Когда возвращались, наткнулись помойку. «Я отличные штаны нашел! – сказал Олег. – Хочешь?» Штаны у меня были.
Чудо-акция требовала знаний и ресурсов, поэтому постепенно мы переключились к затее попроще, хотя и не менее нахальной. Для начала нужно было узнать, сколько человек требуется, чтобы быстро и аккуратно перевернуть машину, для чего небольшой группой отправились на автосвалку недалеко от Балтийской. В городе стояла жара, парни сняли футболки, блестели влажными торсами, и походили на деревенских бродяг, веселых и наглых. Промрайон, заполненный свалками и портовыми складами, усиливал впечатление эдакого гоп-похода. Над рекой висела дымка, работали краны – грузили какое-то барахло. За оградой свалки возвышались груды проржавевших автомобильных корпусов, над которыми торчала старая будка. Мы попробовали проникнуть внутрь «официально», но охранники – мрачные испитые мужики, похожие на коряги – на наше обаяние не повелись. Залезть на свалку через дыры в заборе было нетрудно, но смысла в этом не было никакого – времени на спокойный эксперимент и отход не останется – охранники не дадут нам перевернуть и одной машины, а ведь кузова свалены в кучи, из которых их еще нужно вытащить.
– Хочу посмотреть, что там есть, – прыгала я.
– Забирайся, – Док приподнял над оградой, показав кладбище автомобилей.
Самая очевидная мысль оказалась неудачной. «Ну и ладно, – сказала потом Коза. – Все равно они выпотрошены, так что не дают представления о реальном весе».
Мы перешли на старые, погружающиеся в асфальт машины в черте города, которые по неизвестной причине не вывозились из Петербурга годами.
Каждую ночь парни для тренировки переворачивали по несколько заброшенных машин. Нужно было определить самый эффективный способ, оптимальное количество человек, рассчитать необходимое время плюс просто привыкнуть, довести действия до автоматизма.
Как-то раз взялись за старую «Волгу», лежащую на заросшем газоне, словно выброшенный на берег кит. «Волга» оказалась дьявольски тяжелой, вросла в траву спущенными колесами, и ни первый, ни второй подход успехом не увенчались. «Давайте разминаться», – сказал Олег и сделал несколько спортивных движений, разогревая спину. К нему присоединились остальные, – это выглядело комично. Моя помощь в деле переворачивания тачек была неэффективной, но ради веселья я периодически подключалась. Парням подготовка к акции давалась непросто – большинство не имели спортивного опыта, так что несколько человек потянули спины, а так как тренировки продолжались неделями, от недосыпа и боли в мышцах активисты мрачнели. Тогда Война перевернула приличное количество тачек по всему городу. Работа продолжалась методично, упорно: днем обходили районы, разыскивая подходящие бесхозные машины и составляя карту «брошенок», ночью валяли их туда-сюда. Выбор делался в пользу машин откровенно раздолбанных и заброшенных (чтобы не пострадали ни в чем не повинные автолюбители), но похожих по габаритам на те, что планировалось переворачивать на «чистовой» акции.
Как-то раз выбрали полусгнившую машину, стоящую между вполне добротными тачками. Встали наизготовку, стали понемногу раскачивать, автомобиль уже подался – и тут я увидела, что по той же узкой улице в нашу сторону едет машина такси. И что «старуха», которую раскачали ребята, грозит рухнуть прямиком на нее. Я закричала, но процесс было уже не остановить: развалина грохнула об асфальт, из ящиков посыпалось древнее барахло, в воздух поднялось облако ржавчины. Машина сдулась и стала похожей на картонную коробку. Таксист притормозил, ослепляя фарами, и начал истошно сигналить – он принял нас за вандалов и зашелся в приступе автосолидарности. Мы бросились врассыпную, неслись в горячем ночном воздухе в полной темноте, а сзади уже выла сирена. Она еще долго стонала в ночи, кружа по району, но мы уже сменили локацию.
Акция «Дворцовый переворот», несмотря на свою непродолжительность, была одной из самых сложных в планировании. Помимо ночных тренировок мы также выясняли адреса отделений милиции (Война в конечном итоге знала расположение и конфигурацию питерских отделений милиции лучше любого другого жителя культурной столицы, да и самих ментов), зарисовывали планы стоянок, изучали расположение камер. С финальным пунктом – местом проведения акции – определились поздно. Решили, что Михайловский замок – самый выигрышный вариант. Помню, как с Леней отсекли один из участков на Васильевском острове из-за слишком извилистого, полутупикового пути отхода. Тщательности подготовки можно было только позавидовать.
Леня фонтанировал идеями – от пиратской телестанции, которая будет передавать идеи Войны, до падающего с недостроенного моста поезда, словно в блокбастере летящего вниз по невидимой дороге (которую губернатор должен был построить еще несколько лет назад).
С Ксенией, как ни странно, я общалась мало. Наверное, дело в продемонстрированной мной слабости, после которой я замкнулась, а может, в том, что я стала находить ее неестественной. Но надо отдать Ксении должное: она умело использовала девичьи ужимки для дела. Если обычно женщины увлекаются игрой, забывая о целях, то Ксения была слеплена из другого теста. Как говорил Лось, она легко могла смеяться, кружиться, а затем позвать развесивших уши мужчин на штурм Смольного. Использовать женщину как троянского коня, завлекая болванов «делать революцию», – идея отличная, но ни Ксения, ни Лось серьезными успехами на этом поприще похвастаться не могли.
Однажды Ксения позвала в гости, я постаралась расслабиться – и отчасти это получилось. Ее квартира была завалена кучей разнообразных вещей и находилась в доме с высоченными потолками. Ксения рассуждала о синкопах у Tool[46], надев очки. «Она похожа на гусеницу из «Алисы в стране чудес», которая курит кальян», – прошептал на ухо Док.
Когда все ушли спать, я устроилась на кухне, на мелком, плохо приспособленном для сна диване, потому что здесь почувствовала себя как дома. Позже пришел Док: «Не могу там заснуть», мы свились в малоудобный теплый узел. Ксения вскоре уехала учиться во Францию, что символично. Док снова отощал, он жил, где придется, устал от Войны и начал скучать по привычному образу жизни. Мне казалось, что время нахождения Дока в Войне затянулось.
Сэлинджер, описывая мир «Фрэнни и Зуи» показывает связь между умными детьми, которые растут и обзаводятся новыми знакомствами, но все равно остаются собой только наедине друг с другом. Каждый находит собственный способ интеграции в мир, но внешняя среда остается враждебной, неестественной, полем для адаптации. Таких людей тянет друг к другу, в замкнутое пространство с четко налаженными потоками перетекания знаний, такие люди – особенные. Физически ты разрываешь связи, но на деле не можешь отдалиться. Тянет вернуться в срез прошлого, который уже уничтожен – когда между людьми были натянуты невидимые нити. Ты можешь ненавидеть этих людей, но они уже стали частью шрамов. Можно рассказать чужакам то, что хотелось бы легко и беспрепятственно передать старым друзьям, но эффекта, который ожидаешь получить, не произойдет. Можно заменять части вещей, но люди не взаимозаменяемы. Я помню версию событий, которую больше никто не помнит. «Сомневаюсь, что ты умеешь как следует целоваться», – смеялась я в большой полупустой квартире-сквоте в ответ на дурацкую шутку Дока. «Тогда научи меня», – отвечает он, и я замолкаю, видя, что он серьезен. Молчание длится слишком долго, это выдает.
«Дворцовый переворот» – последняя акция, в которой я принимала участие, но не потому даже, что больше стоящих акций Война сделать не успела, а потому, что группа зациклилась. Нельзя останавливаться, нужно постоянно рваться вперед. Стоит забуксовать, перестать достигать, развиваться – и наступает конец. А Война начала окукливаться в рамках коммуны, провозглашая акциями то, как они едят, спят, воруют. Объявлять каждый шаг и слово событием легко, но кто-то кроме объявляющего должен в это верить. Даже из нас в это не верил никто. От быта Войны, от сидящего в углу с девушкой Лени, который не произносил ни слова, от сосредоточенной на Каспере Козы, уходящей в себя, чтобы не ругаться с раздраженным Олегом, от каких-то новых приятелей, напоминающих членов питерских алко-коммун, – от всего этого попахивало чумой.
Я предложила Доку уехать: «Тебе пора возвращаться, срок годности путешествия сюда закончился». Что-то вроде эвакуации из зоны заражения. Док устал бессмысленно бомжевать и долго не раздумывал – предложение просто стоило озвучить. «Хочешь от меня избавиться?» «Нет. Все дает какой-то опыт, но ничего нового здесь не произойдет». «Пожалуй». Странно было представлять, что после нескольких месяцев он уедет. В Питер пришел дым из Москвы, мы гуляли по пахнущей золой дороге – одни на целой планете. Силуэты людей выглядели призраками, экскаваторы на раскопанной улице, словно древние монстры, выныривали из дымки.
После отъезда Дока я продолжила сворачивать контакты с Войной – нужно было разобраться в себе. Особенно сильное отторжение я почувствовала, когда Коза в момент внутренних разногласий усадила активистов смотреть «South Park»[47], словно на семейном ужине. Народ устал друг от друга, но она настояла на просмотре, будто это решит все проблемы. Я посидела несколько минут, слушая давно известные шутки Картмана, потом встала и ушла. Коза не раз потом говорила в интервью что-то вроде: «Я хочу, чтобы мы были суперсемейкой героев. Хочу семейную банду, потому что семейная банда — это единственная банда, которая тебя не предаст. И супергерой Леня Ебнутый – он однозначно хороший. Его все подставляют, его менты преследуют, но он все равно борется со злом.» Таковой была позиция Козы, но мне семья не требовалась.
Мое участие в подготовке «Дворцового Переворота» ограничилось кратковременной слежкой за милицейскими машинами около Михайловского замка и самой акцией. Следить за кем-то вопреки сложившемуся из детективов мнению – скучная задача, требующая недюжинного терпения и дисциплины. Ребята делали это неделями, передавая эстафету. Наступала осень, становилось зябко. Я сидела на скамье, отмечая в старой тетради, которую дал Леня, время приезда и отъезда милицейского патруля. Они приезжали к замку и заходили в небольшую дверцу сбоку от главного входа. Мы планировали закрыть их снаружи, перевернуть машину и смыться, пока менты будут биться в дверь, но нужно было точно определиться с графиком. Планирование акции Войной в очередной раз вызывало уважение. Несколько недель Леня и остальные активисты следили за зданием. Леня отрастил импозантную бороду, став похожим то ли на моряка, то ли на бомжа.
Тогда же я пыталась найти хорошего радиоэлектроника, чтобы прикинуть возможность осуществления идеи с пиратским TB. Мысль о захвате телеканала дразнила воображение с детства, так что я была готова вложить свои ресурсы, если потребуется. Подходящих людей оказалось немного. Нашелся один спец на заводе, но наотрез отказался сотрудничать. Затея с первого взгляда выглядела противозаконной, и он не захотел принимать участие. Даже за деньги, которые я была готова отвалить. Может, я мало предложила, но тогда я еще не отдала до конца собственные долги. Отказ удивил. Сложно понять человека, который отказывается от возможности испытать собственные знания, поучаствовать в уникальном эксперименте – еще и за деньги. Я бы попробовала просто так, ради интереса.
Несмотря на критику, «Дворцовый переворот» – мощная вещь. Грязев, срежиссировав ролик с закатившимся мячиком, примирил зрителей с открытым мятежом, и по мне так сделал это зря. «Дворцовый переворот» – важная веха. Война перестала заигрывать с искусством, они изобразили протестующих леваков, хотя не нанесли никакого серьезного ущерба – разбитое зеркало не в счет. Милиция, которую застали врасплох, выглядела глупо. Выставлять копов в дураках – тактика древняя, но ей почему-то редко пользуются. В дураках оказались и леваки, ведь нападение на машину было пародией, а не настоящим деструктивным актом. Машина использовалась не как средство передвижения ментов, которое нужно уничтожить, а как символ, буква, рисунок. Искусства в «Дворцовом перевороте» ни на грош, только мошенничество, загримированное под типичный радикальный протест. И опять мы напали прямо в центре города, выбрав туристический объект, лощеный, окруженный пафосными памятниками с подсветкой. Позже поджогом автозака ребята закрепили эту тенденцию, хотя партизаны не стали бы жизнерадостно светить лица – они не шутят, они заняты уничтожением ресурсов противника. Деформированная же логика Войны превратила поджог в бессмыслицу, что-то в духе «Yes, we can!», не наносящее особого вреда и не приносящее особенной пользы. Оставаясь последовательными, стоило либо спалить десяток автозаков в разных отделениях, устроив настоящий Новый Год и окончательно утвердившись в роли «террористов», либо оставить автозак в покое и провернуть трикстер-акцию. Руководствуясь личной местью ментам, Война заигралась в революционных террористов, которыми она не была.
«Дворцовый переворот» занял несколько минут. Действия многократно отрабатывались, так что повторить их лишний раз народ не затруднило. Я увидела много новых, незнакомых лиц. Участники сидели на скамейках за густыми кустами, оставив велосипеды и изображая отдыхающих с бутылками пива студентов. Замок возвышался совсем рядом, искусно освещенный, молчаливый. Я бы не удивилась, если бы мы решили штурмовать здание, чтобы держать потом оборону за изгородью с головами Медузы.
Однажды Лена решила провести особенное интервью – каждый из активистов рассказывает про невозможные акции своей мечты, которые хочется сделать, а она потом компонует рассказы как интересный материал. Народ начал придумывать, я молчала. Мы не совершали настолько серьезных вещей, чтобы выступать идеологами. Но, если честно, то моей акцией была бы «Осада замка». У Страуда[48] есть книга о детях, играющих в заброшенном, полуразвалившемся замке. Когда полицейские пытаются вышвырнуть их с закрытой территории, игра вдруг перестает быть игрой, и дети начинают защищать свой замок от захватчиков. В конце все кроме одного мальчишки прекращают войну, а он не сдает замок и погибает внутри. Было бы здорово захватить замок и удерживать его от копов, вернув крепости смысл.
Милиция приехала вовремя, два мента неторопливо зашли внутрь. Если бы кто-то из них остался в машине или рядом, акция могла провалиться. Но нам повезло. Быстро разбежались по точкам стоящие на стреме, я заняла позицию. Коза продумала несколько уровней «смотрящих», чтобы не пропустить возможную ментовскую подмогу или случайный патруль – все было продумано идеально. Ребята молниеносно «заварили» дверь, подбежали к тачке, ухватились. Взвыла сигнализация. Переворот занял какие-то секунды, затем активисты вскочили на велосипеды – и разъехались, кто куда. Все прошло идеально. От легкости хотело смеяться.
Дальше
Что было дальше, известно. Войну арестовали, пытались посадить надолго, но не преуспели, так как не было состава преступления; затем загнали в угол, объявив в розыск, незаконно отобрав у Козы паспорт и не давая совершать ничего стоящего. Участники Войны – табор выдумщиков и гражданских активистов – по решению российских судов стали преступниками и уже настоящими бродягами. Без дела, без развития, без пространства для действий, Война стала разлагаться. Коза родила дочь в ванной, Олег безуспешно пытался сделать из важного личного события акцию. На мой взгляд, это выглядело спекулятивно, отчаянно, даже жалко. Коза достойна большего, чем изображать штамповочную машину для детей-революционеров. Маленькая Мама до сих пор не зарегистрирована потому, что Коза не может показываться в официальных учреждениях, а паспорт у нее отнял следователь. Pussy Riot, отколовшаяся часть Войны, может рассказать о российских судах не меньше – за прыжки перед алтарем им дали по два года колонии. Наблюдая их спонтанные панк-концерты, я думала, что вот отличная замена затихшей Войне, феминизм и протестное движение, адские болевые точки для консервативного и патриархального российского общества. Сильно воодушевившись, я не успела выйти на связь – девушки оказались за решеткой за акцию мечты, шапка с прорезями пылится – да ее уже и надеть без последствий было нельзя – новый закон о митингах. Попы в телевизоре учат, как жить. Власть копов пытается раздавить любого, кто посягает на их сакральность, – даже скоморохов.
Война совершила ошибку, показав лица, сделав ставку на личную популярность в ущерб безопасности, и начала за это расплачиваться. Именно наглость, нежелание скрываться, культ личности сделали их героями, именно это зажигало, вдохновляло, вызывало желание мчаться туда, где они творят прекрасные безобразия. Но теперь слава и узнаваемость не играли на руку.
Несмотря на застой, группа не прекратила деятельности. Активисты оплачивали деньгами Бэнкси адвокатов нацболов и других радикалов, которых жестоко прессовали. Не знаю, кто ответственен за инициативу, но думаю, что Леня – привычка организовывать сохранилась у него с «Солидарности».
Такой подход к делу стоит перенять остальным: не можешь действовать – финансируй.
С уголовным делом на каждого, удачно прячущиеся от сотрудников центра «Э»[49] Олег, Леня и Коза с двумя детьми, один из которых – грудной младенец, на время вышли из игры. Нельзя было попадаться, нужны были смелые, не разочаровавшиеся в Войне активисты, а кроме них самих людей, готовых на тюрьму, в окружении Войны не было. Сесть в камеру за бомбу в царя – это одно, сесть в тюрьму за очередную курицу в пизде – совершенно другое, так что искать людей стало труднее. «Никто не захотел даже поджечь елочку для Осиповой[50]», – говорила Коза.
Мужчины вокруг меня, респектабельные, сытые профессионалы, удивляются, когда речь заходит о пытках, обысках, избиениях или убийствах. Они не могут представить, что параллельная реальность начинается там, где ты вдруг решаешь высказать мнение, противоречащее принятому. «Ты преувеличиваешь», – морщится мой приятель. Что ж, просто попробуй. Это освежает. Тебя могут схватить и ударить по почкам в участке за то, что отрастил бороду, как у Воротникова. У тебя снимут отпечатки пальцев, тебя запечатлеют на камеру, словно уголовника, за безобидный плакат на митинге. К тебе придут домой, намекнут, что лучше не выходить на улицу, заберут ценности – и не вернут. Людям трудно поверить, что Червочкин[51] убит просто потому, что нацбол, что за поднятый флаг могут сломать спину, что безобидный хипстер, впервые в жизни услышавший левые теории, вернется домой в синяках, а в университете с ним поговорят о неподобающем поведении.
Люди делают вид, что уважают законы, но законы пишут злодеи, жулики и подлецы, желающие, чтобы ты ел траву в стойле и молчал. Неужели у таких законов должна быть сила? Лось проходит на работу мимо зданий, обклеенных распечатанными листами «Лось идет на работу» и «Разыскивается за совращение малолетних», чтобы знал, что за ним следят. За прыжки в разноцветных юбках в церкви ты будешь месяцами гнить в камере без суда и приговора и молиться, чтобы тебя помиловали, ползая на коленях. Стоит поднять голову, как тебе подбросят наркотики или попробуют отнять детей по доносу очередной мрази. Понимаю, трудно поверить, что тех, кто избивает молодых смельчаков, никто не ловит. Еще труднее поверить в то, что избивающие – переодетые в штатское копы. Но надо уже начинать верить, отрываться от корыта, отшвыривать гнилое старье вон. Глава Следственного комитета вывозит журналиста в лес для «серьезного разговора», а потом продолжает занимать свой пост, хотя история известна всем, кто умеет читать. В «Саньке» Прилепин[52] писал, что если за брошенный помидор и брошенную гранату полагается одинаковое наказание, глупо и неловко смеяться над бросающим помидор. Война кинула целое ведро «помидоров» прямо в лицо врагам, не думая даже скрывать ни лиц, ни презрения. Какими бы они ни были и как бы они в будущем ни закончили, Война достойна своего салюта.
Они потеряли свободу передвижения, стали заложником заявлений, собственноручно выдуманных правил вроде «никогда ни за что не платить» и так далее. Война была бандой мошенников с плавающей моралью, но потом зациклилась на жизни за чужой счет, собственной интерпретации анархизма и значимости в рамках истории. Из хитроумного плута стать недо-оппозиционером – не лучшее решение. Власти перекрывают кислород. Коза постоянно себя испытывает, она повышает планку, болевой порог, сражается сама с собой. Она человек кодекса, и внутренний кодекс ее поедает. Для Олега большинство предписаний – всего лишь набор букв, который можно складывать по-разному, но он заботится о видимости, в которой поменять стиль поведения нельзя.
Менты не единственная проблема Войны, хотя сотрудники центра «Э», готовые бить человека только за то, что тот похож на Воротникова, не добавляют жизнерадостности. Еще одна их проблема – они перестали быть ловкими, текучими, взяли на вооружение чужой флаг, чужие героические шаблоны. Война не должна была становиться партизанами, их призвание – хлестать осоловевших обывателей по щекам, смеяться в лицо. Но в момент, когда вокруг днем с огнем не сыщешь никаких партизан, приходится брать в руки винтовку самому, даже если ты плохо стреляешь.
Наверняка каждый бунтует по-своему, хоть и произносит одни и те же слова. Для меня мятеж – попытка вернуться в невинность, в первозданное пространство негодования и восторга от поражения лживых ублюдков. Радикалы всегда символизируют молодость, даже если это прожженые взрослые мужчины вроде Че или Маригеллы, а государство и его институты – старость с ее консерватизмом, компромиссами, соглашательством, застоем, «сигналами», которые тут же улавливают покорные уши. Бюрократы стары, даже если им двадцать. Коррупция как corruption – повреждение, разложение тканей и идеалов[53]. Бунт – это очистка пространства от ветоши, гнилья и отбросов. Жидкий огонь коктейля Молотова – кровь юности, торжествующе вспыхивающая на полицейских машинах. Даже если ты не победишь, порыв, желание свергнуть власть безликих, глупых и злых срывает тонкую защитную шкуру и делает то, чего нельзя добиться больше ничем, – возвращает в невинность.
У революционной романтики есть изнанка – тебя не должны поймать, ты не должен умереть. Ты должен выжить, даже если проигрываешь, и продолжить искать новые способы, новые подходы, рыть подкопы или нападать с воздуха. Если всех романтиков скосит, и они будут лежать в красивых лужах крови, останутся одни функционеры. У кого-то должны остаться силы на конструирование новой реальности, новых легенд, нового, невиданного государства. Война встала в позу революционеров, потому что у нее не осталось другого выхода – они боролись тогда, когда все остальные молчали.
У Дэна Абнетта[54], известного романами по Вархаммеру[55] и вдохновившему немало яростных фриков вроде Яроврата[56], есть трилогия про инквизитора Эйзенхорна. В мире Вархаммера инквизиторы борются с хаосом и делятся на два типа: пуритане и радикалы. Пуритане уничтожают все, что связано с хаосом, они не заглядывают в демонические книги, сжигают артефакты и целые планеты, иные для них – еретики. Они – консерваторы, упертые фанатики. Радикалы же считают, что нужно изучить врага, чтобы его победить. Поэтому они изучают хаос, борются с ним его же методами. Рано или поздно радикалы переходят на сторону хаоситов, сживаясь с чужим образом мышления, и инквизиторам приходятся уничтожать уже их. Эйзенхорн постепенно становится еретиком, но даже не замечает изменения собственных методов, продолжая считать себя борцом за правду. И один из старых инквизиторов открывает Эйзенхорну, что большой секрет инквизиции состоит в том, что рано или поздно абсолютно все радикалы сходят с пути и становятся хаоситами. Вопрос только в том, сколько пользы сможет принести брат, заигрывающий с хаосом, прежде, чем скверна окончательно его уничтожит. У каждого радикала есть срок годности.
Мария
– Возьми варежки, – мы стояли на заснеженном футбольном поле. Воздух скрипел от мороза, руки после снежков отваливались.
Док качнул головой. Он – мужчина, это ему полагалось отдать варежки длинноволосой смущенной девчонке, смеясь в лицо убийственному холоду – дескать, ха, малышка! Я протянула одну из обрезанных рукавичек. Оставить каждому по одной – было уже по-дружески, не так странно. Док усмехнулся. Я поняла, что хочу снять пальто и отдать ему, потом сделать то же самое со свитером, шарфом, содрать майку – всю одежду, – и остаться совершенно голой.
Психо
Не переношу лжи не потому, что правдивость – добродетель, что-то абстрактно хорошее или одобряемое людьми, а потому, что, словно героя Конрада в «Сердце тьмы», она пугает. Ложь искажает картину мира, профанирует любое прозрение. Правда неудобна, часто ее никто не хочет, но если передо мной стоит выбор: сделать кого-то несчастным или соврать, – я выбираю правду. Люди далеки друг от друга, им сложно понять, как мыслят остальные, а ложь и социальные соглашения делают понимание окончательно невозможным.
«Во всякой лжи есть привкус смерти, запах гниения – как раз то, что я ненавижу в мире, о чем хотел бы позабыть»[57].
Рано или поздно большинство оппозиционеров, с которыми я общалась, начинали лгать. Непростительным было не то, что они выставили пьяницу героем или воспользовались методами центра «Э», а в том, что потом врали об этом – и о мотивах, и о методах. Я бы уважала и диктатора, если бы он не прикрывался личиной главного демократа или отца народов, пытаясь соблюсти приличия. Будь злым, будь убийцей, прелюбодеем, имморалистом или мудаком – только не надевай маску, не ставь свечки, не раскланивайся.
В самом факте лжи нет ничего удивительного – все в какой-то степени врут, обману часто есть объяснение. Политические интриги так и вовсе требуют специфического вида лжи, благодаря которому можно обвести врагов вокруг пальца. Лгу и я, но не о важных вещах. Одно дело – игра, блеф, другое дело – ложь там, где ожидаешь правды, где важно точно знать: «да» или «нет».
Вставая на дорогу мятежа, освобождения, войны одиночки против системы ты вступаешь на территорию, где нужно быть совершенным, пугающе честным. Стоит оступиться – и происходит мгновенное падение. Можно объяснить чужие проступки, понять их, даже остаться рядом с оступившимся человеком, борясь с собственной нетерпимостью. Но это лишь компромисс.
Проблема лжи – в разрушении реальности. Однократная ложь ставит под сомнение правдивость прежних слов, вызывает волну паранойи – а что, если все, о чем говорил этот человек, было ничтожной ложью? Карточный домик падает, погребая под картами. Ты достаешь из кармана деньги – и не знаешь, какая купюра фальшивая. А, может, все они – всего лишь бумага? Ты смотришь на оратора и пытаешься понять, улыбается ли он потому, что чувствует в себе силы броситься на врага или потому, что в это самое мгновение наебывает тебя. Ты смотришь на человека, которого любил, и стараешься угадать, с какого именно момента он начал целовать тебя по инерции.
Ложь искажает смысл существования. Неизвестно, к чему можно относиться серьезно, а зыбкость бытия становится невыносимой. Зачем нужны суды, если все в них – оскорбление идеи правосудия? Зачем нужны законы, если их пишут мерзавцы для того, чтобы защитить собственные интересы? Зачем нужны процессы, если чиновники не попадают за решетку, что бы ни сделали? Зачем нужны медиа, если они больше не средства массовой информации, а всего лишь продавцы ужасов «сраной рашки», как прежде были продавцами секса и насилия? Зачем нужны менты, которые подбрасывают тебе наркотики? Зачем нужны депутаты, которые хотят наделить эмбрионы правами человека, когда права живых, взрослых людей не соблюдаются? Зачем нужны церкви, построенные на фундаменте обмана и самообмана? Зачем вообще нужно бытовое преуспеяние в мире, построенном на лжи? Нам нужны другие правила, другой мир.
Множество бывалых радикалов и членов партий, устраняясь от активного сопротивления, не перестает верить в революцию. Часто уходят они не из трусости, а из брезгливости. Раньше я считала их ничтожествами, но потом поняла, что многие просто перестают верить тем, кто громко вещает о грядущем равенстве и братстве, о победе мировой революции, а потом подтасовывает факты. Лидеры-лжецы ловко меняют громкие вывески, из-под которых на тебя смотрит очередная ботоксная морда. Обманутые ими скрываются в быте – опыт прозрения слишком болезненный. Их можно понять, но другие остаются, подавляют презрение к нечистым на руку демагогам ради цели. Это не разочарование в идеалах, это разочарование в людях, которые вымывают смысл из важных вещей. Ты знаешь, что люди не идеальны, что вскоре тебе опять соврут, но ты все равно идешь, потому что ничего не делать – гораздо хуже. Кто-то бравирует разочарованиями, но мне разочарования хочется скрыть, потому что они делают взрослее. Что может быть омерзительнее, чем согласиться с печально кивающими, с теми, кто считает, что ничего сделать нельзя, что так, как сейчас, будет всегда? Стать, как они? Стать побежденным, окончательно взрослым?
Почему-то менты, избивая людей в камерах, любят приговаривать: «Что, герой? Герой, да?». Любой, кто идет против течения, вызывает злобу, потому что заставляет сдавшихся осознавать их собственное падение. Тот, у кого есть уверенность, храбрость, энергия, позиция, вызывает ненависть тех, кто все это уже потерял.
Я – герой.
Проектор
Под звуки «Heads will roll»[58] к Кремлю начинают приближаться рекламные дирижабли. В тросах, обхватывающих упругие бока, воет ветер. Высота пьянит, здесь трудно верить в законы. Под баллонами, испещренными кричащими слоганами, висят корзины со снарядами. Леня, похожий на немого бойца кун-фу, направляет дирижабль вперед. Он в совершенстве овладел искусством создания взрывчатки, но не может отказаться от спецэффектов. Док стоит рядом с ним, скрестив руки на груди. Он снова невинен и раскрепощен. Рекламные дирижабли несутся вперед, охваченные такой же горячкой, как и я. Корзины распарываются, снаряды сыплются на Кремль – и символ консерватизма взрывается, словно в фильмах Майкла Бэя[59]. Его уничтожение вызывает сладкие спазмы, эволюция начинается заново. Коза едет верхом на Годзилле – вряд ли кто-то еще сможет ее обуздать. Тощая дикарка смеется, как валькирия, волосы развевает ветер. Дети сидят на плечах чудища. Годзилла шагает, сотрясая землю, поливает руины Кремля голубыми лучами из разинутой пасти, танки и солдатики с оружием разлетаются в разные стороны. Олег издевается над крахом диктатуры, задумывая свою собственную. Хорошо поставленный голос разносится по округе. Я планирую свергнуть его за миг до того, как он решит стать очередным тираном. Мы никогда не сдаемся. Головы катятся на танцпол.
Август 2011 – июнь 2012
Примечания
[←1]
Ульрика Мария Майнхоф (1934 – 1976) – западногерманская террористка, журналистка, педагог, социолог и теледокументалист, общественный деятель, одна из лидеров и теоретиков «Фракции Красной Армии» (РАФ).
(обратно)[←2]
Афроамериканская организация, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего населения. Была активна в США с середины 1960-х по 1970-е годы.
(обратно)[←3]
Процесс по делу о художественной выставке «Запретное искусство-2006», проходившей с 7 по 31 марта 2007 года в Музее и общественном центре имени Андрея Сахарова. Куратор выставки – искусствовед Андрей Ерофеев. По итогам выставки Ерофееву и директору Музея Юрию Самодурову было предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (разжигание религиозной вражды).
(обратно)[←4]
А.С.А.В. (англ.: all cops are bastards – все полицейские – ублюдки) – известный клич радикалов.
(обратно)[←5]
Толоконникова Надежда Андреевна – участница панк-группы Pussy Riot, во время описываемых событий – участница арт-группы «Война».
(обратно)[←6]
Станция метро «Пушкинская» в Москве.
(обратно)[←7]
Жуан Карлус Маригелла (5 декабря 1911 — 4 ноября 1969) — политический деятель Бразилии, руководитель Бразильской коммунистической партии до 1967 года.
(обратно)[←8]
Движение сопротивления имени Петра Алексеева – леворадикальная политическая организация в РФ, созданная в 2004 году по инициативе петербургского журналиста и политического активиста Дмитрия Жвания.
(обратно)[←9]
Объединённое демократическое движение «Солидарность» (ОДД «Солидарность») — оппозиционное российское общественно-политическое движение.
(обратно)[←10]
Артём Александрович Лоскутов – российский художник, один из организаторов ежегодных шествий «Монстрация» в Новосибирске и фестиваля некоммерческого кино «Киноварь»
(обратно)[←11]
Японский фильм 1998 года.
(обратно)[←12]
Майкл Джон Муркок (18 декабря 1939) – английский писатель-фантаст.
(обратно)[←13]
«Самое большое простое число» – российская музыкальная группа
(обратно)[←14]
Лес и солнце (фр.). «Forêt et soleil» – название цикла картин художника Макса Эрнста (1891-1976).
(обратно)[←15]
«Стратегии 31» – всероссийское гражданское движение в защиту свободы собраний в России. Имеется в виду акция на Триумфальной площади 31.12.2009.
(обратно)[←16]
Песня с дебютного альбома американской певицы Леди Гаги, 2008 год.
(обратно)[←17]
Псевдоним известного английского художника граффити, политического активиста и режиссёра, чья личность не установлена.
(обратно)[←18]
Егор Бычков – руководитель нижнетагильской организации «Город без наркотиков».
(обратно)[←19]
Максим Сергеевич Марцинкевич – российский общественный активист и пропагандист национал-социалистической идеологии, видеоблогер. Является сооснователем общественного движения «Реструкт».В его рамках существует более 10 проектов, в том числе «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами и пропаганда идей национал-социализма среди подростков.
(обратно)[←20]
22 мая 2010 г. на Кремлёвской набережной у поворота на Боровицкую площадь, рядом с Большим Каменным мостом, Леонид Николаев с синим ведром на голове запрыгнул на служебную машину ФСО со спецсигналом и пробежался по её крыше, а потом убежал от выскочившего из автомобиля офицера.
(обратно)[←21]
Томас Стернз Элиот (1888 – 1965) — американо-английский поэт, драматург и литературный критик, представитель модернизма в поэзии
(обратно)[←22]
Песня с альбома «The Soft Parade» (1969) – четвёртого студийного альбома американской рок-группы The Doors.
(обратно)[←23]
Песня Боба Дилана с альбома «John Wesley Harding», вышедшего в декабре 1967. Песня исполняется многими артистами, одна из самых знаменитых кавер-версий записана Джими Хендриксом для альбома «Electric Ladyland» в 1968 г.
(обратно)[←24]
Ночной клуб в центре Санкт-Петербурга.
(обратно)[←25]
Left 4 Dead – многопользовательская компьютерная игра в жанрах шутера от первого лица и survival horror, разработанная компанией Turtle Rock Studios.
(обратно)[←26]
Рэймонд (Рэй) Дэниел Манзарек-младший (1939 – 2013) — американский музыкант, певец, продюсер, режиссер, автор песен, один из основателей и клавишник группы The Doors.
(обратно)[←27]
Джерри Рубин (1938 – 1994) – американский общественный деятель, активист антивоенного движения 1960-х-1970-х, один из лидеров движения Йиппи.
(обратно)[←28]
Алексей Юрьевич Плуцер-Сарно – медиа-художник арт-группы «Война», автор текстов и концепций группы, один из идеологов и художественных руководителей группы, известен также как автор книг, словаря, энциклопедии, научных статей, текстов и блогов.
(обратно)[←29]
Хьюи Перси Ньютон (1942 – 1989) – американский пропагандист и правозащитник, один из основателей Партии чёрных пантер.
(обратно)[←30]
Йохан Хейзинга (1872 – 1945) — нидерландский философ, историк, исследователь культуры, профессор Гронингенского и Лейденского университетов.
(обратно)[←31]
Андрей Викторович Грязев (р. 1982) — российский продюсер, режиссёр документального кино.
(обратно)[←32]
Японская RAF – леворадикальная организация, основанная в 1971 году.
(обратно)[←33]
Главный герой одноименного кинофильма 2000 года.
(обратно)[←34]
Берлинский международный кинофестиваль – ежегодный международный кинофестиваль, проводится с 1951 года в Германии.
(обратно)[←35]
«Алые паруса» — всероссийский бал выпускников средних школ, отмечаемый в Санкт-Петербурге, обычно в субботу, ближайшую к самой длинной белой ночи (ориентировочно 18—24 июня).
(обратно)[←36]
Жюльет Берто (1947–1990) — французская актриса, сценарист и кинорежиссёр.
(обратно)[←37]
Анна Вяземски – французская актриса и писательница из русского княжеского рода Вяземских.
(обратно)[←38]
В мае 1968 г. социальный кризис во Франции вылился в демонстрации, массовые беспорядки и всеобщую забастовку. Привёл в конечном счёте к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля, и, в более широком смысле, к огромным изменениям во всем французском обществе.
(обратно)[←39]
Книжный магазин в Санкт-Петербурге.
(обратно)[←40]
Сандинистский фронт национального освобождения – левая политическая партия Никарагуа. Название «Сандинисты» происходит от имени никарагуанского революционера 1920-30-х годов Аугусто Сесара Сандино.
(обратно)[←41]
Даймё – крупнейшие военные феодалы средневековой Японии. Если считать, что класс самураев был элитой японского общества X—XIX веков, то даймё – это элита среди самураев.
(обратно)[←42]
Фрэнк Винсент Заппа (1940 – 1993) — американский композитор, певец, мультиинструменталист, продюсер, автор песен, музыкант-экспериментатор, а также звуко- и кинорежиссёр.
(обратно)[←43]
“I said, hey, girl with one eye, I'll cut your little heart out ‘cause you made me cry” – строчки из песни британской музыкальной группы Florence and the Machine.
(обратно)[←44]
Арт-клуб в Санкт-Петербурге.
(обратно)[←45]
Дельта-блюз – один из самых ранних стилей блюза.
(обратно)[←46]
Tool – американская рок-группа, образованная в 1990 году.
(обратно)[←47]
«Южный парк» – американский мультсериал, который создают Трей Паркер и Мэтт Стоун.
(обратно)[←48]
Джонатан Энтони Страуд – британский писатель-фантаст, автор произведений для детей и юношества.
(обратно)[←49]
Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации.
(обратно)[←50]
Таисия Витальевна Осипова (1984 г.р.) — активистка незарегистрированной партии «Другая Россия»; в 2011 году осуждена по обвинению в сбыте наркотиков.
(обратно)[←51]
Юрий Михайлович Червочкин (1984 – 2007) — член Национал-большевистской партии (НБП), убит в Серпухове.
(обратно)[←52]
Захар Прилепин – российский писатель, член Национал-большевистской партии с 1996 года.
(обратно)[←53]
Варианты перевода слово corruption с английского языка – разрушение, гниение, упадок и развращенность и т.д.
(обратно)[←54]
Дэн Абнетт (1965) — британский писатель и комиксист.
(обратно)[←55]
Warhammer (англ. Молот войны) — сеттинг (среда, место действия), созданный в 1982 году сотрудниками компании Games Workshop для одноимённой военно-тактической игры.
(обратно)[←56]
Известный блоггер в Живом Журнале.
(обратно)[←57]
Конрад, Д. Сердце тьмы и другие повести. – СПб. : Азбука-классика, Азбука, 2011 г.
(обратно)[←58]
Песня американской инди-рок-группы Yeah Yeah Yeahs
(обратно)[←59]
Американский кинорежиссер и кинопродюсер.
(обратно)








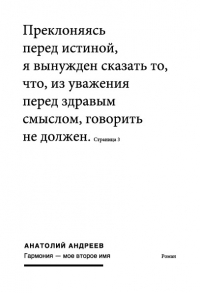



Комментарии к книге «Кодекс», Жанна Михайловна Пояркова
Всего 0 комментариев