Ханс Кайльсон Смерть моего врага Роман
Предисловие (к изданию романа на нидерландском языке)
Я пишу это предисловие, пытаясь разобраться в сомнениях, охвативших меня. Чем они вызваны? Фактом переиздания книги, впервые опубликованной в Нидерландах лет двадцать назад? Новым столкновением с текстом, начатым в 1941-м и потом закопанным в саду? Или это тени прошлого накладываются на тени, отбрасываемые настоящим? В новом издании не изменено ничего по сравнению с первым, ни единого слова, ни одного предложения.
И это кажется мне совершенно правильным. Ничего не изменилось: время прошедшее остается временем выстраданным. По сей день. Никакие сомнения не могут этого опровергнуть.
1982 г.Опубликованные здесь заметки мне передал после войны один голландский адвокат. По его словам, он сам получил их от одного из своих клиентов, человека лет тридцати, который иногда консультировался с ним по разного рода безобидным вопросам обычной адвокатской практики. К тому времени война продолжалась уже два с половиной года. Отношения между ними никогда не были настолько доверительными, чтобы оправдать этот жест. Так что, вручая своему консультанту пачку исписанной бумаги, молодой человек должен был предварительно объяснить, что некоторое время будет вынужден скрываться ради своей безопасности, что хранение этих бумаг ничем не угрожает теперешнему владельцу и что хранить их можно где угодно. Однако же, адвокат почел за лучшее закопать их вместе с собственными вещами и вещами других клиентов под своим домом, где они благополучно пережили войну. Большинство закопанных документов были возвращены владельцам, но эти записки так и остались лежать в секретере адвоката.
— Вот, — сказал он, передавая мне грязный, мятый сверток. Шрифт местами расплылся, словно бумага долго пролежала в воде.
— Но тут же все по-немецки, — изумился я.
— Прочтите, — коротко возразил он.
— Значит, это писал не голландец, — сказал я.
— Нет. Прочтите и скажите мне, что вы об этом думаете.
Я начал расспрашивать об авторе, но он уклонился от ответа. Я знал, что он великолепно владеет немецким, и предположил, что он сам и есть автор записок. В ответ на мои осторожные вопросы он лишь рассмеялся и повторил:
— Прочтите, пожалуйста.
— И что потом? — продолжал допытываться я.
— Не знаю. Может быть, вы что-нибудь придумаете.
— А это не мистификация?
— Нет, нет, — поспешил заверить он. — Убедитесь сами. Эти записки, без сомнения, следует толковать как попытку сочинителя разобраться с очень личными проблемами своей судьбы. Но вы сначала прочтите, а потом мы побеседуем на сей предмет. Он был жертвой нацистского режима.
— Все мы были жертвами.
— Вы вернете мне бумаги?
Он закрыл ящик секретера. Мне хотелось продолжить свои расспросы, но он торопился, и я не стал его задерживать.
— Это спешно? — спросил я.
— Нет, — ответил он. — Вы всегда найдете меня здесь, в моей конторе.
Мы распрощались.
Вскоре он позвонил мне, чтобы узнать адрес одного общего знакомого, неожиданно снова появившегося в городе.
— Ну и как? — спросил он.
— У меня пока не было времени, — ответил я.
— Спешить некуда. Мы увидимся?
— Я занесу вам бумаги! — сказал я.
— Хорошо, — ответил он со смехом.
Я прочел их за несколько дней.
I
Вот уже несколько недель, как я целыми днями думаю только о смерти. Встаю рано утром после бессонной ночи, хотя обычно люблю поспать подольше. Я давно уже не чувствовал себя таким сильным и готовым к схватке. Я приветствую день, ведь он снова рождает во мне мысль о смерти. С каждым вдохом эта мысль все глубже проникает в самую скрытую глубину моего существа и заполняет его целиком. Смерть водит моим пером, смерть! Одному Богу ведомо, какое событие отложило в моем мозгу зародыши этих мыслей. Они формировались и созревали незаметно, но в один прекрасный день вылупились и предстали моему сознанию во всей своей непреложности. Ага, подумал я, когда впервые во мне всплыла мысль о смерти. Я приветствовал ее, как приветствуешь старую знакомую, которую собрался долго ждать на перроне, а она приезжает следующим поездом. На самом деле ты не так уж и жаждешь встречи, и приезд кажется тебе все-таки преждевременным и застает врасплох.
Раньше, слушая других людей, рассуждающих о смерти (а люди обожают разговоры о том, что они называют своим последним часом), я иногда ловил себя на мысли: «А ты, как насчет тебя и твоей смерти?» При этом я преспокойно курил сигарету и пил сладкий чай, смотрел на своих собеседников и чувствовал себя превосходно. И ничего особенного при этом не испытывал. Во всяком случае, я был, так сказать, нейтральным, хоть и заинтересованным слушателем. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Ей-богу, я понятия не имею, что делать со смертью, думал я. Пока что я здоров, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, я молод, все у меня в порядке, и надеюсь, ни для каких великих дел я не предназначен. Все это изменилось с тех пор, как я думаю о смерти. Только и делаю, что сижу; сижу и думаю о ней. Я так переполнен ею, что если бы мне отрубили голову, то мой желудок или правый коленный сустав взял бы на себя мыслительную функцию и, держу пари, додумал бы эту мысль до конца. Настолько я полон, настолько насыщен смертью.
Как она пришла мне в голову? Не помню. Лучше и не пытаться распутывать эти нити, оставить их там, где они сплелись. Представьте, что врач задает вам вопрос, когда вы впервые почувствовали боль в руке? А вы со всей прямотой отвечаете: «Как-то, во вторник, иду я по рыночной площади и встречаю знакомого. Он рассказывает мне, что иногда испытывает легкое покалывание в области плечевого сустава. Может, ревматизм, говорю я. Всякое бывает, думаю. Иду себе дальше, и сам время от времени тоже чувствую легкую, слабую ноющую боль вдоль руки до плеча. Вот она: появилась и исчезла, такая нежная. Может быть, мать именно так ощущает первый толчок ребенка у себя в чреве». Но нет, этого никто не знает. Надо быть дураком, чтобы рассказывать об этом, и идиотом, чтобы этому верить.
Не могу сказать, как в меня угодила мысль о смерти, но могу описать, как я ее ощутил. Как если бы жуткие боли нарушили спасительный ночной сон. Только это была не боль. Меня заполнило нечто другое, намного более чувствительное, чем боль. Я чуть не умер.
Здесь я должен пояснить, какого рода мысль о смерти озарила меня. Я подумал не о своей смерти, не о том, что вскоре или в далеком будущем я умру, эта дурацкая мысль мне чужда, и надеюсь, мне никогда не придется сталкиваться с нею. Мысль о собственной смерти… оставляет меня равнодушным, не волнует, не может меня потрясти. Я не верю, что серьезный человек в состоянии справиться с мыслью о собственной смерти. Это — не мое дело, скажет он, моя смерть — не мое дело, и думать о ней означает укорачивать, уменьшать свою жизнь, а ведь жизнь может оказаться большой, если ты желаешь себе большой жизни. Думать о смерти — значит ставить границы, в которые должна будет добровольно вписаться твоя жизнь. Человек вроде меня (к счастью, я такой не один) живет и трудится изо дня в день с мыслью о том, что так оно и будет беспрерывно и вечно, во имя неба и всех святых, до конца времен.
Мысль о смерти моего врага пронзила меня однажды холодной ночью и заставила содрогнуться. Смерть моего врага… Я продумываю ее благоговейно, ибо я из тех людей, для кого мысль — нечто живое. Смерть моего врага… Я обдумываю и переживаю ее со всей серьезностью и значительностью, эту мысль о враге, которым дорожишь. Смерть моего врага — в любое время суток ей посвящена часть моих мыслей. И это важные мгновения дня, не считая вечеров и ночей, когда мною не владеет никакая иная мысль, кроме этой. Смерть моего врага… да будет благословенна мысль о смерти моего врага. Нужно медленно устремляться ей навстречу, ждать и призывать ее. Так ожидает жениха невеста, по мнению людей, черпающих своеобразное удовлетворение в том, чтобы соединять дело смерти с делом любви. К ней нужно медленно привыкнуть, притерпеться, приспособиться, дабы стать вровень с ней, стать ее достойным. Лишь научившись этому, можно претендовать на формирование своей жизни. Но я видел многих, кто медленно и болезненно привыкал к собственной смерти, но не выдерживал смерти друга.
Я знал очень немногих, кто дорос до смерти врага. С тех пор как меня захватила эта мысль, жизнь моя устремилась ввысь, к некой цели. Я никогда не искал этой цели, не думал, что она может быть мне уготована. Ах, как убого жил я до тех пор, пока не узнал, какая цель на земле вообще может быть уготована человеку. Чего стоят все прочие цели, которые столбят себе сами люди. Они заблуждаются, полагая, что счастье, любовь, ненависть смогут отвлечь их от пошлого остатка, пустой оболочки, которая остается в виде тела, лишенного души. Никакая, пусть самая великодушная, ложь не может загасить пожар, раздуваемый смертью в простых душах в час вынесения приговора. В воздухе раздается шорох, как при падении старого мощного дерева, в сияющую прозрачность зимы со свистом летит стрела… Моя душа торжествует, мой враг вступает в белую страну смерти.
При жизни он знал, что он мне враг, а я враг ему, так пусть же в свой смертный час он вспомнит, что моя мысль о его смерти достойна нашей вражды. Я и сейчас не отрекусь от нее ни на йоту. Она останется нашей вечной собственностью даже в его последний час. Я обязан ей тем, что она наполнила нашу жизнь.
Мой враг прошел долгий путь, прежде чем нашел свой конец. Его путь казался стезей бессмертного, ибо вел от победы к победе, к множеству триумфов. Путь вел и через низины, болота и топи, где кишат и копошатся тайные пороки, где воняет убийством, болезнями и подлостью — как и в жизни простого смертного вроде меня. Сегодня он пережил свой величайший триумф: он вступает в белую страну своей смерти. Но мне пришлось пройти еще больший путь, прежде чем я, свободный ото всех мелочных поводов, к которым так любят прибегать месть и ненависть, встретил его на его последнем пути. Еще и сейчас искра ненависти и мести таится в моих мыслях, где пролегает борозда враждебности. Хотел бы я вытравить из моих мыслей этот последний след, эти сладострастные ответвления и корни злорадства и ярости. Хотел бы, но не могу. Вот он я, сижу и жду, а он вступает в свою смерть, слышите, он вступает в свою смерть! Нельзя вырезать из лица морщины, как вырезают гнилые места из яблока. Морщины нужно носить на лице и знать, что ты их носишь, нужно каждый день, умываясь, видеть их в зеркале. Нельзя их вырезать, их место на твоем лице. Но несмотря ни на что, это торжественное ожидание, полное радости и печали и воспоминаний и прощаний и расставаний навсегда.
Я не желаю ему смерти, как желают кому-то чего-то дурного. Или как желают своему врагу подохнуть, чтобы спихнуть его со своей шеи.
Люди ошибаются, полагая, что смерть — это разновидность наказания. Должен признаться, что и я долгое время разделял это заблуждение. Я так ненавидел, так сильно желал отомстить. Не только за себя, за лично мне принесенное горе, которое я ощущал как исключительно мою крупную собственность. Я хотел отомстить и за других, за моих соплеменников, страдавших точно также, как я. К счастью, я вовремя осознал нелепость этой мысли. И осознал я ее тоже благодаря моему врагу.
Мой враг (я буду называть его Б.) вошел в мою жизнь ровно двадцать лет назад. Я помню. Тогда я еще смутно представлял себе, что значит быть врагом, и еще меньше, что значит — иметь врага. До врага нужно дозреть, как нужно дозреть до лучшего друга.
Я часто слышал, как отец с матерью говорили об этом, обычно шепотом. Так говорят взрослые, чтобы не услышали дети. В их разговорах звучала какая-то новая доверительность тона. Они говорили, чтобы скрыть что-то. Но у детей чуткий слух, дети учатся распознавать секреты и страхи старших и вырастают на них. Отец сказал:
— Не дай Бог, Б. придет к власти. Что тогда нас ждет?
Мать отвечала спокойнее:
— Кто знает, может, все обернется иначе. Не такая уж он большая шишка.
Я как сейчас вижу перед собой эту картинку: они сидят рядышком и беседуют.
Отец, маленький полноватый сгорбленный человек, сидит в кухне на низком стуле, опираясь локтем на край шкафа, занимающего всю стену. Его круглая голова склонена набок, вся ее тяжесть приходится на растопыренные пальцы. Он сказал то, что сказал, но наклон его головы производит такое впечатление, будто он преклонил другое ухо, чтобы внимать некоему посланию. Он прислушивается. Но должно быть, послание, коему он внимает, — печальная весть. Пока он говорит и прислушивается, лицо его выражает беду и скорбь. Как будто в самой глубине лица упал черный занавес, скрывающий лицо и одновременно служащий фоном для всего, что растянуто над ним и перед ним. Снаружи — по мышцам, коже, волосам — скользит движение, иногда даже улыбка. Но каждый раз, глядя на это лицо, понимаешь: на той глубине, что за ним, под ним, таится беда, прячется скорбь.
Его жена, моя мать, сидит напротив, прислонившись к столу и слегка подавшись вперед, в узкое пустое пространство кухни, образующее между ними как бы коридор, наполненный жужжаньем одинокой мухи. Мать смотрит на отца сверху вниз, а он съежился на своем стуле, как ребенок, он даже меньше ребенка, ведь он взрослый. Вот так же она бесчисленное множество раз нагибалась ко всему и вся, что было меньше ее и слабее, не замечая, как ее тело само принимает эту склоненную позу симпатии, хотя и выглядит еще стройным и молодым. Она знает, что он не слушает, не вникает в смысл ее слов, что, сколько ни стучи по этому занавесу, его не пробьет ничто извне. И только этот ее наклон в пустое пространство кухни достигает его. Своим трудом он умеет разбивать время на множество мелких частей и, затаив дыхание, останавливать движение и все-таки оживлять его в самой его неподвижности. Он чувствует движение к себе, истолковывает его и извлекает из него то, что другие черпают из слов.
Он поднялся из своей темной фотокомнаты, где в больших стеклянных кюветах ополаскиваются снимки, пока на них не проявится изображение, и ринулся в кухню, где никого не было. Он сел на самую низкую табуретку, жена услышала, что он в кухне, и пришла к нему.
Кухня — самое холодное место в доме, заставленное гладко обструганной мебелью зеленого цвета. Вешалка для полотенец прикрыта белой гардиной с синей вышивкой, а по карнизу стеллажа тянется полоса белых кружев. Все холодное и словно вылизанное. В центре висит белый абажур на коричневом шнуре. За спиной отца длинная выцветшая желтоватая занавеска маскирует две деревянные дощатые полки с обувью, а под ними на полу в углу лежат старые газеты.
В этот момент в помещение входит ребенок. Он услышал за дверью голоса, выражавшие что-то, скрытое за словами. Это возбудило его любопытство и привлекло в кухню.
Кухня для ребенка — место удовольствия и сладких секретов, приятных сюрпризов. Больше всего ему нравится совать в них пальчики, а потом их облизывать. Но кухня — не место для серьезных разговоров.
Я не знаю, с чего начался разговор родителей. Но помню не только слова, потому что впервые на моей памяти было произнесено имя, которое мне суждено было не забывать больше никогда. Ведь слова часто совершенно неважны. Даже если их забудешь, помнишь всю картину: двое в вылизанной холодной кухне, он сидит, опираясь головой на руку с растопыренными пальцами, она стоит, а между ними узкое пустое пространство, куда провисает ее тело. А еще вспоминаешь то общее, ту неотвратимую угрозу, что неудержимо проникает в обоих. Он — весь в ожидании, устремлен ей навстречу, словно ищет в ней убежища. Она противится ей, бунтует, готова сразиться с ней, померяться силой. Угрозой заполнена вся картина целиком и каждый ее фрагмент, каждая складка выцветшей занавески, перед которой сидит отец; муха, что кружит вокруг лампы и измеряет своим жужжаньем пустое пространство между двумя людьми. Угроза разлеглась на чистом выскобленном деревянном полу, спряталась за закрытыми дверцами шкафа и в выключателе у входной двери. Неотвратимая угроза лежит во всем, и всякая мелочь в отдельности, стоит только припомнить ее, тянет за собой другую и сгущается в нечто целое, что осталось глубоко внутри воспоминания и все еще там остается. Это не страх, это намного сильнее и ощутимее страха. Оно возникает в тебе, и ты чувствуешь, как оно медленно приближается и давит тебе на плечи. Это реальность. Можешь ее оттолкнуть, отпихнуть, укусить. Это такая же реальность, как выключатель и муха и старые газеты в углу за занавеской.
И все это было впечатлением нескольких секунд, когда я вошел. Они произнесли еще несколько фраз. При этом отец испытующе смотрел на меня, как бы серьезно размышляя именно обо мне. Темнота в его глазах исчезла. Мать отклонилась назад и улыбнулась.
— До этого еще дело не дошло, — сказала она. — Мало ли что.
Отец вынул из кармана спусковой тросик фотоаппарата и принялся вертеть его в руках.
— Сегодня я сфотографировал кошку с собакой, — сказал он.
— Да, — радостно воскликнул я. — Они помирились?
— Нет, — ответил он с усмешкой.
— А как же тогда ты снял их?
— Сейчас расскажу. Приходит ко мне в ателье одна дамочка. В одной руке держит поводок, а на поводке красивый огромный дог. На другой руке у нее висит корзинка с шиншилловой кошкой. Вот, говорит, тут у меня Бютси и Хютси. Хочу их сфотографировать. Это самые послушные животные на свете, они уже год как живут вместе. Это наши детки, только они дружнее, чем брат с сестрой. У мужа скоро день рождения, он хочет их фотографию, и чтобы они мирно сидели рядышком. Вот я и хочу подарить ему такой снимок, понимаете? На память.
— В каком смысле — на память?
— Ну, на память о том, что в этом доме мирно уживаются собаки и кошки.
— Ты у нас любитель выдумывать истории, — рассмеялась мать и погрозила отцу пальцем.
— Но это не выдумка, а настоящая история, — защищался отец.
— Но ведь они не помирились, — вдруг вмешался я. — По крайней мере, ты сам так сказал.
— Вы не дали мне договорить. — И он продолжал:
«Женщина вынимает из корзинки кошечку и опускает ее на пол. Пес садится на задние лапы, потом встает и добродушно бродит по помещению. Кошечка забирается под стол и начинает умываться. Я тем временем беседую с дамой на предмет размеров снимка и количества отпечатков. Она заказывает такое количество копий, словно собирается подарить по одному снимку на память всему семейству и всем друзьям. Мы договариваемся о цене. Я продумываю композицию. Пусть будет простое фото.
— Может быть, поставим на заднем плане столик с цветами? — спрашиваю я.
— Ах да, — отвечает она, но быстро передумывает. — Ах нет, просто фото их обоих, цветы будут только мешать.
Я придвигаю низкое кресло, набрасываю на него желтое покрывало, женщина выманивает из-под стола кошечку, сажает ее на кресло, кошечка мурлычет, тут подбегает пес и по приказанию хозяйки садится на задние лапы. Я устанавливаю лампу, включаю потолочное освещение, навожу на группу два маленьких прожектора, чтобы получить нужный свет. Женщина стоит рядом с животными и ласково с ними разговаривает. Но тут кошечка спрыгивает с кресла. Пес остается сидеть на своем месте и с интересом смотрит на кошку.
— Бютси, иди сюда, — зовет женщина.
Бютси идет на зов, хозяйка снова усаживает ее на кресло, какое-то время кошка сидит спокойно, вытягивает шею, смотрит вверх с таким видом, словно хочет привести в равновесие усы под носом и над верхней губой, неспокойно зыркает направо и налево и снова спрыгивает с кресла. В этот момент женщина кричит:
— Ах, я забыла повязать ей бантик! — И начинает рыться в своей сумке. — Неужели я забыла ленточку? Нет, вот она, иди сюда, Бютси, иди, давай я повяжу тебе бантик, ты же должна быть красивой, когда тебя снимают.
Кошечка уже снова забралась под стол и теперь осторожно и торжественно выбирается из-под него. Женщина наклоняется и повязывает ей ленточку вокруг шеи. Потом снова усаживает кошку в кресло, но в тот момент, когда хозяйка выпускает из рук тельце животного, Бютси собирается снова спрыгнуть с кресла.
— Ну же, Бютси! — кричит женщина. Она уже немного раздражена. Слегка прижимая Бютси к креслу, она оборачивается ко мне и спрашивает, долго ли все это будет продолжаться. Она явно нервничает и сомневается в успехе задуманного представления.
— Я готов, — говорю я. — Только вот подключу этот кабель.
— У вас тут слишком много света, — возмущается женщина. — Это ее нервирует».
Отец прерывает свое повествование и насмешливо смотрит на меня.
— Мамы тоже всегда представляют своих детей паиньками, а когда те расшалятся при всем честном народе, приходится находить оправдание их дурному поведению. Разве не так?
Он замолчал, склонив голову набок и чуть прищурив поблескивающие глаза. Как будто ожидал аплодисментов. Он любил время от времени пускаться в такие общие рассуждения. Делать вид, что высказывает известные всем истины, хотя каждому из нас были понятны его намеки. Но за многие годы мама научилась пропускать его шпильки мимо ушей. Она тоже молчала, всем своим видом показывая, что ждет продолжения захватывающей истории.
«Итак, — продолжал он, принимая прежнюю позу, — женщина всячески защищает свою кошку, а сама при этом краснеет до ушей. И тут я вижу, что и сама она расфуфырилась так, словно хочет попасть на фото.
— Не угодно ли вам взять кошечку к себе на колени? — спрашиваю я.
Она медлит с ответом, потом спрашивает:
— Вы думаете?
— Разумеется, — говорю я. — Тогда ваш муж получит на одной фотографии все, что он любит.
— А сколько это будет стоить?
— Это не будет вам стоить ни на пфенниг дороже.
Она все еще колеблется, медленно отходит от кресла, задумывается, смотрит на животных, смотрит на меня и молчит. Тем временем Бютси все еще сидит на кресле, а я проверяю первую наводку на резкость.
— Ах нет, — говорит она. — Только звери, как оно и есть в действительности.
И вдруг дог, который все время спокойно и комфортно сидел на задних лапах, наблюдая дурное поведение кошки, широко раскрывает пасть и зевает. Потом поднимается, несколько раз поворачивается кругом и снова усаживается. Но на этот раз спиной к аппарату. Бютси взирает на него с изумлением.
— Хютси! — сердито кричит женщина с того места, куда она скромно отступила, подбегает к животным, хватает пса за ошейник и поворачивает его мордой к объективу. Ее нервозность так велика, что передается животным. Бютси снова прыгает под стол, а Хютси путается в складках какой-то занавески. Бютси вспрыгивает на бесполезный прожектор, Хютси стоит перед большим окном, выглядывая наружу, хозяйка тщетно пытается лаской и угрозами вновь добиться благосклонности животных. Она подкрадывается к ним, топает, прыгает, носится по всему ателье, а звери бесшумно и торжественно выражают свой протест, не желая изображать противоестественный домашний мир. Возбужденная беспомощная женщина, потея от обиды, разочарования и света мощных ламп, оглашает тишину возгласами типа: „Ах, Хютси“, „Иди сюда, Бютси“, „Ах нет!“, „Иди на место!“, „Иди к своей мамочке!“ и беспрестанно уверяет, что дома они мирно уживаются друг с другом.
— Наверное, их беспокоят эти лампы, они к ним не привыкли. Придется мне придумывать новый подарок для мужа!»
— Если бы ты дал кошке молока, — говорю я, — то смог бы ее сфотографировать, а так… Вот досада!
— А я ее все-таки сфотографировал, — многозначительно произносит отец.
— Правда? — ликую я. — Расскажи, как ты это сделал?
— Идем со мной, — сказал он. — Я покажу тебе как.
— И потом покажешь мне, — сказала мать и вышла из кухни.
Мы прошли через ателье, где еще стояло кресло и осветительные приборы. Свет был выключен.
Искусственный свет не такой, как солнечный, и темнота фотокомнаты не такая, как темнота ночи. Пройдя через ателье, куда со всех сторон вливается свет, ты оказываешься в темной комнате, но снаружи царит день. Как здесь темно, говоришь ты, может, еще и для того, чтобы придать себе немного мужества. Кто знает, какие мысли придут тебе в голову в закрытом темном помещении. Но при этом ты не забываешь, что снаружи-то светло, что там свет и день. Совсем другое дело вечером, когда ты попадаешь из освещенной комнаты в другую, где царит темнота, ведь вечером ты и сам — другой. Вот сейчас ты можешь в любой момент вернуться из этой черноты на свет, стоит только захотеть. Но не тут-то было: ты пришел сам, добровольно, так что оставайся здесь. Снаружи царит день. А ты вошел сюда, и глаза твои ослеплены этой большой темнотой. Она так глубоко забралась в твои зрачки, что на какой-то миг глазам становится больно. И ты зажмуриваешься и ждешь, пока палочки и колбочки там, в самой глубине твоей сетчатки, вновь не придут к согласию. И то и другое, темное и светлое — твое, в тебе, можешь выбирать свет или тьму из одного и того же колодца, смотря где ты находишься — на свету или в темноте. Когда ты снова открываешь глаза в фотокомнате, твои глаза замечают в углу светящуюся точку, она красная. Сначала ты не заметил ее, в такой тьме, но теперь ты ее видишь. Она висит посреди черноты и испускает слабое матовое свечение, которое лишь углубляет темноту, делает ее зримой. Ты хватаешь ее темнотой своих глаз и носишь с собой в своем теле и руках, но и она носит тебя с собой, напоминая, что слово Творца может быть произнесено в любой момент. А в тебе тишина и темнота и биение сердца.
— Иди сюда, — говорит отец, и я вижу в этой матовой мгле, как он выуживает из большой кюветы темную пластину, с которой стекают капли жидкости, и подносит ее к красной лампочке. Слабый свет выхватывает из темноты его фигуру, так что я могу следить за его движениями, когда он полощет пластины. Я слышу его голос, и после долгого молчания он кажется мне более низким и глубоким. Сердце мое замирает от страха и восторга. Оно замирает всякий раз, когда я оказываюсь наедине с ним как-то по-другому, а не днем в светлой комнате. Ибо каждое великое деяние творится в темноте, потом его можно вынести на свет и снова унести во тьму, но творится оно во тьме.
— Собака, — говорю я вполголоса.
— Это Хютси, — говорит он.
— А здесь? — показывает он новую пластину.
— Бютси! — кричу я. — Значит, ты их все-таки снял?
— Но каждого отдельно.
— Они не помирились, — говорю я. — А что теперь?
— Я переведу обоих на одну пластину и отпечатаю. И на снимке Хютси и Бютси мирно усядутся рядышком, как они сидят дома. Вот и получится подарок ко дню рождения.
Обе пластинки снова лежат в большой стеклянной кювете. Я смотрю на него, и мне кажется, что в темноте стало светлей. Я различаю его лицо, в плотных чертах которого залегло что-то торжествующее. Он больше не тень, он снова стал фигурой.
И тогда я говорю:
— Вообще-то это все вранье, ведь они же не сидели здесь вместе.
И хотя мои слова вроде бы содержат только критику, он вызывает во мне все большее изумление.
— Ну и что? — говорит он удивленно. — Это называется фототрюк.
— Но ведь это неправда, — упорно повторяю я. — Ты думаешь, что поступил очень остроумно, а по сути, смошенничал!
— Ну и что? — сердится он. — Говорю же, это трюк. Ты еще не понимаешь.
В комнате снова стало темно. Он выключил красную лампочку.
— Идем!
Я чувствую, как он хватает меня за плечи и толкает в темноту, вдоль черных занавесей на стенах, по извилистым проходам, куда снаружи падают пылинки света. Потом по струне-карнизу с перезвоном скользят колечки, черный занавес отодвигается в сторону, и мы оказываемся на свету. Яркий дневной свет заливает все вокруг.
Я чувствую, что в чем-то виноват, что должен что-то исправить, и спрашиваю глухо:
— Можно мне посмотреть, как ты это сделаешь?
Он не глядит на меня, смотрит в окно на палисадник перед ателье и обиженно произносит:
— Нет!
«Не дай Бог!» Эти слова отца еще долго преследовали меня. «Не дай Бог…» Кто был этот человек? Почему отец молил Бога защитить нас от него? Почему не мог говорить о нем без дрожи?
Однажды, застав отца одного, я спросил его об этом без обиняков.
На сей раз он выслушал меня спокойно.
— Б. — наш враг, — сказал он, задумчиво глядя на меня.
— Наш враг, — недоверчиво повторил я.
— Опять ты со своими историями! — крикнула мать из соседней комнаты. Голос ее дрожал.
— Он меня спросил, и я ему ответил, — крикнул отец.
— Не забывай, что он еще ребенок!
— Но он поймет, — сказал отец. — Разве не так?
Мать молчала.
— Наш враг? — недоверчиво переспросил я.
— Да, твой враг, и мой, и многих других людей! — Он громко рассмеялся, и я подумал, что он смеется надо мной. Углы его губ опустились, он глядел на меня пренебрежительно.
— Ну хватит! — снова раздался голос из соседней комнаты.
— Почему?
— Ты вовсе не обязан отвечать ему на каждый вопрос! Иди погуляй, малыш, — добавила она.
Я продолжал упорно глядеть на него.
— И мой? — спросил я. — Ноя же его не знаю, а он меня знает?
— Разумеется, и твой. Боюсь, мы с ним познакомимся.
— Но почему? — настаивал я. — Что мы ему сделали?
— Мы… — ответил отец.
И замолчал.
В комнату вошла мама.
Какое отношение имел этот ответ к моему вопросу я так никогда в общем и не понял. Все глубокомысленные и взвешенные объяснения, услышанные мною позже, казались мне скорее бредом.
Я никогда не спрашивал отца, как же тогда обстоит дело с милостью Божьей? Потому что ощущал в его словах злобу и всю горечь, с которой он пытался преуменьшить какую-то большую опасность. Тщетно. Но уже тогда я понял, что Б. — враг могущественный и может стать еще могущественней. И противостоять ему может только Бог со Своей милостью. Одного я не постигал: кто был он, кого отец считал нашим врагом, и кто такой Бог, о чьей милости говорил отец. Я не знал ни того ни другого. Но они оба существовали.
— До этого еще не дошло, — ласково улыбаясь, внушал мне отец, так как правильно истолковал мое молчание. Но мне показалось, что этими словами он скорее пытался успокоить себя самого.
Мне было тогда десять лет, и с этого момента моя юность отбрасывала двойную тень, которую накликал своими словами мой отец. Тогда я еще не догадывался, какой она станет огромной. Я лишь ощущал, что в мою жизнь вдруг вошло нечто чуждое, чего я не смог бы описать словами. Мое детское чистосердечие было травмировано. Эта легкая царапина с годами превратилась в рану. Рана расширялась, все глубже проникала в плоть и не затягивалась.
II
Я еще раз перечитал мои записки и ужаснулся. Я не хотел бы вызвать подозрение, что сижу здесь и сочиняю роман. Я освоил много профессий и заплатил за обучение много денег, но никогда не учился на писателя.
А еще я учитель физкультуры. Мне легче держать в руках не ручку, а мяч или ядро. Я не наловчился выражать свои мысли и чувства в доходчивых фразах. Моей наблюдательности не хватает терпения ждать, пока возникнет завершенная картина. Меня привлекает деталь, ее легче освоить и осмыслить. Я бегу по короткой дорожке спринтера.
Но когда однажды я превозмог себя и набрался терпения, то вскоре заметил, что ноги несут меня по более длинной дистанции. Мне никогда не изменяло дыхание, не говоря уж о сердечном ритме. Но я бросил это дело из-за скуки. Моей выносливости не хватает фантазии. К тому же я ненавижу процедуру. Мой отец был фотографом. Роман или повесть так же, как фильм, состоит из отдельных кадров, вырванных из единства времени. Смонтированные кадры должны создавать (и на самом деле создают) впечатление непрерывного действия. Меня поймут, если я объясню, что мне осточертели всякие трюки. Я читал работы солидных специалистов, называющих себя психологами. Они утверждают, что наш человеческий разум нуждается в этих шулерских фокусах. Что без них нельзя постичь действительность, нельзя найти правильное к ней отношение. Пусть так. Меня же интересует единственное движение, непрерывно происходящее в мире, — движение одухотворенного тела. Все прочее — реальность, оторванная от природы. Понятия — ее роскошный гроб. Я делаю не что иное, как записываю то, что приходит мне в голову и волнует меня.
Через несколько недель мне придется принять решение, последствия коего пока что неопределенны, ибо я ожидаю достичь всего. Если я приму некое решение, то передам эти записи кому-нибудь из моих далеких знакомых, а после события снова заберу их. Я либо дополню их описанием произошедших тем временем вещей, либо уничтожу. Я уверен, что вынесу все, что снова появлюсь, возможно, со шрамами от полученных ран. А если я не вернусь (эту возможность тоже нужно учитывать), любой владелец рукописи сможет бросить ее в печь. Если ему не придется сделать это еще раньше. Во всяком случае, я буду рассчитывать на помощь и расположение будущего хранителя, не называть имен, избегать прямых намеков и придерживаться, насколько возможно, общих утверждений. Если у него найдут мои записи, это не должно ему ничем грозить. К счастью, в этом мире, под любыми небесами, имеется много врагов. Каждый может иметь в виду каждого, только умей браниться. И если я напишу, что на земле всегда будут враги, я только повторю пошлую истину. Враги будут всегда, они рекрутируются из бывших друзей.
Я тешу себя тайной надеждой, что будущий владелец не уничтожит мою рукопись. Сначала он сам ее прочтет, покажет кое-кому, и в результате кто-то другой украсится моими перьями и схлопочет предназначенные мне пощечины. Мое честное признание, что я не собираюсь сочинять роман, будет сочтено обычным банальным трюком. Мне все равно. Я пишу, потому что, водя пером по бумаге, я снимаю напряжение и доставляю себе удовольствие. Мною движет не скука. Обстоятельства таковы, что мне лучше оставаться в комнате и реже показываться на улице. Я пишу, потому что мне запрещен вход на спортивные площадки и посещение бассейнов. Писать — это как бы заниматься комнатной гимнастикой en miniature.
Кроме того, я одержим одной идеей, каковую, однако, неразумно исповедовать публично. Идея состоит в том, что меня убьют свои. Мне самому она не кажется из ряда вон выходящей. Одержимость висит в воздухе, вот он друг, вот он враг. В назначенный час это не помешает мне выполнить свой долг. Любого человека можно выбить из седла. Думаю, я езжу верхом не хуже других. Другой вопрос, умею ли я так же хорошо стрелять, как они.
Раньше меня мог бы задеть упрек в том, что я перебежчик, шпион. Но не теперь, когда я добровольно признаю причины своей нерешительности.
Некоторая беспомощность в сердечных делах кажется мне слабостью. Как будто я проиграл соревнования, пропустив тренировку. Но я вышел на бой. Бывают более сильные характеры со скрытыми слабостями, они скорее заслуживают упрека в трусости. Я не собираюсь скрывать неуравновешенность моих мыслей и настроений, но и не хочу особенно кичиться своими метаниями. Это так утомительно — постоянно опасаться самого себя. Может быть, и меня охватило безумие, вызванное какой-то внутренней потребностью. Но может быть, оно излечит от того смятения, для которого у меня нет названия. Даже если оно окажется неуязвимым для логики, я попытаюсь разгадать хитросплетения, в которых запутался. Я рискую совершить ошибку, переоценивая серьезность и важность тех, кто относится ко мне с незаслуженным пренебрежением. И, только поняв смысл этого презрения, я пойму, что держит меня на плаву или в конце концов погубит.
Я уже говорил, что отец мой был фотографом. Он пришел к этой профессии, потерпев фиаско во всех прочих. К несчастью для меня, как фотограф он преуспел. Если бы не это, многое могло сложиться по-другому. Его фототрюки вселили в мою детскую душу глубокое беспокойство, но это я понял намного позже. Вначале я думал, что он отличный мастер своего дела, а позже не находил слов, чтобы выразить свое пренебрежение к его ремеслу. В конечном счете он и в нем потерпел фиаско, но слишком поздно для меня. Хотя причины провала следует искать скорее в общих обстоятельствах времени, чем в его личных качествах, я считаю, что он был не лучше и не хуже, чем любой другой представитель его профессии. Его профессия — это вопрос ретуширования и освещения. Фотограф подсвечивает одни фрагменты и поверхности, чтобы тем легче скрывать и стирать другие. Он добился бы большего успеха, но был слишком совестлив для шулерских фокусов. Своими фотографиями он в простоте душевной говорил людям правду. А они принимали ее за искусство.
— Ему пришлось нелегко в жизни, — говорила мать несколько лет спустя, когда делилась со мной некоторыми секретами, причем у меня не возникло ощущения, что она его выдает. — Ну да, ему нелегко пришлось!
Она вздохнула и устремила неподвижный взгляд в пустоту, как будто он давно умер и жил лишь в ее грустных воспоминаниях.
— У них в семье была куча детей, мать рано умерла, а отец, его отец, был человеком праведным, таким праведным, что у него не хватило духу жениться во второй раз. Самый младший брат пошел по дурной дорожке, ты знаешь эту историю.
Я кивнул. Я ее знал.
— А сколько профессий он перепробовал, сначала учился у часовщика, потом был коммивояжером, потом работал в гостинице администратором, maitre de reception. Все шло вкривь и вкось, открыл танцкласс, прогорел, завел потом прачечную. Теперь вот стал фотографом. Надолго ли?
— Я помню, у нас в лавке была задняя комнатка, ты там сидела и шила шляпы, — сказал я.
— С двумя ученицами, — сказала она. — Я всегда работала, сколько могла.
— И учителем танцев он тоже был?
Представить, что мой отец, толстый лысый мужчина демонстрирует новейшие танцевальные шаги и ритмы, казалось мне абсурдным. Я рассмеялся.
— Он прекрасно танцевал, — сказала она. — Полные люди часто очень подвижны и элегантны. Только он при этом сильно потел. Каждый вечер стоил ему двух рубашек.
Она задумалась. На лицо легла печаль. Она молчала.
Интересно, о чем она сейчас думает, размышлял я. Говорит, что он умеет хорошо танцевать, а сама такая грустная. Что означает эта ее печаль? Не может же она грустить о вещах, которые были хороши давным-давно? И я сказал:
— Никогда не видел, чтобы вы с ним танцевали.
— Я никогда не умела хорошо танцевать! — возразила она, покраснев.
— Он мог бы научить тебя!
Она покачала головой.
Я подумал, что понял ее, и потому поспешил переменить тему, задав вопрос, ответ на который вроде бы не был сопряжен со смущением и стеснением.
— А в гостинице? Почему он не остался maitre de reception?
В тот момент он казался мне вполне подходящим для этой профессии. Я представил себе его в вестибюле гостиницы. Он стоит на плюшевых коврах, важно потирает руки, с низкими поклонами встречает гостей и раздает поручения служащим. На нем полосатые брюки и хорошо сидящий черный сюртук, немного тесный на животе. Мать посмотрела на меня:
— А ты не знаешь?
— Нет, — сказал я. И испугался. — Можешь не рассказывать.
— Нет, нет, — быстро сказал она. — Ты достаточно большой, чтобы знать.
Она помолчала.
— Я думала, ты знаешь об этом деле с… Ах, твой отец всего лишь обычный человек… Ну, сделал маленькую глупость, я всегда думала, что ты знаешь об этом деле с…
Она запнулась, словно хотела еще раз подумать об этом деле.
— С кем?
— Это был директор магазина, — сказала она. — Вроде бы хороший друг твоего отца. Я всегда его предостерегала.
Я чувствовал, как ее захлестывает какая-то волна, волна, накатившая неизвестно откуда, с моря, где полно скал, водоворотов и песчаных отмелей. Где опасно входить в воду, а она стоит на берегу, смотрит на предательскую игру и начинает кричать, но мощь прибоя заглушает ее голос. Зрелище пугает ее так, словно она стоит посреди водоворота. И тогда она начала рассказывать.
— Тот тип хотел присвоить деньги, а отец об этом узнал. А тот называл себя его другом и начал умолять и льстить, пока отец не дал слабину и не попытался вытащить его из этой грязи. Тот тип был мерзавец, просто подонок. Как только он почувствовал под ногами твердую почву, он вывернул дело так, что отец вместе с ним вляпался в ту же грязь. Какая-то история с векселями и тому подобным, я в этом ничего не понимаю.
Она сидела, сгорбившись, ссутулившись, постаревшая, с жесткой горькой улыбкой у рта, как будто он рассказывает ей, что случилось. Случилось то, что она в своем страхе давно уже вобрала в себя. «Ты опять оказалась права, — жалуется он, — опять права».
Но после всего этого у нее уже нет сил слушать, что она оказалась права. Она не желает, не хочет этого слышать. Беспомощный мужчина с пепельно-серым лицом, признаваясь в своей неправоте, ищет утешения в мысли, что она была права: «Зачем я тебя не послушался!» Это ее отталкивает.
Ударить бы его, как он ударяет ее своим признанием и сладострастными излияниями. Вот он стоит перед ней, тяжелый и медлительный, по тонким, извилистым морщинам сбегает пот, он вынимает из кармана носовой платок и размашистыми, торопливыми движениями утирает лицо и шею.
И потом, в который уж раз, он излагает всю историю: как он сам себя подставил, сам себя погубил. Она снова выслушивает его, не прерывая, не перебивая, хотя знает, что и сейчас он что-то утаивает от нее, да и от самого себя. Он уверяет ее и самого себя, что все было именно так, как он рассказывает. Как будто ему необходимо слегка подышать на зеркало и перевесить его, прежде чем решиться в него посмотреть. А что еще остается человеку, когда в нем прорывается бес и дружески толкает под ребро и подстрекает на охоту, где человек — одновременно и охотник, и дичь. Что еще он может сделать, как не подышать на зеркало, чтобы смягчить расплывчатое отражение в затуманенном стекле?
Значит, он совершил маленькую глупость, подумал я. Может, он не заметил, что тот тип был негодяй?
— Он слишком добрый и доверчивый, — сказала мама и вздохнула.
Это объяснение избавляло от бремени, тяготившего ее много лет.
— Расскажи, — сказал я спокойно. — Я хочу знать все.
Она благодарно взглянула на меня. Наконец-то у нее появилась возможность поведать о маленькой глупости, которую совершил мой отец, поскольку он был слишком добрым и доверчивым.
— Я ничего в этом не понимаю, — сказала она. — Была какая-то история с векселями. И был роскошный отель, а этот директор был негодяй. То, что сделал он, было скверно, а то, что сделал отец, было глупо. Глупостью с его стороны было называть негодяя своим другом. И делать вещи, которые делать нельзя, а если они срываются, то их тем более нельзя делать. Дело сорвалось, и он сел в лужу. Спроси у него сам, если хочешь знать точно, а я в этом ничего не понимаю.
Она замолчала.
— И чем дело кончилось? — поинтересовался я. И в тот же момент пожалел, что задал свой вопрос. Понял его бестактность. Вот и ты совершил свою маленькую глупость, подумал я. И одновременно испугался той правды, которую мне предстояло услышать.
— Это стоило нам всех наших сбережений, — сказала она. — Это была единственная возможность уладить это дело.
Я почувствовал облегчение и сказал:
— Слава Богу, обошлось без суда.
Она вздрогнула.
— Разумеется, — ответила она, испуганно озираясь вокруг. — Ведь твой отец — не преступник.
Тут меня осенила одна идея.
— Теперь я понимаю, — продолжал я, — почему он не выпорол меня из-за той истории с почтовыми марками.
Я вдруг припомнил эту историю, которая произошла после приключения с Бютси и Хютси.
— Что за история? — спросила мама. Она все еще была погружена в воспоминания о случившемся и растерянно спросила: «Что за история?»
— С почтовыми марками, — повторил я.
Я был рад переменить тему. Только потом я сообразил, что в истории изменилась не столько тема, сколько главные действующие лица.
— Верно, — припомнила она. — Эта история с почтовыми марками произошла тогда же, правда?
— Да.
— И он тебя не выпорол? — повторила она, словно считала это самым важным во всей истории.
— Нет, — подтвердил я. — Тогда он меня не выпорол.
— А что он с тобой сделал?
— Точно не помню, но, во всяком случае, он меня не побил.
— А он часто тебя бил?
— Да, я думаю, он часто меня бил.
— А тогда не побил? — сказала она. Похоже, ей было приятно лишний раз подтвердить, что тогда он меня не побил.
— Тогда он меня пальцем не тронул, — повторил я.
— Но ты все время об этом думал, не мог забыть, — сказала она. — Кажется, ты очень злишься на него, потому что сейчас только и говоришь о побоях, которые тебе достались. Может быть, ему было просто лень тебя наказывать.
— Наверное, тогда я этого не понял, но потом это произвело на меня большое впечатление. Собственно говоря, я ожидал порки, и, если бы он меня выпорол, мне стало бы намного легче.
— Ему, наверное, тоже, — сказала она. — Я припоминаю. Он совершенно растерялся, когда узнал об этом. Пришел ко мне сразу, как только у него побывал отец Фабиана. Сам бледный, губы дрожат, не говорит, а стонет: «Произошло нечто ужасное, наш мальчик…»
— А ты что сказала? — спросил я.
Только теперь до меня дошло, что она никогда прежде не говорила со мной об этом. И я никогда не испытывал потребности поговорить об этом с ней. Наверное, подумал я, это благодаря ей отец тогда меня не тронул.
— Я не увидела в этом ничего ужасного, для меня это была игра. Ведь такие вещи делают многие дети.
Я был благодарен ей за понимание и хотел ей это показать. Но меня удержало какое-то странное смущение, почти чувство вины, как будто я только что снова поддался похожей игре. Я искал в своих воспоминаниях какой-то поступок, в котором мог бы признаться.
— Но он не мог успокоиться, — продолжала она. — Две ночи не спал. Лежал рядом со мной, и я слышала, как он ворочается в кровати. Потом включал свет, будил меня и спрашивал: «Ведь наш мальчик не станет… Как ты думаешь?»
Она замолчала.
— Не понимаю, — сказал я.
— Он боялся, что ты и он…
— Ах так, конечно, — сказал я. — Теперь я понял, почему он испугался. Собственно говоря, я мог бы сразу понять почему.
— Да, испугался, — повторила она, как будто страх был единственным чувством, которое его оправдывало.
— Зря он боялся, — заявил я немного раздраженно. — Ведь ничего такого вообще нет.
— Чего нет?
— Ну, этой, как ее, наследственности.
— Чепуха, — сказала она. — Конечно, ее нет. Но все всегда боятся, что она есть.
Произошло это в то время, когда все мальчишки и я начали собирать марки. Когда достигаешь определенного возраста, начинаешь что-нибудь собирать. Так положено, и об этом написано во всех книжках. Собирают почтовые марки или рекламные наклейки, обертки от сигар или найденные на улице гвозди, камни или листья деревьев, цветы и пестрых бабочек. Часто этим увлекаются и раньше, в семь, восемь лет, но тогда увлечение быстро проходит. Некоторое время оно поглощает тебя полностью. Это важное занятие, ни о чем другом ты уже не думаешь. Но потом его хватка ослабевает, и внезапно оно исчезает так же быстро, как появилось. Остается лишь воспоминание о какой-то забаве. Вот если ты на несколько лет старше, тогда дело серьезнее. Начинаешь собирать и классифицировать, радоваться приобретениям, старательно их приумножать. Сравниваешь, обмениваешь и внезапно вступаешь в конкуренцию с самим собой и другими. Между вами развивается упорное молчаливое соперничество, которое, однако же, дружески улаживается. Настоящий коллекционер испытывает двойную радость: во-первых, когда может расширять и приумножать свои богатства, а во-вторых, когда он кладет перед собой свой кластер и перелистывает его, страницу за страницей. Ведь в этой книге сосредоточен его азарт и упорство. Бывают коллекции, которые начинались как детская забава, а стали гордостью семьи. Они переходят от отца к сыну, и, когда их вынимают и рассматривают, — это праздник, семейное торжество. Мозг владельца денно и нощно занят коллекцией. Со стороны глядя, не заметишь, что вон тот или этот солидный и весьма серьезный господин, с которым ты ведешь разговор, весьма серьезный разговор, повсюду таскает в бумажнике несколько редких марок; он только что выторговал их у конкурента и неотступно думает лишь о них. Вдруг, посреди разговора, он вытаскивает свой бумажник, вынимает маленький глянцевый конвертик и спрашивает срывающимся от волнения голосом: «А вот это вы уже видели? Можем обменяться, если вам есть что предложить!» Он осторожно показывает несколько почтовых марок, а из портфеля извлекает пузатенький каталог, новейшее издание, чтобы найти нужную страницу с указанием цены, чтобы доказать, что его интересует честная сделка. По сути, марка — это деньги, смазанные клеем деньги или фрагмент великой мировой панорамы, картинка, которую покупают и наклеивают на письмо или бандероль, чтобы можно было послать их по почте. Почтовая марка, как приветствие, путешествует по всему свету. Ты наклеиваешь ее на письмо, а на другом конце глобуса какой-то ребенок, сгорая от любопытства, бережно ее отклеивает.
Я никогда не был страстным коллекционером, хотя в то, пусть недолгое, время был увлечен этими маленькими, квадратными, овальными, продолговатыми, всегда красочными кусочками бумаги с клеем на оборотной стороне. У клея, если его лизнуть, был сладковатый привкус. В первую очередь речь шла только о собирательстве, о приумножении, об обладании. Потом постепенно формировался смысл собирательства, понимание ценности обладания. Ты начинаешь любить то, что коллекционируешь, учишься рассчитывать и сравнивать. Ты принюхиваешься во все стороны, опустошаешь корзины для бумаг, роешься в почтовых конвертах, а иногда на карманные деньги покупаешь в магазине канцелярских товаров эти маленькие, прозрачные конвертики. Или просишь подарить тебе их на день рождения. Я менялся то с одним парнем, то с другим, иногда и с людьми постарше. Меняться со взрослыми — в этом есть особый азарт, когда они, держа эти тетрадочки в больших руках, склоняются к тебе и говорят с тобой самым серьезными образом. Ведь они воспринимают тебя серьезно, как партнера, а не как ребенка. Между вами больше нет разницы, почтовая марка ее устраняет. Иногда у меня было что предложить, и тогда другой, в свою очередь, предлагал мне то, что я искал. Это было так здорово — меняться ценностями, даже если каждый на свой лад старался извлечь из обмена как можно больше выгоды.
Тогда были в моде почтовые марки с надпечатками, на них охотились и стар, и млад. Только что закончилась Первая мировая война, и всеобщая неуверенность тех дней проявлялась в почтовых марках. Самые разнообразные марки снабжались определенными надпечатками. Страсть к надпечаткам заразила всех коллекционеров. Похоже, почтовые ведомства всех стран об этом знали и снова и снова подогревали спрос. Там открывают новую воздушную трассу, здесь — выставку, где-то отмечают какую-то годовщину, и марка получает надпечатку. Тогда это были в основном географические названия: Мемель, Данциг, Бельгия, Африка, Того и т. д. Жирные черные буквы печатались поверх цветных картинок. По маркам можно было изучать историю.
Примерно тогда же ко дню рождения мне подарили маленькую детскую типографию, и каждый день я сразу начинал с того, что делал надпечатки на марках. Я необычайно гордился своей великолепной идеей. Вот и я кое-что изобрел, рассуждал я. А дело-то простое, такое простое, что вроде бы никто другой до него не додумался. А всего-то нужно составить вместе несколько букв, покрасить их на штемпельной подушке в черный или голубой цвет, а потом осторожно в правильном положении прижать к почтовой марке. И когда ты снимаешь штемпель, то видишь слово, влажные буквы сияют, улыбаются тебе, и у марки появляется новое лицо. Может, в этом и есть немного жульничества, конечно, немного жульничества есть, и, наверное, так делать нехорошо. Но идея-то хорошая, ведь надпечатка смотрится почти как настоящая. Я научусь делать их еще лучше, чтобы были совсем как настоящие. Пойду к ребятам и спрошу, не хотят ли они поменяться.
— У тебя есть марки для обмена? — спросят они. — Покажи!
И даже те ребята, которые до сих пор не хотели со мной меняться, не знаю почему, покажут мне свои марки и предложат обмен. Сначала я пойду к Фабиану, он глуповат и сразу не разберется, а потом к другим, не ко всем. А может быть, я пойду только к Фабиану, ведь вообще-то некоторое жульничество в этом есть. Но я получу настоящие марки в обмен на свою, с надпечаткой. Может, она покажется ему красивой, и он будет рад, что раздобыл ее. Ведь он ничего не знает. Но если это дело обнаружится, никто не станет больше со мной меняться. Зато, пока они будут со мной меняться, они будут меня любить. Они же будут думать, что я даю им хорошие марки. Им и в голову не придет, что может быть иначе. И Фабиан будет меня любить, и его глуховатый отец, которому на самом деле принадлежит коллекция.
Я подобрал подходящую надпечатку. Сделать ее было не очень трудно, но разница с оригиналом слишком бросалась в глаза, даже мне. И это заставило меня усовершенствовать свои технические приемы, только и всего. Техническая проблема перевесила моральную и на какое-то время полностью отодвинула ее на задний план. И все-таки иногда я чувствовал себя паршиво.
— Принес марки? — спросил меня Фабиан и открыл свой альбом.
Это была тонкая книжица среднего формата, он вставлял туда марки, прежде чем показать их отцу, а тот потом показывал, какие марки стоило переместить в большой семейный альбом.
— Я их дома забыл, — сказал я робко.
— Ты же еще собираешь? — спросил он.
— Да.
— Почему же ты их не принес? — продолжал он. — Сам же говорил, что у тебя есть новые марки и ты хочешь их обменять.
— Сейчас принесу, — сказал я и встал рядом с ним, собираясь бежать домой.
— А что это за марки? — поинтересовался он.
— Да отовсюду.
— Много?
— Нет, — сказал я. — Я ведь не так давно собираю.
— А твой отец? Он не собирает?
Я ответил отрицательно.
— Ох, — сказал он. — Значит, твой отец не собирает вместе с тобой? А мой собирает.
— Так принести? — спросил я.
— А у тебя есть с надпечатками? — спросил он.
Я колебался.
— Да. Немного есть.
— Давай, неси их, — сказал он.
Я их принес.
Среди этих марок было три различной стоимости, которые смастерил я сам. Я приложил немалые усилия, чтобы они почти совсем не отличались от оригинала. Первые попытки были неудачными, подделка была заметна с первого взгляда, да и следующие были не намного лучше. Искушенный, менее алчный глаз немедленно узнал бы в них фальшивку. Со временем я набрался смелости и хладнокровия. Из многих моих подделок я выбрал три, которые получились лучше всех, и подмешал их в кучку остальных.
— Да у тебя много марок! — сказал Фабиан. — Можно, я выберу что-нибудь для обмена?
— Если у тебя найдется то, что пригодится мне, — великодушно отвечал я.
Я волновался, меня обуревали страх и любопытство. Я перебирал марки, не решаясь взглянуть ему в глаза.
— Ну вот, — сказал он и вытряхнул на стол из большого коричневого конверта целый комок слипшихся в кучу марок. — Это мои, а это твои.
Он аккуратно разобрал комок на отдельные экземпляры и принялся жадно рыться в моих марках. Чтобы показать, что не шутит, что относится к делу серьезно, он притащил пинцет и лупу. Так научил его отец.
Я испугался. Имея лупу, он сразу обнаружит мой фокус, сказал я себе. Но тогда я всегда могу сделать вид, что это была невинная шутка. Возьму эти марки пальцами и разорву, может, он все-таки ничего не заметит.
— А ты видел когда-нибудь альбом Артура? — спросил он.
Своим пинцетом он вытягивал из кучи марку за маркой и внимательно рассматривал их под лупой. Густой завиток на лбу, у самых корней волос, казалось, мешал ему. Время от времени он хмурил лоб и сдвигал завиток, так что он торчал еще упрямее.
— Ох, — продолжал он, — вот у него коллекция! Его отец собирает вместе с ним. А ты что собираешь?
— Все, — сказал я робко.
— Мы собираем только Европу, — сказал он. — Мой отец считает, невозможно собирать все. Артур — другое дело. У него, я думаю, есть Маврикий.
— Что у него есть?
— Маврикий, — повторил он менее решительно, и завиток на его лбу встал торчком.
— Маврикий?
— Вроде бы.
— Черт возьми, у него есть марка острова Маврикий? — сказал я. — У него? Или у его отца?
— У обоих, — сказал Фабиан. Он откладывал в сторону марку за маркой, предварительно их рассмотрев. — А когда его отец помрет, она достанется ему одному.
— А почему его отец помрет? — спросил я.
— Я имею в виду — потом, позже, когда его отец помрет, она будет принадлежать только ему.
— Ах так, — сказал я. — А тебе он ее показывал?
— Обещал показать. Он еще должен спросить разрешения у отца.
— Мне тоже охота поглядеть.
— Не знаю, захочет ли отец Артура, чтобы он показывал ее еще и тебе. Спросить у него?
— Ну да, если его спросишь ты, может, его отец и разрешит.
— А это что такое? — сказал он, выуживая пинцетом какую-то марку.
Я наклонился над столом, чтобы хорошенько рассмотреть марку, которую он извлек из кучки. Я не проронил ни слова, хотя сразу увидел, что это была за марка. Он взял лупу.
— Ты какую имеешь в виду? — сказал я, чтобы выиграть время. — Ах, эту…
— Эту я никогда не видел, — сказал Фабиан, еще пристальнее рассматривая марку. До сих пор он быстро определял, нужна ли ему марка для коллекции, и отодвигал их в сторону, одну за другой. Все они у него уже были. Только на этой он застрял. Я лопался от гордости, видя, что он рассматривает мою марку, что именно она привлекла его внимание. Только бы он ничего не заметил, думал я.
— Какая забавная штука, — сказал он. — Здесь есть надпечатка. Никогда не знал, что такие бывают. Те, которые я знаю, выглядят иначе.
— Они все разные, — сказал я. — Дай-ка поглядеть.
— 3-а-р-р-е, — прочел он по буквам. — Зарре? Я знаю, что есть экземпляры с такой надписью, но эта выглядит так странно, ты не находишь?
— Я другой такой не знаю, — возразил я.
Интересно, что будет дальше. Я ждал.
— Марка настоящая, — сказал он, взял ее пинцетом и поднес к свету. — Со штемпелем.
Я продолжал рыться в лежавшей на столе кучке марок, боясь взглянуть в его сторону.
— Есть у нее водяной знак? — спросил я. — Ты проверь, есть ли у нее водяной знак.
— Да, и водяной знак есть.
У нее есть водяной знак и штемпель, соображал я, значит, марка настоящая, но я сделал на ней надпечатку. Если я сейчас ему это скажу, тогда все в порядке, все окажется игрой, шуткой, и все будет в порядке. Но тогда он не станет со мной меняться, а если не станет меняться, то обозлится на меня. Ведь это единственные экземпляры, которых у него нет.
Но вместо этого я сказал:
— У нее есть водяной знак и штемпель. Я отклеил ее от одного письма.
— Ты получаешь письма из Зарре? — заинтересовался он.
— Мой отец.
— Но твой отец не коллекционирует марки, — сказал он.
Казалось, его удивило, что люди, которые не собирают марки, получают письма с марками и надпечатками, которых у него нет.
— Мой отец получает письма отовсюду, — сказал я.
— Ух ты, — сказал он.
Он нахмурил лоб и брови и надолго задумался. Потом положил марку слева от себя.
— Вот еще одна, — сказал он и вытянул пинцетом из кучки еще одно мое произведение. — Она выглядит иначе.
— Это Зарре номиналом в пятнадцать пфеннигов, — сказал я.
— Я вижу, здесь стоит штемпель.
— А почему ты не проверяешь, есть ли там водяной знак?
— Зачем?
— У меня было три экземпляра, — продолжал я. — Вот еще одна, номиналом в двадцать пфеннигов.
Я извлек из кучки свое последнее творение.
Он попытался ее взять и положить рядом с двумя другими, но я сказал:
— Эту ты не получишь, у меня нет второй такой.
— Жаль, — огорчился он.
— А может быть, все-таки есть.
— Теперь твоя очередь выбирать из моих, — сказал он.
— Ты берешь все три? — спросил я.
— А у тебя есть дубли всех трех?
— Да, — ответил я.
— Я беру только две, — объявил он, внезапно откладывая последнюю марку обратно, в общую кучку.
— Значит, две, — повторил я и перевел дух. — Теперь моя очередь.
— Я точно не знаю, есть ли у Артура Маврикий, — сказал он.
— Ты же сказал, что есть!
— Но я не знаю наверняка. Он мне про это рассказал. Может, соврал.
— А зачем ему врать?
— Может, ему нравится рассказывать красивые истории.
— Пусть нравится, но мы-то не обязаны ему верить.
— Ох, — только и сказал Фабиан.
Тем временем я нашел у него две марки с Азорских островов, две большие продолговатые почтовые марки. Они вовсе не были так уж красивы, но мне очень понравилось название «Азоры». Я представил себе, как там красиво, на этих островах, и решил, что когда-нибудь отправлюсь туда, чтобы убедиться в этом на месте. Кроме того, я точно знал, что они настоящие.
— Хочешь их взять? — спросил Фабиан.
— Они мне нравятся, но они не такие ценные, как те, что ты взял у меня, — сказал я.
Он колебался, глядя прямо перед собой.
— Можешь выбрать еще одну, — сказал он.
— Спасибо, — растроганно ответил я. — С твоей стороны это очень мило, Фабиан.
Я радовался, что он так высоко оценил мои марки. Ведь я натерпелся из-за них такого страха. Потом я убежал домой.
Примерно неделю спустя отец Фабиана явился в ателье моего отца. Это был высокий, стройный мужчина с густыми черными волосами и с пенсне на носу круглой, как луна, физиономии. При ходьбе он скрещивал руки за спиной, так что держался прямо, будто аршин проглотил, и вышагивал гордо, как на плацу. Он часто совершал продолжительные прогулки по городу, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь. Потому что был глуховат и не слышал обращенных к нему приветствий.
— Я принес вам почтовые марки, — сказал он пронзительным, сдавленным голосом глухого.
И положил на стол две марки.
— Вот как? — изумленно ответил мой отец.
— Вы тоже коллекционируете? — спросил он инквизиторским тоном.
— Нет, — ответил мой отец.
— Эти марки фальшивые, — сказал он. — Это ясно и ребенку. Я хочу получить обратно те три, которые ваш сын выменял у Фабиана. Скажите ему.
Мой отец ничего не понимал в марках, но он тоже увидел подделку.
— Ваш сын — тот еще фрукт, — сказал отец Фабиана.
— Детские шалости, — ошеломленно пробормотал мой отец.
Гость этого не услышал.
— Всего хорошего, — сказал он и гордо удалился.
Сразу после него пришла его жена, мать Фабиана. Она была маленькая и изящная, темноволосая и всегда дружески озабоченная, как будто глухим был весь свет.
— Я тоже нахожу, что это дурно, — сказала она. — Но боюсь, мой муж немного переборщил. В конце концов, это дети. Понимаете, мой муж — заядлый коллекционер, и потому это его особенно задело. Скажите мальчику, пусть вернет марки.
— Да, мне тоже неприятно, — сказал мой отец. — Спасибо вам.
После обеда, когда я пришел из школы, отец появился в моей комнате.
— Ты менялся марками с Фабианом? — сказал он.
— Да.
— И у тебя есть детская типография, — продолжал он.
— Да, отец.
Я смотрел в пол, и только теперь, не смея больше взглянуть на него, я видел как бы его отражение на полу. Мясистые щеки бессильно и вяло повисли на лице, как у беззубого старика. Они были бледными и серыми, не плоть, а какая-то масса, какое-то тесто, из которого ушли жизнь и сила; глаза блуждали, в них больше не было твердой точки, откуда они смотрели. Их взгляд больше не устремлялся на меня из этой мертвой, вязкой плоти, он был направлен внутрь. Казалось, он смотрел не на меня, говорил не со мной, а как бы издалека, с кем-то далеким, и на него же смотрел. Отец тяжело дышал. Тонкая, серая, пузырчатая пленка пота прикрывала кожу, как папиросная бумага. В руке он сжимал связку ключей. Так сжимают резиновый мячик, из которого хотят выдавить воздух. Я очень боялся, что он меня побьет.
— Ты отнесешь Фабиану марки, — произнес он медленно хриплым голосом, почти дружески, как будто приглашал меня сделать это.
— Да, отец.
— Ты меня понял?
— Да.
«Ты меня понял?» — после этих слов всегда начиналась порка. Я ждал, что она последует и на этот раз, хотя он и говорил со мной таким хрипло-дружеским голосом. Я ждал. Больше того, я хотел, чтобы он меня выпорол. Когда я поднял глаза, он все еще стоял в прежней позе, наклонившись в мою сторону, и тяжело дышал. Я слышал, как он короткими толчками выдавливает изо рта дыхание. И потом он ушел, держа в правой руке связку ключей и сжимая ее, как мячик.
— Я принес тебе марки, — сказал я Фабиану.
Он сидел перед раскрытым альбомом и с удовольствием переворачивал листы.
— Ого, — только и сказал он, и его завиток на лбу запрыгал вверх-вниз.
— Я сам их надпечатал, — процедил я сквозь зубы.
— Ух ты, — сказал Фабиан. — Неужели сам?
Я отдал ему марки, и он сунул их в конверт, из которого в свое время их вынул. Мы замолчали.
— Я думал… — заикнулся было я.
— По-моему, это дурно, — сказал он.
Но у меня вовсе не было ощущения, что он считает мой поступок таким уж дурным. Собственно говоря, он держался вполне дружески и говорил со мной вполне дружелюбно. Может, он считал это дурным потому, что так думал его отец, и потому, что он попался на обман и не заметил того, что, по словам его отца, заметил бы любой ребенок. Интересно, думал я, сгорая от любопытства, а ему никогда не приходила в голову подобная мысль? Может, он не осуществил ее только потому, что у него не было детской типографии, которая могла бы его совратить? Но все мои высокие мечты теперь улетучились, и настроение было печальное. Фабиан растреплет об этом деле, расскажет Артуру с его Маврикием и всем другим ребятам. Никто больше не захочет со мной меняться, никогда я не увижу марку острова Маврикий. Конечно, если у Артура она есть. У меня пропала всякая охота меняться, и интерес к почтовым маркам прошел, и даже интерес к детской типографии, моей любимой игре, немного остыл.
Фабиан взглянул на меня, на мою обреченную позу.
— Отец хотел разорвать остальные, — сказал он.
Похоже, ему было жаль с ними расставаться.
Я молча кивнул.
III
Я сижу у себя в комнате, смотрю в окно на дома и сады на другой стороне улицы и думаю о разных вещах. Вон там, на углу, в запущенном саду стоит одинокое мощное дерево с дуплистым стволом. Дерево медленно умирает, смерть подкрадывается изнутри, от корней. С каждым годом смерть забирается все выше в его ствол и ветви. Скоро она достигнет кроны.
Несколько лет назад, когда я впервые увидел это дерево, оно шумело пышной листвой. С места у окна мне было видно, как оно преображалось от месяца к месяцу. Я вспоминаю, каким оно было прежде. Прежде оно указывало на смену времен года. Поздней осенью роняло листья. Вероятно, эта зима будет для него последней, так оно иссохло и облысело. По улицам гуляет жесткий, ледяной ветер. Стоит январь, и холодный воздух проникает сквозь щели дверей и окон нашего деревянного дома в какой-то другой стране.
Входит мой отец, он стар, глаза уже отказываются ему служить. Он несет ведро с углем, чтобы наполнить печь, которая слишком быстро остывает. Вот он возится вокруг печи: дрожащими руками он вытряхивает сажу, бросает в печь дрова и уголь.
— Не сказать, чтобы тепло, — говорит он. — Ты, наверное, замерз.
— Нет, что ты, — говорю я. — Мне не холодно.
Он ждет. Я чувствую, он хочет что-то сказать, хотя зашел ко мне только для того, чтобы растопить печь.
— Хотелось бы мне до этого дожить, — говорит он вдруг после долгого молчания.
— Ты о чем? — спрашиваю я, хотя совершенно точно знаю, на что нацелено его желание.
— Хотелось бы дожить до конца, увидеть, чем все это кончится.
В его голосе еще звучит слабая надежда. Каждое желание, будучи высказанным, немного предвосхищает свое исполнение.
— Я стар, — добавляет он.
Это звучит как условие завещания.
— Может, и доживешь, — отвечаю я. — Возраст здесь ни при чем. Молодые часто оказываются первыми жертвами.
— Мы этого недооценили, — говорит он, словно беседуя с самим собой. И снова погружается в глухое раздумье. Теперь, когда он стоит передо мной, я знаю все его мысли. Он перебирает в голове тысячу упущенных возможностей: вот если бы тогда он сделал то или это. Все возможности снова и снова подвергаются пересмотру, он чувствует какую-то вину, свою личную вину, что все так получилось. Конечно, он не бездействовал. Но его дела перестали быть зеркалом, в котором он видит свое прямое отражение. Они больше не согласуются с тем, что он помнит и видит сегодня.
Потом он снова возвращается к печке.
— Не сказать, чтобы здесь тепло, — говорит он и нерешительно покидает комнату.
Я не чувствую холода. Во мне полыхает огонь, который сам по себе не угасает. Его раздувает смерть, я постоянно думаю о ней.
Тяжелые шаркающие шаги затихают в коридоре, хлопает дверь, снова наступает тишина.
Я рассказываю все, ничего не утаивая, коль скоро это касается меня и моего врага. Думая о его смерти, я вспоминаю свою жизнь. С тех пор как он стал моей судьбой, я постигаю его судьбу глубже, масштабнее, чем когда-либо.
Я не стану ничего рассказывать о страданиях, которые он принес нам. Час смерти — не время сводить счеты.
Мой враг вошел в мою жизнь, его ввел мой отец. «Тогда — помилуй нас Бог» и «Боюсь, мы его еще узнаем». Никогда в жизни не забыть мне этой угрозы и взгляда, которым она сопровождалась.
Но поначалу она ничего еще для меня не значила. Чуждый элемент был впущен в меня и лежал там, внутри, неподвижный, немой, в капсуле, не касаясь других органов и не раздражая их. И моя фантазия, казалось, покинула меня. Она подыскивала себе совершенно другие объекты, вокруг которых вращала свои детские страхи и надежды. Мои мысли загнали врага в странную тишину, из тишины пробились первые ростки одиночества.
Разговоры родителей все чаще повторялись, становились все откровеннее. Я многое почерпнул из них. Казалось, отца поглощала мысль о будущем, которое рисовалось ему в черном цвете. Мама ругала его за это.
— Прекрати, — говорила она. — Ты кличешь черта, да еще как будто получаешь от этого удовольствие.
Он возражал:
— Я только говорю, что думаю, и боюсь, что в один прекрасный день это окажется действительностью.
— Но ты же не веришь в это! — говорила она с упреком.
— А во что я должен верить?
— В то, что этого не случится! Не случится того, чего ты боишься!
— А кто помешает этому случиться? — спрашивал он сердито и склонял набок свою круглую голову.
— Нет, — гордо возражала она. — На сей раз ты не доведешь меня того, чтобы я произнесла это имя. Не вынудишь меня произносить его тебе на потеху.
Ее голос звучал решительно и твердо, как приказ. Невыполнимый приказ.
— Можешь произносить, — устало отвечал он. — Я не буду насмехаться.
— Пусть ты не будешь насмехаться, но ты все равно не веришь, — говорила она.
Мы стояли внизу, в ателье. Она подошла к выключателям и выключила свет.
— Мы должны экономить, — сказала она. — Ты зря жжешь свет. Сколько раз тебе говорить?
Это было вяло текущее время. Казалось, людям надоели собственные лица и лица их жен и друзей, они фотографировались намного реже.
— Я не разделяю этих бабских предрассудков, — отрезал он и принялся шагать по ателье из угла в угол.
— Следи за тем, что говоришь, — увещевала его она. — Здесь ребенок.
Я стоял около одной из больших переносных ламп, крепко держась за железную штангу на колесиках и двигая ее туда-сюда. Но я не упустил ни слова из их разговора. Услышав последнюю фразу, я прекратил свою забаву.
— Ведь это же бабское суеверие, — сказал отец, мельком взглянув на меня, — и я не желаю, чтобы мальчик разделял его. Он не должен верить, что Бог, или кто там еще, сидит наверху, за облаками, в своей проявочной. Что он регулирует уличное движение во избежание аварий, как вышколенный полицейский. Люди сами должны быть внимательными, чтобы не попасть под машины. Неужели ты и впрямь веришь, что этот тип наверху, в своей проявочной…
— Ты опять насмешничаешь, — рассердилась мама. — Прекрати, прошу тебя, ты опять об этом пожалеешь.
Она побледнела. Умоляюще простертые к нему руки дрожали.
— Я серьезно, — возразил он. — А если он злится на меня за мои разговоры, то не стоит того, чтобы сидеть там, наверху, в своей распрекрасной проявочной. Ведь у него там отличная наводка на резкость со всеми эффектами освещения (и трюками, подумал я), каких только можно пожелать. Я ему завидую. Человек есть человек, так оно было всегда, даже когда здесь, на земле, еще не было фотографических аппаратов. У человека есть руки, ноги, лицо, два глаза, рот с губами, язык. Зачем ему дан язык? Чтобы разговаривать, проклинать и, если угодно, молиться, говорить правду или лгать, произносить все, что приходит в голову. Но никто не знает, есть ли у этого старого фотографа там, наверху, любимые портреты, снимки, которые он считает особенно удачными, которые он иногда вынимает и с удовольствием рассматривает. А может быть, с ним все происходит так же, как со всеми нами. Может, он только задним числом узнает, какие совершил ошибки, где бы ему стоило немного подретушировать фото. Может, он с удовольствием повторил бы съемку, будь у него такая возможность. Я на этой планете всего лишь маленький паршивый фотограф. Ведь я путем и не учился этому ремеслу, как я учился на часовщика, я начинал как любитель, я всего лишь дилетант. И даже если сейчас я мастер в своем деле, я все равно мастер-любитель… Да. Так что я хотел сказать? Ах да! Еще ни один клиент, покидая мое ателье, не усомнился в том, что у него самое красивое лицо на свете. Самый лучший портрет, о каком может мечтать фотограф. Они верили мне, хотя бы в тот момент, когда я печатал снимки. А я никого не лишал этой веры, даже старался укрепить ее. Они все были мне благодарны после того, как я в проявочной немного ретушировал их лица. Наводил на резкость или устанавливал линзу так, чтобы фото получалось наиболее удачным. Удавалось это не всегда, я знаю. Погляди на все портреты, которые я сделал. Тут нос вышел кривым, там рот слишком толстым; у кого-то уши торчат, у кого-то глаза запали, где-то не гармонируют плоскости и пропорции между отдельными частями и вообще все размеры ни к черту. Если клиент глуп, он желает быть красавцем, но его не переделаешь. А когда клиент уродлив и умен, он таким и останется, даже если я самым выигрышным образом вытащу на фото его ум.
— А если человек добрый?
— Тогда у него непременно есть бородавка или родимое пятно.
Я вмешался в разговор неожиданно для себя самого:
— А если человек и добрый, и красивый, и умный?
Он строго посмотрел на меня.
— И ты туда же? — медленно произнес он. — Такой ко мне не придет, такому я без надобности. Разве что сделать фото на паспорт. Но это другое дело. Но может быть, у каждого из нас есть один любимый снимок, даже у старого фотографа там, наверху. Есть такой снимок, самый неудачный из всех, который он в часы затишья вынимает и рассматривает. И при этом говорит себе, чтобы окончательно не спятить: «Ах ты, старый халтурщик!»
— Вечно ты со своими байками, — сказала мама и подмигнула мне. — Давай сходим за хлебом.
Я пошел с ней.
— О чем говорил отец? — спросил я.
— Да так. У него свои мысли, — сказала она. — Дескать, он теперь фотограф.
— Что это значит? Почему он так говорил?
— Раньше, когда он был учителем танцев, — сказала она, — у него там, наверху, сидел главный танцмейстер. А еще раньше управляющий отелем. Он думает, что у Бога столько же профессий, сколько у него.
Но бывали и периоды веселости, хорошего расположения духа, когда он говорил, что пока еще ничего не случилось и вообще все еще может произойти по-другому. Так оно и шло. Но родители все-таки изменились. Их угнетала какая-то тревога, но чем сильнее она становилась, тем более противоположным было ее воздействие.
Отец, все более недоверчивый, обретал оптимизм, а мать, которая прислушивалась к своим суевериям, казалась мне погрустневшей и теряющей надежду. Меня мучило любопытство, хотелось узнать больше, и я лихорадочно просматривал газеты и журналы, в которых иногда печатали его портрет.
Вспоминаю одну фотографию. Я был разочарован. Не могу передать, насколько. Это было первое разочарование, которое он преподнес мне. О, это ничего не говорящее, обычное фото мужчины средних лет! Так, по крайней мере, казалось ребенку, ведь дети не обращают внимания на своеобразие лиц. Я ожидал большего, смутно чувствуя, что враг — это не обыкновенный смертный, но человек особого рода. Некое из ряда вон выходящее событие, некая выдающаяся связь возносит его над обыденностью. Но он, без сомнения, такой же, как все прочие, как мой отец и я. Почему тогда нужно призывать против него милость Божью? Неужели он может устроить такие страшные вещи, которых должен бояться даже отец? Кто дал ему такую власть?
Эти и похожие мысли были для меня потрясением. Они вызвали слабое предчувствие того, что позже превратилось в уверенность: враг — это знамя. Смерть поднимает его на пути из иного мира в наше бытие.
Когда слова отца уж очень сильно действовали на меня, я пристально вглядывался в изображение, впитывая его яростную злобу. Мой враг, думал я, упрямо рассматривая его фотографию, мой враг. Фото оставалось неподвижным и холодным, как всегда.
Чтобы ненависть длилась, ей тоже нужна взаимность.
Постепенно мост, который мой высокомерный разум пытался перекинуть к безжизненному портрету, разрушился, и враг моего отца стал мне более чуждым, чем когда-либо. Но я чувствовал себя подавленным, словно проявил непослушание. И все-таки, с неожиданной стороны, мне пришлось соприкоснуться с его властью. Ибо странность заключалась в том, что я имел с ним дело, даже когда он не появлялся. Он действовал скрытно, рассылая по всей стране своих гонцов и посланцев. Этого ребенку не понять.
Уже в раннем детстве мне часто приходилось терпеть брань и обиды то от одного, то от другого сверстника. Известно, что жизнь детей со всех сторон окружена оскорблениями и опасностями. Я тщетно пытался исследовать их причины. Но зато приобрел некоторое понимание отношений между людьми.
Поначалу горький опыт враждебности всегда уравновешивался дружескими привязанностями. Моя обидчивость (та самая, что позже позволила мне в порядке исключения вынести куда большие оскорбления и до предела обострила мое чутье) терпеливо проглатывала каждое потрясение. Но со временем все стало еще хуже.
Началось с того, что дети моего возраста или постарше, которым я никогда не делал ничего плохого, начали преследовать и мучить меня. Вскоре я оказался в одиночестве. Я быстро понял, что речь уже не шла о прежних детских ссорах и шалостях. В основе их поведения лежала какая-то определенная мысль, они действовали намеренно и расчетливо. Они исключали меня из своих игр.
Я заплакал и пошел жаловаться на них маме.
— Они со мной больше не водятся, — сказал я и сжал кулаки, изо всех сил стараясь, чтобы она не заметила моих слез.
Но я все равно плакал.
Она отнеслась к этому довольно спокойно.
— Вернись к ним, и они опять примут тебя в игру.
— Нет, — сказал я.
— Да иди же, — сказала она ласково, — и попытайся еще раз, может быть, ты их обидел.
— Я им ничего не сделал, — сказал я гневно, — а они меня не примут, точно не примут, они меня не принимают.
— Все наладится, — сказала она мягко, но по ее голосу было заметно, что и она больше в это не верит.
Ничего не помогало. Как ни сжимал я кулаки, слезы покатились по моему лицу, а я даже не почувствовал этого. Я стоял перед ней и ревел, мне было стыдно, плакали только мои глаза, а мой голос и мое тело оставались неколебимы. Во мне зрели твердость и решимость, они были сильнее, чем чувство боли и отверженности.
— Что, правда? — спросила она еще раз, и я увидел, что лицо ее стало серьезным и грустным.
— Правда. Уже несколько недель, — сказал я. — Просто я не рассказывал.
— Почему?
— Не знаю.
Но я все-таки знал, хорошо знал, что это ее заденет, что ей будет больно, что это как-то связано с разговорами, поначалу тихими, а потом все более громкими. Я был свидетелем этих разговоров. Я знал, что родители станут обсуждать это, и все, все станет для нас непредвидимым, серьезным.
— А Фабиан при этом был? — спросила она.
Она искала выход, чтобы найти причину и следствие, чтобы разумно объяснить это дело и таким образом покончить с ним. Убрать его из жизни.
Я ответил отрицательно.
— Он единственный, кто хочет со мной водиться.
— Значит, не в нем дело.
— Нет, не в нем.
Больше она ничего не сказала. И не спросила, что еще говорили дети, шептались ли они у меня за спиной. Казалось, она все поняла, все. Потом она взяла меня за руку и повела к детям. Мы молча пересекли рыночную площадь и направились к старым воротам, где они играли. Увидев нас, они прервали игру.
— Вот что, — сказала мама и попыталась смягчить улыбкой свое строго-серьезное лицо. — Он такой же ребенок, как и вы. Вы все дети. Играйте вместе.
Большинство выслушали ее с опасливым интересом.
Краткие спокойные слова мамы застали их врасплох, вроде бы они ожидали совсем другого, угрозы или строгого назидания.
Некоторые перешли на мою сторону и дружелюбно закивали. Только два старших парня злобно гримасничали, перешептывались и не сдвинулись с места. На них мамины слова не произвели ни малейшего впечатления.
Унижения не забываются. Вмешательство моей матери, хотя и имело временный успех, не смогло скрыть слабости моего положения. Напротив, оно ее только усилило. Другие этого не забудут. Да и я не забывал. Первоначальная радость от игры была приглушена страхом возможного исключения.
Некоторое время так оно и шло. Позже они изобрели кое-что новое. Просто при выборе предпочтение отдавалось намного худшим игрокам, так что я оставался последним, смущенным и пристыженным между уже набранными командами.
— Ну ладно, можешь сыграть разок, — великодушно говорил наконец капитан одной команды, а все окружавшие его игроки в это время потешались над моим смущением. Их издевательские ухмылки заставляли меня опускать глаза, и я, с трудом удерживая слезы, плелся на место, которое мне указывали.
— Ты играешь правого защитника, — говорит капитан.
— Хорошо, — говорю я и становлюсь справа.
— Ты что здесь делаешь? — Парень, стоящий в воротах, удивлен, откуда я тут взялся.
— Я правый защитник, — говорю я.
— Что? — спрашивает он. — Убирайся к черту, мотай отсюда.
Он складывает ладони рупором у рта и орет:
— Ты кого мне прислал? Не нужен мне этот хиляк.
— Почему? — кричит в ответ другой капитан.
— Защитник должен стоять, как стена, — отзывается первый. — Как скала весом с тонну. Его раздавят, как блоху, если он едва держится на ногах.
— Ну и что?
— А у этой блохи никакого веса.
— Но он здорово бегает и хорошо бьет.
— Мне нужен такой, чтобы весил тонну. А этот будет прыгать у моих ворот, как блоха. Если он умеет бегать, ставь его в нападение.
Остальные парни слышат этот разговор, каждый уже занял свое место, арбитр ждет со свистком во рту, один я неуверенно перебегаю с места на место.
— Наши все в сборе, — кричит парень, возглавляющий группу нападения. — Он мне совсем без надобности, тем более послезавтра матч, в нападение больше никого не берем. Пусть играет правым в полузащите, поменяйся с ним, Том. (Странно, что я запомнил имя.)
— И не подумаю, — говорит Том. — Я-то тут при чем? Я правый полузащитник и останусь правым полузащитником. И вообще, он с нами не играет.
— Приготовились! — кричит арбитр и свистит.
Игра начинается. Мне уже неохота играть, хотя я всегда играл с удовольствием. Они меня исключили. Для ребенка нет большей обиды. Теперь они принимают тебя в игру, но ты не с ними, и это намного хуже, чем раньше, когда они тебя не принимали. Они знают, что я хорошо бегаю, что хорошо бью. Я не виноват, что я легкий. Они это знают, сами говорили, что я полезный игрок, но все равно спихивают меня туда-сюда. Никому я не нужен. Я умею бегать лучше, чем они, и бить точнее, но что толку, и к тому же они мне завидуют. А если я не буду лучше, не буду стараться и выкладываться, у них тем более будет причина исключить меня из команды.
Тут подкатил мяч, а сразу за ним бежал нападающий противника.
— Играй! — зарычал вратарь, тот самый, что не хотел меня брать, когда сравнивал с блохой.
Я включился и бросился вперед. Я оказался у мяча первым. И только я собрался на бегу, легким движением правой ноги, послать мяч обратно в центр поля, как передо мной возник нападающий. Он бежал на полной скорости, видел, что проигрывает мне в спринте, и врезался в меня со всей силы, даже не пытаясь притормозить. Я был слабее и упал, а он хоть и покачнулся, но удержался на ногах. Падая, я почувствовал острую боль в лодыжке. Он ударил по ней. Это был реванш за проигранный спринт, я был в этом убежден.
— Вставай! — рявкнул вратарь.
Я встал, правая ступня болела. Я пытался бегать, но мог только хромать, каждый шаг причинял мне боль. Держись, говорил я себе, ты сам виноват. Держись, если продержишься, это пройдет, с каждым может случиться, может, он не нарочно. Хотя я был убежден, что он пнул меня намеренно. Я еще некоторое время хромал, игра шла в центре поля. Боль улеглась, и я продолжил игру. Я защищал свои ворота.
— Хорош, блоха, — кричал вратарь. — Раз ты защитник, то должен нападать, не тяни, вперед на врага!
Чего он добивался этим трепом?
Я пошел в отбор, ринулся в бой, я бросался в каждую схватку, пусть упаду, пусть на меня наступят — мне было все равно. В большинстве игр с мячом злость очень помогает. Я заработал множество мелких травм, контузий, вывихов, все тело было в синяках, раны на ногах кровоточили. Я не обращал внимания. Это игра, думал я.
Игра шла на нашей половине поля на правом фланге атаки, а я стоял на своем правом фланге и видел, как левый фланг противника набегает в расчете на передачу справа.
— Закрой! — заорал вратарь.
Я встал так, что прикрыл весь фланг. Но нашего левого защитника обыграли, прошла передача верхом в центр, где стоял их форвард. Тот, недолго думая, перевел мяч головой налево. Я перехватил его и высоко отбил обратно к левой бровке.
— Остался! — заорал вратарь.
Это относилось к левому защитнику. Его снова обыграли, мяч вернулся в центр, где теперь стоял я. Я хитро сыграл левой ногой, резко изменив направление мяча, и выбил его вперед.
Нападающие отошли, и это была красивая игра. Было очевидно, что нападение противника играет с нами в кошки-мышки. Они устроили настоящий штурм — пятеро против нас двоих, наш центральный полузащитник остался впереди, он задыхался.
— Вернись обратно! — крикнул я ему.
— Заткни пасть, блоха, — рявкнул вратарь. Он нервно сновал между своими двумя штангами. — Они подходят!
Мяч снова разыгрывался слева, маленький отвлекающий маневр правого крайнего нападающего, и наш защитник бросился к бровке, мяч покатился к центру. Я опоздал. Но парень с мячом медлил, соображая, что делать.
— Бей! — заорала его собственная команда.
У него был отличный шанс забить нам гол. Путь был свободен. Но он финтил, бегая туда-сюда по нашей штрафной площадке. Пыль вилась столбом, на наших лицах и руках образовалась легкая песчаная корка. Наши ворота оказались в большой опасности, мы проигрывали. Вратарь, вытянув перед собой согнутые в локтях руки, мелкими прыжками пританцовывал в воротах туда-сюда, следя за каждым движением мяча. Вот он быстро сместился левее относительно противника, то есть правее, если смотреть от нас. Проиграем или выиграем, говорил я себе, это все равно. Игра красивая, и я благодарен, что меня принимают. Двое нападающих и я выпрыгнули один за другим, я коснулся лбом мяча и боковым движением послал его как можно дальше от ворот. Но еще во время прыжка я почувствовал резкую боль в спине, как будто меня сломали пополам. Меня атаковали сзади, самым подлым и запрещенным способом. Парень, который это устроил, подскочил сзади и ударил локтем или коленом с такой силой, что у меня перехватило дыхание. Он целил в тебя, а не в мяч, пронеслось у меня в голове. Ему нужен ты, а не мяч. Конечно, он всегда может сказать, что хотел ударить по мячу, и, когда двое или трое прыгают за мячом, может случиться разное, даже совсем непреднамеренные вещи. Но это был подлый удар, и таких было много в этой игре, а судья ни разу не свистнул. Все произошло так быстро, мяч был отбит, я чуть не задохнулся, терпение мое лопнуло.
Только что игра была такой прекрасной, и вот, прежде чем снова коснуться ногами земли, я в прыжке лягнул назад правой ногой. И почувствовал, как моя пятка угодила во что-то мягкое, телесное, но мне было наплевать, я просто ударил, и удар был хорош. Я упал, но, падая, я двинул подлеца с такой силой, что он повалился и, извиваясь на земле, схватился за промежность. Я попал ему ниже пояса. Я видел, что он лежит, так ему и надо. Но в то же время я сам был пострадавшим. Это я извивался там на земле. Меня ужаснула сила, с которой я дал ему пинка. Он тут же вскочил и принял боевую стойку.
Все его черты выражали неописуемую ненависть, безграничное презрение. Я желал, чтобы он ударил меня, чтобы принял мой вызов. Мне было все равно, чем закончится наша схватка. Пусть я слабее, пусть потерпел поражение в матче, я стал бы с ним драться. А он лишь смерил меня коротким взглядом, повернулся и медленно, держась за живот, побежал дальше. Красноречивое молчание всех игроков, даже моей команды, показало мне, что и они собирались расправиться со мной. Я улизнул с поля, прежде чем арбитр успел меня удалить.
Это мелкое происшествие оставило глубокий след в моей душе. Оно научило меня вовремя избирать иную позицию и не защищаться тем же способом, каким на меня нападали. Каждая попытка нападения, которую я предпринимал в будущем, была обречена на провал точно так же, как она удавалась другим.
Вскоре мне суждено было найти ключ к разгадке их поведения.
Однажды мой одноклассник выронил из книжки листок бумаги. Я стоял поблизости, поэтому услужливо наклонился, чтобы поднять листок. При этом я успел разглядеть его. Это был портрет Б., известный мне по журналам. Я смутился, не зная, как поступить.
— Дай сюда, — грубо сказал парень и отобрал фотографию.
Несколько свидетелей этого инцидента презрительно скривили рот. На всех лицах появилось вдруг одинаковое заговорщицкое выражение. Оно напомнило мне о секретах родителей. Озлобленное молчание одноклассников лишало меня слова. Они окружили меня стеной молчания, они поставили на мне клеймо изгоя. Я знал, что я отверженный, особенный, что я сам по себе. Мне казалось, что это клеймо я ношу на лбу. Это чувство укоренилось во мне так глубоко, что я не мог вырвать его из себя даже спустя многие годы.
Вот так обиды и издевательства тех, кто называл себя его друзьями, приближали его ко мне. Это он скрывался у них за спиной, невидимый и неизвестный. Постепенно он изменил все: отношение ко мне всех детей, их разговоры, их взгляды, их жесты. Как прежде он изменил родителей. Он научил меня одиночеству, приучил к мучениям и безутешности. И только позже я понял их силу. Он с самого начала маячил где-то вдали, на заднем плане. И оставался неподвижным. Если бы я захотел встречи с ним, мне пришлось бы возненавидеть тень. Хотя очертания его становились все более четкими, тайна враждебности, заполняющей жизнь, поначалу оставалась скрытой для ребенка. Я ступил на путь страданий и уже предчувствовал все его тяготы. Воспоминания о последующих годах омрачили мою память тем же печальным светом.
Сегодня, когда я веду эти записи, одержав победу над собой, во мне оживает прежнее отчаянное чувство отверженности, той невесомой пустоты и заброшенности, которая поглощала все остальное. Я сознавал, что и сам обречен стать врагом, и мысль эта была безотрадной и мучительной. Враждовать с другими? Как это вынести? Это открытие ограбило мою душу. Мне хотелось что-то починить, исправить. Но что? Приди мне в голову идея, что я тоже имею право на антипатию, право ненавидеть, я намного острее ощутил бы ненависть ко мне, пылавшую в других. Его портрет, который я иногда рассматривал до рези в глазах, оставался безжизненным и не выдавал своей тайны. Каким-то странным образом, незаметно для меня, он когтями, крюками впивался в мою плоть, брал меня на абордаж. Чем больше я пытался стряхнуть с себя наваждение, тем сильнее ощущал боль.
Я неотрывно смотрел в зеркало, смотрел до тех пор, пока не узнавал в нем самого себя.
IV
Теперь я опишу, как в последний раз разговаривал с моим другом. С тех пор прошло лет пятнадцать. Но мне кажется, это случилось только что. После этого разговора мы никогда больше не встречались. Только однажды, несколько лет назад, еще в Г., меня как-то спросили, знаком ли я с этим человеком, и назвали его имя. Да, знаком, ответил я. И все.
— Мы знаем, что вы с ним знакомы, — сказали мне.
— Вот как?
— Хотите знать, от кого?
Я ждал.
— От него самого, — был ответ. — Он сам рассказал нам об этом. В случайной беседе. Он передает вам привет. Вероятно, он может быть вам полезным. Он сделал карьеру, большая шишка.
— Он поручил вам спросить меня, не может ли он быть мне полезным? — резко спросил я.
— Конечно, — был ответ. — Конечно. Он неприкрыто намекнул, что охотно воспользуется своим влиянием…
— Спасибо, — сказал я.
И все. Ни привета, ни ответа на этот понятный вопрос. Никакого послания. Я отнесся к этому случаю совершенно равнодушно.
Но тогда он еще был моим добрым другом. Если я мысленно возведу стену, которая делит весь ход событий на «до» и «после», мне, быть может, удастся пробудить то чувство, которое обязывает меня записать эту историю. Мой добрый друг. Он жил в X. и каждый год приезжал на каникулы в наш городок, где ютился у какой-то своей тетки в мансарде под крышей. В крышу были врезаны два больших окна, вероятно, первоначально чердак задумывался как мастерская художника.
Встав на стол и открыв окна, мы могли высунуть головы наружу и увидеть весь город. Прямо перед нами красовались башенные часы на церкви. За городом простиралась широкая равнина, за ней река. Время от времени порыв ветра проносился по крышам и нашим лицам. Тогда мы легко воображали себя матросами в открытом море или пилотами, набирающими высоту.
Здесь, наверху, мы были ближе к самолетам, что прокладывали свой путь в небе над нашим городком. Тогда еще не летали нон-стоп над сушей и морем, как мы привыкли теперь. Стоит ли вообще упоминать об этом? Но я хочу этим сказать, что в те времена меньшим достижениям соответствовала куда большая способность ими восторгаться.
Мой друг не пропускал ни одних каникул, он приезжал, пусть даже на пару дней. Зачем? Как-то раз он прозрачно намекнул, что для него это единственная возможность вырваться из-под опеки его родителей. Приглашение тетки было всего лишь предлогом.
Проходили месяцы до нашей следующей встречи. Иногда он писал мне. Я отвечал сдержанно. Он был на три года старше и на голову выше ростом. Он еще ходил в школу, в последний класс.
— Здравствуй, — говорил он в своей небрежной манере. — Вот я и вернулся, как дела? Кстати, спасибо за твое письмо, ты великий писака.
Обычно я не отвечал на колкость, тщетно ожидая извинения.
— Брось, не обижайся, — говорил он. — Я пишу ради собственного удовольствия.
Он рассуждал так спокойно и ласково, что я снова ощущал себя его близким другом.
Между прочим, у него был небольшой дефект речи, из-за заячьей губы. Я-то привык и почти не замечал изъяна. Хотя не раз наблюдал, как он волновался, сталкиваясь с кем-нибудь незнакомым. Тогда он говорил намного хуже. Его недостаток становился заметнее именно потому, что он хотел его скрыть. Но человек он был мягкий, несклонный к ссорам, и поэтому тут же обретал свою старую, ничем не примечательную манеру речи.
Где мы познакомились? То ли в бассейне, то ли на школьной спортплощадке, где обычно собирается молодежь. В первый раз мы разговаривали о школе, об учителях, экскурсиях, походах, обо всем, что составляет школьную жизнь. По дороге домой договорились встретиться на следующий день… Я был несказанно горд тем, что старший парень удостоил меня своим вниманием, что я добился этой чести.
Втайне я опасался, что он каким-нибудь хитрым способом узнает, кто я такой. То есть кто я такой в глазах других. Но еще больше я опасался, что он узнает, кем я сам себя ощущал. Узнай он об этом, я потерял бы его, без сомнения. Тогда конец нашей дружбе. Я делал все, чтобы это предотвратить.
Уже в этих детских страданиях заключается первый самообман. Возвышенные чувства, которыми мы так кичимся, скрывают только слабость — мы боимся признать, что не доросли до утраты, что выбор нам не по силам. Это все равно что упорно имитировать страсть, зная о своей импотенции, зная, что как любовник ты никуда не годишься.
Но моего друга вроде бы не интересовали мои опасения. Он оставался самим собой. Постепенно его беззаботность передалась мне. Даже во время нашей последней встречи (я еще не знал, что она будет последней) он оставался по-прежнему дружелюбным. Мы часто отправлялись в далекие прогулки по окрестным лесам, обменивались мыслями, делились впечатлениями. Так как он был старше, его впечатления казались мне более интересными. Я любил его слушать. И он никогда не забывал расспросить меня о моих приключениях.
Чем беззаботнее казалась мне наша дружба, тем меньше я думал о том, что должен рассказать ему о своей беде. Да и зачем? В наших отношениях она не играла роли. Что-то во мне противилось полной откровенности. Я не считал ее такой уж важной. Может быть, я стеснялся. Боялся этим признанием снизить самооценку.
Однако в этот последний раз все произошло иначе. Я раскрыл ему свою израненную душу, втайне надеясь найти у него утешение и поддержку. Те времена, когда мама взяла меня за руку и отвела к детям, чтобы те приняли меня в игру, давно миновали. Я считал, что спокойно могу рассказать ему все и при этом не выглядеть жалким. А он?
Не буду приукрашивать мое воспоминание и утверждать, что с самого начала уловил в его поведении тень грядущего разрыва. Значит, он притворялся, лицемерил? Нет, нет, человек — странное существо. Бывает, что в начале разговора он еще симпатизирует собеседнику, а в конце становится чужим и вызывает ненависть.
Он, как всегда молча, с терпеливой готовностью выслушал мой рассказ. Ничего другого я от него и не ожидал. Он смотрел то вдаль, то на дорогу прямо перед собой, заложив руки за спину. Время от времени он кивал головой, давая понять, что ему интересно. Я украдкой искоса поглядывал на него. Меня обуревало горячее чувство признательности. Я радовался, что он идет рядом. Пусть узнает все, думал я, это хорошо. Если он мне друг, я могу рассказать ему и о моем враге, о несчастьях, которыми он грозит мне повсюду.
— Значит, у тебя есть враг, — повторил он после паузы, сохраняя серьезность. — Почему ты ничего мне о нем не рассказывал?
— Мне казалось, что пока еще это не так важно, — необдуманно сказал я.
— Ты ошибаешься, — сказал он решительно и вдруг посмотрел на меня. — Ты сильно ошибаешься. Твой враг должен быть для тебя важнее, чем твой друг.
Хотя этот тон не был для меня полной неожиданностью (ведь он отвечал моему предчувствию), он все-таки застал меня врасплох. Я не ждал такого ответа.
— Почему? — возразил я. — Разве это возможно? Впрочем, это я его враг. Больше, чем он мой. Я с ним даже незнаком. О нем говорил мой отец.
И я впервые заговорил с ним о Б., еще не называя имени.
Вдруг он довольно бесцеремонно перебил меня.
— А кто это, собственно говоря?
Я назвал имя.
Он молчал.
Потом сказал, немного гнусавя (видимо, из-за своего дефекта):
— Кстати, что говорит о нем твой отец?
Я повторил слова отца.
Возникла пауза.
— Ты его знаешь? — спросил наконец я.
Он кивнул.
— Я хорошо его знаю, — произнес он медленно и осторожно.
Я испугался.
— Знаешь? Что же вас связывает?
— Очень многое в последнее время, очень многое.
Ответ меня поразил.
— Он и твой враг?
Его рот сложился в легкую усмешку, и стала заметной заячья губа.
— Нет, нет, напротив!
— Значит, твой друг?
Он молчал. Мой прямой вопрос явно показался ему неуместным. Не могу передать словами, как сильно огорчило меня это молчание. Впрочем, его поведение все время смущало меня, особенно дефект его речи.
Я потерял самообладание и, не помня себя, разразился саркастической тирадой.
— А кто он, собственно, такой, этот господин, который поднимает вокруг себя столько шума, что другие поднимают вокруг него еще больший шум? Кто он такой и что он может? Разве у него есть заслуги? Какие? Просто смешно! Развязный главарь, наглый и бессовестный! Он третирует любого, кто не разделяет его мнения. Несколько крепких парней, и наваждение рассеется. Да ну его к черту. Не будем больше говорить о нем. Он для этого слишком неинтересен.
Насколько я помню, я тогда впервые бросился в бой с открытым забралом.
Я сам немного испугался собственной горячности. До сих пор у меня не было повода высказаться столь непосредственным образом. Не считая случая на футбольном поле. Но то, чем он закончился, сделало меня еще малодушнее. Нельзя все время быть осторожным паинькой, если приходится вонзать ногти в собственную плоть, чтобы дать выход своей ярости. Изображать святого вредно для здоровья.
Мой друг бросил мне вызов. Вот пусть и узнает, что я об этом думаю. Я был полон решимости.
— Ты ошибаешься, — спокойно возразил он. — Говорю тебе, ты страшно ошибаешься.
Снова этот гнусавый тон.
— Ты должен с ним считаться. Несколько крепких парней не справятся с его идеями, разве что они захватят с собой парочку таких же крепких идей в качестве оружия. Но как я понимаю…
Он снова говорил, как в начале. Его голос еще источал прежнюю доверительность, которая так благостно на меня воздействовала. Добрая душа! Но теперь меня раздражал его тон. Я уже не мог этого вынести.
— Какое ты имеешь к нему отношение? — спросил я возмущенно.
— Об этом позже, — невозмутимо продолжал он своим слегка назидательным тоном. — Часто друг не говорит тебе того, о чем ты сам не решаешься спросить, потому что не желаешь этого знать или на самом деле не знаешь. Вот о чем ты часто узнаешь от своего врага. Может, он преувеличивает, может, поступает с тобой несправедливо, но не забывай, какое-то зерно истины в этом есть. Ты чем-то глубоко его оскорбил. Глубже, чем кто-то другой, более тебе близкий. Ты чем-то разъярил своего врага. Не забывай об этом. Не стоит взвешивать или исследовать его слова. Нужно найти, где ты ранил его. Может обнаружиться, что вы в чем-то близки.
Я понял его, да я, в общем, понял его, даже если от меня ускользнул смысл того или иного слова. Он хотел сказать, что враг — это позитив! Его слова нашли во мне отклик. Нет, он проповедовал не глухому. Но что, черт побери, их связывает? Он избегал ответа.
— Ты его знаешь, — снова начал я.
— Да, я его знаю, некоторое время назад я узнал его ближе. В силу различных обстоятельств.
— Ты никогда о нем не рассказывал.
— Ты сам сегодня начал.
— А если бы не начал?
Он молчал, но я сразу увидел, что он почти незаметно пожал плечами.
Если бы я не начал, он бы ничего мне не рассказал, подумал я. Значит, до сих пор он умалчивал о том же, о чем молчал я. Эта мысль поразила меня. Ничего себе дружба. Двойная измена с одним и тем же соперником. Забавно.
— Может быть, я очень скоро рассказал бы тебе о нем, — нарушил он молчание. — Ты имеешь право знать. Я видел его, недавно, и был заворожен; слышал его, и был покорен. Думаю, он стал моим другом. Я за него жизнь отдам.
Жизнь кролика, подумал я. И тотчас почувствовал боль. Она сидела где-то внутри, и я не мог бы сказать точно, в каком месте. Я устыдился своей озлобленности. Внезапно он как-то изменился.
— А почему ты хочешь отдать за него жизнь? — продолжал я допытываться в том же издевательском тоне, который был так мне отвратителен. Ты должен его возненавидеть, вдруг сообразил я, теперь ты должен его возненавидеть. Так положено. Произошло предательство, ты потерял друга…
Несколько секунд я пытался разжечь в себе чувство ненависти. Тщетно.
Меня охватила грусть, может, потому, что никто не просил меня пожертвовать жизнью.
— У него великие идеи, — продолжал он. — Понимаешь, что это значит? Он ставит перед нашей жизнью новые масштабные цели. Ради этого стоит жить и не жаль умереть. Хотел бы я, чтобы ты хоть раз увидел его и услышал.
Абсурдная идея.
— Он мой враг, — твердо сказал я. — Враг моего отца и многих других, таких, как мы. Он хочет истребить нас, если милость Божья не…
— Да ну тебя к черту, — прервал он меня. — Что ты несешь! Ему нужен кто-то, враг или кто угодно, чтобы достичь своей цели. Ты слишком буквально все понимаешь.
— Что ему нужно? — недоверчиво переспросил я. — Враг, чтобы достичь своей цели?
Непостижимо. Я не понимал его.
— А что, твой отец никогда не предостерегал тебя? Не говорил: если будешь вести себя плохо, станешь бездельником, как вон тот или этот, хочешь стать таким? Вот и он поступает так же с тобой и прочими. И больше ничего. Просто он таким образом поясняет свои мысли и намерения. Может, он и прав.
— Это правда, — робко ответил я. — Мой отец иногда так говорит. Это предостережение и угроза.
— Вот видишь, — легко согласился он.
Но я был недоволен. В этом возрасте ты открыт всем наущениям. Ведь возможности внешнего мира суть одновременно реалии мира внутреннего. Раньше он говорил по-другому, серьезнее, а теперь он по любому поводу отделывался шуточками. И я потерял его. В конце концов, меня мало заботили цели и обходные пути, в которых якобы нуждался мой враг, чтобы осуществить свои неведомые замыслы. Я думал о друге, которого терял. Кажется, он чувствовал мое смятение.
— Но между нами это ничего не меняет, ты меня понимаешь? — сказал Кролик.
Я только язвительно усмехнулся.
— Ты шутишь. Хочешь быть другом и мне, и ему? Это невозможно!
Он заметил мое возбуждение и попытался меня урезонить. Да, он честно старался приглушить разочарование, которое нарочно или нечаянно вызвал во мне.
— Ты преувеличиваешь, — настаивал он.
— А если он осуществит свои, как ты их называешь, масштабные идеи, в том числе и те, что касаются нас?
— Но до этого еще далеко, — увещевал он. — Честное слово.
Те же слова произнес в свое время мой отец, пытаясь меня успокоить.
Его ответ был для меня знаком, что он, по сути, дошел до предела. Он не знал, что делать. Чтобы пощадить меня, он продолжал лгать. Может быть, он сам увидел невозможность того, что несколько секунд назад объявил самым обычным на свете делом. Но момент был упущен. Я почувствовал, что пути назад нет.
Он уже не был таким, каким был в начале нашей прогулки, все изменилось. Что произошло? Два друга беседовали о третьем лице. При этом выяснилось, что третье лицо одному из них друг, а другому — враг. Вот и все. Я непрерывно наблюдал за ним со стороны. Он снова шел вальяжной походкой. А мой мир разбился на куски. И остались два огромных обломка, друг и враг, их нельзя было сложить вместе. Нельзя было возвратить утраченную гармонию их единства. Но в то же время я чувствовал, что, утратив друга, обрел наконец своего врага из плоти и крови.
Мы закончили свой путь почти в полном молчании. Нам больше нечего было сказать друг другу. Мне казалось, что время от времени легкий смешок срывался с его губ. Конечно, он думал о своем новом друге, он же видел его и слышал его речи. Наверняка он мог бы рассказать о нем много больше. Мое любопытство росло, но гордость не давала ему воли. Это становилось невыносимым. И тут мне пришла в голову безумная мысль, что он намеренно все подстроил, что произнес свои последние слова, чтобы в мире и согласии завершить эту прогулку. Ведь она началась так сдержанно и благопристойно. Может быть, при этом у него возникли насчет меня и другие соображения, которые он старательно скрывал.
Мы повернули назад. Я, как всегда, провожал его до дома тетки. Последний отрезок дороги я прошел в одиночестве. В сущности, тогда я очень упростил ему дело. Мы могли попрощаться как ни в чем не бывало. Ему было достаточно не приезжать на следующие каникулы, чтобы избавиться от меня. Но я буду начеку.
Вдруг он сказал:
— Я хочу на прощанье рассказать тебе одну историю.
— На прощанье? — вырвалось у меня.
— Как хочешь, — небрежно обронил он. — Как хочешь. Я сам услышал ее только недавно. Но могу и не рассказывать.
— Какую историю? — осторожно спросил я.
Он усмехнулся, видя мое любопытство.
— История о лосях. Знаешь ее?
— Нет.
— Слушай.
Он задумался. Я испугался, что у него вдруг пропадет охота рассказывать мне эту историю. Он выдержал короткую паузу и начал:
— Давным-давно немецкий кайзер гостил у своего кузена, русского царя. Визит был долгим, с осмотром достопримечательностей, праздниками и охотой. На прощанье царь подарил кузену в знак нерушимой братской привязанности стадо лосей. Это были великолепные, огромные животные с ветвистыми рогами, робкие и гордые, в наших краях таких уже не встретишь. Они оставались только в России, в некоторых областях, в степях и лесах, где редко ступала нога человека. Кайзер забрал их с собой, в свои владения. Он созвал всех лесничих и рассказал им о том, какой драгоценный подарок получил он, а значит, и они от его кузена. И все они вместе стали подыскивать в своей стране такое место, где эти животные, по их разумению, могли бы чувствовать себя, как дома. Нашлась одна обширная область с лесами и степными просторами, между Балтийским морем и лагуной[1], вдалеке от селений. Территорию объявили заповедником, построили маленькие деревянные сараи, запасли на зиму сена и листьев и назначили лесничего, чтобы он следил за этими кормушками. Некоторое время так оно и шло, и огромные лоси жили рядом с кормушками в своем царстве на перешейке между двумя водоемами и спаривались под старыми буками. По утрам можно было увидеть, как сохатые медленно переходят с края поляны в высокий кустарник. Днем они одиноко и неподвижно стояли между свисающими ветвями, глядя в бесконечность своими большими карими глазами. К ним следовало подкрадываться осторожно, чтобы не спугнуть. От испуга они вздрагивали и большими скачками удалялись в чащу. Громко стуча копытами, они убегали все дальше на холмы, поросшие травой. Взбегая по склону, они откидывали голову назад, и казалось, что рога у них растут на крепком загривке. А потом они снова исчезали в лесной чащобе. Некоторое время тяжелое тело лося еще сохраняло инерцию бега, а потом постепенно переходило на гордую оленью поступь. Длинные шеи склонялись к земле, сохатые щипали траву и листья, и тогда их рога напоминали узловатые сучья, упавшие с деревьев. Запах помета лесных зверей смешивался с запахом помета лосей, их рев во время гона сливался с голосами лесного зверья. Казалось, их присутствие испокон веков наполняло собой жизнь между двумя водоемами.
Прошло довольно много времени, когда стали поступать первые сообщения о гибели животных. Все чаще в лесах, на равнинах, то там, то сям находили труп лося. Прекрасное, некогда теплое тело валялось на земле, словно сгнившее дерево, невидящие глаза застыли в глазницах, как тусклые стеклянные бусины, и не было никаких следов, указывающих на то, каким образом зверя настигла смерть. Вместе с тем казалось, что оставшиеся в живых лоси охвачены какой-то апатией. Они еще поднимались на холмы и спускались на равнину, но прыжки утратили смелость, аллюр потерял упругость.
Кайзер созвал своих лесничих, и они стали держать совет, как остановить молчаливое вымирание поголовья. Рассмотрели все возможности, корм, климат и условия обитания, пригласили ветеринаров, чтобы те обследовали трупы и нашли вещества, которые могли бы указать на внутреннюю причину смерти. Но ветеринары ничего не нашли. Тогда опросили знатоков жизни леса, чье ученое мнение и суждение считалось настолько авторитетным, что могло бы способствовать объяснению загадочной напасти. Но никто из них не знал объяснения. В конце концов, кайзер написал своему кузену, царю, поделился с ним своим огорчением и попросил совета.
Царь прислал одного из своих лесничих, который долго жил в той местности, где водились лоси, и знал все, чтобы было связано с их образом жизни. Этот человек поселился в маленьком деревянном доме в лесу на перешейке и провел там целый год. Он исследовал все, что было связано с жизнью лосей на их новой родине. А когда минул год, он отправился к кайзеру, лесничим и ученым и сказал: «Я все изучил и выяснил, что сено превосходное и листья сочные. Климат благоприятный, почва, лес и степь добрые. Сделано все, что может сделать человек, чтобы сохранить поголовье. Животные ни в чем не нуждаются».
— Почему же они вымирают? — нетерпеливо спросил кайзер. — Они и впрямь ни в чем не нуждаются?
— Ни в чем, — подтвердил старик. — Никто не виноват. Но лосям не хватает…
— Чего? — снова перебил его кайзер.
— Кое-чего, — продолжал лесничий. — И потому они умирают.
— Ну же! — сказал кайзер и забарабанил пальцами по столу.
— Волков.
— Волков? — недоверчиво переспросил кайзер.
— Да, — сказал старик. — Волков им не хватает, волков.
И уехал домой, к своим лосям и волкам.
Мой друг умолк.
Некоторое время мы молча шли рядом, и я непрерывно твердил про себя: «Волков им не хватает, волков». Я был ошеломлен.
Кто бы мог подумать, что им не хватает волков. Почему не неба над степью? Не певчих птиц? Почему не… Но нет. Волков им не хватает. Я чувствовал, что должен что-то сказать. Но в голове у меня вертелся только этот вопрос.
— Странная история, — сказал я после паузы, не обращаясь прямо к нему.
Он не ответил.
Зачем вообще он рассказал мне эту историю? Ведь было же у него какое-то определенное намерение, раз он выложил мне эту, а не другую байку, думал я. А теперь он, наверное, ждет, что я скажу. Ждет моего одобрения.
Я судорожно подбирал слова. Он так долго говорил, а теперь молчит. И то и другое: и рассказ, и долгая пауза, произвели на меня сильное впечатление. Я чувствовал, как оно давит мне на плечи, парализует язык. Рассказ задел меня, он был связан с нашим разговором, уж это точно, с врагом и всем, что его касалось.
Но одновременно что-то во мне взбунтовалось, а я не находил слов для выражения своего бунта.
— В высшей степени своеобразная история, — повторил я с досадой и снова выдержал короткую паузу, давая понять, что мне нужно еще раз осмыслить эту в высшей степени своеобразную историю. — Кажется, я понял, зачем ты ее рассказал, — продолжал я. — Но не до конца. Мне вообще не нравятся басни про зверей, я никогда их не ценил. Хотят рассказать что-то про людей, а приводят в пример животных. Зачем? Человек и зверь, это две совсем разные планеты. И что правильно для одного, не всегда правильно для другого.
Я заметил, что вступил в дискуссию, чтобы обрести прежнюю уверенность. Взглянув на него, я увидел, что он прижимает к зубам верхнюю губу со шрамом и смотрит вдаль отсутствующим взглядом. Может, он вообще уже не слышал моих последних слов. У меня стало муторно на душе, я замолчал и шел рядом с ним, как немой.
На ближайшем перекрестке, за несколько улиц до дома его тетки, я остановился. И протянул ему руку.
Он решительно пожал ее. Казалось, он только и ждал этого прощального рукопожатия. Потом он долго и пристально смотрел на меня. Я не совсем понял, что было в этом взгляде: печаль или триумф. Не мог его истолковать. Он поднял голову и устремил взгляд на улицу. Он явно повеселел. Потом откашлялся. Шрам на его губе слегка покраснел. Это был последний сигнал, понятный, как красный свет светофора.
V
После этого потекло время, от которого в моей памяти сохранился лишь слабый отблеск печали. Я потерял своего друга, человека, которого ценил, которым дорожил. Надеюсь, и я кое-что для него значил. Эта утрата обезоружила меня и более чем когда-либо прежде сделала уязвимым для любой обиды.
Но я скрывал свою ранимость за мрачной гордостью. Внушал себе, что сам избрал навязанное мне одиночество. Цеплялся за бредовое утешение, что я не жертва заговора, а главный заговорщик. Легче вынести горы добровольно возложенных на себя охладевших чувств, чем искру опасности, призывающую к борьбе.
Мама первая заметила эту перемену. Спустя некоторое время она как бы между прочим спросила, что поделывает мой бывший друг.
— Что-то вас больше не видно, — сказала она.
Я попытался уйти от ответа, пробормотав нечто столь же обтекаемое.
— Что-нибудь случилось? — продолжала допытываться она.
Я не любил делиться с родителями своими сердечными тайнами.
— Он меня старше на три года.
— Он больше не приезжает сюда на каникулы?
— Не знаю.
— Кажется, я видела его вчера. Он шел по другой стороне улицы и не поздоровался. Может, это был вовсе не он.
Значит, он все-таки снова приехал? Я был озадачен.
— Может быть, — согласился я.
Последние слова нашего разговора уловил отец. Кажется, он все понял. На его лице мелькнуло выражение боли. Как если бы он понес убытки и пытался их скрыть. Он напряженно думал о чем-то, вертя в руках связку ключей.
— Тебе придется к этому привыкнуть, — сказал он наконец и пристально посмотрел на меня.
И сразу во мне вспыхнула ненависть. Она так внезапно возникла и атаковала меня, что я не успел от нее защититься. Я возненавидел отца, чье лицо отразило мою боль. Ты говоришь, придется привыкнуть, думал я, как будто это единственное, что мне осталось. Неужели не мог придумать ничего лучше? Придется привыкнуть, как привык к этому ты, и твой отец, и отец твоего отца, и все, кто были до них. Как будто потерять друга — самое обычное дело на свете. Я ненавидел его, так как чувствовал, что он посадил меня на цепь неотвратимости. Так приковывают цепями преступника. От них не избавишься, глупо даже пытаться. Приговор был вынесен, но вина лежала на нем, на моем отце. Он тоже когда-то принял ее как подарок, он унаследовал груз вины, вручаемый в тревоге и в тревоге получаемый. Я глядел на него в упор. Ему следовало бы лучше подготовить меня к этому подарку. Сказать, что подарок доставит мучения и тяготы, повлечет за собой издевательства, утраты и измены, несправедливость и бессилие. Что это и есть та жизнь, для которой он произвел меня на свет. А не та, о которой идет речь в благодушных детских книжках.
— Но гордость свою беречь надо, — добавил он, словно для того, чтобы придать тому, о чем мы оба думали, недостающий фермент силы. Он не смог бы найти лучших слов, чтобы возбудить во мне еще большее негодование. Он говорил о том, чего сам не имел. Гордость? А чем гордиться? Тем, что ты — это ты, и никто иной. Может, еще и помолиться о гордости? Господи, спасибо, что я такой, как есть, а не другой! Это начало всякого варварства.
В разговор снова вмешалась мама.
— Ты скоро уедешь отсюда, — сказала она. — Найдешь себе новых друзей.
Ей нужно было оставить за собой последнее слово.
Обстоятельства поджимали. Я бросил школу, уехал в Ф. и вскоре попал в круг сверстников и товарищей по судьбе. Они, как и я, носили то же клеймо.
Среди них были Вольф и Лео, Гарри и Макс. И много еще других имен приходит мне на память, хватило бы на целую записную книжку. Может быть, кто-то из них, кому позже попадутся мои заметки, припомнит еще несколько имен, которых я не называю, сочинит сюжет и опишет всех в поэтическом романе. Примеры бывали.
Как это ни странно, но я, кажется, сознательно или бессознательно убежден, что не я заберу потом эти записи для какой бы то ни было цели. Это убеждение каким-то образом связано с решением, которое я приму в ближайшее время (а может быть, уже принял), так как уже теперь вполне учитываю возможные его последствия. Но есть и еще одно соображение. Может показаться, что я намереваюсь (против воли) испортить работу моих будущих редакторов и самостоятельно выполнить то, что станет позже их делом. Что, если я снова поддаюсь самообману и в качестве контрабанды провожу в своем багаже все-таки больше надежд на будущее, чем готов признаться самому себе? Я хорошо усвоил, что слова подобны чемодану с двойным дном. Бывает, что, даже вдохновляясь самыми благими намерениями, ты не можешь предотвратить отклонений от линии, которую намечает истина и общечеловеческая мораль. Но я отнюдь не считаю, что достаточно взять перо и нацарапать что-то на белой бумаге, чтобы поддаться всем искушениям, которых ты стремился избежать. Такой подход выше моего понимания. Но я и не думаю, что порядочные и достойные литераторы, то есть люди, знающие толк в своем ремесле и переставшие врать, всегда говорят только правду. Я уже не так наивен. Тот, кто поскользнется на льду и упадет, не может этого не заметить. Я заметил это только потом, когда было поздно. Предоставляю другим посыпать лед песком, перерабатывать и вносить правку, у меня хватит мужества признать свои недостатки. Не знаю ни одного рекорда, который не был бы позже побит. Я видел, как никому не известные новички приходили к финишу победителями, как проигрывали фавориты. Они пропускали тренировки. Моим идеалом было десятиборье. Музыканты, сочинявшие свои симфонии и сонаты, всего более отвечали моему вкусу, когда после адажио помещали в партитуру менуэт в новой гармонии. Но я отвлекся. Так о чем я хотел написать?
Итак, я попал в круг ровесников и товарищей по судьбе. Всегда интересно наблюдать, как повсюду на земле образуются кружки людей, которых тем или иным манером сводит судьба. Взять хотя бы матросов. В любом порту, где они встают на якорь, есть свои кварталы, где их ждут как желанных гостей. Люди обособляются и образуют собственную общину, издали заметную другим. Ты — иной, а это — твое собственное. И вскоре уже никто не сможет сказать, что приводит к различию — клеймо отверженного или община изгоев.
Вольф был не первым, с кем я познакомился. Но он произвел на меня самое сильное впечатление, хоть я и не называю его своим другом. Он был высок ростом (на голову выше большинства из нас) и толст. Он нарастил слишком много жира и двигался неуклюже. Я часто уговаривал его немного позаниматься спортом. Напрасно. К тому же он небрежно одевался. Ходил в пестрой рубашке с расстегнутым воротом, синей или красной, никогда не надевал галстука. У него были крупные ступни, но он носил туфли на размер больше, так что они сидели у него на ногах, как маленькие челноки. Но какие бы пятна и складки ни появлялись на одежде, лицо его сияло добродушием.
Он был на несколько лет старше нас, имел определенный жизненный опыт и умел преподнести его так, чтобы казаться взрослее. Да он и в самом деле был более зрелым человеком. Он жил в пригороде с матерью, старшим братом и младшей сестрой. Отец его умер от ран после избиения, оказался одной из первых жертв. Подозревали, что он сам спровоцировал инцидент.
Хоть прежде я несколько раз встречал Вольфа в разных местах (я мало где появлялся, так что раньше не было повода), первый наш доверительный разговор состоялся на следующий день после небольшого, в общем-то незначительного происшествия на втором этаже универмага. Оно имело и другие последствия, но о них я расскажу позже.
В то время я был подсобным рабочим в этом универмаге, который находился в центре города на главной улице, всего в пятистах метрах от вокзала. Если сойти с перрона, пересечь привокзальную площадь и, пройдя несколько шагов, встать на первом мосту около слепого музыканта с сенбернаром, то оттуда хорошо виден конец улицы и площадь перед замком. Магазин стоит прямо напротив замка. От биржи его отделяет только автостоянка.
Многие считали биржу красивым зданием, может, оно и было таким. Его построили позже, чем вокзал. Но мне нравился универмаг. Это был не слишком большой, но прочный и надежно построенный дом, не дворец, не мраморный замок, просто дом из песчаника, куда вы в любой день заходите без страха: с простым фронтоном и шестью боковыми фасадами. Всего шесть этажей, не небоскреб, а дом, и вы в нем — как у себя дома, и на любом этаже вы чувствуете, что у вас есть пол под ногами и крыша над головой. Конечно, на свете есть более крупные и помпезные универмаги, в Нью-Йорке, Чикаго, в Филадельфии и Рио. Но не в этом же дело. Там имелось все, что ты ожидал найти в магазине, и даже намного больше, о чем ты никогда и не мечтал. Там встречались люди со всего города, с тощими и толстыми кошельками, и люди из провинции. Это было самое красивое здание из тех, что я видел до сих пор, там можно было совершенно потеряться и все-таки, в конце концов, оказаться в нужном месте. Но может быть, оно казалось мне таким красивым только потому, что я там работал.
В городе было много куда более высоких и просторных домов с бесчисленными этажами, настоящих небоскребов, как, например, здание страхового фонда в южном районе. Но то был холодный белый дом с длинными ровными рядами бесчисленных окон. Проходя мимо такого сооружения, сразу чувствуешь, что внутри речь идет только о бумагах и цифрах: люди сидят, склонившись над счетными аппаратами, и считают и пишут. Повсюду только согбенные спины и стеллажи с документами. Из этого здания только пыль летела, гадость, а не радость.
Зато в универмаге, на уровне улицы, по которой спешили прохожие, шел длинный ряд больших витрин. Каждая с любовью и выдумкой рассказывала маленькую историю, каждая отличалась от соседних. Вдоль фронтонов посередине были укреплены (как будто приклеены) красочные рекламы, свисавшие до высокого портала. А наверху, под самой крышей, по вечерам бежала светящаяся надпись. Ты подходишь к магазину, и тебя неудержимо влечет от витрины к витрине, ты снова становишься ребенком, для которого все и вся — только повод для собственных желаний и мечтаний. А потом ты, уже поддаваясь этому волшебству, поднимаешься по четырем-пяти ступеням к главному входу, где у вращающейся двери стоит верзила-швейцар в своей зеленой ливрее и большой фуражке и следит за тем, чтобы дверь хорошо вращалась и чтобы в универмаг не проникали уличные мальчишки. Время от времени он длинной рукой подталкивает дверь, она проворачивается, вместе с ней движутся и люди, входящие и выходящие, поднимается прохладный сквозняк, а швейцар стоит, широко расставив ноги, и смотрит на улицу и на прохожих, не выпуская из виду дверь. И тогда ты вступаешь в нутро универмага и оказываешься в высоком зале, куда сверху через окно падает яркий свет. Зал простирается в глубину направо и налево, как будто раскрывая тебе объятья. Но ты не в состоянии охватить взглядом весь зал, ты лишь смутно ощущаешь его глубину, что-то все время закрывает тебе обзор. И ты поневоле то и дело изумляешься, пока шагаешь от широкого прохода в центре в глубину зала по бесчисленным боковым ходам налево и направо мимо заваленных товарами прилавков. Один за другим возникают все новые проходные зальчики, отделенные друг от друга лишь узким проходом между прилавками. Но не успеешь окинуть их взглядом, как уже проходишь мимо. Но это лишь начало искушения. Ибо впереди, в конце центрального прохода, рядом с главной лестницей, и там, где около лифтов поворот за угол, в чем-то вроде шатра стоит мужчина без пиджака и азартно убеждает круг любопытных, каковой постоянно обновляется, приобрести вот этот маленький аппарат. Чудесное действие аппарата доступно любому желающему. Всего за пятьдесят пфеннигов. Мы имеем честь предложить вам маленькое чудо света. Так что спешите купить его сегодня, потому что завтра оно уже не будет чудом. И пока ты стоишь там и изумляешься, до тебя доносится легкий морской бриз, аромат сосновых иголок, мыла, духов и пудры, гребешков, кошельков и шалей. Женщины приносят их с собой, ведь, приходя сюда, они не упускают случая, медленно и задумчиво пройтись мимо прилавков, пожирая взглядами то, что должно принадлежать только им. Ах, эти молодые девушки, что толпами забегают сюда из контор примерно в полдень! В другом крыле здания дело обстоит серьезнее: там, на битком забитых полках, тебя ожидают в больших коробках шерстяные вещи, лен и сатин.
Ты входишь в лифт и, пока тебя с ног до головы обтекает струя теплого воздуха, возносишься на второй этаж. Сквозь сужающуюся щель ты видишь вытянутые шеи тех, кто не успел войти, и удаляющуюся суету остальных, прокладывающих себе путь в толпе. И вот ты уже стоишь среди небрежно расставленной мебели и тяжелых камчатных тканей для кресел и диванов, приглашающих тебя к блаженному погружению. Но ты нерешительно движешься дальше, перешагивая через ковры и дорожки, в которые вплетены мечты и легенды (сейчас тебе не до них), проходишь мимо толстопузых холодных рулонов линолеума, похожих на уличные тумбы, и вступаешь в обширный атриум. Его простор, свет и высота распахивают настежь все здание и даже крышу, каменные стены расступаются, и ты ощущаешь себя на какой-то широкой площади, в незнакомом городе, в незнакомой южной стране, где жить намного легче. Но в то же время это большой искрящийся театральный зал с ярусами, опоясывающими стены вплоть до стеклянной крыши. И повсюду полно людей, как перед началом представления. Они стоят и беседуют, бегут или сидят и смотрят, перегнувшись через парапет, вниз, на тебя, а ты стоишь внизу и глядишь на них. Вокруг звучат голоса, ты слышишь их все сразу, но ни один из них не внятен тебе. Это хор голосов, но твой слух воспринимает его как сплошной нарастающий гул со множеством обертонов, его лучше слушать, закрыв глаза. И так же, как в твоих ушах, этот гул стоит во всем доме, на всех этажах и переходах, он впитывает в себя все звуки, столь же разнообразные, как краски в светлом дворе, здесь, внизу, где на полках уложены наискосок рулоны тканей, зеленые, красные, голубые, желтые и черные. Все это темнеет и светлеет в бесчисленных оттенках, твои глаза словно обретают новое зрение: вон там синие бархатные ткани, а там лазоревые шелка, велюры и крепдешины, бордовые вуали и набивные ситцы, пестрые муслины и парча. Все эти краски, оттенки и ткани бьют тебя наотмашь из драпировок в центре двора, из декораций и искусных манекенов. А между ними снуют продавщицы в черном, всегда готовые к услугам, стоит лишь подозвать их.
На втором ярусе за низкими круглыми столиками сидят люди, там во всю ширину яруса, до самого фасада простирается кафе. Но по пути туда нужно пересечь книжный отдел, войти в еще один, совсем другой мир. У столов и полок стоят люди с книгами в руках, погруженные в чтение. Эти никуда не спешат. И продавщицы, и заведующий спокойны и тоже не спешат. По их манерам ты замечаешь, что они обращаются с книгами, как с непослушным любовником. А ты ведь решил, что в жизни не возьмешь в руки никакую книгу, будешь только смотреть, с тебя и этого довольно. Но, не успев опомниться, ты уже подходишь к столу, осторожно берешь маленькую книжку и листаешь и уже читаешь вторую, и следующую, и вот ты уже пропал. Ты медленно крадешься от книжки к книжке, пока звуки рояля не выманивают тебя из этого царства зрения, потому что рядом располагается музыкальный отдел. Там звучит какой-то танец, зонг с сильными, четкими ритмами в басу, а над ним плывет простая проникновенная мелодия. Рядом с пианисткой стоит какая-то женщина и слушает, прежде чем купить ноты — кому-то в подарок. Откуда-то из дальнего угла доносится серьезная музыка с граммофонной пластинки, фуга и инвенция. Ты подбегаешь и слушаешь, пока не узнаешь музыку, и удовлетворенно идешь дальше по центральной лестнице на следующие этажи, где на плечиках больших передвижных вешалок висят костюмы и платья, шубы и куртки, простые вещи и дорогие, большие и маленькие размеры. Там, в углу, шествует свадебная процессия кукол в натуральную величину. Смеется невеста в фате, смеется чопорный жених, подающий ей руку, дети на негнущихся ногах, смеясь, разбрасывают цветы, а за ними теснятся старые и молодые гости, чей возраст можно установить по одежде. Чуть дальше, за узким проходом, стоят детская коляска и колыбель. Если еще раз оглянешься, снова увидишь развешанные картины. И испугаешься, потому что эти картины некрасивы.
Наконец-то ты обнаружил здесь нечто уродливое, эти картины. Ты бы ни одну из них не повесил дома, а их все-таки покупают. Нет, думаешь ты, картины неуместны в универмаге, хотя все здесь разложено для рассматривания. Но рассматривать картины — это не для универмага. Впрочем, тебе нельзя здесь застревать, ведь тебя ожидает еще спортивный отдел. Ты посмотри, сколько там народу! Двинь-ка походя боксерскую грушу. А помнишь, как ты мечтал о своей парусной лодке? Вон там зеленая походная палатка. Рядом с ней мотоцикл, а за углом уже царит зима, с санками и лыжами, коньками и бобслеем. Смех, который ты слышишь, пройдя дальше, доносится сверху, из отдела игрушек. Там всегда полно людей, загляни туда и на мгновение вернись в блаженное состояние своего детства, наверстай то, что упустил: смех, непринужденное веселье и одновременно серьезную деловитость игры, фантазию в действии, возможную только в игре.
Но ты увидел еще не все. Ты спешишь мимо хозяйственного отдела, ведь ты мужчина, какое тебе дело до всех этих горшков и сковородок, стаканов и ведер, щеток и деревянных ложек, стиральных порошков и подставок для столовых приборов, и песочных часов. Ты едва успеваешь бросить взгляд на расписную посуду, чашки и кувшины и тарелки с узорами, это позже, когда-нибудь потом, когда будет у тебя свой дом, откуда не надо будет уезжать.
Ты устал, но идешь дальше и поднимаешься наверх. Ты уже не замечаешь того, что раскинулось перед твоим взором, этого слишком много, ты уже не в силах всматриваться, и тебе все время вспоминается дамская сумочка из красно-коричневой кожи. Она так тебе понравилась, и ты знаешь, кому она пришлась бы по вкусу. Ты устал от всего, а ведь ты еще не был наверху, в продуктовом отделе. В универмаге много, очень много интересного. Так что, в конце концов, забываешь, что все можно купить, а бродишь, как в музее, глядишь во все глаза и замираешь от восторга. Все так красиво и пестро, так разнообразно в своем мирном соседстве, что невольно радуешься, любишь, чувствуешь себя счастливым, это целый мир, выставленный на прилавках. Тебе не нужно его покупать, да и не можешь ты его купить, ведь у тебя нет таких денег, и никогда не будет. Но ты еще не был наверху, в продуктовом отделе, где засахаренные фрукты и орехи, миндаль и мороженое, пряности: мускат, гвоздика, индийский карри и филиппинский самбал; а еще сыры, колбасы и ветчина, мешки муки, гречки и гороха, шоколад, марципаны и вина, и продавщицы в белых чепчиках и передниках. Кафель сияет белизной, его чистят и натирают до блеска, белое, значит, чистое, так вкуснее. Да ты уже больше ничего не желаешь, ты пресытился самим желанием, смеешься над ненасытностью своего сердца и своей исключительностью. Ты жаждешь того удовлетворения, познать которое можно только в универмаге. Даже будь у тебя деньги, испытать более сильное желание невозможно. Это невозможно, даже будь у тебя еще меньше денег, чем сейчас. С деньгами ты можешь утолить вожделение. Но как научиться не желать и не утолять? Правда, ты узнаешь, что на свете есть много страстей и они расположены одна рядом с другой, как в универмаге. У каждого своя страсть, ты проходишь сквозь них тот же путь, что и в универмаге: швейцар, главная лестница, лифт или эскалатор, атриум и потом дальше наверх и обратно к выходу через вращающуюся дверь на другой стороне.
Но, купив карандаш за тридцать пять пфеннигов или зажигалку за семьдесят пфеннигов, ты выходишь на улицу с таким чувством, словно заодно купил и все остальное.
Однажды я прочел в газете, что универмагу требуется молодой персонал во все отделы, обращаться туда-то и туда-то. Я договорился о встрече и явился к молодому управляющему персоналом. Он прочитал бумаги, что я заполнил.
— Студент? — спросил он. — Мы ищем в основном продавцов, они проходят подготовку на наших курсах. Вы почему пришли?
— Хочу работать в универмаге, — сказал я.
— Почему? — повторил он.
Но я заметил, что спрашивает он участливо и в общем не удивляется моему появлению.
— Я часто хожу в этот универмаг, во все отделы, — сказал я. — Я здесь почти как дома. И, кроме того, мне нужно подработать.
— Продавцом? Это невозможно!
— Ну, может, как-то иначе, — ответил я.
— Что вы умеете?
— Могу открывать ящики и упаковывать свертки, — сказал я.
Дома я часто помогал отцу, когда он получал ящики с аппаратурой и пленкой. И запаковать я мог все, что угодно.
— Вот как? — сказал он, как будто это самое простое на свете дело. — Завтра в двенадцать приходите на склад, задний вход, доложитесь заведующему.
Он черкнул пару строк на клочке бумаги и вручил мне.
И со следующего дня я работал на складе в качестве подсобника, по нескольку часов ежедневно, в основном после обеда. Иногда помогал упаковщикам в отделах.
Шли последние дни распродажи. Большие сражения остались позади, когда в полдень началась непредвиденная атака на отдел тканей, расположенный в углу светового двора. Толпа возбужденных покупательниц внезапно подвергла осаде столы, где лежали цветные отрезы и купоны в несколько метров. Младший персонал, девушки, работавшие в обеденный перерыв, героически оборонялись. Я стоял за упаковочным столом рядом с кассой, металлическая решетка отделяла меня от публики. И тут в противоположном углу произошла какая-то сутолока, и до меня донеслись два возбуждено спорящих голоса. Я бросился туда и увидел, как в очереди покупательниц две горластые особы дерутся за отрез красного материала. Обе держались за край отреза, силясь вырвать его из рук соперницы. Каждая настаивала на своем приоритетном праве, свидетели из числа ожидающих в очереди сопровождали их попытки энергичными выкриками. Когда речь идет об утолении страстей (что свойственно людскому роду), всегда образуются партии и круги, дабы довести дело до крайности. Здесь тоже образовались две партии.
За прилавками, перед пустеющими полками стояли девушки-продавщицы, принимали заказы от покупательниц, притаскивали новые купоны, отмеряли, торопливо выписывали контрольные чеки и относили купленные отрезы к столу упаковок.
Одна из девушек, чьи миротворческие попытки провалились, разочарованно отступила, и, прислонясь к пустым ящикам, рассматривала участниц сражения. Она побледнела, была явно огорчена своей неудачей и смотрела на дерущихся женщин, как на сцену из фильма: с интересом, участливо, но с определенной дистанции. У нее были волосы цвета скрипичной древесины, неправильный овал лица, левый глаз чуть-чуть меньше правого, но взгляд живой и теплый. Темно-рыжие волосы, цвета скрипичной древесины, искрились, когда на них падал свет. Я не сводил с нее глаз. Что-то своеобразное было в ее позе и фигуре. Она с улыбкой кивнула мне, когда я, выступив из своего угла, подошел к спорящей очереди.
К тому времени я уже неделю работал в этом отделе и часто ее видел. Похоже, что и она узнала меня и не удивилась, что я пришел ей на помощь.
— Ну-ну, милые дамы, — сказал я, и уже один мой голос заставил их внезапно замолчать.
— Я первая занимала, — сказала одна из спорщиц, полная женщина с энергичным подбородком и широкими выпирающими скулами.
Она крепко держалась за отрез и тянула его к себе.
— Она ошибается, — сказала другая, поменьше ростом и вообще не такая здоровенная. — Я тут стояла, а она не заметила.
Эта тянула к себе отрез за другой край.
Все женщины посмотрели на нас, продавщицы, положив на прилавок ткани и ножницы, с интересом наблюдали за развитием событий.
Я обратился к той, что говорила со мной последней.
— Скажите, мадам, вы покупаете для себя? — вопросил я.
Шерстяная ткань. Ярко-красного цвета.
Она кивнула.
— Да. Этого как раз хватит на платье.
— Но этот цвет вам совсем не идет, мадам, — произнес я немного тише, чтобы меня было лучше слышно.
Она так испугалась, что ее судорожно сведенные пальцы расслабились и почти выпустили ткань. Соперница воспользовалась шансом и выдернула у нее отрез. Побежденная в упор глядела на меня. Эта женщина средних лет явно не ожидала, что здесь отнесутся к ней с таким участием. Ее лицо утратило выражение непреклонности, губы разжались и полуоткрытый рот придал лицу более мягкое, беспомощное выражение.
— Но тогда ткань достанется ей, — сказала она так тихо, чтобы ее услышал только я.
Так как она была ниже меня ростом, я наклонился (я стоял спиной к другой женщине) и сказал так, чтобы услышать меня могла только она:
— Здесь каждый покупает, что хочет, но этот цвет определенно не ваш.
Все еще пребывая в изумлении от неожиданного поворота дела, она наивно призналась:
— Мой муж тоже так считает, он меня предупреждал. Спасибо!
Она уступила купон сопернице, повернулась к продавщице, с восхищением следившей за развитием событий, и сказала:
— Лучше я возьму вон тот, сизый, который выбрала сначала, ну, вы меня поняли.
— Как это вам удалось? — спросил Вольф, услышав от меня рассказ об этом происшествии.
— Не знаю, — сказал я.
— Но вы, должно быть, что-то при этом думали? — настаивал он.
— Я хотел уладить спор. Все остальное получается само собой, очень просто, — сказал я.
— Жаль, что обычно вы так твердолобы, — сказал он.
— Неужели? — спросил я.
Впервые он столь откровенно высказал свое мнение обо мне.
— Никто не знает, что вы, в сущности, думаете и на чьей вы стороне, — продолжал он.
— Ого, — сказал я. — По-моему, это ясно.
Ведь я такой же, как они, размышлял я, а они все-таки сомневаются. Разве я не ношу то же клеймо, разве оно не связывает нас? Неужели они думают, что я страдаю от него меньше, чем они, потому что не горжусь им как благородным знаком отличия и не выпячиваю его как нечто уникальное, словно в мире нет ничего более возвышенного? Ну да, я не умею ненавидеть тех, кого не люблю. И поэтому они сомневаются? Если бы знать, что там, наверху, у старого фотографа, о котором говорил мой отец, есть любимые портреты, что он время от времени вынимает их, любуется ими… А что, если он любит все свои снимки? Или один, в принципе неудачный, но и его время от времени подвергает некоторой ревизии? Но никто не знает, какой из снимков не удался. Камера-обскура бережет свою тайну. Желание узнать ее было бы дерзостью и гордыней.
— Все считают вас слишком упрямым, — сказал Вольф. — Быть может, в личном общении вы не столь упрямы, если узнать вас ближе. К сожалению, вы никому не даете такой возможности.
— Почему меня считают упрямым? — спросил я.
— У вас заскорузлые взгляды, — сказал он. — По крайней мере, судя по вашим скупым высказываниям. В тех редких случаях, когда вы показываетесь на люди, вас находят твердолобым. Я лично считаю, что вы ненадежны. Может, вы ненавидите самого себя?
— Вы полагаете, что я себя ненавижу, потому что хотел бы быть кем-то другим, а не самим собой?
— Возможно, — неуверенно ответил он.
— Значит, вы ошибаетесь, — отрезал я.
— Я был бы рад ошибиться, — произнес он довольно любезно и одновременно холодно. — В самом деле, хорошо бы иметь уверенность, что вы знаете, на чьей вы стороне. Создается впечатление, что вы колеблетесь, что вы, скажем уж честно, слабое звено.
— Может, провокатор? Платный агент?
— Да нет, — серьезно возразил он, тем более подчеркивая обвинение в слабости. — Не агент. За деньги вас не купишь.
— Жаль, — продолжал я в том же ироничном тоне. — А я-то надеялся, что у меня для этого все задатки. Разве нет?
— За деньги не купишь, — повторил он, явно намекая на другую возможность.
— Тогда за что? — спросил я с вызовом.
— Почему вы издеваетесь над самим собой? — сказал Вольф, спокойно глядя на меня. — Терпеть нелюбовь к себе и без того трудно.
Я был поражен.
— С чего вы это взяли? — небрежно сказал я, стараясь не подавать виду, что его удар попал в цель.
— Вы себя выдаете.
— В каком смысле?
Я заметил, что теряю самообладание, и несколько раз энергично откашлялся.
— Окажите мне любезность, — сказал он тем же спокойным и проникновенным тоном, — и не защищайте его всякий раз.
— Кого? — спросил я.
Он рассмеялся.
— С вами никогда не знаешь, то ли вы притворяетесь, то ли впрямь так думаете.
— Вот как, — сказал я.
Молчание.
Через некоторое время я продолжил:
— Почему мне ставят в упрек, что мои мысли в чем-то отличаются от общего мнения? Некоторые впечатления детства…
Он не дал мне договорить.
— Вероятно, такие же, как у всех нас, — сказал он. — Это вас не извиняет. Вам не хватает чувства причастности к общей судьбе, которое сплачивает всех нас. Вы забываете, что все, кто страдает на этом свете, принадлежат к избранным.
Все они страдают, пронеслось у меня в голове, все страдают от своего клейма, так я и знал. Они гордятся своим страданием, как благородным знаком отличия, и выпячивают его как нечто уникальное, словно в мире нет больше ничего возвышенного. Но они страдают, а то, что они делают из своих страданий, — это, в сущности, небольшая подтасовка.
— Знать бы наверняка, что на самом деле все это так, как вы говорите, — сказал я. — Если бы только знать…
— Да, конечно, — с ходу отрезал он.
Но по тому, как медленно он поднял голову и отвел взгляд и напряженно устремил его вдаль, было видно, что сам он был недоволен своим ответом.
— Значит, по-вашему, я его защищаю? — спросил я.
— Не впрямую. Но вы стараетесь вдуматься в него, исследовать и понять его побудительные мотивы. Получается, что вы в каком-то смысле ему симпатизируете, хотя…
— …хотя можно было бы требовать, чтобы я его ненавидел, — закончил я его фразу.
— Нет, — сказал он. — Не ненавидели. Но ваша гордость должна бы запретить вам вживаться в него настолько, чтобы почти забыть, кто вы и кто он. Это и есть сущность симпатии. Или вы опасаетесь, что, обозначив границы, обделите себя?
Значит, речь все-таки шла о гордости, которую следует сохранять. Одновременно гордость связывалась с определенной ограниченностью, и было неизвестно, сам ли ты себя ограничиваешь или тебя ограничивают извне. В любом случае мне она казалась необходимой в смысле самозащиты и самооправдания.
— Значит, вы готовы благодарить Бога за то, что вы — это вы, и воюете с другим именно потому, что он — другой, — сказал я. — Вы забываете, что другой то же самое делает с вами, ведь для него другой — это вы. Получается большая карусель с одинаковыми деревянными лошадками. Только раскраска разная, для развлечения почтенной публики.
— Но есть некая граница, за которой сочувствие и сострадание исчезает само собой, — сказал он.
Казалось, он был опечален тем, что приходится проводить эту границу. Он задумался и замолчал.
Чего бы я ни отдал за то, чтобы узнать мысли, проносившиеся у него в голове. Но он молчал и смотрел прямо перед собой. Массивное тело тяжело дышало. Казалось, с каждым вдохом он вбирает из воздуха жизнь, чтобы поставить ее на службу своему телу. Он дышал так, словно каждый его вздох был последним.
Вольф был хорошим человеком, это знал каждый, кто хоть раз имел с ним дело. Может быть, он думал о своем отце, которого убили, и одновременно об убийце отца. Может быть, он при каждом вдохе думал и о том, и о другом, и еще о многих вещах, о которых я не имел представления, потому что не пережил их. Я никогда не расспрашивал его ни об отце, ни о том, как он погиб. Кроме того, Вольф уже давно понял, что значит иметь врага, но он испытал это иначе, глубже, реальнее. И все же я не мог себе представить, как он приобрел свой опыт. Сам он хранил молчание. Бывали моменты, когда мне хотелось импонировать ему, думать и чувствовать так, как думал и чувствовал он. Но тогда я бы снова ощутил трещину, которая уже прошла через мое детство и расколола его на две части: тут друг, там враг.
Мне пришлось бы навсегда отречься от друга, которого я утратил из-за своего врага, хотя тогда я не попытался его удержать. Мне пришлось бы выдернуть свою руку у матери, когда она отводила меня обратно к детям. Мне пришлось бы расстаться с надеждой снова стать таким, как все. И мне пришлось бы стать таким же рьяным и жестоким, как они, чтобы утвердиться на другой стороне. На другой стороне, думал я про себя. Вот до чего уже дошло, ты оказываешься на одной стороне и участвуешь в борьбе, прежде чем успеешь сообразить, почему ты сражаешься, кто твой противник, почему он твой противник и чего ради, собственно говоря, ведется вся эта борьба. Погляди на людей, тебе нужно только принять несколько лживых утверждений и навязать их кому-то, и вот у тебя уже есть приверженцы, вот уже образуются партии, группы, расы. Целые континенты вооружаются для войны, а потом и развязывают ее. Люди готовы на все, они жертвуют жизнью, становятся вспыльчивыми и жестокими, может быть, и нужно научиться этому. Может быть, человек только так и добивается уважения к себе и в конечном счете становится другом того, с кем враждовал. Но мысли об этом сбивали с толку, ожесточали. И все вещи на свете, которые до сих пор были еще так прекрасны, становились грубыми и уродливыми. Но может быть, все-таки было необходимо научиться этому, и хорошо научиться. Как-нибудь потом. Но затем настанет время, когда придется разучиваться и забывать все, чему научился. А Вольф, значит, научился? Значит, после всего, что случилось с ним и его отцом, он может быть вспыльчивым и жестоким? Сейчас, когда он молча шел рядом, глядя вдаль, я не мог в это поверить.
Все это я хотел ему высказать и подыскивал слова, чтобы он понял меня. Но что значили для него слова, ведь он потерял отца и столько выстрадал. Я только и смог, что пробормотать:
— Даже если он вредит нам, он не обязательно дурной человек. Когда-нибудь он осознает свое заблуждение, может быть, с нашей помощью.
Это так приятно, хорошо отзываться о том, кто совершает лишь дурные поступки и сам о тебе отзывается только дурно. В таких случаях всегда ощущаешь свое превосходство.
Вольф выслушал меня спокойно, хотя было видно, что мое замечание сильно его возмутило.
— Смогли бы вы, — спросил он, — пробраться ночью на кладбище и учинить там разгром, разрушить места упокоения мертвых?
Я знал, что такое бывало, но спрашивать об этом меня? Абсурд. Я усмехнулся.
— Почему вы усмехаетесь? — сказал он.
— Мне пришла в голову странная мысль.
— Вот как?
— Да, я представил, что совершу это святотатство. При условии, что кто-то растолкует мне, что оно, так сказать, угодно Богу, разумно и даже необходимо для осуществления определенного плана. Человеку можно внушить многие вещи.
— Неужели? — сказал он. — Несете чепуху, все это для вас — голая теория, и вы еще ухмыляетесь. Неужели вы действительно смогли бы заманить в застенок старика и там растолковать ему, по какой причине, в силу какой необходимости вы лжете сами себе?
— В фантазиях случается и не такое, — возразил я.
Похоже, он и не ждал другого ответа, я его не удивил. Он положил на колени руки с растопыренными пальцами, уперся взглядом в пол и сказал, обращаясь как бы в глубь земли:
— Не дай Бог, придет кто-то другой и выполнит все, чего не потрудились совершить мы сами. Горе тому, кто осуществит наши фантазии.
Меня прошиб холодный пот.
— Прошу вас, — сказал я в отчаянии, — скажите, что мне делать. Что делать, когда к вам подходят и говорят, что вы мошенники и подлецы…
— Вы? Они? Мы! — поправил он меня. — Вы тоже сюда относитесь, не забывайте об этом!
— Хорошо. Вы, конечно, правы. Я оговорился. Значит, все мы мошенники, и нам не остается ничего другого, как играть по его правилам и тоже утверждать, что он мошенник, может, еще больший мошенник.
— Вы когда-нибудь задумывались о том, почему он считает нас мошенниками?
Мне вспомнились слова моего друга, когда я задал ему примерно тот же вопрос. И я всего лишь повторил их:
— Не знаю, интересует ли его всерьез, что мы об этом думаем. Он преследует определенную цель, а для этого ему нужен враг, чтобы повесить на него, как на вешалку, свою пропаганду и заявить на весь мир о своей миссии. В сущности, он имеет в виду самого себя.
— То, о чем вы говорите, — чудовищная правда, — сказал Вольф, и его тяжелое, немного обрюзгшее тело распрямилось. — Настолько чудовищная, что вы вряд ли представляете себе ее масштабы.
— Как вы думаете, что он сделает? Вам страшно? — смело спросил я.
Лишь недомыслие способно на такую смелость.
— Я опасаюсь самого худшего, — тихо сказал он и тяжело задышал.
Его рубашка при каждом вдохе собиралась в бесчисленные складки. Его страх не умалил произведенного на меня впечатления, тем более что проистекал он не из слабости характера, но, скорее, из мощного знания, может быть, из предчувствия. Я видел его добродушное спокойное лицо, на котором читалась решительность.
— Так что же мне делать? — повторил я.
— Ничего, — сказал он. — Совсем ничего. Если человек спрашивает, что ему делать, лучше ему вообще ничего не делать. В том-то и большая беда, что он ничего не знает и при этом думает, что все-таки должен что-то делать. Кто знает, что делает и где его место, тот действует в нужный момент, по наитию, не задумываясь, в чем его долг перед миром. Поэтому лучше вам ничего не делать.
— Вы удивительный человек, — сказал я.
— По-моему, вы намного удивительней, — возразил он. — Вы приехали из города, где наверняка испытали много неприятного. Вас отторгли еще в детстве, не так ли? В сущности, вы не хуже меня знаете, с кем вы, и я не думаю, что вы противитесь этому. Не это вас беспокоит. Но вы хотите невозможного. Вы пытаетесь заделать, залепить трещину, рассекающую этот мир, чтобы ее не было видно. И тогда вы сможете думать, что ее уже нет. Вы участник происходящего, пытаетесь это осознать и одновременно так повернуть ситуацию, чтобы выскочить и рассмотреть ее как бы с высоты птичьего полета. Вы пытаетесь обозреть то, что вас касается, как то, что вас касается и одновременно не касается. Я прав?
Я слушал его с изумлением, ведь он высказывал мысли, которые я никогда бы не смог высказать таким образом. Я лишь молча кивнул, ожидая продолжения.
— В один прекрасный день вы обнаружите, что это невозможно, и…
— И что тогда? — нетерпеливо перебил его я.
— Тогда вам не придется спрашивать, что вам остается делать.
— Если вдруг не возникнет совсем другая проблема.
— Какая? — спросил он.
— Такая, что любой и каждый заявит, что у него в кармане, так сказать, все законные права, единственно настоящие и подлинные, личный, так сказать, мандат, заверенный высшей инстанцией.
— Могу понять ваши трудности, — ответил он. — Это и наши трудности. Не забывайте, что пропасть, которая мерещится вам во внешнем мире, проходит внутри, если угодно, в мироздании. Если это вам что-то говорит. Она достигает глубины наших мечтаний.
— Тогда выходит, что он все-таки прав, — сказал я после короткого раздумья.
— Конечно, — сказал он. — Но и мы правы.
— Тогда нет надежды, что эта игра когда-нибудь закончится.
— Не знаю, — сказал он. — Кто может это знать?
— И так будет всегда?
Он пожал плечами и сделал вопросительный жест руками.
— Снова и снова будут воскресать и являться на арену враги рода человеческого и ежедневно отколупывать по кусочку от нашего прекрасного мира, как отколупывают кусочки от древних руин, где среди обрушенных стен гуляет ветер и хлещет дождь. По кусочку в день, пока там, где в золотые времена возвышалась каменная крепость, не останутся сплошные развалины и холодные валуны. А мы принимаем участие в этой жестокой игре, предаваясь иллюзии, что можем в ней выиграть. Грустно думать о том, каков будет финал.
Подперев рукой голову, Вольф медленно гладил свою заросшую щеку. Он дал мне выговориться и ждал.
— Вы хотите это изменить? — спросил он.
— В детстве я подделывал почтовые марки, чего только не вытворяют дети. Мой отец фотограф, я вырос в его проявочной, — сказал я.
Он рассмеялся и облегченно вздохнул.
— И что же?
— Вы правы, трещина проходит внутри. Похоже, без некоторого жульничества не обойтись.
— Так мы можем ждать вас завтра вечером?
Я оторопел.
— Ждать меня? Зачем?
— Харри сделает доклад, и вы легко найдете ответы на вопросы, которые мы с вами здесь обсуждали.
— Вы считаете, что наше собственное существование и есть пример чудовищной правды?
— Может быть, — сказал он задумчиво. — Может быть.
— Я приду, — нерешительно проговорил я.
Он пожал мне руку и ушел.
На следующий вечер я пришел к ним, и приходил потом довольно часто. У меня в ушах эхом отзывалось отцовское «мы». И постепенно я становился одним из них или, скорее, одним из «наших». Постепенно, потому что вера в собственное дело не перевешивала скребущего ожидания заняться им в неопределенном будущем, которое в известной мере построит мой враг.
Все помнят конец двадцатых, начало тридцатых годов, предшествовавших событию. Казалось, все указывало на его приближение. То есть так это представляется теперь, в воспоминаниях. Но может быть, разделяя время на до и после, мы совершаем тот же обман, что и профессора-историки, которые изобретают историю, полагая, что описывают ее. Все происходит иначе.
Дело в том, что обязательства, которые самоуверенно взяли на себя мои так называемые товарищи по несчастью, вызывали у меня подозрения. Не то чтобы я отказывал им в праве на решение, на занятие определенной позиции. Но они не смогли меня убедить. Испытав однажды разочарование в дружбе, я не мог избавиться от недоверия и к новым друзьям, даже когда жил среди них. Великий вызов был брошен всем нам, я намеревался принять его и идти до самого горького конца. Я не хотел намечать себе границы раньше времени, прежде чем будет размежевана вся страна. Боязливая невзыскательность сужает горизонты. Но если ты стремишься отбросить слепоту, твой кругозор расширяется по мере того, как растет твоя смелость. Мне казалось, что гордость и ненависть лишь туманят взор. Конечно, все это глупости. Нужно быть слабаком, чтобы так мыслить. Ограниченность — в природе человека. Человеческий разум копит впечатления, собираемые на расстоянии вытянутой руки. У человека есть право на месть, разве не так? Моя нерешительность была слабостью, мои приятели упрекали меня в малодушии. В разговорах и дискуссиях, которые невольно вращались вокруг того, чье имя, как по уговору, никогда не называлось, я вдруг ни с того ни с сего, вспоминал о понесенной давным-давно утрате. Неужели я все еще не преодолел этого чувства? Но что значит — преодолеть? Утрату нельзя преодолеть. Ты присваиваешь ее, вбираешь в себя и сживаешься с ней. Или она застревает в тебе, как застревает в горле кость.
Когда теперешние мои друзья рассказывали о нем байки и анекдоты или как-то иначе пытались представить его в комическом свете, я молчал. Мне было не смешно. Погодите, думал я с грозным пафосом угрюмого пророка, скоро вам будет не до смеха. Но даже когда они, впадая в другую крайность, давали волю своей ненависти и предрекали ужасы его явления в сгущающихся сумерках грядущего, я и тогда оставался равнодушным. И среди них я оставался одиноким.
VI
Вечером того дня, когда произошел инцидент в универмаге, я после работы вышел на улицу через заднюю дверь. Шел дождь. В подъезде и на крытой площадке перед выходом его пережидала целая толпа народу. Другие люди, торопясь домой, уходили через ворота, подняв воротники плащей. От толпы на площадке отделилась фигура в капюшоне, подошла ко мне и протянула руку. Я узнал в ней давешнюю продавщицу.
— Дождь, — произнесла она с улыбкой, словно оправдывая свое ожидание. И хотя она надвинула на глаза капюшон, мне было видно ее слегка асимметричное лицо и устремленный на меня теплый, живой взгляд.
— Но даже и без дождя я бы постаралась встретить вас здесь, чтобы поблагодарить за помощь.
— Смешная история, — быстро отозвался я, чтобы скрыть смущение. — А вы, кажется, махнули на них рукой, на этих женщин.
— Да, — призналась она. — Я уже отчаялась помирить их. Но, кроме того, в меня прямо вселился бес. Пускай, думаю, подерутся. Это так приятно — смотреть, как другие тузят друг друга.
Я все еще находился под впечатлением ссоры и отпустил несколько насмешливых замечаний о драчуньях. Она рассмеялась и рассказала о других случаях, когда она более успешно выступала в роли посредницы.
Дождь перестал.
— Пойдемте? — сказал я.
Мы вместе двинулись по улице, до блеска вымытой дождем. На углу мы остановились.
— Вы торопитесь? — спросил я.
— Нет, — сказала она. — А вы?
— Я тоже нет, — сказал я.
Ее непринужденность передалась мне. Девушка мне нравилась.
— Сегодня я не готовлю, — сказала она. — Я условилась с братом встретиться в кондитерской. А вы?
— Обычно я хожу вон туда, в маленький ресторан, у меня абонемент. Но могу пойти с вами, — прибавил я.
Мы пошли дальше, она болтала о своей жизни с братом, который был старше ее на два года. Они вместе снимали маленькую квартиру. Она после работы вела хозяйство, он служил в какой-то конторе и по вечерам учился. Она рассказала об этом вскользь, в общем, а я не хотел расспрашивать о подробностях, хотя моя тактичность была ошибкой. В первые полчаса знакомства, когда собеседник еще не опомнился от новизны и выбалтывает все, что вертится на языке, нужно заглянуть в его жизнь, чтобы подслушать и подсмотреть много интересного. Мы поздно, часто слишком поздно выясняем обстоятельства, которые, при некоторой ловкости, легко выяснить и сопоставить с самого начала. Она говорила просто, естественно и все же с некоторой робостью, что в моих глазах было бесспорным достоинством.
— Вы родились здесь? — спросил я.
— Нет, нет, мы приезжие, из провинции, а вы?
— Я тоже, — ответил я.
Она жила здесь примерно год. Из-за каких-то событий, о которых она упомянула лишь мимоходом, они с братом решили попытать счастья здесь, в двухкомнатной квартирке с кухней в западном районе города. Она не производила впечатления человека, обиженного на свою судьбу. То ли ее удовлетворенность соответствовала некой внутренней гармонии, примиряющей любые противоречия, то ли тут было что-то еще, какие-то шоры, недостаток глубины?
— Вы работаете у нас подсобником, — сказала она.
— Откуда вы знаете? — спросил я.
— У вас неполный рабочий день, — сказала она.
Значит, она обратила внимание, что я прихожу всего на пару часов.
— Да, — сказал я.
— Вас это устраивает?
— Мне нравится работать в универмаге.
Она взглянула на меня удивленно и усмехнулась. Похоже, она не разделяла моего энтузиазма. А ведь сказала «у нас», когда спросила меня о работе.
— Вы приходите в разное время. А когда ходишь к определенному часу изо дня в день… — Она не договорила. — Поначалу все кажется великолепным, а потом привыкаешь. Так оно и идет.
Я рассказал ей о своих первых впечатлениях от универмага, о своих путешествиях по этажам, об изобилии, неисчерпаемости и богатстве, вызывающих у меня ощущение счастья и полноты жизни.
— Я работаю в универмаге с того дня, как приехала, — сказала она.
— И вам нравится?
— Я никогда не проходила по всем этажам, как вы, некоторых отделов вообще не знаю.
— Странно, — сказал я.
— А что странного? Торчишь тут, внутри, целый Божий день, — сказала она. — К тому же у такого универмага есть и оборотная сторона.
— Конечно. Но какая именно, я пока не знаю.
— Здесь сто магазинов в одном, — сказала она. — Представьте себе заведение поменьше, писчебумажную лавку или ателье. И вдруг в один прекрасный день там открывается универмаг.
— Знаю, мне рассказывали, — сказал я. — Но разве такое бывает?
— Еще как, — отрезала она и замолчала.
Она произнесла это с большей настойчивостью и резкостью, чем я от нее ожидал. С таким видом, словно испытала это на своем опыте. Кто знает?
За этим кроется семейная история, подумал я и сконструировал интригу. Отец — мелкий предприниматель старого закала, не без способностей, но отставший от времени. Он неудачник, обиженный на судьбу, и его озлобленность передается детям. Они уезжают в большой город, и дочь начинает работать на того, кого должна бы презирать и ненавидеть как убийцу своего отца. Видимо, она не совсем осознает это раздвоение. Ее мужество помогает ей преодолеть трудности. Доморощенный сюжет был не слишком оригинален.
— И вам не скучно только и делать, что паковать пакеты? — поинтересовалась она спустя некоторое время. Она преодолела свое дурное настроение, и по теплому тону в ее голосе я заключил, что ее участие было искренним.
— Напротив, это окрыляет мою фантазию, — поддразнил я ее.
— Фантазию? А при чем здесь пакеты? Разве что вы пакуете свою фантазию не в те пакеты.
Я заметил, что завожусь. Но восторженность поможет мне скрыть смущение.
— Вы никогда не получаете посылок? — спросил я для начала.
— Иногда, — ответила она и прикрыла левый глаз, который был немного меньше правого.
— И вы им не радуетесь? — продолжал я.
— Конечно, — подтвердила она, но так сдержанно, что я усомнился, получала ли она когда-либо посылки.
— Нет ничего прекраснее, — сказал я. — Это единственное чудо, единственный сюрприз, который остался нам на этом свете.
— Кажется, снова пошел дождь, — отозвалась она, вытаскивая свой берет, который во время разговора сунула в боковой карман плаща.
— Меня посылают повсюду, — продолжал я. — Я уже работал почти во всех отделах, где нужны мужчины. Кроме посудного. Туда меня пока не рискуют посылать…
Мы уходили все дальше. Вот она откинула назад голову и черкнула рукой по воздуху, чтобы ощутить дождь. Вот она засмеялась и взглянула на меня искоса, поворот головы открыл мне совсем другое лицо. Я был поражен.
— …хотя я достаточно осторожен, — добавил я.
Я был немного сбит с толку и думал о том, что и с этим лицом я когда-нибудь обойдусь осторожно, если буду держать его в своих руках.
— Вы видите людей покупающих, в азарте выбора и принятия решений. Это, конечно, тоже захватывает, правда? Вы их видите, так сказать, в пылу сражения. А я их вижу после боя, после победы или поражения, если угодно, когда они уносят домой свои трофеи. Для одних покупка ничего уже не значит, они так пресытились, что совсем не чувствуют счастья при исполнении желания. Но я вижу и счастливых, и удовлетворенных, и сомневающихся. Эти никогда не знают, была ли их покупка удачной.
Когда мы переходили улицу, она сказала: «Осторожно!» и взяла меня под руку. Ее рука была сильной и нежной.
— Я сужу о покупателях по тому, как они отходят от кассы и протягивают мне чек. В сущности, у меня в руках оказывается их собственность. Я ее заворачиваю, а они стоят и ждут своего свертка. Я представляю себе, как они распаковывают его, придя домой, или вручают тому, кому он предназначен в подарок. Иногда они благодарят меня за покупку, а ведь она и так уже принадлежит им.
— У одних есть деньги, им легко покупать, они к этому привычны, а другим приходится долго считать, — сказала она. — А вы и в бумажник можете заглянуть?
— Сразу видно, — ответил я, — радуются они или сомневаются. У одного денег мало, и поэтому он рад покупке, у другого тоже мало, и поэтому он сомневается и относится к покупке как к важному делу. А еще есть люди, довольные жизнью — с деньгами или без, не важно.
— Но все-таки самое прекрасное — это дети, — сказала она. — Вы обратили внимание на детей?
— Да, — сказал я, обрадованный тем, что она напомнила мне о детях. — Вы правы, дети в универмаге, — это действительно самое прекрасное. Нужно бы все универмаги вообще оставить только детям. Праздник начинается с порога, и, как на всяком празднике, они смеются, капризничают, трусят и плачут. Один отдел игрушек чего стоит. Вот где блаженство. Если бы ребенок мог иметь представление о рае, он бы вообразил себе отдел игрушек.
— Или буфет.
— Да, буфет на верхнем этаже, — сказал я. — Хотя там, наверху, у меня часто возникает желание вылить сливки через парапет прямо в атриум.
— Вот эта кондитерская, — сказала она и остановилась. — Хотите познакомиться с моим братом?
Двери кондитерской пребывали в постоянном движении из-за входивших и выходивших посетителей. Мы вошли.
Ее брат уже ждал за маленьким столиком с двумя свободными стульями, в дальнем углу зала. Он сидел спиной к стене, так что увидел нас сразу. Они поздоровались, не привлекая к себе внимания: короткий взмах руки, кивок головой, привет. Мы обменялись рукопожатием. Это был высокий худой парень, старше сестры, даже внешне, с непроницаемым выражением лица. Он держался прямо и носил усики на верхней губе. Когда мы здоровались, лицо его оставалось бесстрастным. Мы сели и сделали заказ. Компания за столом получилась молчаливая и не слишком веселая. В основном говорила она, долго распространяясь о ссоре в отделе и моем участии в ее разрешении. Он ограничился несколькими блеклыми возгласами вроде «так-так» и «ага!». У меня сложилось впечатление, что эта история наводила на него скуку. Мое присутствие, без сомнения, ему мешало. Пока мы ели, он пару раз посмотрел на меня испытующе, я перехватил его взгляд, и он ответил мне взглядом в упор. Я пожалел, что пришел сюда. Но он и за сестрой наблюдал таким же образом. А она, видимо, к этому привыкла.
Мы быстро закончили трапезу, что должно было послужить мне предостережением. Не следует общаться с людьми, которые гасят хорошее настроение за столом и сидят на своем стуле, как в кресле у зубного врача.
— Прошу прощения, что покидаю вас, — заявил он, как только мы оказались на улице. И, обращаясь к сестре, пояснил: — Ты знаешь, у меня важная встреча.
В этих коротких словах мне померещилась какая-то тревога. Это немного примирило меня с ним, хотя досада не проходила.
Он быстро распрощался, но и после его ухода прежнее настроение непринужденности долго еще не возвращалось. Видимо, и она находилась под впечатлением неудачного застолья и всячески старалась сгладить мою, дай свою, неловкость. Не сказать, чтобы она разыгрывала комедию.
— Пройдемся еще немного? — предложила она. — Я условилась чуть позже встретиться с подругой из магазина. У вас есть время?
Мы прошлись вместе по оживленным вечерним улицам. Она расспрашивала меня о моей учебе, о том о сем, вникала в мои ответы, и прежняя доверительность тона, установившаяся по дороге в кафетерий, постепенно вернулась.
— Между прочим, — сказала она, — вы говорили, что в универмаге можно купить все, что составляет человеческую жизнь, от колыбели до могилы.
— Да, говорил.
— А мне пришло в голову кое-что, чего у нас купить нельзя. Знаете — что?
Снова это «у нас». Значит, она все-таки причисляет меня к своим. Она помолчала, давая мне возможность угадать ответ.
— Не знаю, — сказал я.
— Гробы, — сказала она. — Гробы у нас не продаются. А гроб, между прочим, относится к человеческой жизни от колыбели до могилы.
— Я сообщу об этом директору, — отозвался я с серьезной миной. — Между прочим, есть универмаги, которые преспокойно торгуют гробами, когда-то я слышал об этом.
— Мы ими не торгуем, — повторила она. — Может, вас назначат шефом гробового отдела, вы не против?
И хотя я расхохотался, услышав ее странную идею, в этот момент мне стало не по себе. Я оцепенел. Может, это тоже было лишь предчувствием?
— Вон идет мой автобус, — сказала она.
Мы стояли на остановке, где уже набралось много народу.
— До свиданья, приятного вечера, — сказал я.
— До свиданья, — сказала она. — До завтра?
Подошел автобус. Я кивнул. Она окинула меня теплым взглядом, я дружески ей улыбнулся. Автобус быстро отошел. Сквозь запотевшее стекло было видно, как она, стоя у дверей, машет мне рукой.
VII
То, что не удалось моему отцу, что не удалось моим теперешним приятелям, со всею их страстной ненавистью и смелой гордостью, совершило воспоминание о моем утраченном друге. Признаваясь в дружбе с моим врагом, он приблизил его ко мне. И тот, сделав большой шаг из своего бесформенного одиночества, заговорил со мной. Мое воображение было заинтриговано. Он был силен и влиятелен. Где бы он ни являлся, он проводил изменения, нес с собой опасность, волновал и покорял сердца. Его контуры были начертаны на будущем, как на большом камне, из которого любовь и ненависть медленно ваяли во времени его фигуру. Когда-нибудь наши пути пересекутся. Я сожалел о том, как повел себя, прощаясь с другом у дома тетки. Я сорвался, я бросился бежать. Разве не должен был я бороться сильнее? Не слишком ли рано я сдался? И с тех пор меня одолевают противоречивые чувства: удивление, страх, любопытство, гордость.
В глубине души я был оскорблен, а может быть, и ревновал к тому, кто столь несомненно пользовался предпочтением моего старого друга. Он во всем меня обошел. Мне оставалось только смотреть им вслед, а это печально. Никто из них не должен был видеть, что я страдаю. Понемногу я свыкся со своим положением. Роль побежденного позволяла утешаться иллюзией собственного превосходства: такой вот я недотрога. В конце концов я пришел к соблазнительной идее, что путь к нему и сквозь него есть путь к самому себе.
Возможно, я быстрее приблизился бы к истине, прояви я тогда больше мужества.
Сегодня, пережив время его восхождения к власти (хоть я ее и презирал), я испытал и преодолел опасности, которые он накликал. Миссия, возложенная на него судьбой (называйте, как хотите), могла быть великой или малой, но она провалилась. Сегодня я знаю, что он мог бы ее исполнить. Но все соображения такого рода бессодержательны перед лицом беспощадного партнерства не на жизнь, а на смерть. Я никогда не встречался с ним при жизни, но сегодня, когда я жду его смерти и готов встретить ее, я уверен, что среди тогдашних моих противоречивых чувств было одно постыдное. Какая изощренность космического масштаба: испытывать склонность к тому, кто предназначен быть твоим врагом! Путь к нему и сквозь него к себе самому! Никогда ненависть (о, как же я потом возненавидел его!) не имела надо мной такой власти. Ненависть совершенно ослепила меня. Ей не хватало той капли невысказанной склонности, что придает чувству необходимую пряность. Я сохранил эту каплю с того момента, когда потерял друга и приобрел врага.
Но тогда я еще мало разбирался в своих ощущениях. Разве можно всем сердцем ненавидеть человека и одновременно симпатизировать ему? Симпатизировать тому, кого ты никогда не знал лично, ни живьем, ни в каком-то персональном человеческом проявлении?
Не знал до тех пор, пока однажды не услышал его голос, голос моего врага.
Голоса всегда производили на меня большое впечатление. Они вползали в мой слух и нарушали одиночество моих мыслей. Раздается первый звук, он пробуждает другие звуки, вступают аккорды, ошеломляют целые истории звуков. К примеру, два человека разговаривают на улице, под моим окном. Я слышу только их голоса. Ветер уносит прочь их слова, смысл ускользает, остается только быстрая последовательность колебаний моей барабанной перепонки, я не понимаю, о чем они говорят. Но по их голосам, по интонации, по восходящим и нисходящим звукам, по осторожности и деловитости сказанного я могу судить о содержании беседы. Я думаю, что разбираюсь в голосах. А чего стоит голос ребенка! Не могу без умиления прислушиваться к детскому голосу, к первым попыткам образовать слово и построить предложение, начиная с самого раннего лепета. Говорят, что это пробы ума, но меня умиляют не они. Мою любовь и благоговение вызывает голосок, который осуществляет эти первые эксперименты. Не могу постичь, почему принято считать количество произнесенных слов и не замечать дивной красоты звучания. В этом голоске, как ни в чем другом, выражается драгоценное пробуждение души. Я слышу голос человека, и передо мной постепенно возникает образ говорящего. Я представляю его себе, представляю, каким он может быть. Иногда мне кажется, что определенные интонации голоса выдают тайны, о которых не ведает и сам говорящий. Голос имеет надо мной великую власть.
Некоторые люди всерьез утверждают, что все дело в его голосе. Другие говорят о силе его сверкающего взгляда, о не поддающихся описанию блуждающих огнях в его глазах. Третьи считают, что его личность источает некий флюид, некий электрический ток, что и объясняет якобы тайну его воздействия. Все эти объяснения я смог в течение нескольких лет испытать на себе. И нахожу их преувеличенными, смешными. Они — часть легенды, каковую сами же и помогли сформировать. Поэтому нужно противостоять им самым решительным образом. Вот только голос — статья особая.
Я отправился в путешествие и однажды вечером, устав после длительной пешей прогулки, попал в небольшой город у подножья невысокой горной гряды. Город пересекала река. Перемена мест — мое любимое развлечение, я предпочитаю его всем другим. Только отдаваясь движению вверх-вниз по волнам ландшафта, собирая впечатления на пути к намеченной вдали цели, можно бежать от будничной суеты, которая так беспощадно топчет твое мышление, так неотвратимо размалывает в пыль все чувства. Вот я и бежал, оставив позади все, что могло повредить душевной сосредоточенности. Но я не учел иронии малого бога — бога странствий.
Когда я в сгущающихся сумерках возвращался из леса в город, мне бросились в глаза большие, кое-где оборванные и заклеенные, бордовые плакаты, висевшие на стенах домов и рекламных тумбах. Однако я не обратил на них особого внимания и зашел в первую попавшуюся гостиницу, почти в центре города, куда, как я видел, заходило много людей. Хозяин проводил меня в номер. Из окна был виден мост над рекой и лениво скользящая мимо вода, мерцавшая, как жидкий металл.
Собственно, в этот раз я собирался поскорей отойти ко сну. Обычно я люблю побродить под ночным небом по улицам и площадям. Вечерние силуэты и тени незнакомого города, когда блуждаешь по нему куда глаза глядят, лучше всего позволяют ощутить местную атмосферу.
Однако шум внизу вынудил меня снова выйти на улицу. Казалось, здесь перед гостиницей назначил свидание весь городок. Народу становилось все больше.
Я пересек широкий оживленный двор и вошел в ресторан. Здесь, в просторном, немного старомодном заведении, где стены и потолок опирались на приземистые деревянные столбы, было спокойнее. Оловянные кружки и камышовые тарелки, резные столы и стулья с мягкой комфортной обивкой, придававшие помещению уют, смягчили мое дурное настроение. Мне наконец удалось поймать хозяина.
— Что здесь происходит? — спросил я. — Театральное представление или варьете?
Я был не прочь немного развеяться.
— А разве вы не знаете? — недоверчиво спросил он.
— Да нет.
— У нас здесь сегодня собрание!
— Вот как? И кто выступает?
— Б.
Я был так ошеломлен, что промолчал.
— Двери в зал уже закрыты. Больше никого не впустят, — возбужденно продолжал хозяин. — У меня самый большой зал во всем городе. И он уже переполнен.
— Его сторонниками? — с любопытством спросил я.
— Не только, — возразил хозяин. — Хотя у него здесь много сторонников. Есть и противники. Если угодно, я вам устрою местечко в зале.
Он сделал свое предложение по доброте душевной, и поэтому оно не слишком меня встревожило. Он сдает свой зал на вечер, в конце концов это касается его дела, а не убеждений. Его убеждения меня ничуть не интересовали.
Но предложение показалось мне соблазнительным. Я медленно поднялся с места, еще не решив: пойти или остаться. Хозяин принял мое движение за знак согласия.
— Я проведу вас через заднюю дверь, — сказал он так тихо, будто речь шла о конспирации. — Идите за мной.
Все еще сомневаясь, я двинулся за ним. Это была уникальная возможность, я не мог ее упустить. Вряд ли в ближайшее время подвернется второй шанс. И все-таки какое-то неуловимое чувство сопротивлялось моей решимости.
Мы с хозяином скрылись в подвале, прошли по нескольким темным коридорам, поднялись и спустились по лестнице и очутились в каком-то флигеле. Зал, похоже, находился где-то рядом, через каменные стены сюда проникал хаотичный шум множества голосов. Хозяин открыл дверь. Мы оказались на другом конце слегка покатого зала, так что могли заглянуть в праздничный хаос.
Зал был украшен знаменами, флагами и гирляндами, с парапета галерки свисали огромные транспаранты с какими-то воинственными лозунгами. Люди располагались на длинных рядах стульев, за столами с вымпелами. Вдоль стен тоже были расставлены стулья, казалось, здесь занимали места целыми семьями. Между столами и рядами сновали кельнеры в белых блузах, пронося над головами металлические подносы. Все вокруг пили и курили. Все тонуло в сизых клубах дыма и водяного пара. И было непонятно, кто тут сидит, какого образа мыслей придерживается.
— Я поставлю для вас стул, здесь, впереди, — сказал хозяин и указал на край первого ряда. — Вам будет хорошо его видно.
Казалось, он горел желанием доставить меня в зал. Он уже готов был исчезнуть в одной из небольших комнат рядом со сценой (мы стояли у левой кулисы), чтобы принести оттуда стул.
— Не нужно, — сказал я, потянув его за рукав. — Я передумал, мест нет, дышать нечем, идемте отсюда.
Он глядел на меня в полном недоумении. Я захлопнул дверь.
Я не хотел в первый раз встречать своего врага в пивной, где дым стоит столбом.
Мы проделали обратный путь, и я снова оказался в ресторане. Один. В одном городишке, под одной крышей с ним.
Если бы хозяин втащил меня в зал, я бы сидел, так сказать, у его ног, слушал и незаметно его наблюдал. Я мог бы внимать ему, сколько душе угодно, и понять наконец, что он за человек. Но все произошло слишком внезапно. В конце концов, я не для того отправился в пешее путешествие, чтобы так неожиданно встретиться с ним лицом к лицу. Я знал, как пройти в зал. Если бы захотел, мог бы подобраться к нему поближе. Имея достаточно смелости (мысленно я в этом не сомневался), я бы мог совершить вещи, из ряда вон выходящие. Например, подойти к нему во время перерыва и вовлечь его в разговор. Я не скажу ему, кто я и откуда. Просто некто из публики. Сторонник или противник? Я и об этом оставлю его в неведении. Усталость и приступ дурного настроения создавали благодатную почву для появления подобных мыслей. Они крутились и сталкивались в моей голове. В ходе беседы, лихорадочно размышлял я, между нами возникнет не то чтобы дружба, но как бы взаимопонимание. По его манере слушать и возражать я пойму, какое чувство постепенно возобладает. Он выразит сожаление, что до сих пор никто не говорил ему ничего подобного. Я намекну, что мне это понятно, и останусь таким же сдержанным. Что еще я должен ему сказать? Мне постепенно удастся убедить его, что он находится на ложном пути, что его представления о его противниках не имеют ничего, абсолютно ничего общего с реальной картиной. Я не стану говорить: «Погляди на меня и признай, что ты заблуждаешься». Я продолжу дискуссию. Он, конечно, так быстро не сдастся, конечно, нет. Но от меня, от моей тактичности, моей убедительности, от моих аргументов зависит его прозрение. Если бы мне удалось убедить его! Да, тогда я еще держался мнения, что человека можно изменить путем дискуссии. Если бы я мог его изменить, мое восхищение им только возросло бы.
Здесь я должен дать объяснение, в какой-то мере извиняющее степень моей тогдашней бесхарактерности. В глазах моих тогдашних приятелей я был слабаком. Позиция моя была шаткой, то есть я сознавал, что мою позицию можно было считать шаткой. В разговорах и дискуссиях я не отличался страстным темпераментом и упорством, слишком многое обдумывал и взвешивал, прежде всего, возможные соображения и аргументы другой стороны. Я уделял ей излишнее внимание. Не могли же все они залезть мне в голову, где противоречивые чувства вызывали такую путаницу. Кроме того (я повторно признаю свою коварную слабость), я сам не до конца понимал, что мною движет. Например: должен был я рассказать им об эпизоде с моим другом? Сердечные дела вызывают смех. Должен был я откровенно уличить себя в малодушии? В том, что пока (именно пока) не могу занять позиции и принимать решения в споре не на жизнь, а на смерть?
Самообман — самая услужливая форма лжи, панацея от всех болезней личности. Он может залечивать даже метафизические раны. Пусть эпизод с моим другом и нанес мне внушительный удар, но он не сбил меня с ног. Наоборот. Это первое и немалое разочарование укрепило меня и подготовило ко всем дальнейшим. Теперь я уже не стоял перед ними безоружным. Оценил ли я эту утрату как успех? Или уже здесь начался самообман? Разве можно одновременно одержать победу и потерпеть поражение? Разве не этого хотел мой друг — левой рукой загрести одно, а правой — другое? Пусть со стороны я выглядел неуверенным, нерешительным, слабаком, никто не мог помешать мне раз и навсегда разделаться со своей слабостью. Может, я таким образом избавлюсь от своих терзаний.
Я был объективен. Я принадлежал к группе так называемых объективистов, то есть людей, которые считают своим долгом рассматривать происходящее свободно, независимо от любого личного мнения. Ибо вообще-то личное мнение вытекает из ограниченности и предрассудков.
Эту позицию занимают не из трезвого рассмотрения всех вещей, хоть такое рассмотрение и провозглашается конечной целью. Нет, она вырабатывается в тяжелой борьбе с нашими страданиями. Даже если наши дела из рук вон плохи, мы обязаны быть выше личных интересов. Потому что может оказаться, что наш противник прав. Тогда нам не останется ничего иного, как добровольно признать его правоту. Тогда рисуйте плакаты и развешивайте их вокруг себя. Устройте демонстрацию и скандируйте: «Мы — ваша беда! Долой нас!» Этого требует человеческое достоинство.
Вот таким объективистом был и я. Душой и телом. Если правилом вашего действия и бездействия вы избрали принцип справедливости, тогда и вашему врагу следует для начала противопоставить справедливость. Разве не так? Идея Красного Креста, которую весь мир рассматривает как величайшее завоевание гуманности (мир и по сей день держится за нее), эта идея, в сущности, оказалась губительной. Ибо она позволяет и даже логически подразумевает, что сначала нужно избить своего противника до полусмерти, а уж потом считать его человеком, таким же, как ты. И соответственно к нему относиться. Сколько раз самые рьяные адвокаты справедливого отношения к собственной персоне оказывались самыми несправедливыми судьями, когда дело касалось их противника. Эти субъекты — просто карикатуры на человеческий род и повинны в том, что самая благородная из небесных добродетелей еще не получила прописки на земле.
Я тешил себя мыслью, что поступаю справедливо с моим врагом. Тогда я еще не знал, почем фунт лиха.
Странной была эта встреча в неурочный час! Не будь я таким усталым после пешего перехода, я бы заставил себя войти в зал. Но не через заднюю дверь. Вот так я и сидел в почти пустом ресторане, где кроме меня в деревянных нишах ужинали только две влюбленные парочки, и предавался своим мыслям. С тех пор как мы расстались с моим другом, прошло уже много лет. Все идеи, которые прокламировал Б., разъезжая по стране, были мне досконально известны. Еще больше подробностей было известно о нем. Он вел великую борьбу, привлекая людей в каждом городе на свою сторону. Для достижения цели ему были все средства хороши. Ему еще приходилось накладывать на себя некоторые ограничения, но его угрозы и предостережения сомнений не вызывали. Он еще не стал царем и богом, властителем жизни и смерти, еще не стал. Или уже стал?
Я сидел за столом в пустом уютном ресторане с приглушенным светом, предаваясь мечтаниям и чувствуя, как отступает моя усталость. Несколько раз появлялся хозяин и с важным видом, не говоря ни слова, возился с чем-то в углу. Я заказал сухого вина из местных сортов винограда, вызревающего на холмах. Прошло некоторое время. Между тем шум в коридоре утих. Значит, всех желающих, до единого, запустили в зал. Парочки в углах и трое новоприбывших посетителей беседовали вполголоса.
Внезапно в это тихое жужжанье голосов вмешалось типичное кряхтенье и скрипенье, исходящее откуда-то из угла — характерный шорох, предвещающий начало работы техники. Хозяину пришла в голову безобидная мысль включить громкоговоритель, чтобы осчастливить своих гостей возможностью слышать речь, произносимую в зале. Грянул оркестр, усиливая общий эффект действа. Раздались шумы, крики, свист, обрывки хорового пения. Потом все стихло. Послышался скрип досок на трибуне оратора, несколько энергичных шагов, восторженные вопли и восклицания, аудитория адского концерта приветствовала Б. Хозяин подкрутил что-то у аппарата, спектакль немного отодвинулся вдаль, снова придвинулся и стих. Наступила глубокая тишина. И в ресторане тоже. Эти несколько секунд тишины в начале (никогда их не забуду) уже относились к его речи, точно так же, как овация в конце или выкрики во время его выступлений. И тем, кто находился в ресторане, передалось через аппарат молчаливое ожидание зала.
В это безмолвное напряжение упали его первые слова. Осторожно, нерешительно. Они не разорвали тишину, нет, они так ей соответствовали, так подходили, что, казалось, раздались из нее самой. Мне редко приходилось слышать, чтобы человеческий голос звучал в столь напряженной тишине. Он шел как бы из могилы, темный, глубокий, довольно жуткий. Он ледяной дрожью пробегал по спине. Такой голос слушаешь всем телом, всеми органами чувств. Что это, думал я, к чему это сдавленное, жуткое начало? У него сегодня тяжелый день? Я был слегка разочарован, немного удивлен. Но скоро я понял, что это значило. Монотонность длилась довольно долго. Она служила для того, чтобы подавить, скрыть и одновременно подготовить что-то другое. Это стоило ему известного напряжения.
Хозяин на цыпочках подкрался к моему столу.
— Слышите? — прошептал он.
Я кивнул.
— Да.
— Если хотите громче, я сделаю громче. Только скажите.
— Это может помешать другим, — сказал я, лишь бы что-то сказать.
— Не думаю.
— Мне слышно, — заявил я.
— Потом будет намного громче, — сказал хозяин. — Когда он начнет по-настоящему.
И снова отошел, осторожно пританцовывая.
Я вспомнил своего друга. Иногда у меня возникало чувство, что он прячется где-то здесь и вместе со мной слушает эту речь. «Я слышал его и был покорен». При этом он неотрывно смотрел мне в лицо, изучая впечатление, производимое его словами. Как будто лично ему было важно, чтобы я попал под его влияние.
Воспоминание о нашей последней встрече пробудило во мне печальные мысли. С тех пор прошли годы, а он все еще оставался моим другом. В моем теперешнем расположении духа я был склонен к самобичеванию. И без особого напряжения мог бы полностью погрузиться в грустные размышления. Но какое-то чувство, чуть ли не стыд, удерживало меня. Я не хотел опростоволоситься под лукавым взглядом моего невидимого друга. Тем более в состоянии телесной усталости, когда тебя более чем когда-либо одолевает страсть к самобичеванию. Я был достаточно трезв и не хотел терять бдительность. Б. мог оказаться шарлатаном, шулером или действительно тем, кто призывает на нас Божью милость. Но я не успокоюсь, пока не разгадаю его тайну, при условии, что таковая имеет место. Речь продолжалась. Он явно все еще двигался ощупью и выжидал. Лишь несколько брошенных вскользь ироничных формулировок прервали монотонность и вызвали в зале первые смешки. Постепенно голос зазвучал на повышенных тонах, все больше освобождаясь от скованности, обнаруживая оттенки и разнообразие интонаций. Он уже звучал во всю мощь из аппарата и эхом отзывался в ресторане, словно кто-то говорил, стоя совсем близко. Так как здесь находилось лишь несколько слушателей, речь в полный голос производила слегка комичное впечатление. Впрочем, его странная артикуляция доносила звуки в самый дальний угол.
Теперь он вроде бы обрел большую уверенность. И перешел в наступление. С твердой убежденностью он возвещал некоторые истины, настолько расхожие, что каждый поневоле должен был с ним согласиться: этот человек прав! Даже если не было никого, кто провозглашал иную истину или сомневался в истине, только что провозглашенной, он делал вид, что такой человек есть и прячется где-то в зале. Он достиг своей цели. Раздались первые одобрительные выкрики, положившие начало его успеху. Его воодушевление росло, он набирал обороты, делал все больше смелых заявлений из числа тех, что надлежит прежде хорошо обдумать, — такими бессмысленными они кажутся на первый взгляд. Но вероятно, в них таится зерно истины. Они входили в его программу. Они почти всегда достигали цели. Они, как было сказано, раскаляли сердца своей смелостью. И манера их преподнесения также была смелой. И снова он делал вид, что спорит с кем-то, кто прячется в зале. Он возвышал этого Никого до своего оппонента, до своего противника, на глазах у всех он вызывал его на бой, на рыцарский поединок. Чудовищное изобретение! Он сам, так сказать, контрабандой, в собственном кармане, пронес его в зал, так что никто из присутствующих этого не заметил и усадил где-то среди слушателей. Там он и сидит. «Смотрите, вон он сидит, слышите, что он говорит?» И потом оратор выдумывает все, что говорит тот, кого он выдумал. Почему бы и не быть человеку, который вот так выглядит и говорит вот такие слова? Но ведь оратор вкладывает ему в рот вопросы, возникшие в его собственном мозгу. А так как он все время давал слово только себе, даже когда вроде бы предоставлял слово своему оппоненту, ему удалось очаровать слушателей, подчинить их своей власти.
Он говорил все более проникновенно, а заметив, что его влияние возрастает, он вдруг с ровного места (только напряженность в его голосе заранее возвестила об этом) начал кричать. Прямо посреди фразы, в споре со своим противником, он начал буйствовать и орать. Безумец!
Он нападал, он обвинял, он насмехался, издевался, повергал ниц, раздавал удары наобум, направо и налево, опровергал утверждения, которых никто не выдвигал, и при этом ужасно возбуждался. У его противника не осталось ни одного сторонника. Он, противник, никогда не существовал, но был убит этим голосом. И так как он молчал, каждый в зале считал, что он мертв.
Я сидел в ресторане, беззащитный и поверженный. Я был тем самым Никто в зале за стеной. Я слышал свое собственное уничтожение. Меня охватило мрачное предчувствие, и я пал духом.
— Вопит, как бешеный, — сказал кто-то через пару столов от меня.
— Это ж надо — так орать, — отозвался его собеседник.
Потом снова наступило молчание. Только аппарат в углу трясся и кряхтел. Но недолго. Вскоре голос снова обрел прежнее естественное звучание. Теперь он звучал более страстно, с ноткой возбуждения и огоньком. Но это был холодный блуждающий огонь. Откуда бралось его мерцание? Как будто в нем таился инородный металл, время от времени испускавший невидимые лучи. И сквозь этот голос, странно накаленный и колдовской, они преломляли нечто постороннее, иное, странное, непонятное, чуждое, зловещее. Оно исходило не из самого человека. Возбуждение Б. не было возбуждением взволнованного человека. Он не принадлежал к тому типу ораторов, которые во время речи заводятся, исходят потом, впадают в раж и приходят в такой восторг от самих себя, что совершают глупости, изрекая вещи, о которых лучше умолчать. Он слишком хорошо понимал, о чем говорит, и никогда не пробалтывался. Когда он орал, он знал, что делает. Это входило в его программу, он все рассчитывал заранее. Через минуту он уже снова владел собой и держался совершенно раскованно.
В позднейшие годы часто случалось, что после крупных многообещающих выступлений, когда пускались в ход все средства, он спокойно и невозмутимо сходил с ораторской трибуны, в то время как его аудитория изнемогала от возбуждения и напряжения.
Почему восхищенная публика замирала, приходила в исступление и лишалась разума? Влияло ли на нее содержание его речей, его аргументы или манера выступать, этот грандиозный фейерверк пестрых, внезапно выпускаемых ракет, непрерывные разрывы тяжелых снарядов?
Похоже, его не слишком волновали смелые идеи, которые он возвещал с трибуны. Его скорее интересовал противник, на которого он обрушивал эти спорные истины. Но в конце концов, могло быть и так, что он всего лишь хотел оказать определенное влияние на слушателей, рассчитывая подвигнуть их к достижению какой-то другой цели. И поэтому он снова и снова повторял одни и те же аргументы, чтобы аудитория реагировала не на слова, но лишь внимала голосу. В голосе и заключалась конечная цель.
Снова появился хозяин.
— Что-то громковато, — сказал он и уменьшил звук.
Он мне кивнул, а я ему не ответил.
Испуг, охвативший меня, постепенно улегся. Колдовство исчезло. Усталость снова давала о себе знать. Я пребывал в своеобразном полусонном состоянии, когда душа обретает чуткий слух, сознание слегка затуманено, но одновременно как бы пронизано более сильным внутренним светом. Все видится более ясно и отчетливо. Сильнее ощущается земное притяжение; руки, словно налитые свинцом, повисают вдоль тела, ты расслабляешься и ощущаешь их теплый вес. Вещи кажутся прозрачными, до самого основания. Сбивающий с толку ритм жизни, тяготеющий к временным категориям, выключается. Прошлое, настоящее, будущее предстают как нечто неделимое, из коего становится видимой целостность.
Остальные посетители ресторана больше не обращали внимания на речь. Они разговаривали и смеялись.
Голос отдалился. Он все больше и больше обретал звучание чего-то призрачного, нереального. Я расслабился и закрыл глаза. Приглушенный голос ничуть не потерял своей проникновенности.
Снова один за другим последовали грозовые раскаты. Затем снова наступило напряженное затишье перед бурей. Но все это приглушалось уменьшенной громкостью аппарата.
Что-то таилось в этом голосе, что не имело ничего общего с его обладателем. За этим криком, рожденным из холодной страсти, за беснованием, которое выдавало изощренность безжалостного образа мыслей, проступало нечто иное — великое счастье, большой успех — или великая опасность, великая катастрофа и гибель?
Это удручало меня и одновременно покоряло. И теперь, как и прежде, мне показалось, что голос обращает свое послание персонально ко мне. Но по-другому. Снова между нами возникло как бы согласие. Не знаю, что это было. Но он имел дело только со мной, и больше ни с кем из его друзей. Маленький, невзрачный мужчина, одержимый чем-то, что было сильнее его, говорил так, словно душил сам себя. Словно над ним тяготело проклятие. Словно факел вспыхивал на распутье. Он должен был сделать выбор. Принять судьбоносное решение. И всякий, кто приходил в соприкосновение с ним, был отмечен печатью избранности. А сам он все равно оставался маленьким, амбициозным приказчиком, который мечтает стать хозяином лавки. Время от времени, когда в него проникало это постороннее, более крупное, когда оно обретало над ним полную власть, он беспомощно замирал перед чем-то непостижимым. Он не мог совладать со своей одержимостью. Так кто же он? Он непрерывно задавал себе этот вопрос. И не знал ответа. В такие мгновения он становился чуждым себе самому. То, что накатывало на него, было ему чуждым. Но иногда он думал, что он сам был своим наваждением. Тогда он мнил себя столь же крупным и могущественным и неукротимым, как река, как бурный поток. И тогда он начинал напирать, кричать и буйствовать. Он не мог удержать себя. Выходил из берегов. Но не постигал этого. Мне казалось, что он кричит как тонущий, который хочет спастись.
Я был пробужден от этих грез весьма неприятным образом. В помещение ресторана посыпался град камней, одно окно со звоном разбилось, в него снова полетели камни, они стукались о деревянные стены и попадали в оловянные кружки, а те отзывались громким звоном и падали на пол. Один камень угодил в громкоговоритель, и аппарат умолк. После этого в помещение ресторана ворвалось несколько угрюмых парней. Один загородил дверь, придерживая спиной ручку. Никто больше не мог выйти из ресторана. Немногочисленные посетители, и я в их числе, не понимали, что это значило. Парни похватали стулья и стали размахивать ими в воздухе и яростно бросать на пол, разбивая в щепы. Угрюмое выражение лиц явно противоречило увлеченности, с которой они предавались своему занятию. Столы были опрокинуты, пестрые скатерти разбросаны по углам, плетеные сиденья стульев разодраны, а отломанные ножки валялись на полу. Один из погромщиков стоял у стойки и в отсутствие хозяина швырял на пол все бокалы и стаканы подряд. Правда, один стакан он держал под краном бочки, быстро наполнял его пенистым пивом и осушал до дна. Внезапно они перестали крушить столы и стулья и переключили внимание на посетителей. Один из них направился к моему столу, выражение его лица не предвещало ничего хорошего.
— Иди-ка сюда, паренек! — крикнул он.
В угрожающем голосе звучала та смесь слепой ярости и притворной отеческой заботы, которая открывает дискуссию, чреватую рукоприкладством.
— Это что такое? — рявкнул я в ответ.
Мою усталость как рукой сняло. Его тупость возмутила меня сильнее, чем наглое поведение. Я сразу понял, кого, собственно, искала его ярость.
— Что вам угодно? — прибавил я чуть менее жестко.
— Ты тоже из этих? — спросил он, указывая рукой в сторону зала.
— Идите туда, и найдете тех, кого ищете! — отрезал я.
— А ты кто такой? — сказал он, вдруг сбавив тон, и попытался свернуть дискуссию.
Вероятно, он пришел к выводу, что я чужой и сижу здесь в качестве гостя. Его товарищи продолжали оживленную дискуссию с другими посетителями. Он стоял рядом с моим столом. Я остался сидеть.
Это был простой парень, невысокого роста, вполне добродушный, если рассматривать его вблизи, наверняка хороший семьянин и примерный папаша. Но сейчас он был одержим идеей, искать здесь кого-то, кого он наверняка нашел бы в другом месте. Но он попал не по адресу. Он не знал, на кого напоролся, подойдя ко мне. А до меня постепенно стала доходить комичность моего положения, неожиданная угроза со стороны одного из своих же товарищей. Я расхохотался ему в лицо.
Он глядел на меня в полной растерянности.
— Нет, нет, — сказал я спокойно, чтобы помочь ему. — Нет, я не из тех. Напротив.
Он все еще сомневался. Он не мог поверить, что так кардинально ошибся адресом.
— А почему тогда вы сидите здесь? — недоверчиво спросил он.
Я готов был ответить, что это его совершенно не касается. Мало ли почему я здесь сижу. Но я подавил вспыхнувшее во мне раздражение и сказал, нажимая на каждое слово:
— Я сижу здесь, потому что не хочу сидеть в зале, вам понятно?
Понятное дело, он не знал, что на это возразить. В конце концов, он явился сюда действовать. Его решительность поначалу смутила меня. А он этого не заметил. Собственно говоря, я был несколько удивлен: он заявился в ресторан просто с улицы и с ходу начал действовать, пусть даже в отношении столов и стульев. Громила в нерешительности топтался у моего стола. Я встал.
— Я устал и иду спать, — сказал я. — Спокойной ночи!
— Спокойной ночи, — ответил он в простоте душевной.
Тем временем явился хозяин, быстро оценил ситуацию и снова исчез. Вскоре он вернулся в сопровождении нескольких крепких парней.
Я как раз собрался уходить. Хозяина трясло. Через минуту разгромленное помещение ресторана было очищено от непрошеных гостей. Дело даже не дошло до большой драки.
— Пожалуйста, не волнуйтесь, — сказал хозяин, все еще дрожа. — Не волнуйтесь. Страховка покроет ущерб. Вот мерзавцы!
Крепкие парни выстроились полукругом, демонстрируя мужскую решимость.
— Приберите здесь, — сказал хозяин. — Потом выпейте по кружке. За мой счет.
Они навели порядок и уселись в центре ресторана. Пили пиво и обсуждали произошедшее событие. Хозяин, все еще бледный от волнения, подошел к моему столу, увидел, что я собрался уходить, и спросил как бы невзначай:
— Они к вам не приставали? Вот мерзавцы, кидали в него камни, да руки коротки. Такого здесь еще не было.
— Но он еще никогда и не выступал здесь, — сказал я.
— Сегодня в первый раз, — ответил хозяин. — Я к этому не имею отношения. Сдаю свой зал любому, кто заплатит.
Он плюхнулся на стул, его лоб вспотел от возбуждения.
— Лучше уж расколотить мои пивные кружки и обстановку, чем моих гостей, — сказал он, утирая лицо рукавом. — Почему непременно нужно сразу лезть в драку?
В ресторан вошли полицейские. Хозяин поднялся.
— Прошу меня извинить.
Я не стал дожидаться конца и скрылся в своем номере.
VIII
Этот вечер с его трагикомическим завершением оставил глубокий след в моей душе. Я сидел в ресторане и тайно слушал все, что происходило в зале за стеной. И из состояния полузабытья, в котором я обретался, в мою явь перекочевала и укоренилась в сознании некая странная мысль. Наверное, она уже давно дремала во мне.
Бывают встречи, словно бы заранее начертанные невидимым шрифтом судьбы. Их смысл открывается только по воле провидения. На неясном фоне проступают отдельные буквы, группируются в слова, и смысл легко считывается. Тебе вынесен приговор, а ты все-таки сопротивляешься.
Поначалу я не решался додумать эту мысль, такой абсурдной она казалась. Стоило лишь закрыть глаза, как передо мной вставал его образ. Стоило мне вслушаться в себя, как в ушах раздавался его голос. Как я ни сопротивлялся, образ и голос становились привычными, словно возникли из моих ощущений и вели свою самостоятельную жизнь. И я не мог ничего с этим поделать. А он? Не то же ли самое происходило у него со мной? Я видел, что снова занимаю его мысли. Хоть он и проклинал меня, но говорил обо мне с такой одержимостью, с какой говорит влюбленный о предмете своей любви. Он искал меня. Ясное дело, он не мог от меня избавиться, таскал меня с собой повсюду, как носят свою руку, свое ухо или язык. Должно быть, я был его наваждением.
Мы не рождены для дружеских привязанностей. Человеческие отношения в принципе устроены иначе. Никакие высокопарные дифирамбы не устранят недоверия между живыми людьми. Все мы ведем двойную игру. Это она нас объединяет. Одиночество, замкнутость — вот в чем наша общность. Жить вместе в любви и согласии! Господи, что тут имеется в виду? Неужели общность интересов, которая может привести разве что к основанию общества потребителей? В жизни достаточно примеров, чтобы понять, по каким лекалам построены человеческие отношения, сколько в них корысти и расчета. И прежде всего, в любовных привязанностях, которые так обожают воспевать поэты!
Каким видит меня мой враг? Как он ко мне относится? В карнавальных костюмах и масках нашей вражды обнаруживается первопричина нашего постоянства.
Так какая же странная мысль меня обуяла? Мысль о том, что он так же неуверен в себе, как я. Охваченный страхом не узнать, не понять самого себя, он вызвал своего противника, то есть меня, на поединок и нарисовал его на стене. Так старинные мастера в поте лица писали фрески с изображениями святых, когда их искушал демон. Я был всего лишь шутовской рожей, маской, которую он смастерил в состоянии угнетенности. Может быть, и его отец когда-то прошептал ему: «Ведь мы же…!» А теперь он в беде и пытается понять смысл и значение высказанного шепотом предостережения. А может быть, он когда-то понимал его, но утратил свое знание. Может, оно уже ничего для него не значило и он поддался другим нашептываниям. Может быть, он чувствовал: «Я не знаю, кто я». Он потому и орал, что не знал этого. Он желал бы любоваться собой, как любуются домом, или деревом, или разразившейся грозой.
Ему тоже были ведомы тайны проявочной, соблазны, трюки и уловки камеры обскура, где с помощью ретуши добиваются полного или частичного сходства с воображаемым Я объекта. И вот на своем пути он встретил меня и сразу учуял то, что прошептал мне отец. Он разгадал и мой изумленный вопрос: «Мы…?» в ответ на недосказанную отцовскую фразу. И тогда он создал во мне свое отражение и решил: «Я знаю, что я не такой». Все, что он утаивал от себя самого и с чем не мог справиться, он приписал мне. Зачарованный, увлеченный и одновременно объятый ужасом и отвращением, он верил, что я таков, каким он описал меня. Но он с самого начала заблуждался. Его ужас скрывал от него мою реальную фигуру. Разве не должен был он испытывать благодарность? Разве не я был единственным, кто дал ему шанс самоутвердиться? Я, а не шумная толпа его одурманенных попутчиков, не говоря уж о тех, кто называли себя его друзьями. Он и я, мы попали в поле зрения друг друга, мы причинили друг другу много хлопот. Мы росли вместе. Между нами установилось родство, скрепленное узами вражды не на жизнь, а на смерть. Но вначале было и то и другое: жизнь и смерть. Выбор зависел от нас обоих. Я был морщиной на его лице, жесткой складкой, прочерченной от носа вокруг рта. В его голосе, в этом рыке я был дрожью. Он залег в моем самоистязании, как на глазном дне. Шаг одного из нас был одновременно шагом другого. Заботясь о себе, я равно заботился о нем. Я подслушал его голос. Ведь он не исчерпал еще всех возможностей выбора между жизнью и смертью. Ведь он мог еще оказаться великой надеждой. Или тяжкой бедой? Судьбоносным началом или ужасом истребления и катастрофой? Так или иначе, выбирать предстояло ему, выбор зависел от него. Но и от меня. Чем глубже он увязал во мне, тем больше я был в этом уверен. Я был его верным противником, мне надлежало быть начеку, чтобы он сделал правильный выбор. Он еще не сделал выбора, он еще не приступил к действиям, не совершил преступлений, из-за которых казнит сам себя. Но опасность оставалась.
Да, он еще не начал действовать. Эта мысль меня утешала. И пока еще ничего не было потеряно. Иногда казалось невозможным, что он вообще начнет действовать. Разве тот, кто произносит такие речи, действует? У него еще было время, я и в этом был уверен. Ведь мы же оба как противники, как антагонисты были предусмотрены Провидением, может быть, в плане творения, каковой постоянно осуществлялся?!
О Боже мой, Боже мой!
IX
Он все еще жив. Он все еще устрашает мир невиданными преступлениями, предвещающими его гибель. Он принимает решения и ожесточенно проводит их в жизнь, словно чувствует себя под защитой своей свирепой совести. Он действует, он властвует над жизнью и смертью. Он заставляет людей содрогаться от счастья, когда приближается к ним со снисходительной благосклонностью. И содрогаться от сознания обреченности, когда демонстрирует им свое высокомерие. Подгоняемый самоуничтожением, он уничтожает все. Этому ужасу он обязан своей славой. Но она поблекла в глазах тех, кто научился преодолевать свой страх перед ним. Лучи, которыми солнце озаряет мир на рассвете, несут в себе другое свечение, когда на закате освещают сумеречную планету. Ему следовало бы это знать.
Но тогда я думал, что еще можно отвратить гибель от нас обоих. Я был настолько безумен, что желал избавить его от безумия. Опасность грозила неотвратимо. Но я упрямо стоял на своем. Мы хотим быть слепыми, не желаем распознавать знамения, предвещающие наше будущее. Мы пускаемся на все хитрости, ссылаемся на Провидение, Небеса, замысел Творца и прочее, чтобы зарыться головой в песок. Мы ставим под сомнение доказательства, известия из иного мира, так как не хотим опомниться. Нас охватывает неизъяснимый страх высоты, напряжение и одновременно безумная скованность. Человек беззащитен в предчувствии чрезвычайного хода вещей, с которым он неразрывно сросся. Я все больше постигаю заклинание моего отца:
— Тогда — помилуй нас Бог!
В те годы, когда я втайне сражался с ним, я терпел муки, которые может причинить только страх. Но я тогда не знал, что это был страх. Я беспрерывно унижал себя, испытывая при этом почти самоубийственную радость. Каждый раз, когда меня настигал его удар, я думал, что так и должно быть, что все дело — во мне. Во всем, что он творил, мне мерещилось право и оправдание, особенно значимое для меня. Я считал, что обязан принимать к сведению это оправдание.
Я не мог сбросить его со счетов, я нуждался в нем. Его существование в ближайшем будущем грозило мне уничтожением, это было ясно. Но его внезапная смерть или какое-то другое событие, которое лишило бы меня его угрожающего присутствия, точно так же сулило мне гибель. Между нами возникли связи и обязательства, соблюдаемые лишь тем, на чью долю досталось страдание. Возможно, это странная и сомнительная доля. Но кто разрушит общность, тайно возникающую между гонителями и гонимыми?
Он заставлял меня страдать, и я преданно страдал. Любое изменение в отношениях между нами швырнуло бы меня в некий вакуум, лишило бы мощного жизненного стимула, происходящего из воли к страданию. Куда мне было обратиться? Он был для меня всем!
Друзей и хороших знакомых много, с ними здороваешься, им улыбаешься, пожимаешь руку, обмениваешься поцелуями — это дело обычное, все происходит само собой. На это уже не обращаешь внимания. Но он был послан мне в качестве врага, чтобы выполнить некую миссию. То есть это я воображал, что она на него возложена. В конечном счете я сам навязал ее ему. Я использовал его, как используют стакан или бутылку, которую сначала наполняют, а потом подносят ко рту, чтобы из нее пить. В то же время я немного презирал его, ведь он не знал тайны, к которой я причастился благодаря ему. Ни за что на свете я не взял бы на себя его роли. Она не казалась мне желанной, ей не хватало фантазии, которая витает только вокруг тревоги и притеснения, невидимо украшая нищего пурпуром его бессилия. Что он знал обо всем этом? Но и те «мы», кого имел в виду мой отец, что ведали они о возвышенных ощущениях, доставляемых человеку его антагонистом? Для них он был надоедливым извергом, который отравляет им жизнь. Они ясно видели ежедневную угрозу. Сначала она коснулась внешней стороны жизни, но на этом не остановилась. Она будет проникать все глубже, пока не разрушит самое жизнь в ее зародыше.
Разрываемый этими противоречиями и колебаниями, я напоминал человека, который несется по улице под проливным дождем, держа плащ под мышкой. Ему вроде бы вполне достаточно сознавать, что плащ у него под мышкой, и не приходит в голову его надеть. Он промокает насквозь и чувствует это, но воды не боится. В конце концов он знает, что ничего с ним не случится, ведь плащ при нем.
Я тогда встречался с тем или иным из своих приятелей, и между нами всегда происходил один и тот же разговор.
— Что-то вас давно не видно, — говорит приятель, сердечно пожимая мне руку. — Куда вы пропали? Вид у вас усталый. Заработались? Или бессонница? Время нынче тяжелое.
— Да, — отвечаю я.
— И боюсь, для нас оно станет еще тяжелее.
— Вполне возможно, — говорю я.
— Я недавно встретил К., — продолжает он. — К. рассказал, что встретился с вами, но случайно. Его дела плохи.
— К.? Да-да, случайно. Он подсел ко мне в трамвае, а на следующей остановке я сошел.
— Он потерял работу. Рано или поздно нас всех вытеснят с наших должностей. Вы еще работаете?
— Пока работаю, — отвечаю я. — И сам этому удивляюсь.
— Вот видите, — соглашается он. — У вас тоже не осталось иллюзий. Вы ведь здесь родились?
— Конечно, здесь. А почему вы спрашиваете?
— Просто так. Непонятно. Человек здесь родился, говорит на том же языке. Если он решит завтра постричься, то так и говорит: завтра постригусь. И делает то, что сказал, стрижется. Без проблем. Что думает, то и делает. И все-таки его вдруг лишают прав, выталкивают, относятся как к чужому. Но почему? Почему? Вы не знаете? Хотелось бы это знать. Потому что он якобы другой. Другой? Что значит — другой?
В такие минуты мне всегда приходили на память древние греки, называвшие персов чужаками — barbaroi. Раньше мне доставляло удовольствие видеть в таких ситуациях масштабные аналогии. Но с некоторых пор я нахожу это обидным для греков и предпочитаю помалкивать. Только шепчу вполголоса, но так, чтобы он услышал: «Варвары».
— Да, — продолжает мой собеседник. — Это верно. Раньше были другие кумиры, другая боевая раскраска, другие женщины, да все на свете, а теперь другая кровь, другие деньги, другие полезные ископаемые, другие мысли, другая ментальность. Сказки, сплошные сказки, говорю я вам. Но то было так называемое детство человечества. А теперь, когда человечество состарилось, ложится спать или помирать, снова сказки. Сказка правит миром. Вы ведь учитель физкультуры?
— Да, но это побочная профессия.
— Не играет роли. Есть у вас планы на будущее?
Нет, у меня нет никаких планов на будущее. О чем я ему и говорю.
— Возможно, к вам обратятся.
— Как к учителю физкультуры?
— Да. Вы удивлены?
— Немного.
— Если нас отовсюду вытесняют, нам не остается ничего иного, как стать самостоятельными, раскрутить что-то собственное, собственные концерты, ибо искусство не пощадят, собственные бюро, собственные спортплощадки, танцзалы, короче, все.
— И вы хотите, чтобы я…
— Да, — говорит он. — А у вас нет такого желания?
— Желания? Не думаю, что можно еще об этом спрашивать, если дело зайдет так далеко.
— Так вы настроены пессимистично? — вдруг спрашивает он.
— Пессимистично? Нет, пока еще нет повода.
— Но и не оптимистично.
— Оптимизм не в моем характере.
Собеседник смеется. Он явно считает это шуткой.
Тем временем мы прошли несколько шагов, пересекли улицу и идем по краю парка в тени густых высоких деревьев. Летом здесь прохладнее, чем на улицах, открыто втягивающих в город солнце. Деревья тоже всасывают жар в свои ветви и стволы, листья опаляются под горячими лучами. Тень, которую они отбрасывают, темна и прохладна.
— Хорошо здесь, — говорит мой спутник.
Он останавливается, вынимает из кармана платок и принимается утирать пот со лба, лица и шеи. При этом он закрывает глаза, складывает лицо в бесчисленные морщины, тихо кашляет и наклоняет голову. Выражение лица такое, какого я у него не знал, в сущности, я этого человека не знаю. Он мог иметь такой вид, думаю я, если бы находился в одиночестве и размышлял о вещах, которые его очень угнетают, может, о будущем своих детей, о судьбе своих родителей, то есть о вещах, не сулящих ничего хорошего. Он мужчина, у него свои горести, но я его не знаю.
— Значит, вы бы согласились, — начинает он снова.
— Думаете, это так важно? — спрашиваю я. — Учитель физкультуры? Неужели нет других забот? И потом — деньги. Вы собираетесь тратить на это деньги?
— Послушайте, вы странный человек. Пилите сук, на котором могли бы сидеть. — Он немного обижен и с горячностью, во всех подробностях, излагает мне свои планы. — Есть реальность оптом, со всеми профессиями. А мы создадим нашу реальность в розницу. А что другое нам остается? С больницами, школами, спортивными площадками, кинотеатрами, концертами, страховыми обществами и всем прочим. Разве вы не понимаете, к чему все идет? Вы представляете последствия? Мы не успеем оглянуться, как нас поставят перед фактом. Нужно быть готовыми.
Я понимаю, что, со своей точки зрения, он, по сути, прав. Конечно, со своей точки зрения, каждый, в общем, прав. Кроме того, это не так уж неразумно.
— Вы поддерживаете слишком мало контактов, — говорит он с легким упреком. — Хорошо, что я вас встретил. Я давно уже хотел сказать вам, что вы сами себя отключаете или даже исключаете.
— Ничего подобного!
— К., поговорив с вами, вынес такое же впечатление.
— Вот как?
— Может, вы излишне сдержанны или себе на уме. Нужно чаще видеться. Мы должны держаться вместе. Тут уж никуда не денешься.
— Вы, значит, считаете…
Он продолжает говорить. Мы все, хочешь не хочешь, в одной лодке. Это же так просто. Нам угрожают, мне, вам, всем нам, ведь мы же…
Так звучали эти слова — слова моего отца. Я его не прерываю.
— Теперь мы все в одинаковом положении, мы образуем общность.
— Потому что нас преследуют? — иронически замечаю я.
— А разве этого мало? — говорит он нервно, делает глубокий вдох и слегка пожимает плечами, словно обнаружив, к своему изумлению, что должен обучать меня грамоте. — Но не стоит обсуждать, активная мы общность или пассивная, оставим это. К чему устраивать свары? Одни считают, что нас согнали в стадо, а другие, что мы испокон века были стадом и что такой взгляд предпочтительней. И что якобы есть некий актив, некая боеспособная идея. И хватит об этом. Факты не изменишь. Ваша судьба — моя судьба, а моя судьба — ваша, судьба всех нас. Теперь мы все равно значимы друг для друга. Всех нас ждет одно будущее…
Он обрывает фразу, почувствовав в моей позе некую критику. Я молчу.
— Разве не так? — спрашивает он, подпирает рукой голову и выжидательно смотрит на меня. Мы остановились под высокими деревьями, которые ловят солнце.
— Давайте еще пройдемся, — спокойно говорю я. — Я этого не отрицаю. Только прежде я не знал, что мы и в самом деле так много значим друг для друга.
Он молча шагает рядом. Он удивлен или, скорее, оскорблен. Я смотрю на его лицо, такое же, как недавно, когда он утирал пот. Он долго раздумывает, потом говорит:
— Послушайте, вы слишком принимаете это на свой счет!
— Совершенно верно, я в самом деле принимаю это на свой счет! А как же иначе?
Мы оказались поблизости от небольшого ресторана в саду. Дощатый сарай, несколько столов с яркими скатертями, повсюду железные складные стулья, матери и полуголые дети, играющие в песке и на газоне.
— Давайте выпьем? Что вы пьете? — Мы выпили. — Ваше здоровье!
Он опять берет слово.
— Вы уж слишком принимаете это на свой счет, — говорит он. — Мы образуем общину не на жизнь, а на смерть, не забывайте. Это нас связывает— на жизнь и на смерть. Разумеется, небольшие личные различия могут при этом сохраняться, в зависимости от позиции соответствующего индивида. Но это все нюансы личного. На жизнь и на смерть, в этом, так сказать, сосредоточено все личное, оно же одновременно и общее, в гетеанском смысле, понятно. Вы меня понимаете?
— Причем тут Гете? — спрашиваю я. — С чего вдруг Гете, что это значит?
Мой вопрос застает его врасплох.
— Я вижу, это вас смущает? — говорит он с улыбкой. — Я просто имел в виду объяснение слова «общее», это слово гетеанское и в наши дни неупотребительное, если не ошибаюсь. Знакомо оно вам? Почему оно вас смущает? Вы имеете что-то против него?
— Нет, нет, но я предпочитаю сражаться без союзников. Ведь их поставки придется потом оплачивать. Тем не менее я вас понял. Хорошо. На жизнь и на смерть. Вы считаете, что у нас общий враг?
— Совершенно верно, — говорит он с облегчением и откидывается на спинку стула. — Похоже, мы начинаем понимать друг друга.
Это ему нравится.
— Продолжим. Пейте же.
Я пью.
— У нас общий агрессор, — повторяю я. — Это создает связи, некое товарищество, конечно, кто спорит? Хотя я еще не знаю, нет ли других интересов, которые нас сплачивают…
— Какой рационализм, — шутит он, радуясь, что преодолел мое недомыслие. — А ведь я всегда подозревал вас. Надеюсь, вы на меня не сердитесь…
— Вовсе нет, — перебиваю его я. — Я только хотел вам сказать, что, кроме вас, есть некто, с кем меня связывает общность не на жизнь, а на смерть. Эта общность глубже, чем та, о которой вы все время говорите.
— Вот как? И с кем же, ради Бога? — с вызовом спрашивает он.
— А вы не знаете? Бывает общность, более глубокая, чем со всеми единомышленниками, чем общность тех, кто причисляет себя к одной партии.
— Ну же, — перебивает он меня. — Выкладывайте!
— Общность врагов, — говорю я, чувствуя наконец облегчение. — Тех, кто связан друг с другом неразрывно, как небо и земля, солнце и луна, и звезды на своих орбитах. Но эти последние примеры я должен опустить. Как поэтические украшательства они, собственно говоря, неправомерны.
Все это я выдаю, не переводя дыхания.
— Зачем же опускать? — возражает он с улыбкой. — Ваше воодушевление прекрасно. Поэзия — это совсем недурно.
— Но это неправда, — упираюсь я. — Есть только одна общность врагов — человеческая. Она беспримерна. А как обстоит дело с небом и землей, с водой, огнем и прочим космическим блефом, мне неизвестно.
Повисает пауза. Мы сидим вместе за одним столом, в садовом ресторане, под деревьями в большом городе, мы беседуем, и внезапно между нами повисает пауза. Видимо, она с самого начала как-то пролезла в наш разговор, а мы и не заметили. Или оба мы знали, что она притаилась на заднем плане. И как мы ни старались ее избежать, она вдруг выступила на авансцену. Что происходит между людьми, которые высказались, которым нечего больше сказать друг другу? Они встают, некоторое время медлят, и каждый идет своей дорогой. Пока! Но это не молчание. И когда людям ничего не приходит в голову — это тоже не молчание. Просто небольшой перерыв, чтобы перевести дыхание. Так скрипач прикладывает ухо к инструменту и прислушивается, проверяя настрой, прежде чем продолжить игру.
— Значит, общность с вашим врагом, — произносит он задумчиво, откидывается на спинку стула и уточняет. — С нашим врагом.
И ждет. Потом продолжает:
— И при этом нельзя даже сказать, что вы перебежчик или предатель.
— Спасибо, — говорю я, осушаю свой стакан и вижу, что его стакан тоже пуст. — Теперь выпейте со мной еще. Окажите честь.
Я заказываю. Мы выпиваем вместе.
— А теперь, пожалуйста, объясните мне, как вы до этого додумались? — торопливо спрашивает он, как будто хочет успеть сдержать некое обещание. Он вел беседу спокойно, взвешивая каждое слово. И только последний вопрос выпалил в лихорадочной спешке.
— Вам не нужно ничего приукрашивать, — отвечаю я. — Вы хотели сказать, как я додумался до этого бреда? Не правда ли? Но я так чувствую, так воспринимаю жизнь, и никто мне не прикажет, как я должен чувствовать и что переживать. В моей жизни он означает то же, что означаю я в его жизни.
— Ого! — с издевкой перебивает он.
Но я не даю сбить себя с толку.
— И это намного больше, чем я мог бы значить для вас. Или вы для меня. Или Бог весть кто для Бог весть кого!
Меня охватывает восторженное возбуждение при мысли, что сейчас я признаюсь ему, каким благословением может быть враг. Но он прищуривается и пристально глядит на меня, словно хочет сказать: «Дорогой друг!» Или: «Ври, да не завирайся!» Поэтому я с подчеркнутым хладнокровием говорю:
— Вы видите в нем только агрессора, того, кто на нас нападает. Это лишь одна сторона. Вы его тем самым переоцениваете.
— Мне кажется, — говорит он с прежней издевательской усмешкой, — мне кажется, переоценить его трудно. А что, если вы тоже видите другую сторону и потому его недооцениваете? Как ни крути, агрессор — он.
— Не только, не только, — выпаливаю я с триумфом.
— Вы готовы это оспорить?
— Да, мы для него агрессоры в той же степени.
— Мы? Как это возможно? Ведь мы же…?
— Да, ведь мы то самое! — перебиваю его я. — Этого факта ему достаточно, чтобы чувствовать себя в опасности. Может, он терзается теми же страхами, что вы и я, каждый из нас? Не с похожими, а с теми же. Кто они и кто я? Может, потому он и нападает.
— Он бич Божий, — говорит мой собеседник спокойно и резко. Его слова действуют на меня как удар хлыста.
— Что?
— Бич Божий, — невозмутимо повторяет он. — Вы находите эту мысль абсурдной?
— Почему, — вопрошаю я, — почему вы так говорите?
Мое возбуждение растет, мне стоит труда скрывать его.
— Его нужно бы умертвить, просто умертвить. Покончить с ним.
Я смотрю на него в ужасе.
— Почему? — шепчу я.
Но не эта мысль выводит меня из равновесия. Я вспоминаю людей, штурмовавших помещение ресторана, где сидел и подслушивал я, уставший с дороги безобидный странник. В словах моего собеседника звучало мужество и решимость, звучало иначе и по-новому. Он бы не удовольствовался прихожей, рестораном и ни в чем не повинными столами и стульями. Он вошел бы в зал, где шло собрание, и нашел бы противника. Он знает, что погибнет, и потому продает свою шкуру как можно дороже.
Он насмешливо кривит рот и говорит:
— Тут-то ваша общность врагов и закончится. Так вам и надо. — Он выпивает свой стакан и молчит.
Перед нами на газоне играют дети, они ссорятся и дерутся, а матери с удовольствием наблюдают за ними, и, только когда дело заходит слишком далеко и чей-то малыш начинает плакать, матери вмешиваются, утешают, одергивают, снова налаживают игру и возвращаются на свои места. Они складывают руки на коленях, на улице тепло, их лица раскраснелись от тепла и детских игр.
Мой визави снова вынимает из кармана платок и промокает шею и лицо, его движения спокойны и уверенны.
— Так было всегда, — говорю я. — Противников убивают, для двоих враждующих, видимо, нет места на земле. Один должен очистить поле боя. Тогда другой — победитель, и жизнь продолжается. Пока не возникнет новый противник. Он станет победителем первого. Все это такая суета. Солнце утром встает на востоке и вечером заходит на западе. Наступает ночь. И назавтра солнце как новенькое выкатывается на востоке. И в горах тает снег, ручьи сливаются в большие реки и исчезают в море. Но в горах снова выпадает снег, и изменить ничего нельзя. Творение совершенно и растрачено впустую. Враг — это бич Божий, и его следует умертвить.
— Вы также можете подождать, пока он вас убьет. Но в конечном счете это одно и то же.
— Ах, — только и могу сказать я.
— Чего вы хотите, — продолжает он. — Вы недовольны творением и ломаете голову над проблемой вашего врага. Вы умствуете. Думаете, он думает о вас? Он действует!
— Он не посмеет, — срываюсь я. — Нет, он не посмеет.
— Не посмеет? А вы попробуйте, ступайте-ка к нему и представьтесь, а то он вас не узнает. И скажите: «Ах, любезный мой враг, ты мой любимый враг. Я знаю, ты все раздумываешь, убивать меня или не убивать, и, собственно, я бы должен опередить тебя и убить. Но ты мой любимый враг». И при этом хлопните его по плечу, исключительно из чувства дружеской враждебности, и скажите, дескать, хоть ты и большая сволочь и из зависти и подлости думаешь и говоришь обо мне черт знает что, но в конце-то концов ты мой любимый враг. Отдай мне в жены свою дочь, и у нас будут общие детишки. Получится великолепное потомство, сплошь маленькие дружественные враги или маленькие враждебные друзья, как угодно. Получится новая человеческая порода, какой свет не видывал, может, с тремя ногами. Попробуйте. Интересно, что он вам ответит. Может, он заключит вас в объятия, примет в своем дворце и скажет: «Милости прошу, а я только тебя и ждал». И поведет он вас в свою сокровищницу, где на шитых золотом подушках лежит великолепный наточенный меч, и скажет: «Я приказал наточить его для тебя, дорогой мой враг, но не бойся, между нами ничего не произошло, и все в полном порядке. Дарю тебе этот меч, и мы с тобой когда-нибудь разберемся с нашими лучшими друзьями, они давно уже мне как бельмо на глазу».
— Издеваетесь, — говорю я. — Увиливаете от ответа и потому издеваетесь. Почему вы заговорили о биче Божьем? Или то была, так сказать, шутка?
— Может, в самом деле абсурдно, — задумчиво возражает он и глубоко вздыхает, — видеть в нем бич Божий, Божью кару. Просто есть такое выражение. Сорвалось с языка. Но вы были правы, когда обратили на это мое внимание. Абсурдно придавать ему такое значение.
— Но если это на самом деле так?
Он вдруг бросает на меня испытующий взгляд и говорит неожиданно тихим голосом и так решительно, словно только и ждал этого момента, чтобы произнести эту фразу.
— Тогда нам не о чем говорить!
— Так вот он, всякой мудрости итог![2] — говорю я. — А почему? Почему мы не можем продолжать беседу?
— Ропщите на Бога! — резко бросает он.
— Мы уже давно только этим и занимаемся. Возможно, вы не заметили. Это история Иова.
— Иова? — спрашивает он, и лицо его снова изменяет выражение. Оно оживает. — С чего вы взяли?
— Все время невольно думал об этом, — отвечаю я. — Так мне кажется.
— Проклятая история, — продолжает он. — С этим Иовом. Сколько книг о ней написано. Честно говоря, я никогда ее не понимал. Может, поэтому она так меня захватила. А вы ее поняли?
Он продолжает, не дожидаясь ответа:
— Иов не грешил против совести и бунтовал. В конце концов, он покорился и признал, что в своем непокорстве говорил вещи, которых сам не понимал.
— И он любил бич, которого не понимал, — добавляю я.
— Вы и вправду так считаете? — спрашивает он, и в его голосе слышится несогласие. — Что до меня, то я более здраво сужу об этом казусе. Я не интерпретирую. Меня бьют, я даю сдачи.
— Но если это и вправду Бог? И Он пользуется бичом? И ваша оговорка не случайна?
— Египтяне тоже утонули в море, и Мириам вознесла хвалу Господу. Похоже, вы об этом забыли, — говорит он.
— И что ответил Господь?
— Об этом мне ничего не известно.
— Значит, вы этого не знаете, — говорю я. — Господь разгневался. И глас небесный ответил: «Зачем вы возносите мне хвалу, когда творение рук моих погибает в волнах?»
Пауза. Это было для него неожиданностью.
— Тогда он не должен был дать им утонуть, — говорит он. — Впрочем, вы, наверное, так боитесь Его гнева, что не решаетесь вознести Ему хвалу?
— Нет, — отвечаю я.
И тут меня осеняет мысль, настолько нелепая и ненужная, что я не решаюсь облечь ее в слова.
— Гнев меня не заботит, но я все-таки не могу вознести хвалу. — И решительно продолжаю: — Возможно, я насмешу вас тем, что сейчас скажу. Считайте это признанием сумасшедшего. Но я так сильно люблю жизнь, что открываю ее даже в моем антагонисте. Я не помню себя от изумления, когда вижу, что и он причастен к делу творения, которое собрался уничтожить. Поверьте, он сам не может этого постичь.
— Значит, вы любите жизнь, — повторяет он задумчиво и иронично, — даже в своем противнике. Что ж, у меня такое чувство, что вы больше любите жизнь в нем, чем в себе.
— Почему?
— А то бы вы ее лучше защищали.
— Защищал? Что значит защищать? — с горечью возражаю я. — Это значит одобрять его нападки и, может быть, даже поощрять их. Это значит услышать военный клич, принять вызов и увековечить вражду. Это не входит в мои намерения.
— Конечно, не входит, — говорит он. — Дело в том, что вы заранее решили отказаться от всякого сопротивления. С таким умонастроением вы неспособны на борьбу. Вы только внушаете себе, что не знаете этого. Вы не хотите бросать вызов своему врагу. Вы желаете совсем иного.
Я чувствую, что он загнал меня в угол, и пытаюсь сопротивляться. Так сразу я не сдамся, пусть думает обо мне, что хочет.
— Ничего я от него не хочу, — говорю я. — С чего вы взяли? Вы же этого не знаете.
— Вы желаете ему понравиться, — невозмутимо продолжает он. — Вы сомневаетесь, попадете ли в него, если выстрелите. Если вы не уложите его с первого выстрела, если промахнетесь, то его агрессия только возрастет, и вы пропали.
— Я не хочу ему нравиться и не хочу стрелять первым, ничего такого я не хочу, — упрямлюсь я. — Мы сейчас не об этом. Он — бич Божий или нет? Вот в чем вопрос.
Мое упрямство смущает собеседника, и он начинает беспокойно ерзать на стуле.
— Теперь уж я вообще ничего не понимаю, — говорит наконец он. — Итак, кто сказал, что он бич Божий?
— Вы первый начали!
— Я? Ну хорошо. Но я же пояснил, что у меня с языка сорвалось. Ведь я не верю в то, что он бич Божий. А если бы верил, то считал бы, что мы не знаем, какое значение уготовано этому бичу. И нам остается лишь вести себя так, как ведет себя всякий, кого бьют. Давать сдачи, это же ясно…
— Тогда я спрашиваю вас, — возражаю я. — Вы бьете только по хлысту или собираетесь ударить того, кто им пользуется, может быть, прямо в лицо…
— Это все иносказания, — перебивает меня он. — Вы опять воспринимаете все слишком буквально и слишком персонально.
— Но метафора отличная, — возражаю я. — Я совершенно серьезно спрашиваю себя, не должны ли мы оказывать бичу больше уважения, больше внимания? Можно ли настолько забывать о его происхождении?
— Больше внимания, больше уважения? Может, просто подставить себя под его удары?
Я молчу.
— Молчите? — снова начинает он. — Нет у вас ответа, признайтесь. А где тогда самоуважение, элементарное уважение к себе и инстинкт самосохранения? Вы забыли об инстинкте самосохранения. Нужно быть ослом, чтобы подставлять себя под удары хлыста и не…
— Признаю, — перебиваю я его. — Я ошибся. Я-то думал, что мы говорим о Боге.
— Это не по-человечески, — возражает он. — Ваша позиция бесчеловечна и порочна.
— Не знаю.
Разговор застревает. Это мучительный разговор, один из многих, которые не приходят к обтекаемому выводу, возможно, и не ставят себе целью достичь компромисса. Мы смотрим друг на друга и молчим. Он вертит свой стакан между пальцами и постукивает им по столу. Он обнаружил мою нерешительность. А я и не собираюсь ее скрывать. Я вижу его уверенность и вижу, что это не что иное, как неуверенность, о которой он еще ничего не знает.
Должно быть, похожие мысли бродят и в его голове, потому что он делает попытку вдохнуть в нашу беседу новую жизнь. Но эта попытка остается авантюрой, и он становится на мою точку зрения. Повторяет мои последние слова:
— Итак, вы считаете, что и бичу нужно оказывать…
Я не знаю — вот мой короткий ответ.
Он глядит на меня нетерпеливо, его неприязнь растет. Он чувствует свое превосходство, конечно, он чувствует свое превосходство и всячески старается скрыть, насколько он меня презирает. Именно поэтому я это замечаю.
— Значит, вы не хотите бороться с ним, — снова начинает он. — Хотите переложить это на других, на нас. Кажется, вы еще никогда по-настоящему не сражались. Вы служили в армии? Были солдатом?
— Нет, — отвечаю я.
Мне стыдно, что я не был солдатом. Это глупый, совершенно бессмысленный стыд. Как будто право на свое мнение имеет лишь тот, кто переспит где-то под открытым небом в обнимку с пулеметом, как с женщиной, а на утро проснется, если вообще проснется, и почувствует, что изменился, стал мужчиной или полубогом. Кто знает, какие тараканы заводятся в голове у мужчин, если они были солдатами.
— Значит, вы не знаете, каково это — сражаться не на жизнь, а на смерть, — продолжает он, презрительно выкладывая все, что в данный момент приходит ему в голову. — В тот самый момент, когда перестаешь смотреть на бич как на таковой, то есть именно хлыст, он наносит удар и причиняет боль. И тут уже не до метафор. Ты защищаешься, не даешь себя избивать. Поэтому я отвечаю ударом на удар, я даю сдачи.
— Значит, поэтому вы даете сдачи, — повторяю я, погружаясь в размышления. И через минуту продолжаю: — А я не могу ничего с собой поделать. Я вижу и то и другое. И чувствую и бич, и того, кто им пользуется.
— Это значит, что бич вы тоже любите, — сухо отрезает он.
Он подытоживает разговор, словно сводит баланс.
— Этого я еще не сказал, — защищаюсь я. — Думаете, меня он не хлещет, мне не больно? Даже если я пытаюсь любить его как бич, мне больно. Он карает меня, но за что? Может, в один прекрасный день мне будет послано откровение или милость или…
— Если вас к тому времени не убьют! — перебивает он меня.
Я молчу.
— Снова молчите? — говорит он. — Уже во второй раз.
— А что мне вам ответить? Это не мое дело. Моя смерть — не мое дело!
— А ваша жизнь? — решительно возражает он. — Тоже не ваше дело? Я называю это философией жертвы, обреченной на заклание. Бросьте. Далеко вы на этом не уедете. Скучный вы человек. Смотрите, как бы вам не стать первой жертвой.
Он встает.
— Официант, счет!
Он наклоняется ко мне и говорит:
— Впрочем, если хотите знать, я скажу вам кое-что по секрету, это останется между нами, можете на меня положиться. Вы боитесь. Это страх, и больше ничего.
— А я скажу вам по секрету нечто иное, — отвечаю я и медленно встаю. — И тоже между нами, не беспокойтесь. Послушайте. Бич настигает вас, и вы отвечаете ударом на удар. Это ваше право, и дальше я не вмешиваюсь. Вы в принципе не желаете иметь дело с бичом. Вам это скучно. Вы бы предпочли леденец, чтобы его можно было лизать от всей души, так сказать, леденец Божий. Тогда вы возблагодарили бы Господа от всего сердца. Смотрите только, чтобы кишки не слиплись.
Вот такие в то время я вел разговоры.
Я жил в большом городе, работал, пока была работа, и видел, что положение неудержимо обостряется. Пришла зима, в тот год она была более сурова. В городе то тут, то там происходили драки и столкновения. После первых мероприятий и распоряжений, которые, как все, что творит власть, были подняты на уровень закона, дело дошло до прямого насилия. То же самое происходило по всей стране. Было ясно и ребенку, куда все катится. Должен признаться, мной владела мысль, что все это пройдет. Он не посмеет! Нет, он не посмеет. Более того, мне иногда казалось, что в происходящих событиях есть что-то нереальное. Я был готов к кровавому поединку. Но в моем представлении это был некий космический поединок, война миров на далеких планетах и Млечных Путях, по которым катятся танки. Лишь временами из космических далей до Земли доносится грохот, и алые капли окропляют песок. Нет, он не посмеет. Эта нелепая надежда, которую может породить лишь глубочайшая безнадежность (и, возможно, страх), втягивала меня в водоворот безудержных фантазий. Он доведет все до последней черты, и, когда все возможности будут исчерпаны, свершится его последнее чрезвычайное деяние. Он напряжет мышцы, сосредоточится на цели, поднимет руку, как для броска, уверенный в победе, празднующий поражение своих противников. Все говорит о его решимости и силе. Взгляните, он вознесен на такую высоту, откуда виден каждому! Сейчас он приступит, сейчас наберет воздуха, сделает глубокий вдох, сейчас, сейчас, глядите… но нет! Он закрывает глаза, его рот расслабляется, и он почти неслышно шепчет: «Нет!» Это Нет накатило на него и снова из него вырвалось, он удерживает его в себе, соединяет все Нет в своем утверждающем Нет, и всегда на устах остается лишь троекратное Нет, но ухо слышит, как на дне резонирует Да, сильное, глубокое Да, оно вытесняет Нет из его отрицающего Нет, навечно вырывает его из почвы отрицания. Нет, нет, нет, только оставайся, оставайся навсегда, скажи Да этому Нет, и все, что есть Нет, превратится в Да, это так хорошо, и все откроется, и снова не будет границ, в этом Нет — умиротворяющий покой, это Нет и есть деяние, подвиг, Нет всем отрицаниям, это начало, и больше нет разницы. Так оно и льется, вытекая одно из другого, и тебе не нужно больше быть другим, не нужно больше бояться, Да или Нет, ведь это одно и то же да-нет, нет-да, да-нет, нет-да, одно неразрывное целое, взаимопоглощаемое и неразделимое в своей данетости. Его рука решительно опускается. Но сила ее напрягает. Нет… Он слегка качает головой, словно отпугивая дурной сон, как птиц, свивших гнездо у него на голове. Нет!
Это было бы его величайшей победой, его величайшим преодолением. В кругу всех, кто жмется к нему, кто доверчиво последовал за ним, воцаряется молчание и разочарование. Все-таки — Нет! Окружающие чувствуют себя обманутыми, они ожидали грандиозного зрелища, купили дорогие билеты, предъявили их на входе, они не требуют возврата денег, при чем здесь деньги? Нам подавай спектакль, спектакль! И только один или двое, пришедшие не ради зрелища — напротив, для них это серьезно, и они ему не друзья и не сторонники, — они антагонисты, враги, противники, их следовало бы, в сущности, убить — только они расслышали глубокое Да в его Нет. Но возможно, они для того только и пришли, чтобы коварно убить его? Толпа вдруг узнает их, и что же? Оба возвышают голоса и с ликованием приветствуют его, приветствуют его великое Нет. Неужели они ликуют? Да, противники ликуют по случаю его победы, ведь это их общая победа. И толпа постепенно осознает, что свершилось преодоление, и, подогреваемая немногими, подхватывает великую осанну, все, все, без различий, друзья и враги!
X
Время от времени я испытываю желание удостовериться, что единственный источник, питающий мои записки, — это моя память. Не то чтобы я ценил ее слишком высоко, но решительно утверждаю, что она у меня отличная и сохранила четкие очертания даже тех событий, которые кажутся мне незначительными. К счастью, я не тщеславен и так далек от желания приписать себе некие художественные достоинства, что могу предаваться воспоминаниям, важным или несущественным, интересным или скучным, не подвергая их редакторской цензуре.
В процессе письма я физически не напрягаюсь и потому вижу вещи яснее, чем те авторы, которые любой ценой должны сделать свои истории увлекательными и многозначительными, а иначе их никто не станет читать. Правка для них — все. Моя позиция удобна тем, что я не завишу от претензий на развлекательность и упреков в скуке. Пишу для времяпрепровождения в самом буквальном смысле слова: препровождаю время, которое тянется для меня слишком медленно.
Несмотря на мою отличную память, которой я только что похвастался, должен признаться, что запамятовал имя девушки, играющей в моих воспоминаниях довольно значительную роль. Я забыл его, это имя. Говорят, что такие вещи не бывают случайными. Что ж, я не отрицаю, что произошла явная осечка, и могу лишь надеяться, что когда-нибудь ее имя снова всплывет в моей памяти. Слабость моя проявляется в том, что я хорошо умею воспроизводить беседы и ситуации, но извлечь из них имя, имя живого человека, я не могу. Я мог бы поддаться искушению: изобрести любое имя и поставить его на место настоящего и единственно верного. Но до этого дело не дошло. Даже если моими воспоминаниями управляет моя фантазия, а она может иногда закусить удила, я не уступлю ей поле боя, не стану бессовестно выдумывать имя, не подходящее оригиналу.
В последующее время мы виделись несколько раз, встречались вечером после закрытия универмага у главного входа. Или я заходил за ней, когда моя смена заканчивалась раньше. Так мы встречались три-четыре раза. Это была дружба, таившая в себе все возможности, но еще не нашедшая для себя прочной основы. Мысль, что она не в курсе моей теперешней жизни, позволяла мне скрывать наше знакомство от моих друзей. Она была как остров вдалеке от берега, который нельзя рассмотреть даже в подзорную трубу. Ее близость снимала напряжение, ее манера вести беседу, ее забавные выдумки и замечания создавали приятную иллюзию, что, находясь в ее обществе, я живу вне идей и настроений, наполнявших тогда мою жизнь. Оставался лишь вопрос, насколько я мог осуществить свои фантазии или насколько реальность мешала их осуществить.
С ее братом после неудачной совместной трапезы в кондитерской мы больше не встречались. Он мне как-то не понравился. Что-то было мрачное в его поведении, что-то отталкивающее, как будто ему приходилось скрывать многое от самого себя. Он был настолько прямой противоположностью своей сестре, что иногда у меня закрадывалось сомнение в их родстве.
Однажды после ужина в маленьком ресторане, где я обычно питался, я провожал ее домой.
— У меня еще полно дел, — сказала она.
— Неужто ваш брат так часто рвет носки? — спросил я.
Она рассмеялась.
— Можете принести мне и ваши, — сказала она. — Если у вас нет ничего лучше.
— У меня есть мама, — сказал я. — Раз в две недели я посылаю ей посылку. Но я вас благодарю.
Иногда, исчерпав предмет беседы, я ломал себе голову в поисках новой темы и рассказывал ей какую-нибудь историю, пришедшую мне на память. Но за этим таился страх, что однажды я проболтаюсь, расскажу вещи, о которых предпочел бы умолчать, потому что не знаю, как она их воспримет. И тогда не будет больше острова вдалеке от берега. И я думал, что иду рядом с ней лишь потому, что обманываю самого себя. Что совершаю побег. Что не люблю ее, а лишь воображаю, что люблю. Что, в сущности, стыжусь самого себя.
Я вспоминал слова Вольфа. Неужели он все-таки был прав? Я подлец, думал я. Иду рядом с молодой девушкой, с которой познакомился случайно, и воображаю, что люблю ее. Но кто знает, о чем думает она, шагая рядом со мной. Все должно быть сложно, думал я, все непросто, и тому есть причина. И причина в том, что мы, мой отец и я, и Вольф, и Лео, и Харри и еще много других — такие, какие мы есть.
Я украдкой смотрю на нее сбоку, не угадала ли она моих раздвоенных мыслей. Передо мной возникают мрачные картины, вызванные тайным страхом. Я боюсь причинить ей боль, обидеть ее и тем самым дать ей повод отшатнуться прежде, чем она узнает настоящую причину и оттолкнет меня. Я хотел опередить ее и, прежде чем она ранит и оскорбит меня, отомстить за все обиды моей юности, когда дети исключали меня из игры. Азарт разрушения сулил мне все радости ребенка, разрушающего песочный замок, который он с таким азартом возводил. Потом я испытывал горечь стыда и то нежное чувство, которое казалось мне мостом, соединяющим берег с тем островом. Я строил этот мост и не собирался отступать. Пусть прежде опустятся в грунт прочные опоры, и перекинутся пролеты, и самые тяжелые грузы найдут по ним дорогу на другой берег.
Мы проехали несколько остановок на трамвае и прошли пешком последний отрезок пути до ее квартиры. Две среднего размера комнаты с кухней были темноваты, но тщательно обставлены, обжиты и уютны. Дверь между комнатами была открыта.
— Это моя комната, — сказала она. — А в той живет мой брат. Он, должно быть, уже заходил домой.
Она указала на одежду, висевшую на стуле. В керамической пепельнице лежали окурки сигарет.
— Располагайтесь, — сказала она, подвела меня к креслу у окна и вышла в соседнюю комнату, чтобы навести порядок.
— Мы живем здесь уже год, — крикнула она через комнату. — Вам здесь нравится?
Затем она вышла.
Комната, хоть и явно меблированная, позволяла судить о характере ее хозяйки. Пестрая скатерть на столе, несколько гравюр на стене, расписанная вручную чаша на каминной полке и большая ваза с цветами на полу придавали помещению уют.
Потом она вернулась. Она выглядела посвежевшей: немного пудры и румян, волосы причесаны. Уселась с ногами на покрытую шерстяным пледом тахту, стоявшую у стены изголовьем к окну, и мы закурили.
Все-таки Вольф неправ, думал я, постепенно избавляясь от смущения. Человек может внушить себе любой вздор, особенно если речь идет о женщине. У меня есть все, чего можно желать в такой момент. Сижу в комнате наедине с девушкой, она мила и привлекательна и так уютно расположилась на тахте, что приятно смотреть, у нее хорошие манеры, и кто знает, какие мысли бродят у нее в голове, пока она сейчас говорит со мной и смотрит на меня своими теплыми черными глазами. Самое важное в женщине — глаза, особенно если они красивы. Глаза этой молодой женщины прекрасны, то есть все другие прелести тоже хороши, но если глаза некрасивы, то все прочее, пусть оно красиво и желанно, все же не так красиво.
Она живет со своим братом, мрачноватым худосочным парнем, он мне совсем не нравится, может, потому, что она говорит, что он ей брат. Поглядим, что он за тип. Сейчас его нет, и с его стороны было весьма любезно оставить нас наедине. Если знать, что жить тебе осталось всего три дня, тогда любовь была бы чем-то совсем простым, не нужно думать, что станется с тобой завтра, послезавтра. И то же самое со смертью. Я мог бы немного полюбить своего самого заклятого врага, если бы знал, что завтра или послезавтра он умрет. Поэтому так трудно размышлять о вечной жизни. Эта мысль отнимает вечность у любви, которая только через три дня станет совсем уж вечной. Но все-таки в любви должна быть какая-то простота, даже если знаешь, что через семьдесят два часа ни жизнь, ни вечность еще не пройдут. Должна в ней быть какая-то простота, а не напряжение, как на работе, когда тебя подгоняет честолюбие или желание показать, на что ты способен. Хорошо бы плыть в любовь на всех парусах, лететь на облаке высоко и легко, невесомо парить над водой и сушей, где нет никаких препятствий, а все они глубоко внизу — границы, горы, потоки, — все высоко и легко вокруг тебя и в тебе самом. Вот какой простой должна быть любовь. А я готов терпеливо ждать ее, положиться на судьбу и ждать, куда занесет меня мое облако.
Девушка откинулась на тахте, скрестив руки под головой и опираясь на них затылком и глядя вверх, словно лежала на лугу и смотрела в небо. Лежа на своих ладонях, как на подушке, приподняв голову над валиком, не касаясь шерстяного пледа, она изредка из-под прикрытых век бросала взгляд на комнату брата. Неустойчивое положение головы придавало ее телу какую-то напряженность и жесткость. Казалось, эта поза немного утомила ее, вот она подперла затылок, так что подбородок приблизился к груди. Потом медленно опустилась на подушку. В обеих комнатах было тихо, только с улицы проникал шум, когда мимо дома проезжал автомобиль. А мы сидели наедине в комнате, устремив взгляд на комнату ее брата.
— Вы ведь знакомы с моим братом? — спросила она.
— Видел один раз, — ответил я. — Помните, тогда, в кондитерской, после случая с двумя покупательницами.
— Верно, — сказала она. — Я часто вспоминала тот смешной случай и ваше выступление. Позже, в аналогичной ситуации, я применяла вашу тактику. И с тем же успехом. Идея и впрямь великолепная!
У меня не возникло подозрения, что она хочет мне польстить. Говоря это, она посмеивалась, словно снова наблюдала всю сцену. Потом она вдруг выпрямилась, провела обеими руками по волосам, пристально взглянула на меня и сказала:
— Вы мало рассказываете о себе!
Я вздрогнул. В ее упреке мне почудился подвох. Но волнение быстро улеглось, я рассказал ей какой-то смешной случай, и разговор наш обогнул опасный риф. Я хорошо чувствовал себя в ее обществе, и моя разыгравшаяся фантазия начала вызывать во мне некое приятное возбуждение. У нее появился шанс задать мне новые щекотливые вопросы, то есть поставить под угрозу мое ощущение безопасности, но она не успела им воспользоваться. За дверью раздался шум, потом звук открываемого замка, низкие голоса, в коридоре протопали тяжелые мужские шаги. Она вскочила.
— Мой брат! — сказала она в смятении.
— Вы его не ожидали?
— Ожидала, но он не один!
В комнату вместе с ее братом вошли трое мужчин примерно одного возраста, лет двадцати, но совсем разные по манерам и внешности. Без малейшего смущения все трое направились прямо к ней и поздоровались самым сердечным образом. Только брат издали небрежно махнул ей рукой.
Один из вошедших был среднего роста, коренастый, атлетического сложения, с густой шевелюрой, обрамлявшей грубоватое, но выразительное квадратное лицо. Подчеркнуто мужская, развязная манера поведения не могла скрыть его неуклюжести. Другой был на голову выше, сдержанный, хладнокровный, взгляд узко разрезанных глаз угрюмый и настороженный. Здороваясь, он благодушно и фамильярно подмигнул ей. Третий выглядел еще ребенком, подростком. Он казался меньше второго, хотя был одного с ним роста. Тесные штаны до колен и короткая серая куртка со стоячим воротником производили впечатление какой-то строгой фанатичной восторженности и преданности, а он еще и подчеркивал ее во всех своих высказываниях. Они чувствовали себя здесь как дома, это было ясно. Все они, включая брата, демонстрировали сплоченность, создаваемую общностью жизненного опыта, и я был поражен. Собственно говоря, я сразу понял, с кем имею дело.
Мы поздоровались, брат заметил с иронией:
— Надеюсь, мы не помешаем.
— Глупости, — ответила его сестра. — Квартира твоя, как и моя.
Меня удивило, что она вообще отреагировала на его псевдоостроумное замечание.
— Мы называем их братской супружеской парой, — сказал, обращаясь ко мне, первый, Атлет, с фамильярной улыбочкой, выражавшей одновременно почтительность и издевку.
Самый младший ухмыльнулся. Только эти двое, Брат и Сестра, звонко рассмеялись и обменялись понимающим взглядом. Похоже, они привыкли к этим шуточкам.
— Я посижу, — сказал Угрюмый и преспокойно закурил сигарету.
— Мы вернулись пораньше, — сказал Брат. — Сегодня не было ничего интересного.
Брат кивнул.
— Я тоже был у них на новоселье, — продолжал Атлет, обращаясь на сей раз ко мне, чтобы втянуть меня в разговор, в который я до сих пор почему-то не вступал.
— Повеселились на славу? — спросил я, пытаясь попасть в тон их разговоров.
— Еще как! — ответил он. — Все жутко много выпили, и никто не напился.
— У меня еще три дня башка трещала, — сказал Угрюмый.
Я понял, что мое первое впечатление о них как о сплоченной группе было правильным, они давно знали друг друга, разве что Младший попал в их компанию позже.
— Вы все из…? — спросил я, назвав городок, о котором рассказывала девушка.
— Нет, — возразил Младший. — Мы из разных мест, но при такой жизни быстро знакомишься, если имеются общие интересы и идеи.
Угрюмый сидел на стуле, подавшись вперед, упираясь локтями в колени, и свистел. Время от времени он поднимал глаза и испытующе рассматривал меня.
— Это хорошо, — сказал я. — А иначе остаешься совсем один.
Угрюмый одобрительно кивнул, снова засвистел, оборвал свист и взглянул на меня, как мне показалось, менее скептически.
— Состоите в организации? — спросил он.
Вопрос застал меня врасплох, он был настолько неожиданным, что я не успел собрать душевные силы, чтобы обдумать его и соответственно сформулировать ответ. Но думаю, что и в таком случае он прозвучал бы точно так же.
— Еще нет! — проговорил я.
Похоже, мой ответ его удовлетворил. Он кивнул головой в знак одобрения, откинулся на своем стуле и снова негромко засвистел.
Тем временем Брат разговаривал с Младшим, они говорили о ком-то, кого здесь не было, но с кем все трое были тесно связаны.
— В последнее время он вроде как выдохся, — сказал Брат. — Ты тоже обратил внимание?
— Поссорился с руководством, — ответил тот.
— Неудивительно, — сказал Атлет. — Я всегда считал его хилым. Не мой он тип, слишком много угрызений совести, слишком мало инициативы.
— Но он проделал хорошую работу, — сказал Младший. — Не забывай, что поначалу он проделал хорошую работу.
— Он был одним из первых, — задумчиво сказал Брат.
— Слишком много угрызений совести, — повторил Младший.
— Совесть? Вечно ты со своей совестью, — продолжал Угрюмый. — Хотел бы я знать, при чем тут совесть. Не болтай чепухи, он трусит.
— Ты ел? — спросила она.
— Немного, — коротко ответил он.
Она вышла и занялась на кухне приготовлением ужина. Журчала вода, звенела посуда, слышались торопливые шаги по кафельным плиткам пола.
— А вы ели? — крикнула она из кухни.
— Да и нет, — прозвучало в ответ. — Сама знаешь, какие у холостяков желудки.
— Тебе повезло, — сказал Угрюмый Брату. — Моя сестра ради меня и пальцем не пошевелит. Я для себя все сам делаю. А твоя нянька, она как?
— Я доволен, — сказал Младший. — Она хорошо кормит. Когда прихожу вечером, на кухне всегда стоит для меня тарелка.
— И платят ей прилично? — спросил Брат.
— Не думаю, что она много на мне зарабатывает, — был ответ.
— Значит, она относится к тебе как к сыну, а это еще хуже. Знаю я этих назойливых нянек. Поначалу приятно, что тебя балуют. Но потом терпение лопается, и ты даешь деру.
— Я одно время тоже справлялся сам, — сказал Атлет. — Но беспорядочная жизнь вскоре отомстила за себя. Теперь я снова буду рад, если кто-нибудь ее упорядочит.
— Вы здесь живете два года? — обратился Младший к Брату.
— Год, — поправил его Атлет и посмотрел на Брата. — Не так ли?
— У него есть совесть, вот он и трусит, — неуверенно предположил Младший.
— Чушь, — возразил Угрюмый. — Он трусит, больше ничего. То, что ты называешь совестью, — это задержка в половом созревании.
— Он бы хотел отменить совесть, — со смехом заметил Брат.
Разговор начал утомлять меня. Это был зачерствевший пирог. Несъедобная приманка из страха, совести и отмены совести. На нее не выманишь из-за печи ни одну собаку.
Хотя трое явно расходились во мнениях, они не переставали являть собой общую картину сплоченности. Это было единственным светлым пятном в безотрадном мраке их тоскливой беседы. Хоть бы девушка поскорей вернулась, в конце концов я пришел сюда с ней. Если она сейчас не вернется, я откланяюсь. Двое других все смеялись, только Угрюмый оставался серьезным.
— Отменить? — строго переспросил он. — Совесть сама себя отменит. В один прекрасный день ты заметишь, что потерял ее.
— А страх? — спросил Младший.
— Тоже пропадет.
— Откуда, собственно, берется страх? — спросил Младший тоном прилежного ученика, признающего безусловное превосходство своего приятеля.
— Это сигнал, что приближается опасность. Предупреждающий знак. Он вынуждает тебя применить силу, чтобы ее отразить.
Никто ему не возразил. Повисла пауза. Остальные своим молчанием выражали согласие с его объяснением. Они сидели на своих стульях и задумчиво глядели в пространство. Может, просто были голодны.
Этого угрюмого парня, думал я, так гнетет его совесть, что он хотел бы избавиться от нее. Потому он и заявляет, что она исчезнет сама собой. Мне такие заявления знакомы, я часто их слышал. Компания, в которой я оказался, больше не составляла для меня тайны. Странным образом, я рассматривал этих четверых парней совершенно отдельно от девушки. Она как раз вошла в комнату, толкнув дверь ногой с такой силой, что та захлопнулась. Девушка принесла поднос с бутербродами, чаем, повидлом и фруктами.
Атлет вскочил и бросился ей навстречу, протягивая руки.
— Спасибо! — сказала она. — Будь добр, принеси скатерть.
— Оставь, — сказал Брат. — Без надобности!
— Почему? — сказала она, остановившись посреди комнаты и держа поднос на вытянутых руках.
— Это лишнее, — возразил он.
— Но без скатерти так неуютно, — ответила она спокойно и дружелюбно.
Тем временем Атлет подошел к комоду, стоявшему у стены рядом с дверью и, не дожидаясь дальнейших указаний, вынул из верхнего ящика пеструю скатерть и встряхнул ее. Девушка кивнула. Он постелил скатерть на маленький стол.
Эта короткая сцена снова показала мне, что в этом кругу царит внутреннее единство и близость, которая проявляется во всем, даже в споре. Для меня здесь решительно не было места. Меня это устраивало, и, пока она снимала угощенье с подноса и расставляла на скатерти, я поднялся. Она заметила, что я стою, взглянула на меня через стол и прервала свое занятие.
— Вы же не собираетесь сейчас уйти? — спросила она удивленно.
— Собираюсь.
Я не мог так сразу придумать отговорку, кроме того, мое внезапное желание уйти противоречило другому импульсу: остаться, послушать, посмотреть, понять, что здесь происходит. Или это был лишь способ самоистязания, которое я тем самым доводил до крайности? Но должен признаться, что появление девушки побуждало меня все-таки остаться, так что моя поза выдала мою нерешительность. Другие это заметили, и Угрюмый положил ей конец, сказав:
— Вам не нужно сбегать из вежливости. Не так уж мы голодны, оставим немного и на вашу долю.
— А то он еще подумает, что вы трусите, — сказал Младший. — Можете не терзаться угрызениями совести. Вы ведь уже вышли из подросткового возраста? Вырвались из лап полового созревания?
— Садитесь, — сказала девушка, продолжая накрывать на стол.
К счастью, законы учтивости весьма эластичны, они еще растяжимее, чем мораль. Под их защитой можно выносить самые кричащие противоречия. Даже хамить и лгать, если умеешь создать видимость, что тебя вынуждают к этому законы учтивости.
Я снова сел. Атлет подмигнул мне и сказал:
— Будет еще уютнее.
— Когда ребята утолят голод, — сказала девушка, — поглядите, что тут начнется. Похоже, еда плодотворно влияет на идеи. Мужчины могут одновременно вгрызаться в бутерброды с сыром и в проблемы земной и небесной неизбежности, одно только придает вкус другому. Им кажется, что это высокие идеи, а это всего лишь бутерброды.
— У тебя опять хорошо получилось, — сказал Угрюмый, приступая к трапезе.
— Нельзя же все время говорить о еде, — сказал Брат.
— Мне в кухне было слышно, о чем вы тут разговаривали, — невозмутимо заметила девушка.
— От нее ничего не утаишь, — сказал Атлет, обращаясь к Младшему. — Куда тут твоей няньке?
— Да хоть куда, — отвечал тот, уплетая бутерброды, — хоть куда. Моя нянька кому угодно фору даст. Она мне как мать.
— Когда переедешь? — спросил Атлет.
— Когда она помрет, — отрезал Младший, продолжая жевать. — Когда она помрет.
— Или когда ты помрешь!
— И то верно, — подтвердил Младший с набитым ртом.
— За едой нельзя говорить о смерти, — сказала она.
— О смерти вообще нельзя говорить. Не только за едой, но вообще. У людей, которые говорят о смерти, плохое пищеварение. Я считаю, твои бутерброды с сыром все еще отличные. Где ты их покупаешь? В своем универмаге?
— Да, — сказала она. — Там и покупаю.
— Я думал, у тебя сегодня вечерняя смена, — сказал Атлет, обращаясь к Брату.
Тот покачал головой и молча продолжал есть.
Теперь все молчали и ели. Их молчание и усердие, с которым они предавались поглощению пищи, действовали на меня угнетающе и вызывали ощущение, что причиной их молчания было мое присутствие, хотя люди, которые вместе сидят за столом и едят, могут внешне производить впечатление общности. Я чувствовал, что Угрюмый исподтишка наблюдает за мной, а другие, не обращая внимания на мое присутствие, заняты только едой. Девушка, казалось, тоже в чем-то изменилась, она с равнодушной любезностью потчевала всех и каждого из нас, но сама ела мало. Интересно, думал я, какое место она занимает в этом кругу. Они все относятся к ней с уважением, кроме ее Брата, которому, видимо, нравилось демонстрировать свое полное равнодушие. Но ее, похоже, это не волновало. Она оставалась твердой и невозмутимой, и ее степенность, так явно отражавшаяся на обстановке, в конце концов рассеяла и мои сомнения. Ко мне вернулось что-то вроде хладнокровия. После еды Брат встал и вернулся из своей комнаты с бутылкой виски и стаканами. Он расставил стаканы рядом с тарелками и принес содовую воду. Девушка тоже встала из-за стола и принялась убирать посуду.
— Ты что делаешь? — спросил Брат.
— Давай сначала уберем со стола, — сказала она. — А то будет неуютно.
Атлет помог ей составить тарелки на поднос, открыл дверь, и она ушла в кухню. Он был самым приятным из них, добродушным и услужливым. Его смех приглушал жесткость и убогость Брата и Угрюмого.
— Вы пьете виски? — спросил меня Брат.
— А вы ничего не пьете? — обратился я к его сестре, потому что он предложил налить сначала мне.
Она рассмеялась.
— Нет, спасибо! Только иногда!
Он налил мне и по очереди всем остальным.
— А ты не пьешь! — сказал он Младшему, подняв вверх бутылку.
— Я пью! — решительно возразил Младший.
— Вот как? С каких это пор?
— После дежурства я всегда пью, — отвечал тот. — Неделю пью, а потом это проходит.
— Ты был на дежурстве? — спросил Брат.
— На прошлой неделе.
— Значит, неделя почти прошла, — сказал Угрюмый и повернулся на своем стуле, чтобы оказаться лицом к Младшему. — А почему ты всегда пьешь после дежурства?
— Не знаю. Но так получается. После каждого дежурства я неделю должен пить.
— Значит, ты дежуришь не так уж давно, — продолжал Угрюмый.
— Нет, в третий раз.
— Третье дежурство? Поздравляю. Не знал, что ты уже дежуришь. — Он покровительственно похлопал Младшего по плечу. — Ну, рассказывай. Тебе нравится?
— Не особо, — буркнул тот.
— Не особо? — переспросил Брат. — А ты ожидал чего-то особенного, если тебя берут на дежурство?
— Все они одинаковые, — сказал Угрюмый. — Сначала не могут дождаться, что их возьмут на дежурство, а потом — «ничего особенного». А ты думал, что сразу получишь важное задание? Если ты столь высокого мнения о своей персоне, то служба напрочь вытравит из тебя подобные фантазии!
Младшему кровь бросилась в голову, он взял себя в руки, чтобы не выругаться.
— Ничего особого я не ожидал, служба как служба, когда учишься подчиняться и подавлять в себе бунтаря. Это и есть дежурство, и думаю, что в третий раз я показал себя вполне прилично.
— Подавлять в себе бунтаря, — сказал Брат. — Ишь ты, всего три раза дежурил и уже знает, в чем цель службы. Через два года поговорим еще раз, господин внутренний бунтарь. А пока ты новичок.
Младший, все еще сжимая губы, застыл на своем стуле, на его физиономии боролись ярость и покорность. Может, он думал, что эти нападки тоже относятся к службе и к тому, чему он должен научиться.
Атлет пришел к нему на помощь.
— Оставьте его, — сказал он примирительно. — Новички тоже нужны, все мы когда-то были новичками.
— И вовсе я не воображаю себя важной персоной и что все только меня и ждут. Я на дежурстве исполняю все, что положено, хотя в третий раз сделал больше, чем смел мечтать.
— Дежурил в зале с последующей потасовкой? — спросил Брат, смягчая тон.
— В зале тоже, но без потасовки, — ответил Младший. — Я имею в виду нечто другое, в чем участвовал вне службы.
Он вдруг замолчал, так что возникла пауза. Все с любопытством воззрились на него, ожидая продолжения.
— Рассказывай! — сказал наконец Угрюмый. — Что было дальше?
— Ничего! — сказал Младший и попытался принять независимый вид. Он явно чувствовал, что одержал маленькую победу.
Атлет, добродушно улыбаясь, развалился на своем стуле. Казалось, эти наскоки и оборона Младшего доставляли ему особое удовольствие. Он обменялся с ним коротким взглядом, словно говоря: «Ты хорошо держался, но будь начеку!»
Однако другие не отставали.
— Значит, у тебя было секретное задание! — сказал Угрюмый. — Не знал, что тебя уже на третьем дежурстве избрали для секретного задания.
— Лучше я не буду ничего рассказывать, — сказал Младший. — Я и так рассказал слишком много.
Но было видно, что он горел желанием продолжить свой отчет.
— Нечего тут секреты разводить, — рявкнул Брат. — Лучше бы сразу закрыл рот. Ну, рассказывай!
— Если ему приказано молчать, пусть молчит, — сказал Угрюмый. — Служба этого требует.
— Говорю же, это не по службе, — продолжал Младший. — Я вполне добровольно выполнил то, что сам посчитал своей обязанностью.
— Но как будто бы секретно, — сказал Брат. — Не думаю, что тебе уже поручают такие вещи.
Младший медлил с ответом и глядел на Атлета, ища поддержки.
— Считаю, ты можешь спокойно все рассказать, — добродушно сказал Атлет, бросив проницательный взгляд на меня.
И тут я понял, что отказ Младшего поведать о своем подвиге связан с моим присутствием, а не с приказом соблюдать секретность. Похоже, он слишком поздно подумал обо мне и уже зашел слишком далеко, чтобы незаметно дать задний ход. Внезапно я, хоть и держался в стороне, оказался в центре круга, от которого зависело, расскажет ли он свою историю. Я ожидал, что ко мне пристанут с вопросами, и представлял себе, что тогда я раскрою карты, встану и уйду. Я чувствовал, что у меня хватит на это духу.
Но в то же время меня удерживало любопытство и желание одурачить компанию. Я поведу себя решительно и мужественно: встану и уйду, чего они никак не ожидают. Вот и пусть чувствуют себя в полной безопасности среди своих. Должен признаться, что я имел бы право претендовать на проявление характера, если бы удрал. Один раз я так и поступил, тогда, с моим другом. Но это не избавило меня от сожалений и укоров самому себе. И наконец, меня соблазняла игра, та же самая, что соблазняла меня в проявочной и в случае с почтовыми марками, любопытство и этакое жульническое желание почувствовать себя самим собой, переходя на другую сторону. Сослужить кому-то службу, предавая его золотому тельцу — это ли не роскошь самоутверждения?
Я решил продержаться до последнего, любой ценой, даже ценой самоотречения, что, признаюсь, мне было не очень трудно. Я смотрел на девушку. Она сидела на тахте, подложив подушку за голову и прислонясь к стене. Заметив мой взгляд, она встретила его спокойно и дружелюбно. Если бы она знала, думал я, ответила бы она на мой взгляд с таким же дружелюбием? Но я не успел сказать того, чего от меня ждали. Угрюмый со странной решимостью в голосе опередил меня.
— Можешь говорить спокойно, здесь все свои, не так ли?
При этом он посмотрел на девушку, которая медленно и одобрительно кивнула, и на Брата, который неподвижно сидел на своем месте, не подавая никаких знаков.
— Я люблю слушать интересные истории, — сказал я, чтобы снять напряжение. — Надеюсь, что ваша история достаточно интересна. По-моему, вы совершили убийство.
Все рассмеялись, даже Брат странно скривил рот, потом встал и снова налил виски Атлету и Угрюмому.
— И мне, — сказал Младший.
Я поблагодарил и отказался.
— Нет, не убийство, — сказал Младший. — Но то, что было со мной, имеет отношение к смерти, могилам и надгробиям. И к стене, куда вмурованы осколки стекла, чтобы никто через нее не перелез.
Лицо Угрюмого вдруг перекосилось, жестокость, подлость, скрытые под суровостью черт, выступили резче. Он круто развернулся на своем месте и, обращаясь к Атлету, сказал торопливо и раздраженно:
— Я об этом не знал. Пусть расскажет? Как ты считаешь?
— Конечно, пусть расскажет, — был ответ. — Я согласен.
Угрюмый помедлил, еще раз повернулся и сказал Младшему:
— Уж не собираешься ли ты рассказать, что ты?..
— Вот именно, — перебил его Младший. — Именно что собираюсь рассказать. Гробы и надгробия не лежат в универмаге или на танцплощадке. Это было настоящее кладбище.
— Черт возьми, — сказал Угрюмый.
— Если не веришь, спроси его, — сказал Младший, указывая на Атлета.
— Ты там был?
— Нет, не был, но я знал об этом деле.
Он добродушно рассмеялся.
— Он меня туда привел, — сказал Младший. — Один из участников не пришел, испугался, сестра у него неожиданно заимела ребенка, он должен был помочь ей пережить позор. Во всяком случае, меня взяли, — добавил он с ребяческим зазнайством.
— Может, лучше не рассказывать сейчас эту историю? — решительно сказал Угрюмый.
— Не рассказывать? Слушай, сначала ты меня заводишь, а как дошло до дела, то вдруг тормозишь.
Его тщеславие было уязвлено, он твердо намеревался рассказать.
— И все-таки я считаю, лучше ты расскажешь ее в другой раз, — стоял на своем Угрюмый.
— Дайте ему рассказать, — сказал я, не раздумывая.
Во мне поднимался безумный страх, и я должен был говорить, произносить слова, чтобы преодолеть его.
— Почему ты не даешь ему сказать? С чего бы вдруг? — спросил Брат.
— Потому что думаю, что эта история — только для мужчин, — сказал Угрюмый.
— Ах так, — сказал Атлет. — Только, значит, для мужчин. Прекрасно, мне-то что. Понимаю, некоторые анекдоты нельзя рассказывать в женском обществе. Но разве женщины не умирают, не стареют, не дурнеют, их не кладут в гроб и не хоронят? — обратился он к Брату. — Так может он рассказать или нет?
— Не знаю, — безучастно ответил тот. — Спроси ее сам!
— Скажи сама, хочешь послушать эту историю? — сказал Младший девушке. — Давай решай, ты хочешь, можешь слушать?
Что она скажет, как решит, думал я, положит ли конец этому омерзительному кривлянию? Я надеялся, что так она и сделает, решительно объявив, что она думает об истории, которую он собрался нам рассказать.
— До сих пор вы не спрашивали меня, хочу ли я слышать ваши истории, — сказала она. — Почему же сегодня спрашиваете?
— Хочешь слушать? — спросил Младший. — Да или нет?
— Могу посидеть в соседней комнате, если вы не хотите, чтобы я ее слушала.
— Нет, — сказал Младший. — Никто не собирается выживать тебя в соседнюю комнату. В конце концов это твоя комната.
— Или сами перейдите туда, а я останусь здесь, — сказала она невозмутимо.
Такую выдержку не часто встретишь.
— Нет, мы и этого не хотим, — сказал Атлет. — Это было бы невежливо. Ты такая гостеприимная хозяйка.
— Тогда придется всем остаться здесь. И вам решать, хотите вы слушать или нет!
— Дело не в нас, — слегка раздраженно сказал Угрюмый. — Вопрос в том, хочешь ли этого ты!
— Говорю же, я не знаю, о чем он хочет рассказать. Как же я могу сказать заранее, могу я слушать эту историю или нет?
— Хорошо, пусть тогда сегодня он не рассказывает, поговорим о чем-нибудь другом, подходящем для всех, а эту историю оставим на потом.
— Жаль, — сказал Младший, — я как раз собирался начать, прямо вижу перед собой, как все происходило, у меня самое подходящее настроение для рассказа.
— Вам решать, — сказала она. — Меня в расчет не принимайте.
— По-моему тоже, не нужно тебе ничего рассказывать, — сказал Атлет. — Я хорошо себе представляю, как все было.
— А ваше мнение? — вдруг обратился ко мне Угрюмый.
Я не участвовал в этой нелепой перепалке, где каждый, кроме Угрюмого и Младшего, говорил прямо противоположное тому, что думал и чувствовал. Мне казалось, что обо мне забыли. В конце концов, мне было все равно, расскажет он свою историю или нет, потому что я знал, что речь идет о кладбище, где мы хороним своих мертвых. Они разорили кладбище, все они, кто сидел здесь, даже если это сделал только один из них. Заданный вопрос был мне очень кстати. Что еще тут было скрывать? И я с ожесточенным упрямством и решительностью, удивившей меня самого, сказал:
— Хотелось бы послушать!
Младший вздохнул с облегчением.
— Хорошо, — сказал Угрюмый, затеявший обсуждение вопроса. — Валяй, рассказывай!
— Рассказывай, — сердито огрызнулся Младший. — Как будто это так просто, если ты только начал, а тебя ни с того ни с сего заткнули. Оборвали нить. Я не водопровод, повернул кран — и готово, история польется сама собой.
— Ты же еще не начинал, — сказал Атлет. — Пожалуйста, соберись и рассказывай, сколько можно ждать!
— Но я и собирался начать, совсем уже завелся.
— Ты болтал что-то о могилах, смерти, о стене, утыканной осколками стекла, — сказал Угрюмый. — И каждому было понятно, что ты хотел сказать. Может, не надо уточнять? У нас хватит фантазии вообразить, о чем речь. И каждый сможет слушать твой рассказ, не испытывая рези в животе.
— С чего бы ей взяться, рези в животе? — возразил Младший. — У меня там не было никакой рези. А ведь я сначала не знал, в чем дело. Кто-то не пришел на дежурство, и меня спросили, хочу ли я разок показать, чего стою. Ладно, говорю, скажите мне, что надо сделать, и я сделаю. Ступай, говорят, к тому-то и тому-то, лучше я не буду называть имен, чтобы не уточнять, ступай, значит, к тому-то и тому-то, и тебе скажут, что делать дальше.
— Сколько вас было? — перебил его Угрюмый.
— Со мной пятеро.
— Глупо, — сказал Угрюмый. — Это слишком много, только повышает риск.
— Дай же мне рассказать. Ну вот, я иду к уполномоченному и говорю…
— Ты его знал?
— Нет!
— У тебя было удостоверение?
— У меня оно есть, но при мне не было.
Угрюмый поглядел через плечо на Атлета и сказал вполголоса, но так, что мне было слышно каждое слово:
— Невероятно, ошибка на ошибке. Он не прошел инструктаж, прежде чем начать. Он мог оказаться шпионом, это никуда не годится!
Атлет только молча кивнул в сторону Младшего, которого постоянные вопросы выводили из себя.
— Если будете все время перебивать, — заявил тот, донельзя раздраженный, — не буду рассказывать!
— Не дури, нам нужно было только по-быстрому кое-что обсудить. Вы наделали ошибок, грубых ошибок, представь, все могло пойти вкривь и вкось.
— Это не моя вина, — сказал Младший.
— А ты соображай. Если уж тебя избрали для такой важной акции, нужно соображать головой, это твой первый долг. Рассказывай дальше!
— Ну вот. Я ему говорю, что пришел вместо… ну, того, который не явился. Я уже сказал вам, что лучше не называть имен. Знаю, отвечает уполномоченный и смотрит на меня, как на экзамене. Слышал про тебя. Удостоверение при тебе?
— То-то, — с облегчением сказал Угрюмый.
— Чепуха, — сказал Младший. — Сущая чепуха, удостоверение тоже можно подделать.
— Это верно, — сказал Угрюмый и махнул рукой, словно хотел сказать: бывает, это нужно учитывать. — И что он сделал, когда ты не предъявил удостоверения?
— Он поступил намного разумнее. Позвонил ему, — сказал Младший, указывая пальцем на Атлета.
— Это в самом деле разумно, — сказал Брат, раскачиваясь на своем стуле.
Младший продолжил:
— Через минуту он вернулся, сказал, что все в порядке, так что сегодня вечером, в семь, Южный вокзал, выход на второй путь, и имей в виду, ты никого не знаешь, понятно?
Южный вокзал, подумал я, куда же они ездили делать свое черное дело?
— Прихожу на Южный вокзал ровно в семь, у второго выхода толпа народу. Я стою, как водится, осматриваюсь, а там, среди пассажиров, стоят трое, которых я уже видел раньше, и делают вид, что не знакомы друг с другом. Они не кучковались, нет, они рассыпались в толпе, а то вы опять подумаете, что мы наделали ошибок, но никаких ошибок мы не наделали, ни единой за весь вечер, насколько я в этом разбираюсь. Я чуть было не кинулся к ним, но потом передумал. Мы ехали порознь в поезде на Л.
— Билеты брали? — спросил Брат.
Что за дурацкий вопрос, подумал я, не вопрос, а допрос.
— Билеты мы получили у него заранее, — сказал Младший. — Поехали мы, значит, в Л. Никто никого не знал, ни на вокзале, ни по дороге, я понял это по тому, как они на меня пялились. Ехали мы часа полтора, и, когда прибыли в Л., уже сгущались сумерки. Все еще поврозь прошли по городу, Вожак впереди. Мы все еще не знали, чего тут ищем, но все доверяли Вожаку. Выходили из города по улицам, где лес спускается с холмов до самых домов и доходит до сторожевой башни. Я эту местность знал и раньше, жил там с родителями полтора года. Вечер был холодный, темный, все-таки сентябрь, я мерз в своем плаще. Место глухое, захолустное, если б я не хотел показать, чего стою, не затащили бы меня в эту дыру даже десять скорых поездов. Когда идет дождь, в сточных канавах воняет коричневая жижа. Дороги такие скверные, что в эту деревню, хоть она и считается городом, автомобиль может заехать разве что по ошибке. Впрочем, местечко живописное. Мы прошли метров десять, остановились у железных ворот. Они были когда-то деревянные, но их проел жучок, вот их и обили железными листами. Но мы все еще не знали, зачем нас послали и почему мы пробирались через весь город на опушку леса, под покровом темноты. Стояли у ворот, пока до нас постепенно не дошло, что послали нас на это кладбище как следует навести порядок.
— Послали? — сказал Угрюмый, мрачно взглянув на него. — С чего ты взял, что вас послали?
— Я не знаю.
— А сказал, что послали.
Угрюмый огляделся вокруг, мы все кивнули, да, мол, он это сказал.
— Если я так сказал…
— Вы отправились добровольно, — решительным тоном заявил Угрюмый. — Так что не рассказывай, что вас послали, если вы отправились добровольно. Это некорректно!
— Это было кладбище, — продолжал Младший. — Мы очутились ночью у кладбища, огороженного невысокой каменной стеной, через нее можно было туда заглянуть. У входа деревянные ворота, обитые железом. На кладбище всегда жутко, даже днем, а уж ночью… Ты его не видишь, везде мрак и какие-то сгустки темноты среди надгробий и земляных горок, которые бугрятся во мраке и так тесно прилегают друг к другу, что кажется, будто сама тьма отбрасывает тень в ночи. Кладбище лежит у подножия холма, на краю леса, протянувшегося вверх по холму на восток на много километров, в детстве мы часто играли там. С трех сторон кладбище окружают деревья, склонившиеся над невысокой стеной, так что кончики веток почти касаются плюща и песка могил. Только ворота были свободны. Отовсюду надвигалась тишина и тьма, с кладбища, из леса и из ночи. Мы прошли вдоль стены, вдоль каменного прямоугольника, двигаясь на ощупь, спотыкаясь о корни деревьев и проваливаясь в песчаные ухабы. Потом вдруг остановились, построились в ряд, замерли и заглянули через стену на это поле.
— На поле? — перебил Угрюмый. — Поле мертвых? Звучит весьма патетически, я думал, вы поехали туда, чтобы основательно перекопать это поле, а ты мне рассказываешь какую-то романтическую историю про лес, ночную тьму и прочую белиберду. Ближе к делу!
— Ну, зачем ты все время меня перебиваешь? — не сдержался Младший. — Говорю же тебе, когда мы там стояли, каждый хоть на мгновение наверняка почувствовал, будто сам стоит на краю могилы. В конце концов ситуация была для нас совершенно новой. Мы совсем не были готовы, ведь каждому из нас уже приходилось хоронить своих покойников.
— И все-таки, — продолжал Угрюмый холодным, злобным тоном, — вам следовало бы знать, почему вы там оказались. Ваше чутье должно было подсказать вам, что то, ради чего вы приехали, необходимо и потому…
— Все это я знаю, можешь не объяснять, — отрезал Младший. — Я только рассказываю, что там произошло. Со мной рядом стоял парень, маленький такой, приземистый. Он толкает меня в бок и спрашивает шепотом: «Ты об этом знал?» Я качаю головой и шепчу: «Нет», потому что подумал, что в темноте он неправильно истолкует мое движение. «Я круглый сирота, — шепчет он. — Понимаешь?» — «Да, — говорю, — понимаю, но так нужно».
Младший сделал паузу и вопросительно поглядел на Угрюмого. Но тот и бровью не повел. Сидел, готовый к прыжку, чтобы перебить его в любой момент. Увидев, что Угрюмый не собирается его хвалить, Младший продолжал:
— Парень испугался. «Да, — говорит, — так нужно, и я не отказываюсь». Бедняга. Он говорил так жалобно, словно ему поручили совершить убийство. И в сущности, это и было чем-то вроде убийства, то, что мы задумали. Только там были уже не люди. Живые люди, когда на них нападают, могут защищаться и кричать. А тут было то, что от них осталось, кости, прах. Мы пришли, чтобы убить мертвых. Я в этом участвовал и горжусь, что мне разрешили участвовать. Но если вы меня спросите, то я скажу, что убить мертвого намного труднее, чем живого.
— Почему? — вдруг вырвалось у Брата, который все время был погружен в мрачное молчание. — Почему?
— Вы когда-нибудь убивали человека? — вмешался я, внешне совершенно спокойно, как будто мне было просто интересно узнать, успел ли он за свою короткую жизнь заиметь на своей совести убийство.
— Вздор, — сказал Угрюмый. — Кроме того, я считаю, ты слишком много философствуешь.
— Я только хотел сказать, что творилось во мне и в других, когда мы разоряли могилы. Но зато убийство живого человека мне стало более понятным и не таким отталкивающим.
— Брось, — возразил Угрюмый. — Ты слишком усложняешь дело. Так оно и бывает, когда новичков ставят перед проблемами, до которых они не доросли. Вот почему я считаю акцию проваленной. Ваш главный не говорил с вами об этом?
— Нет, — сказал Младший. — Он сильно поранил себе глаз.
— Как это?
— Налетел в темноте на торчащий сук, но это еще не все несчастья.
— Были и другие?
— Да.
— Рассказывай по порядку, — приказал Угрюмый. — Вы пришли, чтобы растоптать могильные холмы и свалить камни, и все. Остальное забудь, как будто больше ничего не было.
— Верно, — сказал Младший. — Пришли для этого. Но мы делали и совсем другие вещи.
— Какие?
— Мы убивали мертвых. Наверное, они заметили наш приход, встали из своих могил и боролись с нами. В конце концов мы их поубивали.
— Фантазируешь, — громко сказал Угрюмый и обратился к Атлету: — Скажи ему, чтобы прекратил.
— Зачем? — возразил тот. — Если у него и у прочих было такое чувство, что мертвые вышли из могил и их пришлось убить, значит, он это пережил и имеет право рассказать.
— Бред, — сказал Угрюмый.
— Вполне могу себе представить, — сказал Атлет, — что так оно и произошло. Конечно, ночное кладбище — не самое приятное место, чтобы проводить там вечера и ночи, там могут прийти в голову и более бредовые идеи.
— Ты прав, — продолжал Младший. — Мне приходили в голову совсем другие идеи. Сначала нам пришлось убить и многое другое.
— Что? — спросила девушка.
Все мы посмотрели на нее.
«Сначала ночь, потом тишину и, наконец, лес. Сперва нам нужно было убить эту троицу, сначала порознь, потом вместе. Я вам расскажу. Мы, значит, стояли у стены и перешептывались, потом кто-то выругался вполголоса. Это был… но я ведь хотел не называть имен… В общем, это был один такой крепкий парень, гимнаст, он вдруг начал ругаться.
— Заткнись, — сказал Вожак. — Не устраивай спектакль, что с тобой?
— Моя рука, — сказал парень. — Смотрите, эти собаки утыкали стену осколками стекла. Вся стена утыкана. Нам не перелезть.
— Предоставь это мне, — сказал Вожак, — сильно кровавит?
— Вся ладонь ободрана, есть у кого-нибудь бинт?
Но бинта ни у кого не было.
— Возьми носовой платок, — сказал Вожак и перевязал ему руку.
Было жутко тихо и темно, ни зги не видно, там, где росли деревья, сплошная тьма, и все пространство между стволами тоже было заполнено тьмой, как если бы взбили тесто, и в нем образовались дыры, и началось брожение. И было страшно тихо, тишина повисла над кладбищем и вышла из леса, и ночь была глубокой тишиной. Как будто вынули оттуда три тишины, связали в одну и поставили здесь стеной, эту глубокую тишину ночи, леса и кладбища. Эта стена была крепкая, тяжелая, она высилась перед нами и давила на наши плечи тяжелее, чем стена из камня. Никогда не думал, что на земле может быть так тихо.
— Интересно знать, насколько там глубоко, — сказал кто-то.
Вожак исчез в лесу, мы услышали треск сучьев, потом он вернулся с длинной палкой. Палку он опустил за стену, чтобы замерить глубину.
— Полтора метра, — сказал он.
Он проверил в другом месте.
— То же самое, — сказал он.
— Стой, не шевелись, — сказал он и вскочил на стену, оперевшись на спину пятого парня, о котором я вам еще не рассказывал. Собственно, он был больше похож на девчонку, с мягкими волосами, светлыми, как лен, с прозрачной кожей и женственными движениями. Увидев его, я не понял, почему его избрали для задания.
— Нормально? — спросил я стоявшего на стене.
Из-за стекол он стоял, расставив ноги по самым краям стены. Потом повернулся вполоборота, спиной к нам, и посмотрел вниз.
— Черт, слишком темно. Я прыгну, подай мне руку! — сказал он, заглядывая вниз.
Он подождал, присел и спрыгнул, мы услышали глухой звук удара о песчаную почву и шелест листвы.
Потом мы все, как стояли, по очереди, опираясь один на другого, забрались на стену и спрыгнули вниз, во тьму. Но это было так, словно глубина и тьма упали нам навстречу и внезапным ударом сотрясли наши тела. Я прыгал последним, опереться было не на кого, поэтому я немного разбежался, перескочил через осколки и спрыгнул в темные голоса, которые встречали меня приглушенным шепотом. Холодная сентябрьская ночь мазнула меня по лицу. Я упал на что-то мягкое, оно сразу подалось, человеческое тело.
— Черт тебя возьми, — крикнул искаженный болью голос.
Я пытался его удержать, но мы оба повалились на землю. Это был тот парень вроде девки.
— Идиот, — сказал я.
— Не орите так, — разозлился Вожак. — Вставайте. Быстро.
— Он мне ногу отдавил, — захныкал парень, похожий на девку.
— Тихо, не реви, — сказал Вожак.
Остальные тихо засмеялись.
— Первый труп, — прошептал чей-то голос, это был Гимнаст.
И вот мы все оказались на кладбище, можно было начинать представление. Но в темноте так сразу не начнешь. Есть вещи, которые в темноте происходят сами собой. Когда темно, их, так сказать, и начинать не нужно, эти вещи сами начинаются, темнота их запускает. Темнота тебе помогает, она твой друг, твой союзник, товарищ. Но мы все стояли там, сбившись в кучу, как коровы перед дойкой, и ждали, пока начнем. Ночь делала все невидимым, она хоть и прикрывала нас, но не давала так просто начать, она была наш противник, мы чувствовали, что ночь — наш враг.
— Так, — сказал Вожак. — Пошли.
И мы в кромешной тьме попытались следовать за ним. Но если вы думаете, что мы с ходу начали свою работу, то ошибаетесь. Мы послушно крались за ним гуськом. Сначала он попробовал выйти на главную дорожку, чтобы как-то сориентироваться. Кладбище было небольшое, и все расстояния довольно маленькие. Потом он свернул на боковую тропинку, словно искал определенную могилу, с которой хотел начать.
В детстве родители часто брали меня с собой на кладбище, когда ходили на могилу сестры. Наше кладбище намного больше. Они всегда двигались по средней дорожке, а оттуда сворачивали на боковую тропу, хотя наша могила была у стены, и до нее лучше было идти по внешней дороге.
Сирота держался поближе ко мне.
— У нас в приюте каждое третье воскресенье был поход на кладбище, на могилу наших родителей, — прошептал он. — Распоряжение директора. А твои еще живы?
То ли говорил он очень тихо, то ли голос у него дрожал от нетерпения?
— Живы, — сказал я и как-то немного застеснялся.
— Ты тоже в первый раз участвуешь?
— Да.
Потом мы оба молчали, пока он не сказал:
— Такая темень.
— Да.
— Кладбище небольшое.
— Да.
— Ты тоже считаешь, что здесь красиво?
— В каком смысле? — спросил я.
— Ну, что здесь красивое место для кладбища, — пояснил он. — На опушке леса.
— Не знаю, — ответил я коротко.
— Большие кладбища не так красивы, — продолжал он. — Они в центре города, там так неспокойно, их и найдешь-то не сразу. Один мальчишка из нашего приюта…
— Тихо, — шикнул на него я. — Сказано, не шуметь.
— Да, — ответил он и замолчал.
Мы потопали дальше. Справа и слева от нас были холмики, маленькие темные кучки земли, они бугрились в ночи, как будто земля, где лежали эти мертвые, отрастила живот и забрала кости обратно, в свое лоно. Мы шагали между ними, как похоронная процессия, которая тайно уносит покойника в ночь и туман.
— Силы небесные, — сказал чей-то голос, это был Гимнаст.
— Что с тобой? — спросил Вожак, он шел рядом с ним.
— Я больше не выдержу.
— Чего ты больше не выдержишь?
— Живот болит.
— Вот как?
— Мне приспичило.
Вожак рассмеялся.
— Иди присядь где-нибудь, подыщи себе красивую могилку и дрищи на нее, только целься лучше.
— Сил нет терпеть, — сказал Гимнаст и скрючился.
— Так иди и сядь в семейном склепе, дрищи ему прямо в морду».
— Извини, — сказал Младший, прерывая свое повествование и обращаясь к девушке. — Извини, Лиза. — Точно, Лиза, ее звали Лиза, наконец-то я вспомнил имя, так долго не мог вспомнить, но почему теперь? — Но он правда так сказал. Кроме того, в определенных ситуациях такие слова действуют благотворно, придают мужество, ты чувствуешь, что способен на подвиги, если выпустишь наружу всю застрявшую в тебе свирепость и грязь. Только тогда и чувствуешь, что можешь совершить самые благородные поступки.
Девушка рассмеялась, то есть Лиза, ее зовут Лиза, она рассмеялась и спокойно сказала:
— Ну рассказывай дальше.
«Гимнаст перепрыгнул через могилу, еще через одну, так берут барьеры, и исчез. Мы слышали, как он с облегчением закряхтел. Потом он вернулся, застегивая штаны, которые только что натянул.
— Теперь можно приступать, — сказал он.
Мы все еще довольно бесцельно топали по центральной дорожке, время от времени пинали могилы, расшатывали какую-нибудь ограду или хватали надгробный камень, что бы ее свалить. Но мы расшатывали и хватали бестолково, это было лишь начало, проба сил, первый раунд того, что было потом.
— Давайте, парни, — сказал Вожак, — пора наконец начинать.
— Да, — повторил похожий на девку, и я заметил, что он слегка заикается. — Пора наконец начинать, только очень уж тут темно.
— Может, установить для тебя прожектора? — спросил Вожак.
— Я не о том, — извинился Заика. — Я о том, что не будь так темно, мы давно бы уж начали.
— Идиот, — сказал Гимнаст. — Ты, приятель, о чем ни заикнешься, выходит чушь собачья.
— Оставь его в покое, — сказал Сирота. — Нехорошо ставить ему в упрек дефект речи.
— Позаботься о своей бабушке, — разозлился Гимнаст. — Прежде чем защищать заик, которые несут чушь, покажи, чего сам стоишь. Понял?
— Я тебя понял, — сказал Сирота. — Но я все равно буду защищать его от тебя. Если ты думаешь, что я пришел сюда доказывать, чего стою, ты очень даже ошибаешься. Я пошел с вами, не спрашивая, что нужно делать. И раз уж я здесь, то выполню то, что от меня требуется, даже если это позорное дело, да, позорное дело.
— Что ты несешь? — сказал Гимнаст.
В его голосе прозвучала скрытая угроза. Лица не было видно, только черное пятно, из которого шло негромкое шипение, но я хорошо представлял себе его прищуренные глаза, жесткие губы и голову, втянутую в сутулые плечи, словно он готовился к прыжку.
— Отвратительное и позорное дело, вот чем мы занимаемся, — вызывающим тоном повторил Сирота. — И нет в нем никакой необходимости, но раз уж я здесь, я в нем участвую. Но все равно дело тошнотворное.
— Говорил бы ты потише, — сказал Вожак. — А то нас услышат.
Это было все, что он сказал в тот момент.
Сначала я удивился, что он не стал обострять. Пока не понял, что он действовал мудро. Я было подумал, что он дает слабину, но потом еще немного поразмыслил и сообразил, что, в сущности, он действовал очень мудро. У Гимнаста прихватило живот, парень, похожий на девку, начал заикаться, а Сирота наверняка вспоминал третье воскресенье месяца. Каждому была предоставлена свобода действий, чтобы вытряхнуть из них то, что лежало глубже. Вожак им не мешал, у него был опыт в таких мероприятиях, вот почему он был мудрый.
— Я рад, что я — сирота, — продолжал Сирота. — Рад, что мои дорогие родители давным-давно померли, будь они живы, я бы не посмел показаться им на глаза.
И тут Заика, которого он взял под защиту, говорит ему:
— Ты что, трусишь?
Мы все поразились: Сирота только что защищал его, а он на него нападает. Наверное, надеется таким образом попасть в любимчики. Это было так противно, что никто его не поддержал.
Круглый Сирота тоже не обратил внимания на эту подковырку.
— По мне, делайте, что хотите, убивайте живых, поджигайте их дома, выбрасывайте детей в окно, пожалуйста, но оставьте в покое мертвых. Выйти на бой с живым врагом и, если нужно, убить его — дело чести. Но убивать мертвых — нет на этом благословения».
В начале рассказа все перебивали Младшего, а теперь сидели тихо и слушали, откинувшись на спинки своих стульев или утонув в кресле, как Брат. Они курили, смотрели в пустоту, время от времени бросали взгляд на рассказчика и оставались совершенно пассивными. На их лицах нельзя было прочесть, как подействовал на них рассказ. Они были те же, что прежде, а я сидел среди них, чужак, о чем они не знали, и тоже слушал и пытался, насколько мог, равнодушно глядеть в пространство. Ты подлец, говорил я себе, нужно встать и покончить с этим мерзким и позорным делом. Мне было приятно и в то же время мучительно называть себя подлецом. Рассказ Младшего вызвал во мне всю накопившуюся злобу и ненависть, я страдал, и в то же время мне было приятно, что я страдаю. Я чуть было не разрыдался, и это было мне приятно. Бывают отцы, которые со слезами на глазах лупят своих детей. Такой папаша извлекает из порки двойное удовольствие: оттого, что бьет, и оттого, что при этом мучается. Тут Младшего перебил Атлет.
— Так он и сказал? — спросил он.
Он все еще сидел, спокойно развалившись на своем стуле, и, казалось, думал: ишь ты, каков сиротка! Он переглянулся с Угрюмым, и, хотя они были совсем разными людьми, этот взгляд выдал мне их тайное согласие, которого я не замечал прежде. Я увидел, что добродушный Атлет уже совсем не так добродушен.
— Дальше, — сказал Угрюмый. — Продолжай!
Младший продолжил:
«Гимнаст снова за свое:
— Ничего ты не понимаешь. Думаешь, для чего мы здесь и чем занимаемся? Дело не столько в мертвых, сколько в живых. Ты представь, как они утром придут сюда и обнаружат сюрприз, может, завтра им опять кого-нибудь хоронить, представляешь? Хотел бы я поглядеть на их лица.
— Говори тише, — сказал Вожак и ободряюще похлопал его по плечу.
Мы все молчали, и Сирота тоже. Мы снова чувствовали тишину кладбища и ночи, поднялся теплый ветер, качнул деревья, так что ветки коснулись могил. Там, где мы стояли, не было видно неба, ни под деревьями, ни на свободных местах между ними, стояла ночь, беззвездная ночь.
— Вот когда они заметят, что дела их — хуже некуда, заживо почуют, что им конец. На своей шкуре испытают все смертельные страхи, которые может испытать человек, пока еще что-то соображает. Их жизнь станет жутким умиранием, намного страшней самой смерти, и последняя уверенность, что смерть принесет им покой и мир, исчезнет.
— Может, все это и правда, — возразил Сирота, — но все же…
— Перестаньте наконец, — сказал Вожак.
— Я хотел только сказать…
— Нет, перестаньте наконец!
— Дай ему выговориться, — сказал вдруг Заика без малейшего заикания.
— Ну, говори! — сказал Вожак.
— Но все же, — продолжал Сирота, — это беззаконие, и внутренний голос говорит мне, что так оно и есть. Если ты веришь во что-то такое…
— Не интересуюсь, — сказал Гимнаст.
— Что есть Небеса и…
— Чепуха это все, — сказал Заика. — Не верую, в Небеса не верую.
Это было невероятно смешно, я слышал многих заик и всегда старался не расхохотаться. Некоторые комики зарабатывают дешевые лавры, изображая заик. Я всегда их презирал. Но еще никогда не встречал заику, который бы заикался на словах: „Не верую, в Небеса не верую“. Это было ужасно смешно, ужасно и смешно. Мы все тихо рассмеялись.
— Пошли, — сказал Вожак и бегом повернул на боковую тропинку.
Мы, спотыкаясь, бежали следом, прямо под деревьями, ветви хлестали нас по ушам. Вдруг он завопил: „Осторожно!“ Мы быстро пригнулись, но было поздно, острый конец свисавшей ветки попал ему в глаз. Он прижал руку к правому глазу.
— Покажи, — сказал я.
— Дальше! — закричал он яростным голосом и бросился бежать, зажимая рукой правый глаз, мы за ним.
Мы прибежали в правый верхний угол кладбища. Там у подножья холма были маленькие холмики, детские могилы. Мы подбегали, прыгали на них, хватали маленькие надгробья, вытаскивали из земли обелиски и швыряли их в темноту. Когда закончили, осталась только большая ровная песчаная площадка. Мы ее утоптали.
В ботинки набился песок, но это нам не мешало. Детские могилы были хорошим разгоном, мы вошли во вкус и чувствовали, что делаем хорошую работу, один заводил другого, никто не отлынивал. Мы стали одним целым, одной командой, действовали согласованно и дружно. Наш Вожак все еще держался за глаз, наверное, боль была жуткая, он видел в темноте только одним глазом. В самом деле, каждый старался, как мог. Похоже, небольшое разногласие в начале дела подготовило почву для единой акции. Мы выполнили ее хорошо, но все-таки без настоящего вдохновения. Если сравнить с тем, что еще случилось позже, я должен сказать, что поначалу мы действовали даже с прохладцей.
Потом мы отряхнули штаны и вытряхнули песок из ботинок. И продолжили свое дело. Поблизости стояло несколько фамильных захоронений, большие мраморные плиты и четырехугольные колонны, окруженные железными оградами. Решетки были старые, хрупкие, наполовину проржавевшие, они едва держались в пазах и не оказали никакого сопротивления. Мы вытащили их из земли и побросали на соседние могилы. Потом мы взялись за каменные плиты, но сначала вынули все цветы и побросали их к стене (там были и свежие цветы, на этих старых могилах) или просто топтали их, когда как, а потом попробовали валить памятники. Но они были слишком большими и слишком массивными, а у нас ни лопат, ни ломов. Первым на камни попер Гимнаст, он налетал на них с разгону, как на спортивный снаряд, Заика тянул с другой стороны, а мы стояли по бокам и толкали. Но плиты не поддавались, такая досада. Мы перешли к следующему склепу и повторили все снова: сначала ограда, потом цветы, потом холм и, наконец, плиты, но с ними опять ничего не вышло. Хотя близилась ночь, нам казалось, что стало светлее, мы могли лучше видеть друг друга. Вожак прикрывал рукой свой глаз. Никто не говорил ни слова. Потихоньку мы разогрелись, и, несмотря на разочарование, наша работа продвигалась. Только камни упрямились, и из-за их упрямства мы постепенно впадали в ярость, что в конечном счете пошло на пользу нашим стараниям. Пока камни стояли, у каждого из нас было чувство, что мертвые еще оказывают нам сопротивление, что они еще не мертвы и смотрят на разрушение презрительно и гневно.
— Еще раз, — сказал Вожак, подгоняя нас.
Он отвел руку от глаза, и мы увидели, что веко набухло и закрыло глазное яблоко. Мы изо всех сил навалились на дерево перед камнем, на котором были высечены золоченые буквы и цифры. Без толку.
— Давай к другим, — скомандовал Вожак.
Мы кинулись вдоль тропы к надгробьям поменьше, словно с цепи сорвались. Теперь мы увидали, что все они, как назло, все еще стоят прямо и грозят нам. Словно скелеты высовывают из своих земляных нор то руки, то ноги, то голову, будто показывали, что у них еще есть власть, с которой нужно считаться, что они еще не покинули землю, а только отступили в ее лоно, откуда могут творить свои безобразия. Мы бежали по тропинкам и проходам, а мертвецы как будто гнались за нами. Так получилось, что мы взялись за одну могилу вдвоем, Заика и я, Гимнаст бежал с Сиротой, а Вожак работал один. И тут пал первый камень, мы свалили его на могилу, и теперь казалось, что мертвый упал ничком и лежит на своей собственной могиле, голый, с голым животом. И тогда мы разобрались с самой могилой. Все-таки есть разница: топтать детскую могилу или взрослую. Молодую мертвечинку топчешь как будто нежнее, чем стариков. Со вторым камнем тоже пошло легко. Потом еще один, мы опрокинули его назад. Он лежал с таким видом, будто выполз макушкой из могилы и валялся теперь на спине, беспомощный в сентябрьской ночи. Как будто его больше не охраняли ни ночь, ни лес. Как будто мы поразили тьму в самую сердцевину, и теперь она медленно удаляется через кладбище, а деревья отступают вверх по холму, в чащу леса. Дальше попался камень, который мы не смогли опрокинуть. Оставить его стоять и глядеть на судьбу своих братьев и сестер? Пусть глядит, так ему и надо. Некоторые могилы словно ждали нас и сами собой начинали разрушаться, прежде чем мы на них набрасывались. Другие были прочнее, задубели от времени, нам было некогда с ними возиться. А еще мы нашли несколько свежих могил, без памятников. Зато они были завалены цветами. По цветам и было понятно, что они свежие. Один цветок мы воткнули в петлицу, остальные растоптали. Я все время боялся оказаться около разрытой могилы и угодить в нее. Но такого удовольствия я мертвым не доставил, смотрел в оба в кромешную тьму. За короткое время мы опрокинули солидное число памятников и растоптали много могил, кладбище стало лысым и мертвым, картина пустоты в ночи. Нам стало жарко, мертвые разогрели нашу кровь. Теперь мы могли быть довольны. Потом мы устроили небольшой перерыв, отряхнули руки и штаны.
Похожий на девку Заика сказал:
— Как думаешь, нас за это накажут?
Я не сразу его понял, я не ожидал от него такого вопроса, так как он старательно мне помогал и как-то особенно подпрыгивал вверх, чтобы с большей силой приземляться на могилы.
— Накажут? Кто и за что?
— Ну, я имею в виду, что мы за это поплатимся.
— Глупости, неужели ты в это веришь?
— Я не верю, но все время об этом думаю.
— Может, ты боишься попасть в ад? — спросил я.
— Не верю я в ад, — сказал он, — но не могу об этом не думать.
— О чем ты не можешь не думать?
— Что мы делаем что-то неправильное, — ответил он шепотом.
Он одно время не заикался, но, когда начал шептать, снова стал спотыкаться на словах. Он глубоко вздохнул.
— Почему это неправильное? — спросил я.
— Ты же знаешь пословицу.
— Какую?
— Она все время крутится у меня в голове.
— Какая пословица?
— Ты ее наверняка знаешь!
— Ну?
— Я ее немного подзабыл, но смысл примерно помню, мама меня научила, она начинается: „Не делай другому то…“
— О да, — сказал я, — эту я знаю, моя мать тоже часто ее талдычила, меня от нее тошнит.
— Значит, ты тоже ее знаешь?
— Конечно, — сказал я. — Она же древняя.
— А кто, собственно, это сочинил?
— Не знаю, о пословицах так не спрашивают. Они возникают сами собой.
— Если бы тебя здесь похоронили и кто-то на твоей могиле…
— Если я мертв, меня это больше не интересует. А ты что, веришь в привидения?
— Или твои родители, или сестра, или кто-то, кто тебе дорог?
Откуда он узнал, что моя младшая сестра умерла? Непонятно. Может, он сказал это просто так, к примеру. Но вопрос был трудный, и я задумался, а он тем временем отвернулся, чтобы отойти помочиться на чей-то памятник. Когда он снова подошел, он немного стеснялся меня, этот парень, похожий на девчонку.
— Не знаю, я еще об этом не думал. Но мне бы это не слишком понравилось, — сказал я».
— А кто, собственно, это сочинил? — спросила Лиза и повернулась к Брату, прерывая повествование.
Я вздрогнул, услышав ее голос, потому что совсем забыл о ее присутствии. Теперь она сама напомнила о себе. Брат со скучающим видом пожал плечами.
— Не знаю, — отрезал он.
— Кто, собственно, это сочинил? — спросил Угрюмый и равнодушно обернулся к Атлету.
Казалось, небольшой перерыв пришелся кстати, они потягивались на своих местах, девушка пригладила волосы, Атлет вытянул ноги, сложил руки и опустил голову на грудь. Он размышлял.
— Я тоже не знаю, — сказал он через некоторое время. — Кто бы это мог быть?
— Какой-нибудь анонимный старый хрыч.
— Грек?
— Нет, не думаю, этого нет в Новом Завете. В Нагорной проповеди, что ли? Такие вещи по большей части есть в Нагорной проповеди или Бог весть где.
— Странно, — сказал Младший. — Каждый ее знает, каждый повторяет, никто по ней, слава Богу, не живет. И никто не помнит, кто ее сочинил.
— Он сказал, слава Богу! — Угрюмый язвительно и жестко расхохотался. — Слава Богу, никто по ней не живет. Это лучший анекдот, который ты выдал сегодня вечером. Надо же — слава Богу!
Это прозвучало, как проклятие.
— Пословица старая, — вдруг выпалил я, попытавшись придать своему голосу безразличие.
Я чувствовал, что у меня задрожали ноги и весь я покрылся потом.
— Вот как, — сказала Лиза и дружески мне улыбнулась.
— Да, мой отец всегда ее повторял, — продолжал я, не догадываясь о последствиях своего признания.
— Сколько лет твоему отцу? — спросил Атлет, а Младший захихикал.
— Он не так стар, как эта пословица, — ответил я.
Теперь рассмеялись и другие, но смех был не такой, как раньше, в нем была известная доверительность, разрядка, некое признание. Я мог бы еще обернуть ситуацию в свою пользу.
— Так кто ее сочинил, давай выкладывай! — потребовал Младший.
— Ее сочинил… не помню точно, кажется, Гилель[3] или кто-то вроде него.
— Это кто такой? — спросил Угрюмый, удивленно глядя на меня.
— Да так, один старик, — только и сказал я. Больше ничего. Если захочет, пусть поищет имя в справочнике сегодня вечером. Если не забудет его к тому времени.
Добрый, старый бородач Гилель, ты истолковывал и объяснял этот мир всем, кто колеблется, стоя на одной ноге… Старый Гилель!
— Рассказывай дальше, — сказал Брат. Младший продолжал:
«Мы выполнили всю работу, и другие тоже не теряли времени даром. Они шныряли туда-сюда на другой стороне. Мы слышали падение камней, топот ног, стоны и кряхтенье и беготню по шуршащей листве. Они закончили одновременно с нами.
— Эти камни такие тяжелые, — сказал Сирота, когда мы встретились на центральной дорожке. Он утирал со лба пот, его лицо блестело в темноте, он устал и тяжело дышал.
— Много ты завалил? — спросил я его, чтобы немного подбодрить.
— Я не считал, — ответил он. Выглядел он не так чтобы радостно и, похоже, был не слишком доволен своими достижениями.
— А вы-то чем там занимались? — вдруг сказал он, указывая в направлении стены. — Вы же оставили стоять целый ряд.
Я обернулся и увидал в темноте ряд могил, целых и невредимых. Холмы и надгробья стояли целехонькие, как ни в чем не бывало, мы о них забыли.
— Пошли, — крикнул он и бросился по боковой тропе.
Он несся, как одержимый, это был тот еще спектакль, гвоздь программы этой ночи, в жизни его не забуду. Сирота, как темный кобольд, огромными скачками перелетал с могилы на могилу, в воздухе мелькало его черное тело. Он широко раскинул руки и двигал ими, как будто греб в ночи. У него была невероятная прыгучесть, даже самый глубокий песок не мог ее ослабить. Он снова и снова скакал с одной могилы на другую. При этом он издавал булькающие звуки, выплевывал их изо рта, словно извергал из глубины кишок. Я побежал за ним и видел, как он топал на последнем холмике рядом со стеной, все быстрее отбивая чечетку. Охваченный безумным возбуждением, он повалился на могилу, растянувшись на ней во всю длину, вцепился руками в мокрую, липкую землю и начал копать и расковыривать ее. Его пальцы пожирали землю, зарываясь в нее все глубже, как будто он испытывал неутолимое желание выцарапать скелет. Голова его оказалась на земле, в рот набился песок. Он сплюнул, булькнул и продолжал царапать в бешеном темпе. Потом внезапно остановился и замер на этом холмике, вскочил и перепрыгнул на соседнюю могилу. Здесь все повторилось, сначала яростная чечетка, дергающиеся вверх колени, видимо, силы его были на исходе, потом он растянулся на могиле во всю длину и засунул руки в землю. Но лежал он дольше, как будто хотел отдохнуть и набраться сил для следующего захода.
— Хорошо, — сказал я, помогая ему подняться. Руки его были в черной земле, лицо черное и плащ черный и весь в песке.
— Это ты здорово сделал, — сказал я, но он не ответил и молча позволил мне отвести его назад, к остальным. Только Гимнаст отсутствовал. Он стоял несколькими рядами дальше и изучал надпись на опрокинутом камне. Ему пришлось низко наклониться, потому что было темно, и он не мог ничего разобрать. Он встал на колени и оперся руками о мрамор.
— Пошли, — устало сказал Вожак. Он был доволен, но выглядел измученным и унылым. Глаз все еще не открывался, но болел не так сильно. Он был хорошим Вожаком и позволял нам делать все, но мне показалось, что ему не хватало азарта. Нам пришлось вытаскивать все из самих себя, он нас не вдохновлял. Ему не повезло с самого начала. Может, он скис, потому что видел все только одним глазом. Но вообще он был хорошим Вожаком. Потом к нам присоединился Гимнаст.
— Все, — сказал он. — С меня хватит, я пошел. — И он повернулся, чтобы уйти.
— У тебя опять живот болит? — спросил Заика. Этот вечер придал ему уверенности в себе, и он начал задирать других. — Пойди и просрись!
— Заткни пасть, — отвечал Гимнаст. — Меня сейчас вырвет.
— Ну тогда проблюйся, — сказал Вожак, стряхивая песок со своего плаща.
— Я столько не жру, сколько сейчас наблевал бы, — сказал Гимнаст. — Я ухожу.
— Ты останешься, — резко возразил Вожак. — Ты останешься!
Между прочим, мы все перестали шептать, говорили обычно, не особо громко, но и не особо тихо. Тишины больше не было, не было и ночи, и лес не смог этому помешать.
— Никаких глупостей, — продолжал Вожак. — Ты не можешь ехать домой в таком виде. Кретин!
Гимнаст шагнул к нему, словно хотел помериться силой, лицо измазано песком, к рукам прилипла земля. Он медленно поднял правую руку, тело напряглось, во взгляде угроза и ненависть.
— Сволочь, — сказал Заика и двинулся на него. — А ты сам часом не?..
Гимнаст резко развернулся. Они стояли так близко друг к другу, что каждый, если бы захотел, мог положить голову на плечо другому. Гимнаст замер в нерешительности. Его руки расслабленно и безвольно повисли вдоль тела, знак, что он не боялся Заики. Но и Заика больше не трусил. И тут оба разразились грязными ругательствами, это было совершенно бессмысленно, и никто не думал, что до этого дойдет, хотя иногда казалось, что сейчас они пустят в ход кулаки. К счастью, до этого не дошло, дело ограничилось неистовой бранью и оскорблениями. Самые мерзкие проклятья извергались из их уст, такие гнусные, что я не могу их здесь повторить, хоть я и сам не святой», — сказал Младший и посмотрел на девушку.
«Они прямо купались в своих словах, у каждого был богатый репертуар, никто в долгу не остался. Мы все распсиховались, и хорошо, что это случилось напоследок, ведь если бы это произошло в начале, мы не смогли бы так слаженно осуществить акцию. То, что они бросали в лицо друг другу, было и впрямь лихо. Я, конечно, не чистоплюй, мы все не стесняемся в выражениях, но эта ругань для нас, остальных, была за гранью. Больше всего меня удивляло, что они вдруг так остервенели друг на друга. Я-то думал, что этот вечер сплотит нас.
— Мне нужно помыть руки, — сказал Сирота.
И тут они заткнулись.
— Где-то здесь должна же быть вода, — сказал Вожак.
Мы поискали и нашли в углу у ворот маленький домик, на внешней стене которого был водопроводный кран. Для начала мы выбили в нем окна, так что стекло с веселым звоном разлетелось на каменном полу. Потом мы умылись, по очереди, не очень тщательно, потому что ни у кого при себе не было мыла. Смыли грязь с рук, сполоснули лицо, шею, вытряхнули из обуви песок и почистили штаны, которые пришлось снять. Ведь в таких брюках нельзя было показаться на люди. Все это мы проделали молча. За нами лежало кладбище, стоял лес, и все еще была ночь. У нас было только одно желание — как можно скорее убраться отсюда. Мы перелезли через стену, я избавлю вас от подробностей этого перелезания, но оно далось намного труднее, чем прыжок вниз со стены, и не обошлось без ран и царапин. Я порвал свои штаны. Потом мы порознь прокрались через городок и ближайшим поездом уехали домой. Все следы дела устранить не удалось, руки Сироты все еще были в грязи, он выглядел как садовник, и наши плащи тоже были замараны. Но так как мы ехали в разных вагонах, это не слишком бросалось в глаза. В общем и целом прекрасный был вечер. И я рад, что так славно его провел, и все позади».
— Отлично, — сказал Угрюмый, когда Младший закончил, и сочувственно кивнул.
— Еще по стаканчику? — предложил Атлет. Младший кивнул. Он устал и затих.
Брат встал, схватил бутылку и начал разливать по кругу.
— Я пас, — сказал Атлет.
Я выпил, а потом еще раз посмотрел на каждого, потому что знал, что больше их не увижу. Я пил большими глотками и при каждом глотке зрительно запоминал их всех по очереди. Младшего на стуле, который казался таким довольным, после того, как рассказал свою историю, и после дежурства вынужден был пить целую неделю. Угрюмого, который так возражал против рассказа, все время прерывая его многочисленными вопросами. Благодушного Атлета, который был среди них самым большим мерзавцем. И наконец, Брата и Сестру, настолько разных, что я вообще сомневался в их родстве. Я пил и думал, что они и такие, и сякие, добродушные и симпатичные, жестокие и дурные. Когда они чувствовали, что быть жестоким хорошо, они становились жестокими. А если они могли быть добродушными, они бывали и такими. Но сейчас им рассказали, что хорошо быть жестоким, им представили жестокость как правое и благородное дело, вот они и озверели. Они были как волки, нападали ночью на кладбища и разоряли их. Но как ни старались они выглядеть волками, они все же не были зверями. Ведь речь не только о том, что они делали и говорили, но и о том, что они вынуждены были скрывать. Все было бы намного проще, если бы им не пришлось ни о чем умалчивать, если бы они могли быть только жестокими, просто жестокими, и больше ничего. С ними было бы легче справиться. Не нужно было бы ломать голову над вещами, которые все-таки не укладываются в голове.
Мы еще посидели некоторое время за маленьким столом, я знал, что это в последний раз, и потому не испытывал желания оставить их одних и уйти прочь. На этом свете, думал я, можно делать много дурных вещей, можно убивать, грабить и на разные лады отравлять жизнь ближним. И еще больше есть вещей, которые можно делать из любви к ближнему, доказывая ему этими делами, как сильно мы его любим. Но если любовь требует и позволяет осквернять прах мертвых и по ночам разорять кладбища, значит, с любовью дело обстоит совсем скверно. Никому из моих приятелей я не смогу рассказать о том, что пережил здесь сегодня. Никто не поймет, почему я тут же не встал и не бежал прочь, они осудят мое поведение как безвольное, трусливое и бесчестное, и, возможно, их упрек будет в чем-то справедлив. Но никто из них не может измерить, насколько скверно обстоит дело с любовью. Пусть Младший считает себя отчаянным смельчаком, совершившим подвиг, пусть и другие думают, что совершать подобные подвиги сейчас и, может быть, в будущем хорошо и необходимо, они совершают их, так сказать, колеблясь на одной ноге. В сущности, каждый из них знает, как скверно обстоит дело с любовью. И еще я думал о том, что речь идет не о могильном холмике, на котором они скачут, не о камнях, которые они опрокидывают. Если угодно, речь идет о другом образе смерти. Это может быть падающая звезда, рассыпающая искры, или птичий крик, или зеркальная гладь озера. Песок и камень сами по себе не священны. Это не кумиры, которых нужно ублажать. Священен разве что страх, который они индуцируют. Может быть, эти донкихоты и впрямь думали, что могут растоптать смерть, если набросятся на ее символы. Смерть уже так разрослась в них самих, что им приходится вытаптывать ее по ночам, исходя страхом и ненавистью. Но и с их ненавистью дело обстоит скверно, намного хуже, чем они полагают. Ибо даже ненависть не может существовать без капли любви, а иначе это уже не ненависть, а хладнокровное опустошение, разорение, глупая гибель, густой туман над полями, застилающий тропы, неосуществленное творение. Если бы они могли, они бы сделали смерть неосуществимой, они бы истребили ее своею ненавистью и героическими подвигами и при этом воображали, что их жизнь все сильнее возрастает по мере того, как они беснуются против смерти. Но смерть нельзя побороть ненавистью. Смерти противостоит жизнь. Пока ты ненавидишь и разрушаешь могилы и надгробья, имей в виду, что это дурная ненависть, означающая смерть, а не жизнь. Эта ненависть твой враг, а потому берегись, ибо она враг опасный. Поэтому даже ненависти нужно учиться. Сегодня она — слабость, завтра может стать силой, она всегда — энергия, вспыхивающая в момент твоего преображения. И если тебе хоть сколько-нибудь дорога жизнь, преобрази в себе свою ненависть. Там, где ты сам себе враг и антагонист, и я тебе враг и антагонист, там ее и преображай. Даже если ты заблуждаешься, думая, что сражаешься со мной из-за моего иного мнения, или другого цвета волос, или из-за того, что мой нос не так торчит на лице, как твой, все, против чего ты сражаешься, — твое собственное. И чем больше ты от себя это утаиваешь и не желаешь признавать, и не можешь постичь и хитришь, тем энергичнее ты опровергаешь это во мне, опровергаешь ненавистью, которая больше не предана жизни. Но там, где ты сам враждуешь с собой, я хочу понять первопричину и подловить тебя. Я хочу, чтобы ты меня понял. Там я стою за тебя. И пока ты и я, пока мы не научились этой ненависти, которая проистекает от полноты чистого сердца, которая предана жизни, пока не научились сохранять в ней ту самую каплю любви, мы плохие противники в этом мире, недостойные поединка. Но и моя ненависть еще труслива, безвольна и бесчестна, в ней еще слишком много страха перед собственными холодными возможностями, перед собственной жестокостью и саморазрушением. Вот почему я тоже сижу здесь и смог выслушать их героическую историю, ведь моя собственная ненависть еще слаба, труслива и бесчестна. Мне еще предстоит научиться ненавидеть.
Брат снова расслабился в своем низком кресле, перевесив ноги через подлокотник, разговор зажурчал дальше, но я уже не обращал на него внимания. Тут девушка наклонилась к брату и спросила вполголоса:
— А ты уже бывал на дежурстве?
— К сожалению, нет, — сказал он и потянулся за своим стаканом.
Я смотрел на ее лицо, оно не изменилось, оставалось таким же дружелюбным и ласковым. Она ему улыбалась.
Очень скоро я поднялся, другие ушли одновременно со мной. Любовь должна быть легкой? И в нее можно вплыть на всех парусах, как на облаке, высоком и невесомом? К сожалению, нет, Лиза.
И теперь я знаю, почему забыл твое имя.
XI
Я пишу на полях какой-то газеты от того дня, когда он сделал первый шаг к власти, к вершине своей славы. В газете его фотография.
Как изменилось его лицо. Так выглядит победитель! Я нашел эту газету среди бесчисленных других на полу дома в другом городе, в другой стране, где я скрываюсь. Я бежал из дома, в котором появился на свет, прочь от родителей, я оставил все и бежал. Уже последние ночи перед отъездом я ночевал то там, то тут, у людей, которые мне симпатизировали и пускали на ночлег. Родители оставались дома, хотя их и предупреждали. Мама хворала и была тяжела на подъем.
— Что с нами может случиться, — сказали они. — Мы старые. Уезжай ты!
Я уехал и бросил их на произвол судьбы.
Я бросил их на произвол судьбы, утешаясь мыслью, что они стары и больны. Что с ними могло случиться? Но я знал, что мой отец уже несколько недель назад тайно собрал свой рюкзак, чтобы взять его с собой, если его заберут. И все-таки я бросил их!
Однажды вечером в сумерках к их дому подъехала легковая машина на шесть мест. Мне об этом позже рассказали. Два человека, вооруженных, вышли из машины и поднялись в дом, шофер и еще один пассажир, тоже вооруженный, ждали внизу. Это было нечто особенное, почти любезность, что они приехали на легковом автомобиле. Обычно они использовали просто грузовик. Продолжалось это недолго.
Они забрали стариков.
Отец нес на спине свой рюкзак. Мама плакала. Я больше никогда их не увижу. Я больше не могу смотреть на это лицо.
XII
Я снова разыскал эту газету и еще раз рассмотрел фото, его лицо не давало мне покоя. Оно изменилось с тех пор, как я впервые склонился над ним тогда, в детстве, с тех школьных дней, когда газетный лист упал на пол, и я услужливо нагнулся и узнал тайну. Так выглядит победитель!
Прежний аскетический пламень исчез. Теперь это была физиономия человека, который собирается сесть за богато накрытый стол и после многих лет борьбы и воздержания наконец-то утолить голод. Я его ненавижу. А он ли это еще? Мой дьявол выглядел иначе. Может быть, его следовало все же убить, просто убить? В этой физиономии все решено. Все, что он обещал сделать несколько лет назад. Тогда еще никто путем не знал, принимать ли его обещания за пустую угрозу или за чистую монету (ведь он еще не сделал выбора). Он исполнил их. Ах, как ужасно было исполнение. Это была реальность, которую нужно испытать на своей шкуре, чтобы в нее поверить.
Он сделал выбор, признаю, что я заблуждался, так как выбор он сделал уже давно. Я не мог этому помешать. Может быть, у него была лишь одна эта возможность, может быть, и я плохо решил свою задачу.
В то время, когда он распространял свои идеи из города в город, из страны в страну, сначала втайне, а потом открыто подстрекая людей, указывая им на одного (своего) антагониста как на их противоположность, и они лучше познавали себя и стремились себя обрести, — вот когда я мог бы увидеть, что это безумие.
Неужели никто не видел, что это безумие, неужели никто другой не мог излечить его от его безумия? Возможно ли, что и я был охвачен каким-то безумием? Разве не безумием было видеть в нем некий позитив? Его нужно убить, просто убить. Но никто не сделал этого, никто! Никто? Есть один человек, да, наверняка есть один человек на этой земле, один среди миллионов, которому удастся покончить с ним. Он сам осуществит то, что не удалось никому другому и сам себя уничтожит, убьет, истребит. Но до тех пор…
Они забрали стариков. Забрали его подручные, он послал их, и по его приказу…
Я больше никогда их не увижу. Мама плакала, а отец нес рюкзак.
Ведь ты, отец, прежде чем взять свой рюкзак, наполнил вместе с ним все рюкзаки мира последними пожитками жизни, которую взваливают на спину.
Ведь ты, отец, уложил в своей жизни много других, более легких и веселых рюкзаков, отправляя детей в странствия, из которых возвращаются домой, прежде чем уложить этот последний, твой последний, который, как походный ранец, с трудом зашнуровывают лишь однажды.
Ведь ты, отец, все еще укладываешь его, вдумчиво и тщательно, чтобы не забыть того необходимого, того немногого, что нужно для последнего странствия, чтобы не был он слишком тяжел и чтобы его можно было, если нужно, нести на спине не как непосильный груз, потому что нельзя чувствовать, что ты его несешь.
Ведь ты, отец, обдумал самое малое место, вплоть до края и углов и наружных крючков. Ты сложил и сдвинул и пригнал друг к другу свои пожитки ловкими руками фокусника. Схватив жизнь, как лямку, и энергичным рывком забросив ее за спину, ты закрепил на петле справа свободный ремень, еще раз проверил на крестце, удобно ли он сидит, твой рюкзак, распределен ли, как положено, его вес — и ушел.
Это был большой, старый, покоробленный многими ливнями рюкзак, который всю жизнь только и делал, что нагружался и разгружался. Он стоял на чердаке, в углу рядом с окном, и был так набит, что оттопыривались лямки. Я взял его в руки и прикинул на вес.
На свете много рюкзаков, больших и маленьких, годных лишь на то, чтобы забросить в них пару бутербродов, немного табаку и шоколада. Их носят, подтянув ремни, и они сидят на спине высоко, под затылком, их почти не чувствуешь, а издали они похожи на нарост, на какой-то горб, въехавший вверх по позвоночнику. Их можно снять и, держа на двух пальцах вытянутой руки, покачать туда-сюда, как несомый ветром воздушный шар, наполненный хлебом, маслом и сахаром.
Бывают рюкзаки средней величины для более продолжительных отлучек, когда уходишь из дому на один-два дня. В них помещается разве что пижама и пара носков и, может быть, чистая рубашка, если вечером нужно показаться на люди, выпить пива или сыграть в карты. Нужно уже слегка размахнуться, чтобы забросить их за спину, но это все еще не вес.
И есть большие рюкзаки, с которыми ходишь в горы и спускаешься с гор и снова поднимаешься, целыми днями. С ними уходишь в странствия и долго прощаешься, и тебе желают здоровья и счастливого пути. А когда ты возвращаешься домой, загорелый и отдохнувший, все, что было в рюкзаке, съедено до крошки, и белье пропиталось потом и пропылилось, и по рюкзаку видно, как долго его носили и как он устал от обилия впечатлений. И потом он снова стоит дома в каком-то углу. Ты отчистил его щеткой и хранишь для следующего раза, пришив оторванную петлю, обновив ремень или пряжку, все для следующего раза. Это маленький глобус, пока ты весело забрасываешь его за спину и берешь с собой в прекрасный мир. Пусть он стар и потрепан, но ведь он еще годен к употреблению.
И наш рюкзак тоже был таким вот старым глобусом, в который снова и снова вдували новую жизнь для нового странствия. У него не было железного каркаса, его без конца штопали и латали и обновляли петли и ремни. Мешок был стар, как Мафусаил, и мой отец только купил новый шнур, чтобы можно было его затянуть, крепкий, темно-коричневый шнур из крученой конопли, чтобы можно было затянуть хорошенько. Так что он снова был готов в дорогу, и можно было еще много раз вернуться с ним домой.
Если бы только уметь правильно его укладывать! В этом все дело, а уложить рюкзак — задача чертовски трудная, уложить нужно хорошо и плотно, а не просто побросать в него вещи, как в мешок для картошки, чтобы потом выхватывать из него на ощупь, как из лотерейного мешка, все подряд, пока не вытащишь большой выигрыш. Все дело в спине, спиной сразу чувствуешь, что с укладкой что-то не так, и это видно по форме рюкзака. Он свисает вниз, тяжелые предметы, как в супе, оседают на дно. Его несешь, обливаясь потом, ремни врезаются в плечи, и ты стонешь, как Атлас. Что-то твердое буравит, колет, жмет спину, с каждым шагом оно все глубже впивается в тело и давит на ребра. Сначала ты пытаешься немного ослабить давление руками, вот так, немного в сторону и вперед, сплетаешь за спиной руки и приподнимаешь дно рюкзака вверх и подальше от спины, потом снова опускаешь его на плечи. Стиснув зубы, ты выдерживаешь четверть часа, надеясь, что обойдется, ведь укладывать рюкзак заново — стыд и срам. Но укладывать приходится, тебе не остается ничего другого.
Так вот: мой отец уложил его. Бог весть когда он это сделал, мама редко поднималась на чердак, иначе она бы застала его за этим занятием.
— Ты уложил рюкзак, — сказал я ему, как будто это самое обычное дело на свете.
— Да, — ответил он, быстро взглянув на меня.
— Гм.
Я тоже взглянул на него, не зная путем, что должен сказать ему в данный момент.
— Да, я его уложил, — повторил он, только чтобы прервать молчание. И добавил: — Мало ли что.
Дело было серьезное, мы оба это чувствовали, хотя он делал вид, что уложил рюкзак от нечего делать, скорее для времяпрепровождения. Он всегда хитрил.
— Мог бы и для меня собрать, — сказал я. — Ты умеешь это лучше, чем я.
— Тебе не нужен рюкзак, — спокойно ответил он. — Тебе нужен чемодан!
Чемодан? Чемодан нужен, если путешествуешь на машине или поездом и ставишь этот чемодан в багажную сетку, если едешь, чистенький, по билету и сам выбираешь место назначения, а рубашки и костюмы в чемодане аккуратно отглажены и сложены с таким расчетом, чтобы не замять сгибы и стрелки.
— И что же ты, собственно, собрал? — допытывался я.
Я спрашивал не из любопытства и не из опасения, что он мог что-то забыть. Я не хуже, чем он, понимал, что стояло на кону, и хотел лишь узнать, что берут с собой на всякий случай.
— Что собрал? Ну а что может понадобиться двум людям, из которых один к тому же хворает? Мыло, к примеру.
Значит, он первым долгом взял мыло, как будто на этом свете не было ничего важнее мыла, чтобы брать его с собой в такую дорогу, и наш Господь Бог в первый же день сотворил мыло. Значит, должно было быть сказано: в первый день сотворил Господь Небо и Землю и Мыло, дабы взять его с собой в рюкзаке. Хорошо, пусть мыло, конечно, он прав, нужно иметь возможность мыться, если уж отправляешься в дальний путь с одним рюкзаком. Перестанешь мыться, и все пропало, начнутся хвори, и больше нельзя будет сказать: «Для начала я хорошенько вымоюсь». В конце концов если погано на душе, тем более нужно мыться. Значит, мыло…
— Мыло, — повторил я.
— И два махровых полотенца, — сказал он.
Конечно, полотенца, это относится к мылу и к возможности вымыться и вытереться. Самое приятное в мытье — вытереться насухо, когда кожа еще влажная, взять полотенце и, напевая, растереть спину, затылок и при этом слегка покрутить бедрами, пока кожа не покраснеет. Она отшелушится мелкими пылинками и заблестит, как у новорожденного, и по телу растечется тепло и чувство чистоты, теплой чистоты.
— И одеколон, — продолжал он. — Для матери.
Я понял. В последнее время она плохо держится на ногах, ей часто становится дурно, все кружится перед глазами, она бледнеет и теряет сознание, и тогда несколько капель одеколона, которыми осторожно сбрызнут виски, приведут ее в чувство. И еще нужно несколько капель на носовой платок и сделать глубокий вдох…
— Ладно, — сказал я. — А еще что?
— Теплые вещи, одежда, нижнее белье, чулки, брюки, шерстяные рубашки. Только самое необходимое от холода, теплые шапки и перчатки, прежде всего, перчатки, — сказал он. — И немного глицерина, чтобы уберечь руки, в последнее время у нее такие потрескавшиеся руки, кровь циркулирует уже не так хорошо. Но прежде всего, теплые вещи, это главное.
Да, теплые вещи, шерсть против холода, это, в сущности, вся жизнь. Только бы было тепло, только тепло! Чтобы можно было укутаться и оставаться дома в своем собственном родном тепле, пускай на дворе холод, зима, и пусть даже нет печки, или пусть печка, но без дров, или дрова, пусть даже без огня зимой. Нет ничего хуже холода, без любви холодно, смерть холодна.
И может быть, даже без еды.
— Ты взял с собой что-нибудь из еды? — тоскливо спросил я.
— Разумеется, — сказал он. — Немного шоколада, леденцов и кусочков сахару. Нельзя же унести с собой продуктовый отдел какого-нибудь универмага. Несколько бульонных кубиков и молотый кофе, две баночки. Нет смысла так уж сильно нагружаться. Но ты же знаешь, каковы женщины, одна мысль о том, что можно что-то приготовить самой, сварить кофе или суп, ее утешает.
— Они правы, — сказал я.
— А нести придется мне, — возразил он и упер взгляд в пространство.
Он расстроился. Смотрел вниз на рюкзак, стоявший в ожидании на полу, словно в любую минуту мог прозвучать сигнал к отступлению.
— Табак взял? — спросил я, чтобы сгладить неловкость.
— Я бросил, — сказал он. — В последнее время вообще не курю.
— Я бы все-таки взял табаку, — возразил я. — Табак всегда пригодится, его можно обменять на другие вещи.
— Ты прав, — сказал он и задумался.
— Для него еще найдется место?
— А то нет, туда еще много чего войдет, — гордо заявил он.
— Может, немного шнапса или бутылочку коньяка?
— Уже взял.
— А таблетки от бессонницы или головной боли?
— Конечно, все уже собрано, целая аптечка с бинтом и пластырем, это само собой, об этом я уже вообще не говорю.
— Спички?
— Тоже, — кивнул он.
Значит, об этом он уже вообще не говорит. Было еще много других вещей, о которых он уже вообще не говорил: несколько фотографий и потом еще ампулка с особо сильными таблетками.
Для чего? Чтобы спать? Чтобы уснуть? И проснуться? Не спрашивай, ты задаешь слишком много вопросов, я больше не говорю об этом.
— Книгу не хочешь взять? — спросил я вдруг, но взглянуть на него не решился.
Я сам считал вопрос нелепым и стыдился своего упрямого суеверия, что с собой нужно брать книгу.
Он ждал. Он видел мое смущение. Потом сказал спокойно:
— Книгу? Значит, ты считаешь, надо взять с собой книгу. Что ж, в боковом кармане у меня еще есть для нее место. Но какую книгу, можешь посоветовать?
И пока он говорил это, тихая насмешливая улыбка скользила по его лицу.
Своим последним вопросом он попал прямо в яблочко, пути назад не было, я должен был раскрыть карты. Будучи школьником, я участвовал в большом конкурсе на тему «Можешь посоветовать книгу?». В своем ответе я в высокопарных выражениях перечислил пять книг, которые взял бы с собой, если бы… Я тогда выиграл приз и право накупить книг на тридцать марок за счет книжного магазина. А теперь вопрос о том, мог бы я посоветовать книгу, которую стоило взять с собой, задал мой отец.
— Не знаю ни одной, — поспешно сказал я. — Да это не так уж важно.
— Я бы списал рецепт приготовления коры деревьев, — сказал он. — Кажется, ее едят в Китае, в определенных обстоятельствах она считается там деликатесом.
Вены на его висках вздулись, и он добавил:
— И к нему специальный нож для снятия коры с дерева!
Он думает только о голоде, понял я, он боится, что им придется голодать, и внезапно меня пронзил страх, что им придется голодать. Я понял, что гордость, с которой он перечислял то, что уложил в своем рюкзаке, служила ему, чтобы скрыть, подавить страх перед неизбежным.
Во время разговора он лишь изредка поглядывал на меня, вообще-то он смотрел в пустую даль и пожимал плечами, словно хотел сказать: «В сущности, все бесполезно, и кто знает, суждено ли нам когда-нибудь разгрузить этот рюкзак и использовать что-то из его содержимого, но давай спокойно сыграем в эту игру с рюкзаком». Потому что если бы он этого не делал, то отнял бы у себя всякую надежду, и тогда лучше бы ему прямо сейчас принять особые снотворные таблетки.
Мы помолчали. Потом я смущенно сказал, что он поступает разумно, приготовляясь и укладывая рюкзак, ведь нельзя же укладывать такой рюкзак в спешке и как попало.
— Он не слишком тяжелый? — сказал я и поднял его с полу.
Он рассмеялся.
— Я неделями размышлял, что лучше всего взять с собой, и переносил все сюда наверх постепенно, чтобы мать не заметила.
— Значит, уже давно?
Он кивнул.
— И ты думаешь, она не заметила?
— Думаю, что нет.
— Может быть, ей было бы спокойней знать, что ты подготовил все на тот случай…
Теперь мы снова играли в старую игру, притворяясь, что это все делается на тот случай, если вдруг сложатся обстоятельства, которые, по нашему убеждению, не сложатся, а если и сложатся, то иначе, и далеко не настолько серьезно, как мы считали нужным к ним готовиться.
— Так лучше, — сказал он и первым сошел по лестнице вниз.
Через несколько дней мама спросила меня:
— Ты уже был на чердаке?
— Да, — не сразу ответил я.
Она не сказала ни слова, только сжала горло рукой.
— Сначала я испугалась, — сказала она. — Он делает все так таинственно и ничего не говорит.
Я хотел было объяснить ей, но она меня перебила:
— Я знаю, он щадит меня. Я тоже еще могу нести рюкзак, — продолжала она. — Не так уж я слаба. Пусть не большой, но маленький, какие носят дети. Я хотела бы взять с собой разные вещи, они могут пригодиться.
— Что?
— Носовые платки, — сказала она. — Боюсь, он положил слишком мало носовых платков. Мыло и носовые платки, чтобы можно было все-таки мыться. Мужчине не так уж важно, если он ходит грязный.
— Я думаю, он все уложил, — возразил я.
— Но я хотела бы все-таки взять кое-что для себя, — сказала она жалобным голосом. — И мазь от обморожения для него. В последние годы он так часто обмораживается, кровь циркулирует уже не так хорошо, ведь он уже не молоденький. И потом, он забыл пледы. Я бы хотела захватить мои пледы, я вполне могу их нести.
Позже я спросил его:
— Ты не забыл шерстяные пледы?
— Забыл? — сказал он, усмехнувшись. — Ты думаешь, я забуду шерстяные пледы? Одно движение — и они свернуты и приторочены сзади к рюкзаку. Я купил новые кожаные ремни.
— А может, свернешь их уже теперь?
— Она же тогда заметит, и пока что они еще нужны нам здесь.
— Может, тебе все же следует обсудить это с ней, отец, — сказал я неуверенно. — Она догадывается или, может быть, знает больше, чем ты думаешь.
— Может быть, — сказал он, отвернулся и легонько пнул набитый рюкзак ногой, как будто это был футбольный мяч.
— Твой чемодан я тоже уже уложил, — сказал он.
Я вздрогнул.
— Мой чемодан? — сказал я. — Не лучше ли…
— Мы отошлем его в ближайшие дни, — невозмутимо продолжал он. — Отошлем в А., ты сможешь забрать его там и ехать дальше.
— Хорошо, — сказал я.
Ничего хорошего тут не было. Я не должен был отпускать их, но я не мог помешать им готовиться к уходу. Хорошо, что они готовились, но нехорошо, что я отпускал их. Из этой круговерти я уже не выберусь. Что я должен был сделать? Я должен был убить Б., просто убить. Но я не мог этого сделать. Ненавижу его. Моя ненависть питается желанием убить его. Я ненавижу его еще и потому, что не смог его убить. Эта страсть пронизывает меня своим возбуждающим веществом и в то же время показывает мне мое бессилие, она — эхо моего поражения. Настолько я слаб, настолько бессилен. Ненавижу себя самого, свое бессилие. До дрожи. Я боюсь его, да, мне страшно, достаточно услышать его имя, чтобы я задрожал. Я не знал, что страх ослепил и парализовал меня. И все же…
О Господи, в смертный час того, кого Ты послал мне в качестве врага, вопрошаю Тебя измученной душой, зачем Ты создал рюкзаки, с которыми отправляешь в путь стариков, отправляешь в Твой прекрасный мир к ужасному концу? Почему Ты позволил им уйти и почему позволил мне отпустить их? Ты создал мне врага, и с тех пор, как он стал моей судьбой, я постигаю его судьбу глубже, больше, чем я когда-либо думал, почему? Должен ли я убить его, чтобы он не убил меня? Но я все еще колеблюсь: что, если он все-таки бич в Твоей руке? И послан Тобою? Почему? Ах, с ненавистью и местью, да и с любовью, здесь ничего не сделано. Разве Ты не замечаешь, что Ты сам Себя сделал врагом всех тех, кого заставил укладывать рюкзаки, и всех тех, кто сомневался? Разве Ты не замечаешь, что нельзя не убить и Тебя, просто убить Тебя, как того, другого, врага, чтобы не быть им убитым. Неужели не замечаешь?
XIII
Однажды мне позвонил Вольф.
Дела шли именно так, как я опасался и все же пытался отрицать. Первые притеснения, из которых словно сами собой возникли более жесткие гонения, стычки то тут, то там, первые запреты и предписания против нас. Еще оставалась надежда, безумная смешная надежда, что на последний решительный шаг он не осмелится.
— Привет, — сказал Вольф. — Ты ведь фотограф?
— Нет, — возразил я.
— А ты, кажется, говорил, что фотограф.
— Это мой отец.
— Вот как, — ответил он и замолчал. После короткой паузы он продолжил: — Но ты, конечно, разбираешься в этом деле?
— Да, немного.
— У тебя есть фотоаппарат?
— Да. И я умею проявлять.
— Не окажешь мне услугу?
Какую услугу, подумал я, и какое отношение имеет его просьба к тому факту, что мой отец — фотограф?
— Приходи завтра с фотоаппаратом, я все тебе объясню. Жду тебя в три часа.
Он продиктовал мне адрес, которого я раньше не знал.
На следующий день я отправился по указанному адресу. Это была съемная квартира в центре города.
— Аппарат при тебе? — спросил он сразу же, как только мы поздоровались.
— Вот, — сказал я.
— Оставь его в сумке, — сказал он. — Лучше, чтобы никто не видел, что ты разгуливаешь с фотоаппаратом.
— Почему? — удивился я.
— Ты должен сделать для нас пару снимков.
— Каких снимков?
— Сам увидишь!
— Но я хотел бы знать, — настаивал я, — что за снимки?
— Пока тебе лучше этого не знать.
Он был возбужден, лицо раскраснелось и время от времени слегка подергивалось. На нем была одна из его цветных рубашек, такая же мятая, как и костюм, как будто он не снимал одежду уже несколько дней. На душе у меня стало тревожно. Какое-то таинственное дело, думал я, ничего хорошего оно не обещает, почему он разводит такую таинственность?
— Я только хотел бы знать, о чем речь, — сказал я. — Может, у меня не получится, я же не фотограф.
— Групповой снимок, — коротко сказал он.
— Это трудно, — сказал я. — Приличный групповой снимок — чертовски трудное дело.
Мы сели в автобус и поехали на окраину города к дому Вольфа. Там мы вышли из автобуса, прошли по улице и пересекли сквер.
— Нет, не сюда, — сказал он, когда я направился к его дому, и указал на деревянный сарай в глубине соседнего двора.
Сарай давно пустовал, раньше там была столярная мастерская. Большая открытая пристройка сарая выходила прямо в поле. Из соседних домов ее почти не было видно. Когда мы подошли ближе, я услышал голоса, смех и беготню, похоже, там собралось много людей, занятых каким-то делом или игрой для препровождения времени.
— Нас ждут, — сказал я.
Вольф кивнул.
— Идем.
Мы пересекли газон, повернули за угол и смогли заглянуть в эту открытую пристройку, где, как я помнил, раньше лежали доски и заготовки столярной мастерской. Там было оживленно, хотя бегали по пристройке, видимо, люди раненые, если судить их по перевязкам. Все это производило впечатление травматологического пункта, куда только что доставили пострадавших в аварии для оказания первой помощи. Здесь находилось человек восемь, шестеро были забинтованы. У входа рядом с деревянным столбом, подпиравшим строение, сидел человек с забинтованной головой, слой бинта был толстый и закрывал даже подбородок, так что казалось, будто у человека седая борода. Он курил сигарету и, видимо, вел серьезный разговор с другим раненым, у которого висела на перевязи правая рука. Дальше за ними на носилках лежал еще один, а двое других перевязывали ему живот и грудь. Еще двое сидели на скамье в глубине помещения и, вытянув ноги, рассказывали друг другу анекдоты, время от времени разражаясь смехом. И человек на носилках смеялся вместе с ними, так что его перевязанный живот ходил ходуном.
— Не распускай живот, — крикнул тот, что накладывал повязку, и хлопнул ладонью по бинту.
— Ой, — вскрикнул раненый.
— Ты же ничего не чувствуешь, черт возьми, — ответил санитар. — У тебя на животе десять метров бинта.
У одного из тех, что сидели на скамье, была забинтована ступня. Повязка так ее деформировала, что нога походила на огромную белую картофелину. Второй носил перевязку в виде ранца.
Когда мы подошли ближе, я услышал разговор тех двоих, что сидели у входа.
— Дай мне сигаретку, — сказал один и выпростал руку из перевязи.
— Вон идет Вольф, — сказал другой и вытащил из кармана пачку сигарет.
Первый вытянул и согнул руку, потом покрутил ею в воздухе.
— Да, — сказал он, посмотрел на нас и продолжил: — Если слишком долго носишь руку на перевязи, она и впрямь немеет.
Он рассмеялся. Потом взял правой рукой сигарету, зажег спичку и закурил.
— Вот так, — сказал он, снова засунул руку в перевязь и дальше пользовался только левой рукой.
В глубине сарая поднялся парень с забинтованной ступней, похожей на картофелину, и запрыгал к нам на одной ноге.
— Привет, Вольф, — крикнул он.
Он с силой отталкивался здоровой ногой от пола и перемещался быстрыми короткими скачками. При последнем прыжке он повернулся вокруг своей оси, приземлился на перевязанную ногу, опрокинулся навзничь, встал и захромал назад на свое место.
— Моя нога, — захныкал он, пританцовывая перед нами.
Подбежали двое помощников, он оперся на их плечи и повис между ними, еле держась на одной ноге. Те, чуть не падая, шатались под его тяжестью. Выглядело все, как настоящее.
— Стойте, — сказал Вольф. — Можем сразу начинать.
— Мне снимать их? — спросил я изумленно и вытащил из сумки фотоаппарат.
Вольф огляделся вокруг, лицо его было серьезным.
— Давайте быстро, — сказал он.
— Улыбочку, — сказал Одноногий.
— Не шевелиться, — сказал один из помощников.
Я проверил наводку на резкость. Вот, значит, какие снимки, сказал я себе, вот зачем он взял меня с собой, и все только потому, что мой отец фотограф. Не смог, значит, найти никого лучше. Мой отец сделал бы из этого шедевр, который мог бы висеть в художественном салоне, я сделаю всего лишь простую фотографию.
— Не двигайтесь, — сказал я.
Я уже давно сообразил, что все это было комедией, комедией в миноре. Завтра это может стать реальностью и трагедией. Я сделаю снимки, подумал я. Эти снимки откроют глаза тем, кто не верит, как с нами обращаются.
В детстве я подделал почтовые марки, и каждый мог видеть, что они фальшивые, только Фабиан этого не увидел, но все-таки они были подделкой.
И эти снимки — подделка, но подделка это или нет, заметно это или нет, по сути, они все-таки правдивые и настоящие, даже если они постановочные, Вольф это хорошо придумал. Ведь если снимать настоящих раненых, то фотографии не получатся как раз из-за чрезмерной реалистичности. Но быть может, все же неправильно, что я это делаю. Я щелкнул. Одноногий снял руки с плеч санитаров и стал хромать на месте.
— Прекрати, — сказал один из волонтеров.
— А мне нравится, — ответил Одноногий, продолжая кривляться.
— В этом больше нет надобности, — сказал санитар. — С этим не шутят!
— Ты того, — сказал Одноногий и покрутил пальцем у виска.
— Теперь вы, — сказал Вольф и сделал знак тем двоим, что сидели у входа.
Они подошли. Я сфотографировал их.
Подбежал один из санитаров и передал Вольфу бутылку.
— Вот это забыли, — сказал он.
— Что это? — спросил Вольф.
— Хочешь попробовать? — спросил санитар и откупорил бутылку.
Он налил в ладонь Вольфа красную жидкость, Вольф осторожно лизнул.
— Малиновый сок, — произнес он с явным удовольствием. — Мм. Вкусно.
Санитар взял бутылку и побрызгал содержимым на перевязанную голову, выглядело так, будто бинт пропитался кровью. Я сделал снимок с обрызганной повязкой.
— Мне тоже, — сказал одноногий и протянул ему свою замотанную ступню.
— Продолжаем, — крикнул Вольф.
Санитары торжественно поднесли носилки, парень на них лежал неподвижно. Лицо его было бледно и серьезно, я видел, что он страдает. Я знал, почему он так серьезен и почему страдает. Только что он смеялся так, что обмотанное бинтами тело ходило ходуном. Один из носильщиков двинул его по животу, но он не почувствовал удара под толстым слоем бинтов. Теперь он лежал, серьезный и бледный, и представлял себе, каково это — получить пулю в живот, и думал о смерти. Сегодня я изображаю, что ранен в живот, наверное, думал он, и меня фотографируют. А завтра я, возможно, буду лежать с настоящей раной в животе и вспоминать, как меня сфотографировали вчера, когда я только изображал раненого. Может, и впрямь нечестно так играть, но, значит, завтра это будет уже по-честному.
— Нам его нести? — спросил один из санитаров и крепче ухватился за рукоятки носилок, так что с его плеча соскользнул ремень.
— Мы могли бы опустить его на землю, — сказал второй санитар.
— Тогда он будет лежать слишком низко, — сказал Вольф. — Как ты думаешь?
— Могу сфотографировать его и сверху, — сказал я. — Но не знаю, получится ли снимок.
— Почему? — спросил Вольф.
— Он лежит плашмя.
— Снимок будет хороший, — сказал один из санитаров.
Я посмотрел на него.
— Я чувствую, это будет лучший снимок, — добавил он.
— Вот как? Вы чувствуете?
— Почти как настоящий! — сказал другой санитар.
— И потому это будет лучший снимок?
— Да, потому это будет лучший снимок!
— Несите его, — сказал Вольф и обернулся ко мне. — А ты снимешь, как они его несут. Хватит и того, что будет видно, как двое несут одного на носилках.
Тот, что лежал на носилках, подложил сцепленные руки под голову и искоса посмотрел на меня.
— Так хорошо? — спросил он.
— Да.
— А мое лицо будет видно?
— Не знаю, — ответил я. — Это зависит от печати. Но если хотите…
— Я не хочу, чтобы лицо было видно.
Остальные тоже подошли ближе и окружили носилки. Одноногий свернул повязку и стоял, здоровый и бодрый, в ногах носилок, глядя сверху вниз на лежащего. Другой снял перевязь с руки и встал рядом с Вольфом. Руки-ноги целы и невредимы, но время от времени его рука подергивалась, и тогда он двигал ею в локте, попеременно сгибая и выпрямляя. Так ребенок, получив новую игрушку, снова и снова проверяет, как она действует. Только парень с замотанной головой все еще разгуливал в своем тюрбане, замаранном красными пятнами. Похоже, ему нравился этот наряд. Все остальные столпились вокруг носилок, и если прежде они с огромным удовольствием разыгрывали мрачную сцену, то теперь, когда снова стали обычными здоровыми парнями, их будничные лица, напротив, приобрели серьезное, отчасти даже обеспокоенное выражение. Притворство развеселило их, но печальный маскарад закончился, и они стали серьезными и озабоченными.
— Боишься, что тебя узнают в лицо? — спросил Одноногий.
— Нет, — сказал тот, что лежал на носилках.
— Может, ты суеверный? — сказал один из санитаров.
Тот, что лежал на сцепленных под головой руках, спокойно сказал:
— Нет, я не суеверен. Но не хочу видеть свою фотографию на носилках с простреленным животом.
Все молчали и смотрели на него или уставились в пол.
Кажется, его слова произвели неприятное впечатление даже на Вольфа. Он взялся за рукоятку носилок и, помолчав, сказал:
— Вполне могу понять, почему ты не хочешь себя видеть.
И снова замолчал.
— Однако же, — сказал тот, что расхаживал с перевязанной головой, — не стоит усложнять. Это всего лишь съемка на пленку со всеми фокусами.
— Нет, — сказал Однорукий. — Это нечто совсем иное, чем просто съемка.
— Нам нести его? — спросил один из санитаров.
— Да, это нечто совсем иное, чем просто съемка, — повторил тот, что лежал на носилках.
— А нас здесь никто не увидит? — вдруг спросил Однорукий.
— Нет, — спокойно ответил Вольф. — Здесь нас никто не увидит. Нам нужно поторопиться.
— Я считаю, это неплохо, что мы сфотографировались, — продолжал Лежачий и сел на носилках, так что перевязка на его теле сбилась.
— Твое дело — лежать, — сказал один из санитаров.
Лежачий снова улегся.
— Мне только жаль, что дело уже зашло так далеко, — продолжал он. — Со всем этим и с нами. И что нам приходится здесь фотографироваться.
— Брось, — сказал парень в «окровавленном» тюрбане.
На его лице были видны только глаза, нос и рот. На крыльях носа выступил пот, глаза такие, словно его лихорадило. Может, ему было слишком жарко в этих бинтах.
Все замолчали, а мне страшно захотелось убрать фотоаппарат в сумку и уехать домой.
— Давай, — сказал Вольфу парень на носилках. — Хватит болтать. Мне все равно, узнают меня или нет. Давай.
— Как ты собираешься его снимать? — спросил Вольф.
Я пожал плечами и сказал лишь, что мне все едино.
— Отойдите подальше, ребята, — сказал один из санитаров.
Все медленно попятились от носилок и встали полукругом вокруг меня. Пока санитары ухватывали носилки покрепче, а Лежачий высвобождал руки из-под головы и вытягивал их вдоль тела, остальные стояли и смотрели, как будто были свидетелями казни. Но прежде санитары еще раз опустили носилки на пол, поправили плечевые ремни и снова подняли носилки.
— Ты готов? — спросил Вольф.
— Да.
Я отступил назад, глядя в окошко фотокамеры левым глазом, и нажал на спуск.
Парень лежал тихо, чтобы я мог снять его с закрытыми глазами и вытянутыми вдоль тела руками. Рот болезненно искривлен, старое, скорбное лицо. Замотанное тело при дыхании приподнимается и опускается. Я знал, что все это для потехи, забава такая, да нет, не забава, это всерьез, но можно было забыть, что всерьез, и, несмотря на это, меня охватила страшная тоска.
— Так, — сказали санитары и поставили носилки на пол.
Парень поднялся и сразу же стал аккуратно разматывать бинт. Он разматывал его, не торопясь, широкими круговыми движениями, перекладывая за спиной из руки в руку, скатывал энергичным полуоборотом с корпуса и, схватив обеими руками спереди, свертывал в рулончик. Все глядели, как он это делает.
— Когда ты проявишь снимки? — спросил Вольф.
— У меня еще три кадра на пленке, — ответил я.
— Тогда ты можешь сфотографировать всех нас еще раз.
Он подозвал ребят. Все уже успели переодеться. Они встали в обнимку, тесным полукругом, положив руки на плечи друг другу. Так я их и снял. Последний снимок сделал парень с носилок, а я встал на его место. Рядом со мной стоял Вольф, с другой стороны Однорукий, я положил руки им на плечи.
Потом мы, разбившись на группы, разъехались по домам. Через два дня я передал Вольфу пленку и фотографии.
— Спасибо, — сказал он и замолчал, внимательно рассматривая каждый снимок.
— Твоя была идея, Вольф? — спросил я.
— Да.
Он беспомощно засмеялся, и я пожалел, что задал ему этот вопрос. Я опасаюсь самого худшего, когда-то сказал он мне. И когда стало совсем худо, его осенила идея с этими картинками. Вроде бы он вспомнил о нашем разговоре и только и смог, что беспомощно рассмеяться.
— Ты и впрямь думаешь, что чего-то добьешься этим?
Он медлил с ответом, и по нему было видно, что он и сам сомневается.
— Может быть, — сказал он. — Во всяком случае, это попытка как-то сделать общеизвестными те вещи, что реально происходят.
Он хотел разослать снимки в определенные, благожелательные к нам, газеты, чтобы обратить внимание на происходящие события, пока это еще было возможно.
— Ты и правда в это веришь? — спросил я еще раз. Он промолчал.
Что значат фотографии, думал я, будь они подлинные или поддельные. Чтобы пробудить веру, нужны не фотографии, а совсем другие вещи.
XIV
Как долго? Как долго еще?
Время от времени меня навещают, ко мне заходит один знакомый. Уже издалека по нему видно, что он настроен на доверительный разговор. Он подходит ко мне большими шагами и протягивает руку. Его лицо, вся его манера поведения излучает радость.
— Добрые вести, — восклицает он при виде меня. — Я к вам с добрыми вестями!
Он спешит, даже не хочет расстегивать плащ. Ему не терпится сообщить эти добрые вести следующему знакомому.
— Еще немного, — возбужденно восклицает он. — Поверьте, не следует падать духом. Он потерпел поражение, кто бы мог подумать! Теперь ему приходится туго. Еще несколько недель, кто знает! Но уже недолго, наверняка недолго, и праздник будет на нашей улице.
Он стоит передо мной, с трудом переводя дыхание. Его утомляет постоянная беготня, изнуряет радость по поводу добрых вестей. Он уже много месяцев бегает от дома к дому. Скоро будет два года, как он провозглашает свою уверенность в близком конце Б. Он тоже ожидает его смерти. Но это другое ожидание. Оно поддерживает в нем силы выносить любой удар судьбы. Когда-нибудь его уверенность оправдается. И тогда будет на его улице праздник. Но и праздник будет иной. Он смотрит на меня и проверяет, какое воздействие оказывает на меня его новость. Мы знакомы давно, с тех пор, как я укрылся в этом городе. Он знает мою историю, а я — его историю.
— Вы мне не верите, — произносит он наконец и удрученно умолкает. Он разочарован тем, что его энтузиазм не находит отклика. И так как я ничего не отвечаю, он начинает все снова. — Значит, вы тоже пессимист, — говорит он печально. — Неужели вы тоже верите, что он неуязвим, даже бессмертен?
— В это я не верю, — отвечаю я коротко.
— Тогда, значит, вы не разделяете моего убеждения, что его конец близок?
— Вполне разделяю.
Он задумывается, окидывает меня пристальным взглядом. Но мой ответ приносит ему облегчение.
— Ну так радуйтесь, — говорит он, кладя руки мне на плечи. — Так радуйтесь же! Или вы суеверны?
Он испуганно замолкает, вспомнив о чем-то, некоторое время молчит, потом сдержанно продолжает:
— Многие вообще не в состоянии допустить и мысли, что дело идет к концу, что с ним будет покончено и покончено со всем этим, со всем, говорю я, они просто трусят, боятся освоиться с этой мыслью. Они боятся таким образом повлиять на события и отодвинуть конец и наказать самих себя. Потому что они слишком часто обманывались? Может быть, и вы из их числа?
Нет, я не из их числа.
— Вы слишком много пережили, — говорит он. — Я знаю, вы разучились радоваться, даже если бы захотели. Я забыл, что вы были одной из первых его жертв. На вас он, так сказать, тренировался, имея в виду следующих, то есть нас, но в первую очередь его жертвой были вы. А я так взволнован, что забыл об этом. Извините меня.
— Пожалуйста, — отвечаю я смущенно и больше не говорю ни слова.
Но он еще не закончил, он еще во власти своих мыслей. Он продолжает:
— Но именно вы меньше всего можете сделать против него. Вы подали миру предостерегающий пример, это много, это очень много, я отнюдь не недооцениваю этого. Но что могли сделать против него вы лично? Особенно в вашем положении?
— Это верно, — отвечаю я, взяв себя в руки. — Вы в самом деле правы. Я мало что сделал. К примеру, не бросал бомб.
— И я не бросал, — с улыбкой подхватывает он. — Да у вас, кажется, и не было такой возможности. Я только разношу людям новости, поднимаю им дух. Это моя миссия. Это немного. Каждый на своем месте делает то, что ему дано. Так что и вам будет дана ваша миссия.
Он говорит эту пошлую банальность, чтобы меня утешить. Может быть, он искренне в нее верит.
— Хотелось бы сделать больше, — горько возражаю я.
— Каждый так считает, — отвечает он, поощрительно кивая. — Конечно, каждый. Но теперь скоро все кончится, и я с радостью жду его смерти. Может, думать так и неблагородно, но это правда. И тогда будет на нашей улице праздник, — он поднимает указательный палец в знак того, что говорит всерьез. — И на вашей тоже, — добавляет он.
Потом он уходит. Я остаюсь.
Что тут записывать? Он падет, все отпразднуют его смерть, и каждый скажет, что предвидел ее с самого начала. Мне остается только рассказать, как это было много лет назад, когда я однажды увидел его в лицо.
Я стоял на улице среди множества незнакомых людей, прислонясь к стене какого-то дома, и ждал его. И когда он появился, я подошел к краю тротуара, чтобы лучше рассмотреть его, и смотрел, не отводя взгляда. Он медленно ехал по улице, стоя в автомобиле. Он ехал так медленно, что можно было идти шагом рядом с его автомобилем.
Я видел его два раза, дважды видел его вблизи. Какой шанс для человека действия! Вон там стоял он, а вот тут стоял я. Второй раз это было в опере. Перед увертюрой огни в зале погасли, и все смолкло, дирижер уже стоял перед оркестром, и все ждали, что сейчас он подаст знак начинать, и тут по залу пробежал шорох. Люди в первом ряду встали и обернулись к центральной ложе, за ними медленно поднялся партер и остальные ярусы. Я сидел в партере и тоже встал, не зная почему. Я оглянулся и молча застыл на своем месте, в то время как остальные разразились приветствиями. Оркестр заиграл гимн, его гимн. Для меня вечер был испорчен. Но я все-таки остался в зале.
В антракте я поднялся в фойе и увидел, как он стоит в дверях своей ложи, небрежно опираясь на колонну, окруженный своими спутниками и возбужденной толпой любопытных обожателей, которые всегда появлялись вокруг него, и обменивается репликами то с одним, то с другим, и при этом смеется. Кажется, он был тогда в хорошем настроении и, как все, пил кофе. Опера (это был «Тристан») наверняка подняла ему настроение, и он, такой благодушный, такой общительный, стоял и пил свой кофе. Ближе всех к нему полукруг спутников, на положенном расстоянии обожатели, а я стоял позади последнего ряда, и в моей голове проносилось множество мыслей, и я неотрывно глядел на него. Он был во фраке, волосы гладко причесаны, густые брови, здоровый цвет лица, и вообще все его раскованное поведение такое же, как тогда…
Но я хочу рассказать не об этом, а о том первом случае, когда он в своем автомобиле ехал по улице мимо меня. Я не забыл тот день. Иногда мне хочется забыть его, выжечь из своей памяти, представить жалким и незначительным. Но я не могу. Этой встрече я обязан всем.
Это было в сентябре, я шел из института, и по дороге забрел на бульвар. Было около полудня, я только что сдал экзамен из сессии, которой намеревался завершить учебу. Мысли мои витали Бог весть где, в сущности, этот экзамен был лишней нелепостью в ряду нелепиц, которыми вот уже несколько недель приходилось заниматься как чем-то серьезным. События опередили все, в том числе и мою учебу. То, что поначалу еще имело какой-то смысл, потеряло всякую ценность и осмысленность. Итак, я брел по бульвару, находясь в настроении, вполне соответствовавшем времени года. То, что еще не достигло зрелости, было сброшено на землю первыми осенними бурями и погибало в уличной грязи. Не было никого, кто нагнулся бы и подобрал падалицу. Иногда сквозь облака пробивалось солнце, и безумно хотелось вернуться в лето, из кафе доносилась музыка, и в душе прорывалась какая-то глупая радость. Может быть, все-таки есть какое-то обетование и не все еще потеряно.
На улице было полно народу, со всех сторон катили автомобили, мотоциклы, а между ними конные экипажи, посредине проезжей части пролегала старая липовая аллея. В этом не было ничего особенного, в полдень здесь всегда наступало оживление, конторы и школы закрывались на обед, я часто проходил здесь и всегда наблюдал ту же картину. Но на этот раз у меня сложилось впечатление, что следует ожидать чего-то необычайного. Движение большого города, хаотично-упорядоченное, казалось направленным к определенной цели. Я свернул на широкую улицу, куда устремлялся людской поток. На тротуарах, до самой мостовой, стояли люди под энергичной охраной вооруженных дубинками полицейских. Продвигаться вперед можно было только шаг за шагом, повсюду натыкаясь на людей. Они образовывали острова, как бы волнорезы в большом течении, и не давали захлестнуть себя надвигающемуся приливу. Прилив застревал и разветвлялся на бесконечные мелкие русла, пока не затихал у стены какого-нибудь дома или вокруг фонарного столба.
Из-за соприкосновения с этой массой настроение мое испортилось, и мне вдруг страшно захотелось отпрянуть, вернуться назад и ускользнуть каким-нибудь переулком. Но тут я услышал разговор двух женщин и понял, каких грандиозных возможностей лишил бы себя, сбежав с мероприятия.
— Я стою здесь и жду с одиннадцати часов, — сказала одна. — Но я пока не устала.
— С одиннадцати? Я бы не выстояла, — сказала другая. — У меня ноги опухают.
— Я видела его уже два раза, — продолжала первая. — Сегодня будет третий.
— А я еще никогда его не видела, — ответила вторая. — Он и вправду проедет здесь на своем автомобиле?
— А как вы думаете? Стала бы я здесь стоять, если бы не знала этого наверняка? Машины сопровождения уже проехали.
— Мне тоже охота разок на него посмотреть, — продолжала вторая. — Об этом писали в газетах?
— Нет, — ответила первая. — Сегодня утром сообщили по радио.
— Я по утрам радио не слушаю, у нас в квартале в это время включены все пылесосы. Когда же он проедет?
— В два часа.
— Так долго я не могу ждать, — грустно заметила вторая. — У меня же ноги… А потом, мне нужно в больницу к дочке.
— В два часа он должен прибыть на завод С., — сказал стоявший рядом пожилой мужчина. — Ему ехать через весь город, а это займет три четверти часа. Через полчаса он появится, вот увидите.
— Через полчаса, — с облегчением повторила вторая женщина. — Ну тогда я подожду.
Я слышал разговор этих женщин и сразу же понял, о ком они говорят. Я разволновался. Я боялся, что они взглянут на меня и поймут, кто я. Я закрыл глаза. Должно было исполниться мое самое тайное желание. Теперь, когда я уже давно отказался от него, оно должно было исполниться, и я закрыл глаза, потому что больше не хотел видеть, как оно исполнится. Если бывают роковые случайности, то вот это и была роковая случайность — не отдавая себе отчета, я оказался на улице, где стоял его дворец. Наверху, на крыше, развевался его штандарт, он стал президентом и въехал в дом, где жили президенты. Через полчаса он покинет свой дом, и триумфальная процессия направится на заводы С. Что процессия триумфальная, разумеется само собой. Везде по пути его следования стояли люди, чтобы встретить его криками ликования, а я стоял посреди их ликования и мог подхватить его или промолчать, не важно, он услышал бы только ликование, а не молчание.
Полицейские на мотоциклах с колясками, в касках, надвинутых на решительные лица, неслись вдоль улицы, оттесняя назад, на тротуар, зевак, дерзнувших выплеснуться на мостовую. Движение разбивалось у стен домов на заднем плане. Через некоторое время все снова устремлялось вперед, и мотоциклисты возвращались. Эта игра повторялась много раз, она повышала напряжение и постепенно довела толпу до лихорадочного состояния, которое могло разрядить только его явление народу. Я стоял, стиснутый толпой, и боролся с решением идти своей дорогой. Я не хотел своим присутствием увеличивать число зрителей. Может, я хотел быть свидетелем триумфальной процессии моего врага? Неужели он получил надо мной такую власть, что разрушил во мне даже последние остатки гордости?
Мне снова вспомнились многочисленные байки и анекдоты, где говорилось о магии его взгляда и его личности. Во мне проснулось любопытство. Я видел вокруг себя людей, возбужденно ожидающих увидеть его живьем. Меня тоже охватило возбуждение, но не такое, какое царило вокруг. Когда-то в детстве мать привела меня к детям, прогнавшим меня из своей игры. Теперь я стоял здесь и участвовал в игре, которая с самого начала была проиграна. Уходи, уговаривал я себя, чего ты здесь ждешь, чего ищешь? Своего собственного бесчестия? Неужели оно еще недостаточно велико? А если вдруг догадаются, кто ты? Хочешь объявить это на весь свет? Почему я все еще стоял там, почему не шел дальше? У меня больше не было сил внушать самому себе, что я всего лишь нейтральный наблюдатель, что остаюсь здесь для изучения его и его друзей и их взаимоотношений, что, в сущности, вся ситуация меня не касается, что я остаюсь здесь и смотрю из чисто спортивного интереса. Я позабыл все увертки и отговорки, которыми так мастерски пользовался прежде.
Но почему же я не ушел?
И вдруг я понял. Я стоял здесь, чтобы убедиться, что он — живая реальность. Несмотря на все портреты в газетах и журналах, несмотря на голос, который я слышал, легенда, сотканная вокруг него, зародила во мне мысль, что он, собственно говоря, не существует. Человек, который настолько порабощает фантазию и души людей, не может своим наличием в действительности достичь силы своего легендарного бытования. Он существует лишь там, в голубых сферах воображения, но не на земле.
И для меня он тоже продлил свою жизнь только благодаря фантазии. Мой страх, симпатия и ненависть, все мои чувства относились к личности, созданной моим воображением. Он сидел где-то на воздушных качелях, а я своим дыханием приводил их в движение. То, что разыгрывалось между нами, происходило там, в игровых пространствах, где царствует фантазия, но из-за этого не становилось менее серьезным. Разве за прошедшие годы я не избегал любой возможности убедиться, что он явлен во плоти? Разве я хотел внести сюда некую поправку? Она бы разрушила игру и не оставила ничего иного, кроме жестокой действительности.
Жестокая действительность. Мы не научились выносить ее, мы не готовы воспринимать ее, независимо от того, приносит ли она нам нечто дружеское или враждебное. Мы наряжаем ее в одежды, скроенные по нашим меркам, мы размалевываем ее в наши цвета. При этом мы знаем, что у нее иной цвет. Мы не желаем встречаться с ней лицом к лицу. Повторяю: мы не готовы, и любое, более глубокое чувство, на которое мы едва ли способны, боится быть разоблаченным.
В тот день около полудня я, ничего не подозревая, завернул на какую-то улицу и нечаянно оказался перед выбором, которого избегал годами. Я должен был посмотреть в лицо своему врагу, и первая моя мысль была: уйти, избежать встречи!
Черный закрытый автомобиль медленно ехал по улице, и каждый вытягивал шею, чтобы увидеть, кто же в нем сидит.
Я нерешительно переминался на своем месте, рассматривая лица окружавших меня людей. Они пришли, чтобы встретить его ликованием и способствовать его триумфу. Для них он был реальностью, они не испытывали ни малейшего сомнения в его существовании, это можно было прочесть по их лицам. Я довольно долго наблюдал их, пока не пришел к выводу, что и это обман. Это было одновременно игрой и обманом, как и в случае со мной. Их гордая торжественность, высокомерие и устремленность в будущее, все, что было написано на их лицах, не имело отношения к событию, ради которого они пришли и теперь стояли и ждали. Нечто предшествовало ему и создало его и нарядило его так, как они ожидали. Это они были его первопричиной. Их собственное сладострастие, их смутные вожделения окрасило их щеки и губы. Они наслаждались собственным возвышением. Они пришли ради самих себя, надеясь согреться у огня, который сами же и раздули. Их привела сюда та же игра фантазии, что и меня, привели их собственные чувства и представления, хоть они и не отдавали себе в этом отчета. Они создавали свою действительность в игре с самими собой, и радовались ей, и забывали, что это лишь игра.
Они еще меньше меня научились выносить действительность. Они еще меньше меня были готовы воспринимать ее. Физическое существование того, к кому были обращены их ликующие возгласы, и его собственная готовность к этой шулерской игре возносили их над обманом. Это ситуация совращения и развращенности, которой не упустит ни один совратитель.
С каждой минутой, приближавшей нас к его выезду, люди становились беспокойней. Они долго простояли в толпе и теперь хуже выносили тесноту. Даже полицейские были захвачены этим беспокойством.
— Эй, не напирай так, — сказал один из них, грубо отпихивая молодую женщину подальше от края тротуара.
— Не лапай меня, — завопила та в ответ. — Я скажу ему, что ты меня ударил.
— Кому же ты это скажешь? — добродушно откликнулся полицейский.
— Кому? Самому! — она назвала Б. просто по имени.
— Самому? — повторил полицейский. — Да что ты говоришь? А он тебе сват? Или брат?
Стоявшие вокруг них люди засмеялись.
— Нет, — с вызовом ответила женщина.
— Так, может, ты за ним замужем? А?
Теперь расхохоталась и женщина.
— Замужем, да не за ним, — сказала она.
— Я думал, может, он твой кум, раз ты называешь его просто по имени, — сказал полицейский, чтобы уладить инцидент.
— К сожалению, он мне не родственник, — примирительно сказала женщина. — А то бы я не валилась здесь с ног от усталости.
— Если устала, то сядь вон туда, повыше, — сказал полицейский, указывая на эркеры высоких старых домов, нижние этажи которых оккупировали подростки.
Одни сидели там, на узких слегка наклонных подоконниках, болтая ногами. Другие оседлали невысокие чугунные фонари, выраставшие из каменных стен, подобно ветвям. Мальчишки удерживались верхом на фонарях, положив руки на плечи сидящего впереди приятеля, а самый первый уперся подбородком в металлический, остроугольный колпак, обхватив фонарь распростертыми руками.
Я отодвинулся от края тротуара и, словно ища защиты, прислонился к стене какого-то дома. Я слышал, как женщина назвала его по имени и что ответил ей полицейский. Доверительность, звучавшая в их словах, хоть они и спорили, усилила во мне чувство, что я не принадлежу к ним, что меня исключили из игры. Когда я стоял там и слушал, меня охватила печаль и снова вспомнилось все прежнее.
Мне было жаль этой улицы, жаль домов на этой улице и людей, которые стояли на этой улице и ждали. И я знал, что стою здесь и горюю и увижу моего врага, которого другие, ждавшие одновременно со мной, запросто называли по имени. Я горевал, потому что они шутили, а горевал я один. Они отпускали шутки и доверительно называли его по имени. Пусть это было наваждение, обман, нереальность, но они стояли и радовались, они встретят его криками ликования, а моя иллюзия разбилась, я чувствовал, как он постепенно теряет свою маску, а за ней появляется другое лицо. Первые озабоченно-пугающие слова моего отца, враждебность детей, прогулка с моим другом и последующие годы, когда я мысленно спорил с ним, встреча с его голосом, мои колебания, моя нерешительность, все, все снова ожило в этой печали. И мне показалось, что одновременно я все это теряю. Страх, который он мне внушал, и отчаяние, в которое он меня вверг, все принадлежало мне уже тогда, когда я, держась за руку матери, пересек площадь и она подвела меня к детям, исключившим меня из игры. И вся сумятица, все мои позднейшие блуждания, когда он являлся мне как некий демон, и я ужасным образом связывал мою жизнь с его жизнью, и это тоже принадлежало мне, и я застрял во всей этой путанице на ложных путях. И наконец, позже, когда я, полностью поддавшись наваждению, привык к этим встречам и научился любить их и даже того, кто казался мне опасным, преобразил своей фантазией в того, кто принесет избавление. И вот теперь пришла печаль и знание, что больше ничто не поможет. Вон там он выйдет из своего дома и поедет по улице, а я стою здесь, прижавшись к стене, и все, все необратимо уничтожено. Останется лишь тихое сожаление, что до этого дошло.
Мне больше не нужно было его видеть, чтобы убедиться в его реальности. Я мог бы спокойно уйти. Одновременно я ощущал неосознанную похотливость окружения, которой он пользовался и которая совратила его на преступления в пагубной взаимной игре.
Три высоких полицейских чина медленно проехали по улице на своих мотоциклах, отдавая короткие приказы постовым. Издали послышались громкие команды, звук заводимых моторов и долгий вой сирены. Внезапно все пришло в движение, и, когда первый автомобиль проехал через ворота дворца, люди выплеснулись с тротуаров на мостовую. Постовые взялись за руки и образовали цепь, пытаясь сдержать напиравшую толпу. Дети подныривали у них под мышками и скакали посреди мостовой. Несколько полицейских вырвались из цепи, чтобы поймать ребятишек, заграждение ослабло, и люди хлынули в проемы и дальше на мостовую.
Я тоже отодвинулся от стены и подошел ближе. Я стоял в последнем ряду. Что-то холодное мазнуло меня по лицу. Я взглянул на часы, было почти полвторого. Я был готов.
Сначала появились два автомобиля, битком набитых вооруженными с ног до головы солдатами, они ехали так близко к тротуару, что люди потеснились назад. Меня опять прижало к стене, где я и остался, когда остальные снова ринулись вперед.
Он ехал в третьей машине. Как обычно, сидел рядом с шофером. Он был в светлом плаще, без головного убора. Выглядел здоровым, кровь с молоком, с красными щечками, будто только что из бани. Вот он встал во весь рост рядом с шофером. За ним сидели пятеро мужчин с автоматами, недоверчиво улыбаясь, они следили за толпой. Он стоял, выпрямившись, судорожно сцепив руки у нижней части живота и расцепляя их только изредка для резкого приветствия. Он был настроен благодушно и с улыбкой глядел вдаль поверх толпы, чье присутствие он лишь ощущал и, может быть, слышал как нечленораздельный рокот. Его приветствие и взгляд относились не к людям, но к чему-то, что витало между небом и землей. Расширенные зрачки блестели, как у актрис, которые закапывают в глаза какую-то эссенцию, чтобы производить впечатление даже на галерку. Стоял этакий любезный господин, и все могли его видеть, а он не видел никого и просто стоял за лобовым стеклом открытого автомобиля и чувствовал, что все пришли поглядеть на него. Иногда на его лице появлялась натянутая улыбка, словно рокот толпы застал его врасплох, словно он не ожидал его услышать. В нем не было ничего особенного, такой же человек, как ты и я, он мог бы сесть в эту машину на углу какой-нибудь улицы, выпить стакан за компанию или сыграть в скат.
Отчего бы его не любить? Как раз это делало его таким притягательным, и люди ликовали при виде его, каждый на свой лад, и ему это было вроде бы приятно. Среди окружавших меня людей не было никого, кто не ликовал. Только я стоял и молчал и смотрел, как он приближается.
Во мне все всколыхнулось. Я задрожал. Почему ты так разволновался, говорил я себе, чтобы взять себя в руки. Ответа на вопрос не было, и мое волнение росло. Вот он, пронеслось у меня в мозгу, посмотри на него хорошенько, это действительно он, да, это действительно он. Я узнал его по бесчисленным изображениям. Но тот, кто медленно приближался ко мне, стоя в своем автомобиле, был другой. Я боялся, что не постигну, что это в действительности он и есть, тот, кого я знал по изображениям и чей голос я однажды подслушал. Я боялся, что мне лишь мерещится, будто он проезжает здесь мимо меня, что зрение мое слишком слабо, чтобы видеть его и снова и снова глядеть на него и знать, что наконец-то, наконец-то я его увидел. Я медленно отодвинулся от стены дома, сделал несколько шагов по опустевшему тротуару и ступил на мостовую. Там стоял он, а здесь стоял я.
Дети с их зачарованными мамашами, все еще плясавшие перед его автомобилем, ехавшим в шаге от них, кажется, сумели привлечь его внимание. Его поза изменилась. Он наклонился немного вперед и крикнул (и я снова услышал его голос), обращаясь частью к водителю, частью к окружающим, как бы предостерегая: «Осторожно, дети. Осторожно!» И руки его при этом нервно задергались.
Тогда этот возглас казался простым и полным тревоги, и только сегодня его значение предстает в истинном свете. Сегодня он безжалостно приносит в жертву своей борьбе таких же детей, как те, которых он тогда боялся задавить своей машиной.
Его взгляд блуждал над дорогой. Я увидел светлячки его глаз и желал только, чтобы его взгляд еще немного отклонился в сторону, где стоял я и, словно во сне, разглядывал его реальную фигуру. И я, как весь глазеющий на него народ, инстинктивно вытворявший черт знает что, стараясь обратить на себя его внимание, почувствовал желание, чтобы он взглянул на меня. Я пожелал хоть на мгновение удержать его взгляд в моем глазу. Может быть, я бы тогда проник за внешний облик в суть этого явления, ускользнувшего от меня в тот момент, как я его увидел. Неужели это он много лет подряд занимал мои мысли? Не может быть. Или все-таки это он, а во мне было что-то другое, чего я не сумел распознать в его телесном воплощении? Обычная внешность мужчины средних лет сбивала меня с толку. Я слышал его голос и вообразил, что проник в его тайну.
Но то был другой голос, и он со всем прочим не вписывался красками добродушной, общительной порядочности в декорации триумфального проезда.
Позади него в машине я вдруг обнаружил обвешенных оружием солдат. Обнаружил внезапно, хотя видел их все время. Их мрачные лица производили менее благодушное впечатление. Они сидели, немного высунувшись направо и налево, готовые к прыжку, и пристально всматривались в толпу. Они видели каждого. Они так органично вписывались в картину, что их было почти незаметно на фоне главного персонажа за лобовым стеклом. Неистовое ликование на улице, казалось, не трогало их. Они сидели, напрягшись всем телом, и, когда люди слишком тесно окружали машину, они немного приподнимались с сидений, крепче упирались ногами в пол и еще более мрачно озирались вокруг.
На них все еще не обращали внимания. Они были статистами, к ним так привыкли, что смирялись с ними как с элементом декорации.
Видимо, его вид поначалу так поразил меня, что мне не пришло в голову рассматривать фигуры в автомобиле как некое целое, где не было главных и второстепенных персонажей. Кортеж проехал так быстро, меня захлестнули впечатления, я разволновался, и торопливо брошенные им слова «Дети, дети!» чуть не лишили меня самообладания. Я оказался здесь случайно, при мне не было оружия, и вообще у меня не было намерения причинить ему какой-либо вред. На мой взгляд, вооруженных людей, сидевших позади него в автомобиле, он мог бы оставить дома. И вот я увидел, как они напрягают тела, кладут руки на край автомобиля и, слегка изогнувшись, пристально осматривают каждого в толпе. Они тебя обнаружили, пронеслось у меня в голове, сейчас они подъедут, выпрыгнут из машины и схватят тебя. Я стиснул зубы. Одновременно я видел, как он стоял там впереди, все добродушнее глядя на толпу, отечески улыбаясь и, видимо, не зная, кого везет в машине позади себя.
Внезапно все переменилось. Мое наваждение рассеялось. Я понял, что обманывался и что помогал ему обманываться и обманывать меня. Раз я считал, что он мне друг, не нужно было замечать людей на заднем сиденье его автомобиля, и я мог дать ему повод тоже не видеть их, разъезжая с ними по городу. Но они всегда были вокруг него. Они были частью его самого. А если я считал, что он мне друг и давал повод не замечать их, то мне тоже ни к чему разглядывать, кого он там везет позади себя в своем авто. Это был двойной обман.
Я заплатил за это. Я дорого заплатил за свою детскую глупость. Я относился к нему как ребенок, дрожа от страха, дрожа от страха, что можно угадать мои мысли. Я даже съежился, чтобы меня не разгадали. Я убил его, мысленно я его застрелил. Никто не знал об этом. Разве что кто-то из вооруженной свиты в его машине. Еще прежде, чем он успел обернуться и отдать приказ, я застрелил его. Это был один лишь миг. Но он упал, я отчетливо видел, что он упал. Он опрокинулся навзничь на руки вооруженных мужчин, и я не мог в это поверить, а когда присмотрелся, он снова стоял, и его сияющие глаза следили за чем-то, что витало между небом и землей. Я смотрел на него с тоской. Я не думал: сейчас я выстрелю, я ненавижу его, я застрелю его. И пока я стоял там во всей этой реальности и пытался постичь, что это он, это он проезжает мимо, мною владела только одна мысль, только одна: какой шанс для человека действия, какой шанс!
И снова все кончилось. Ликование перемещалось вдоль улицы, вздымалось до фронтонов серых домов, и снова откатывалось, и снова вздымалось и замирало.
Теперь лишь эхо доносилось издалека как воспоминание, как обман слуха.
Я снова стоял, прислонившись к стене, а люди шли мимо. Я видел их лица и слышал их разговоры, и все снова стало таким нереальным в своей реальности.
— Я первый раз видела его так близко, — сказала какая-то осчастливленная женщина, проходя мимо.
Я видел перед собой его образ, он плясал перед глазами, как зажженный факел. Я пытался удержать его взглядом, но мне это не удалось. Потом я вообразил, что в тот момент, когда он устремил взгляд вдаль, поверх толпы, наши глаза на какую-то долю секунды встретились.
Я точно представлял себе, как все произошло, он там, я здесь.
Но тщетно. Старая шулерская игра фантазии была окончена. Я видел его живьем, вблизи, его существование обрело доказательную силу, и он утвердился во мне самом. Добродушный, по-отечески внимательный господин, а за ним вооруженные люди! И потом эта сверлящая мозг мысль: какой шанс для человека действия, какой шанс! Люди вокруг меня пребывали в хорошем настроении, они обнимались, смеялись и возвращались домой, став богаче на еще один красивый обман.
Я был подавлен, я устал. Больше всего мне хотелось лечь на скамью в ближайшем парке и заснуть. Я видел только вооруженных подручных с их угрожающими лицами, их напряженные тела, готовые к прыжку. Его фигура как бы растаяла в тумане, остались только эти люди. Он всюду брал их с собой, и они исполняли его приказы. Он мог приказывать по телефону или с помощью граммофонной пластинки. Они исполняли приказы. Несколько лет назад я слышал его голос по радио.
И позже, во всех, даже самых его чудовищных деяниях, я замечал остаток того непроницаемого тумана, в котором он стоял, отдавая приказы и повелевая совершать свои злодеяния. С какой целью?
Может быть, он подчинялся еще более чудовищной высшей власти, чем мы, подчинявшиеся его власти?
XV
Ледяные узоры на окне, ледяной ветер на дворе. Ночью серп луны сияет так, словно стужа выломала его из небосвода. В звездном морозном небе шастают невидимые самолеты. Глухой рокот их моторов — тот язык, на котором в ночи говорит смерть, говорит смерть. Кто знает, кого она выберет сегодня? Я лежу одетым на кровати, слушая шум среди звезд и думаю о том о сем. Мысли, как самолетики, проносятся у меня в голове, они поднимаются вдали, это лишь легкое предчувствие, они приближаются, и вот уже кружатся надо мной и вокруг меня. Потом они улетают прочь, и я прислушиваюсь вслед им, и во мне остается спокойная уверенность, что однажды они меня посетили.
Много лет назад один человек рассказал мне маленькую притчу, которая тогда меня очень зацепила, хоть я и не люблю басен о животных. Однако я сделал вид, что она меня в принципе не касается, что для меня это история с другой планеты. Ее можно было запомнить или забыть, и я ее забыл. Она надолго выпала из моей памяти и внезапно всплыла снова. В ней шла речь о лосях и волках и о кое-каких трениях, которые постоянно происходят между волками и лосями. Тогда я еще не совсем понимал, в чем суть басни, все было иным и смутным. Я был молод и думал, что такая примитивная история годится разве что для развлекательной рубрики какой-нибудь провинциальной воскресной газетки. Я смутно помнил, что лоси в этой истории умирали из-за того, что им не хватало волков. Их переселили в другую страну, где волков не было. А лосям, чтобы остаться в живых, необходимо было испытывать страх перед волками, вот лоси и околели. Забавно снова вспомнить этот рассказ и того, кто рассказал его мне. Бог весть что заставило его тогда угостить меня этой притчей.
Я не поблагодарил его и вскоре после этого, простившись без лишних слов, уехал.
Может быть, я сам был как тот лось, и тогда, и в течение последующих лет. Ах, если бы я мог стать волком! Но я всеми силами противился этому, прячась даже в собственных страхах. Возможно, потому, что не хотел терять хоть каплю любви, а возможно, потому, что еще в детстве узнал, что может случиться в проявочной. Нужно время, чтобы научиться нести свое страдание, как носят рюкзак.
История про лосей рассказана до конца, они погибли. Но каково жилось волкам? Кто доскажет притчу о волках?
Эти и подобные мысли одолевают меня, непрерывно прилетая и улетая, а я лежу без сна на своей кровати и слушаю, как снаружи, сквозь ледяную ночь проносятся самолеты. В моей комнате холодно, внезапно я вскакиваю и подбегаю к маленькой остывшей железной печке в углу.
Я кладу руки на остывшую печь и вспоминаю, как это было, когда огонь еще согревал ее изнутри. Отец тогда часто заходил ко мне в комнату и смотрел на огонь. Отец был стар и приносил только одно ведро с дровами и торфом, потом выгребал золу и снова раздувал жар под пеплом. Он ждал, пока загорятся дрова, и только тогда снова уходил шаркающей походкой. Я позволил ему уйти, он нес на спине рюкзак, когда уходил. Мама плакала.
Я хожу по своей комнате туда-сюда, останавливаюсь и несколько раз взмахиваю руками, скрещивая их перед грудью и за спиной. Во мне поднимается приятное тепло, я возвращаюсь и снова ложусь на кровать. И жду. Так проходит время. В голове снова начинается круговерть мыслей, я вижу людей, зверей, автомобиль с фигурой на переднем сиденье рядом с шофером, я слышу разговоры, крики, и вдруг мне мерещится, что в комнату вошел отец. Я знаю, что все это лишь обман воображения, игра желаний, которым не дано осуществиться, но я добровольно поддаюсь ему, я больше не сопротивляюсь. Через несколько часов наступит день, и тогда, обещаю, я стану лучше отличать явления жизни от явлений смерти. Мой отец стар, он кажется мне старше, чем в последний раз, когда я его видел. Он разговаривает со мной, или так звучат мои собственные мысли, но я слышу его голос, и он говорит:
— Ты помнишь мои слова?
— Да, отец, — отвечаю я.
Он подходит к моему одру, и я встаю и иду ему навстречу.
— Вот до чего дошло, — говорит он. — Тебе не страшно?
— Страшно, — смущенно отвечаю я. — Но пока я этого не сознавал, я подчинялся его власти больше, чем теперь.
— Ты слышал, что повсюду о нем рассказывают? Как он хозяйничает в городах и весях?
— Я это знаю!
— Он хищный зверь. Он нападет и на тебя, как напал на нас. Ты это забыл?
Иногда я об этом забывал, когда хотел забыть и свой страх.
— Он отравил нашу жизнь страхом. Не будь его, все могло бы стать лучше, по-другому.
— Ты заблуждаешься, отец, — медленно говорю я и смотрю в пол. — Ты заблуждаешься. Лосей переселили, и они погибли. Никто не понимал, почему так случилось. Но теперь начался мор среди волков.
Он молчит и, шаркая ногами, идет к печке в углу.
— Здесь холодно, — говорит он, — у тебя нет дров? Кто тебе сказал, что среди волков начался мор?
— Я узнал своего врага, отец, — говорю я. — Я многим ему обязан. Я ужаснулся, узнав его. И горечь вражды доставила мне сладость познания.
— И что же происходит?
— Волки тоже смертны. Они подчиняются власти сильнейшего, страшась его больше, чем лоси страшатся волков.
— Я больше не могу в это верить. Почему это не случилось раньше? И не было нам милости? Не было пощады?
— Враг тоже причастен к милости, я не могу это забыть. Слишком долго это мешало мне желать его уничтожения.
— Я больше этого не постигаю, — печально говорит он. — Ты видишь старость своего отца? Неужели я должен рассказывать тебе о моих страхах?
— Я знаю их, прости меня за то, что я их знаю. Я слишком много сам страдал. И лоси, в свою очередь, отмеряют время волкам. Но теперь мой дух настроен торжественно, и скоро будет праздник на нашей улице.
— Торжественно? Праздник?
Я слышу его безнадежный смех, и он отступает в темноту комнаты.
— Ты кощунствуешь, — горько роняет он. — Я пришел не для того, чтобы слушать, как ты кощунствуешь.
— Я готовлю себя к его смерти, отец. Пройдет немного времени, и он умрет.
— К его смерти? Дай мне обнять тебя, сынок, будь благословен. Расскажи мне о его смерти, о конце всех страданий. Ты ведь тоже желаешь ему смерти? Наконец-то мы будем отомщены. Поведай же мне о его смерти!
Он остается в темноте, а я закрываю глаза, чтобы еще раз увидеть его фигуру в полный рост.
Боюсь, у меня это не получится. Это совсем не то, чего желают ненависть и месть.
Голос отца:
— Достаточно его смерти. Расскажи!
Он падет, отец, как падает все отмершее, гнилой сук, холодный и высохший, снесенный в пропасть горным ручьем. Или твердый камень, остывший и неуязвимый, не чувствующий своего крушения. Он свалится в непроглядную ночь, не оставив светящегося следа. Он не зажжет факел в памяти, прежде чем уйти глубоко в почву той пустыни, где не живет ни человек, ни зверь. Вот какой будет его смерть, убогой и бесплодной, словно груда щебня, где он лежит осколком погасших планет, и никто не узнает его, и больше не о чем рассказывать.
XVI
Я больше не могу ждать. Эта смерть… Я больше не могу ждать его смерти. Когда-нибудь эта весть придет, может быть, завтра. Или даже сегодня? Да, может быть, завтра, но я не могу больше ждать и до завтра.
Я получил известие, которого давно страстно желал. Не указано ни место, ни время. Значит, он нашел где-то свой конец уже несколько недель назад, покинутый всеми. Нашел ту смерть, которая единственно была ему суждена, погиб от собственной руки, а не сказочной смертью. Его могила неизвестна. Я заканчиваю эти записки, он сам их закончил. Одним ударом, будто за одну ночь свершилась его судьба, но для меня это продолжалось столетиями.
Меня охватывает мрачное настроение, я сижу здесь и размышляю о тех, кто был мне близок, кто был мне дорог, и обо всех сразу, кого утратил из-за него. Я испытываю скорбь и боль, жизнь моя опустела, я чуть было не написал, что с его смертью жизнь моя еще больше опустела. Но во мне уже шевелится сомнение, я прислушиваюсь к себе, не подаст ли свой голос радость, что наконец-то он мертв. Его нужно было убить!
Он убил себя сам.
Да, я с самого начала знал, что я его потеряю, во мне не возникло ни малейшего сомнения в том, что не он меня, а я его потеряю. Он вряд ли бы смог жить дальше один, наконец-то оставшись без меня. Мое присутствие беспокоило его. И беспокойство гарантировало ему долгое время существования. Пока он мог отвергать меня, у него была твердая почва под ногами. Как только ему все удалось и он стал победителем, он тут же снова ее потерял. Глупец, он боролся во мне со всем тем, чему никогда не осмеливался поглядеть в глаза в себе самом. В итоге он использовал меня, чтобы в бешенстве скрыться за мною от самого себя. Он никогда не знал себя. Я любил в нем то, чего не мог уничтожить в себе самом. Я хотел предотвратить эту утрату, я думал, что в моей власти предотвратить ее и преобразовать в нечто непреходящее. И я забыл многое, и мне пришлось закрыть глаза на другие утраты, которых я не заметил и которые теперь причиняют боль. Глупец, я не замечал, что погибаю.
Но и тогда я не совсем его покинул. Я знал, что это он предаст и покинет нашу вражду. Если угодно, я даже немного рад, что он теперь мертв. И одновременно испытываю боль утраты. Почему? Он забрал в свою смерть кусок моей жизни, и это необратимо. И его смерть заронила в меня свое сокрушительное семя.
* * *
— Я возвращаю ваши записки.
Адвокат сидел в своем кабинете за письменным столом, заваленным бумагами. В воздухе висело марево сигарного дыма.
Он вышел из-за стола мне навстречу и сказал:
— Мои записки? Неужели вы и впрямь думаете… Они не мои.
Он рассмеялся.
— Они подлинные, — продолжал он.
Я вручил ему папку.
— Сигару?
— Спасибо.
Мы сели.
— Ну и как? — начал он снова. — Скажите наконец что-нибудь, говорите же!
Странная манера провоцировать собеседника на высказывание.
— Что вы хотите услышать?
— Ничего определенного. Вам понравились записки? Ну, поделитесь своим мнением.
Я рассмеялся.
— Не станете же вы ожидать от меня критического разбора, — сказал я. — Эстетическая оценка — самая большая мистификация, ей поддаешься легче всего. Кроме того, в заметках очень ясно сказано, что они не задумывались как литературный продукт. Было бы неблагородно не принимать этого в расчет.
— Дипломатичный ответ, — возразил он. — Я получил рукопись от автора с заверением, что в ней не содержится ни слова, которое подвергнет меня опасности, если я ее сохраню.
— И вы ему поверили?
— Поначалу да, но тогда я еще не прочел ее. Позже, я в нее заглянул.
— А потом?
— Я закопал ее. По бумаге видно, что она промокла. Мы живем в стране, где полно воды.
— Нельзя быть настолько наивным, чтобы верить людям, — сказал я. — Хоть он и приложил все усилия, чтобы замести все следы, из его записок можно извлечь довольно точные выводы. Я отчетливо представляю себе, кто это писал и откуда он прибыл.
— Я тоже, — со смехом сказал адвокат.
— А вот он, видимо, не представляет. Его интересует только камуфляж.
— Не забывайте, он писал тайно, под давлением обстоятельств, — горячо возразил адвокат. — Отсюда неточные указания на место и время. А вы считаете, это важно?
Я взглянул на него.
Большой, широкоплечий мужчина, похудевший на много фунтов в голодную зиму и еще не обретший своего прежнего облика. В нем угадывался тип упитанного, немного тяжеловесного голландца с характерной головой интеллектуала.
Я знал, что во время войны он сыграл выдающуюся роль за кулисами, общаясь с оккупационными властями необычайно ловким и искусным образом, и навредил им больше, чем некоторые покушения с применением взрывчатых веществ. Да и сейчас он, казалось, был способен одурачить меня этими записками. Похоже, он уловил мои сомнения. Ему доставляло удовольствие до поры до времени держать меня в неведении.
— Во всяком случае, история странная, — сказал я. — Лось, который горюет о волке, который намерен его сожрать. По-человечески, насколько я понял, позиция сомнительная.
— Вы забываете, — с жаром возразил он, — что тысячи людей позволили им загнать себя до смерти. Я тоже наблюдал, как они вымели дочиста южный район нашего города.
Он замолчал, следя за дымом своей сигары. Обо мне он, видимо, забыл.
— Трамваи, — произнес он. — Трамваи стали потом непрерывно ходить по ночам, никто не спал, и еще эти свистки и скрежет вагонов по рельсам на поворотах. Ужасно.
Молчание.
— Почему он не забрал свои записки после войны? — спросил я.
Адвокат пожал плечами. Он курил.
— Я этого не понимаю, — продолжал я.
— Многие так и не забрали своих вещей.
— Это другое.
— Вы думаете, он еще жив?
— Он сам написал, что изобразил смерть своего врага.
Немного подумав, адвокат устремил на меня пристальный взгляд и прикусил нижнюю губу.
— Он мертв.
— Мертв?
— Да, погиб.
— Но ведь он же написал…
— Фантазия, — коротко возразил он.
Я молчал.
— Когда он погиб?
— Перед концом.
— Перед концом?
— Да.
Я думал о том, что он погиб, и молчал.
— Он мертв, — сказал адвокат. — Я могу вам об этом спокойно рассказать. Он был одним из наших героев. Не будучи голландцем по рождению, он бежал к нам в страну. Позже, незадолго до войны, он перевез к нам своих родителей. Я тогда помог ему с прошением к нашему правительству. Они жили в деревянном доме, где-то в провинции. Он руководил группой по изготовлению фальшивых документов. Они подделывали важные бумаги, паспорта, удостоверения. Кроме того, он изготовлял микрофильмы. Об этом знали лишь немногие.
— И вы?
— Я тоже не знал.
— Как он погиб?
— Очень просто, совсем не геройски, из-за любовной истории, у него была девушка, которая знала кое-что.
— Она выдала его?
— Это не доказано, — спокойно сказал он. — Вероятно, она проговорилась какой-то своей подруге. Я думаю, она его любила. У подруги были подозрительные знакомства, видимо, та его и выдала. Хотя прямых улик нет.
— Сложное дело, — заметил я.
— Он был неосторожен, — сказал адвокат. — Мне кажется, это все объясняет. Он был неосторожен, когда речь шла о женщинах.
— О женщинах? Неосторожен, когда речь шла о любви, — перебил я его.
Резкость, внезапно прозвучавшая в моем голосе, заставила меня пожалеть о своих словах, как только я увидел его удивленное лицо. И все-таки мне не показалось, что он обиделся.
— Когда речь шла о любви, — задумчиво повторил он и кивнул мне, как будто мой возглас устранил последнее слабое сомнение в гибели автора записок.
Потом адвокат продолжил свой рассказ:
— Однажды он пришел к ней на чай около четырех часов дня.
— Он свободно передвигался по городу?
— У него был отличный паспорт.
— Настоящий?
— Поддельный, разумеется. На том же этаже жила подруга шефа местного отделения вражеской службы безопасности. Похоже, за ним была установлена слежка. Подруга его возлюбленной, должно быть, проболталась подруге шефа. Он позвонил. Когда дверь открылась, он увидел человека в форме на верхней площадке лестницы. Он убежал. Тот, кто следил, погнался за ним и застрелил его на улице.
— Глупость несусветная, значит, он угодил в засаду.
— Это еще не конец истории. Вы слушайте. Он постоянно носил с собой револьвер. Прежде чем упасть, он успел вытащить свой револьвер и, уже падая, выстрелил. И тот, другой, умер вскоре после него.
— Значит, он все-таки выстрелил, — сказал я.
— Да, — ответил адвокат. — Вы думали, что он лгал, когда писал эти записки? Конечно, он выстрелил и попал точно в цель, они оба лежали на тротуаре. Мы потеряли хорошего человека и опасного врага. На том месте, где он умер, мы установили памятный знак. На нем только его имя и дата.
1942/1959
Примечания
1
Скорее всего, речь идет о Щецинской лагуне и заповеднике на острове Узедом. (Прим. ред.)
(обратно)2
Крылатое выражение отсылает к пятому акту второй части «Фауста» Гете. Слепой Фауст слышит, как работают лемуры, копающие ему могилу, но думает, что они воплощают его замысел осушения болота:
<…> Жизни годы Прошли не даром; ясен предо мной Конечный вывод мудрости земной: Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой!(Пер. Н.Холодковского) (Прим. ред.)
(обратно)3
Гилель — наиболее значительный из законоучителей эпохи Второго Храма. Известен пример, когда язычник обусловил свой переход в иудаизм требованием, чтобы Гилель обучил его всей Торе за то время, которое он может простоять на одной ноге, на что Гилель ответил: «Не делай другому то, что ненавистно тебе самому. Это вся Тора, а все остальное — комментарий» (Шаб. 31а). (Прим. ред.)
(обратно)


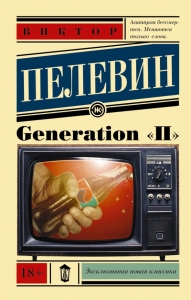
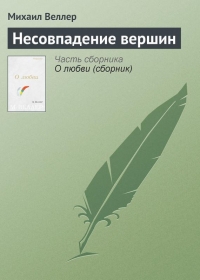

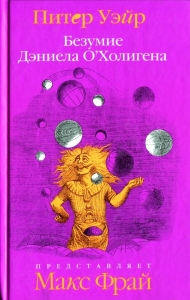







Комментарии к книге «Смерть моего врага», Ханс Кайлсон
Всего 0 комментариев