Раймон Кено С НИМИ ПО-ХОРОШЕМУ НЕЛЬЗЯ
[Предисловие]
Якобы вымышленному писателю не часто предоставляется возможность писать предисловие к полному собранию своих сочинений, особенно если они публикуются под именем якобы реально существующего писателя. Поэтому я должна выразить благодарность издательству «Галлимар» за предоставленную мне возможность.
Прежде всего следует рассеять одно недоразумение: то, что имя якобы реально существующего писателя фигурирует на обложке книги, вовсе не означает, что истинным автором является он, а не другой, якобы вымышленный писатель, под именем которого те же самые произведения выходили ранее. В этом другом, якобы вымышленном писателе нет ничего вымышленного, поскольку это я сама, и, подписывая настоящее предисловие, я заявляю, что любые обвинения в недостаточной реальности отметаются мною a priori, sine die, ipso facto и manu militari.[*]
Должна однако признаться, что не смогу удержать столь радикальную позицию в отношении всего сборника. Если я по-прежнему отстаиваю свои материнские права на «Интимный дневник» и «С ними по-хорошему нельзя», то, с другой стороны, самым энергичным образом протестую против приписанного мне авторства в случае с «Более интимной Салли». Эта брошюрка — не более чем подборка «Вздорностей»[*] (даже слово писать противно), которые якобы реальный автор этого полного собрания сочинений публиковал где ни попадя, а иногда еще и под порочным покровом анонимности, что явно не улучшает сложившуюся ситуацию.
Несмотря на мои возражения, ничего уже не поделаешь: издательство «Галлимар» во что бы то ни стало стремилось пристегнуть это сочинение, нашпигованное непристойностями, к моим аутентичным произведениям. Персонаж, прикрепленный к этому издательству, некий Кено (неужели тот самый?), мне писал: «Да ладно вам: неопубликованное — самое клевое, что можно придумать для того, чтобы скормить переиздание опубликованного; наши читатели это обожают» и прочие глупости ejusdem farinae[*]. Я ничего ему не ответила (и не без основания), вот почему этот том заканчивается маракрифом.
Разумеется, то, что говорится на эту тему в первом издании «Интимного дневника» (стр. 4), — явная ложь: «Уже в процессе печати мы узнали, что только что была найдена рукопись» (отметим, что типографский выпуск датируется 21 января 1950 года). Не менее абсурдным оказывается и предисловие к роману С.Н.П.Х.Н. (типографский выпуск которого — скажем без кокетства — датируется 8 ноября 1947 года). Это предисловие, подписанное «Мишелем Прелем»[*], к счастью, не фигурирует в настоящем издании; но поскольку в нем нет (ни близко, ни далеко) ни одного слова правды, я приведу его полностью:
«Никогда не известно, что у людей „на уме“. Вот так всегда: знаешь кого-нибудь лет двадцать, а потом, к своему великому удивлению, узнаешь, что он что-то сочиняет. Во время своих посещений Ирландии в период с 1932 по 1939 год я неоднократно встречался с Салли Мара. Сначала это была самая обыкновенная девчушка, примечательная лишь тем, что ее угораздило родиться в пасхальный понедельник 1916 года[*]. Затем я увидел ее в кругу поэта Падрика Богала[*]. Робкая и почти миловидная девушка очень рано вышла замуж за эйрландца (торговца скобяными товарами) из Корка, города весьма приятного.
Вернувшись после семилетнего перерыва в Эйре[*], я получил из рук Падрика Богала запечатанный пакет: это была рукопись романа, который мы представляем сегодня французским читателям. Сама Салли Мара умерла очень просто и очень безвестно от какой-то болезни еще в 1943 году.
Прочитав (не без удивления) рукопись Салли Мара, я нанес визит ее супругу. Скобянщик из Корка, значительно растолстевший после смерти своей жены, сохранил о ней весьма смутные воспоминания; он ничуть не противился изданию этой книжки за пределами Эйре.
Каждый оценит „С ними по-хорошему нельзя“ по-своему. Я не думаю, что следует искать политико-историческую направленность в бесцеремонной манере изложения событий: судя по всему, дублинское восстание в пасхальный понедельник 1916 года происходило не совсем так».
Кто он такой, этот Мишель Прель? Никто. Ничто. Точнее говоря, псевдоним якобы реально существующего автора этих вымышленных произведений. А значит, еще меньше, чем ничто. Следовательно: как он мог что-либо знать о моем существовании? Мне скажут: но ведь Мишель Прель появляется в вашем «Интимном дневнике». Харашо, только вот ведь что получается: это вовсе не тот Мишель Прель! Тот, что в моем дневнике, — плод моего воображения; на самом деле он не существовал! Что касается биографических данных, приводимых в этом предисловии, я настойчиво утверждаю следующее: они все неукоснительно неточны[*]. Я родилась в пасхальный понедельник 1916 года, в день ирландского восстания? Лживее не придумаешь: я вообще никогда не рождалась. Я безвестно умерла в Корке в 1943 году? Чистейшая ложь: я пишу это предисловие восемнадцать лет спустя, и во мне нет ничего от призрака, разве что некоторая хрупкость фигуры, да и то...
Да, я пишу это предисловие, но в конце концов и по сути, для чего именно? Помешает ли это тому, другому, поставить свое имя на моей обложке? Нет. Убедит ли редких добродушных читателей, что автор этих сочинений — я? Даже не надеюсь на это. Улучшит ли мою репутацию в Корке, сильно подмоченную после того, как домыслы обо мне вызвали целый поток скандальных флюидов? Еще менее вероятно. Подрастающие брюнеты будут по-прежнему верить, что я хотела обмакнуть их мечты в квинтэссенцию своих мечтаний, это я-то, которая всегда желала лишь одного: управляться с иностранными для меня языками; я, которая всегда стремилась вознести форму над основательным содержанием; я, которая повсюду — будь то в элегических рассказах (И.Д.) или в эпическом повествовании (С.Н.П.Х.Н.) — не без злого умысла, но, напротив, совершенно наивно называла кошку кошкой[*], а мудака мудаком, как этому учил меня когда-то мой вымышленный учитель Мишель Прель, который заимствовал свое учение у якобы реально существующего автора, который в настоящий момент... эх, вот ведь какая хренотень!
Салли МараС НИМИ ПО-ХОРОШЕМУ НЕЛЬЗЯ [*]
I
Боже, храни Короля! — закричал привратник, который прослужил тридцать шесть лет у некоего лорда в Сассексе и оказался в один прекрасный день без работы, поскольку его хозяин исчез во время катастрофы «Титаника», не оставив ни наследников, ни стерлингов для содержания «замька», как говорят по ту сторону пролива Святого Георга. Вернувшись в страну своих кельтских предков, прислужник занял скромную должность в почтовом отделении на углу Саквилл-стрит и набережной Иден.
— Боже, храни Короля! — громко повторил он, будучи верным подданным английской короны.
Служащий с ужасом взирал на то, как в почтовое отделение врываются семь вооруженных типов; он сразу же принял их за мятежных ирландских республиканцев.
— Боже, храни Короля! — тихо прошептал он в третий раз.
Прошептал потому, что Корни Келлехер[*], торопясь покончить с подобными верноподданническими проявлениями, всадил ему пулю между глаз. Из восьмого отверстия в черепе брызнули мозги, и тело прихвостня рухнуло на пол.
Джон Маккормак[*] краем глаза наблюдал за расправой. Необходимости в ней он не видел, но выяснять было некогда.
Почтовые барышни раскудахтались не на шутку. Их было не меньше дюжины. На чистом английском или с ольстерским акцентом — поди разберись — они выражали явное недовольство по поводу того, что происходило вокруг.
— Разгоните этот курятник! — гаркнул Маккормак.
Галлэхер и Диллон принялись убеждать барышень, где словами, а где и жестами, в необходимости срочно покинуть помещение. Но одним надо было забрать свои дождевики, другим — найти свои сумочки; в их поведении чувствовалась некая растерянность.
— Вот дуры! — крикнул Маккормак с лестницы. — А вы чего ждете? Гоните их к черту!
Галлэхер схватил какую-то барышню и хлопнул ее по заднице.
— Но будьте корректны! — добавил Маккормак.
— Так мы никогда с ними не разберемся! — пробурчал Диллон, пытаясь увернуться от двух девиц, несущихся ему навстречу. Одна из них оттолкнула его, на бегу оглянулась и вдруг замерла.
— О! Мистер Диллон! — заскулила она. — Вы, мистер Диллон! А еще такой порядочный человек! И с ружьем в руках против нашего Короля! Вместо того чтобы закончить мое кружевное платье!
Смутившийся Диллон почесал в затылке. Ему на помощь пришел Галлэхер; он пощекотал девушку под мышками и гаркнул ей в ухо:
— Пошевеливайся, ты, дурища!
Девица убежала.
Маккормак в сопровождении Кэффри и Каллинена рванул на второй этаж. Как только они скрылись из виду, Галлэхер поймал следующую барышню и звонко хлопнул ее по заднице. Барышня подпрыгнула.
— Корректно! — проворчал он с негодованием. — Корректно!
В этот момент ему под ногу подвернулась еще одна пара ягодиц; мощный пинок подкинул мадемуазель, которая когда-то сдавала экзамены и даже правильно отвечала на вопросы по всемирной географии и изобретениям Грэма Белла[*].
— А ну давай! — орал Диллон, раздуваясь от мужества перед всей этой женственностью.
Ситуация начинала проясняться; женский персонал суетливо устремлялся к выходу, а оттуда выскакивал на набережную Иден или Саквилл-стрит.
Два молодых телеграфиста ждали своей очереди, но убеждать их, как барышень, не стали; получив заурядные затрещины, они вымелись, возмущенные подобной корректностью.
На улице наблюдавшие выдворение зеваки столбенели. Раздалось несколько выстрелов. Толпа начала рассеиваться.
— По-моему, освободили, — сказал Диллон и огляделся.
Девственницы больше не мозолили ему глаза.
II
На втором этаже руководящие работники вопросов не задавали. Идею выдворения они восприняли восторженно, по лестнице скатывались поспешно, а на тротуар падали незамедлительно. Лишь директор выразил сопротивленческие поползновения.
Звали его Теодор Дюран, происхождения он был французского. Но, несмотря на симпатию, которая издавна связывает французский и ирландский народы, начальник почтового отделения на набережной Иден был предан душой и телом (а также душами своих многочисленных подчиненных, хотя это, как мы увидим чуть дальше, ему ничуть не помогло) британским идеалам и поддерживал ганноверскую корону[*]. В эту минуту он пожалел, что на нем не было смокинга или хотя бы костюма. Он даже собрался звонить своей супруге, чтобы попросить ее привезти подобающее случаю одеяние, но жили они неблизко, да и телефона у них at home не было. Таким образом, ему пришлось встретить республиканских самозванцев в простой жакетке. Пусть в битве при Хартуме[*] он и был одет в чесучу и грубый лен, сейчас ему претило сражаться за Короля в столь жалком наряде.
Джон Маккормак вышиб дверь ударом ноги.
— Боже, храни Короля! — заявил начальник почтового отделения, проявляя недюжинный героизм.
Героизм, впрочем, не успел проявиться полностью, поскольку Джон Маккормак раскроил британскому патриоту череп — вжик-вжик — пятью пулями, выпущенными патолого-анатомически точно и цинично.
Кэффри и Каллинен оттащили труп в угол, Маккормак устроился в директорском кресле и закрутил телефонную вертушку.
— Алло! Алло! — прокричал он в трубку.
— Алло! Алло! — прокричали ему в ответ.
— Finnegans wake![*] — изрыгнул пароль Маккормак.
— Finnegans wake! — отрыгнули ему на другом конце провода.
— Это Маккормак. Мы заняли почтовое отделение на набережной Иден.
— Отлично. Мы на Главпочтамте. Все в порядке. Британцы не реагируют. Зелено-бело-оранжевый флаг поднят.
— Ура! — крикнул Маккормак.
— Держитесь, если будут атаковать, хотя это маловероятно. Все в порядке. Finnegans wake!
— Finnegans wake! — ответил Маккормак.
На Главпочтамте повесили трубку. Маккормак сделал то же самое.
В кабинет вошел Ларри О’Рурки[*]. С присущей ему вежливостью он уже успел склонить остальных чиновников — как теоретически, так и практически — к поспешной эвакуации. Все служащие были выдворены. Диллон, осмотрев помещение, это подтвердил. Теперь оставалось лишь запастись терпением и следить за тем, как будут разворачиваться события.
Маккормак закурил трубку и предложил товарищам сигареты. Спустился Кэффри.
III
Келлехер и Галлэхер с винтовками в руках стояли перед почтой. Зеваки держались на расстоянии и глазели. Сочувствующие, соблюдая такую же дистанцию, махали руками, шляпами, носовыми платками, выражая одобрение, а два инсургента время от времени потрясали винтовками в ответ. При этом особо пугливые прохожие отходили в сторону. Британцев в округе не наблюдалось.
На набережной, около пришвартованного норвежского парусника, слонялись скандинавские матросы; они с любопытством взирали на происходящее, но от комментариев воздерживались.
Галлэхер спустился с крыльца и прошелся до угла Саквилл-стрит. На мосту О’Коннелла[*] не было ни души. На другой стороне реки, облепив как мухи белокаменную статую Уильяма Смита О’Брайена[*], копошились любопытные; они тоже выжидали.
Воздав — про себя — почести великому заговорщику, Галлэхер повернулся спиной к водам Лиффи и стал обозревать Саквилл-стрит. В непосредственной близости возвышался украшенный пятью десятками бронзовых ликов памятник О’Коннеллу, отпугивающий любопытных своей простреливаемостью; рядом стоял трамвай, освободившийся от пассажиров, кондукторов и вагоновожатых. Чуть дальше какой-то прохожий застыл перед статуей преподобного Мэтью[*]. Галлэхера мало интересовали причины подобного поклонения; он мысленно осквернил, что, кстати, делал постоянно, и даже натощак, память этого увековеченного поборника трезвого образа жизни.
Ирландский флаг развевался и над домом № 43 — штаб-квартирой Центрального комитета Национальной Лиги, и над гостиницей «Метрополь», и над Главпочтамтом. Поодаль пятидесятиметровая колонна возносила в сырое небо каменного Нельсона.
Прохожие, приезжие, любопытствующие, переживающие, праздношатающиеся не появлялись. Время от времени какой-нибудь инсургент или какие-нибудь инсургенты перебегали улицу с винтовкой или револьвером в руках.
Британцы по-прежнему безмолвствовали.
Галлэхер ухмыльнулся и возвратился на свой пост.
— Все в порядке? — спросил Келлехер.
— Стяг Эйре реет над ключевыми объектами О’Коннелл-стрит, — ответил Галлэхер.
Разумеется, он никогда не называл эту улицу Саквилл-стрит.
— Finnegans wake! — закричали они в один голос, потрясая над головой оружием. Сочувствующие на другом берегу поддержали, зеваки отошли в сторонку. Кэффри принялся закрывать ставни.
IV
И все-таки, говорила себе Герти Гердл[*], и все-таки эти современные уборные так далеки от совершенства, эти водосливные устройства производят такой шум, о my God! ну прямо гул мятежной толпы, правда, я никогда не слышала гула мятежной толпы, нет, просто толпы, да, скопления людей, которые собираются и кричат, это водосливное устройство производит аналогичные звуки, этот непрекращающийся вой, это бульканье наполняющегося сливного бачка, когда же это прекратится? нет, до совершенства, конечно же, еще далеко, не хватает некоей конфиденциальности. Мне следует привести в порядок прическу. Чтобы понравиться кому? хотелось бы мне знать. Мой дорогой суженый, командор Сидней Картрайт, и когда он еще приедет, чтобы полюбоваться на мою чудесную гриву? Когда я смогу его увидеть, моего дорогого суженого? Когда? А пока, Господи всемилостивый, кому я могу нравиться? Опять эти люди, которые непонятно куда бегут. Боже милостивый, и зачем они бегут? Но я думала не об этом. Я думала о своих волосах. Две минуты назад все эти люди заходили, забегали, запрыгали. Все это началось только что. Вместе с шумом водосливного устройства прозвучало что-то еще. Что же? Что-то вроде... выстрела. Взрыва. Какая чушь. Самоубийство. Может быть, это мистер Дюран покончил с собой. Он так меня любит. И так почтительно. А я его не люблю. Ну вот, я почти привела в порядок свои волосы. Выстрел. Он покончил с собой из-за меня. Какая глупость. А эти люди все бегают. С ума они посходили. Боже милостивый. Какая я дура. Боже милостивый, Господи всемилостивый. Да, что-то взорвалось. Загорелось. Почему же они не кричат: «Пожар!» — если в доме пожар? Они не кричат: «Пожар!» Это из-за слива воды я подумала о пожаре. Наверное, пора уже отсюда выходить. Мистер Кейн опять подумает, что я долго отсутствовала. Ох уж эта работа. Ах, наконец-то они перестали бегать. Наконец-то. Ох уж эта работа. Мистер Кейн со своими седыми волосами и розовой перхотью. Придется терпеть его еще какое-то время. Я никогда не видела ни восстания, ни революции. Здесь все об этом говорят. Здесь все об этом говорят. Здесь все об этом говорят. Чем больше говорят о войне во Франции, тем прочнее мир здесь. Какая умиротворенность. Какое затишье. Они больше не бегают. А почему это они больше не бегают? Больше не. И меньше не. Вообще не. Пора выходить. Почему же я не выхожу? Почему же я не выхожу? Почему же? Ладно. Я сделала все, что мне было нужно. Какая тишина. Итак, возьмись за дверную ручку-задвижку. Поверни. Тихонько открой дверь. Почему тихонько? К чему все эти предосторожности? Боже милостивый, неужели я сошла с ума? Какая глупость. Я открываю дверь.
V
Открыв дверь, она увидела в коридоре какого-то мужчину с револьвером в руке. Он ее не заметил. Она немедленно закрыта дверь и, прислонившись к раковине, схватилась за сердце, бьющееся изо всех сил о реберные прутья.
VI
— Я все обошел, — сообщил Ларри О’Рурки. — Ни души. Кэффри, Келлехер и Галлэхер забаррикадировали весь первый этаж, кроме входной двери. Ее тоже можно завалить, если понадобится.
— Бояться нам некого, — сказал Диллон.
— И что это значит? — спросил Маккормак.
— А то, что не понадобится ее заваливать.
— Думаешь, англичане не объявятся?
— Нет. Им сейчас не до этого. Дело в шляпе.
— И что это значит? — спросил Маккормак.
— А то, что они даже стрелять не будут; сразу объявят капитуляцию.
— Чушь, — сказал Маккормак.
О’Рурки пожал плечами.
— Чего спорить. Увидим. А пока будем выполнять приказ.
— Чего тут выполнять, — усмехнулся Диллон. — Сиди и жди.
— Значит, будем ждать, — сказал О’Рурки.
Маккормак кивнул в сторону трупа Теодора Дюрана:
— Надо вынести его отсюда, а то будет здесь лежать и гнить.
— Не успеет, — отозвался Диллон. — Сегодня же вечером отдадим его британцам, и они его похоронят. Вот так. Подарочек на прощание.
— Надо бы перенести его в другую комнату, — сказал Маккормак.
Он посмотрел на труп и брезгливо поморщился, хотя чего уж тут, винить было некого.
— А пускай О’Рурки разрежет его на кусочки, — предложил Диллон, — вынесем по частям и утопим в клозете.
Маккормак ударил кулаком по столу; из подпрыгнувшей чернильницы брызнуло черным.
— Черт побери! Изволь чтить мертвых!
— И потом, он явно заблуждается насчет занятий медициной, — добавил О’Рурки, который в этом году заканчивал медицинский колледж.
— Может, вы не кромсаете трупы?
— Сейчас не время об этом рассуждать, — сказал Маккормак.
— Самое время, и у нас его более чем достаточно, — ответил Диллон. — Более чем достаточно, пока британцы не надумают сдаться. Самое время порассуждать. Объясни-ка мне, Ларри О’Рурки, в чем же я явно заблуждаюсь, утверждая, что ты способен разрезать этого чиновника на мелкие кусочки? Времени на объяснения у тебя, Ларри О’Рурки, хоть отбавляй, поговорим об этом, если нам все равно о чем говорить, а заняться нам все равно больше нечем до тех пор, пока не объявят, что британцы покинули Дублин и вернулись к своим грозовым небесам, усеянным цеппелинами.
— Грозен и не ровен час, — объявил Маккормак. — Диллон, сейчас не время впадать в глупый оптимизм.
— Вот это правильно, — согласился О’Рурки.
— Увидите сами, увидите; британцы...
— Диллон, здесь командую я. Заткнись.
Маккормак, вынужденный скрепя сердце призвать к соблюдению дисциплины — а это залог успеха любого восстания, нервно затеребил сургучную печать. Каллинен, развалившись в кресле и не вынимая рук из карманов, высматривал на потолке мух и сокрушался: так высоко не доплюнешь. О’Рурки, переместившись к окну, разглядывал пустынную набережную и мост О’Коннелла с редко случающимися прохожими. Единственным объектом, проявляющим активность, оказался лихорадочно трясущийся норвежский парусник. О’Рурки это не понравилось. Он повернулся к Маккормаку. Тот, наигравшись с сургучной печатью, зажатой между носом и верхней губой, и машинально разукрасив себе лицо коричневыми усами, вяло приказал Каллинену:
— Отнеси чиновника в соседнюю комнату. Диллон тебе поможет.
Что они и выполнили.
VII
Не оставаться же мне здесь до скончания дней своих, говорила себе Герти. Боже милостивый, значит, это они, республиканские бандиты, разграбили нашу почту. Наверное, они уже ушли. Нет, похоже, что не ушли. Ушли все остальные. Все остальные, то есть наши. И это действительно был выстрел. Значит, это самый настоящий мятеж. Их Революция. И этот мужчина с револьвером — республиканец. Ирландский республиканец. Боже милостивый! Боже, храни Короля! А я здесь, у них в руках. Почти в руках, поскольку эта дверь отделяет меня от них, защищает меня от них. Дверь. Но ведь дверь можно вышибить. Они ее вышибут, и вот тогда я окажусь у них в руках. Одна. Одна. А сколько их там? И эта тишина. Неужели они вышибут дверь? Конечно же нет. Конечно же нет. Они не посмеют. Это ДАМСКИЙ туалет. Ах, ах, ах. Они не посмеют войти в ДАМСКИЙ туалет. Ах, ах, ах. И я останусь взаперти до тех пор, пока не придут британцы и меня не освободят. Если, конечно, среди мятежников нет женщин. Или хотя бы одной женщины, которая неизбежно придет сюда и попытается войти. И... и... и они вышибут дверь. Они вышибут дверь.
VIII
Галлэхер и Келлехер перенесли труп привратника в маленький пустой кабинет и пошли проведать Кэффри, который по-прежнему стоял на посту перед дверью, выходящей на набережную Иден. Праздношатающиеся и сочувствующие исчезли. Какой-то велосипедист в цилиндре и рединготе проехал по мосту О’Коннелла; ему было лет двадцать пять. У статуи О’Коннелла он развернулся и поехал в сторону Тринити-колледжа.
— Все спокойно, — сказал Галлэхер.
— Спокойней не бывает, — добавил Кэффри.
Келлехер достал пачку сигарет, и они закурили, опершись на свои винтовки.
Прямо перед ними готовился к отплытию норвежский парусник. Капитан суетился, помощник отдавал команды.
— Викинги смываются, — сказал Кэффри. — Сдрейфили.
— И правильно делают, — заметил Галлэхер. — Пускай проваливают вместе с британцами и прочими саксонцами.
Тем временем матросы отдали швартовы; маленький парусник отчалил и стал медленно спускаться по Лиффи, держа курс в открытое море. Инсургенты помахали рукой на прощание. Скандинавы ответили тем же.
— Счастливого пути, — крикнул Келлехер. — Счастливого пути.
Маленький парусник плыл хорошо. Вскоре он достиг излучины и скрылся из виду. Инсургенты продолжали молчать. Докурили они одновременно.
— Странное восстание, — вздохнул Кэффри. — Странное восстание. Я даже не представлял себе, что все произойдет так просто.
— Ты, может быть, считаешь, что все закончилось? — спросил Галлэхер.
— А ты так не считаешь?
Галлэхер и Келлехер рассмеялись.
— Думаешь, британцы возьмут и просто так уйдут?
— Чего тогда тянуть? Долго же они раскачиваются.
— Может быть, и долго.
— И кроме того, занятые другой войной, они, может быть, не захотят ввязываться в эту, увидев, на что мы способны.
Он прервал свою речь: автомобиль с открытым капотом и зелено-бело-оранжевым флажком подъехал на скорости и, скрипя тормозами, остановился у почты. Какой-то тип выскочил из машины и подбежал к ним.
— Finnegans wake! — прокричал он.
— Finnegans wake! — ответили они и на всякий случай угрожающе попятились.
— Вы заняли это здание? — строго спросил тип.
— Да.
— Сколько вас?
— Семь человек. Вы можете поговорить с нашим командиром, Джоном Маккормаком.
Но командир, уже предупрежденный О’Рурки, сам подошел к окну.
— Finnegans wake! — крикнул он.
— Finnegans wake! — ответил тип. — Вы — командир?
— Я.
— Какое у вас оружие?
— Винтовки и револьверы.
— Боеприпасы?
— Все, что в карманах.
— Продовольствие?
— Нету.
— Ладно. Идите сюда. Я дам вам пулемет и несколько ящиков боеприпасов и продовольствия.
— Будем держать осаду? — спросил Кэффри.
— Может быть. Выгружайте.
Кэффри остался у дверей. Галлэхер и Келлехер потащили скорострельный инструмент и ящики. Диллон и Каллинен смотрели на них с интересом.
— Вы знаете, куда поставить пулемет? — спросил тип.
— Знаем, — ответил Маккормак.
Но тип был в этом не уверен.
— Пулемет поставьте возле этого окна на первом этаже и направьте его в сторону моста.
IX
Вот остановилась какая-то машина. Наверное, к ним кто-то приехал. Или же они сами уезжают. Кто они? Сколько их? Может быть, я их знаю? Не всех, конечно, нескольких. Или хотя бы одного из них. Одного-то уж наверняка. Среди всех тех мужчин, которых я видела здесь, в почтовом отделении на набережной Иден, не могло не быть республиканцев. Одного-то из них я смогла бы узнать. Нет. Женщины с ними нет. Это точно. Иначе она бы уже давно сюда пришла. Что бы произошло, если бы я смогла узнать одного из республиканцев? Вдруг оказалось бы, что он меня ненавидит? Что именно его я когда-то заставила долго ждать у окошечка. Что именно его я попросила переписать адрес, потому что он не очень хорошо знал английский. Потому что он откуда-нибудь из Коннемары. А среди них есть такие, которые хотят опять говорить по-ирландски. Как если бы мистер Дюран вздумал говорить по-французски. Мистер Дюран, что же с ним стало? Может быть, они его взяли в плен? Или убили? Может быть, потому и раздался тот выстрел. Бедный мистер Дюран, он так меня любил. И так почтительно. Но может быть, ему удалось спастись. Может быть, он оказался в числе тех, которым удалось убежать. Среди всей этой беготни я, может быть, слышала шум его шагов. Обычно он так важно вышагивает. А ему, может быть, пришлось бежать. Ах, ах, ах. Он — и вдруг бежит. Ах, ах, ах. Такой важный и так меня любил. А я так и сижу здесь взаперти.
X
— Место для него очень хорошее, — сказал тип. — Ваши люди умеют с ним обращаться?
— Конечно, — ответил Маккормак, который спустился вниз, чтобы посовещаться с приехавшим стратегом.
Посовещавшись, они распростились, и машина уехала.
— Ну, как вам все это нравится? — спросил Маккормак.
Они посмотрели на ящики с боевыми и съестными припасами.
— Это радует, — сказал Келлехер.
— Так лучше, — сказал Галлэхер.
— Только выпивки не хватает, — сказал Кэффри.
— Кстати, — вспомнил Маккормак, — а что стало с тем парнем, которого вы подпекли?
— Мы отнесли его в маленький кабинет.
— А ваш подопечный? — спросил Кэффри.
— Он тоже там.
— Если начнется заваруха, — заметил Келлехер, — придется от них избавиться.
— Я тоже так думаю, — согласился Маккормак.
— Да бросить их в Лиффи, и все, — предложил Галлэхер.
— Это будет некорректно, — произнес Маккормак.
— Предположим, — сказал Галлэхер, — что британцы надумают нам ответить и нам придется здесь окопаться и сдерживать их, скажем, какое-то время.
— Все это только предположения, — сказал Кэффри.
— Так вот, — продолжал Галлэхер, — глупо сидеть здесь с двумя трупами на шее. Мы могли бы закинуть их в сад Изящных искусств. Ирландская Академия как раз за почтой.
— Он думает только о том, чтобы закинуть трупы, — сказал Маккормак.
— Пусть лежат! — вскричал Кэффри. — Не будем же мы сидеть здесь целую неделю!
— Он по-своему прав, — заметил Келлехер.
— Может, лучше поговорим о выпивке, — осадил Кэффри. — Вот чего нам здорово не хватает. Если прижмет, от этой нехватки нам придется туго.
— Он по-своему прав, — заметил Келлехер.
— Да, действительно, — согласился Маккормак. — Пусть двое из вас сходят за ящиком уиски[*] и двумя-тремя ящиками пива в ближайшую таверну на О’Коннелл-стрит.
— А на какие шлинги? — спросил Кэффри.
— Выпишите ордер на конфискацию.
— Да лучше взять деньжата прямо здесь, на почте, — возразил Кэффри.
— Это будет некорректно, — осадил его Маккормак.
— Да, лучше выписать ордер на конфискацию, — сказал Келлехер.
Маккормак вызвал Диллона и Каллинена, чтобы те сменили Кэффри и Келлехера на время конфискательной экспедиции.
Диллон и Каллинен восторженно замерли перед пулеметом.
XI
Кэффри и Келлехер распахнули дверь таверны.
— Эй, — крикнули они, так как в таверне не было ни души.
Наполовину осушенные пивные кружки обтекали на столах, которых еще не коснулась бдительная тряпка. На полу топорщилось несколько табуреток, опрокинутых торопящимися клиентами.
— Эй, — крикнули Кэффри и Келлехер.
Из-за стойки высунулась часть мужской головы. Мужчина явно побаивался. Сначала появилась челка, срезающая большую часть лба, затем маленькие усики, как у австрийского капрала.
— Finnegans wake! — заорали Келлехер и Кэффри.
— What do you say?[1] — спросил мужчина.
— Finnegans wake! — завопили инсургенты.
— О! Я, знаете ли, — сказал Смит (так звали мужчину из таверны), — я, знаете ли, политикой не занимаюсь. Боже, храни Короля, — добавил он сдуру и с испугу.
— Вмочить ему? — предложил Кэффри.
— Командир велел, чтобы все было корректно, — удержал его Келлехер.
Он схватил бутылку и разбил ее о голову Смита; темный «Гиннес», стекая по кровоточащему лицу бармена, светлел и окрашивался в гранатовый стаут. Смит был жив, только слегка оглушен.
— Дай нам ящик уиски, — обратился к нему Кэффри, — и десять ящиков пива.
— Мы выпишем тебе ордер на конфискацию, — добавил Келлехер.
Опираясь руками о стойку, контуженный Смит мутным взглядом взирал на стаут-гранатовую лужу, расплывающуюся по прилавку из красного дерева.
— Пошевеливайся, лавочник и предатель! — прикрикнул Кэффри и легонечко его стукнул.
Бармен дернулся, растратив на это последние силы, брызнул кровью и рухнул на пол.
— Ладно, сами справимся, — сказал Келлехер. — Но ордер на конфискацию все-таки выпиши.
— Выпишешь ты, — сказал Кэффри. — А я схожу за тачкой.
— А почему я?
— Что ты?
— Почему я должен выписывать ордер на конфискацию?
Кэффри почесал в затылке:
— Потому что я не буду.
— Почему не будешь?
Кэффри почесал в затылке:
— Да пошел ты!
— Это не причина, — сказал Келлехер.
Вокруг головы хозяина таверны растекалась лужа крови, такая большая, что Кэффри увидел в ней, как в зеркале, свое отражение. После чего решил откровенно признаться:
— Причина есть.
— Говори. Мы теряем зря время.
— Я не умею писать.
Келлехер посмотрел на него свысока. Они были из разных групп и до этого друг друга не знали. Уничижительно рассматриваемый Кэффри услышал сначала:
— Какое убожество!
А затем:
— Надо было сразу так и сказать. Ладно, иди за тачкой, а я выпишу ордер на конфискацию.
Кэффри посмотрел на бармена, который лежал и совсем не дышал; и даже кровью больше не брызгал.
— Как ты думаешь, он скончался?
— Иди за тачкой, — сказал Келлехер.
XII
Что ж, я так и буду стоять здесь часами, говорила себе Герти, поглядывая на наручные часы и даже не зная, что обязана их изобретением Блезу Паскалю[*]. Я здесь уже два с половиной часа. Как это утомительно. Я устала, устала, устала. Что ж, я так и буду стоять здесь часами. Все это время эти инсургенты шумели. Поднимались и спускались по лестнице. Похоже, таскали что-то тяжелое, Боже милостивый, может быть, они хотят взорвать почту. Надо спасаться. Спасаться. Нет. Они не взорвут почту. Что ж, я так и буду стоять здесь часами. Но не садиться же мне на этот стульчак. Какой ужас. Эти республиканцы. Вот как они унижают подданную Его Британского Величества. Фу! И здесь без гуннов не обошлось. Не садиться же мне на этот стульчак. Какой позор. Какое унижение. Но я так устала, так устала. О, Боже милостивый, нет, я не могу, я не буду, я не сяду. Если у меня не будет уважительного для этого повода. Если у меня не будет законного на то основания. Так вот же оно, основание. Так вот же оно. Да. Теперь я могла бы сесть. Отдохнуть. Я так устала. Так устала.
XIII
Ящики уиски, «Гиннеса» и пулеметные ленты были осторожно, но беспорядочно водворены в комнату по соседству с маленьким кабинетом, в котором временно находились два трупа британских служащих, пущенных в расход по случаю восстания.
— Все тихо, — сказал Маккормак и поднялся на второй этаж.
Келлехер сидел в задумчивости перед пулеметом. Галлахер и Кэффри — внизу, на крыльце; придерживая ногами винтовки, они вели разные беседы.
— На острове, где я родился, — рассказывал Галлахер, — а он называется Инниски, очень почитают грозы и бури, из-за кораблекрушений. После них мы бегаем по отмелям и собираем все, что выбрасывает море. Можно найти все, что угодно. Хорошо живется на нашем маленьком острове Инниски.
— Зачем же ты оттуда уехал? — спросил Кэффри.
— Чтобы сражаться с англичанами. Но когда Ирландия будет свободной, я вернусь на Инниски.
— Так ты возвращайся прямо сейчас, — сказал Кэффри, — к своим морским отбросам; вдруг тебе повезет?
— Было б здорово. У нас в деревне для этого есть специальный камень.
— Камень?
— Да. Он укутан в фланелевую ткань, как младенец в пеленки. Бывает, что хорошая погода стоит очень долго, жрать нечего, хоть подыхай с голоду, тогда раскрывают камень, проносят его вокруг острова и обязательно вдоль прибрежных скал, и это каждый раз срабатывает: небо чернеет, корабли сбиваются с курса, и на следующий день можно собирать обломки, а среди них все, что угодно: консервы, астролябии, головки сыра, счетные линейки...
— Нарочно не придумаешь, — прокомментировал Кэффри, — уж на что мы отсталые на нашем острове, но с твоим даже не сравнить. К счастью, все это скоро изменится.
— Что значит отсталые?
— Нет ни одной страны в мире, где бы по старинке поклонялись булыжникам. Разве что совсем какие-нибудь дикари, язычники в Австралии или в Мексике.
— Ты, может быть, хочешь сказать, что я — дикарь?
— Конечно же нет, — сказал Кэффри. — Смотри, какая козочка!
Одинокая молодая женщина решительно шла по мосту О’Коннелла.
— А она — ничего! — заметил Галлэхер, обладающий, как и все уроженцы Инниски, отменным зрением.
— Смелая девчонка, — заметил Кэффри, который умел ценить это качество в других, не находя ничего похожего для сравнения в себе самом.
Женщина дошла до угла набережной Иден.
— Хорошенькая, — сказал Галлэхер. — Вроде бы я ее знаю.
— К нам небось, — сказал Кэффри. — Была бы она чуть-чуть покрупнее.
Она перешла улицу и остановилась перед дверью почты. Покраснела.
— Что же вы, мамзель, — обратился к ней Галлэхер, — разгуливаете в такой день? В Дублине сегодня, знаете ли, заваруха.
— Знаю, — ответила девушка, опустив глаза. — Я уже на себе это почувствовала.
— У вас были неприятности?
— А вы меня разве не помните?
— Мне кажется, я вас знаю, но я никому не причинял зла.
— Вы уже забыли? Вы мне... Вы меня... Вы меня пнули ногой.
— Вот видишь, — сказал Кэффри, — ты был некорректен.
— Вы были здесь с остальными почтовыми барышнями?
Смущенный Галлэхер разглядывал ствол своей винтовки.
— Я вернулась за своей сумочкой, которую забыла из-за вас, мужлан вы этакий.
— Мог бы и сам за ней сходить, — сказал Кэффри.
— Дудки! — ответил Галлэхер.
— Ты не галантен, — сказал Кэффри.
— Как будто дел других нету, — проворчал Галлэхер.
— Британцы ведь еще далеко, — сказал Кэффри.
— Так вы не видели мою сумочку? — спросила дамочка. — Она такая зеленая, с золотой цепочкой, а в ней один фунт, два шиллинга и шесть пенсов.
— Не видел, — ответил Галлэхер.
Ему так хотелось ее пнуть или шлепнуть — это уж как придется — по заднице, но Кэффри, похоже, склонялся к этой чертовой корректности, настоятельно рекомендованной Маккормаком, корректности, которая, чего доброго, превратится в настоящую галантность.
— Схожу посмотрю, — сказал он.
— Да брось ты, — сказал Галлэхер.
На пороге появился Келлехер.
— Что-нибудь не так? — озабоченно спросил он.
— Она потеряла свою сумку, — сказал Галлэхер.
— А она — ничего, — оценил Келлехер.
— Ой, ну что вы! — промолвила покрасневшая барышня.
— Раз вы оба остаетесь здесь, — решил Кэффри, — я схожу и поищу ее сумку.
— Ой, ну до чего же вы любезны! — произнесла барышня, залившись румянцем.
— Как будто дел других нету, — проворчал Галлэхер.
XIV
Теперь, когда я уже все сделала, не могу же я оставаться на этом стульчаке. У усталости есть свои пределы. Надо набраться мужества. Мужества. Я должна быть мужественной. Как истинная англичанка. Как подданная Британской империи. О Господи, о мой Король, дайте мне силы. Я встаю. Я спускаю воду. Нет. Не спускаю. Они услышат шум. Это привлечет их внимание. Сила — это еще не значит неосторожность. Между ними большая разница. По крайней мере так говорит Стюарт Милль[*]. Разумеется. Вероятно. Но не сливать воду после того как... гм... это негигиенично. Да. Нет. Действительно. Это негигиенично. Это неприлично. Это не по-британски. Я чувствую, что они рядом. Кажется, я слышу, как они разговаривают. Скоты. Инсургенты. Если они услышат шум сливаемой воды, они вряд ли поймут, что это значит. Они наверняка не знают, что это такое. Все они, наверное, приехали из деревни, а там не существует никакой гигиены. Может быть, кто-нибудь из них приехал чуть ли не из Коннемарры или даже с островов Аран или Блэскет, на которых по-английски не говорят, а коснеют в невежественной кельтской тарабарщине, не ведая публичных туалетов нашей современной и имперской цивилизации, а вдруг кто-нибудь из них приплыл с самого острова Инниски, где, как мне рассказывали, поклоняются укутанному в шерсть булыжнику, вместо того чтобы преклоняться перед святым Георгом или Господом Богом, покровительствующим нашей славной армии. Кроме «Гиннеса» и своих женщин они больше ничего не знают; а все их женщины ходят в гипюре, в гипюре с ирландскими стежками. А это уже выходит из моды. И почему я не поехала во Францию, например в Париж? Здесь не умеют одеваться. А я все-таки кое-что понимаю в новинках моды. Здесь у них одни ирландские кружева на уме.
XV
— Что здесь делает эта дурочка? — раздался голос Ларри О’Рурки.
Три товарища вздрогнули, а пост-офисная красотка густо покраснела.
— Что она здесь делает? — повторил Ларри О’Рурки. — Вы что, в бирюльки сюда пришли играть? Впрочем, — добавил он, оглядев девушку, — есть кого бирюлить.
— Ах! — ахнула девушка, которая все поняла, так как в дублинских почтовых отделениях встречается персонал разнополый и барышням приходится иногда знакомиться с современными понятиями о половой жизни.
— Кто вы такая? — спросил Ларри О’Рурки.
— Она пришла за своей сумкой, — сказал Галлэхер.
— Я как раз собирался за ней сходить, — сказал Кэффри.
— У вас есть дела поважнее, тем более что сейчас начнется. Нам позвонили из Комитета: британцы понемногу оживают.
— Ничего они не сделают, — сказал Кэффри.
— Девушка, вам, во всяком случае, было бы лучше остаться дома, — посоветовал Ларри О’Рурки.
— Наконец-то вы заговорили вежливо. Лучше поздно, чем никогда.
— Кэффри, сходи за ее сумкой, и пусть проваливает.
— А я могла бы сама за ней сходить?
— Нет. Женщинам здесь делать нечего.
— Я пошел, — сказал Кэффри.
Почтовая барышня застыла в ожидании, разглядывая этих людей и удивляясь их необычному виду, странным действиям и болезненному увлечению огнестрельным оружием. Она была брюнеткой, с виду довольно фривольная, роста — невысокого, телосложения — пышного и архитектонического, хотя и скрытого под скромной одеждой. Ее лицо украшали вздернутые к небу ноздри, а в общем и целом было в ней что-то вроде бы испанское.
Что бы там ни было, прошитая свинцовой очередью в живот, барышня рухнула на землю мертвой и окровавленной.
Это подоспели британцы. Они долго раскачивались, но в конце концов раскачались; понабежали со всех сторон, управляясь с оружием более или менее автоматически, повыскакивали справа и слева, наводя на инсургентов прицел более или менее гипотетически.
Келлехер, Галлэхер и Ларри О’Рурки сделали три проворных шага назад и захлопнули дверь. Келлехер прыгнул к «максиму» и принялся поливать — о, вы струи смертоносны! — бульвар Бакалавров. Остальные орудия повстанцев, установленные в других местах, обстреливали мост О’Коннелла, на котором, впрочем, никого не было. От парапетов, битенгов и тротуаров во все стороны отлетали осколки гранита и куски асфальта. То там, то сям заваливались британцы. Их сразу же поднимали и уносили, поскольку медицинское обслуживание у британцев на высоте.
Прошитая барышня из Post Office’а продолжала лежать под окнами. Окоченевшие конечности покойной были воздеты кверху. Из-под задранной юбки торчали ноги в черных хлопчатобумажных чулках. Легкий морской бриз ворошил шуршащие кружева. Выше черных чулок виднелась узкая полоска светлой кожи. Из продырявленного живота вытекала слишком, пожалуй, алая кровь. Лужа расползалась вокруг тела, несомненно девственного и бесспорно желанного, по крайней мере для подавляющего большинства нормальных мужчин.
Галлэхер встал у окна и приложил винтовку к плечу. Слева от мушки он заметил несчастную барышню. Ее ноги. Он полез в карман за патронами и наткнулся на некоторое отвердение своего естества. Галлэхер томно задышал, а его бесполезную винтовку неотчетливо повело из стороны в сторону. В силу чего немало британцев смогли подобраться к мосту О’Коннелла.
XVI
Услышав выстрелы, Каллинен и Диллон прижались к стене. Отважный командир Маккормак встал и запросто подошел к окну, держа в руке револьвер.
— Они на углу набережной Ормонд и Лиффи-стрит.
— Их много? — спросил Диллон.
— Жмутся по углам. Как и вы.
Он прицелился в британца, пробегавшего между штабелями распиленных досок — строительного материала из Норвегии, но не выстрелил.
— Что толку...
Переведя дыхание, Диллон и Каллинен подобрали винтовки и заняли свои места у окон. Этажом выше пулемет Келлехера выпустил две-три очереди.
— Работает, — с удовлетворением отметил Каллинен.
— К ним идет подкрепление со стороны набережной Крэмптон и набережной Эстон, — объявил Маккормак.
Над его головой просвистела пуля, но, будучи отважным командиром, он высунулся из окна.
— Смотри-ка, малышку отсургучили, — произнес он, заметив тело почтовой барышни. — Как же это ее припечатали? — прошептал он. — Бедняжка. И платье задралось. Если бы не шлепнули, умерла бы со стыда. Это некорректно.
Его подчиненные несколько осмелели; забыв об угрожающе-свинцовых воздушных поцелуях, посылаемых британским оружием, они таращили глаза на умерщвленную. Но смотреть сверху было не так уж и интересно, и они снова принялись стрелять.
XVII
«Все-таки, — говорил себе Галлэхер, вытирая липкую руку о штанину, — то, что я сделал, гадко. А вдруг это приносит несчастье и теперь я влипну в какую-нибудь историю? О Дева Мария, заступись. О Святая Дева Мария, понимаешь, это все эмоции».
Около него срикошетила пуля.
Он поднял винтовку, закрыл глаза и выпалил наугад.
XVIII
Кэффри совершил два открытия одновременно: нашел дамскую сумочку и осознал, что все эти сражения ему совсем не по душе. Его, чернорабочего с гиннесовской пивоварни, всегда воротило от английского короля. Сия антипатия к англосаксонско-ганноверскому дому и привела Кэффри к участию в этом ну просто омерзительном бунте. Восстание — это не шуточки. Здесь приходилось несладко. Он слышал, как свистели пули и сыпалась штукатурка.
Он положил сумку на стол, замер и побледнел от рези в животе.
Здорово же его прихватило.
Ни с того ни с сего.
Ему стало стыдно. В силу своей необразованности, то бишь полной безграмотности, он не ведал, что подобное случалось даже с общепризнанными храбрецами. Он уже собирался разрешить эту проблему на месте и даже схватился было за свои изумрудно-зеленые подтяжки, как вдруг ему опять стало стыдно.
Он вспомнил приказ Джона Маккормака о необходимости соблюдать корректность.
Хотя память его была слегка взбудоражена недавними инцидентами, он вспомнил, что видел в коридоре, слева от лестницы, две двери, разительно отличающиеся по виду от дверей кабинетных. Он заметил эти двери мельком, на ходу, во время охоты за медлительными барышнями при захвате объекта. Он подумал, что эти двери могут иметь какое-то отношение к его насущным потребностям.
Уступая во всеуслышание высказанному желанию Маккормака оставить почтовое отделение на набережной Иден после оккупации таким же чистым, каким оно пребывало до, позеленевший Кэффри, ухватившись рукой за живот, побрел к дверям в коридоре, слева от лестницы.
За относительно короткое время взмокший от пота Кэффри добрался до первой из двух дверей. На ней рельефно выступало слово LADIES. Но Кэффри не умел читать даже по-ирландски, чего уж тут говорить про английский, язык мудреный до невозможности. Эти шесть букв казались ему волшебной формулой, способной вернуть временно утраченную доблесть. Он повернул ручку, но дверь не открылась. Он повернул ручку в обратную сторону, но дверь не открылась. Он вернулся к первоначальной тактике, но дверь не открылась. Он потянул дверь на себя. От себя. Дверь не поддавалась. И тут он понял, что она заперта. Это его огорчило, прежде всего из-за сильного желания проникнуть внутрь, а потом как-никак он играл в мировой истории именно в этот момент и конкретно в этом месте, hic et nunc[2], роль инсургента; Кэффри стал обдумывать сложившуюся ситуацию.
Как известно, ирландский менталитет не укладывается в рамки ни картезианского теоретизирования, ни экспериментального изучения. Далекое от французского и английского, достаточно близкое к бретонскому, ирландское мышление более всего полагается на «интуицию». Отчаявшись открыть дверь, инсургент почувствовал ankou[3][*], что там кто-то заперся! От этого Anschauung[4] у него внутри словно все оборвалось. Вытирая пот, стекающий по его инсургентской роже, Кэффри забыл о своих эгоцентрических позывах; вспомнив d’un seul coup d’un seul[5] о своем долге, он решил доложить Маккормаку о только что сделанном открытии.
XIX
Сквозь перестрелку Гертруда различила приближающиеся шаги. Довольно нерешительные. Шел мужчина. Может быть, раненый. Она почувствовала, как он прислоняется к двери. Она увидела, как ручка повернулась влево, потом вправо, снова влево, снова вправо. Она услышала, как он толкает дверь, пытаясь ее открыть. Потом тишина. Затем сквозь перестрелку она различила удаляющиеся шаги. Но теперь уже решительные. Пятка четко отбивала шаг.
Все это время она ни о чем не думала. Абсолютно ни о чем. Затем задумалась, довольно бессвязно, о том, что ее ожидает. Ей не хватало деталей для полного оформления своего страха. А значит, собственно говоря, ей было не совсем страшно. Точнее, совсем не страшно. Она парила над бездной в полном неведении и догадывалась, что события ближайшего будущего превзойдут все ее ожидания.
Она машинально открыла сумочку и достала расческу. У нее была короткая стрижка — новая мода, пока еще редкость в Дублине. Рассмотрев себя в зеркале над раковиной, она себе понравилась. Гертруда нашла себя небезопасно красивой. Она провела расческой по волосам, медленно, спокойно. От слабого прикосновения черепахового гребешка к коже на голове и легкого покачивания сережек ее бросило в очень-очень приятную дрожь. Она пристально посмотрела себе в глаза, как будто желая себя загипнотизировать.
Времени больше не оставалось, перестрелка закончилась.
XX
Перестрелка закончилась. Британцы, определив местонахождение объектов, занятых повстанцами, предались обсуждениям характера тактического и стратегического. Они растянулись вдоль правого берега Лиффи. На левом берегу остановились слева на линии Кейпел-стрит, справа у сходен Старого Дока. Непосредственно на Саквилл-стрит вроде бы все было тихо.
Пользуясь передышкой, Маккормак с помощью Каллинена и О’Рурки баррикадировали окна. Диллон пошел вниз за патронами. Навстречу ему по лестнице мужественно взбирался Кэффри.
— Внизу все в порядке? — спросил Диллон на ходу.
— Гм, — пробурчал Кэффри.
— Что, заморочки?
— Нет, нет.
Маккормак забивал проемы между ставнями бумагами Теодора Дюрана. Он верил в прочность и пуленепробиваемость толстых папок и презирал всю эту бюрократическую канцелярщину. Работал он с удовольствием.
Вот почему он разозлился, когда его отвлекли от приятной и воодушевляющей деятельности.
— Командир, — позвал его Кэффри.
— Чего?
— Командир.
— Ну чего?!
— Командир.
Маккормак повернулся.
— Внизу все в порядке?
— Да.
— Тогда хорошо.
— Не совсем.
— А чего?
— Значит, вот.
— Поживее.
— Внизу...
— Ну?
— В сортире...
— Ну и?
— Кто-то.
— Ну и что?
— Кто-то не из наших.
Маккормак был командиром и благодаря своей командирской сущности соображал быстро.
— Бритиш? — спросил он.
— Возможно, — ответил Кэффри.
Маккормак продолжал размышлять, не останавливаясь на достигнутом.
— Ты его запер?
— Он сам закрылся.
— И перед дверью...
— Что?
— Никого?
— Нет. Я сразу же поднялся, чтобы вас предупредить.
— Он сейчас смоется, — сказал Маккормак.
Кэффри почесал в затылке.
— Как-то не сообразил, — признался он.
И добавил:
— Меня это удивило. Что за дела? Заперся в сортире. Я как-то не сообразил. Я сразу же поднялся, чтобы вас предупредить.
Ларри О’Рурки и Каллинен прислушались.
— Что он там рассказывает? — спросил Каллинен.
— Что он говорит? — поинтересовался О’Рурки.
— Бритиш в уборной, — ответил Маккормак.
— Я думал, что вы освободили все помещения, — сказал О’Рурки, — и удостоверились, что никого не осталось.
— Да, — сказал Маккормак, забыв, что Ларри О’Рурки сам вызвался на эту проверку.
Маккормак пока еще не был стопроцентным командиром. Он не умел ругаться. Что же касается Ларри О’Рурки, получившего некоторое образование, то он явно претендовал на звание младшего командира. К тому же его мысли отличались определенной логичностью.
— Сортир! — воскликнул Кэффри. — Кому в голову придет мысль спрятаться в сортире?
— Нужно уметь предвидеть все хитрости противника, — изрек О’Рурки.
Маккормак с трудом поставил себя на место опытного командира и спросил у Кэффри:
— А как ты его обнаружил?
— Сразу же. Только что.
— Не «когда», а «как»? — переспросил О’Рурки.
— Я искал сумку той девчонки, которая за ней пришла.
— В то время, когда мы сражались, — заметил Маккормак. — Тебе что, делать было нечего?
— Я нашел сумку, когда все еще только начиналось.
— Ну и?..
— И в этот момент я что-то почувствовал, ну вроде как интуиция сработала.
Каллинен вздрогнул от удивления:
— Ankou?
Все сразу же заинтересовались.
— Ну-ка, расскажи, — приказал Маккормак.
О’Рурки пожал плечами. Он молча отошел к окну и заменил на посту Каллинена. Успокоившиеся и задумавшиеся британцы не проявлялись. Наступал вечер. Каллинен подошел к Кэффри.
— Ankou? — переспросил он.
— Да, — ответил Кэффри. — Пули свистели. Летели со всех сторон.
— А Келлехер и Галлэхер? — спросил Маккормак, беспокоясь за судьбу вверенного ему контингента.
— Все в порядке, — ответил Кэффри.
И продолжил:
— Значит, в то время, как на нас поперли, я почувствовал в себе что-то вроде внутреннего голоса, который мне сказал, что рядом кто-то прячется. Тогда, значит, я пошел прямо в сортир. Он был закрыт. Я услышал, как кто-то дышит за дверью.
— А наши покойники? — спросил Маккормак.
— Не думаю, что они ожили, — ответил Кэффри.
Маккормак повернулся к О’Рурки:
— А эта девчонка все еще лежит внизу?
О’Рурки потупил взор:
— Да. Хорошо бы накрыть ее чем-нибудь. А то она выглядит неприлично.
— От трупов надо бы избавиться, — сказал Маккормак.
— Ну? — спросил Каллинен у Маккормака.
— Это действительно было ankou? — спросил Маккормак у Кэффри.
О’Рурки не оборачиваясь проронил:
— Если внизу действительно кто-то есть, нужно им заняться.
— Да, — ответил Кэффри Маккормаку. — Что-то вроде голоса, который со мной разговаривал.
— Я спущусь с тобой, — сказал Маккормак Кэффри. — Остальные останутся здесь.
Он вытащил револьвер.
Каллинен обратился к Кэффри:
— Ты потом мне об этом еще расскажешь.
Маккормак и Кэффри вышли из комнаты и начали медленно спускаться по лестнице. Навстречу им поднимался Диллон с патронами.
XXI
Услышав шаги на лестнице, Келлехер и Галлэхер обернулись и увидели Маккормака и Кэффри, которые медленно спускались с кольтами в руках. Спустившись, они повернули налево и направились по коридору. Келлехер и Галлэхер вернулись на свое место. Наступал вечер. Улицы были пустынны. Британцы не проявлялись. Света нигде не было. Из-за крыши показался краешек луны. В ее свете нежно задрожала Лиффи. Город пребывал в глубокой тишине.
Вдруг Келлехер и Галлэхер услышали женский крик. Они обернулись. За криком последовали другие, более глухие звуки. Потом снова женский крик, восклицания и ругательства. После этого в потемках очертились два их товарища, тянущие за собой какую-то тень; пленница почти перестала сопротивляться и больше не кричала.
— Что случилось? — спросил Галлэхер без особого волнения.
— Да вот спряталась здесь одна козочка, — ответил Кэффри. — Сейчас будем допрашивать.
— Лучше бы выставили ее вон, — предложил Галлэхер.
— Кстати, — сказал Маккормак, — хорошо бы накрыть чем-нибудь девчонку, которая лежит перед домом.
— А что, если вынести наружу и тех двоих? — предложил Галлэхер. — И тоже накрыть чем-нибудь?
— Ну так мы будем ее допрашивать? — спросил Кэффри.
Маккормак и Кэффри не двигались, Гертруда прислонилась к стене. Они держали ее за запястья. Склонив голову, она молчала.
— Накройте чем-нибудь девчонку, которая лежит перед домом, — сказал Маккормак. — Те двое подождут.
— Как подумаешь, что придется провести ночь с мертвяками, — сказал Галлэхер, — волосы встают дыбом.
— Можно вынести их наружу, — предложил Келлехер. — И свалить на углу, пока британцы дрыхнут.
— Чего мертвых-то бояться? — сказал Маккормак. — Не страшнее живых.
— Будем ее допрашивать? — спросил Кэффри. — Вопросы какие-нибудь задавать?
— Пойду накрою чем-нибудь девчонку, которая лежит перед домом, — сказал Галлэхер.
— Подожди, когда совсем стемнеет, — сказал Маккормак.
Галлэхер приник к амбразуре, оставленной в забаррикадированном окне.
— Прищурив глаза, — сказал он, — я еще могу различить ее посмертные останки. У нее такой вид, будто она ждет своего возлюбленного. Просто наваждение какое-то. Просто наваждение. Да и остальные трупы скоро вылетят из своего чулана, верхом на метле, да как начнут покачиваться в воздухе и постанывать. Лица у них будут зеленые, а саваны — фальшивые.
Он повернулся к Маккормаку:
— Не нравится мне все это. Лучше побросать их всех в Лиффи. И девчонку тоже.
— Мы не убийцы, — сказал Маккормак. — Ну же, Галлэхер, побольше мужества. Finnegans wake!
— Finnegans wake! — ответил Галлэхер, облизывая пересохшие губы.
Раздались приглушенные всхлипывания. Это Кэффри провел рукой по ягодицам Герти.
— Я же тебе сказал, что все должно быть корректно, — проворчал Маккормак.
— А вдруг она прячет оружие.
— Довольно.
Они подвели Герти к лестнице и начали подниматься. Герти безвольно спотыкалась. Она уже перестала плакать. Двое часовых снизу проводили взглядом поднимающихся, потом вернулись на свое место. Ночь была уже тут как тут, темнющая, со сверкающей дыркой полной луны.
— Собака, — вдруг прошептал Галлэхер.
И добавил:
— Она ее учуяла. Вот сука!
Он приложил винтовку к плечу и выстрелил.
Это был первый выстрел за ночь. Он странно прозвучал в тишине замятеженного города. Собака залаяла. Затем побежала прочь, подвывая страдальчески и патетически. Чуть дальше раздался второй выстрел, и все снова затихло. Британская пуля прикончила циничного зверя.
— К чертям собачьим все эти трупы! — сказал Галлэхер.
Келлехер не ответил.
XXII
Через несколько секунд Галлэхер нарушил молчание:
— Как ты думаешь, мы тоже будем ее допрашивать?
Келлехер не ответил.
Галлэхер боялся растратить всю свою доблесть на словоохотливость; к собеседнику он больше не приставал, и не поддерживаемый более разговор оборвался. Галлэхер им воспользовался, чтобы прислушаться.
XXIII
Они зажгли маленькую свечку. Диллон занял пост у окна. Маккормак сидел за столом сэра Теодора Дюрана; справа от него находился Ларри О’Рурки. Каллинен и Кэффри стояли по обе стороны от Герти; девушку посадили на стул и слегка привязали, хотя и бережно.
— Имя, фамилия, род занятий, — начал Маккормак.
Потом повернулся к О’Рурки и спросил у него:
— Так?
Ларри кивнул головой.
— Записывать будем? — спросил Маккормак.
— Не стоит, — ответили все хором.
Маккормак начал снова:
— Имя, фамилия, род занятий?
— Гертруда Гердл, — ответила Гертруда Гердл.
Раньше она уже сиживала на этом стуле, за этим столом; но тогда в этом кресле восседал почтенный чиновник, в летах, питавший зернами нежности голубей своего сдержанно-платонизированного желания. Но господина Теодора Дюрана шлепнули, и (не ведая того) сидела она теперь перед республиканцем вида явно террористического.
Впрочем, внешность довольно приятная. Хотя одет неважно.
Зато другой, рядом с ним, тот действительно хорош. Наверняка джентльмен. И ногти чистые.
Справа и слева — чурбаны. Эти-то уж точно республиканцы. Они связали ей руки. Правда, старались, чтобы ей было не очень больно. Зачем?
У окна с ружьем в руке стоял еще один. Тоже ничего.
Все пятеро — мужчины довольно привлекательные. Но, за исключением помощника допрашивающего, люди явно невоспитанные.
И ни один из них ни разу в жизни не пел God Save the King[6]. Деревенщина.
— Род занятий? — снова спросил Маккормак.
— Почтовая служащая.
— Да ну? — сказал Кэффри, имеющий по этому поводу свое собственное мнение.
— Из какого отдела? — спросил Маккормак.
— Заказные отправления.
Теперь она смотрела на них без всякого страха. Они не могли ее как следует разглядеть. Светлые волосы на ее голове были до смешного коротко подстрижены. Девушка была высокой. Свеча освещала две выпирающие части корсажа, успокоенное и на глазах хорошеющее лицо. Чувственно очерченные, хотя и ненакрашенные, пухлые, искусанные губы. Холодные голубые глаза. Строгий прямой нос.
Маккормак, сбитый с толку заказными отправлениями, задумчиво протянул:
— Так, так, заказные...
Кэффри в глубине души считал, что девицу нужно расспросить о деятельности этого отдела. Девица казалась ему подозрительной. Диллон и Каллинен, олицетворение строгости и справедливости, с выводами не спешили.
Маккормак повернулся к Ларри О’Рурки. Интеллигентное лицо лейтенанта, казалось, скрывало под эпидермическим покровом какую-то забродившую мысль.
Вопрошающий взгляд Маккормака остановился на Кэффри.
— Пускай объяснит, почему она находилась там, где находилась, — предложил Кэффри.
Герти зарделась. Неужели ей будут все время напоминать о постыдности этого убежища, еще более постыдного от его непроизвольности. Вспомнив о самом убежище, — что делать, когда тебя вынуждают? — она побагровела.
— Эту деталь мы могли бы оставить в стороне, — смущенно произнес Маккормак.
И покраснел густо, темно-вишнево. О’Рурки сохранял вид напряженного мыслителя. Остальные засмеялись грубо и даже как-то невежливо.
Герти заплакала.
Маккормак стукнул кулаком по столу и заорал, отчего вишневость на его лице слегка посветлела.
— Я сотню раз вам говорил, — кричал он, — что все должно быть корректно. Я тысячу раз вам говорил, черт побери, и вот вы все насмехаетесь над девушкой, которая стыдится того, что с ней произошло.
Герти зарыдала.
— Мы — повстанцы! — завопил Маккормак. — Но повстанцы, которые ведут себя корректно. Особенно по отношению к дамам! Finnegans wake, товарищи! Finnegans wake!
Маккормак выпрямился.
Остальные встали по стойке «смирно» и решительно гаркнули:
— Finnegans wake!
— Какой ужас! — прошептала Герти сквозь крупные, как горошины, и красивые, как жемчужины, слезы.
Маккормак сел, Ларри тоже. Остатьные расслабились.
Диллон сказал Каллинену:
— Твоя очередь заступать на пост.
— Не мешай ведению допроса, — сказал Кэффри.
— Да, — сказал Маккормак.
— Подожди немного, — сказал Каллинен. — Думаешь, очень забавно ее держать?
— Ты мог бы быть повежливее с девушкой, — сказал Ларри О’Рурки.
— Я что-то не пойму, — сказал Каллинен.
— Заткнитесь, — сказал Маккормак.
— Все равно непонятно, — сказал Кэффри. — Если она ни в чем не виновата, то тогда какого хера она торчала в сортире, эта никчемная чувырла, которая называет себя почтовой служащей? А? Какого хрена она дрючилась на очке, эта великобританская шлюха? Эта замороченная мымра!
— Все, — сказал Маккормак.
Он раз, еще раз, еще много, много раз стукнул по сукну стола и, следовательно (косвенно), по самому столу.
— Все! Все! — сказал он.
И добавил, обращаясь к девушке:
— Это все-таки подозрительно.
Герти посмотрела ему прямо в глаза, отчего у Маккормака в области мочевого пузыря возникло ощущение легкого пощипывания. Он удивился, но ничего не сказал.
— Я припудривалась, — сказала Герти.
Маккормак, утонув взглядом в голубоокости девушки, не сразу уловил смысл ответа. Кэффри, более проворный в понимании своего непонимания, живо отреагировал:
— При... что?
— Припудривалась, деревня, — ответила Герти, осмелевшая от маккормаковского взгляда, который ей, утопающей, представился спасительной соломинкой.
Что касается взмокшего от смущения Маккормака, то он чувствовал, как эта соломинка превращается в самый настоящий трамвайный токоприемник. Ларри О’Рурки эволюционировал аналогично, но более интеллектуально, чем его командир; физиология лейтенанта подверглась меньшему напряжению, зато сердечную систему тряхануло изрядно. Впрочем, ни тот, ни другой еще не осознали сходства своих конвергенций.
— Припудривалась, — стояла на своем Герти, — да, припудривалась, недостойный ирландский террорист! И вообще, отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите, я вам говорю! Развяжите мне руки! Развяжите мне руки!
И снова разразились рыдания.
Маккормак почесал в затылке.
— Может быть, действительно развяжем ей руки? — сказал он.
Осторожно так. Но все-таки сказал. Он, Маккормак.
— Может быть, — сказал Ларри О’Рурки.
— Ага, — сказал Кэффри, — а она, чего доброго, на нас бросится.
— Мое дежурство на посту закончилось пятнадцать минут назад, — сказал Диллон. — Ептыть.
При последнем слове рыдания Герти усилились.
— Давай, — сказал Маккормак Каллинену.
— Так развязываем или нет? — спросил Каллинен.
— Дудки! — сказал Кэффри.
— Хватит, — сказал О’Рурки.
— Так что?
Они немного послушали, как она рыдает.
Умиротворенная ночь сдавливала ослепительную луну своими черными, как сажа, ягодицами, пух созвездий едва шевелился от дуновения традиционного бриза, звучащего на волнах Гольфстрима. Гражданские лица, терроризируемые террористами, терлись по углам, военнообязанные, наведя оружие, соблюдали по стратегическо-тактическим причинам спокойствие этих нескольких ночных часов, которые своим мутным светом были обязаны рассредоточенному присутствию пары тысяч светил, не считая планет и спутников, из которых самым значительным — относительно — считается, судя по всему, спутник, ранее упоминавшийся.
В такой оглушительной тишине все воспринимаешь сердцем. Или еще ниже, органами совокупления. О, эфирная музыка сфер! О, эротическая мощь космических шестнадцатых долей, стираемых фатальным и гравитационным стремлением мира к небытию!
На полированную и прозрачную поверхность молчания одна за другой падали Гертины слезы, хрустальные и соленые.
До молодцев-повстанцев понемногу начало доходить, что корректность — это все-таки некая сдержанность или хотя бы попытки сдерживания примитивных рефлексов.
Они вздохнули; она продолжала рыдать.
— Мы остановились на припудривании, — сказал Маккормак.
— Развязываем или нет? — спросил Каллинен.
— Мое дежурство уже давно закончилось, — произнес Диллон.
— Черт возьми, — сказал О’Рурки. — Давайте серьезно.
— Да, — сказал Кэффри. — Давайте ее допросим.
— Мисс, — сказал Маккормак, — вы сказали, что припудривались. Мы ждем ваших разъяснений.
— Припудривалась! — воскликнул Кэффри. — Да, припудривалась! Хотелось бы знать, что это значит!
Руки Герти были связаны, она не могла вытереть ни жидкость, что струилась из глаз, ни ту, что текла из ноздрей.
Она шмыгнула носом.
Маккормак почувствовал, как в нем зарождается что-то вроде доброжелательности.
— Одолжи ей свой платок, — сказал он Кэффри.
— Мой что? Ты что, смеешься?
Чтобы вытолкнуть соплю, Кэффри ни в каких тряпках не нуждался.
— Держите, — сказал Каллинен. Он вынул из кармана большой зеленый платок, украшенный по краям золотыми арфами[*].
— Ни фуя себе! — воскликнул Кэффри. — Вот это элегантность!
— Подарок моей невесты, — объяснил Каллинен.
— Какой именно? — спросил Кэффри. — Той, что работает официанткой в Шелбурне, или другой, из Мэпла?
— Болван, — сказал Каллинен, — с той, что из Мэпла, уже месяц, как все кончено.
— Так, значит, тебе его подарила Мод?
— Да, она настоящая националистка[*].
— И фигурка у нее тоже что надо. Тебе повезло.
Ларри О’Рурки прервал завязывающуюся беседу.
— Вы кончили? — холодно спросил он.
Вмешался Маккормак.
— Ну, давай вытри ей нос, — сказал он Каллинену.
Каллинен принял озадаченный вид.
— Я платок запачкаю, — проворчал он. — Как-никак подарок. А эта англичанка замызгает своими гнусностями мои красивые шелковые арфы. Нет, не дам. Я не согласен.
Он сложил платок и сунул его в карман. От этого акта неповиновения Маккормак нахмурил брови.
Он не знал, что делать.
Затем повернулся к Ларри:
— Тогда ты.
— Это как оказание медицинской помощи, — сказал Кэффри в сторону.
О’Рурки бросил на него суровый взгляд. Кэффри парировал безразличным. О’Рурки встал, обошел стол и приблизился к девушке. Вынул из кармана платок, почти чистый, так как в течение последних трех дней Ларри им почти не пользовался, имея кожу непотливую и будучи — если можно так выразиться — насморкоустойчивым. Он развернул этот туалетный аксессуар и сильно его тряханул, дабы удалить крошки табака или нитки, которые могли в нем затеряться.
Герти Гердл с ужасом наблюдала за его приготовлениями.
XXIV
Галлэхер, одуревший от отражений луны в водах Лиффи, принялся размышлять вслух:
— Я есть хочу.
— Да, — ответил Келлехер, — можно было бы перекусить.
Галлэхер вздрогнул:
— Что ты сказал?
— Я сказал, что можно было бы перекусить. Продукты там, в кабинете.
— А мертвые?
— Пускай лежат где лежат.
— И ты туда пойдешь?!
— А ты есть хочешь?
Галлэхер отошел от бойницы и в темноте приблизился к Келлехеру. Сел возле него.
— Ох, эти мертвые, мертвые...
— Оставь их в покое.
— А еще эта девчонка перед домом. Не могу заставить себя не смотреть на нее. Собаки больше не бродят вокруг. Я считаю до двухсот и на счет «двести» бросаю взгляд вниз. А у нее по-прежнему такой вид, будто она ждет, что на нее кто-нибудь залезет. А как ты думаешь, она действительно была девушкой? Что она умерла, так и не познав любви?
— Черт, — сказал Келлехер, — я есть хочу. Ты видел, по-моему, там были омары.
— А другая, внизу? — прошептал Галлэхер. — Как ты думаешь, они ее все еще допрашивают? Ничего не слышно.
— Может быть, будут допрашивать завтра?
— Нет. Они наверняка допрашивают ее сейчас. Послушай.
Они прислушались.
— Ничего не слышно, — вздохнул Галлэхер.
— Дело нешумное, — сказал Келлехер.
— Что ты хочешь этим сказать? — Говорил он очень тихо.
— Скоро мы тоже пойдем ее допрашивать, — ответил Келлехер. И негромко засмеялся.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Болван. Ладно, я есть хочу. Принести тебе омаров?
— Ну и жизнь! — пробурчал Галлэхер. — Если бы не эти мертвецы...
— Хочешь, я их разбужу? — спросил его Келлехер.
Галлэхер вздрогнул. Встал и вернулся на свой пост.
Бросив взгляд вниз, увидел мертвую девушку. Луна по-прежнему прыгала по воде. Серебристочешуйчатая Лиффи по-прежнему скользила между набережными, с виду пустынными, а на самом деле битком набитыми вражескими солдатами. Галлэхер глубоко вздохнул, подумал о будущем своей страны и сказал Келлехеру:
— Ну, хорошо, неси омаров.
XXV
Закончив процедуру, О’Рурки тщательно сложил свой платок и сунул его в карман. Вернулся и сел рядом с Маккормаком. Возникла пауза.
Диллон подошел к Каллинену и сказал:
— Сейчас же твоя очередь дежурить, разве не так?
Каллинен молча занял место Диллона. Посмотрел в бойницу, увидел серебристочешуйчатую Лиффи, по-прежнему скользящую между набережными, с виду пустынными, а на самом деле битком набитыми вражескими солдатами, и ему послышалось, будто какой-то мужской голос четко и решительно произнес слово «лобстер», что по-ирландски значит: «омар». Он вдруг почувствовал, что хочет есть, но ничего не сказал. Маккормак кашлянул.
— Допрос продолжается, — сказал он.
Герти вроде бы успокоилась. Она вновь обрела свое британское мужество. Почувствовала себя сильной и уверенной. Впрочем, теперь она была убеждена, что ей больше не будут задавать вопросы относительно ее присутствия в туалете, выясняя причины туда-ее-прибытия и там-ее-пребывания.
Она раскрыла свои голубые глаза и посмотрела в лицо Ларри О’Рурки; лицо покраснело, но сам Ларри О’Рурки даже не дрогнул. Он склонился к командиру и что-то прошептал ему на ухо. Маккормак утвердительно кивнул. Ларри повернулся к пленной и сказал:
— Мадемуазель Гердл, что вы думаете о непорочности Богоматери?
Герти обвела их внимательным взглядом и холодно ответила:
— Я знаю, что вы все паписты.
— Кто? — спросил Кэффри.
— Католики, — пояснил Каллинен.
— Она что, нас оскорбляет? — спросил Кэффри.
— Тихо! — крикнул Маккормак.
— Мадемуазель, — сказал О’Рурки, — отвечайте на вопрос прямо: да или нет.
— Я его уже забыла, — сказала Герти.
Возмущенный Кэффри тряханул ее:
— Она что, выдрючивается?
— Кэффри! — взорвался Маккормак. — Я же тебе сказал вести себя корректно!
— Что, так и будем слушать, как она над нами издевается?
— Сейчас допрашиваю я, — сказал О’Рурки.
Кэффри пожал плечами.
— Доверили б ее мне на полчасика, — прошептал он, — и тогда посмотрели бы, захочет ли она по-прежнему над нами издеваться или нет.
Герти подняла голову и внимательно его оглядела. Их взгляды встретились. Кэффри покраснел.
— Мадемуазель, — сказал О’Рурки.
Герти повернула голову в его сторону.
— Я спросил у вас, верите ли вы в непорочность Богоматери?
— В не... что?
— В непорочность Богоматери.
— Не понимаю, — сказала Герти.
— Еще бы, это настоящее таинство, — заметил Диллон, который очень хорошо знал катехизис.
— Она не знает, кто такая Богоматерь! — воскликнул возмущенный Каллинен.
— Да, настоящая протестантка, — сказал Кэффри с отсутствующим видом.
— Нет, — возразила Герти, — я — агностик.
— Кто? Кто?
Кэффри распирало от злости.
— Агностик, — повторил О’Рурки.
— Ну и ну, — сказал Кэффри, — сегодня мы узнаем много новых слов. Сразу видно, что мы в стране Джеймса Джойса[7].
— И что это значит? — спросил Каллинен.
— Что она ни во что не верит, — сказал О’Рурки.
— Даже в Бога?
— Даже в Бога, — сказал О’Рурки.
Воцарилось молчание, и все посмотрели на девушку с изумлением и ужасом.
— Не совсем так, — мягко возразила Герти, — мне кажется, вы упрощаете мою мысль.
— Сука, — прошептал Кэффри.
— Я не отрицаю возможность наличия Высшего Существа.
— Ну, бля, дает, — прошептал Кэффри.
— Давайте заткнем ей рот, — сказал Каллинен.
— И питаю самое глубокое уважение к нашему достойному королю Георгу Пятому.
Опять глубокое молчание и всеобщее изумление.
— Да что же это... — начал Маккормак.
Он не закончил фразы. Пулеметная очередь прошлась по стене почты; осколки стекла от забаррикадированных окон посыпались на улицу. Две-три жужжащие пули залетели в комнату. В ответ на первом этаже застрочил пулемет Келлехера.
Мужчины бросились плашмя на пол и поползли к своим винтовкам. Стул с привязанной к нему Герти перевернулся; девушка лежала в самой неудобной позе и дрыгала ногами. Открывшиеся таким образом ноги оказались худенькими, но точеными: их облегала дорогая материя, не иначе как шелковая. Подобрав револьвер, Ларри на четвереньках подполз к пленнице и одернул ей юбку. Затем присоединился к сражающимся товарищам. В этот момент Герти поняла, что одному инсургенту она уже понравилась.
XXVI
— Хорошо еще, что успели доесть омаров! — сказал Галлэхер, высмотрев тень за штабелем досок.
Келлехер зарядил пулеметную ленту.
Галлэхер выстрелил. Тень пошатнулась.
— Вот придурки! Чего они ночью-то суетятся? — сказал Галлэхер. — Мертвых прибавится, и их души не дадут нам покоя.
Он выстрелил еще раз. Тень снова неудачно качнулась и бултыхнулась в воду у дальнего конца моста.
— А душу этого, — сказал Галлэхер, — съедят омары.
Келлехер дал несколько судорожно-коротких очередей. Наступила передышка.
— Интересно, что сталось с той девчонкой, наверху? — задумчиво произнес Галлэхер.
Тени опять зашевелились.
XXVII
На скачки было заявлено семь скакунов. Их продемонстрировали и привязали в ряд у стартовой черты. Все лошади были черные, с выдающимися и блестящими крупами. Они постоянно взбрыкивали и лягали друг друга. Крайняя левая передними копытами зашибла насмерть свою соседку. На шее агрессивной кобылы обнаружили следы когтей гориллы. Оказывается, до этого ее водили в зоопарк.
Как известно, Дублинский зоопарк находится в трех четвертях мили от входа в Феникс-парк и в полумиле от трамвайной линии, которая проходит вдоль северной кольцевой дороги. Рядом располагаются Народный парк, казарма полиции и солдатская казарма Марбороу. Сам по себе зоопарк не очень большой, но посещения вполне заслуживает, так как его отлично обустроили. Гвоздем, если так можно сказать, программы считается павильон со львами из восьми клеток. Что касается горилл, то их в это время вообще не было. Командор Сидней Картрайт проснулся не от этого несоответствия, а от настойчивого стука в дверь своей каюты.
Он быстро привел себя в порядок и пригласил войти. Вошедший матрос встал по стойке «смирно» и вручил телеграмму. Картрайт принялся ее расшифровывать. Так он узнал о дублинском восстании.
«Яростный» должен был подняться вверх по течению Лиффи и обстрелять, в зависимости от обстановки, разные указанные объекты, в частности почтовое отделение на углу набережной Иден.
Картрайт встал и повел себя как примерный (каковым он и являлся) офицер британского флота. Что не помешало ему задуматься об участи своей невесты, Герти Гердл. О ней в телеграмме не было, разумеется, ни слова. Телеграмма была официальной, общей и сводной и, следовательно, никак не могла затрагивать отдельности, частности и конкретности.
Считанные минуты спустя Картрайт уже стоял на юте; у него щемило сердце, сдавливало грудь, сводило живот, пересыхало во рту и стекленело в глазах.
XXVIII
Сражение прекратилось точно так же, как началось, без какой-либо видимой причины. Британцам вроде бы похвастаться было нечем. Они наверняка потеряли немало людей. В почтовом отделении на набережной Иден раненых не было. На втором этаже после нескольких минут молчания пять мужчин обменялись взглядами. Маккормак наконец решился сказать, что, похоже, все закончилось; Ларри О’Рурки кивнул.
— Продолжаем допрос? — спросил Кэффри.
Привязанная к стулу девушка по-прежнему лежала на полу и не двигалась.
Диллон направился к ней, чтобы водрузить ее на место, но О’Рурки его обогнал. Подхватив Герти под мышки, он восстановил конструкцию на всех шести точках опоры. На какое-то мгновение руки его задержались у нее под мышками, теплыми и чуть влажными. Он медленно убрал руки, провел ими, просто так, перед своим лицом и слегка побледнел. Кэффри невозмутимо разглядывал товарища.
О’Рурки занял свое место рядом с Маккормаком. Тот плюхнулся на свое и потер глаза: его клонило в сон.
— Продолжим, — сказал он. — Кэффри, сейчас твоя очередь заступать на дежурство, правда?
— Да, — сказал Кэффри. — Я пошел. Этот допрос меня достал. Я представлял себе все совсем по-другому.
Он отошел к бойнице, и его глаза больше не отрывались от этого проема в военно-строительном зодчестве. Маккормак повернулся к Ларри:
— Спрашивай дальше.
— Неужели не видно, что она не того... не католичка? — сказал Каллинен.
— Она ни во что не верит, — добавил Диллон.
— Мы что, будем все ночь здесь сидеть и изводить эту девчонку? — спросил Каллинен. — Командир, пора бы и на боковую. Завтра будет тяжелый день. Наше восстание — это все-таки не шутка.
Возникла странная пауза. О’Рурки поднял голову и сказал Каллинену:
— Хорошо, Каллинен. Ты прав. Конечно. Я бы только хотел задать девушке два-три вопроса.
— В общем-то, мы можем еще немного подождать, — сказал Каллинен.
Сидящий в углу Кэффри пожал плечами. Вытащил из диванного валика перо и стал ковыряться в зубах, не отрывая взгляда от моста О’Коннелла, в общем-то безлюдного.
— Ну, давай, — сказал Маккормак.
О’Рурки собрался и приступил:
— Девушка, только что вы продемонстрировали весьма агрессивное или, по крайней мере, не чуждое атеистическому отношение к конфессиям. Однако, судя по всему, вы отклоняете любые обвинения в скептицизме, если я правильно понял смысл речей, которые вами были произнесены до того, как были прерваны замечаниями моих товарищей по оружию.
Кэффри даже не пошевелился. Ларри продолжил:
— Да. Мне думается, что вы отвергаете Бога нашего единого не полностью. Но что же, в таком случае, вы признаете? Королевскую власть?
Не поднимая головы, Герти спросила:
— Кто вы такие, чтобы меня об этом спрашивать?
— Мы бойцы Ирландской Республиканской армии[*], — ответил О’Рурки, — мы боремся за свободу нашей страны.
— Вы — бунтовщики, — сказала Герти.
— Конечно. Они самые.
— Вы взбунтовались против Английской короны, — продолжала Герти.
Кэффри в сердцах уронил на пол винтовку. Герти вздрогнула.
— Вы не имеете права бунтовать, — заявила она.
— Это уж слишком, — сказал Каллинен. — Давайте закроем ее в соседней комнате и отдохнем немного, а то дело принимает серьезный оборот.
Маккормак зевнул.
— Еще одну минуту, — настоял Ларри. — Мы должны знать своих противников.
— Можно подумать, что мы их не знаем, за столько-то веков, — возразил Диллон, которого начинало клонить ко сну.
— Она верит королю и не верит в Бога! — воскликнул Ларри. — Странно и поразительно, не правда ли?
— Да, действительно любопытно, — сказал Маккормак с отсутствующим видом. — А вам что, в самом деле так нравится ваш король? — небрежно добавил он, обращаясь к Герти.
— Вид у него довольно-таки дурацкий, — сказал Каллинен.
— Покажи ей портрет, — сказал Маккормак. — А то ей не видно.
Каллинен забрался на стул и снял с противоположной стены фотографию короля. Случайная пуля оцарапала стекло и отколола уголок рамки. Символ терял достоинство на глазах. Каллинен прислонил его к картотеке и передвинул свечу для подобающего освещения.
Герти посмотрела на портрет.
— Утонченным никак не назовешь, — прокомментировал Ларри О’Рурки. — Его лицо не светится ни умом, ни решительностью. И эта посредственность является символом угнетения сотен миллионов людей несколькими десятками миллионов британцев! Но угнетенные более не вправе с восторженным самозабвением созерцать эту пресную физиономию, и вы, мисс, наблюдаете сейчас и здесь первые результаты критического осмысления.
— Во дает, — с одобрением произнес Каллинен.
— Мне больше нечего сказать. Боже, храни Короля! — произнесла Герти.
— Но вы ведь сами не верите в Бога. Кто же его будет хранить?
— Боже, храни Короля! — повторила Герти.
— Вот дура! — воскликнул Каллинен.
— Чего доброго, возомнит себя Жанной д’Арк, — заметил Диллон.
— Неужели непонятно, что ваш король — мудак? — завопил Маккормак (он завопил, чтобы стряхнуть с себя сон, который опутывал его со всех сторон). — Доказательства? Пожалуйста: он никак не может победить немцев, цеппелины бомбят Лондон, тысячи английских солдат гибнут в Артуа[*], и только для того, чтобы французы смогли установить свое господство в Европе. Глупее не придумаешь!
— Да, это правда, — согласилась Герти.
— Вот видите! И в Ирландии все знают, что он предается тайному пороку и от этого настолько тупеет, что не способен уже ничего понять. Вот.
— Вы так думаете? — спросила Герти.
— Именно. Бедный сир, бедный херр, вот кто он такой, ваш король. Я повторяю: мудак ваш король.
— Но ведь если Король Англии мудак, тогда все дозволено!
XXIX
— А мы имеем право спать? — внезапно спросил Келлехер.
— Лично мне не хочется, — сказал Галлэхер.
— Сколько времени? Луна заходит.
— Три часа.
— Как ты думаешь: они еще будут нас атаковать сегодня ночью?
— Не знаю.
— Я бы чуть-чуть поспал.
— Спи, если хочешь. Я посторожу.
— А это разрешается?
— Отдохни, старина, если хочешь. Я не хочу.
— Ты не хочешь спать?
— Нет. Рядом с мертвецами — нет.
— Не думай о них.
— Легко сказать.
— Наверху тихо.
— Думаешь, наши спят?
— Не знаю. Ты видел лицо девчонки, которую вытащили из туалета?
— Нет. Я не могу забыть лицо другой, той, что всю ночь лежит на улице перед домом.
— Не думай о ней.
— Легко сказать. — Галлэхер вздрогнул. — Келлехер, прошу тебя, не спи. Не оставляй меня одного. Не оставляй меня наедине с мертвецами.
— Ладно, не буду.
— Я бы не побоялся лечь рядом с той девчонкой, что на улице; заметь, я сказал: рядом с ней, а не на нее. Но эти два англичанина в соседней комнате не дают мне покоя. Они наверняка на нас рассердились. Особенно за то, что их свалили в кучу. Конечно, они наши враги, но зачем их унижать?
— Ты мне надоел.
Келлехер встал:
— Пожалуй, хлебну уиски.
— Передашь потом мне.
Они начали хлебать по очереди и осушили таким образом всю бутылку.
— А завтра будут другие, — сказал Келлехер.
— Кто другие?
— Мертвецы.
— Да. Возможно, мы.
— Возможно. Я бы немного вздремнул.
— Мне страшно, — сказал Галлэхер. — Мертвецы совсем рядом.
Он вздохнул.
Келлехер запустил бутылку из-под уиски в стену. Бутылка разбилась, но как-то неотчетливо.
— У меня идея, — сказал Келлехер.
Галлэхер вопросительно рыгнул.
— Выкладывай свою идею.
— Так вот, — сказал Келлехер. — От трупов надо избавиться.
— И как? — икнул Галлэхер.
— Взять и утопить. Помнишь, ты завалил одного типа, который сразу же шлепнулся в воду. Теперь он тебя не беспокоит. Я предлагаю вот какую штуку: погрузим мертвецов в тачку всех сразу или по одному, если все не поместятся, и выбросим их в Лиффи. А завтра, когда полезут британцы, встретим их на свежую голову и с очищенной совестью, такой же чистой, какой будет наша Ирландия, когда мы победим.
Галлэхер закричал:
— Да, да! Вот именно! — и бестолково заметался по комнате. — Это была моя идея! Это была моя идея!
— Хотя это довольно рискованно, — заметил Келлехер.
— Да, — согласился утихомирившийся Галлэхер. — Этих двоих еще можно докатить до набережной, а вот как подобрать девчонку на улице?
— Да, — сказал Келлехер, — придется подсуетиться.
— А что на это скажет Маккормак? — спросил Галлэхер.
— Возьмем все на себя. Личная инициатива.
— Ладно. Все равно. Иначе я до самой смерти буду переживать.
— Ты мне поможешь грузить тех двоих в тачку и подтащишь девчонку. Как только окажешься у самой воды, я подкачу с тачкой, и мы свалим их всех сразу. Чтобы бултыхнуло один раз. Затем отбежим назад — и все дела.
— Спасибо, что доверил мне девчонку, люблю молоденьких, — пошутил Галлэхер, повеселевший от мысли, что враз сможет избавиться от трех призраков.
— Тогда за работу, — крикнул Келлехер.
Они покинули пост и пулемет и без особых колебаний, несмотря на темноту, двинулись в сторону кабинета, где были сложены служащие. Келлехер взялся открыть дверь и сделал это совершенно бесшумно; мертвецы мирно лежали в ожидании. Сначала повстанцы перевалили в тачку сэра Теодора Дюрана, затем отправились за привратником, и тут стало ясно, что вместить оба тела в одно средство передвижения довольно трудно. Поразмыслив, они решили уложить передвиженцев валетом.
Потом разбаррикадировали входную дверь. Келлехер ее приоткрыл, а Галлэхер в нее проскользнул и выбрался на улицу. Сполз по ступенькам и, пресмыкаясь, прополз до мертвой девушки. Он плохо различал ее в темноте. Ему показалось, что ее глаза приоткрыты, а рот — разинут; он посмотрел на небо. Многочисленные звезды сверкали, луна заходила за крышу пивной «Гиннес». Британцы не реагировали. Лиффи, омывая набережные, издавала легкие всплески. Так события и развивались: в полном мраке и спокойствии.
Окинув взором горизонт, Галлэхер снова посмотрел на убитую. Он восстанавливал в памяти ее лицо. Ему показалось, что он ее узнает. Это была действительно она. Проведя опознание, он вытянул вперед руки и начал толкать труп. Его удивило оказываемое сопротивление. Одна рука девушки лежала на бедре, другая на плече, обе были холодны. Галлэхер поднатужился, и тело перевернулось. Рука, лежащая на бедре, переместилась на ягодицу, другая откинулась с плеча на лопатку. Галлэхер подтянулся на несколько сантиметров вперед и снова толкнул. Рука, лежащая на ягодице, передвинулась на другую ягодицу, с лопатки — на другую лопатку. И так далее.
Галлэхер трудился, не обращая внимания на то, во что упирались его руки; ни страха, ни желания. Его раздражали только туфли, которые иногда стучали высокими каблуками о мостовую.
Добравшись наконец до набережной, он остановился; пот тек с него ручьями. Еще один толчок, и тело окажется в Лиффи. Вот и мирный плеск воды, близкий, чуть ли не хрустально-звонкий, — маленькие колокольчики велеречивой вечерни. Галлэхер все больше думал о британцах; чем опаснее они ему казались, тем более жизнеспособным — в отличие от других повстанцев — он себя ощущал. О выработанной тактике операции он и думать забыл; неудивительно, что душа у него ушла в пятки от внезапно раздавшегося взрывоподобного грохота.
Разрабатывая свой план, Келлехер упустил из виду ступеньки перед набережной. Он устремился вперед со своей тачкой, потерял равновесие во время спуска, вывалил обрюзгший груз на землю, рухнул сам и покатился кубарем, увлекая в своем кубарении грохочущее транспортное средство.
Галлэхер почувствовал, как пот всасывается обратно в поры его кожи, побелевшей от страха, но по-прежнему казавшейся серой по причине густых сумерек. Его мышцы судорожно сжались, пальцы судорожно впились в плоть покойной почтовой девушки. В этот момент он держал ее слева за плечо, справа — за бок. Зажмурившись, он принялся думать о всякой всячине, которая вихрем закружилась у него в голове. Захлопали выстрелы. Галлэхер прижался к ноше. Неистово сжимая девушку в своих объятиях, он залепетал:
— Мама, мамочка...
Свистели пули, впрочем довольно редкие. Очевидно, стреляли со сна и заторможенно.
— Мама, мамочка... — продолжал бормотать Галлэхер.
Он даже не услышал, как по мостовой прокатилась тачка. Это Келлехер, героически взвалив почтовых служащих в тачку, продвигался под огнем противника. Оказавшись в пределах слышимости, он заорал sotto voce[8]:
— Толкай же ее, придурок!
Зачарованно-пораженный Галлэхер прекратил свои спазматические подрагивания и одним махом столкнул девушку в воду, куда она погрузилась одновременно с двумя другими трупами и тачкой заодно. Послышалось четырехсложное «бултых», Келлехер развернулся и помчался к повстанческому блиндажу. Галлэхер, не раздумывая, припустил за ним.
Раздалось еще несколько выстрелов, но пули миновали дилетантствующих похоронщиков, которые в два счета взлетели по ступенькам и ринулись в темный зияющий проем. Келлехер бросился к своему «максиму» и выпустил наугад несколько очередей. Галлэхер, захлопывая дверь, успел заметить покачивающуюся на лиффийской воде тачку.
XXX
Началась перестрелка, и Каллинен задумался о своих дальнейших действиях. Сидя на корточках и сжимая коленями винтовку, он дремал перед дверью кабинета, в котором они решили — после долгих и бестолковых споров — заточить пленницу; Каллинен не видел особой необходимости в своем бдении перед этой дверью; он считал своим долгом сражаться, а не сторожить. А еще ему очень хотелось узнать, что же там все-таки происходит. Он поднялся, потоптался в нерешительности, повернул ручку и легонько толкнул дверь. Лунный свет слабо освещал комнату. Каллинен начал вглядываться, различил письменный стол, кресло, стул. В тот момент в окно угодила шальная пуля, стекло разлетелось вдребезги. Каллинен инстинктивно распластался на полу, затем осторожно поднял голову и заметил англичанку, которая, прильнув к стене у окна, очень внимательно наблюдала за тем, что происходит на улице.
Перестрелка затихла, Каллинен выпрямился и тихо спросил:
— Вы не ранены?
Она не ответила, даже не вздрогнула. Как раз в этот момент раздалось четырехсложное «бултых».
— Что там случилось? — спросил Каллинен, не двигаясь с места.
Продолжая очень внимательно следить за тем, что происходит на улице, она поманила его пальцем. В этот момент перестрелка возобновилась, Каллинен, осторожно приближаясь по стеночке, услышал, как пробежали двое, как хлопнула дверь на первом этаже, как застрочил пулемет Келлехера. Теперь он находился совсем рядом с Герти. Она нащупала его руку и сильно ее сжала. Из-за ее плеча он бросил взгляд на улицу и увидел набережные с наваленными штабелями, мост О’Коннелла, вяло текущую Лиффи, которая уносила к своему устью покачивающуюся тачку.
— Что там случилось? — переспросил он очень тихо.
Она продолжала сжимать его руку. В другой руке он держал оружие. Сражение продолжалось, хлопали выстрелы. Каллинен начал подумывать о своем личном участии в перестрелке.
— Отпустите руку, — прошептал он на ухо Герти.
На этот раз она повернулась к нему.
— Что они с ней сделали? — спросила она.
— С кем?
— С той девушкой.
Разговаривали они шепотом.
— С какой девушкой?
— С той, что лежала на мостовой.
— А! Та, которую подстрелили англичане? Одна из ваших.
— Они сбросили ее в Лиффи.
— Ну да.
— Но до этого на ней лежал кто-то из ваших.
— И что же он делал?
— Не знаю. Дергался.
— Ну и что?
— Не знаю. А другой, тоже из ваших, бежал и толкал тачку.
— Ну и что?
— Они сбросили трупы в Лиффи.
— Возможно. Ну и что?
— Все эти «бултых». Я все видела. И слышала. А мистера Теодора Дюрана вы тоже умертвили?
— Директора?
— Да.
— Кажется, да.
— Его тоже сбросили в Лиффи, вместе с привратником и со служащей, на которой дергался ваш коллега.
— И что дальше?
— Дальше?
Она посмотрела на него. У нее были удивительно голубые глаза.
— Не знаю, — проговорила она.
И спустила руку ему на шестеринку[9].
— Посмотрите, как загробная тачка, покачиваясь, увлекается течением Лиффи к Ирландскому морю.
Он посмотрел. Действительно, тачка плыла по реке. Он хотел сказать, что видит ее, но только тихо простонал. Рука, возложенная на его шестеринку, по-прежнему там возлежала, неподвижная и даже чуть-чуть давящая; рука была не совсем маленькая, скорее пухлая, тепло от нее понемногу ощущалось даже через ткань одежды. Каллинен не смел пошевелиться, но тело плохо подчинялось волеизъявлению, отдельные части восставали.
— Да, да, — выжал он из себя, — плывет тачка.
Герти провела рукой по дышлу человеческой брички, сотрясаемой происходящим до глубины души.
— А почему вы не убили меня? — спросила она. — Почему не потащили по мостовой и не бросили в воду, как ту, другую?
— Не знаю, — пробормотал Каллинен, — не знаю.
— Вы убьете меня, да? Убьете? И бросите в реку, как мою коллегу, как мистера Теодора Дюрана, который меня так почтительно любил?
По ее спине пробежала дрожь; она нервно, но достаточно крепко сжала то, что держала в руке.
— Вы делаете мне больно, — прошептал Каллинен.
Он отстранился и отошел на один, потом на два, но не на три шага назад. Силуэт Герти вырисовывался в окне на фоне неба. Она не двигалась, ее лицо было обращено в сторону Лиффи. Нежный ночной бриз играл ее волосами. Вокруг головы сияли звезды.
— Не стойте у окна, — сказал Каллинен. — Британцы вас обстреляют, вы — слишком заметная мишень.
Она повернулась к нему, силуэт исчез. Теперь они оба были погружены во мрак.
— Итак, — сказала она, — вы намерены установить в этой стране республику?
— Мы только что вам это объяснили.
— И вы не боитесь?
— Я — солдат.
— Вы не боитесь поражения?
Он чувствовал, что она смотрит в его сторону. Она находилась в двух — не больше — шагах от него. Каллинен начал медленно и очень тихо отходить назад. При этом он заговорил громче, чтобы она не догадалась об увеличивающемся между ними расстоянии:
— Нет, нет, нет, и еще раз нет.
Он прибавлял громкости своему голосу с каждым шагом назад. Пока не уперся спиной в стену.
— Вас победят, — возразила Герти. — Вас раздавят. Вас... вас...
Каллинен вскинул винтовку. Конец ствола заблестел в темноте.
— Что вы делаете? — спросила Герти.
Каллинен не ответил. Он попытался представить себе, что сейчас произойдет, но у него ничего не вышло; поблескивающий ствол неуверенно дрожал.
— Сейчас вы меня убьете, — проговорила Герти. — Но это решение вы приняли в одиночку.
— Да, — прошептал Каллинен.
Он медленно опустил винтовку. Зря Маккормак оставил в живых эту сумасшедшую, но он, Каллинен, не имел права ее пристрелить. Он отставил винтовку в угол. Теперь руки у него были свободны. Герти приближалась к нему, вытянув руки, на ощупь, в темноте. Она оказалась довольно высокой, ее пальцы уткнулись ему под мышки. Пиджак Каллинена был расстегнут, жилетку он не носил. Герти ощупала его бока, постепенно спускаясь к талии. Руки Каллинена обняли англичанку. Она залезла под пиджак, обняла его, прижалась к нему, лаская мускулистые лопатки. Затем одной рукой проследовала вдоль костлявого и узловатого позвоночника, а другой начала расстегивать рубашку. Ладони Герти скользили по влажной коже ирландца, под ее пальцами перекатывалась грудь колесом. Она потерлась лицом о его плечо, пахнущее порохом, пóтом и табаком. Ее волосы, светлые и мягкие, щекотали лицо мятежника. А некоторые залезли даже в ноздри. Ему захотелось чихнуть. Он чихнул.
— Ты такой же придурковатый, как и Король Англии, — прошептала Герти.
Каллинен подумал, что так оно и есть: с одной стороны, он был невысокого мнения о британском монархе, а с другой — считал чудовищной провинностью и явной глупостью держать в своих объятиях англичанку — причину всех несчастий его нации и этого чертового мятежа-восстания. Без нее все в этом маленьком почтовом отделении было бы так просто. Стреляли бы по британцам, пиф-паф, шагали бы прямиком к славе и к «Гиннесу» или же в противном случае — к героической смерти, и вот на тебе, эта дурочка, дуреха, дурища, бестолочь, паразитка, мымра заперлась в уборной в самый важный и трагический момент и попала к ним в руки — по-другому и не скажешь, — и оказалась для них, инсургентов, обузой моральной, физически невыносимой и, может, даже шпикулятивной[10].
Конечно же, он ощущал в себе и вздрагивания, и содрогания, и сутеподергивания, которые напоминали о его человеческой природе, слабой, плотской, греховной, но думать о долге и корректности, предписанных Маккормаком, он не переставал.
Тем временем Герти изучала пуп ирландца. Сопоставляя чужие обсуждения живых торсов со своими личными впечатлениями от рассмотренных статуй, девушка не без оснований считала, что эта часть человеческого тела одинакова как у женщин, так и у мужчин. Однако была не совсем в этом уверена; будучи влюбленной в свой собственный пупок и получая большое удовольствие от процесса засовывания в него мизинца и ковыряния последним, Герти расценивала подобное, исключительно приятное, занятие делом сугубо женским. Допуская наличие идентичного органа у мужчин, она сомневалась, впрочем, довольно неотчетливо, что он может быть таким же глубоким и нежным.
Герти была просто очарована; оказалось, что щекотать пупок Каллинена так же приятно, как и свой собственный. Сам же Каллинен, будучи холостяком, не слишком хорошо разбирался в прелестях, предваряющих окончательный акт; ему доводилось иметь дело разве что с толстухами да стряпухами, которых он заваливал на сеновалах или же раскатывал на кабацких, еще не отмытых от всевозможных жиров столах. Посему он тяжело переносил затяжную девичью ласку и даже замысливал ответить на нее отнюдь не приличествующим в данной ситуации отказом. Но каким образом ответить, вопрошал он себя, находясь на волоске от... Он почувствовал угрызение совести, подумав о предпоследнем препятствии: социальном статусе его Ифигении[*], затем о последнем: ее девственности. Но, предположив, что сия непорочность может оказаться всего лишь предположительной, он отбросил все сомнения и отдался безудержной половой деятельности, искусно подогреваемой провокациями юной почтовички.
XXXI
— Приготовиться к повороту! Травить справа! Задраить иллюминаторы! Замаскировать ют! Свернуть бом-брамсель!
Отдав последние команды, Картрайт спустился в кают-компанию, где Тэдди Маунткэттен и второй помощник меланхолически потягивали уиски. Сурово осуждая республиканский мятеж с кельтским уклоном, капитан тем не менее и безоговорочно предпочел бы сражаться с немцами в открытом море, чем бомбить гражданские дублинские постройки, каковые являлись, как ни крути, составной частью Британской империи.
— Hello! — выдал Картрайт.
— Hello! — выдал Маунткэттен.
Картрайт налил себе очень много уиски. Добавил очень мало содовой. Взглянул на свет через прозрачное стекло, проследил мутным взглядом за пузырьками углекислого газа, которые...
Усомнившись в химической природе этих пузырьков, он обратился за информацией к Маунткэттену:
— Углекислый газ? — И указал взглядом на воздушные шарики, поднимающиеся со дна стакана на поверхность жидкости.
— Yes, — ответил Маунткэттен, который пришел в Navy Royale[11] из Оксфордского университета.
После получасового молчания Маунткэттен возобновил разговор:
— Это не работа.
Три четверти часа спустя Картрайт спросил:
— Что именно?
Поразмыслив какое-то время, Маунткэттен добавил:
— Негодяи они, разумеется, эти ирландские республиканцы! И все же я бы лучше бомбил фрицев!
Маунткэттен имел определенную склонность к болтовне, но тем не менее умел себя сдерживать; на этом он прервал свои рассуждения и дисциплинированно, то есть не проявляя эмоций, закурил трубку.
Картрайт, опорожнив емкость, погрузился в размышления о своей милой невесте Герти Гердл, барышне из почтового отделения на набережной Иден, город Дублин.
XXXII
Каллинен тоже размышлял о своей невесте. На какое-то мгновение ему даже померещились, всего в нескольких сантиметрах, искрящиеся глаза и худенькое личико Мод, официантки из Шелбурна. Если все будет хорошо, то есть в Дублине будет установлена независимая национальная Республика, тогда осенью он женится. На настоящей ирландке, славной и пригожей малышке Мод.
Но все эти мысли не мешали Каллинену совершать ужасное преступление. Впрочем, они приходили слишком поздно, эти мысли — идеал суженой верности. Слишком поздно. Слишком поздно. Британская девственница, распластанная на столе — болтающиеся ноги и задранные юбки, — охныкивала утраченную непорочность, чему Каллинен искренне удивлялся, поскольку находил, что, в общем-то, сама напросилась. А может быть, она хныкала потому, что ей было больно, хотя он старался делать это как можно безболезненнее. Сделав свое нехорошее дело, он на несколько секунд замер. Его руки продолжали исследовать тело девушки; ему показалось странным то, что под платьем почти ничего не было, а некоторые детали его даже поразили. Например, она не носила ни панталон, ни нижнего белья, ни кружев с ирландскими стежками. Единственная благовоспитанная девушка в Дублине, которая до такой степени презирала многоярусное дезабилье и прочие осложнения. Может быть, подумал Каллинен, это какая-то новая мода, занесенная из Парижа или Лондона.
Его сконфузило до невозможности. В паху припекало. Он дернулся раза три-четыре, и внезапно все закончилось.
Ощущая неловкость, он высвободился. Почесал кончик носа. Вынул свой большой зеленый платок, украшенный по краям ирландскими арфами, и утерся. Он подумал, что с его стороны было бы вежливо оказать такую же услугу девушке. Герти уже не плакала и не шевелилась. Она чуть вздрогнула, когда он начал ее осторожно промокать. Затем он убрал платок в карман и застегнулся. Забрал винтовку, оставленную в углу, и на цыпочках вышел.
Герти не плакала и не шевелилась. Ее ноги молочно белели в тусклых лучах восходящего солнца.
XXXIII
— Среди нас нашлось двое мерзавцев, — произнес Маккормак.
Каллинен огляделся.
— Что за двое мерзавцев? — спросил он. — Двое?
— У тебя какой-то странный вид, — сказал ему О’Рурки.
— А девчонка?
— Я закрыл ее на ключ, — ответил Каллинен.
Он сел, поставил винтовку между ног, машинально протянул руку, взял бутылку уиски и хлебнул как следует, после чего хлебнул еще раз, почти как следует.
— Какие двое мерзавцев? — спросил он снова и огляделся.
Восходило солнце. Как быстро пролетела ночь. И по-прежнему эта тишина, по-прежнему эта британская невозмутимость. Черт побери этих англичан, которые размусоливают наше восстание своими скрытыми лицемерными подвохами!
Каллинен чувствовал, как где-то в верхней части легких или в нижней части трахей, короче говоря в зобу, от страха спирало дыхание.
Он огляделся, заметил Галлэхера и Кэффри, дремавших возле груды пустых пивных бутылок и искореженных консервных банок.
— Эти? — прошептал он.
— Нет, — ответил Маккормак.
— Почему ты покинул пост у двери англичанки? — спросил О’Рурки.
— Я же сказал, что закрыл ее на ключ, — раздраженно ответил Каллинен. — Так что за двое мерзавцев? — спросил он снова. — Что за двое мерзавцев?
— Кажется, ты получил приказ сторожить девушку, — сказал О’Рурки.
Каллинен чуть не поправил его: «Она уже не девушка», — но вовремя удержался.
— Может быть, хватит ей сидеть взаперти? — сказал Маккормак.
— А если она будет подавать сигналы через окно? — заметил О’Рурки.
— Надо закрыть ее там, где она была сначала, — проворчал Кэффри.
— Ладно, — сказал Каллинен, — я пошел.
— На одного человека меньше, — сказал Маккормак. — А здесь нам будут нужны все.
— Пускай сидит здесь, рядом с нами, — сказал Галлэхер. — Будем все за ней присматривать.
— А это мысль, — сказал Маккормак.
Каллинен очень быстро отреагировал (так быстро, что это нельзя даже назвать «отреагировал»): не дожидаясь реплики О’Рурки, он помчался за Герти. На пороге все же остановился и спросил:
— Что за двое мерзавцев?
Ответа он не услышал.
XXXIV
У Каллинена не было полной уверенности в том, что один из мерзавцев — не он сам. Но кто в таком случае другой? Кто это и что он такое сотворил? Нет, про него, Каллинена, они ничего не могли знать. Правда, кто-нибудь мог подслушивать под дверью. Но в этом случае Маккормак разорался бы не на шутку. Поскольку — если уж говорить о корректности — то, что сделал он, Каллинен, — более чем некорректно. Хотя в этом не только его вина.
Подойдя к двери, он вынул из кармана ключ, но рука дрожала, и ключ заплясал вокруг скважины. У теряющего терпение Каллинена пересохло во рту. Он прислонил винтовку к стене, нащупав левой рукой отверстие, всунул в него ключ и повернул ручку. Толкнул дверь, та медленно открылась. О винтовке он сразу же забыл.
Солнце уже взошло, но все еще пряталось за крышами. Сочился слабый серо-рассеянный свет. Тянулись облака. Нежно краснели мансардами дома вокруг Тринити-колледжа. Герти, согнув ноги, лежала на столе, на котором ее оставил Каллинен, и вроде бы спала. Оправленная юбка была опущена ниже колен. Коротко остриженные волосы лохматились отчасти на лбу, отчасти на сукне стола.
Каллинен приближался бесшумно, но — и явно сознательно — не совсем беззвучно. Девушка не шевелилась. Она дышала медленно, ровно. Каллинен остановился, склонился над ней. Ее глаза были широко открыты.
— Герти, — прошептал он.
Она посмотрела на него. Инсургент не смог ничего прочесть в ее глазах.
— Герти, — прошептал он снова.
Она продолжала на него смотреть. Инсургент не мог ничего прочесть в ее глазах. Она не шевелилась. Он протянул к ней свои большие руки и взял ее за талию. Потом медленно передвинул руки к груди. Так он и знал: корсета она не носила. Эта особенность, в дополнение к необычно короткой стрижке, сильно смутила Каллинена. Он почувствовал у нее под мышками тесемки бюстгальтера: эта бельевая деталь сконфузила его окончательно. Все эти женские штучки показались ему чарующими и подозрительными одновременно. Так, значит, это и есть последняя мода, но как простая барышня с дублинской почты умудрялась следить за модой в разгар военных событий? Ведь все это зарождается где-то в Лондоне, может быть, даже в Париже.
— И о чем же ты задумался? — прошептала вдруг Герти.
Она улыбалась ему ласково, немного насмешливо. Застигнутый врасплох, Каллинен отдернул руки и отпрянул, но Герти удержала его, сжав коленями, затем, скрестив ноги, притянула к себе.
— Возьми меня, — прошептала она.
И добавила:
— Продолжительно.
XXXV
— Значит, — сказал Келлехер, — Маккормак разозлился? Как будто сейчас время думать о таких вещах.
Диллон задумчиво чистил ногти, Келлехер поглаживал «максим». Восходящее солнце заиграло на его металлических частях.
— Все по-прежнему тихо, — заметил Келлехер. — Интересно, мы когда-нибудь начнем воевать?
Диллон пожал плечами:
— Нам крышка.
И добавил:
— Они дождутся, пока мы раскиснем, а потом начнут размазывать нас по стенкам.
И подытожил:
— Нам крышка.
Затем, сменив тему, заявил:
— Маккормак явно переборщил.
— Насчет чего? — спросил Келлехер.
— Насчет нас двоих.
— Он нас в чем-то подозревает.
— Это его не касается! Занимался бы девчонкой и оставил нас в покое. Но он, видишь ли, не решается, ну и вот, и старается думать о чем-то другом.
— Галлэхера так и трясло от нетерпения.
Диллон пожал плечами:
— Дурачок. Ничего они не сделают этой девчонке, они все такие кавалеры, ну, может быть, за исключением Галлэхера. Но остальные ему не позволят. Конечно, это их изводит, но они ни за что не осмелятся. В их руках она останется целой и невинной.
— В наших руках она бы чувствовала себя еще целее.
Диллон снова пожал плечами.
— Скорее бы уж начали воевать, — вздохнул он, — хотя на самом деле я это дело не очень люблю. Видно, я действительно люблю свою Ирландию, если занимаюсь подобными делами. Скорее бы началось.
Он встал и обнял своего товарища. Келлехер, оторвавшись от созерцания пулемета, на секунду полуобернулся и улыбнулся.
XXXVI
По радио передали сообщение командору Картрайту. «Яростный» должен стать на якорь перед Рингс-Энд. Британская атака начнется в семь часов. В десять часов очередное сообщение укажет «Яростному» занятые мятежниками стратегические объекты, которые ему следует обстрелять.
— Если они еще останутся, — заметил Маунткэттен, которому Картрайт передал приказ.
— Все скоро закончится. Побережем снаряды для подводных лодок гуннов.
— Хотелось бы верить, — сказал Маунткэттен.
XXXVII
— Что он там копается? — проворчал Маккормак. — Его все нет и нет.
— А может, он ее трухает, — сказал окончательно проснувшийся Кэффри.
— Ты хочешь сказать, что он ее трахает, — прокомментировал Галлэхер.
Он громогласно хохотнул и хлопнул себя по колену.
— Заткнитесь, — сказал О’Рурки. — Подонки.
— О! О! — отозвался Кэффри. — Ревнуешь?
— Каллинен на такое не способен, — сказал Маккормак. — Да и не слышно ничего. Если бы у него возникли недобрые намерения, она бы закричала.
— А может, она и сама не прочь. Представь себе, что она сама предложила! — сказал Кэффри Галлэхеру.
Оба засмеялись.
О’Рурки встал.
— Подонки. Подонки. Заткните свои похабные глотки.
— Можно подумать, медики не похабничают. Ханжа. Ты, видно, этой ночью перемолился святому Иосифу.
— Хватит! — внезапно завопил Маккормак. — Мы здесь не для того, чтобы препираться. Не забывайте, что мы здесь для того, чтобы сражаться и наверняка умереть за независимость нашей страны.
— А в это время, — заметил Кэффри, — Каллинен вставляет за милую душу англичаночке. Послушайте.
Они замолчали и услышали серию коротких мяуканий, которые мало-помалу перешли в продолжительные стенания, прерываемые неравными паузами.
— Действительно, — прошептал Галлэхер.
О’Рурки побледнел до позеленения.
Вмешался Маккормак:
— Да ладно вам, это кошка.
О’Рурки, не желая расставаться с иллюзиями, поддержал:
— Конечно, кошка.
Галлэхер, по-идиотски улыбаясь, повторил:
— Ну да. Кошка. Или кот.
Кэффри усмехнулся:
— А эта краля, небось, дергает его за кончик... хвоста. Бедное животное. Пойду посмотрю.
Он вышел из комнаты. Послышалась целая серия учащенных пронзительных стонов; потом воцарилась тишина, настороженная и поражающая. В эту минуту Кэффри подходил к двери. Винтовка Каллинена одиноко стояла на посту. Кэффри вошел. Все уже закончилось. Каллинен дрожащими пальцами застегивал штаны. Герти уже поднялась; она буквально сияла от удовольствия. Пленница вызывающе посмотрела на Кэффри. Кэффри нашел ее красивой.
Но не нашел, что сказать.
Через несколько секунд, приведя себя в порядок, Каллинен спросил у него без малейшего намека на приветливость:
— Ну?
Кэффри ответил:
— Ну?
Герти с интересом следила за разговором.
Который возобновился довольно уместной репликой Каллинена:
— Ну?
Кэффри по-прежнему не находил слов:
— Ну?
Каллинен, чувствуя себя менее уверенно, сказал:
— Ты ничего не видел.
— Но все было слышно.
— Я обесчещен, — подавленно прошептал Каллинен.
— Они думают, что это кошка. Скажешь, что это была кошка.
— А ты подтвердишь?
Кэффри очень внимательно оглядел Герти. Она еще не успела отдышаться.
— Конечно, это была кошка.
Каллинен вынул из кармана свой красивый зеленый платок, украшенный золотыми арфами, и вытер лицо.
— Смотри, — сказал Кэффри, — у тебя из носа кровь идет.
XXXVIII
— А вот и они, — сказал Галлэхер.
О’Рурки не обернулся. В комнату в сопровождении Каллинена и Кэффри вошла Герти.
— Это была действительно кошка, — сказал Кэффри.
— Черт возьми! — воскликнул Галлэхер. — Вот они! Вот они!
Маккормак подошел к одной из бойниц.
— Мисс, — сказал утихомирившийся О’Рурки, — мы вам объясняли, что ваше присутствие здесь подозрительно.
— Они струячат по мосту, — крикнул Галлэхер.
— Гады! Откуда их столько?! — отозвался Маккормак.
— Мы приняли решение держать вас под постоянным коллективным наблюдением, — продолжал О’Рурки.
— Стрелять будем? — спросил Галлэхер.
Пулеметы, установленные британцами на деревянных штабелях, затрещали. Свинцовые струи ударили по фасаду почты. На первом этаже застрочил в ответ Келлехер. Кэффри и Каллинен встали рядом с Маккормаком и Галлэхером, стреляющими из бойниц.
— Забирайтесь под стол, — приказал О’Рурки, — и не шевелитесь.
Герти послушно залезла под стол.
О’Рурки запер дверь и сунул ключ в карман. Затем присоединился к товарищам.
Похоже, британцы решили покончить с почтой. Они валили со всех сторон. Судя по всему, они держали в своих руках О’Коннелл-стрит. Мятежникам с набережной Иден было видно, как по улице в сторону моста Митэл вели колонну пленников с поднятыми вверх руками.
— Плохо дело, — сказал Кэффри.
— Это наши товарищи из Центрального бюро, — заметил Маккормак. — Я узнаю Тэдди Ланарка и Шона Дромгура.
— Телефон, — подсказал ему О’Рурки.
Покинув свое место, Маккормак направился к столу директора, мистера Теодора Дюрана, ныне покойника. Он увидел забившуюся под стол и зажмурившуюся от страха Герти. Стараясь не наступить на нее, он сел в кресло, закрутил вертушку и снял трубку. Не опуская трубки и воспользовавшись затишьем между выстрелами (в эту минуту почему-то сильно запахло порохом), он сказал:
— Никто не отвечает.
Его соратники продолжали щелкать британцев. Возможно, они даже не услышали реплику командира.
Не заметили они и того, что сразу же после реплики командир вздрогнул. Они тщательно целились и щелкали; британцы начинали злиться. Передвижение по мосту, а равно как и вдоль набережных, было им по-прежнему заказано под угрозой потерь, превышающих сорок пять процентов личного состава (что по военным меркам могло сойти за отличную результативность). Тем не менее они продолжали отчаянно атаковать.
— Кто это? — произнес чей-то мужской голос на другом конце провода.
Маккормак опустил глаза. У него во рту внезапно пересохло.
— By Jove![12] — произнес мужской голос. — Отвечайте!
Легкий электрический разряд прошелся вдоль его позвоночника, пронизывая со все увеличивающейся частотой спинной мозг.
Запинаясь, Маккормак ответил:
— Это Маккормак.
— Готов поспорить, что это еще один сучий выродок из числа повстанческих негодяев, — произнес голос.
Маккормак не знал, куда деться. Обескураживающее (по отношению к нему) поведение Герти дополнило это оскорбление, лишило его дара речи и заодно пригвоздило к креслу.
— Что вам надо, — пробормотал он.
— Вы еще не сдались, жалкие папские гунны?
Маккормак тяжело сопел в трубку.
— Что с вами такое?
— Fi...fifi...fifinnegans wake, — промямлил Маккормак.
— Чего? Что вы такое несете?
Но Маккормак был уже не в состоянии отвечать. Чтобы заглушить непроизвольный стон, он изо всех сил кусал телефонную трубку.
— Вы издаете странные звуки, — заметил голос на другом конце провода.
И добавил участливо:
— Вас, случайно, не ранили?
Маккормак не ответил. Эбонит треснул.
— Эй! — воскликнул его собеседник. — Что с вами случилось?
У Маккормака из рук выпала трубка, а изо рта вырвался протяжный хрип. До него отчетливо донесся далекий голос, который, шипя и гнусавя, предложил:
— Мы предлагаем вам немедленно сдаться.
Затем кому-то доложил:
— Не отвечает...
А после очередной серии выстрелов предположил:
— Наверное, убили...
Сквозь полуприкрытые веки командир различал О’Рурки, Галлэхера, Кэффри и Каллинена, которые старательно отстреливались. На него они не обращали внимания. Еще сильнее запахло порохом.
Маккормак опустил глаза и увидел Герти, которая, закончив дело и вытерев рот тыльной стороной ладони, снова забралась под стол.
Он повесил трубку, встал, ощутив при этом сильную дрожь в коленях, и произнес:
— В той колонне действительно были наши товарищи из Центрального бюро.
— Мы не сдадимся, — объявил О’Рурки.
— Конечно, — подтвердил Маккормак.
Слегка пошатываясь, он потянулся к своей винтовке и с первого же выстрела уложил британца, который вздумал перейти по мосту О’Коннелл.
XXXIX
— Нам крышка, — прошептал Диллон.
Келлехер не отвечал. Он нежно поглаживал свой пулемет, медленно остывающий после последней атаки.
Британцы собирались с новыми силами на штурм почты. Доносились лишь далекие и спорадические выстрелы.
— Ну как ты? — спросил Диллон.
Келлехер ответил:
— Никак.
Он похлопал по пулемету:
— Мой милый зверек.
И добавил:
— Если не в этот раз, так уж в следующий — точно.
— Ну! — воскликнул Диллон. — За нашу родину я совсем не боюсь. Она будет существовать вечно, наша Эйре, как и христианская эра. Я беспокоюсь за нас.
— Да. Только между нами; скоро нам придет конец.
— Ну и как ты?
— Рано или поздно это должно было случиться.
Диллон задумался:
— Может быть, выкрутимся...
— Нет, — сказал Келлехер.
— Нет? Думаешь, нет?
— Нет. Думаю, нет.
— Почему?
— Погибнем все до одного.
— Ты так считаешь?
— Но не сдадимся.
Диллон хрустнул пальцами:
— Корни, какой ты смелый!
Келлехер встал и в задумчивости сделал несколько шагов по комнате.
— Интересно, что же все-таки произошло наверху?
— Наверху? Они сражались, как и мы.
— Я имею в виду девчонку.
— На это мне наплевать, — сказал Диллон и, подняв голову, спросил: — Тебя это беспокоит?
Келлехер не ответил.
— Вертихвостка, — продолжал Диллон. — Как она нас достала. Наплачемся еще с ней. Со всеми женщинами так. Уж поверь мне, я их знаю. Ты еще молод. А я за двадцать лет работы их изучил. Да, и еще. Мне будет жалко расставаться со своей работой, конечно, не так, как с тобой. Все эти костюмы, я так их любил. И платья, когда мода менялась. Да что там мода! А материал: шелк, кружева, гипюр с ирландским стежком...
Он встал, взял Келлехера за плечо, прижался к нему:
— Знаешь, мне жаль с тобой расставаться.
И добавил:
— А ты на самом деле думаешь о той девице, что наверху?
Келлехер высвободился из объятий Диллона, не резко, но решительно. И молча. После чего они услышали добродушный голос Галлэхера:
— Ну что, цыпочки, отношения выясняете? Какая ревность!
— Я этого все-таки не понимаю, — добавил Каллинен.
— А вашего мнения никто и не спрашивает, — ответил Диллон.
— Ну! — ввернул Галлэхер. — В нашей ситуации приходится мириться. Ничего не поделаешь.
— Нам нужен ящик с патронами и несколько ящиков уиски. Там еще осталось? — спросил Каллинен.
— Да, — ответил Келлехер.
— Как настроение? — спросил Каллинен. — Боевое?
— Нам крышка, нет?
Это уже спросил Диллон.
— Погибнем все до одного, — объявил Галлэхер с такой радостной легкостью, что у портного потяжелело на сердце.
— Что такое, Мэт? — спросил у него Каллинен. — Ты ведь не струсишь, правда?
— Вот еще. Вот еще.
Галлэхер и Каллинен обменялись взглядом, пожали плечами и отправились в импровизированный склад.
— Все-таки здорово, что мы зафигачили трупы в воду, — сказал Галлэхер. — С той самой минуты я себя чувствую так легко; никаких душевных терзаний.
— Внимание! — воскликнул Келлехер, который не отрывал глаз от амбразуры.
Остальные сразу же заткнулись — тюкнулись на дно до звона хрустальной тишины.
— Вон они! — продолжал Келлехер. — С белым флагом. А сзади офицер...
— Кажется, британцы хотят сдаваться? — произнес Галлэхер.
XL
Маунткэттен застал Картрайта над депешами.
— Все складывается как нельзя лучше, — сказал командор. — По-моему, восстание захлебнулось. Все объекты, захваченные мятежниками, освобождены. Все или почти все. Я сейчас как раз делаю сверку. Кажется, все. Фор Корте, вокзал на Амьен-стрит, Главпочтамт, вокзал Вестланд-Роу, гостиница «Грэшем», хирургический колледж, пивная «Гиннес», вокзал на Харкурт-стрит, гостиница «Шелбурн», все это мы заняли. Что остается? Дом моряков? Занят, согласно телеграмме 303-В-71. Бани на Таунсэнд-стрит? (Надо же!) Заняты, согласно телеграмме 727-G-43. И так далее. И так далее. Генерал Максвелл[*] славно потрудился и разобрался в ситуации энергично, оперативно, решительно, почти не проявив столь характерной для нашей армии медлительности.
— Значит, не придется стрелять по ирландцам? Это хорошо. К чему зря переводить снаряды, которым не терпится упасть на гуннов?
— Мне известна ваша точка зрения на этот счет.
Вошел радист с новой телеграммой.
— Минуту. Я заканчиваю сверку.
Он закончил ее.
— Осталось только почтовое отделение на набережной Иден, — сказал Картрайт.
Он развернул телеграмму и прочел: «Приказываю бросить якорь у О’Коннелл-стрит».
— Придется все-таки переводить снаряды, — сказал Маунткэттен.
Командор Картрайт внезапно помрачнел.
XLI
Маккормак и О’Рурки вернулись. Каллинен, Галлахер, Диллон и Келлехер, дождавшись их возвращения, вновь забаррикадировали дверь.
— Ну? — спросил Диллон.
— Ясное дело, требуют, чтобы мы сдавались. Говорят, что мы остались последние. Восстание подавлено.
— Ложь, — сказал Галлэхер.
— Нет. Похоже, правда.
— Я думал, что мы ни за что не сдадимся, — сказал Келлехер.
— А кто говорит, что мы будем сдаваться? — удивился Маккормак.
— Только не я, — сказал Келлехер.
— А на каких условиях? — спросил Диллон.
— Ни на каких.
— Значит, они нас расстреляют?
— Если им вздумается.
— За кого они нас принимают? — проговорил Галлэхер.
Они задумались над этим вопросом, отчего на некоторое время воцарилась тишина.
— А как же англичанка? — спросил вдруг Келлехер. — В любом случае придется от нее избавиться.
— В любом случае, — заметил Ларри О’Рурки, — если нас начнут размазывать по стенкам прямо здесь, мы не вправе втягивать ее в подобную переделку.
— А почему бы и нет? — спросил Келлехер.
— Как она нас достала, — сказал Галлэхер. — Выдадим ее британцам.
— Я придерживаюсь того же мнения, — сказал Маккормак.
— Вы — командир, — сказал Мэт Диллон. — Значит, выставляем ее за дверь, и они ее забирают.
— Есть возражения, — произнес О’Рурки.
— Какие?
— Нет, ничего.
Все посмотрели на О’Рурки:
— Выкладывай.
Он замялся:
— Так вот, будет очень плохо, если она им что-нибудь про нас расскажет.
— Какие сведения она может сообщить? Она даже не знает, сколько нас.
— Мэт, я имел в виду совсем не это.
— Выкладывай.
О’Рурки покраснел:
— До этого она была девушкой. Так вот, будет плохо, если с ней произошли какие-нибудь изменения...
— Что ты несешь? — спросил Галлэхер. — Ничего не понимаю.
— Все очень просто, — вмешался Диллон. — Если вы все по ней прошлись, это плохо скажется на общем деле. Британцы будут вне себя от ярости и уничтожат всех наших товарищей, попавших в плен.
— Я был с ней корректен, — сказал Галлэхер.
— Я тоже, — сказал Корни Келлехер.
— Я тоже, — сказал Крис Каллинен.
— Значит, выставляем ее за дверь и подыхаем как герои, — объявил Диллон. — Я приведу ее.
Он сорвался с места и побежал на второй этаж.
— Маккормак, а ты чего молчишь? — спросил Келлехер.
— Давайте ее отпустим, — ответил Маккормак как-то рассеянно и растянуто.
— А Кэффри? — воскликнул вдруг Каллинен. — Он там с ней один на один.
О’Рурки побледнел:
— Ах да... Кэффри... Кэффри...
Так он и фрякал, этот студент медицинского колледжа. Руки его дрожали.
Келлехер хлопнул его по спине:
— А чего, девчонка она пригожая!
О’Рурки попытался свести свои эмоции на нет с помощью осмысленного дыхательного упражнения, показанного ему великим поэтом Йейтсом. В качестве приложения он трижды прочитал «Ave Maria».
— В странную переделку попала девчонка, — продолжал Келлехер. — Допустим, мы вели бы себя нехорошо, не как безупречные и приличные герои, представляешь, тогда ей довелось бы много чего повидать. Повидать — это только так говорится, ну сам понимаешь.
Только после двукратного «Ave Maria» и одного «Во славу Иосифа» в качестве дополнительного приложения О’Рурки пересилил себя и выговорил:
— Есть такие люди, которые не имеют права говорить о женщинах.
— Я, по крайней мере, трупы не разделываю, — сказал Келлехер.
— Только давайте без этих ужасов, — воскликнул Галлэхер.
— Заткнитесь, — сказал Маккормак.
Они снова замолчали.
— Британцы, наверное, ждут не дождутся, — елейно проговорил Каллинен.
Ему не ответили.
— Джон Маккормак, — сказал чуть погодя Келлехер (до этого никто не произнес ни слова), — Джон Маккормак, похоже, ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Я знаю, что ты не дрейфишь. В чем же тогда дело?
Ларри О’Рурки посмотрел на Маккормака:
— И правда, вид у тебя странный.
Ларри был рад, что Келлехер оставил его в покое.
— Ну, странный, — сказал Маккормак. — Что дальше?
О’Рурки с ужасом смотрел на командира. Он не хуже Келлехера знал, что Маккормак не дрейфит. Из-за чего же так странно перекосило его физиономию? А из-за того же, из-за чего скривило и его собственную, О’Рурковую, рожу: все дело в той малышке, что наверху. Он перевел взгляд с Джона на Каллинена. Глаза Криса были безоблачно чистыми и небесно-голубыми. Ларри ужаснулся еще раз: он сам, наверное, выглядит еще страннее, чем Маккормак. А этот педрила Келлехер продолжает над ними измываться. Что же все-таки происходило? И что же все-таки произошло? Ларри еще раз пристально вгляделся в лицо Каллинена: оно ничего не выражало. Затем посмотрел на Келлехера и заметил, что тот внезапно потерял интерес к происходящему. Тут Маккормак глянул на часы и сказал:
— У нас осталось не больше двух минут, чтобы дать ответ.
— Чтобы выдворить англичанку, — сказал Галлэхер.
На лестнице показался Диллон:
— Ее там нет. Наверное, смылась.
XLII
Британские полномочные представители удалились и скрылись за штабелями норвежских пиломатериалов. Мятежники вновь забаррикадировались. Было около полудня.
— Мы могли бы перекусить, — предложил Галлэхер.
Диллон и Каллинен принесли ящик с консервами и печенье. Все уселись и принялись жевать в полной тишине, как люди, оказавшиеся вдруг героями и принимающие отныне обыденность существования лишь в ее самых экстремально обыденных проявлениях, таких как утоление жажды и голода, мочеиспускание и испражнение, напрочь отказываясь от полного игривых двусмысленностей словесного самовыражения. Если бы первым заговорил Маккормак, он сказал бы: «Что вы на меня так смотрите, вы ведь даже не знаете, даже не понимаете, что произошло»; О’Рурки сказал бы: «Дева Мария, что с ней могло произойти? Как это глупо, но я, по-моему, влюбился»; Галлэхер сказал бы: «За час до смерти тушенка кажется уже не такой вкусной, как неделю назад. Приходится себя поддерживать для того, чтобы умереть»; Келлехер сказал бы: «Впервые женщина заинтересовала меня до такой степени. Ну и хорошо, что она смылась. Так нам легче будет стать настоящими героями»; Каллинен сказал бы: «Настоящие товарищи! Они делают вид, будто не знают, что со мной произошло», но первым заговорил Диллон, который сказал:
— Они нас перебьют, как крыс.
— Как героев, — возразил Келлехер. — Пусть по-крысиному, но мы им здорово досадили, этим британцам.
— Настоящими героями становятся, если рядом настоящие товарищи, — сказал Каллинен.
— И вкусная тушенка, — добавил Галлэхер, хлопнув себя по ноге.
— Интересно, куда она могла деться, — прошептал О’Рурки.
— Странно все это, — очень серьезно заключил Маккормак.
Бутылка уиски пошла по кругу.
— А как же Кэффри? — спросил Галлэхер.
— Отнеси ему поесть и выпить, — торжественно приказал Маккормак.
— Лучше скажи ему, чтобы спустился, — вмешался О’Рурки. — В ожидании последнего и решительного боя он, возможно, объяснит нам, как это англичанка смылась у него из-под носа.
— А чем он там занимается? — спросил Каллинен без особого интереса.
Диллон в шестой раз принялся рассказывать:
— Он стоял на посту у окна справа от стола, ко мне не повернулся. Только сказал: «Англичанка? Не знаю». Я искал в других комнатах. Никого.
— Это все? — спросил Келлехер.
— Может быть, она вернулась в туалет, — подсказал Галлэхер.
— Как же мы об этом не подумали?! — воскликнул Маккормак.
Они вскочили все разом (за исключением Каллинена, который стоял на посту) и встали по стойке «смирно».
— Не все сразу, — сказал Маккормак и посмотрел на Галлэхера.
— Есть, командир.
Галлэхер сделал несколько шагов и остановился.
— Неловко получается. Как я туда войду?
— Постарайся незаметно открыть дверь, — посоветовал ему Маккормак. — Только не стучи, это будет некорректно.
— Дверь-то мы высадили, — сказал О’Рурки. — И засов выбили.
— Так что? — неуверенно спросил Галлэхер.
— Пойду я, — заявил Диллон. — Я женщин не боюсь, в туалете или еще где. А ты отнесешь Кэффри паек. Ему одному, наверное, скучно.
— И сразу же назад, — сказал Маккормак.
— Я подожду, когда он вернется, — решил Галлэхер.
Он опять о чем-то задумался и выдал еще одно соображение:
— Может быть, она улизнула через сад Академии?
— Ты шутишь? — ответил О’Рурки. — Это невозможно.
— А британцы не могли подойти с той стороны? — спросил Келлехер.
— Это невозможно, — повторил О’Рурки.
— Почему? — снова спросил Келлехер.
— Потому что они слишком медлительны. Они подойдут с той стороны не раньше чем через неделю.
— Через неделю все будет уже кончено.
Бутылка уиски пошла по второму кругу.
Появился Диллон.
— Мне не повезло, — сказал он. — В сортире ее нет.
Галлэхер стал собирать для Кэффри паек: уиски, печенье и тушенка.
XLIII
Когда «Яростный» проходил мимо товарной станции Южной и Западной железной дороги, Маунткэттен сказал второму помощнику:
— Прелестный город Дублин: доки, газовый завод, товарные поезда, грязная речушка.
— Все это мы обстреливать как раз и не будем.
— Не думаю, что почтовое отделение на набережной Иден представляет собой архитектурный шедевр.
— Странное совпадение: именно там служит невеста Картрайта.
— Похоже, это его и беспокоит.
— Никто его не заставляет бомбить свою зазнобу.
— Нет, но он сделает это. Ради Короля.
При упоминании этой особы оба встали по стойке «смирно» и на несколько секунд замерли. Корабль, провожаемый взглядами толпящихся на набережной военных, гражданских и путешествующих, высаженных по причине железнодорожной неисправности, проходил перед вокзалом Норт-Уолл.
XLIV
Галлэхер распахнул дверь ногой. Кэффри повернул голову и сказал ему:
— Поставь все на стол и проваливай.
— Хорошо, Сиси, — пролепетал Галлэхер.
Он поставил все на стол и замер, не в силах отвести взор от Кэффри. Тот уже успел забыть о Галлэхере и вернулся к прерванному занятию. Занятие оказалось распластанной на столе девушкой с растрепанными волосами, задранной до пупа юбкой и вяло свисающими ногами. Галлэхер перевел взгляд со своего озабоченного соотечественника на выглядывающую из-под него часть женского тела, а именно длинную белую ляжку, на которой четко вырисовывалась линия подвязки. Ее обладательницей могла быть только она, почтовая барышня, обнаружившаяся столь неожиданно, сколь и горизонтально.
— Ты все еще здесь? — прорычал Кэффри.
Он был явно недоволен. Галлэхер вздрогнул. Он пролепетал: «Нет-нет, уже ухожу», — и попятился назад, не спуская глаз с гладкой молочной кожи молодой британки. А другая девчонка, та, которую подстрелили накануне и труп которой проплывает сейчас где-то возле Сэндимаута, внезапно подумал Галлэхер, все-таки какие красивые ножки у здешних почтовых девчушек. А эта подвязка, тень которой, узкая, подвижная, казалось, служила лишь для того, чтобы представить эту плоть еще более яркой, более нежной.
Прежде чем закрыть дверь, Галлэхер постарался последним взглядом вобрать в себя всю эту красоту и смежил веки, чтобы удержать изображение.
— Я мог бы и ей принести что-нибудь поесть? — робко предложил он.
Кэффри выругался.
Галлэхер закрыл дверь.
На экране своего внутреннего кинематографа он продолжал рассматривать сочные фосфоресцирующие формы англичанки и дополняющие их детали одежды: спущенные чулки, подвязки, высоко задранное платье. Он опять вспомнил о девушке, погибшей на тротуаре, и принялся судорожно молиться, дабы побороть искушение. Не мог же он уступить соблазну, удовлетворяя свою глубоко личную похоть. Он пришел сюда для того, чтобы освободить Ирландию, а не для того, чтобы взбалтывать свою спинномозговую жидкость. Прочитав двадцать раз «Ave Maria» и столько же раз «Во славу Иосифа», он почувствовал, что мышечно-поясничное напряжение постепенно спадает. Только тогда он начал спускаться по лестнице.
— Странный у тебя вид, — заметил Диллон.
— Заткнитесь! — яростно прошептал стоящий на посту Каллинен.
Его так и трясло от возбуждения.
— Все! Он здесь! Он здесь! Королевский флот!
XLV
«Яростный» бросил якорь в нескольких ярдах от моста О’Коннелла, вниз по течению. Командор Картрайт приказал подготовить корабельные орудия к орудийности, но воспользоваться их готовностью явно не спешил; его коробило от одной мысли о... Не то чтобы он отказывался давить папских республиканских мятежников, но ведь это почтовое отделение, совершенно уродливое, грязное и мрачное по своему функциональному и почти дорическому архитектурному решению, напоминало ему о его привлекательной невесте, мисс Герти Гердл, на которой он должен был (и искренне желал) жениться в самое ближайшее время, дабы свершить вместе с ней несколько подозрительную и даже странную в глазах целомудренного молодого человека акцию, чьи оккультные перипетии переводят девичество из состояния нетронутого в состояние растроганное.
Картрайт, стало быть, проявлял нерешительность. Матросы ожидали его приказаний. Внезапно полдюжины из них растянулись на палубе, а еще двое перевалились за борт и плюхнулись окровавленными головами в Лиффи. Они совершенно забыли об осторожности. А Келлехер терпеть больше не мог; ему надоело разглядывать эти беспечные фигурки. Его пулемет работал отменно.
XLVI
Первый снаряд шлепнулся на газон в саду Академии. Он разорвался, осыпав травой и перегноем античноподобные гипсовые статуи, украшенные гигантскими виноградными листьями из цинка.
Второй снаряд угодил туда же. Несколько листьев слетело на землю.
Третий накрыл и уничтожил группу британских солдат на Нижней Эбби-стрит.
Четвертый снес голову Кэффри.
XLVII
Несколько секунд тело продолжало ритмично дергаться, совсем как туловище самца-богомола, верхнюю часть которого пожирает самка, а нижняя по-прежнему упрямо совокупляется.
При первом же пушечном выстреле Герти закрыла глаза. Открыв их — а какой-либо определенной причины для этого не было, ну разве что интерес к происходящим вне ее событиям, интерес, возникший без всякого сомнения сразу же после резкого удовлетворения желания, — и свесив голову, она заметила отсеченную голову Кэффри, которая лежала возле ротангового кресла. Поскольку события внутри нее еще происходили, она не сразу поняла, в чем дело. Но подобие обезглавленного манекена, по-прежнему возлежащее на ней, в конце концов поникло, обмякло и придавило ее. Хлынула сильная струя крови. Герти закричала и оттолкнула от себя то, что осталось от Кэффри. Оставшееся от Кэффри бесцеремонно рухнуло на паркет, совсем как кукла, изувеченная жестоким ребенком. Герти, вскочив, с ужасом оценивала создавшуюся ситуацию. «Одним меньше», — промелькнуло у нее в голове. Под сильнейшим впечатлением от кончины исковерканного снарядом Кэффри и в некотором замешательстве, она отступила к окну, содрогаясь от посмертных почестей, окропленная снаружи, увлажненная изнутри.
Герти была глубоко взволнована. На первом этаже мятежники упрямо отстреливались. Пятый снаряд разорвался в саду Академии. Герти отвлеклась от созерцания расчлененного тела (зрелище поразительное) и заметила британское военное судно, у которого дымилось больше из трубы, чем из пушек. Она поняла, что это «Яростный», и еле заметно улыбнулась: обращаться к ней за разъяснениями по этому поводу было просто некому. Шестой снаряд пробил крышу соседнего здания и нанес ему значительный ущерб. Осколки, обломки кирпичей разлетелись во все стороны. Герти стало страшно. Она отошла от окна, перешагнула через труп, покинула комнату и очутилась на лестничной площадке. Внизу, в темноте, приникшие к амбразурам мятежники от души поливали матросов «Яростного».
XLVIII
Абсолютной уверенности в том, что это она, не было; это было даже маловероятно. Среди мятежников вполне могла оказаться какая-нибудь фанатичная амазонка-республиканка. А если это так, прилично ли бомбить женщину? Командор Картрайт начал задумчиво подкручивать свои усы после того, как Маунткэттен обрисовал ему обстановку: шесть матросов убито, двадцать пять ранено; что касается положительных результатов обстрела, то они были незначительны. Картрайт приказал прекратить огонь и отправить радиотелеграмму, дабы известить генерала Максвелла о присутствии женщины среди мятежников на набережной Иден и запросить дальнейших указаний.
XLIX
— Антракт, — объявил Келлехер.
— Они сдохлись, — сказал Маккормак.
— Непонятно, с чего бы это, — сказал Мэт Диллон.
— А нам передышка, — сказал Каллинен. — Это нас немного взбодрит.
Келлехер засуетился возле своего пулемета.
— А Кэффри? — спросил О’Рурки.
— Кажется, наверху здорово бабахнуло, — сказал Мэт Диллон.
— Дева Мария, Дева Мария, — зашептал Галлэхер, хватаясь руками за голову.
— Что с тобой?
Галлэхер, дрожа как охотничая собака, жалобно заскулил. Келлехер, оставив «максим», похлопал его по спине.
— Ну что, старина, — участливо спросил он, — расклеился?
— Расскажи нам о Кэффри, — произнес Маккормак.
— Я же сказал, что там здорово бабахнуло, — объявил Диллон. — Пойду посмотрю.
Он пошел. Занеся ногу над первой ступенькой, он поднял голову и увидел Герти, которая наблюдала за ними и слушала, что они говорят. Стояла она прямо, смотрела неподвижно; ее мятое платье было окровавлено. Мэт Диллон испугался. Во рту у него все слиплось. Он с трудом произнес: «Она не убежала». Остальные повернулись и посмотрели на нее. Галлэхер перестал плакать.
Герти шевельнулась и стала спускаться по лестнице.
Диллон медленно отошел к сбившимся в кучку товарищам.
Она подошла к ним. Села. И очень мягко сказала:
— Я бы поела омаров.
L
Она уселась перед ними и начала медленно есть. Доела и протянула Галлэхеру пустую консервную банку; тот принялся ее (консервную банку) задумчиво ощупывать. О’Рурки налил ей стаканчик уиски, который она сразу же осушила.
— Вы прятались? — спросил Маккормак.
— Это допрос? — спросила Герти.
Она вернула О’Рурки пустой стаканчик.
— Он мертв, — сообщила она. — Его голова — здесь (она махнула рукой), а тело — там (она махнула рукой в другую сторону). Какой ужас, — добавила она из приличия. — Снаряд разрушил часть стены. Я бы выпила еще.
О’Рурки налил ей полный стаканчик уиски, который она сразу же осушила.
— Вы прятались? — снова спросил Маккормак.
— Но Кэффри не мог не знать, — встревожился Диллон. — Он что, соврал? Где вы были?
— Бедный Кэффри, — сказал Галлэхер и снова запричитал: — Бедный Кэффри!
— У него спросите, — ответила Герти и кивнула в сторону Галлэхера.
— Когда ты относил паек для Кэффри, ты ее видел?
— Какой ужас, Дева Мария! Какой ужас!
Маккормак бросил на Герти внезапно и неимоверно встревоженный взгляд:
— Что вы с ним сделали? Что вы нам плетете про какой-то снаряд? Вы его убили? Вы его убили?
— Сходите и посмотрите.
Выглядела она очень спокойной, слишком спокойной. Повстанцы держались от нее на расстоянии. Дежуривший у амбразуры Каллинен постоянно оборачивался и с удивлением смотрел на нее. Она улыбнулась ему. После этого он уткнулся в бойницу и больше не оборачивался.
— Почему вы улыбаетесь? — спросил Маккормак.
Но она уже не улыбалась.
— Схожу посмотрю, — сказал Мэт Диллон.
Этот никогда не упускал возможности куда-нибудь сходить.
— Там крови по колено, — предупредила его Герти. — Какой ужас, — добавила она из приличия.
— Дева Мария! Дева Мария! — причитал Галлэхер.
Маккормак и О’Рурки его обматерили и как следует встряхнули. Галлэхер успокоился. Повернувшись спиной к Герти, он подобрал свою винтовку и подобрался к одному из забаррикадированных окон: на борту «Яростного», кажется, ничего не происходило.
— Как называется корабль, который нас обстреливает?
Все отметили «нас», но ни один из караульных ей не ответил. О’Рурки сообщил ей, что речь идет о «Яростном», и спросил:
— Почему вас это интересует?
— У каждого корабля свое название.
«Она не очень любезна ко мне», — подумал О’Рурки.
— Если, — продолжал Маккормак, — если, как бы это сказать, если вы не виновны в смерти Кэффри и если Кэффри действительно мертв, мы сдадимся британцам.
Каллинен и Галлэхер вздрогнули, повернулись и посмотрели на О’Рурки; тот даже не понял почему.
Герти сделала вид, что раздумывает, и ответила:
— Я не хочу.
— Так, значит, вы прятались? — в очередной раз спросил Маккормак, который никак не мог отвязаться от этой мысли.
— Да, — ответила она и сразу же добавила: — Кэффри об этом знал.
Галлэхер и Каллинен отвели от нее взгляд и вернулись к наблюдению за по-прежнему спокойным «Яростным».
Маккормак чувствовал себя все более и более неловко.
— Ах, Кэффри, Кэффри, ах! — недовольно пробурчал он и замолчал, бросив пугливый взгляд на Герти; он страшно боялся, что она решится внезапно и публично возобновить свои действия, неприличные до невообразимости, если не сказать — до невероятности; греховные действия, в которых невозможно даже исповедоваться, ибо в катехизисе об этом не упоминается; впрочем, Маккормак не особенно хорошо себе представлял, в чем женщины способны исповедаться перед священником; он поймал на себе взгляд Герти, но ничего в нем прочесть не смог; командира бросило в дрожь. Он снова забурчал, но уже совершенно бессвязно: «Ах, Кэффри... Кэффри...» — потом вдруг решился: «Нужно принять решение», — решил он и повел себя по-командирски решительно. Не дожидаясь, пока подчиненные отреагируют на его решение о принятаи решения, он вскочил, схватил Герти за руку, подвел опешившую девушку к одному из кабинетов (к тому самому, в котором Галлэхер и Келлехер складировали труп привратника), подтолкнул ее и запер за ней дверь на два оборота ключа, который прочувствовал на себе всю решимость командирской хватки.
Маккормак вернулся к товарищам и произнес следующее:
— Дорогие друзья и товарищи, так продолжаться больше не может. Я говорю не о британцах, они нас уделают, это уж точно, нам крышка, нечего хорохориться, хотя напоследок мы им здорово всыпем, проявим геройство, настоящее геройство, черт бы нас побрал, что касается геройства, то мы им покажем геройство, это уж точно, но что касается девчонки, то это никуда не годится, чего это она вздумала прятаться в туалете, когда разразилась битва, теперь от нее не отвяжешься, что ей нужно, непонятно, но совершенно очевидно и однозначно, что она что-то задумывает, да что там задумывает — обдумывает! А может, уже все обдумала. Нет. Нет. Нет. Пока эта паршивка с нами, все шиворот-навыворот, нужно принять решение, решение совершенно очевидное и совершенно однозначное, черт побери, и это еще не все, нужно объясниться насчет нее, нужно сказать всю правду насчет нее. Вот что я думаю: я здесь командир, и я принимаю решение: прежде всего принять какое-нибудь решение как командир, а здесь командир — я, а после этого или скорее перед этим сказать всю правду о том, что касается по поводу насчет этой особы женского пола, которую я только что затворил в кабинете.
После выступления воцарилась гробовая или даже загробная тишина. Такая запредельная, что даже дежурившим у амбразур стало не по себе.
Каллинен повернулся и объявил:
— На «Яростном» по-прежнему спокойно.
Десятую долю секунды спустя Галлэхер повернулся и объявил:
— На «Яростном» по-прежнему спокойно.
Тут возникло явление интерференции, совсем как на лекции по физике, при сравнении скорости света и звука.
Но присутствующим на интерференции было утробно наплевать. Они переваривали то, что им выдал Маккормак. Смысл произнесенной речи запал караульным так глубоко в душу, что они забросили свою амбразуродозорную деятельность с пренеприятнейшим риском быть вероломно и коварно атакованными подлыми британцами.
Келлехер потерся животом о ствол «максима» и оборвал затянувшуюся паузу следующим обращением:
— Коли ты командир, то продолжай дальше и начинай сначала говорить правду по поводу насчет личности, которую ты только что затворил и которая принадлежит к противоположному нам полу.
— Лады, — сказал Джон Маккормак.
Он засунул руку в распах рубахи и почесал волосатое пузо.
Затем сконфуженно замер.
— Кстати, — сказал Келлехер, — что там делает Диллон? Что-то его долго нет.
LI
Увидев плавающую в луже крови и на значительном расстоянии от тела голову Кэффри, портной с Мальборо-стрит Мэт Диллон упал в обморок.
LII
Маккормак кашлянул, перестал чесать живот и сказал: — Друзья мои, товарищи, эта девушка не должна была находиться здесь, это точно. Мы бы вернули ее британцам, как и следовало бы, но она спряталась. Зачем? Нам это неизвестно. Она не захотела объясниться по этому поводу, значит, остается только предполагать, в чем тут дело. Короче.
— Во-во, «короче», — сказал Келлехер, — все, что ты пока нам рассказал, не больше чем треп.
— Короче, — с бычьим упорством продолжал Маккормак, — как заметил в одной из предыдущих глав Ларри, если мы ее вернем, недопустимо, чтобы она смогла рассказать про нас что-нибудь нехорошее. Наоборот, для общего дела необходимо, чтобы она признала наш героизм и непорочность наших нравов...
Келлехер пожал плечами.
— Значит, недопустимо, чтобы она смогла про нас что-нибудь рассказать. Значит, недопустимо, чтобы что-нибудь произошло. Только что вы все сказали, что были с ней корректны. Все, кроме Кэффри, которого здесь не было, Ларри, который задал вопрос, и...
— И тебя, — сказал Келлехер.
— Да: и меня. Так вот я... я не говорил, что был с ней корректен, потому что, если бы я это сказал, это было бы неправдой. Я был с ней некорректен.
Ошарашенный Ларри посмотрел на Маккормака как на что-то уникальное и невообразимо чудовищное. Он подумал, что тот спятил. Ведь Ларри не отходил от него ни на минуту. Как это могло произойти?
— Или скорее, если уж говорить начистоту, это она была со мной некорректна.
Теперь, когда не оставалось никаких сомнений в сумасшествии Маккормака, Ларри задумался о проблеме практического свойства: чтобы их маленький отряд мог покрыть себя немеркнущей славой в эти последние, оставшиеся им часы, необходим настоящий командир, а не мифоман, да еще предположительно опасный. Значит, это место придется занять ему, О’Рурки. Но как должна пройти передача полномочий? Это его серьезно беспокоило. Трое остальных с должным вниманием ожидали продолжения рассказа.
— Но только никаких доказательств нет, — продолжал рассказывать Маккормак. — Это такое дело, что подробно и не расскажешь. Я никогда еще такого не видел. Что произошло, то произошло. Только, повторяю вам, следов нет. А значит, можно выдать ее британцам. Насчет того, о чем я вам рассказываю, она распространяться не будет.
— Ты слишком торопишься, — сказал Галлэхер, — я так ничего и не понял. Но в твоей запутанной исповеди нет никакой необходимости. Если она захочет, пусть распространяется. Потому что существует абсолютно точное доказательство. Один из нас ее изнасиловал.
— Какой ужас! — вскричал Ларри, мгновенно забыв о своих недавних амбициях.
— И кто же он? — ватно спросил Каллинен.
— Кэффри, — парчово возвестил Галлэхер. — Святой Патрик[*], прими его душу!
— Этот неуч! — вискозно воскликнул будущий врач О’Рурки.
— О, черт! — коверкотно заключил Джон Маккормак.
— Кэффри, — повторил Каллинен. — Кэффри? Кэффри? Кэффри? Кэффри? Кэффри? Кэффри. Кэффри? Как это Кэффри? Как это Кэффри? Ведь это я ее изнасиловал.
Он упал на колени и начал неистово размахивать руками. Пот с него лил градом.
— Это я ее изнасиловал! Это я ее изнасиловал!
Остальные замолчали, даже Галлэхер.
— Это я ее изнасиловал! Это я ее изнасиловал!
Рукомахание прекратилось, и совершенно обессиленный Каллинен замер.
— Это я ее изнасиловал! — повторил он еще раз, но уже не с таким воодушевлением.
— Или, вернее сказать, — добавил он, вытирая лицо своим красивым зеленым платком с золотыми арфами, — или, вернее сказать, она мною овладела.
Он обхватил себя за плечи, низко опустил голову, припал к коленям сидящего Маккормака и стал жаловаться:
— Товарищи, — ныл он, — друзья мои, это она мною овладела. Моя порядочность была застигнута врасплох; я — жертва. Моя маленькая Мод, моя крошка Мод, милая моя невеста, прости меня. Я по-прежнему предан тебе душой, англичанка заполучила только тело. Я сохранил верность и чистоту внутри, а скверна осталась снаружи[*].
— Что за глупости, — завопил Галлэхер, — я же видел Кэффри.
Он похлопал Каллинена по спине:
— Выдумываешь черт знает что, старина, тебе это приснилось, никогда ты на нее не залезал, на эту барышню с почты. Ты просто не в себе. Клянусь тебе, ее изнасиловал Кэффри. Да еще как!
— Замолчи, — прошептал Ларри О’Рурки, и выражение его лица изменилось. — Ведь в эти самые минуты, — продолжал он, — умерший поднимается в чистилище, дабы избавиться от своего сладострастия в лоне святого Патрика, и мы должны быть безупречны.
Каллинен уже не плакал; он внимательно слушал краткое повествование уроженца Инниски. Каллинен убедительно попросил его уточнить, когда именно тот увидел блудящего Кэффри, и тот ответил, что это случилось, когда он понес Кэффри его паек (или lunch). Маккормак заметил, что это могло случиться только тогда. А Каллинен закричал:
— Так вот я — это кошка!
И добавил:
— Что касается кошки, то это было раньше, поскольку это было на закате.
Он вскочил и заметался по комнате.
— Ну? Вспоминаете кошку? Как сказал мне Кэффри, вы поверили, что это была кошка. Это он посоветовал мне сказать вам, что это была кошка. Так вот, мяукающая кошка — это Герти, которой я доставлял ощущения. Потому что именно я лишил ее непорочности, я в этом уверен. Вот доказательство.
И он помахал большим зеленым платком с золотыми арфами, испачканным в крови.
Ларри О’Рурки отвел взгляд, чтобы не видеть доказательство. Он предавался неимоверно трудной умственной гимнастике, чтобы выглядеть внешне спокойным и никак не проявлять эмоции, которые терзали его страшным образом. Ему казалось, что он попал в ад. Ему хотелось по-детски расплакаться; но роль заместителя командира повстанческого отряда на закате провалившегося мятежа удерживала его от детских слез. Он попробовал молиться, но это не помогало. Тогда, чтобы отвлечься, он стал повторять про себя лекцию по остеологии. А Каллинен к тому времени раззадорился не на шутку:
— Я не только был у нее первым, но еще и причастил ее во второй раз. И во второй раз Кэффри меня застукал. Мы как раз закончили. К счастью. Это он посоветовал мне сказать про кошку.
— Да нет же, — прервал его Маккормак, — кошка была совсем недавно.
Каллинен опешил.
— И потом, — продолжал Маккормак, — кошка была не на закате. Это было уже после. Именно в тот момент, когда бритты начали атаковать. Твоя история кажется мне слишком запутанной.
— Я же говорю вам, что это Кэффри, — сказал Галлэхер. — Я же говорю вам, что я его видел.
Каллинен промокнул вспотевший лоб своим красивым зелено-красно-золотым платком и бессильно плюхнулся на пустой ящик из-под уиски.
— Я знаю точно, что поимел ее два раза. Сначала первый раз, а потом второй. Кошка, это было во второй раз. И ощущения тоже. В первый раз она молчала. Очень мужественно с ее стороны. Надо сказать, что она сама захотела. А потом сама же и разнылась. Я вел себя не грубо, но я плохо себе представляю, как может страдать девушка в этот момент. А вы?
Стоящий на посту Келлехер, не оборачиваясь, ответил, что об этом нужно спросить у Ларри О’Рурки, поскольку, учитывая его медицинские познания, он должен иметь на этот счет обоснованное мнение.
Студент ничего не ответил, схватил бутылку уиски, отбил о край стола горлышко и залил изрядную порцию себе в глотку. Это было не в его правилах, но он нервничал.
— И вот еще что, обычно я делал это с телками, которые перепробовали на своем веку немало мужиков, настоящих быков, после которых твое тырканье не очень-то их пронимает. А тут впервые мне попалась молодая неопытная девушка без всяких проб и прониманий. А вам уже случалось иметь дело с такими недотрогами?
— Ты нас затыркал своими рассказами, — сказал Галлэхер. — Я же сказал, что видел, как Кэффри на ней лежал.
— Может быть. Может быть. Но уже после. После того, как лежал я. А потом у меня есть масса доказательств. Сколько угодно. Бесчисленное множество. Даже непонятно, что с ними делать. Во-первых, это (он потряс своей промокашкой, как флагом). Во-вторых, кошка. А еще, еще, например, вот что: я знаю, что у нее под платьем. Могу об этом рассказать. Это тоже доказательство. Да, ребята, я могу вам рассказать, что она носит под платьем. Она не носит панталоны, отделанные гипюром с ирландскими стежками, она не носит корсеты из китового уса, эдакие доспехи, как леди или бляди, которых вы, возможно, когда-нибудь раздевали.
Тут Маккормак стал думать о своей жене (до этой минуты у него не было времени на подобные раздумья), которую он никогда не раздевал, которую он никогда не видел раздевающейся и которую он находил по вечерам уже в кровати, где она определялась на ощупь эдакой большой мягкой массой; а Ларри О’Рурки стал думать о женщинах на Симсон-стрит с их пеньюарами, черными чулками и грязно-розовыми подвязками, о женщинах, на которых ничего или почти ничего, кроме этого, не было, отчего даже субботними вечерами становилось невообразимо грустно; а Галлэхер стал думать о своих землячках, которые одевались в лохмотья и которых брюхатили, не обращая внимания на их телосложение, в тени заветных валунов и каменных истуканов; а Келлехер стал думать о своей матери, которая всегда ходила во что-то затянутая, с какими-то болтающимися из-под юбки шнурками и завязками, что и привлекло его к более эстетичным мужским шестеринкам.
— Когда трогаешь ее тут, — (и он взял себя за бока), — то под платьем чувствуешь голую кожу, а не тряпки, штрипки и китовые усищи. Голая кожа.
— Ты правду говоришь? — спросил Диллон.
Никто не услышал, как он спустился. Все были слишком увлечены.
— Долго же ты, — сказал ему Маккормак, — что ты там делал?
— Я упал в обморок.
На какую-то долю (приблизительно одну треть) секунды Галлэхер остолбенел, после чего взорвался от хохота. Ему было очень смешно, аж до слез.
— Не забывай, что в доме покойник, — сказал Келлехер, не поворачивая головы.
Галлэхер замолчал.
— Ну? — спросил Маккормак у Диллона.
— Голова откатилась довольно далеко от тела. Мне от этого и стало плохо. Придя в себя, я застегнул ему штаны, скрестил руки на груди, на руки положил голову, сверху накрыл скатертью и прочитал несколько заупокойных молитв.
— Ты думал о святом Патрике? — спросил Галлэхер.
— А потом я спустился. Выпить найдется?
Ларри протянул ему бутылку уиски и робко спросил:
— А при чем здесь штаны?
Мэт, отхлебнув из бутылки, пожал плечами.
— Вот видите, я был прав, — сказал Галлэхер.
— А я? — добавил Каллинен.
Покончив с уиски, Мэт удовлетворенно вздохнул, рыгнул, швырнул бутылку, которая вдребезги разбилась о почтовый ящик с надписью «Международные», и снова сел.
Все продолжали молча размышлять. Все закурили сигареты, за исключением Маккормака, который больше склонялся к посасыванию трубки.
— Все-таки, — выдавил он из себя, — нам нельзя ее отдавать.
— Но и убивать ее тоже нельзя, — сказал Галлэхер.
— Что она может о нас подумать! — прошептал Маккормак.
— Ну, насчет этого, — вскричал Каллинен, — мы тоже можем о ней кое-что подумать.
— Она ничего не скажет, — сказал Келлехер, не оборачиваясь.
— Почему? — спросил Маккормак.
— Такие вещи девушки не рассказывают. Она будет молчать или же скажет, что мы герои, а нам больше ничего и не надо. Но по-моему, не следует ее отдавать. Давайте о ней больше не думать, лучше спокойно подохнем, как настоящие мужчины. Finnegans wake!
— Finnegans wake! — ответили остальные.
— Смотри-ка, — сказал Келлехер, — похоже, что на «Яростном» начинают просыпаться.
Галлэхер и Маккормак побежали к своим боевым позициям. Каллинен устремился за ними, но Диллон его удержал:
— Это правда, то, что ты сейчас рассказал?
— По поводу малышки? Конечно. Жаль, если британцы меня ухлопают; потом было бы что вспомнить.
— Нет, о том, как она была одета.
— Тебя это интересует?
— Сейчас я их немного расшевелю, — объявил Келлехер, и пулемет его застрочил.
Диллон оставил Каллинена у бойницы и направился к кабинету-карцеру. Ключ был в дверях.
Раздался первый пушечный выстрел.
LIII
Снаряд залетел в сад Академии. Что и говорить: поражение цели по-прежнему велось с явной медлительностью. У командора Картрайта на душе скребли кошки.
LIV
В ту самую минуту, когда снаряды посыпались не на, а, как и раньше, вокруг почтового отделения на набережной Иден, Диллон, беззвучно повернув ключ в скважине дверного замка и не менее беззвучно толкнув дверь, вошел в кабинет.
Герти Гердл расстелила на стуле свое окровавленное платье, не иначе как для того, чтобы оно высохло, и теперь, сидя в кресле, предавалась мечтаниям. На ней не было ничего, кроме лифчика, трусиков самого модного для того времени фасона и облегающих шелковых чулок со строго вертикальным рисунком.
На другом стуле висела комбинация, из которой в задымленный воздух выпаривался кэффрийский пурпур, ежели столь высокопарно выраженное действительно возможно.
Голубоглазая Герти о чем-то мечтала. И, похоже, зябла. Отчего легкий и обычно, то есть в более спокойные времена, стелящийся пушок вставал дыбом на ее омурашенной коже.
Застывший Диллон рассматривал девушку, а подчиненные Картрайта и приятели Келлехера продолжали исполнять воинственную симфонию. Она, Герти, подняла глаза и увидела его, Мэта Диллона. Даже не вздрогнула, только спросила:
— А мое подвенечное платье?
— Значит, это были вы, — задумчиво протянул Мэт.
— Я вас сразу же узнала.
— Я тоже.
— Я не хотела вас компрометировать в глазах товарищей.
— Ничего.
— То есть?
— Все равно спасибо.
— Значит, вы все-таки об этом думали.
— Думать мне никто не запрещал.
— Вы его сшили?
— Полностью.
— А что скажете об этом?
— Испорчено окончательно.
— Мне холодно.
— Набросьте на себя что-нибудь.
— Что?
— Что угодно.
— Скатерть?
— Я не это имел в виду.
— Вы же видите, мне холодно.
— Ну, не знаю.
— Но ведь вы портной!
— Позвольте мне на вас посмотреть.
— Пожалуйста.
— Каллинен был прав.
— Что за Каллинен?
— Тот, который...
— Который что?
— Тот, которого...
— Которого что?
— Простите, но я все-таки джентльмен.
— Мистер Диллон, а правда, что вам не нравятся женщины?
— Правда, мисс Герти.
— Неужели вам меня не жалко? Мне так холодно.
— Позвольте мне на вас посмотреть.
— Видите? Я не ношу корсет.
— Это меня невероятно заинтересовало... Вы — первая...
— Женщина.
— ...Девушка.
— Нет: женщина.
— ...которая следует этой новой моде.
— Возможно.
— Это так.
— И что вы об этом думаете?
— Еще не решил.
— Почему?
— Старые привычки.
— Это глупо.
— Я знаю.
— Вы ведь следите за модой?
— Слежу.
— Так что?
— Говорю же вам... это меня скорее сбивает с толку.
— Значит, вас не поразили мои трусики? Трусики из Франции, из Парижа. Которые мне удалось достать в самый разгар войны. Вас это не поражает?
— Поражает. В общем, не так уж плохо.
— А лифчик?
— Очень элегантно. Да и грудь у вас, должно быть, красивая.
— Значит, вы не совсем безразличны к женским прелестям?
— Я говорю с чисто эстетической точки зрения.
Это было единственное слово греческого происхождения, которое знал портной с Мальборо-стрит.
— В таком случае, — сказала Герти, — я вам ее покажу. Похоже, она у меня действительно красивая.
Герти немного наклонилась, грациозно завела руки за спину, как это делают женщины, расстегивающие лифчик. Упав ей на колени, деталь несколько секунд сохраняла прежний объем, после чего опала. Обнаженные груди оказались плотными и круглыми, низко посаженными, с высоко вздернутыми и еще не успевшими побагроветь от мужских укусов, а значит, пока светлыми сосками.
Несмотря на привычную для своей профессии, а также для своих склонностей способность невозмутимо наблюдать за женщинами на различных стадиях обнажения, Мэт Диллон был вынужден отметить, что за считанные секунды объем его тела частично и значительно (по сравнению с обычным) увеличился. А еще он заметил, что Герти это тоже заметила. Она перестала улыбаться, ее взгляд посуровел. Она поднялась.
Вытянув руки вперед, Диллон сделал три шага назад и пролепетал:
— Я сейчас принесу вам платье... Сейчас принесу вам платье...
Взмокший и похолодевший от пота, портной развернулся, пробкой вылетел из кабинета и очутился за дверью, которую запер на ключ. На несколько секунд замер, переводя дыхание. Затем пустился в путь. Вздрогнул, проходя мимо дамского туалета, откуда эта девчонка вылезла, как Афродита из воды. Дошел до маленькой двери, которую разбаррикадировал. Оказался во дворике. Приставил к стене лестницу. Поблизости разорвался снаряд. Диллона осыпало землей, гравием, гипсовыми ошметками. Он перемахнул через стену и упал во двор Академии, усеянный воронками. Все послеантичные статуи уже успели потерять свои цинковые фиговые листья, и Диллон сумел на бегу оценить раскрывшиеся таким образом мужские достоинства. Он снова ощущал себя в нормальной и здоровой обстановке, а заметив, что при обстреле пострадали лишь Венеры и Дианы, даже улыбнулся этому странному стечению членовредительских обстоятельств. Метрах в ста от него разорвался еще один снаряд. Взрывной волной его опрокинуло на землю. Он поднялся, целый и невредимый, и побежал дальше.
Большие стеклянные двери Выставочного зала были разбиты.
Диллон пересек опустевший музей, не останавливаясь перед всей этой мазней, слегка взбудораженной артобстрелом. Выход на Нижнюю Эбби-стрит был открыт; сторожа, не испытывая особого желания подохнуть ради сомнительных сокровищ, сбежали, вероятно, еще в начале восстания.
На улице не было ни души. Брошенный трамвай. Диллон побежал вдоль фасадов в сторону Мальборо-стрит.
LV
— Что-то здесь не так, — сказал Маккормак, прекращая стрелять и отставляя винтовку.
Остальные последовали его примеру; Келлехер отложил в сторону пулеметную ленту.
— Это ненормально, — продолжал Джон. — Как будто специально. Фигачат вокруг, но не в нас. Как будто снаряд, который снес голову Кэффри, — святой Патрик, прими его душу! — попал совершенно случайно.
Он взял бутылку уиски, отпил и передал другим. Бутылка вернулась к нему пустой. Он закурил трубку.
— Каллинен, ты на посту.
Остальные закурили сигареты.
— Если мы проведем здесь еще одну ночь, хорошо бы похоронить Кэффри, — сказал Галлэхер.
— А мне на этих британцев насрать, — внезапно произнес Каллинен.
О своих националистических воззрениях он сообщил, не оборачиваясь; выполняя полученный приказ, он обозревал окрестности, скрывающие вражеское присутствие. Каждые сорок секунд «Яростный» окутывался в ватное облачко, появляющееся на конце какой-нибудь из его смертоносных трубочек.
— Я бы побрился, — сказал О’Рурки.
Каждый посмотрел на своих соседей. Лица у всех посерели и покрылись щетиной. Взгляды некоторых дрожали.
— Хочешь выразить свое почтение Гертруде? — спросил Галлэхер.
— А ведь ее действительно зовут Гертруда, — прошептал О’Рурки. — Я совершенно забыл.
Он как-то странно посмотрел на Галлэхера:
— А ты-то почему запомнил?
— Заткнитесь! — сказал Келлехер.
— Не будем о ней говорить, — гаркнул Маккормак. — Мы же договорились, что больше не будем о ней говорить.
— А Диллон? Его нет, — выпалил Келлехер.
Все выразили удивление.
— Может быть, на втором этаже, — предположил Маккормак.
— Или с девчонкой, — сказал Галлэхер.
— Он? — прыснул со смеху Каллинен.
Все увидели, как он затрясся. Потом замер. Затем все услышали:
— Все. Мне на этих бриттов насрать.
— Действительно, странно, — сказал О’Рурки. — Как будто они нас жалеют.
Он провел рукой по щекам.
— Я бы побрился, — сказал он.
— Сноб, — сказал Галлэхер. — Хочешь понравиться Гертруде?
Маккормак потряс своим кольтом:
— Черт бы вас побрал! Первого, кто о ней заговорит, я шлепну на месте, понятно?
— Надо бы похоронить Кэффри до наступления ночи, — сказал Галлэхер.
— Где же Диллон? — спросил Келлехер.
— Попробую найти где-нибудь бритву, — сказал О’Рурки.
Пока остальные хранили молчание, он заходил по комнате, роясь во всех ящиках и не находя в них ничего подходящего.
— Черт, — сказал он, — ничего.
— Неужели ты думаешь, — сказал Галлэхер, — что почтовые барышни бреются, да еще и одноразовыми бритвами? Нужно быть законченным интеллектуалом, чтобы представить себе такое.
— А мне, — сказал Каллинен, — мне на этих британцев насрать.
— Почему бы и нет? — возразил Келлехер. — Диллон рассказывал, что есть женщины, правда не почтовые барышни, а настоящие леди, которые бреют себе ноги одноразовыми бритвами.
— Вот видишь, — сказал О’Рурки, продолжая рыться в ящиках, Каллинену, который продолжал стоять на посту к ним спиной.
— А мне кажется, — сказал Галлэхер, — что надо бы похоронить Кэффри до наступления сумерек.
— Говорят даже, — продолжал Келлехер, — говорят даже, что есть бабенции, которые заливают себе ноги чем-то вроде воска и, когда эта штука остывает, отдирают ее вместе с волосами. Радикально, хотя больновато, и потом, позволить себе такое могут только суперледи, чуть ли не прынцессы!
— Хитроумно, — сказал О’Рурки.
Он мечтательно теребил тюбик красного воска для печатей.
— Попробуй, — сказал ему Келлехер.
— Все, — сказал Каллинен, — в гробу я видел этих британцев.
— Нельзя же сидеть всю ночь рядом с трупом, — сказал Галлэхер.
— Интересно, где Мэт Диллон, — сказал Маккормак.
— А чем? — спросил Ларри.
— Тем, что ты держишь в руке.
— Да шутит он, — сказал Галлэхер.
— Может быть, Диллон мертв, — сказал Маккормак. — Мы об этом не подумали.
— Я его растоплю и вылью тебе на лицо, — сказал Келлехер. — Вот увидишь, какая гладкая кожа получится.
— Надо бы откупорить еще пузырь уиски, — сказал Маккормак.
Очередной снаряд взорвался в соседнем доме. С треснувшего потолка посыпалась штукатурка.
— Мне на этих британцев насрать, — сказал Каллинен.
LVI
Обстрел закончился. Ларри противно стонал от боли, а Келлехер, сидя у него на животе, — чтобы не дергался, — отдирал перьевой ручкой воск и прилипшую к нему щетину. Галлэхер и Маккормак взирали на это увлекательное зрелище, выскабливая тунца из консервной банки. Каллинен продолжал наблюдение за «Яростным».
— Судя по тому, что рассказывал Диллон, — сказал Келлехер, — женщины ведут себя более мужественно.
— Судя по всему, — заметил Галлэхер, пережевывая законсервированную в масле рыбу, — они, пожалуй, повыносливее нас.
— Нужно признать, — добавил Маккормак, — что, когда они впрягаются, они способны вынести больше нас.
— Например, когда рожают, — сказал Галлэхер. — Представляю себе наши рожи, если бы это пришлось делать нам. Правда, Келлехер?
— Ты это к чему?
Он только что доскреб подбородок и, отскоблив левую щеку, взялся за правую. Мокрый от пота Ларри был нем, как рыба. Только нервно шевелил пальцами ног на дне ботинок, но никто этого не видел.
— Мы, мужчины, — сказал Маккормак, — начинаем ныть всякий раз, когда приходится страдать. А женщины страдают все время. Они, можно сказать, для этого и созданы.
— Что-то ты разговорился, — заметил Галлэхер.
— А мне, — сказал Каллинен, не оборачиваясь, — мне на этих британцев насрать.
— Приближение смерти сделало его мыслителем, — во всеуслышание заявил Келлехер, который почти закончил истязать О’Рурки. — Какой ты у меня будешь красивый, — прошептал он на ухо истязаемому.
— Мы, мужчины, — продолжал Маккормак, — это касается самого важного, вы меня понимаете?
— Еще как понимаем, — заверил его Галлэхер, вылавливая из банки остатки самого важного.
— Ну так вот, нам это всегда в удовольствие. А женщинам приходится много чего пережить, начиная с того момента, когда они перестают быть девушками...
— Ну уж, — сказал Каллинен, — не надо преувеличивать.
— Теперь ты неотразим, — воскликнул Келлехер, отпуская Ларри.
Тот встал и провел рукой по гладким отныне щекам.
— Красиво сработано, — сказал Галлэхер.
По всему лицу Ларри выступили капельки крови. Он задумчиво посмотрел на свою пурпурную ладонь.
— Ничего страшного, — сказал Келлехер.
— Я хочу есть, — заявил О’Рурки.
Маккормак протянул ему начатую банку тунца и кусок хлеба[*]. Но погруженный в глубокую задумчивость Ларри к ним даже не притронулся. Он встал и направился к кабинету.
— Она, наверное, тоже хочет есть, — прошептал он.
Остановился и вернулся к своим соратникам:
— Вот я... я буду с ней корректен.
— А мне, — сказал Каллинен, не оборачиваясь, — мне на этих британцев насрать.
— Где же Диллон? — спросил Келлехер.
— Сходи посмотри, — сказал Галлэхер О’Рурки.
— Она не должна погибнуть, — сказал О’Рурки.
— Почему? — спросил Галлэхер.
— Это будет несправедливо, — сказал О’Рурки.
— Я приказал вам не говорить о ней.
— Она не должна погибнуть, — повторил О’Рурки.
— А мы? — спросил Галлэхер.
— Поделись тогда с ней своим тунцом, — сказал Келлехер. — Хотя, может быть, она не любит гладко выбритых мужчин.
— А я ее люблю, — сказал О’Рурки.
— Хватит, — одернул его Маккормак.
— А я ее люблю, — повторил О’Рурки.
Он, насупившись, оглядел всех по очереди. Все молчали.
Ларри развернулся и направился к маленькому кабинету.
Обстрел так и не возобновлялся.
LVII
Картрайт еще раз прочитал сообщение генерала Максвелла. Надлежало до заката солнца уничтожить последний оплот мятежников. Без чего говорить об окончании, об окончательном окончании мятежа, было невозможно. Нельзя было допустить, чтобы последние инсургенты продержались еще одну ночь.
Картрайт вздохнул (но не тяжело) и посмотрел на почтовое отделение на набережной Иден, продырявленное лишь на уровне второго этажа. Близлежащие здания пострадали намного серьезнее. Увиливать дальше и больше представлялось нереальным. Командор Картрайт не мог предать своего Короля и свою страну. И потом, что за привидение померещилось ему на том берегу? Теперь он будет стрелять точно в цель.
Он направился к канонирам.
LVIII
Ларри закрыл за собой дверь и потупил взор. В руках он держал кусок хлеба и консервную банку. Герти сидела в кресле, повернувшись к нему спиной. Он видел лишь ее светлые, коротко остриженные волосы.
— Я принес вам поесть, надо подкрепиться, — произнес О’Рурки слегка взволнованным голосом.
— Кто вы такой? — сурово спросила Герти.
— Меня зовут Ларри О’Рурки. Я студент медицинского колледжа.
— Это вы мне подтирали нос, не так ли?
Смущенный Ларри что-то забормотал в ответ, потом замолчал.
— А что вы мне принесли?
— Хлеб и тунца.
— Положите сюда.
Не оборачиваясь, она указала рукой на стол. Ларри подошел к столу и увидел, что указующая рука была обнажена. Затем он заметил платье, разложенное на одном стуле, и комбинацию на другом. Из чего сделал надлежащие выводы.
После чего застыл, опешивший и ошарашенный.
— Я слышу ваше дыхание, — сказала Герти, не притрагиваясь к пище.
— О Господи, о Господи, — прошептал О’Рурки, — что я здесь делаю?
— Что вы там бормочете?
— О святой Иосиф, о святой Иосиф, я не смог устоять, я не смог устоять, и вот я у ног этой женщины, которая явилась мне в состоянии абсолютной наготы, и я пришел открыть ей свою любовь, свою непорочную, рыцарскую и вечную любовь, но на самом деле мне хочется сделать то же самое, что делали все остальные мерзавцы.
— Что вы там лопочете? Читаете молитву?
— Теперь я себя понимаю: Каллинен, Кэффри, вот кому я подражаю. Несчастная девушка, невинная девушка, которую они опозорили и которую я в глубине души тоже мечтаю опорочить. О святой Иосиф, о святой Иосиф, помоги мне остаться чистым. О святая Мария, сотвори чудо и верни девственность моей невесте Гертруде Гердл!
— Отвечайте же: что вы там шепчете?
— Я люблю вас, — прошептал очень-очень тихо Ларри.
— Вы ведь закоренелый папист, не так ли? — продолжала Герти, так и не услышав признания. — Но я не понимаю, почему вы пришли святошничать именно ко мне? Вы надеетесь меня обратить в свою веру?
— Да, надеюсь, — громко ответил О’Рурки. — Я могу жениться только на истинной католичке, а жениться я хочу на вас.
Герти вскочила и повернулась к нему.
— Вы окончательно спятили, — сурово изрекла она. — Неужели вы не понимаете, что вы скоро умрете?
Но Ларри ее не слушал. Ему было довольно того, что он ее видел. И видел ее не просто голой, а еще и в эластичных трусиках и чулках. Блаженный О’Рурки разинул рот.
Она топнула.
— Неужели вы не понимаете, что скоро умрете? Вы не понимаете, что через несколько часов будете мертвы? Вы не понимаете, что до наступления ночи превратитесь в труп?
— Вы — красивая, — пролепетал О’Рурки, — я люблю вас.
— Мне противны ваши грязные сантименты. И что это за омерзительные капельки крови на ваших щеках?
— Вы — моя невеста пред Богом, — сказал О’Рурки.
Он закатил глаза к потолку; еще немного, и он бы увидел Всевышнего.
Герти снова топнула.
— Пойдите прочь! Прочь отсюда! Ваши гнусные суеверия мне отвратительны.
Но Ларри уже протягивал к ней руки:
— Моя жена, моя дорогая женушка!
— Уходите. Уходите. Вы — сумасшедший.
— Бог благословляет наш идеальный союз.
— Оставь меня в покое, мерзкий поп!
Он шагнул к ней.
Она отступила.
Он сделал еще один шаг.
Она попятилась.
Так как комната была небольшой, Герти скоро уперлась в стенку.
Короче говоря, влипла.
Ларри приближался, вытянув руки, как человек, который ничего не видит в тумане. Его пальцы дотронулись до Герти; уткнулись чуть выше груди. Ларри быстро отдернул руки, как человек, который обжегся.
— Что я делаю? — прошептал он. — Что я делаю?
— Сумасшедший! — завопила Герти. — Сумасшедший!
LIX
— Слышишь? — спросил Келлехер у Маккормака.
Маккормак пожал плечами:
— Надо было сразу ее пристрелить, только корректно. Впрочем, теперь это не имеет значения. Главное — наше общее дело. Будет ужасно, если скажут, что мы в эти трагические минуты вели себя недостойно.
— Вас простят, — сказал Келлехер. — Здесь не только ваша вина.
— Да, но кто об этом узнает? — спросил Маккормак.
— Нужно, чтобы она осталась в живых, — сказал Келлехер. — Она ничего не расскажет. Если британцы найдут ее труп рядом с нашими, получится некрасиво. А вот если она останется в живых, тогда уверен, она скажет, что мы к ней очень хорошо относились. Так оно, несмотря ни на что, и было.
— У меня мысль, — сказал Маккормак. — Отведем ее в подвал. Здесь должен быть подвал.
— Пойду посмотрю, — сказал Келлехер.
Они снова услышали крики.
— Ну и ну, — сказал Галлэхер, — кажется, все ее поимели, кроме меня.
— А я? Или ты думаешь, что она меня не интересует? — спросил Келлехер.
Каллинен повернулся к ним и объявил, что на «Яростном» что-то затевается.
LX
О’Рурки заключил Герти в объятья и задумался; он не знал, что с ней делать дальше. Она вырывалась и осыпала его ругательствами. Он крепко, изо всех сил прижимал ее к себе. О’Рурки уже не думал о том, что говорил несколько минут назад. Он продумывал тактику, которой следовало придерживаться, совершенно не отдавая себе отчета в том, что он вообще что-то обдумывал. Он решил, что лучше всего было бы повалить ее на пол; он не очень хорошо представлял себе, как справится с ней в кресле.
Пока его мозг разрабатывал план дальнейших действий, руки распустились и загуляли по телу Гертруды; О’Рурки по-прежнему прижимал девушку к себе, а посему смог познать в основном лишь ее спину да груди, которые упирались в него сосками. Руки инсургента спустились ниже и прикоснулись к эластичной (что было само по себе любопытно) ткани, которая скрывала под собой (что было не только любопытно, но и невообразимо приятно) самые главные прелести.
Он тяжело задышал. План действий так и не был разработан. Внезапно Герти перестала сопротивляться и, прижавшись, прошептала ему (блаженному от щекочущих волос):
— Неужели такой придурок, как ты...
Она, похоже, была уже согласна на все. И даже проявляла удивительную предприимчивость и решительность, что казалось странным для юной особы, которая от общения с такими мужланами, как Каллинен и Кэффри, должна была приобрести исключительно негативный опыт. О’Рурки счел, что настало время ее поцеловать. Но Герти предупредила дальнейшие вольности и нанесла сокрушительный удар по его иллюзиям.
Взвыв от боли, О’Рурки отскочил назад.
Его поразила не столько причиненная боль, сколько проявленное коварство.
LXI
— Огонь!
Так командор Картрайт лично возглавил окончательную операцию.
LXII
— Вж-ж-ж, — прожужжал снаряд.
LXIII
Снаряд пробил витрину почтового отделения на набережной Иден и, попав в стену, разорвался в зале. Следующий снаряд повторил траекторию предыдущего. Третий снаряд снес второй этаж. Крыша рухнула. Некоторые снаряды падали на тротуар, некоторые стремились во что бы то ни стало распахать сад Академии и изувечить статуи. Но большинство со свистом влетало прямо в почтовое отделение на набережной Иден.
Шесть минут спустя Картрайт решил, что руинообразное состояние почты генерал сочтет приемлемым и удовлетворительным. Он приказал прекратить огонь, чтобы дождаться, когда туман рассеется и можно будет оценить результаты. А может быть, даже — предположительно — высадиться, чтобы подобрать уцелевших.
LXIV
Когда все вроде бы стихло, Мэт Диллон вылез из воронки, послужившей ему укрытием во время обстрела. Он с удовольствием отметил, что коробка, которую он нес под мышкой, уцелела.
Чтобы попасть из сада Академии в почтовое отделение на набережной Иден, лестницы не требовалось; стена рухнула, оставалось лишь забраться на кучу битых кирпичей. Маленькую дверь вышибло напрочь. Первое, что он увидел, проникнув в почтовый зал, была Герти, которая стояла, прислонившись к стене, и туманным взором оглядывала весь этот развал. За время отсутствия Диллона одежды на ней не прибавилось. Паркетный пол был усеян трупами. Келлехер, вцепившись в свой пулемет, шатался и тряс головой; его только оглушило. Но Маккормак, Галлэхер и Каллинен, похоже, погибли. О’Рурки стонал. Лишь он один вздумал довольно пошло агонизировать. В низу его живота разбухало большое пурпурное пятно.
— Герти... Герти... — тихо взывал он.
Диллон поставил коробку на кучку разномастных обломков и подошел к издающему стоны О’Рурки.
— Герти... Герти...
Герти не двигалась. Диллон подумал, что Ларри досталось изрядно и что он вряд ли выживет.
— Мужайся, старина, — сказал Диллон, — тебе осталось недолго.
— Герти, я люблю тебя... Герти, я люблю тебя... Герти, я люблю тебя...
— Ну, ладно, старина, не дури. Хочешь, я прочту заупокойную молитву?
— Почему она не подходит? Где она? Она жива, я знаю.
Диллон приподнял ему голову, и Ларри, приоткрыв глаза, увидел по-прежнему обнаженную и по-прежнему красивую Герти. Он улыбнулся ей. Она строго на него посмотрела.
— Я люблю тебя, Герти. Подойди.
Она даже не шелохнулась.
— Подойдите к нему, — сказал ей Мэт. — В таком состоянии он не причинит вам вреда.
— Вы принесли мое платье? — спросила она.
— Да. Сделайте то, о чем он просит.
Она сделала, не скрывая своей враждебности. Когда она оказалась рядом с ним, Ларри оглядел долгим, полным эстетического восхищения взглядом точеные бедра, изгиб талии и округлость грудей. Затем грустно покачал головой и закрыл глаза. Чуть пошевелился. С трудом засунул руку в штаны. Потом вытащил ее, что-то сжимающую и окровавленную. Глядя на Герти, протянул ей руку и разжал кулак. Герти наклонилась, чтобы рассмотреть.
— Герти, это предназначалось тебе, — прошептал он. — Герти, это предназначалось тебе.
Он опустил голову, и глаза его на этот раз окончательно закрылись. Рука упала, сжимаемый кусочек плоти выкатился на паркет. Ларри О’Рурки был мертв. Диллон поправил ему голову, встал и перекрестился, хотя, как и любой истинный католик, тяготел к атеизму.
Носком туфельки, небрежно-небрежно, Герти принялась подталкивать окровавленный ошметок человеческого тела, пока тот не исчез в паркетном проломе.
— Жалкая безделушка, — прошептала она.
Затем повернулась к куче обломков и схватила коробку.
— Это мое платье? — спросила она у Мэта.
— Requiescat in расе[13], — пробормотал Диллон. — Между нами говоря, он, должно быть, умер в момент совершения смертного греха.
Диллон сел на сломанный стул и принялся задумчиво скручивать сигарету. Он внимательно разглядывал Герти.
— Видите ли, — сказал он наконец, — я понял, что с корсетами покончено, но это вовсе не значит, что когда-нибудь они в том или ином виде снова не войдут в моду.
— Вы меня смешите, — сказала Герти.
— Разумеется, вы очень красивы и в этом эластичном поясе, который вас совсем не стесняет. Но...
— Согласитесь, в этом есть что-то строгое, спортивное, классическое, разумное...
— Да уж, разумное, разумное. Чтобы раздеть женщину, одного разумного недостаточно. Видите ли... — Диллон запнулся: — Вы позволите называть вас Гертрудой?
— Ой-ой-ой, — заойкал присохший к пулемету Келлехер, который не упустил из разговора ни одного слова, — какая обходительность.
— Видите ли, — повторил Мэт Диллон, — я очень хорошо представляю себе возвращение корсетов лет через двадцать-тридцать.
— Какое это имеет отношение ко мне?
— Я так и вижу статью в парижской газете того времени, что-нибудь в духе: «Давно забытый корсет — сенсационное появление в начале этого сезона. Придает новую форму женскому телу. Корсет — это оживающая скульптура. Повеления моды еще более категоричны, чем требования высшей философии».
— Теперь его занесло в провидцы, — сказал Келлехер, который внимательно наблюдал за действиями экипажа «Яростного». — Перед смертью такое бывает.
— А еще, — продолжал Диллон, — «лифы из розового нейлона, укрепленные китовым усом. Пышные груди отдыхают в своих тюлевых колыбельках». А еще корсетник «из эластичного трикотажа, спускающийся до бедер. В верхней части используется другая, более твердая материя, что позволяет выгодно подчеркнуть формы и заузить талию». Статья закончится воскрешением в памяти корсета, исчезнувшего после тысяча девятьсот шестнадцатого года, этого великого режиссера-постановщика нового женского силуэта: «выдающиеся груди, декоративно осиная талия и парижский задник».
— Браво, — сказал Келлехер, — ты несешь выдающуюся чушь.
— Я предпочитаю свою собственную моду, потому что она современна, — сказал Герти.
— Откровенно мужская тенденция. Зауженные бедра, сглаженные груди, квадратные плечи.
— Кажется, они собираются высаживаться, — сказал Келлехер. — Они, наверное, думают, что мы все погибли. Сейчас выпущу по ним очередь, а они подкинут нам еще парочку снарядов.
— Это кто такой? Я его не знаю, — сказала Герти, как бы открывая для себя существование Келлехера. — А остальные погибли?
— Начиная с Кэффри, — хладнокровно ответил Диллон.
— Черт возьми! — заорал Келлехер. — Черт побери этот сраный механизм! Пулемет заело. А эти ублюдки приближаются.
Он засуетился вокруг пулемета.
— Ничего не могу сделать. Не понимаю, в чем дело.
Он повернулся к товарищам по выживанию и увидел Герти. Из ее разговора с Диллоном он ничего не понял, как не понял и того, при чем здесь платье. Но англичанку оглядел с интересом и даже подошел поближе.
— Мне пора надевать платье, — мягко произнесла Герти.
Она поставила коробку на пол. Диллон перерезал бечевку. Она открыла коробку. Диллон развернул папиросную бумагу. Она заглянула внутрь.
— Мое свадебное платье! — воскликнула она.
И добавила, обращаясь к Диллону:
— Как это любезно с вашей стороны.
Диллон помог ей надеть платье.
Келлехер по-прежнему стоял рядом с ними.
— Пошевеливайтесь. Сейчас спустимся в подвал, постреляем им по ногам, а потом героически подохнем. Живыми они нас не возьмут.
— Неужели? — спросила Герти с невинным видом.
— Ну, вы-то останетесь в живых. Пошевеливайтесь.
— А лифчик? Я его потеряла.
— Да и Бог с ним, — сказал Мэт, — вам он не нужен.
— Но это не очень корректно, — сказала Герти.
— И особенно не трепитесь, — сказал Келлехер, — когда вас обнаружат возле наших трупов.
— Не трепитесь? Что это значит?
— Давай же, Мэт, пошевеливайся. Тебе словно доставляет удовольствие ее щупать. Да, малышка, это значит, что тебе придется помолчать.
— Насчет чего? Почему?
— Мы — герои, а не мерзавцы. Понимаешь?
— Может быть.
— Да все ты прекрасно понимаешь. Без тебя мы бы погибли без всяких осложнений, но из-за того, что ты вздумала отлить в самый ответственный момент нашего повстанчества, теперь на нашу доблесть может упасть тень грязной сплетни и омерзительной клеветы.
— Как подумаешь, с чего все начинается, — рассеянно объявил Диллон.
Он отошел на несколько шагов, чтобы оценить свою работу.
— Красиво, правда? — спросил он у Келлехера.
— Да. Высший класс. Еще немного, и ты убедишь меня в том, что и женщины могут быть привлекательными, — ответил тот.
И добавил, обращаясь к Герти:
— Ты меня слышишь? Ничего не произошло. Ничего не произошло. Ничего не произошло.
— Такое может утверждать мужчина, — ответила Герти, нескромно улыбаясь. — Женщина — дело другое.
Она бросила на него колюче-проволочный взгляд.
— А вы этого не знали? Как понимать то, что вы ему сейчас сказали? Что значит: «и женщины могут быть привлекательными»?
— Довольно. Теперь она предупреждена, и мы можем спуститься в подвал, чтобы дать наш последний бой.
— Пошли, — философски отреагировал Диллон.
Герти схватила Келлехера и, удерживая его перед собой, начала возмущаться:
— Отвечайте. Неужели вы не понимаете, что ваше «ничего не произошло» — это просто глупость? Или я должна объяснить вам все жестами?
— Я сказал вам, чтобы после нашей смерти вы молчали.
— Почему? Ради славы вашей Ирландии?
— Да.
— Забавно, — сказала Герти.
— Ты, может быть, не знаешь: она выходит замуж за того типа, который нас бомбит.
— Забавно, — сказал Келлехер.
Он вырвался и теперь уже сам схватил Герти за руку. И изо всех сил затряс ее:
— Ты ведь будешь молчать после нашей смерти, да? Кэффри, Каллинен, Маккормак, О’Рурки, все они были храбрыми и безупречными бойцами. Ты ведь не будешь поливать их грязью?
— Вы думаете, я помню, как их звали? Вот вас — как зовут?
— Корни Келлехер, — ответил Мэт Диллон.
— Заткнись. А зачем надо было нас провоцировать? Наши товарищи были жертвами. Ты — бесстыдница. Как ее зовут?
— Мисс Герти Гердл, — ответил Мэт Диллон.
— Ты — бесстыдница, Герти Гердл, ты — бесстыдница.
— А ваши героические товарищи, которые меня изнасиловали, кто они?
— Она начинает меня раздражать, — сказал Келлехер.
— Раздражается тот, кто чувствует свою слабость, — сказала Герти.
— Да отстань ты от нее, — сказал Мэт. — Ты изомнешь ей все платье.
— К черту платье! Я хочу, чтобы она пообещала, что будет молчать.
— Ты сам говорил, что она не осмелится, что невесте рассказывать о подобных вещах...
— Как сказать, — сказала Герти.
— Ситуация для меня начинает проясняться, — заявил Келлехер.
— И так все ясно, — сказала Герти. — Вы разбиты. Вы скоро умрете.
— Дело не в этом. Дело в вас. Вы еще не все видели.
— А что ты хочешь ей показать? — спросил Диллон.
Рассмеявшись, Герти бросилась на Келлехера.
— Так что же? — сказала она. — Что?
Ее поцелуй расплющил ему губы и разжал зубы.
Он начал гладить ее груди и почувствовал, как твердеют ее соски.
— Она еще не все видела, — с тупым упрямством повторял он. — Она должна молчать. Она еще не все видела.
Мэт Диллон принялся скручивать очередную сигарету, с любопытством наблюдая за происходящим. Которое активизировалось престранным образом.
— Они испортят мое платье, — прошептал он.
Затем происходящее переориентировалось, и Мэт начал понимать намерения Келлехера. Он даже не знал, как их оценивать, но теперь, среди этой разрухи, за несколько часов — не больше, это уж точно, быть может, за несколько минут — до смерти ему было уже все равно, а кроме того, он всегда относился к Келлехеру с превеликой нежностью и превеликим снисхождением.
— Держи ее, — сказал ему Келлехер.
Все разворачивалось согласно предположениям Диллона. Он щелчком отбросил сигарету и неожиданно сильно схватил Герти и сжал ее так, что она не могла пошевелиться. Герти, впрочем, не противилась; отдалась безоговорочно и добровольно, поскольку, в отличие от Мэта, она о намерениях Келлехера пока еще не догадывалась.
— Что это вы делаете?! — закричала она некоторое время спустя. — Вы не понимаете, как это делается. Уверяю вас, с женщинами все происходит по-другому. Какой вы невежда. А еще считаете себя джентльменом. Говорю же вам, не так. Я не хочу. Я не хочу. Я... Я...
— Мерзавка! — рычал Келлехер. — Она ничего не расскажет, я заставлю ее молчать, и никто не сможет сказать, что мы не были храбрыми и безупречными героями. Finnegans wake!
— Finnegans wake! — ответил Мэт Диллон, взволнованный происходящим. — Я бы тоже заставил ее помолчать, — робко предложил он.
Герти, перейдя из одних рук в другие, не переставала оспаривать обоснованность происходящего.
LXV
В чем нельзя отказать британцам, так это в чувстве такта. Высадившись на набережной Иден, вооруженные кто винтовкой, кто гранатой, матросы с «Яростного» проникли в почтовое отделение незаметно. Они окружили уцелевших после обстрела, но совершенно не осознающих, что происходит вокруг, мятежников, однако стали действовать только после того, как все закончилось; они не хотели, чтобы девушка краснела при мысли о том, что ее могли застать в столь нескромной позе.
Наконец ее платье опустилось; она подняла очень красное и мокрое от слез лицо; Келлехер и Диллон торжествующе переглянулись и в этот момент почувствовали, как острие штыка упирается им в спину. Они подняли руки вверх.
LXVI
Командор Картрайт в сопровождении своих помощников сошел на землю. Рискуя запылить ботинки, они проникли в руины почтового отделения на набережной Иден. Матросы уже сложили в углу, выравнивая по росту, все трупы. Два оставшихся в живых мятежника стояли у стены с поднятыми вверх руками.
Картрайт заметил Герти; та бросилась к нему в объятья.
— Дарлинг, дарлинг, — шептала она.
— Моя дорогая, моя дорогая, — отвечал он.
Его немного удивило лишь то, что при подобных обстоятельствах на ней было подвенечное платье. Но, обладая не меньшим, чем его матросы, чувством такта, капитан промолчал.
— Прошу меня простить, — сказал он ей, — я вынужден выполнить еще кое-какие обязательства. Этих двух мятежников мы будем судить. И разумеется, как мятежников вооруженных, приговорим их к смертной казни, не так ли, господа?
Тэдди Маунткэттен и второй помощник несколько секунд подумали и кивнули головой.
— Дорогая, простите, что задаю вам этот вопрос, но эти мятежники, они были... как бы это сказать... корректны по отношению к вам, не правда ли?
Герти посмотрела на Диллона, на Келлехера, затем на трупы.
— Нет, — сказала она.
Картрайт побледнел. Келлехер и Диллон даже не вздрогнули.
— Нет, — сказала Герти. — Они пытались задрать мое красивое белое платье, чтобы посмотреть на мои лодыжки.
— Мерзавцы, — прорычал Картрайт. — Вот каковы эти республиканцы, подлецы и сладострастники.
— Простите их, дарлинг, — промяукала Герти. — Простите их.
— Это невозможно, моя дорогая. Впрочем, они и без того приговорены к смертной казни, и мы, как того требует закон, расстреляем их на месте.
Картрайт подошел к ним:
— Вы слышали? Военный трибунал под моим председательством приговорил вас к смертной казни, вы будете расстреляны на месте. Помолитесь напоследок. Матросы, приготовьтесь.
Матросы выстроились в шеренгу.
— Я хочу добавить: вопреки тому, что вы думаете, вы не заслуживаете достойного упоминания в том разделе Всемирной Истории, который посвящен героям. Вы обесчестили себя подлым поступком, который моя невеста, несмотря на вполне объяснимую стыдливость, была вынуждена описать. Как вам не стыдно! Задрать девушке платье, чтобы посмотреть на ее лодыжки! Похотливые проходимцы, вы умрете как собаки, неприкаянными и с запятнанной совестью.
Келлехер и Диллон даже не вздрогнули. Герти, выглядывая из-за спины Картрайта, показывала им язык.
— Что вы можете на это ответить? — спросил у них Картрайт.
— С ними по-хорошему нельзя, — ответил Келлехер.
— Это уж точно, — вздохнул Диллон.
Несколько секунд спустя прошитые свинцом повстанцы были мертвы.
ИНТИМНЫЙ ДНЕВНИК САЛЛИ МАРА [*]
1934
13 января
Он уехал.
Выдувая во весь экран неба свой монотонный дым, пароход отплывает. Он гудит. Он пыхтит. Он плывет. Он увозит господина Преля, моего преподавателя французского языка.
Я замахала и заорошала своими слезами платочек, тот самый, который до этого, ночью, прижимала между ног и к самому сердцу. О God, который никогда не узнает о моих страданиях. Который никогда не узнает, что господин Прель увозит с собой всю мою душу, которая, разумеется, бессмертна. Он, Мишель, никогда ничего со мной не делал. Я хочу сказать — господин Прель. Я знаю, что господа его возраста нередко что-то делают с молоденькими дурочками моих лет. Но что и зачем? Мне это неизвестно. Я — девственна, то есть меня еще никогда не возделывали («девственная почва: земля, которую еще никогда не возделывали», — поясняет мой словарь). Господин Прель меня никогда не трогал. Разве что его рука на моей. Иногда она скользила вдоль моей спины, чтобы легонько похлопать по попке. Просто из вежливости. Он учил меня французскому языку. И с какой одержимостью! И обучил совсем не так уж слишком чересчур плохо, поскольку в его честь, я хотела сказать — в память о его отплытии, начиная с сегодняшнего дня, сейчас, я начинаю писать свой дневник на его родном языке. Это будут мои французские записки. А прежние, английские, я захерачу в печку.
«Херачить, — говорил он мне, — одно из самых красивых слов французского языка». Оно означает: кидать, запускать, но с трезкостью. Например (здесь я повторяю его объяснения, и какое раззадорное удовольствие повторять его объяснения, от этого приятное тепло заливает мне грудную клетку от лопаток аж до юной груди, которая у меня совсем не того (не плоская)), например, значит: «Пропустить по кружечке (пивка)» или вот еще: «От блеска бриллианта можно просто охереть». Господину Прелю очень нравилось знакомить меня с премудростями французского языка, и потому сейчас, в память о нем, я буду вести свой интимный дневник на его врожденном наречии, чтобы в один прекрасный день блеснуть так, чтобы он просто охерел.
А дневник я вообще-то веду с десяти лет. Мама всегда говорила: «Чудесная привычка для девочек; она развивает их моральную устойчивость, они совершенствуются и, в итоге, смогут блеснуть так, что кюре просто охереет и посвятит их в монашенки на всю жизнь». Но у меня другое мнение. Не то чтобы я плохо думала о монахинях, но для существа женского пола на земле есть дела поважнее. В этом я согласна с мнением Мишеля, моего милого училки по французскому, ах! если бы он только знал, что по ночам я твержу его имя до исступления. Интересно все-таки, с чего это ночью, думая о нем, со мной случаются такие приступы. А потом спится прекрасно.
Да, вот он и отплыл на своем пароходе и по проливу Святого Георга единовременно. Чем только ему не обязана я? Могу писать по-французски свой интимный дневник — раз; сердце разжижилось — два; и вышеуказанные исступления — три. Чувствуя себя такой одинокой на краю пристани, я торжественно приняла два решения в этот сегодняшний день, в то время как ночная луна маячила в своей лунной несдвигаемости под небесными олуненными сферами, освещая бледным лунистым светом[*] корабль, на котором Мишель сибаритствовал в ожидании своего университетского, но никак не ирландского будущего. Итак, принималось мною двойное решение, два пункта: сначала, во-первых, — вести дневник уже не на языке англичан, моряков-островитян, — тоже мне хитрость: быть моряком, когда живешь на острове, — а на языке французов, которые живут порой в горах и даже среди равнин; затем, во-вторых, — писать роман. Но роман достаточно оформившийся, — чтобы не казалось, будто он написан невозделанной девушкой, — да еще и на ирландском языке, который мне совсем незнаком. Значит, придется его изучить, а почему мне хочется его изучить? Чтобы быть как господин Прель. Господин Прель — лингвист: он знает самые разные языки. В частности, он брал уроки лазского и ингушского у г-на Дюмезиля[*]. А ирландский выучил вмиг; время его пребывания в Дублине пролетело как молния сквозь мышцу моего сердца. Но французский он знает на ощупь. А какой он прекрасный преподаватель! Доказательство: я бегло описываю свои интимности на этом языке с легкостью и непринужденностью. Если иногда мне не хватает какого-то слова, то и хер с ним. Продолжаю прямо вперед и напрямик.
И вот теперь он уплывал. Над портом задул ветер, и промокашка пара промокнула пароход. Я постояла еще какое-то время, разглядывая колебания канала Святого Георга, гранитную линию набережных, натянутость тросов, твердостойкость битенгов[*] — одно из слов, смысл которых господин Прель мне объяснил в первую очередь из-за их скандинавского происхождения: «biti, вертикальная стальная тумба на палубе судна». Разве викинги не завоевывали нашу зеленую Эйре?
Он уже давно уплыл.
Ветер поддувал довольно энергично. Я пошла к трамвайной остановке. Я шла вдоль пристани. Какие-то люди — тени — следовали в том же направлении, отпровожавшись или отработавшись. Жирный ночной мрак сотрясал настоящий ураган. Я услышала еще один гудок парохода.
Чтобы добраться до трамвайного кольца, нужно было перейти через шлюз по висячему мостику. На той стороне я заметила освещенный разворачивающийся трамвай. С переполненным воспоминаниями о Мишеле Преле сердцем я двинулась по узкому мостику, но на середине маршрута была вынуждена застыть на месте. Мне показалось, что еще чуть-чуть — и ветер подхватит и захерачит меня вниз, в канал, прямо в нефтяную лужу, которая щеголяла своими переливами в лунном свете. Уцепившись одной рукой за перила, другой я инстинктивно попыталась найти точку опоры. И внезапно почувствовала сзади присутствие какого-то господина. Я догадалась, что это джентльмен: не женщина и не матрос. А затем услышала, как мягкий и тихий голос излил в мою слуховую трубу следующие спасительные слова:
— Девушка, покрепче держитесь за поручень.
С этими словами в мою свободную руку всунули предмет, обладавший одновременно твердостью стали и мягкостью бархата. Я судорожно за него ухватилась и, не переставая удивляться тому, что этот поручень остается теплым, несмотря на по-зимнему и по-прежнему пронизывающий аквилон, смогла с его помощью перейти на другой берег в целости и сохранности.
Любезный джентльмен, перепроводивший меня таким образом, оправил свою крылатку (если только это был не реглан и не дождевик, в темноте я не смогла разобрать; к тому же на протяжении всего перехода я скромно потупляла взор). Я не видела его лица, на неровной мощеной набережной я различала лишь тень от крылатки (или от реглана) (или от дождевика), которая, будучи изначально выпуклой или, по крайней мере, неровной, выпячивалась медленно и на удивление вертикально. Мы помолчали, и я, хотя и знала, что нельзя обращаться к господину, которому тебя не представили, произнесла как можно любезнее:
— Благодарю вас, сэр.
Он ничего не ответил и ушел.
Снова одна, снова порт, ночь, гудки. Трамвай уже закончил свои развороты и собирался вот-вот ухерачить. Я добежала. Задыхаясь, села. Других пассажиров почти не было: лишь два дремавших докера и один молодой человек, которого я заметила еще на пристани, когда он провожал пожилую даму (свою мать?) на пароход. Я неопределенно заулыбнулась, он сокрушительно покраснел и утюкнулся в свою газету: его руки мелко дрожали. Трамвай тронулся. Я купила билет и отдалась своим мыслям.
О, нежная растроганность девичьего сердца; о, чарующая дрожь расцветающей чувственности; о, непорочное любопытство распускающейся девственности. Сладкая экзальтация заполняла мое тело, и я уже не знала, что происходит с головой. Тысячи противоречивых мыслей сшибались под моей шевелюрой (красивой... почти каштановой... темно-каштановой, если точнее, черно-каштановой), и мягкое тепло поднималось и опускалось вдоль спины в лифте спинного мозга, от первого этажа седалища до седьмого этажа куполища. Я пишу «седьмого», хотя в Дублине почти не осталось домов выше пяти этажей; но я — девушка довольно рослая.
Только сейчас я заметила, что до сих пор не представилась, да и тетрадке, служащей интимным дневником, не терпится получше ознакомиться с личностью, которая марает ее страницы. Ну, так вот, мой дорогой интимный поверенный: меня зовут Салли[*], по фамилии — Мара. Меня циклит с тринадцати с половиной лет, возможно, поздновато, зато, должна признаться, все как по часам. Отца у меня нет: десять лет назад он пошел за спичками, да так и не вернулся. Он не был националистом[14], но никому об этом не рассказывал. Мне тогда исполнилось восемь лет. Я отлично все помню. Он носил шлепанцы и домашний халат в желтую и фиолетовую клетку. Он читал газету, покуривая трубку. А незадолго до этого он выиграл суипстейк[15] и отдал все деньги маме. Как-то мама ему вдруг сказала:
— А спичек-то у нас в доме нет.
— Пойду куплю коробок, — мирно ответил папа, не поднимая головы.
— Так прямо и пойдешь? — спокойно спросила мама.
— Да, — мирно ответил папа.
Это было последним словом, которое я от него слышала. Больше его не видели.
Он порол меня регулярно два раза в день для того, чтобы продемонстрировать, как он говорил, свою приверженность к методам воспитания, рекомендованным английской короной.
Мать со своим небольшим личным состоянием и суммой от суипстейка все же обеспечила нам приличное воспитание — мне, моей сестре и моему брату: лично я ничего не делаю, но при желании могла бы стать студенткой. Моя сестра — на два года младше меня, хочет стать почтовой служащей, зарабатывать на жизнь самостоятельно и быть независимой, такая у нее идея. Чтобы этого добиться, она все время зубрит географию. Мой брат Джоэл — старший из нас — здорово пьет, особенно уиски и пиво «Гиннес», которые у нас здесь прямо как из скважины. А еще он очень любит рикар[*], хотя найти его здесь трудно. Как-то господин Прель достал ему одну бутылку. Ну и повеселились же мы тогда; за вечер ее и опорожнили. Я люблю селедку в имбире, вареный порей и рольмопсы. Мой рост 1 м 68 см, вес 63 кило. Окружность груди — 88 см, талии — 65, бедер — 92. Я ношу очень короткие юбки, трусики, туфли на плоской подошве. Волосы у меня тоже очень короткие, я не пользуюсь ни помадой, ни пудрой. А еще я состою в спортивном обществе. Пробегаю 100 метров за 10,2 секунды. Прыгаю на 1 м 71 см в высоту и толкаю ядро на 14 м 38 см. Но в последнее время я несколько охладела к атлетике. Я люблю закидывать ногу на ногу, нахожу это одновременно стыдливым и изысканным, то же самое наверняка думал молодой человек в трамвае, так как время от времени он опускал газету, поднимал веки, чтобы юркнуть взглядом, затем снова ронял веки. Я же думала о том, кто проплывал в этот момент по волнам пролива Святого Георга.
Мы въехали в город. И мы — я и этот молодой человек — по чистой, разумеется, случайности, в одно и то же время встали, чтобы выйти на одной и той же остановке. Никогда раньше я его здесь не видела. Я заметила, что его колени дрожат. На миг я себя спросила, не он ли тот господин, который так любезно помог мне пройти по мостику. Нет, не может быть: молодой человек уже сидел, когда я поднялась в трамвай, а галантный джентльмен убыл в другом направлении.
Трамвай трясло, молодой человек опустился на подножку, чтобы спрыгнуть на ходу. Я перепугалась за юношу и чуть не крикнула: «Покрепче держитесь за поручень, сэр!» — но он уже спрыгнул, побежал и исчез в ночи.
Я в свою очередь ухватилась за поручень; он оказался влажным и ледяным, в нем не было ни мягкости, ни тепла, ни силы того, предыдущего.
Дома я застала Мэри, которая учила наизусть названия административных районов в префектурах французских департаментов, по-прежнему для экзаменов на должность почтовой служащей. Джоэл, с размякшим взором и расплывчатым видом, сидел молча и неподвижно перед семью бутылками «Гиннеса», пятью пустыми и двумя готовыми опустеть. Увидев меня, он усмехнулся. Он думал, что я грустила из-за отъезда господина Преля.
Мама долго говорила с миссис Килларни[*] о господине Преле. Джоэл время от времени по-идиотски порыгивал, а я улыбалась. Мэри это заметила. После ужина она захотела, чтобы я все рассказала, но я не доверилась ей полностью: много чего поведала о поручне и почти ничего о господине Преле.
14 января
Этой ночью мне приснилось, что я в каком-то парке аттракционов вроде Кони-Айлэнд, которые показывают в американских фильмах. Какой-то очень любезный господин подарил мне леденец, но сладость оказалась такой толстой, что мне с трудом удалось засунуть ее в рот. Какая глупость эти сны...
Как-то господин Прель рассказывал, что на материке и даже в самой Англии есть шарлатаны, которые объясняют сны. Это длится целый час, и нужно ложиться перед ними на диван, что, по-моему, не вполне пристойно. В нашей стране духовенство против этого.
Я по-прежнему намереваюсь написать роман. Но о чем?
18 января
Перечитывая первые страницы своего дневника, я подумала, правильно ли я употребила слово «девственна». В словаре написано: «говорится о земле, которая не возделывалась, не засеивалась культурами», а я, без ложной скромности, культурно развитая. Ну, ничего не поделаешь: придется смириться с тем, что выявится еще немало ошибок на этих обращенных в будущее страницах.
20 января
Я начинаю брать уроки ирландского языка, молодой человек из трамвая тоже, очень странно. Нашего преподавателя зовут Падрик Богал. Он поэт. У него длинные мягкие волосы и красивая бычья голова. Он носит черный галстук с большим бантом, какие носят французы (господин Прель таких не носил: только бабочку). Взгляд у него огненно-голубой. Я не читала то, что он написал, потому что он пишет только по-гэльски. Он дает частные уроки, чтобы заработать на кормежку. Миссис Богал на них присутствует. По крайней мере, на моих. Она сидит в углу и старательно рисует крохотные миниатюры, не отрывая от них глаз. Молодой человек из трамвая приходит сразу же после меня. Когда я пересекаю вестибюль, чтобы выйти, он стоит там и ждет. И сразу же опускает глаза.
25 января
А господин Прель мне так и не пишет.
27 января
Не такой уж он интимный, мой дневник. А я еще хотела выложить на его страницах всю свою душу (бессмертную)! Правда, я провожу много времени над ирландским языком, а он очень трудный. Падрик Богал считает, что мое обучение проходит с большой успешностью. Но где же во всем этом моя интимность?
29 января
Джоэл только и думает о том, как бы выпить. После ужина, в то время как я, одна в своей комнате, изучала третье склонение (ceacht и badoir), он тихонько вошел и, не говоря ни слова, сел на мою кровать. Он смотрел на меня без злости; у него не было настроения что-нибудь крушить, которое иногда на него накатывает. Нет, его влажный взгляд выражал телячью кротость. Я находила его противным. Некоторое время мы молча поглядывали друг на друга, потом он оторвал свой зад (во французском есть другое слово, но я не могу его вспомнить) и достал из-под ляжек (а, вот оно! нет, есть какое-то другое слово для определения перипрокты, не могу вспомнить) книгу, которую спрятал перед тем, как войти. Он показал ее мне:
— Знаешь эту книжку? — спросил он.
Знаю ли ее я? На ней была обложка из обойной бумаги, в которую мой дорогой учитель по французскому имел обыкновение обертывать свои книги. Когда он выходил на несколько секунд, я бросалась к ним и тискала их, не осмеливаясь открыть (он мне запрещал). Заслышав шум его шагов, я клала книжки на место и, с пересохшим горлом, принимала вид ученицы, которая только что вбила себе в башку правило «уж, замуж, невтерпеж...».
— Ты ее украл? — воскликнула я.
— Он ее забыл, — ответил Джоэл.
— По какому праву ты ее взял?
— Чтобы ты не читала.
— А ты, ты читал?
Он вздохнул.
Я сказала:
— Ну?
— Ну... Я открыл кое-что ужасное.
Я не осмелилась его допрашивать, но он все же ответил:
— У меня они есть.
— Кто они?
— Комплексы.
— Чево?
Так господин Прель иногда писал, дабы я лучше прочувствовала все тонкости французской орфографии. Естественно, по-английски я произнесла один слог:
— Вотт?
Джоэл ответил:
— Комплексы. Что это такое, мне объяснил один студент-агроном, который хорошо в этом разбирается. Я вообще не представляю, как можно повторять такие сокровенные вещи девушке твоего возраста. Это еще хуже, чем грехи на исповеди; грехи ты рассказываешь один раз, и на этом конец, тогда как о комплексах говоришь годами, а конца-края не видно.
— Я не понимаю, о чем ты, — пролепетала я.
— Надеюсь.
Я начала побаиваться, как бы он не изрек этих специальных и непроизносимых слов, которые — просто охереть можно — могли бы вогнать меня в краску.
Он продолжал:
— Священникам до них дела нету. Они тебе прописывают Pater Noster, Ave Maria[16] и четки, после чего ты смываешься. Грех? Смыт. А комплексы? Им наплевать! Для них это слишком долгое занятие. Не хватило бы времени на отработку своего бифштекса, если бы пришлось курировать комплексы всего населения.
— Ты никогда кюре особенно не любил.
Не то чтобы их любила я сама. Тоже не особенно. В нашей семье мы все католики, но умеренные. Я твердо верю в девственность Марии, а что касается Бога, то приводимые доказательства его существования связаны, как мне кажется, с суевериями. Я хожу на мессу (несмотря на щипки за ягодицы, без этого не обходится, как минимум по три-четыре раза за сеанс); я исповедуюсь, праздную Пасху, но вообще это меня не очень терзает. Что касается священников, то, как говорит мама, они такие же мужчины, как и все остальные, только за них замуж не выходят.
Но Джоэл продолжал:
— Хочешь, объясню?
Я не сказала ни да ни нет.
— Возьми, например, миссис Килларни...
(Это наша экономка.)
Он запнулся.
— Ну, так что?
Я совершенно не понимала, к чему он клонит.
Джоэл по-прежнему молчал.
— Ну, так что? — переспросила я. — У нее что, усы выросли?
В глазах Джоэла промелькнула некая живость. Этого уже давно с ним не случалось, с этим пьяницей. Дело тут нечисто — кстати, я хорошо подкована по части пословиц и поговорок, мой милый училка задавал учить назубок целый ворох народных премудростей вроде: «У него их пара, как у кюре из Кольмара»; «Накрылась башня Пиз, да смелому и это нипочем», «Махни рукой, пусть бараны ссут; это лучше, чем когда в суп срут»; «В борделе — бордель, а я предпочел бы метро: там теплее и веселее как наружность, так и нутро» и т. п. Какой красивый язык все-таки этот французский, с каким удовольствием я, сидя в одиночестве и в халате у огня, поддерживаемого ирландским торфом, манипулирую экзотическими и изысканными вокабулами, которые употребляют по ту сторону Ла-Манша гаврские грузчики, фиакрские извозчики, дижонские горчичники и марсельские носильщики. Ах! Я таю, таю от того, как моя мысль сливается с моим языком. Но, черт возьми и побери, я уклонилась. Вернемся к братцу. После краткого озарения он задумчиво встал и тихо изрек:
— Да, что я и говорил, что я и говорил.
И вышел.
Унося книгу.
30 января
Я рылась в его комнате. Под кроватью нашла пять бутылок уиски, а книги нигде нет. Хорошо же он ее заныкал.
31 января
От господина Преля никаких новостей. Какой он все-таки нелюбезный; он, который так настолько писать мне обещал.
2 февраля
До сих пор нет возможности отыскать книжку с комплексами.
3 февраля
И сегодня нет письма от господина Преля. Проходимец!
4 февраля
Сегодня я доехала на трамвае до Данлири, то есть до Кингстауна[*], дублинского порта. Я говорю Данлири, следуя примеру моего учителя Падрика Богала. Впрочем, мне кажется немного придурковатым этот лингвистический патриотизм, но в своей интимнодневниковости я могу себе это позволить. Пока еще темно и рано и туман. Я прогулялась по порту. Я не очень хорошо знаю эти места, и мне было трудно ориентироваться, перебирая различные висячие мостики. Наконец я нашла свой, плохо освещенный, как и в день отъезда Мишеля Преля. Мое сердце забилось еще быстрее, и я с трудом вспомнила французскую поговорку, которой меня научил тот, кто уже уехал: «Невинным счастье в руку». Но я так и не встретила того галантного джентльмена.
В трамвае не было даже моего коллеги, робкого ирландствующего юноши. Туман над Дублином слабел, а запах «Гиннеса» сгущался.
5 февраля
Моей сестре Мэри осталось выучить административные деления префектуры Тарн-и-Гаронна и Вар[*]. Джоэл не просыхает уже три дня. Я все смотрю на миссис Килларни и никак не могу понять, что в ней такого комплексного.
6 февраля
Миссис Богал пригласила меня на чай. Я была страшно взволнована. Перед выходом три раза бегала по-маленькому, но в трамвае, проезжая мимо Кафф-стрит, меня опять прихватило. Боже мой, Боже мой, что же делать? Мое сердце билось панически. Какой конфуз! Там будут великие поэты и их дамы, которые начнут меня разглядывать, и молодые люди, которые наверняка захотят на мне жениться, а среди них, конечно же, молодой человек из трамвая, который, как и я, изучает ирландский. А тут еще мое желание облегчиться все увеличивается да увеличивается, и эта трамвайная трясучка еще больше усиливает нужду и, кажется, вот-вот вытолкнет мой мочевой пузырь на место головы. Я сжимала челюсти и даже боялась пошевелить языком. Я стискивала колени. Я смотрела поверх всего, через стекла, не желая ни на чем остановить свой взор. Я почувствовала, что начинаю запотевать в пояснице и под мышками. Мне даже показалось, что несколько капелек сверкнуло меж моих юных грудей. Я подумала, что могла бы потерпеть до встречи с миссис Богал, но там наверняка будет лестница, а как ужасно подниматься по лестнице, когда тебя терзает столь властное побуждение, а потом, опять-таки наверняка, первое, что я никогда не осмелюсь сказать хозяйке, это: «Где находятся удобства?» Прежде чем задать вопрос, получить ответ и дойти до испрашиваемого места, мне придется выждать. К моим утробным беспокойствам присоединился еще и страх, и тут кто же садится в трамвай на остановке Дэйм-стрит? Ирландствующий юноша. Электрическая дрожь пробежала по моей голове, от подбородка до ушей, от затылка до макушки. А в животе было такое, словно туда вживили горячую грелку, тропический аквариум, кипящий мочевой котел. Я чуть не завопила; это было невыносимо. Я увидела приближающуюся Грейт-Брансвик-стрит и вспомнила о своей тете Корнелии. Уже два года я не заезжала к ней в гости, но она не откажет мне в этой услуге. Я вскочила и заметила испуганное око ирландствующего юноши. Он наверняка думал, что я доеду до колонны Нельсона вместе с ним, что мы выйдем из трамвая вместе, и тогда он обратится ко мне с речью, что-нибудь вроде: «Мисс, мне кажется, мы уже встречались...» Даже если этот ирландствующий дурень был бы полным обормотом, он все равно был бы обязан ко мне обратиться. И тут я подумала о тете Корнелии и сказала себе: «Я больше не намерена страдать, тем более что у нее дома удобства на английский манер[*]». И я выскочила из трамвая.
К счастью, тетя Корнелия была дома. Память у меня оказалась хорошей: они были действительно на английский манер.
7 февраля
Кажется, в Париже была большая заваруха[*]. Здесь мы этого тоже насмотрелись. Лишь бы с господином Прелем ничего не случилось, хотя он не такой человек, чтобы ввязываться в драки. Впрочем, он мне привил отвращение к синим рубашкам нашего генерала О’Даффи[*] и к тому же вычистил от малейших патриотических сантиментов, рассказав, что Ирландия — это остров и что он меньше Новой Земли, а это от нас по-прежнему утаивают.
15 февраля
Интимный дневник это, конечно, хорошее дело, если оно не превращается в пахоту. Все эти дни не было желания, желания чего?.. А ведь у меня и на самом деле получается все интимнее и интимнее. Мысль о том, что я наверняка интимнее английской, шотландской, новоземельской и любой другой девушки, наполняет меня определенной гордостью.
В связи с этим я заметила, что не закончила рассказ о том, как прошел чай у миссис Богал. Итак, после моего краткого визита к удивленной тете Корнелии я снова села на трамвай и доехала до Саквилл-стрит. Я опоздала и закраснелась; там действительно было много разных лиц: хозяин и хозяйка приняли меня любезно и протектно и представили мне присутствующих интеллектуалов и туалок. Поэт Коннан О’Коннан, и его друг поэт Грегор Мак-Коннан, и его свояк поэт Мак О’Грегор Мак-Коннан, а также бард-друид О’Сир и философ-примитивист Мак-Адам, а также их супруги миссис Коннан О’Коннан, миссис Грегор Мак-Коннан, миссис Мак О’Грегор Мак-Коннан, миссис О’Сир и миссис Мак-Адам, и их сыновья Джордж Коннан О’Коннан, Фил Мак-Коннан, Тимолеон Мак-Коннан, Падрик О’Грегор Мак-Коннан, Аркадиус О’Сир, Августин О’Сир, Цезарь О’Сир, Авель Мак-Адам и Каин Мак-Адам, и их дочери Ирма Коннан О’Коннан, Сара Мак-Коннан, Пелагия Мак-Коннан, Игнатия О’Грегор Мак-Коннан, Аркадия О’Сир, Беатиция Мак-Адам и Ева Мак-Адам, а также юный ирландствующий скромник из трамвая: Варнава Падж[*]. Так я узнала его имя. А он покраснел еще больше, чем я, так как мне удалось довольно удачно подать себя в духе бледной романтичности.
— Итак, друзья мои, — произнес Падрик Богал, — после того, как знакомство состоялось и все в сборе, мы приступим...
— Чашку чая? — предложила мне супруга хозяина в тот момент, когда тот украдкой похлопывал меня по ягодицам.
Никогда еще он не позволял себе обращаться со мной таким образом, ну прямо как со школьницей. А я ведь студентка. Я просто не верила собственным ягодицам.
— Спасибо, — ответила я и легонько встряхнулась, подобно кобыле, сгоняющей слепней.
— Она очаровательна, — прошелестела миссис Богал.
Как будто она меня не знала! Как будто не она сидела несдвигаемо ни на йоту на наших уроках!
Раздали чашки с чаем, и все зажеманничали над сахарными кубиками.
— Она очаровательна, — подтвердил великий поэт.
Небольшой рой разнополых почитателей увлек его в сторону. И тут передо мной возник Варнава Падж с пунцовой рожей.
— Но... — сказал он.
— Да? — спросила я.
— ...мы не? — продолжил он.
— ...хоть и... не? — ответила я.
— ...не уже мы не да?
— ...кажется, что...
— ...я...
— ...вы...
— ...трамвае...
— ...ага...
Капельки пота заструились по прекрасному лику лингвиста.
— ...я что вы не вас не? — спросил он.
— ...не я что если могу ль... — ответила я.
— ...тогда вы вы вы да да... — настойчиво твердил он.
— ...ну если вы и вот бы ль... — вывернулась я.
— ...бы ль ли хи-хи... — затянул он.
— ...а... ах... — завела я.
— ...и-и... и-и...
Он тотчас подхватил эту тему.
— ...и-и... и-и...
Все это время я думала лишь об одном: смогу ли я точно запомнить наш разговор, чтобы потом скрупулезно записать его в свой интимный дневник. И вот записываю, хотя прошла целая неделя.
— ...и-и...
Падрик Богал прошел мимо нас и бросил:
— Ну, ну, не время разводить сантименты.
И действительно, сеанс вот-вот должен был начаться. Я опять опаздывала. Пока только шли приготовления.
Варнава поверил мне шепотом:
— Какая же вы таинственная, мисс.
Я затрепетала от удовольствия. Все-таки шикарно заинтриговать такого изысканного юношу.
Тем временем миссис Богал — женщина уже пожилая, лет тридцати — устроилась в кресле и принялась сосредоточиваться, кокетливо и машинально разглаживая и одергивая платье. Платье было потрясающее: из крупного крепа баклажанного цвета в легких складках, с вырезом, желто-канареечными рукавами, раздутыми выше локтя, и широким бледно-голубым сатиновым пояском, продуманно завязанным сбоку.
Наконец все расселись, свет погас. И, как всегда, без этого не обошлось: тут же одна мужская ладонь опустилась на мое правое бедро, другая — на левое. Рука слева (следовательно, правая для владельца) была инквизитивной и подвижной, рука справа — властной и рельефной: ну, просто львиный коготь.
Сеанс начался: из уха миссис Богал начала проистекать беловатая и клейкая субстанция, постепенно принимавшая яйцеобразную форму. Я внимательно следила за явлением (я в это не верю) и, чтобы не отвлекаться, взяла руку справа и свела ее с рукой слева; они немного пощупались и проворно отдернулись.
Яйцеобразность постепенно превратилась почти в человеческую голову; затем она ужалась и втянулась обратно в эякуляционное ухо (вот еще одно научное слово, возможно, его нельзя употреблять в этом смысле, но уже поздно и мне лень заглядывать в словарь). Миссис Богал заговорила странным полуфабрикатным голосом, описывая жизнь обитателей Юпитера, которые являются троеженцами и гермафродитами и размножаются почкованием. Эта речь мне показалась скучнючей и противной, и я подумала, не возложить ли и мне, от нечего делать, свои ладони на бедра соседей и посмотреть, что произойдет. Но я не осмелилась.
Наконец разглагольствование завершилось, миссис Богал несколько раз простонала, и снова дали свет.
Мой сосед справа (Падрик Богал) повернулся ко мне и с глупым видом спросил:
— Ну, девочка, это вас не очень сильно впечатлило?
— О нет, сударь! — ответила я.
Мой сосед слева (бард-друид О’Сир) дерзко взглянул на Богала.
— Мне кажется, барышню не так-то легко сбить с толку.
Я услышала, как мой внутренний голос прошептал:
«Покрепче держитесь за поручень, мисс».
И я представила себе порт и то нежное портовое прикосновение.
Занимая душу воспоминанием о моем джентльмене, я провела остаток вечера в болтовне с Аркадией и Пелагией в то время, как мой взгляд рассеянно скользил то там то сям, по брюкам приглашенных господ.
18 февраля
Время идет. Я томлюсь и чувствую себя странно. Но меня терзает вовсе не приближение месячной менопаузы (еще одно слово, смысл которого я должна проверить в словаре). С этой точки зрения, мне грех жаловаться. Но я чувствую, как ком подкатывает к моей тощей кишке и давит так сильно, что мне неймется купить себе новое платье, французское и красивое, как у миссис Богал. Кстати, Мишель до сих пор не написал: возможно, он погиб в море. Было бы романтично чтить человека, который снегативничал в соленой океанской воде. Кажется, что ночами и белыми грозовыми днями я смогла бы увидеть его совершенно зеленый, под цвет бахромы какой-нибудь устрицы, призрак.
19 февраля
Подумать только, у Падрика Богала столько почитателей, которые хотели бы с ним познакомиться, а я вижу его три раза в неделю в постоянной корректности (заблуждение во время сеанса было эфемерным) и, должна сказать, в постоянном присутствии госпожи, которая не верит в эфемерность (ее разум расположен куда выше) и продолжает скрупулезно вырисовывать миниатюры. Она никогда мне их не показывает. Возможно, они воспроизводят сцены потустороннего мира.
20 февраля
Я поведала Мэри историю с книгой. Ей в голову часто приходят внезапные идеи. Да и Джоэл относится к ней мягче и проще, чем ко мне.
21 февраля
Ирландская орфография просто невероятная. Я ни за что не смогла бы ее выучить, если бы у меня не было такого сильного желания написать роман на этом кельтском языке. Ирландцы пишут oidhce, а произносят u, слово cathughadh читают как каю. Падрик Богал полагает, что это здорово, так как утирает нос французам. Как будто между этим есть какая-то связь.
23 февраля
Несмотря на мои откровенности, Мэри не смогла вырвать у брата признания о месте, где тот заныкал книжку, которая меня так заинтриговала. Ей удалось получить только пинок по жопе. (А вот и то слово, которое я искала в прошлый раз!) Сейчас она учит швейцарские кантоны: Аргови, Аппенцель, Гларис, Швиц, Унтенвальден, Юг[*]. Кто вообще знает подобные местности? Меня это раздражает.
24 февраля
Наконец-то он со мной заговорил. Наверняка поджидал на улице.
— Здравствуйте, мисс, — сказал он, когда я вышла после урока.
— Здравствуйте, сэр, — скромно ответила я.
— Меня зовут Варнава Падж, — добавил он чуть испуганно. — Нас представили друг другу у Падрика Богала.
— Да, сэр, — подтвердила я со скромностью.
Не слабо написано: «подтвердила я со скромностью». Все-таки охереть можно, насколько хорошо господин Прель обучил меня французскому языку. Конечно, здесь явный повтор: несколько строчек назад я написала «скромно». И все-таки я не должна относиться к себе слишком требовательно, иначе просто завязну. Еще следует признаться, что с этим Варнавой я влипла. Как он меня достал, этот юноша. Ладно, я все равно расскажу о нашей встрече ради дневника. Возможно, когда-нибудь будет забавно его перечитать.
Итак, мы прошли несколько шагов вместе, ах да, чуть не забыла: он спросил, не вижу ли я чего-нибудь предосудительного в том, что он меня чуть-чуть проводит, и я ответила, что, конечно, нет. Мы прошли их молча, эти шаги; он искал тему для разговора. Наконец кашлянул и нашел:
— Наш кельтский ирландский язык довольно трудный, не правда ли, мисс?
Он проглотил в горле ком, а вместе с ним, наверное, и половину языка, поскольку повторил эту же фразу по-ирландски:
— Is an-deacair an teanga an Gaedhilig?
— Taib, — ответила я. — Is an-deacair an teanga an Gaedhilig.
— Особенно орфография, — добавил он.
— Конечно, — ответила я, краснея от досады.
Его замечание показалось мне банальным, и я разозлилась от того, что сама написала то же самое в этом дневнике два-три дня назад.
После этого все погрузилось в молчание, и мы подошли к углу О’Коннелл-стрит.
— Мистер Падж, — сказала ему я, — вы опоздаете на урок.
— Нет, — проблеял он, — я принял меры, чтобы не.
— А? — вопросительно отреагировала я.
— Я предупредил мистера Богала, что сегодня не смогу прийти на урок.
Он опустил свои верхние ресницы (длинные) на нижнее веко.
— Под предлогом смерти старой тетушки. Смерти вымышленной, — добавил он, хихикая.
— О! — возмущенно отозвалась я.
Он, наверное, думал, что я приду в восторг от его школярской хитрости. Он насупился.
— Неужели вы полагаете, что это навлечет на нее беду? — промямлил он.
Все-таки не стоило, хотя нет, все-таки стоило вносить в разговор столько сарказма. На несколько секунд я позволила ему мариноваться в собственном соку суеверия, после чего задорно ответила:
— Беду? Вы имеете в виду, что она может подохнуть, не успев и рта закрыть, не пройдет и часу?
Я повернулась к нему и заметила, что не на шутку обломала его внутреннюю пружинистость; он был похож на сбившиеся с ритма и изнемогающие часы, которым никак не удается совместить стрелки на полуночной отметке.
— Вы-вы ду-ду-думаете?
— Да, и на вашем месте я бы помчалась к мистеру Богалу немедля, чтобы даже подсознательно не брать греха на душу.
— Ну да, ну да!
Он был цвета яблочной зелени с вкраплениями айвовой желтизны там и сям. Мерзковатое зрелище этот Варнава. Я заметила, что его ноги дрожат и он вот-вот уподобится инвалиду на культяпках; но ведь не мне же предлагать ему опору и уговаривать покрепче держаться за поручень, ситуация совсем другая, да и моя слабая опора ему ничуть бы не помогла, даже если предположить, что я бы ее предложила.
Он смылся без явных проявлений вежливости.
И все это без лунного света.
10 марта
Варнава больше не показывался. Должно быть, я для него слишком таинственна.
11 марта
Джоэл опять вернулся домой совершенно бухой. Не дождавшись его, мы начали хлебать суп. Не успев войти, он сразу же принялся расстегивать штаны. Это нас рассмешило, он побежал на кухню, и мы услышали, как там очень странно застонала миссис Килларни.
Кстати, как-то на днях она опалила сзади свое платье и, несмотря на все мои расспросы, так и не смогла объяснить мне — каким образом.
12 марта
Было уже довольно поздно, когда Джоэл спустился побрекфастничать. Его жалкий вид меня разжалобил. Не замечая меня, он уселся за стол, запустил нож в масленку и принялся намазывать маслом ладонь. Он забыл взять в руку тост. Я сказала ему об этом. Он ответил:
— Ага! Наконец-то соизволила со мной заговорить. Знаешь, я все-таки твой брат, и к тому же старший, да и вообще глава семьи, поскольку папы нет. Я глава и ею останусь...
Он оборвал фразу и лизнул ладонь.
— ...даже если я и залезаю на кухарку.
— Ты залезал на миссис Килларни? — вскрикнула я. — А зачем?
Он посмотрел на меня со снисходительным видом, который меня весьма разозлил.
— Да, — продолжала я. — Если тебе понадобилось что-то достать из шкафа, можно было взять лестницу, а не забираться на миссис Килларни.
Он пожал плечами, вытер ладонь и выдул чашку теплого чая.
— Фу! — скривился он. — Ну и лавочка! Что касается тебя, — добавил он, — то какому-нибудь козлу давно уже пора залезть на тебя.
— Ну и разговорчики! Я плохо себе представляю себя с козлом на плечах! — выдавила я сквозь смех и добавила: — Но с удовольствием посмотрела бы, как ты забираешься на миссис Килларни, чтобы достать банку с вареньем.
Я так смеялась, что у меня потекли слезы. У Мэри тоже. Джоэл с силой ударил кулаком по столу. Все чашки подпрыгнули.
— Идиотка! Я тебе повторяю: давно пора. В один прекрасный день ты поймешь, что я имею в виду. Но к этому времени ты уже загнешься от комплексов. Как я! Совсем как я!
Чашки снова запрыгали. Я больше не могла смеяться и только стонала. Прибежала мама:
— Что такое? Что случилось? Что за шум? Что за веселье?
— Он залезал на миссис Килларни, — прохрюкала я, указывая на Джоэла. — Он залезал на нее! Он залезал на нее!
На мамины губы заплыла нежная улыбка.
— Это нехорошо, — мягко сказала она Джоэлу. — Ты вел себя неуважительно по отношению к ней. Ладно, если бы ты забавлялся с друзьями, но проделать это с такой славной женщиной... Что она теперь о тебе подумает?
— Ей это нравится, — буркнул Джоэл.
Мама вздохнула:
— Странные все-таки люди. Хотя на свете всякое бывает.
Она вышла.
— Я тоже смываюсь, — заявил Джоэл. — Прощай, красотка.
— Прощай.
— Cuir amach do theanga! — гаркнул он, перед тем как исчезнуть.
Он не знал ни слова по-гэльски, и я задумалась, где он выучил фразу, смысл которой я так и не поняла. А спросить значение этих наверняка шокинговых слов у своего учителя, поэта Падрика Богала, я никогда бы не осмелилась. Все эти события немного смяли мою чувствительность, и я погрузилась в меланхолию.
Я возымела желание сначала посетить укромное заведение, а затем возобновить контакт с тем, что возвышает душу (бессмертную): Искусство. И вот через несколько минут я оказалась перед Национальной художественной галереей, на Западной Мэррион-сквер. Я прихерачила сюда не впервые, но в этот день совершенно особенное чувство охватило мою душу (бессмертную). Как обычно, я растрогалась перед портретом Стеллы, не нашла в себе мужества подняться на второй этаж, чтобы взглянуть на картины Лесли, Маклиза, Малриди, Лэндсира и прочих Уилки[*], и отправилась погулять в сад. Я была одна, и пока еще безлистные деревья растягивали строгую сеть ветвей над моей головой. Я подолгу и поочередно осматривала статуи в античном духе, местами украшающие аллеи. Они не настоящие, все это муляжи, копии: одни из бронзы, другие из гипса, третьи из мрамора или гранита. После общего осмотрительного тура особенно меня привлекла статуя Аполлона-дискобола. Как и на остальных богах, на нем были трусы (короткие, но все же трусы). Кажется, в действительности боги трусы не носят, по крайней мере их статуи. Зачем же хранитель музея их ими одарил? Таинственное покровительство. Под ним наверняка что-то скрывается.
Узкая полоска газона отделяла меня от произведения искусства. Я оглянулась (нет никого), пересекла эту полоску, уткнулась лицом в икры атлетического божества и принялась их лизать. Но они были из гипса, и довольно быстро вкус обезжиренного и слишком высушенного творога заполнил мне рот. Я выбралась на гравий и через несколько шагов остановила свой выбор на фарнезианском Геракле[*]. У него были мраморные ножищи. Я снова перепрыгнула газон. Циркулярно осмотрелась (никого). Накрапывал дождь. Совсем крохотными каплями. Я склонила голову, припала губами к большому пальцу героя, прижавшись щекой к плюсне. Перед моим глазом на полубожественную ступню упала капля. Я приоткрыла рот, вытянула язык и принялась разводить им благотворную росу по божественным изгибам, образуемым перемычками меж пальцами. Сверху упали другие капли, которые я аннексировала сходным образом. Это было свежо и грациозно. Я исследовала межпальчиковые ямочки и полировала слюной ногти, изумительно отделанные Гликоном[*], высоко оценивая взрывную мускулатуру мастодонта мифологии в перспективе вышестоящих органов. Одних только ног мне уже не хватало.
Дождь усиливался. В саду по-прежнему ни души. В окнах музея ни одного наблюдателя. Небольшое усилие (детское) позволило мне забраться на постамент, и я уткнулась лицом в лицо статуи. Я обняла ее, прижалась, но ничего особенного не почувствовала. Глаза Геракла были пусты, а ливень словно заставлял его глупо плакать. Я прошептала ему на ухо:
— Ну что, крошка Варнава Падж, ты меня боишься? Боишься?
На самом деле это был всего-навсего кусок мрамора в трусах. Ярость моего воображения спала, и я уже собиралась спуститься, как вдруг услышала не на шутку обращенный ко мне голос:
— Осторожно, мисс, не свалитесь.
В ужасе я еще крепче уцепилась за фарнезианца и не осмелилась повернуть голову.
— Как долго вы намерены там стоять? — спросил голос. — Если желаете, я принесу стул, чтобы помочь вам спуститься.
Поскольку голос дребезжал, я допустила, что он принадлежит старику; поскольку в нем не было ничего ироничного, я предположила, что указанный старик — снисходителен; и в заключение решила, что должна успокоиться и могу не бояться оказаться в лапах мерзавца, который воспользуется моим преступным положением, чтобы злоупотребить моими прелестями и совершить в отношении меня бесчестные действия, как, например, дернуть за волосы или отшлепать по попке.
Итак, я повернулась и поняла, что угадала: это был один из смотрителей музея, убыленный сединами старец (а что означает дословно «убыленный»? — надо посмотреть в словаре), которого я, впрочем, знала в лицо (а он, возможно, — меня, поскольку я пришла в музей, конечно же, не в первый раз, хотя никогда до этого не позволяла себе трогать экспонаты), а также по седым волосам под фуражкой и наградам на рединготе. Заслужил ли он эти награды за службу Англии или нашей родной Эйре — это меня совершенно не херачило.
— Здравствуйте, сэр, — сказала я, как мне показалось, вполне естественно.
И только тут осознала, как глупо выгляжу: под дождем, на пьедестале, уцепившись за толстомордого мраморного чурбана.
— Здравствуйте, мисс, — ответил весьма вежливо предок. — Как вы оттуда спуститесь? Подождите, я принесу вам стул.
Как он старался, душка.
За кого он меня принимал?
Я откололась от своего Геракла, совершила грациозный прыжок и приземлилась прямо в лужу посреди аллеи, забрызгав грязью старого дурня. Вытираясь, он высказывал мне свое восхищение:
— Как мисс хорошо прыгает! Как мисс хорошо прыгает! Мисс наверняка спортсменка.
Я не знала, что ему ответить.
Очистившись от грязи, он сунул платок в карман, прекратил свою лицемерную хвальбу и спросил, глядя мне в глаза:
— Значит, этот Геракл намного красивее вблизи? Глядя через лупу?
— Дело в том, сэр, что у меня очень плохое зрение, — находчиво ответила я.
Дрожь, предвещающая бурю, пробежала по его волосато-седеющим рукам. Дождь продолжал идти, смотритель — меня допрашивать.
— Вы интересуетесь мускулами?
— Нет, сэр, мифологией.
— Чтобы прочувствовать мускул, совсем необязательно забираться на пьедестал. Вот, потрогайте!
Он согнул руку, чтобы я оценила его бицепс. Но оценивать я не стала.
— Было бы что, — прошептала я.
Его взгляд гневно расцвел. Этот придурок начинал меня раздражать и даже немного пугать. А что, если он бросится меня трогать?.. Мы по-прежнему были одни в этом саду, уже ощипанном прошедшей осенью, но еще не озелененном ненаступившей весной. Неужели я и в самом деле боялась этого болвана? Я оценила его беспристрастным взглядом. Нет. Этого старого сморчка я могла бы свалить в грязь простым щелчком.
Но он все-таки принялся меня стращать:
— Мисс, вам прекрасно известно, что категорически запрещается плевать на паркет, запускать собак в зал голландских мастеров, облокачиваться на витрины и забираться на пьедесталы статуй. Любое лицо, нарушившее эти правила, подвергается телесному наказанию: от пяти до двадцати пяти ударов плетью о девяти хвостах.
Еще один, который думает только об этом. Он напомнил мне отца. Кстати, а с ним-то что случилось? Неужели он до сих пор ищет коробок спичек? Хотя для всех в нашем доме его исчезновение стало настоящим избавлением. Разумеется, если бы отец остался дома, Джоэл наверняка не стал бы пьяницей. Но с тех пор, как папа ушел, у меня по крайней мере зад в безопасности. Одно компенсирует другое.
В то время как эти (с позволения сказать) мысли со скоростью кобылы-чистокровки, преследуемой слепнем-кровососом, пролетали сквозь мою маленькую душу (бессмертную), сатир от Музея изящных искусств принялся трогать своими посягающими руками различные части моего плаща. Эффект оказался на удивление слабым. А посему я сочла дальнейшие манипуляции бесполезными: дабы убедить его в этом, я загнула ему руку за спину, ударила пяткой по левому колену и отдавила пальцы на правой ноге.
Я оставила смотрителя лежать на земле и терзаться в раздумьях, вышла из музея и отправилась к Богалу. Будучи все же слегка взволнованной, я почувствовала желание облегчиться и нанесла краткий визит тетушке Корнелии, которая на этот раз удивилась еще больше, чем в предыдущий. Но день был буквально переполнен событиями: Мэйв[*], юная служанка миссис Богал, сказала, что хозяин с супругой уехал в Слайго хоронить свою прабабушку. Я бестолково застыла на лестничной площадке, не зная, что делать.
— Зайдите на минутку, мисс, — предложила Мэйв.
Очень славная и любезная эта Мэйв. Она родом из Коннемары и говорит по-гэльски так же хорошо, как и по-английски. Она в этом понимает еще больше, чем сам Богал. Он немного пользует ее в качестве словаря. Частенько заходит к ней тайком проконсультироваться. Поскольку мы оказались с ней наедине, в моей маленькой душе (бессмертной) возникла (с позволения сказать) идея спросить у нее смысл фразы, сказанной моим братом утром, но опасаясь, что она (фраза) окажется очень сальной, я посчитала нужным предварительно поболтать с девчушкой, тем более что она была к этому явно расположена.
— Пожалуй, — ответила я. — Ладно. Я не прочь...
— Может, немного посидите в кабинете?
Именно там проходили мои уроки.
Мы вошли.
Все было убрано, каждая книжка на своем месте. Кресло, задвинутое под письменный стол мэтра, показалось мне странно пустым. Другой стол, принадлежащий хозяйке, покрывал какой-то чехол, эдакий вызов любопытству, настоящая провокация. Произведения миссис Богал были мне незнакомы, я не умирала от желания с ними ознакомиться, но в конце концов ее постоянное сидение там, в углу, со своими кисточками и баночками, уже начинало меня раздражать.
Мэйв, наблюдая за мной и не подавая ввду, повела меня в тот угол.
— Госпожа очень скрытна, — сказала она. — Все прячет. И не только свои раскраски, но еще и сахар с маслом.
Она засмеялась с насмешливым и заговорщическим видом, который меня несколько покоробил.
— Мисс, а вы знаете, что это я готовлю ту гнусь, что выходит из уха миссис Богал во время сеансов спиритизма? Из всех моих обязанностей это забавляет меня больше всего. Чего, конечно, не скажешь о требованиях мистера Богала.
Она небрежно поигрывала покрывалом из жуйской ткани[*], скрывающим рисовальные принадлежности миссис Богал.
— Быть может, барышне угодно взглянуть на произведения Госпожи? — спросила она с внезапной наглостью, от которой меня бросило в краску. — Я уверена, что барышня с ними не знакома. Их видели только хозяин и я.
Она резко сорвала чехол:
— Взгляните же, барышня.
Она уверенно перебрала предметы искусства, разложенные на столе, и протянула мне одну из миниатюр.
— Возьмите, например, эту, — сказала она. — Это, судя по всему, обитатель планеты Сэрэс. Бесплотный дух.
Я подошла поближе, чтобы взглянуть, но не дотронулась.
— Ой! — вырвалось у меня при виде увиденного.
Там был изображен голый мужчина с крыльями за спиной и странными атрибутами между ног.
— Хорошо нарисовано, правда? — спросила Мэйв тоном знатока.
— Какое странное воображение, — прошептала я.
— Что? Это? — спросила она, указывая на крылья.
— Нет, это, — ответила я.
— Ах, это? Откуда бы духи ни являлись, с Сатурна, Юпитера или из других мест, хозяйка никогда не забывает приделать им увесистый набор. Очень классно выполнено, — добавила она, поднося картинку к глазам. — Видны все детали.
Она положила миниатюру и взяла в руки другую.
— А это Наполеон в изгнании на планете Нептун, — сказала она. — Его отправили в изгнание за то, что он проиграл англичанам.
На этот раз я взяла произведение в руки и внимательно его рассмотрела. Действительно, следует признать, что оно было нарисовано очень хорошо. Наполеон в своей шляпе был поразительно похож на настоящего; как и предыдущий персонаж, он был изображен совершенно голым, но объем нижних атрибутов был намного значительнее. Наверное, по мысли миссис Богал, это являлось знаком отличия, свидетельством звания, как эполеты или нашивки.
Я погрузилась в мечтательные размышления о людском тщеславии и вдруг почувствовала, как тело Мэйв прижимается к моему.
— Хозяйку это здорово разбирает, — произнесла она.
— Что именно?
— Это.
Она указала на это пальцем, обнимая меня другой рукой за талию. А поскольку она намного ниже меня, ее щека легла мне на грудь. Было приятно, но все-таки она была мне не матерью и не сестрой.
— Довольно странно, — авторитетно заявила я, возвращая ей произведение.
Затем тихонько от нее отодвинулась, хотя и боялась ее обидеть. Она молча расставила все по своим местам.
— Мэйв, — робко попросила я, — вы не могли бы сказать, что означает: Cuir amach do theanga?
— Еще запаришься, — ответила она, глядя в сторону.
— И все?
— Да. А что вам еще нужно?
Она насупилась. Мы молча расстались.
После этого заполненного событиями утра я вернулась домой на ланч.
18 марта
Падрик Богал вернулся с похорон. На уроке я то и дело поглядывала на его жену, и даже часто, слишком часто, как заметил сам учитель. Она методично работала и очень старалась.
Это заставило меня задуматься.
Мэйв очень вежлива по отношению ко мне. Открывая мне дверь, она опускает глаза.
19 марта
У меня всего три подруги: моя сестра Мэри, Аркадия О’Сир и Пелагия Мак-Коннан. Вчера Аркадия и Пелагия пришли ко мне на чашку чая. Мы поверяли друг дружке свои секреты: Аркадия сказала, что влюблена в Джорджа Коннана О’Коннана, Пелагия сказала, что влюблена в Падрика О’Грегора Мак-Коннана. А я им сказала, что люблю Богала. Они поверили.
Затем мы обменялись суждениями по поводу женских фривольностей: так, накануне месячных у Аркадии случаются сильные колики, а Пелагия страдает от запоров. Затем мы поговорили о бессмертии души и античной скульптуре. В завершение беседы мы пообещали друг другу в один прекрасный день съездить в Париж, чтобы посетить там «Галери Лафайет»[*] и ночное кабаре с цыганами, где предаются дебошу господа в моноклях и белых манишках.
21 марта
Чтобы отпраздновать наступление весны, Джоэл устроил восьмидневный «баттер»[17], то есть заперся в своей комнате с двадцатью бутылками уиски и двумя бочонками «Гиннеса», по одному бушелю, или — используя метрическую систему — по семьдесят два литра семьсот двадцать грамм пива в каждом[*]. Я описываю детально, потому что не знаю эквивалентного слова во французском языке. Возможно, во Франции этот обычай не практикуется? Я бы написала господину Прелю, чтобы узнать его мнение по этому поводу, но решила не писать, пока не напишет он сам.
Его небрежность меня возмущает.
28 марта
Сегодня Джоэл закончил свой «баттер». Мама так обрадовалась, что приготовила праздничное угощение. Джоэл спустился только на ужин, небритый, но очень веселый. Съели селедку в имбире, сало с капустой, десятифунтовый круг сыра и пирог с морской капустой. Пили немного, пели хором, около полуночи уложили маму, потому что у нее кружилась голова, и до трех часов ночи продолжали смеяться и декламировать лимерики[*]. Что до лимериков, то чем меньше я их понимаю, тем красивее нахожу. Я запомнила один из тех, что декламировал Джоэл:
Не только Майкл-бакалейщик говорит, Что дыня для мужчины — райское блаженство, И то, что отрок вас всегда развеселит, А женщина? Годится продолжать потомство.Бессвязно, но именно это мне и нравится.
29 марта
Сегодня утром я проснулась очень рано и спустилась на кухню, чтобы согреть себе кофе. Тут же ко мне присоединилась Мэри.
— Уже встала? — сказала я. — Тебе не спится?
— Угадай, что я сделала?
— Выучила наизусть все советские республики?
— Нет. Вчера вечером, ты не заметила?
— Ты была немного пьяна.
— Не это. Ты не видела, как я вышла минут на пять?
— Что ж в этом удивительного?
— Вовсе не то, что ты думаешь. У меня возникла мысль.
— У тебя?
— Да, у меня. Я подумала, что после своего «баттера» Джоэл не мог хорошо спрятать книжку, которая тебя интересует.
— Я о ней уже забыла.
— Так вот, я быстренько поднялась к нему в комнату, и что же я увидела на полу между двумя бутылками стаута? Твою книгу! Ну как? Не проста сестрица — хитрая лисица!
— Ты ее забрала?
— Да, и читала ее всю ночь.
— И что?
— Потрясающе интересно.
— Дай ее мне.
— Не знаю, могу ли я...
— Идиотка! Дай ее мне.
— Не думаю, что...
— Ты мне ее дашь.
Тут вошла миссис Килларни.
— О, миссис Килларни, — сказала Мэри, принимая серьезный вид, — расскажите нам, что тогда произошло с вареньем?
— С каким вареньем?
— Ну, с тем вареньем и с Джоэлом.
— Я не понимаю, — с достоинством ответила миссис Килларни.
Я лягнула Мэри под столом; она явно допустила оплошность, только я не знала какую.
Тут появился и Джоэл.
— Ну вы и устроили кутерьму, — высокомерно провозгласил он.
Он уставился на миссис Килларни, которая стояла к нему спиной, склонившись над поджаривающимися тостами.
— Кто же встает в такое время?! — добавил он, понизив голос.
Я осмотрела его с головы до ног. На середине осмотра я с удивлением отметила, что Джоэлу впору потягаться размерами с духами миссис Богал.
Я до сих пор не могу прийти в себя от этого.
31 марта
Мэри отказывается дать мне книгу господина Преля. Мы страшно ругаемся.
2 апреля
Не знаю, что делать. Мерзавка. Я обыскала всю ее комнату. По части тайников — такая же ушлая, как и Джоэл; я так и не сумела ее отыскать (книгу). До чего же может быть глупым ребенок в шестнадцать лет! Подумать только, что и я была в ее возрасте. И что через пятнадцать дней мне будет восемнадцать.
3 апреля
На хер мне нужна эта идиотская книжка!
5 апреля
Встретила Варнаву. Обменялись вежливостями, и все. По-прежнему ли он считает меня таинственной?
Теперь, каждый раз, когда я смотрю на какого-нибудь мужчину, я нахожу в нем особенности, присущие бесплотному духу. Нет, я имею в виду не крылья. Дело в другом. Их духовность просматривается более или менее четко, более или менее утвержденно, если на это обращать внимание. Я делаю открытие за открытием. Один взгляд, один простой взгляд способен разбудить скрытую духовность какого-нибудь господина. Наблюдать это становится очень даже любопытно. И все же мне не следует так часто блуждать взором по штанам сограждан, это не должно стать навязчивой идеей и ввергнуть меня в эдакий мистицизм с фаллюцинациями. Я должна думать и о материи: мраморе, бронзе, обо всех этих твердых и гладких материалах, используемых в произведениях искусства.
Кстати, по поводу искусства, я решила снова сходить в музей. До сих пор я не осмеливалась. А чего мне бояться? Неужели я струшу из-за слишком усердного смотрителя? Фиг ему! Завтра же и пойду.
7 апреля
Ланч закончился, мама вышла из комнаты, Джоэл испарился. Я осталась наедине с Мэри, которая очень насмешливо делала вид, будто учит независимые провинции Индии. Хоть и не сразу, но все же я поняла: Джоэл не орал как резаный, следовательно, Мэри книжку у него не крала. Эта дурочка просто блефовала. Я ничего не сказала и оставила ее наедине с индиотскими княжествами.
Я собралась в музей и так крепко вбила это себе в голову, что ни разу не поколебалась и очень скоро очутилась перед входом. Вошла. Пересекла вестибюль. Смотрители на меня даже не посмотрели, моего соглядатая среди них не оказалось. Я прошла в сад. Никого. Одни лишь статуи торчали на своих местах, в гипсе, в бронзе, в мраморе, одни — в трусах, другие с огромными цинковыми фиговыми листьями. Деревья имели уже не такой мертвый вид, почки зеленели, погода была отменная.
Я резко остановилась, почувствовав, что рядом кто-то есть, повернула голову и увидела Варнаву Паджа, который глупо, но вместе с тем очень отважно улыбался, как будто я была для него уже совсем не таинственной.
Я рассмеялась.
— Уважаемая мисс, — произнес он, — не вижу ничего смешного.
— Вот, — ответила я.
И указала пальцем на человека, которого только что вычислила по фуражке, появившейся из-за пьедестала одной из статуй. Это был тот самый смотритель.
— Не понимаю, — удивился Варнава, — что смешного в этом пожилом человеке.
— Я тоже, — ответила я.
Я развернулась и вышла, немного удивив тех, кто видел, как я входила минуту назад.
И все-таки я в этот их музей вернулась.
Я очутилась на Западной Мэррион-стрит с увязавшимся за мной Варнавой.
— Это не из-за меня вам пришлось уйти? Ведь вы только что вошли.
— А вы?
— Я? Вошел? Я... Я...
Этот болван меня выслеживал.
И что мне теперь с ним делать? В их музей я все-таки зашла, но не дошла до своей статуи. На этот раз я выбрала бы статую с фиговым листом. К счастью, там оказался Варнава, потому что мерзавец в фуражке видел, как я входила. Варнава даже не подозревал, что оказал мне услугу, он переживал из-за того, что прервал мое музейное посещение, и это было заметно.
— Вы позволите мне проводить вас, сударыня?
Я оценила формулировку. Неплохо сказано.
— Но я никуда не иду, — честно ответила я.
— А! — выдал он.
Я подсматривала за ним краем глаза. Очень любопытно оценивать мужчину (скорее мальчика), принимающего решение. На входе, в дверях музея, смотрители внимательно на нас смотрели.
— А не сходить ли нам в Феникс-парк?
Это меня не очень привлекало. Бесконечная поездка в трамвае. Не на такси же он меня повезет.
— Да, — сказала я.
— Вы не любите Феникс-парк?
— Нет, люблю.
— Можно было бы посетить зоопарк.
— Это мысль.
— Вы не любите животных?
— Нет, люблю.
Мы направились к Грегсон-стрит.
— Мне кажется, что вы предпочли бы что-нибудь другое, — сказал Варнава.
— Да нет, нет.
Шагая рядом с ним, или, скорее, позволяя ему шагать рядом со мной, я думала о смотрителе Национальной галереи: ведь он меня приметил, этот поганец. Я искала возможность учинить ему фарс, устроить подвох, подложить грязную свинью, а тут подумала, что на самом деле мстить должен именно он. В тот раз я, наверное, здорово его отделала.
— У вас озабоченный вид. Прошу меня извинить за то, что я побеспокоил вас во время осмотра. Я оказался там и посчитал позволительным...
Мы вышли на Грегсон-стрит. Я была бы не прочь задержаться у магазинов и поглазеть на витрины, но мой попутчик мог бы решить, что я выуживаю из него какой-нибудь подарок, и оказаться в щекотливом положении, учитывая, что у него наверняка не много денег на карманные расходы; достаточно на него взглянуть.
— Феникс-парк довольно далеко, — сказала я. — Ненавижу длинные поездки в трамвае.
— Я не питаю отвращенья к подобным средствам передвиженья...
Я взглянула на него: он принял утонченный и умный вид. Я сразу же поняла, что сейчас он закрутит какой-нибудь мадригал, и оборвала его.
— Вам долго ехать до мистера Богала? — спросила я напрямик.
— Не очень. Впрочем, я хожу к нему пешком.
— Вы любите гулять?
— Очень, сударыня.
Вот собачий отрок! Когда же наконец он мне скажет, где живет. Чтобы я знала, каково его социальное положение и каких развлечений от него можно ожидать. Мое собственное социальное положение скорее невысокое: моя мать — одиночка, брошенная отцом, с тремя детьми на руках и суипстейком, из которого мы уже немало высосали. Но я не собиралась обо всем этом рассказывать.
— И часто вы ходите в Феникс-парк?
— Часто, это не очень далеко от моего дома.
— Да? А где вы живете?
Неплохо я придумала с вопросом, чтобы узнать то, что хотела. Довольно незаметно.
— За церковью Святой Катерины. В Хамбери-лейн.
Голодранец, как я и думала. Но должен иметь хоть что-то, чтобы сводить меня в кино. Вот я ему и предложила пойти в Шемрок-Палас, — мы как раз проходили мимо, — там показывали «Blonde Bombshell»[*] с Джин Харлоу. Перед входом висела ее огромная фотография: какая красивая личность!
Варнава, похоже, затруднился:
— Вы полагаете, я могу повести вас на эту картину?
— А что, ее осудила Церковь?
— В Сент-Жаке я читал объявление на эту неделю: фильм запрещен даже для взрослых.
Он сглотнул слюну и добавил:
— Если мы войдем, нас примут за протестантов.
— Подумаешь! — воскликнула я.
Я не очень часто хожу в кинематограф. Сейчас представляется такая возможность, фильм наверняка интересный, актриса кажется красивой, как Венера Каллипига[*] (не знаю почему, но в музее нет копии этой статуи), и вот я должна от этого отказаться из-за какого-то священника из Сент-Жака? Ведь я не хожу на мессы в их Сент-Жак.
Однако Варнава, слегка шокированный моей последней репликой, совсем скуксился. Маясь взглядом и супя бровь, он, вероятно, искал аргументы в своей маленькой приходской голове. Прохожие оглядывались на нас и подтрунивали над нашей нерешительностью.
— В таком случае я пойду одна, — заявила я.
И направилась к кассе, открывая сумочку, чтобы сделать вид, будто ищу мелочь. Варнава подскочил и попросил два билета в партер, и маленький фонарик провел нас к нашим местам. Журнал с хроникой: Париж, 6 февраля. Какой красивый город! Я вытаращила глаза, чтобы увидеть, нет ли среди митингующих Мишеля Преля, но демонстрацию показали очень бегло. Зная его, я уверена, что он там светиться не будет. И все равно мне было приятно увидеть хронику Париж-Люмьер.
Варнава покупает мне эскимо. Сосем вместе. Вкусное. Твердое и ледяное, как большой палец на ноге у мраморной статуи в дождливый зимний день.
— Вам не хотелось бы съездить в Париж?
Это спросила уже я.
— Ну и страна! — ответил он. — Вы видели эту заваруху?
— Здесь еще почище было.
— Но уже прошло! Теперь потекут спокойные деньки. Мы обрели свой покой.
— Меня не интересует политика, и я хотела бы съездить в Париж. О! «Галери Лафайет», «Бон Марше», «Прентан»[*], бульоны Шартье, фонтаны Валлас, нищие под мостами, фиакры, мясобойни, вокзал Сен-Лазар, канавы в Венсене, Френч-Канкан. О, Париж!
Я замолчала, так как уже началась «Blonde Bombshell». Какая красивая личность эта Джин Харлоу! Вот какой я хотела бы быть! Какие бедра! А груди! Боже мой! Какая она классная!!! И с поразительной походкой! А взгляд просто катапультирующий!!! А волосы, легче газа! Ох, охереть можно! — сказал бы господин Прель. — Потрясающий экземпляр!!! К тому же и фильм потешный! Я смеялась не переставая! Во все горло!!! Кинематограф и в самом деле — изумительное изобретение!!!
Чтобы отблагодарить Варнаву за то, что он меня туда сводил — скажем прямо, немного принужденно и вынужденно, но все же заплатил он, и я должна была выразить ему свою признательность, — мне захотелось сделать какой-нибудь дружеский жест, например, легонько похлопать его по руке, что было бы любезно с моей стороны. Но я сделала это неумело, и моя рука оказалась на его ляжке. Я не поняла это сразу и решила продвинуться в направлении, как мне казалось, его локтя. Но вместо того, чтобы дотронуться до того чувствительного локтевого местечка, которое французы называют — любопытно почему? — «еврейчиком», я уткнулась в какой-то дополнительный член: это было не крыло, а триединое украшение, подобное атрибутам бесплотных духов миссис Богал. Из чего я заключила, что духовность среди современных мужчин встречается намного чаще, чем принято считать в настоящее время, а также — несмотря на мою склонность к атеизму — что душа, возможно, бессмертна и способна не только крепчать при плотском рукопожатии, но и утверждаться при смерти, дабы пересечь небеса или пронзить преисподнюю.
Тем временем на экране Джин Харлоу в купальном костюме готовилась к прыжку. Ее показывали со спины; вытянув руки, она медленно наклонялась к зеркальной глади вод, и вдруг ее круп заполнил весь экран своей толстозадой двойственностью. Варнава ушераздирающе вздохнул, схватил мою руку и резко оттолкнул ее. Сзади на нас кто-то зашикал: «Шшш!»
Я не понимала раздражения своего попутчика. Что такого оскорбительного я могла ему сделать? — спрашивала я сама себя. Из-за этого я была одновременно смущена, озабочена и обижена. И от конца фильма не получила никакого удовольствия.
На улице Варнава прижал свою шляпу к низу живота. Он даже не предложил проводить меня до дому, сказал вежливо «до свидания» и ушел. Я смотрела, как он удаляется, по-прежнему прижимая шляпу к низу живота и вышагивая отнюдь не грациозно. И все-таки, и все-таки я ничего в этом не понимаю...
10 апреля
Джоэл уехал на две недели, умчался на багажнике мотоцикла Тимолеона Мак-Коннана, сына поэта. Надеюсь, он не свалится и не раскроит себе рожу. Сначала они поедут в Корк, а вернутся через Лимерик и Килдар. Они уехали сегодня, в шесть часов утра. Я проснулась от звонка в дверь и пошла открывать: это Тимолеон заехал за моим братом. Он был одет во все кожаное, от шлема до сапог, на лоб задирались очки. Огромный мотоцикл сверкал тысячами огней в утреннем полумраке.
— Джоэл готов? — спросил Тимолеон, даже не поздоровавшись.
— Пойду посмотрю. Войти не желаете?
— Пожалуй. А глотка виски у вас не найдется? На улице дикий холод.
— Ну конечно, зайдите же.
Я усадила его перед бутылкой виски и пошла будить Джоэла.
— О, черт! — пробурчал он. — Оставь меня в покое.
Я вылила кувшин воды ему на голову.
— Тебя ждет Тимолеон.
— Который час?
— Шесть.
— Надо было сказать раньше, — проворчал он.
Я спустилась к Тимолеону. Он уже опустошил треть бутылки. Я спросила:
— Вы сможете вести мотоцикл?
— Ясно. Вы из тех, кто мораль читает. Последовательница отца Мэттью или Мэта Талбота?
— Я просто так сказала.
— Вас редко видно.
— Где?
— На стадион вы больше не ходите?
— Нет, я оставила спорт.
— Ради Падрика Богала?
— Да.
— И ради Варнавы?
Я не ответила.
— Этого мудака, — добавил он.
Я пожала плечами.
Он пожал плечами в свою очередь и повторил:
— Этого мудака.
Затем он спросил, почему я никогда не хожу танцевать к сестрам Мак-Адам. Каждую субботу там устраивают вечеринки. Честно говоря, я об этом даже не знала. Ни Пелагия Мак-Коннан, ни Аркадия О’Сир мне об этом никогда не рассказывали. Ни Джоэл.
— Я не люблю танцевать, — ответила я.
Он снова пожал плечами.
Тимолеон — вообще-то неплох собой, но я не люблю людей такого склада. Он подлил себе уиски. Я сказала, что если он будет продолжать клюкать в том же духе, то может врезаться в дерево.
— На такой, как вы, я никогда бы не женился, можете не сомневаться, — парировал он. — Мне жалко парня, который заполучит вас в жены. Такую зануду.
Появился Джоэл:
— Ну-ка, Тим, прекрати подкалывать мою сестру.
— Уиски? — предложила я.
— Нет, спасибо, в сумку положу.
Он взял бутылку в одну руку и швырнул на стол книгу, которую держал в другой.
— Держи, — сказал он мне, — можешь почитать в мое отсутствие. В конце концов, я решил, что ты до нее доросла.
Он обнял меня и позвал Тимолеона: «Ты идешь?» Я проводила их до порога, они быстро завелись и с визгом и тарахтеньем сорвались с места. Светало. Тимолеон, шутки ради, повел мотоцикл зигзагами. Я последний раз махнула рукой и вернулась на кухню.
Бросилась к книге.
В девять часов миссис Килларни пришла готовить брекфаст. Я даже не пошевелилась.
Около десяти часов я услышала за спиной голос Мэри:
— Что ты здесь делаешь? Брекфастничать пойдешь?
Я дочитала книгу почти до конца.
— Похоже, ты читаешь что-то страшно увлекательное.
— Да, — отозвалась я, — книжку, которую оставил господин Прель.
Мэри ничего не ответила.
Я дочитала книгу до конца и присоседилась к ней за стол. Мама изучала объявления в «Айриш Стью Геральд»[*], она их прочесывала со всех сторон и одно за другим, как заметки о происшествиях, она все еще надеялась найти что-нибудь о папе.
Мне хотелось есть. Я молчаливо уписывала завтрак, а книга лежала на столе. Я подсматривала за Мэри, которая принимала разнообразные виды и многократно менялась в цвете. Она не могла рассмотреть название: Прель по своему обыкновению обернул книжку в обойную бумагу с цветочками.
Я умяла целую миску джема и выпила пять чашек чая. Мама сложила газету. Сегодня опять ничего.
— Ну что, малышки, закончили?
— Нет, мам.
— Пойду немного пошью.
Бедная мама.
— Ну что ты на это скажешь?
— На что?
— Врунья. Мерзкая врунья.
— Салли, не говори так.
— Так ты хочешь прочесть эту книгу?
Она побледнела.
— Ты серьезно?
— Конечно.
Она побледнела еще больше.
И задрожала.
— Да, — прошептала она.
Я взяла книгу, выдрала титульный лист и смяла его в комок. Затем подтолкнула к ней книгу. Встала и пошла из кухни. Она закричала мне в спину:
— Что ты вырвала? Я хочу прочесть все!
В своей комнате я снова перечитала то, что Мишель Прель написал на титульном листе: «Графиню распирает от комплексов, но по сравнению с комплексами детей Мара это просто ничто». Я разорвала страницу на мелкие кусочки и уже хотела бросить их в клозет. Но потом предпочла их проглотить: этот опосредованный путь показался мне более респектабельным.
Когда я уходила на урок, то заметила, что в столовой, выставив локти на стол и заткнув кулаками уши, сестра погружалась в чтение «Генерала Дуракина»[*].
12 апреля
Пелагия и Аркадия пришли ко мне на чашку чая. Пелагия спросила:
— Мой брат тебе сказал, что ты можешь прийти в одну из суббот к сестрам Мак-Адам?
И быстро добавила:
— Когда он вернется.
Я небрежно ответила:
— Да, да, я видела твоего брата вчера утром.
И спросила в свою очередь:
— Откуда ты узнала?
— Перед отъездом они заехали домой. Тим забыл надеть носки.
— Понимаешь, — вступила Аркадия, — мы тебя не приглашали, потому что ты не танцуешь.
— Ну, естественно, — согласилась я.
Потом помолчала и сказала:
— На днях я поучусь танцевать.
Затем мы поболтали, но атмосфера была прохладной-прохладной.
17 апреля
Вчера был мой день рождения. Отныне мне восемнадцать лет, восемнадцать весен, все зубы, все на месте спереди и сзади, ах, ни хера себе, что за прекрасный день!
Джоэл вернулся после обеда, и мама приготовила прешикарное праздничное угощение: селедка в имбире, сало с капустой, двадцатифунтовая головка сыра и пирог с морской капустой, в который были воткнуты по кругу восемнадцать бенгальских огней фиолетового цвета.
И господин Прель меня не забыл! Здорово он все подстроил: именно в этот день мы получили из Парижа шесть бутылок 45-градусного рикара. Мама хотела приберечь одну, чтобы обмыть (возможное) возвращение папы. Но, черт возьми, шестую мы ликвидировали, как и пять предыдущих.
Это был прекрасный семейный праздник. Мэри рассказала наизусть названия тысячи двухсот островов Филиппинского архипелага, Джоэл продекламировал несколько подвигов Кюкюлэна[*], мама спела французскую песню «Цветущие вишни», переведенную на айриш-брог[*], а я легонько трясла головой.
И продолжаю трясти до сих пор, так как, едрен корень, до чего же мне плохо, едрен корень, до чего же плохо!
18 апреля
Но это еще не все. Господин Прель прислал не только коробку теперь уже с ликвидированным аперитивом, — бедная миссис Килларни, на ее долю осталось не больше рюмки, — но еще и Настоящий Французский журнал, написав на нем: «Салли от Мишеля». Ни хера себе, такая фамильярная надпись! К счастью, мама на это не покосилась. Журнал называется «Ваша красота». Я прочла его от корки до корки, включая объявления и рекламу. Вот цивилизация — просто обхохочешься! Женщины, озабоченные своими угрями, прыщами и плохо гнущимися ресницами, как все это смешно. У меня ничего такого нет, и я не собираюсь ни от чего избавляться. Вот, например, одна сходит с ума оттого, что зимой у нее по телу бегают мурашки, а от холода на коже появляются красные пятна. Ей рекомендуют, цитирую:
Рыбий жир: 250 г.
Резорцин: 15 г.
Салол: 5 г.
Чоштамтакоевый краситель: наполнители, достаточные на одну эмульсию.
Уинтергриновая эссенция: наполнители достаточные.
Наносить ватным тампоном три раза в день.
Да уж, француженкам скучать не приходится. А все те несчастные, у которых ягодицы чуть крупнее, ляжки чуть толще, груди чуть ниже или чуть рыхлее. Не считая еще тех, которые жаждут проредить брови, и тех, которым, наоборот, нужно их отрастить. Целый мир.
И всем им отвечают терпеливо, любезно и самозабвенно.
Целлюлит — тоже дело серьезное: настоящий порок. В журнале есть целая научная статья на эту тему. Вот француженки читают все это и, наверное, ужасаются, на хер.
Меня заинтересовала одна штука, тоже вещь не шуточная: «Мужчина и женщина, эстетические сравнения» с целой кучей параллельных замеров. У меня неплохие размеры, объем груди пока не на уровне, зато бедра, прошу пардону! А еще они проводят опрос: визуально предпочитаете ли вы красивого мужчину или красивую женщину и почему? Ответ не должен превышать двадцати строчек. Я визуально предпочитаю красивого мужчину. Почему? Потому что субстанция наших женских округлостей слишком дряблая. А мне больше импонирует мускул и кость. В отношении мужской духовности нет ни одного замера. Было бы очень интересно.
Есть и другие статьи: о помаде, о румянах, о диетах, о духах, о шляпках. Да уж, француженкам не приходится терять ни секунды.
В любом случае, я нахожу это довольно забавным, и со стороны господина Преля было очень любезно прислать мне этот журнал. Надо его поблагодарить.
19 апреля
В журнале встречаются фразы, которые я не очень хорошо понимаю, как, например, вот эта (все в той же статье «Мужчина и женщина, эстетические сравнения»), на стр. 23: «У мужчины ягодичная складка находится на нижней границе четвертого позвонка, у женщины она опущена значительно ниже».
Не понимаю.
20 апреля
О любви в этой периодике ничего не говорится.
21 апреля
Этот ежемесячник я уже выучила наизусть.
22 апреля
Мэри вернула «Генерала Дуракина», он ей очень понравился. Но она никогда не узнает, что написал на титульном листе господин Прель. Никогда. Никогда. Никогда.
23 апреля
Не могу сказать, что мне понравилось бы выщипывать брови, носить корсет и красить губы помадой. Но в этом есть что-то привлекательное.
25 апреля
Есть куча вещей, которые мне кажутся неясными и о существовании которых я раньше даже не подозревала. Но они имеют вид столь разнообразный, а характер столь противоречивый, что я не понимаю, где у них зад, а где — перед.
27 апреля
Считается доказанным, что у мужчин не должно быть лунных расстройств, которые случаются с нами, девушками. Почему же? Это мне кажется и неприличным, и несправедливым. Конечно, я знаю, вся кровь нужна им для того, чтобы защищать своих матерей и родину, но у Адама не было ни матери, ни родины, а само явление конечно же восходит к тем далеким временам.
29 апреля
Возможно, какая-то связь с материнством? Но это было бы странным.
3 мая
Все еще не поблагодарила господина Преля.
4 мая
На самом деле все эти истории, которые мне кажутся столь неясными, должны иметь более или менее определенное отношение к... Я не решаюсь уложить это слово на бумагу. Ну же, Салли, смелее! Не могу. Нет, могу. Да ладно, хер с ним, в конце концов, это интимный дневник или нет?! Да! Так вот... должны иметь более или менее определенное отношение к... брачности. Написав этот термин, я покраснела.
5 мая
Я согласилась с Джоэлом и Мари и отправила «Генерала Дуракина» его владельцу. Сама отнесла его на почту, вернулась домой попить чаю и показала им квитанцию на заказное отправление. Джоэл пальцем размазывал масло по тосту. (В настоящее время он пьет меньше, думаю, у него появилась девушка. Я забыла об этом написать. Но не знаю, кто именно: Пелагия, Аркадия, Сара, Ирма, Ева, Беатиция, Игнатия или кто-нибудь еще. Во всяком случае, он больше не подтрунивает над миссис Килларни.) Он внезапно спросил у Мэри:
— Что ты думаешь о том, что он написал на титульном листе?
— О названии? — удивилась эта дура.
— Да нет же, дура. То, что написал сам Прель.
— Я ничего не видела.
— Ничего не видела? Салли, можешь так не краснеть.
— Почему она покраснела? — спросила мама, не поднимая глаз.
Она вязала носки ко дню возвращения папы.
— Вот дурехи: что одна, что другая. Кстати, налей-ка мне стаканчик уиски.
Мама встала и пошла за бутылкой.
— Ну и дурила же ты, — сказала я.
— Что ты сказала?!
Он сделал вид, будто собирается встать и дать мне затрещину.
— Я разорвала эту страницу, чтобы она не прочла.
— Ах! — вскричала Мэри. — Стерва!
Она наклонилась к Джоэлу и дернула его за рукав:
— Что там было написано? Что там было написано? Скажи мне! Скажи!
Мама принесла бутылку уиски и поставила перед Джоэлом.
— Скажи ей, — мягко сказала она.
Она не любит, когда ругаются.
Джоэл мечтательно выпил стакан уиски и, закрыв глаза, произнес:
— Ну и распирает же графиню от комплексов, но по сравнению с комплексами детей Мара это просто ничто.
Мэри, которая знает французский хуже, чем Джоэл и я, попросила его повторить фразу. Он повторил.
— Кто это написал?
— Прель. Мишель Прель.
— У меня нет комплексов, — серьезно заметила Мэри.
— Ты даже не знаешь, что это такое, — сказала я.
— Я? Я не знаю, что это такое? Одна студентка с зубной хирургии мне все объяснила.
— И что же это такое?
— Всякие подсознательные штуки...
— Например?
— Ну, например, когда сын хочет жениться на матери.
Мама захохотала как ненормальная.
— Посмотрела бы я на Джоэла, который признается мне в любви.
Мама просто заходилась от хохота. Мы с Мэри прыснули со смеху.
— А что? — возразил Джоэл. — Я могу признаться в любви к тебе не хуже других.
— Даже представить себе не могу, — сказала мама.
— Мама, мама, — внезапно воскликнул он плаксивым голосом. — Ты меня больше не любишь? Ты меня больше не любишь?
— Да, люблю, люблю, — успокоила его растроганная мама. — Но если бы я была на выданье, я бы тебя не выбрала.
— Да? И почему же?
— Ты слишком много пьешь.
— А папа, он разве не пил?
— Пил, но нормально. Не больше восьми-десяти пьянок в неделю. А ты пьешь не просыхая. Как мать не вижу в этом ничего неприятного, но, будь я твоей супругой, мне бы это не понравилось.
— Супругой, супругой... Но твой супруг, каким нормально пьющим он ни был, все же смылся. Он же тебя бросил. Разве нет?
— Он вернется, — сказала мама спокойно и уверенно.
Джоэл поднял руки к небу, затем хлопнул себя по ляжкам:
— Вот это да! Пусть мне их отрежут, если он когда-нибудь вернется!
— Что отрежут? — спросила я.
Джоэл занервничал:
— Может быть, тебе еще и нарисовать?
— Вот именно, — сказала Мэри заинтересованно. — Нарисуй.
— Мама, принеси карандаш, сейчас я им нарисую.
Мама встала и пошла за карандашом.
— И бумагу! — крикнул Джоэл ей вслед.
Мэри снова подступилась к Джоэлу:
— А что именно означает эта фраза? Ровным счетом ничего. Это все литература.
— Литература! Литература! — заорал Джоэл и налил себе еще уиски. — Посмотрел бы я на тебя! Ужасное дело, когда заводятся комплексы. Посмотри на меня.
— А ты что, вправду хотел бы жениться на маме? — спросила Мэри.
— Ха! Ладно бы это. У меня есть кое-что похуже.
— Что? — ошарашились мы хором.
— Я хотел бы жениться на бабушке.
— Но она ведь умерла!
— Вот именно. Теперь понимаете, дурехи, почему моя жизнь пошла прахом.
— Ну и шутник, — непредвзято отметила я.
— Хочешь получить по шее? Я запрещаю тебе уничижать мои комплексы.
— А что это такое, комплексы? — спросила мама, войдя в кухню с карандашом и бумагой.
— Это французское слово, — ответила Мэри. — Тебе не понять.
— Какой красивый язык этот французский, — сказала мама. — Красиво звучит. А во фразе, которую только что произнес Джоэл, я услышала нашу фамилию. Там было что-то про нас.
— Какая сообразительность! — воскликнули Джоэл и Мэри хором.
Мама гордо заулыбалась.
— Не про нас, — сказала я. — Это тоже французское слово: краткая форма просторечного и архаичного существительного «марево» в единственном числе, именительном падеже, с ударением на второй, реже первый слог, означающее: морока, наваждение, обаяние, греза, мечта, призрак, привидение, обман чувств и собственно сам призрак.
— Не зря зубрила, — заметила Мэри.
— Ты на себя посмотри со своей тысячью филиппинских островов!
— Ну и дуры, что одна, что другая, — сказал Джоэл. — Дайте я вам нарисую обещанную картинку. Идите сюда.
Мы уселись по обе стороны от него и стали смотреть, как он рисует.
Он в три секунды сделал набросок.
— Вот! — воскликнул он с невероятно довольным видом.
Это было похоже на тройственные атрибуты духов миссис Богал.
— Как кузнечные мехи, — заметила Мэри.
— Ну, вообще! — возмутилась я. — Интересно, где это ты могла видеть кузнечные мехи.
— В словаре, — ответила Мэри.
— Это все литература, — поддела я.
— Ты словами-то не бросайся! — огрызнулась она.
— Ну, ну, не ссорьтесь, — сказала мама. — Покажи-ка.
Джоэл протянул ей рисунок.
— Ты неплохо рисуешь, — сказала она. — Жаль, что пьяница, а ведь мог бы стать художником!
Она вернула ему рисунок.
— Чем ты еще можешь заняться в жизни?
— Могу записаться во французский Иностранный легион.
— Хорошенькая перспектива!
— Мам, пока у тебя есть денежки, мне нечего бояться.
Мы молчали.
— Ну как? — спросил он, раскладывая рисунок перед собой, — что вы об этом думаете, малышки?
Мы обе погрузились в задумчивость. У меня в голове засветилось множество феноменов, фактов, актов, слов: нежданно одни, с опозданьем другие. Устанавливалась связь между жестами, фразами, предметами...
— Это наводит на размышления... — медленно произнесла я.
— Интересно, для чего это может служить? — не менее задумчиво добавила Мэри.
— Ну! Ну! — фанфаронисто изрек Джоэл.
— Практически ни для чего, — грустно обронила мама.
— Все для чего-то служит, — уверенно заявила Мэри.
— Хвост у собак, например. Не очень понятно, зачем он им, — заметила я.
— Махать и тем самым демонстрировать свою радость.
— По-твоему, эта штука служит для того же?
Джоэл и мама прыснули со смеху.
— Что вы смеетесь? — возмутилась раздосадованная и покрасневшая Мэри. — Не всегда удается сразу же найти решение задачи.
— Ну, ну, не сердись, — сказала мама, давясь от смеха.
Мы еще раз внимательно рассмотрели рисунок.
— Здесь отверстие, — заметила Мэри.
Мне стало досадно и завидно из-за наблюдательских способностей Мэри. Если я не буду развивать свои, то вряд ли стану когда-нибудь писательницей, романисткой, прозаичкой. «То-то и оно», — говорил Монтень; «наденем нарукавники», — говорил Бюффон[*]; «мир синтаксису», — говорил Виктор Гюго.
— Точно, — подтвердил Джоэл.
— А малышка совсем не глупа, — сказала мама. — Наверняка сдаст свои экзамены.
Подумаешь! Ну а что потом?
В этот момент позвонили в дверь.
— Это Тим за мной заехал, — сказал Джоэл. — Съездим поиграть в бильярд.
Он схватил рисунок, смял его и засунул в карман. Потом побежал к своему приятелю.
— Не напивайся, сынок! — крикнула ему вдогонку мама.
— Не больше, чем обычно.
Дверь за ним закрылась.
— Может, они пользуются этой штукой для какого-нибудь специального бильярда, — предположила Мэри.
— Ну, ну, малышки, — сказала мама. — Бросьте! Придет время, узнаете.
— Как она меня достает своим превосходством, — прошептала Мэри.
Мы встали из-за стола.
Джоэл не пришел пьяным. Он не пришел вовсе.
8 мая
У меня сперли мой номер журнала «Ваша Красота». Это не Мэри, я уверена. Мама? Вряд ли. Миссис Килларни? Кто знает?
Мы с Мэри продолжаем вести долгие разговоры на интересующую нас тему. Мэри с присущей ей методичностью и логическим строем ума сделала два вывода: первый — эта штука, имеющая форму трубки с жерлом, предназначена для испускания жидкости, которую наверняка выделяют две примыкающие к ней сферы. Что это за жидкость? Возможно, молоко. Второй вывод: поскольку некоторые животные наделены аналогичным придатком, можно сделать заключение о его назначении после наблюдений за поведением вышеупомянутых животных, то бишь лошадей и собак. Что мы и решили проделать завтра.
9 мая
Мы с Мэри провели весь день, перемещаясь по городу и собирая информацию, после чего пришли обе к одному выводу: это не более чем очень практичное и даже хитроумное приспособление для удовлетворения малой нужды. Мы были разочарованы и немного расстроены при мысли о том, что в этом смысле Природа нам никак не поспособствовала.
11 мая
Почему же бесплотные духи миссис Богал нуждаются в этом приложении?
12 мая
Варнава не заговаривает со мной после той истории в кино. Быть может, я должна перед ним извиниться?
13 мая
После долгих раздумий я решилась. Дождалась, когда он выйдет после урока, и якобы случайно столкнулась с ним в дверях. Все было подстроено очень удачно и выглядело совершенно естественно.
— Ой! — вырвалось у него.
— Ай! — вырвалось у меня.
Пожали друг другу руки.
— Вы не против, если я немного пройдусь с вами? — спросила я.
— Э-э... дело в том... Я не знаю, прилично ли это... — прошептал он, опустив глаза.
— Я обещаю вам, что не буду брать вас под руку...
— Тогда давайте свернем здесь, — сказал он, увлекая меня на Каталог-лейн.
— Да, разумеется, так будет скромнее.
Мы безмолвно прошли несколько метров. Я заговорила первой:
— Варнава...
— Мисс...
— Вы ведь не обиделись на меня?
— О нет, мисс.
— Варнава, прошу меня извинить за тот день.
— Какой тот день?
— В кино.
— Ну и что?
— Извините меня.
— Но за что? За что?
— Вы не помните?
— Э...
— Ну, Варнава.
— А! За то, что мы пошли смотреть фильм, запрещенный нашей родной Святой Церковью? Но я в тот же день исповедался...
— Нет, не за это.
— Однако это очень серьезно.
— Варнава! Ну, если хотите, я извиняюсь и за это тоже. Но есть еще...
— Не знаю, сударыня. Ничего не знаю. Я забыл.
Я посмотрела на него: он был весь красный. Все это начинало меня раздражать.
— Но я все равно хочу извиниться. Варнава, я не должна была делать то, что сделала в темноте, то есть класть свою руку между ваших ног. Инцидент произошел так быстро, и я прекрасно понимаю, что вы не сумели сдержаться. Я совершенно искренне извиняюсь от всего сердца и обещаю вам, Варнава, больше так не делать.
— Правда, Салли? — поспешно спросил он. — Это правда?
— Клянусь.
Он глубоко и облегченно выдохнул. Облегченно или удовлетворенно? — спросила я про себя.
— Тем лучше, потому что мой духовник посоветовал мне не позволять этого в следующий раз.
Он немного помолчал и добавил:
— Хотя было довольно приятно.
— Вы сами не знаете, что вам надо, — воскликнула я раздраженно.
Действительно, до чего же он меня раздражает.
— Нет, нет, я ничего не говорил, — залепетал он так быстро, что слова выскакивали без обычных препинаний. — У меня просто вырвалось несколько слов, совсем крохотный кусочек предложения. Который я беру обратно. Который я уже забрал обратно. Нет, нет, нет. Я остаюсь на том, что сказал мне духовник и только что пообещали вы сами. Да, именно так, именно так. Мы опять пойдем в кинематограф, и вы воздержитесь от возложения своей руки на мой прибор. Именно так: мы снова погрузимся вместе в полумрак кинозала. Например, завтра! Не желаете? Пойдем смотреть «Тарзана»[*]. Да, да, «Тарзана». До свидания, сударыня, я должен ехать. До свидания... Салли!
— До свидания, Варнава.
Мы пожали друг другу руки, и он ушел. Применительно к этой штуке название «прибор» кажется мне очень красивым и очень правильным. Он сам это придумал? Неужели Варнава поэт?
14 мая
Мы пошли смотреть «Тарзана». Все прошло хорошо. Но все-таки странно: если было приятно, почему бы мне снова не доставить ему это маленькое удовольствие? Как жаль, что я пообещала этого не делать. Даже поклялась. И все же...
И все же я сдержалась.
Хотя.
Как сказал Варнава, фильмы о Тарзане разрешены нашей Святой Церковью. Несмотря на то что разрешенный Тарзан так же красив, как Аполлон, Гермес или Геракл. Настоящая статуя этот Тарзан: плечи, мускулы, лицо, настоящий языческий бог. Истинный дух джунглей. Что касается его прибора, то из-за набедренной повязки, которую он не снимает, прибор совершенно не виден. Хотя я смотрела внимательно. Чтобы быть в курсе дела, буквально не сводила глаз. А какие у Тарзана ляжки, какие икры... Все же какое красивое строение у носителей приборов. Так бы и бросилась на их изучение. Один из них находился как раз у меня под рукой, но обещание есть обещание, клятва есть клятва.
Домой я вернулась в подавленном, дурном настроении или, скорее, в подавленном хорошем настроении (которое у меня было бы, если бы...), нашедшем себе выход в виде едких и капризных речей.
Что, похоже, заинтересовало Мэри.
15 мая
Обидно, что у меня больше нет журнала «Ваша Красота». Теперь я уже знаю, что его стибрил Джоэл. Сегодня утром он спросил, не отправлял ли Прель других номеров. Вопрос, шитый белыми нитками в стоге сена, как говорят французы. Но что его могло заинтересовать в этом журнале? Возможность сравнить свои размеры с размерами французских прототипов?
А тут еще этот Прель. До сих пор ему не написала, чтобы поблагодарить. Прямо сейчас это и сделаю, причем, как говорят французы, инкогнито.
17 мая
Вчера написала господину Прелю. Я поблагодарила его, написала о своих новостях, семейных новостях, богалных новостях, и т. д., и т. п. Закончила письмо, справляясь о его... с его... новостях, ну... новостями, ну, в общем, как он поживает, вот (кажется, что я немного позабыла в последнее время французский), а еще спросила, как поживает его прибор.
Не знаю, дойдет ли до него намек, но если он его поймет, то повеселится вдоволь.
19 мая
Со следующей недели Падрик Богал уже не будет давать уроки. Он уезжает на полгода в Италию, этот счастливый дуралей. Миссис Богал устроит последнее в этом сезоне чаепитие для друзей и знакомых. По этому случаю она уже не будет демонстрировать эктоплазму, эту белесую субстанцию, которая вылезает у нее из уха, откуда — как рассказывают детям — они и вырождаются.
А кстати, откуда они вырождаются?
20 мая
Я добилась заметных успехов в гэльском, но мне, конечно, далеко до того, чтобы писать на нем роман. Напишу позднее. Да и идей все равно нет. Но я не упускаю из виду этот замысел и хотела бы, чтобы будущее произведение — пока я знаю только это — было шутливым и вместе с тем приносило определенную пользу, например, в воспитании молодых барышень; короче, в знак признательности Варнаве, моим девизом станет «Совмещать приятное с приборным»[*].
21 мая
На Саквил-стрит встретила тетю Патрицию[*]. По отношению к ней я испытывала угрызения совести, потому что не заехала поблагодарить ее после тех двух неуместных и небескорыстных визитов. И вот случилось то, чего я опасалась.
— Здравствуйте, тетя Патриция, — вежливо сказала я.
— Здравствуй, моя дорогая Салли, — ответила тетя. — Ну? Давно у тебя не возникало желания попользоваться моими удобствами!
— Но, тетя Патриция... Я не хотела злоупотреблять...
— Нет, нет, нет, моя дорогая Салли. Я всегда с удовольствием облегчаю существование людям. Особенно если они — мои родственники.
— Ну, тетя Патриция, я вас благодарю... пользуясь случаем...
— Ну, я надеюсь, что этот случай скоро тебе представится.
— Вряд ли, тетя Патриция. Летом я не буду ездить в ваш район; я перестала брать уроки.
— Уроки чего, деточка?
Я даже забыла ей об этом сказать.
— Ирландского.
— Очень хорошо, очень хорошо. А у кого?
— У Падрика Богала.
— У поэта?
— Да, тетя Патриция.
— У этой живучей мрази?
— О! — оторопела я.
Вид у тети Патриции был очень возбужденный.
— Да! Живучая мразь! Ты, вероятно, не знаешь, что я собиралась выйти за него замуж.
— Вы, тетя Патриция?
— Тебя это удивляет, дуреха?
— Но... тетя Патриция...
— Вот именно. Он хотел на мне жениться. Этот придурок меня любил, а потом: раз, и сделал ребенка одной официантке из кабаре. А потом: хоп, и ему пришлось жениться на ней и, бэмс, бросить меня. Он? Поэт? Похотливое ничтожество!
— Но, тетя Патриция, как он мог сделать ребенка этой девушке, если они были не женаты?
Она посмотрела на меня зло и кругло. Затем улыбнулась:
— Он-то знает как. Еще тот пройдоха. Поостерегись.
Не понимаю, чего остерегаться. Дети — плод освященного брака; мужчина и женщина, которых не благословил священник, могут обниматься и целоваться круглыми сутками и месяцами, но от этого ребенок не сделается. Ребенок — это благодать, которой во время таинства венчания одаряет God или один из его ангелов; ребенок непонятно как созревает, непонятно каким образом появляется на свет. Но тогда, во время разговора, я думала о другом.
— Значит, нынешняя миссис Богал и есть та официантка?
— Вот именно.
— Она здорово рисует.
— Она? Рисует?
— Да, тетя Патриция. Очаровательные миниатюрки с небесными духами и всеми их атрибутами.
— Ты сама это видела?
— Да, она сидит на всех моих уроках.
— А, она присутствует на всех уроках. На уроках с поэтом?
— Да, тетя Патриция.
— Хитрая лиса!
— И я вижу, как она рисует.
— Никогда бы не подумала, что у ней есть какие-то способности.
— Очаровательно и очень похоже.
— Интересно, как ты можешь знать, что похоже?
— Ну, я имею в виду, совсем как настоящие мужчины.
— О! — протянула тетя Патриция, разглядывая меня круглым любопытным оком.
— Тетя Патриция, а как же ребенок?
— Какой ребенок?
— Ну, насколько я знаю, у мистера и миссис Богал детей нет. Что же стало с ребенком?
— Ничего.
— Ничего? Как это ничего?
— А так. Он и не рождался.
Тут мне показалось, что тетю Патрицию начинает заклинивать. Я и до этого подозревала, что она плетет небылицы насчет этой девушки, которой без замужества сделали ребенка.
Возникла неловкая пауза. Мы помолчали.
Тетя Патриция заговорила первой:
— Как твоя мать? Все в порядке?
— Да, тетя Патриция.
— Все вяжет носки для супруга?
— Да, тетя Патриция.
— А Джоэл по-прежнему пьянствует?
— По-прежнему, тетя Патриция.
— А Мэри по-прежнему учится?
— Будет сдавать экзамены на будущий год.
— Гм. Вижу, что с вами все в порядке. Тогда до свидания, моя дорогая Салли.
— До свидания, тетя Патриция.
— И повторяю еще раз: мои удобства всегда в твоем распоряжении.
— Благодарю вас, тетя Патриция.
— И не забудь сказать своему Богалу, что я считаю его навозным украшением, сдобренным пометом.
— Этого я не скажу, тетя Патриция.
— Понятно. Он на тебя имеет виды. Глупышка. Этот жирный стоеросовый чурбан, недоколотый на последнем празднике Святого Патрика, этот пятидесятилетний жопастый мудила наверняка подбирается к такой легкой добыче для сатиров, как ты. Поостерегись, племянница. Поостерегись.
После чего она ушла.
Бедная тетя Патриция!
Любое замужество покажется счастьем, когда видишь, как передергивает незамужних.
По этому поводу я пролила слезу и намочила свои дневниковые интимности.
А я еще собиралась не выходить замуж. Каково быть замужем? С мужем наверняка интимничают еще интимнее, чем в дневнике. Поверяя ему все, можно употреблять такие возбуждающие и запрещенные слова, как: трусы, черт, разюрель[*], баклажан, лавочка, задний проход.
Я никогда не осмелюсь.
Кстати, господин Прель мне еще не ответил.
22 мая
Итак, вопреки моим представлениям, женщина и мужчина могут иметь ребенка, даже если они друг с другом не женаты. О, это целая история! Целая история, от которой я просто обалдела. Просто обомлела. Просто опупела. Просто опухла и осталась с носом. Ну и ну, это я должна обязательно рассказать.
Сегодня за ужином мы сидели за столом вчетвером. Обычно миссис Килларни готовит ужин и сразу же уходит. Она не подает на стол; это делает мама. Итак, мы сидели за столом вчетвером, поглощали ужин: капустный суп, несколько метров кровяной колбасы с картофелем, поджаренным на сале, десятифунтовая головка сыра, пирог с морской капустой в маргарине, и тут... — о чем это я? О! Я так взволнована, так взволнована, что даже не знаю, ни на чем, ни о чем... стало быть, стало быть. Итак, мы поглощали капустный суп, да еще с каким аппетитом. Джоэл был не очень пьян. Время от времени он проливал суп прямо себе на носки, но это случалось не очень часто. В общем, держался нормально.
Мы почти доели суп и скребли по дну тарелок, когда миссис Килларни, которая, как нам казалось, ушла, вошла в столовую и сказала маме:
— Сударыня, я попросила бы вас на два слова.
— Я вас слушаю, — ответила мама, облизывая ложку и губы. (До чего она любит капустный суп!)
— Я бы хотела объясниться с глазу на глаз, — сказала миссис Килларни.
— Отчего же, — сказала мама. — Мне нечего скрывать от своих детей.
— Перед барышнями мне было бы неудобно.
— Слушай, мама, — вмешался Джоэл, — сходила бы ты за колбасой и картошкой, а то их будет не отодрать от сковородки.
— Иду, иду, — спохватилась мама. — Дети, давайте ваши тарелки.
Мама вышла, и Джоэл сказал миссис Килларни:
— Вам хватит двух слов для того, чтобы высказать то, что вы хотите сказать?
Миссис Килларни гордо молчала.
— Вы могли бы выбрать другое время для своих историй, — продолжил Джоэл. — Хоть бы картошка не прилипла ко дну. Терпеть не могу. Еще противнее, чем когда (прямо как сейчас) жареным пахнет.
— Сударь такой прихотливый, — заметила миссис Килларни и хмыкнула.
— А ты бы заткнулась, старая шмара!
— О! — в изумлении воскликнула я.
— Я знаю, что говорю. Сейчас увидишь! Сейчас увидишь!
И он захмыкал, размазывая носом масло по печенью. Обычно он управлялся очень ловко, но в этот раз, похоже, выпад миссис Килларни его смутил, и он измазал себе все уши.
Тут вошла мама, и мы приступили ко второму.
— Ну же, миссис Килларни, — сказала мама, разрезая колбасу специальными колбасными ножницами, — мы вас слушаем, мы вас слушаем.
— Перед барышнями?
— Почему бы и нет? Они мне такие же дочери, как и Джоэл.
— Я тебе не дочь, — сказал Джоэл.
— Какая сообразительность, — заметила Мэри.
— Хочешь получить в рожу колбасой? — спросил у нее Джоэл.
— И прибором заодно, — добавила я и прыснула со смеху.
Мама, Джоэл и Мэри прыснули вместе со мной; минут пять мы вчетвером хохотали, никак не могли успокоиться. Ухохотались до слез. Тем временем жаренная на сале картошка остывала, а миссис Килларни продолжала хранить гордый вид.
— Миссис Килларни! — воскликнула вдруг унявшаяся мама. — Садитесь с нами, разделите нашу трапезу. Да, да, да! Сейчас я дам вам вилку! Да, да, да! Сейчас. И отменный кусок колбасы. И восхитительной картошки в сале вашего приготовления, миссис Килларни.
Она все-таки села за стол, и впятером мы быстро управились с чаном картошки. То же самое случилось и с десятью фунтами сыра и пирогом на маргарине с морской капустой, в котором наша кухарка превзошла саму себя. Затем кофе и уиски. Джоэл положил ноги на стол и закурил трубку, мама вернулась к своему вязанию, мы с Мэри, поглаживая животы, закурили сигареты, миссис Килларни машинально налила себе еще стаканчик.
— Кстати, — не поднимая головы, обратилась к ней усердно работающая мама, — вы хотели мне что-то сказать?
— Я? — вздрогнула миссис Килларни. — Да, действительно. Я обязана вам это сказать, прежде чем уйти.
Она довольно звучно икнула.
— Простите, что я извиняюсь, — приступила она. — Вот что я хотела рассказать вам сначала одним махом: этот негодник (указав пальцем на Джоэла) поставил меня в положение женщины, которая ожидает потомство.
— Очень интересно, — сказала мама, продолжая вязать, — а что вы имеете в виду?
— Вы хотите, чтобы я поставила точки над «i»?
— В гэльском языке точки над «i» не ставят, — заметила я. — Зато их ставят над буквами b, с, d, f, g, m, n, p, s, и t, чтобы отмечать придыхание.
— Барышня, вы очень образованы, но это ровно ничего не меняет в сути дела: из-за вашего брата у меня будет ребенок.
— Шутница, — сказала мама, похоже зачарованная процедурой вязания носка.
— Как у вас может быть ребенок, — воскликнула я, — если вы не замужем?
— Вот видите? — повернулся к миссис Килларни Джоэл. — Какие тут могут быть возражения?
— Возражения нетрудно найти, да еще какие!
— И какие же?
— Сам факт.
— Факт чего?
— Того, что у меня брюхо.
— Не так чтобы очень большое, — сказала я.
— Многие женщины вашего возраста куда полнее вас, — добавила Мэри.
— Во всяком случае, мне известно, кто меня наполнил, — заявила миссис Килларни.
— И кто же? — прошептала мама, подняв наконец на нее глаза.
— Повторяю вам: вот этот молодой человек закинул мяч в мою корзинку.
— Никогда в это не поверю; он уже вышел из этого возраста, — заметила мама.
И тут миссис Килларни произнесла такое — о, ужас! — что я едва осмеливаюсь записать это в дневнике, но раз я поклялась писать одну голую правду, делать нечего. Итак, миссис Килларни сказала:
— Я беременна.
И повторила еще раз:
— Имею честь известить вас, миссис Мара: я беременна от деяний вашего сына!
Мы с Мэри выразили свое безмерное изумление восторженным свистом. Джоэл даже не вздрогнул.
— Никогда в это не поверю, — сказала мама.
— Я вас уверяю, — возразила миссис Килларни.
— Это вы уж слишком, — сказала мама.
— Насчет лишка это к вашему сыну, — возразила миссис Килларни.
— А как вы узнали? — спросила мама.
— Уже два месяца, как меня не прорывало, — ответила миссис Килларни.
— Это критический срок, — заявила мама.
Миссис Килларни замолкла, затихла, заткнулась.
Так за пять минут — да что я говорю: за девяносто секунд — я узнала, что женщина может иметь ребенка вне замужества (но зачем тогда таинство брака?) и к тому же порождение детей имеет какую-то связь с фазами луны.
Мама продолжала лидировать:
— Как же вы об этом не подумали, миссис Килларни? Это же очевидно. Это очевидно.
— Вы думаете, миссис Мара?
— Ну конечно, конечно.
— Но, миссис Мара, у некоторых женщин...
— Нет, нет, нет!
— Однако, миссис Мара, господин Джоэл меня все-таки...
— Ничего страшного, ничего страшного. Шалости большого ребенка. Возвращайтесь домой, миссис Килларни, и спите себе спокойно.
— Вы думаете, миссис Мара?
— Да, да, да, — сказала мама. — Все хорошо, что хорошо кончается. Чтобы это вспрыснуть, я сейчас сделаю большую супницу горящего пунша.
— Не забудь добавить туда немного гвоздики, — сказал Джоэл.
Мама положила носки на стол и направилась в сторону кухни.
— Что вы приготовите нам на обед завтра? — спросил Джоэл у миссис Килларни.
23 мая
Не время эпиложничать над моими вчерашними открытиями, впрочем, у меня его не было даже их осмыслить. Я встала в полдень (мы пили горящий пунш до четырех часов утра) и стала собираться на чай к миссис Богал.
Я была не так взволнована, как в первый раз, и все же, проходя мимо дома тети Патриции, решила нанести ей краткий визит.
— Повторяю, поостерегись, поостерегись, — сказала она, провожая меня до дверей.
— Хорошо, тетя Патриция.
Я это сказала из вежливости, чтобы не обижать ее, хотя после вчерашних дебатов (как я уже указала выше, у меня не было времени на их осмысление) я еще больше убеждена в том, что ребенок образуется после брачной церемонии.
Двери открыла Мэйв, которая относится ко мне довольно прохладно. Интересно почему. «Здравствуйте, Мэйв», «Здравствуйте, мисс», — вот и весь разговор.
Миссис Богал приняла меня приветливо, она была шикарно одета: платье фисташкового цвета в желтую и сиреневую полоску, хитро закрученный корсаж из бордовой тафты. Рукава широкие и открытые. Мистер Богал, одетый в серый редингот и жилет в цветочках, сказал мне несколько любезных слов по-гэльски:
— Connus tà tù?
В гостях у них был поэт Коннан О’Коннан с женой, сыном и дочерью Ирмой. Еще там была Сара с двумя братьями Филом и Тимом, матерью и отцом — поэтом Грегором Мак-Коннаном. Там был также Падрик О’Грегор Мак-Коннан с отцом — поэтом Марком, матерью и сестрой Игнатией. В дополнение к ним там была миссис О’Сир с мужем бард-друидом, тремя сыновьями Аркадиусом, Августином, Цезарем и дочерью Аркадией. И наконец философ-примитивист Мак-Адам с женой и детьми Авелем, Беатицией, Каином и Евой. Не забуду упомянуть и Варнаву, который пришел без отца, без матери, без братьев и сестер.
— Вы сирота? — спросила у него я.
— Мои родители живут в Корке, — признался он.
— Корк мне незнаком, — призналась я, — но мой брат ездил туда на прошлом месяце с Тимом Мак-Коннаном.
— Мое почтение, мисс, — сказал Тим, который слушал за моей спиной. — Корк — очаровательный город, — непринужденно добавил он, обращаясь к Варнаве.
— А, вот и вы! — воскликнула Пелагия. — Варнава! Вас ищет Игнатия!
И она его увела.
— Они виделись на одной из наших субботних вечеринок, — сказал Тим. — А вы так к нам и не пришли.
— Я не умею танцевать, — ответила я, — и к тому же меня никто не приглашал.
— Нет, если вам не хочется, я не буду настаивать. Ну, а вообще, как дела у Джоэла? С кухаркой все утряслось?
— Ну да.
— Серьезно? Она оставит ребенка?
— Так ведь ребенка нет!
— Как нет?
— Это просто критический возраст.
Тим посмотрел на меня с непонятно откуда взявшимся изумлением, после чего произнес очень серьезно:
— Салли, вы не хотите как-нибудь сходить со мной в кино?
— Почему бы и нет, — ответила я.
— Вы любите кинематограф?
— Так себе. В последний раз я смотрела «Тарзана».
— Странный выбор. Вам понравился Тарзан?
— Это Варнава повел меня на него.
— Что? Вы ходили в кино с Варнавой?
Он удивился еще больше, хотя что в этом удивительного?
— Чертов Варнава! — добавил он.
В этот момент появился мистер Богал.
— Салли! Салли! А я вас ищу. Один французский господин, друг г-на Преля, желает с вами познакомиться.
Друг г-на Преля был господином зрелого возраста, лет двадцати восьми, может, даже тридцати, весьма прилично одетый: твердый воротничок, отутюженные брюки, кокетливо закрученные кверху усы и монокль на широкой шелковой черной ленте, заброшенной за ухо. Он мне поклонился, заведя носок правой туфли за каблук левой и слегка согнув ноги в коленях.
Настоящий мушкетер.
— Как вы хорошо говорите по-французски, мисс, — воскликнул он после того, как я ему сказала: «Здравствуйте, сударь».
— Это приплод уроков господина Преля, — ответила я.
— Ах! Мой дорогой Прель! Он много рассказывал о вас. На похвалу не скупился; превозносил ваши способности, работоспособность, ум...
Я невольно покраснела.
Он снова поклонился.
«О! О!» — окал он. «О! О! О!» А я с пунцовым лицом переминалась с ноги на ногу (это придает некую гибкость природной девичьей робости).
— Следует отметить, — продолжал французский господин, — что он нисколько не преувеличивал. Я сказал бы даже, что он несколько преуменьшил то, что есть на самом деле, поскольку должен, как на духу, признаться, что я еще никогда не встречал подобной красавицы.
Он изъяснялся, щедро жестикулируя.
— Нет, нет, — промямлила я, — вы передергиваете.
— Не поискать ли нам укромный уголок, чтобы немного поболтать? — предложил он.
Он энергично взял меня за локоть и увлек в темный коридор, куда, как во сне, едва доносилось чириканье чайных гостей.
Мы сели на вышитые пуфики, сложенные на бретонском сундуке — сувенире, привезенном Падриком Богалом из исследовательской поездки.
Едва устроившись, французский господин бросился к моей руке, схватил ее и принялся нервозно тискать. «Ни хера себе, — сказала я себе, — ну и дает!» А болтовня тем временем продолжалась.
— Салли, — сказал французский господин, — вы позволите мне вас так называть?
— Конечно.
— А меня можете называть Атаназом[*], — мне на ухо прошептал он.
Я принюхалась к нему. Он так и благоухал. «Скандал» от Ланвэна? «Послание» от Роже и Галле? «Горностай» от Вайля? «Ночной полет» от Герлан? Из всех благоухающих эссенций, разрекламированных в последнем номере «Ваша Красота», я не могла остановиться ни на одной, а это меня пусть и немного, но все же интересовало.
— Как от вас хорошо пахнет, — просюсюкала я.
— Не правда ли, моя курочка? Это милый дух Франции!
— А что это за духи?
— Шш! — прошипел он, приложив палец к губам. — Шш! Это сюрприз.
Он оглянулся и, удостоверившись, что никто за нами не подглядывает, расстегнул шестеринку[18] и вынул какой-то предмет, который поначалу я приняла за его прибор.
— Шш! — прошипел он снова. — Шш! Я спрятал от таможенников, — объяснил он и протянул мне флакон духов. — Подарок от нашего друта Преля, — прокомментировал он.
Я пылко схватила флакон и стала прижимать его то к щеке, то к сердцу.
— Это же настоящий «Скандал»! — воскликнула я и блаженно заулыбалась. — Как любезно с его стороны!
Я занюхивалась до потери дыхания.
Пока я была погружена во все удовольствия обоняния, элегантный Атаназ одной рукой обхватил меня за талию, а другую запустил под мое зеленое кретоновое платье в красный горошек и стал подбираться к трусикам.
— О! Милый Мишель! — вздыхала я. — О! Он не забыл меня, дарагой!
Как следует нанюхавшись, я убрала флакон в сумочку и взглянула на ситуацию конкретным образом: галантного мушкетера явно зашкаливало.
— О! О! О! — окал он, щекоча мне ляжки. — О! О! О! Какая прелестная девочка из зеленой страны Эйре! Что за милашка! А кто сейчас с нее снимет трусисишки? Лучший друг ее Мими, ее Шешеля, ее Препреля.
Двумя пальцами я с силой схватила его за нос и осуществила закручивание отростка на сто восемьдесят градусов. Как нефть из почвы Оклахомы, из ноздрей, обращенных к потолку, брызнула струйка крови.
— Прошу без обольщений! — сказала я, в то время как он придавал своему носу прежнее положение. — А за духи спасибо, — добавила я.
Я встала и ушла, оставив его подпудривать себе рожу.
В гостиной на меня налетел Варнава, зажал в угол и заскулил:
— Знаете ли, Салли, я уже собирался вмешаться.
— Вы за мной шпионили?
— Признаюсь: шпионил. Я не доверяю этому французу.
— Понюхайте, — предложила я и сунула флакон «Скандала» ему под шнобель.
— Какая мерзость, — проскулил он. — Как воняет!
— Подарок Мишеля Преля!
— Ох уж эти французы!
Тут на запах прибежала миссис Богал.
— Божественно, — проблеяла она, водя носом по пробке.
— Подарок Мишеля Преля, — пояснила я.
— А где же наш гость?
— Застегивается, — пояснила я.
Миссис Богал приняла удивленный вид.
— А вот и он.
Он подошел: посреди лица сиял пунцовый шар. Атаназ кривился, ему наверняка было больно. Но, сообразно мужественным традициям своей нации, он старался это не показывать.
— Мой дорогой сэр! Изысканная девушка, не правда ли?
— Невероятно, — согласился он, поклонившись.
От этого слова у него опять где-то внутри головы лопнули сосуды и брызнула кровь. Он стал промокать свой носище.
— Боже мой! — воскликнула миссис Богал. — Что с вами стряслось?
— Ударился о стояк сливного бачка, — сказал он в свое оправдание. — Ничего страшного.
— Вы его не повредили? — встревожилась хозяйка дома.
— Не бойтесь, милая мадам.
— Маленькие приключения придают путешествиям особое очарование, — сказала миссис Богал.
— И вам того же, — улыбаясь, ответил француз.
— Какая сообразительность, — восторженно отозвалась миссис Богал. — Скажите, сэр, как вам понравился наш город?
— В самый раз.
— До чего мил!
— Вы уже посетили наш музей? Нет? Я уверена, что мисс Мара с большим удовольствием сходит туда вместе с вами.
— Is cumadhom, — сказала я, что по-гэльски означает: «Делать мне больше нечего!»
— Na biodh eagla ort! — ответила мне миссис Богал, что по-гэльски означает: «Не трусьте!»
— Ладно, ладно, — согласилась я.
24 мая
Таким образом, сегодня я повела Атаназа в Национальную галерею. Мы встретились непосредственно перед музеем — памятником искусству. Затем мы осознанно восхищались двумя «Видами Дрездена» Каналетто, «Святым Франциском» Эль Греко, «Прощанием Христа с Богоматерью» Жерара Давида, «Женским портретом» Гойи и несколькими картинами Гейнсборо. На протяжении всего осмотра Атаназ вел себя прилично и почти ни разу не ущипнул меня за ягодицы. Его усы были начищены, туфли причесаны, монокль сиял тысячью огней: настоящий мушкетер! Он, вероятно, думал, что я его остерегаюсь, но, по правде говоря, мое слегка скованное поведение объяснялось опасением встречи с музейным смотрителем, которого я в позапрошлый раз изваляла в грязи. Я, конечно же, не собиралась показывать Атаназу скульптуры в саду. Я боялась встретить своего недруга, да и к тому же в Париже есть скульптуры и получше. Поставив себя на его место, я бы никому, кроме Афродиты и Дианы, икры не лизала.
Проходя зал прерафаэлитов, я совершенно напрасно оставила его сзади. Пренебрегая бессмертными шедеврами с далекими принцессами, скрывающими отсутствие груди в облаках сепии, он удосужился посмотреть в окно, после чего зафыркал.
— Как смешно, — произнес он вполголоса. — Как смешно!
— Что именно?
— Цинковые фиговые листья и трусы! Пойдемте посмотрим поближе!
Он увлек меня за собой. Я не знала, как от него увильнуть. Мы проникли в сад, и у первой же статуи — моего трусооблаченного Аполлона — Атаназ начал несообразно хохотать. И тут, как я, увы, и предполагала, явился смотритель, причем тот самый.
— Что вам не нравится в нашем музее, сэр? — холодно спросил он по-гэльски, делая вид, что не замечает меня.
— Что он говорит?
— Этот господин понимает только по-английски, — сказала я смотрителю.
— Он не англичанин, — ответил он опять по-гэльски.
Тем временем Атаназ, не обращая внимания на смотрителя, уже стоял перед следующей статуей — моим Гераклом — и корчился от смеха. С аутентичной элегантностью маркиза XVIII века он гоготал, держась двумя руками за живот. Смотритель воспользовался тем, что Атаназ был от нас в отдалении, и прошептал мне на ухо нижеследующую речь, составленную на гэльском языке:
— Маленькая стерва! Ничтожная шлюха! Ты не только приходишь сюда, чтобы обрушить на эти невинные фригидные статуи свои истерические припадки, но еще и приводишь иностранных хулиганов, которые высмеивают меры, принимаемые хранителями музея для удержания экстенсивной человеческой плоти в пределах приличия. Развратная девка! Похотливое дитя Эйре! Я знаю о тебе немало: фамилию, имя, адрес и род занятий. Берегись! Берегись! Если ты и впредь будешь осквернять своими бесчинствами святая святых эстетических муниципальных заведений, если ты и дальше будешь низводить скульптуру до средства индивидуального самоудовлетворения и коллективного веселья, против тебя будет возбуждено уголовное дело. Да, Салли Мара, против тебя будет возбуждено уголовное дело! Дело! Дело!
Откуда этот жирный дурень узнал мою фамилию? Невероятно! Но я даже не вздрогнула, меня тянуло поскорее присоединиться к веселящемуся Атаназу. Почему я не испугалась? До сих пор удивляюсь. Как бы там ни было, виноватой я себя не чувствовала.
Вместо того чтобы в страхе пресмыкаться перед сторожем, надзирающим за цинковыми фиговыми листьями и гипсовыми трусами, я позвала своего кавалера — который поспешно подскочил — и объявила ему:
— Этот человек — подонок, он сделал мне бесчестное предложение.
— Э-э, — просоответствовал Атаназ.
— Он хотел, чтобы я погладила ему затылок.
— Фу! — просоответствовал Атаназ и уже собрался меня увести.
Я не сдавалась.
— Так что же! — воскликнула я. — Вы набьете ему рожу?!
— Бедняга! Я его понимаю.
— Так что? Набьете?
Смотритель, не ожидавший подобной реакции, забеспокоился. Атаназ подошел к нему и на шатком английском говорить ему испросить меня прощения, на что тот изъявить ничего желать никак понять. Тогда, отодвинув француза, я правой рукой схватила своего соотечественника за отворот форменной тужурки и швырнула его, на хер. Он рухнул на кучу угля.
— Ну и ну! — сказал Атаназ. — Цепкая хватка. У нас не будет неприятностей?
— Не бойтесь. Всякий раз, когда я прихожу сюда, он получает свое.
— О юная девственница! — продекламировал мушкетер.
Едва выйдя из Национальной галереи, он поспешил со мной проститься. Я хотела расспросить его о подробностях из жизни Мишеля Преля, но забыла. Ведь все произошло так быстро.
И все же откуда тот хряк узнал мою фамилию?
24 мая
На улице случайно встретила Атаназа. Он очень вежливо меня приветствовал, но не заговорил. Странный персонаж. А я-то хотела попросить его кое-что передать Прелю.
25 мая
Написала господину Прелю, чтобы поблагодарить его за духи и попросить (невзначай) другие номера журнала «Ваша красота» или еще какие-нибудь публикации подобного рода. Часть письма составила по-гэльски, чтобы продемонстрировать свои успехи. А еще рассказала про Атаназа, но без особого энтузиазма; поскольку это его друг, я не хотела его обидеть и закончила несколькими комплиментами в адрес его светских манер.
26 мая
На лето мы поедем к дяде Мак-Куллоху[*], маминому брату. Он живет на ферме в нескольких милях от Корка в сторону Макруна.
27 мая
Миссис Килларни часто тошнит; мама говорит, что все это терзания печени. Мама посоветовала ей почаще молиться святому О’Лохоллию, покровителю соответствующего внутреннего органа.
28 мая
Я обнаружила свой журнал «Ваша красота», и вот каким образом.
Три дня назад (я забыла это отметить, но мне надоело излагать на письме все пьянки брата) Джоэл начал адский «баттер». Поэтому сегодня вечером мы ужинали втроем (мама, Мэри и я), и мама принялась думать вслух — то есть то, что она называет «думать», — о том, что надо взять с собой на каникулы. Она зачитывала свой список громким голосом, мечтательным и далеким, слегка романтичным. А поскольку Джоэл тоже едет с нами, она вдруг вспомнила, что на его шестеринке надо пришить две пуговицы. Я вызвалась сбегать за штанами (но не для того, чтобы пришивать пуговицы; мама и сама это делает очень хорошо).
Поднимаюсь я, значит, в комнату Джоэла, стучу для очистки совести в дверь, так как знаю, что, переваривая трехдневную дозу уиски и пива, он все равно мне не ответит. Итак, не услышав ответа, вхожу.
Джоэл лежит плашмя на кровати. Он наверняка был занят каким-то делом и заснул от усталости, не успев убрать свой прибор, который сжимал в руке. На полу лежал мой номер «Вашей красоты», распахнутый на странице, где очаровательная парижская фотомодель, снятая с зада, демонстрирует достоинства корсета под названием «Скандал». Сама демонстраторша прелестна и улыбчива. Чулки, облегающие и вытягивающие ее аполлонистические, то есть афродиазные, ну, в общем, я хотела сказать — божественные ножки, удерживаются на ляжках резинками, которые спускаются от пояса из эластичной и полупрозрачной ткани, позволяющей заметить границу, разделяющую на два полушария этот восхитительный глобус, который мы, женщины, гордо проносим в качестве задницы.
Самое странное в этой истории — то, что иллюстрация была закапана чем-то вроде клея, происхождение которого я не сумела установить.
Отказавшись от разрешения этой интересной задачи, я взяла его штаны и отнесла маме: там действительно не хватало двух пуговиц.
14 июля
Сегодня национальный праздник Французской Республики. В Париже, должно быть, так здорово! Мишель Прель все мне живописал: танцы прямо на улицах, все гуляют с баночками пива, фейерверки на мостах. Ах! Когда же наконец я смогу увидеть Париж? А пока перед моими глазами лишь зеленые долины Эйре, поскольку мы уже несколько дней живем у дяди Мак-Куллоха. Они удачно сошлись с Джоэлом: не просыхают ни на минуту. Мама продолжает вязать носки к возможному возвращению папы. Мы с Мэри развлекаемся как можем.
С тех пор, как мне исполнилось восемь лет — о, мой God, как давно это было! — я в деревню не выезжала. Как здесь прелестно! В деревне есть свой шарм: все зеленое, ничто не меняется, все легко превращается в навоз, что очень полезно для людей, которые работают на полях, другими словами, для сельскохозяйственных работников.
Мы с Мэри не обращаем внимания на растения, которые, похоже, лишены приборов, не считая тех, что приписывают им на уроках ботаники: пестики, тычинки и прочие глупости, годные разве что для упоминания в катехизисе. Мы с Мэри ими пренебрегаем и по преимуществу уделяем свое внимание животному миру.
Что мы с Мэри никак не можем понять, так это их безудержную страсть залезать друг на друга, особенно присущую мелкой живности. Например, мухи, которых немало у дяди Куллоха, часто сцепляются и парами падают вниз — одна на спине у другой — прямо у вас на глазах. Очевидно, та, что сверху, хочет помешать летать той, что снизу, и навязать ей законы гравитации. Обычно я прихлопываю их обеих одним ударом, что явно несправедливо по отношению к той, что снизу. Мэри считает, что нужно ловить ту, что сверху, и отрывать ей в наказание крылья, но я не склонна к подобным педагогическим методам.
В курятнике происходят аналогичные инциденты. У петуха на уме одно: как бы залезть на курицу, а славные клуши думают только о том, как бы залечь и поспать. Поэтому им совсем не нравится вся эта петушиная возня, и они квохчут в негодовании. Вот я и решила навести порядок: взяла в руки жердь, и как только петух забирается на курицу, немедленно его сгоняю.
Теперь, стоит мне только появиться в курятнике, как упомянутый петух набрасывается на меня с диким и мстительным видом. Похоже, он не одобряет моих действий. Неужели я не права? Говорят, что петухи не очень умные птицы.
3 августа
Рассматривала прибор осла. Это что-то особенное. Но зачем ему такой? Вряд ли для того, чтобы колоть орехи. Никакой специальной деятельности ослу не приписывают. Не то что бобру, который с помощью хвоста строит плотины.
25 августа
Друг на друга карабкаются не только мелкие животные, но и средние. Например, собаки то и дело пытаются играть в чехарду, но у них ничего не получается. Они собираются по пять-шесть вместе, и одна из них (как мне представляется, это обычно сучка) служит трамплином для остальных; они становятся на задние лапы, словно выпрашивая сахар, и опираются на сучку, затем делают конвульсивные движения, пытаясь перепрыгнуть через нее, но эти усилия ничем не вознаграждаются. Некоторое время они продолжают дергаться, а затем соскакивают, изможденные и запыхавшиеся. Это достойно смеха и жалости. Деревенские ребятишки садятся в кружок и смотрят, что очень мешает нашим с Мэри наблюдениям. Мы не решаемся подойти поближе и потому до сих пор не сумели подробно изучить собачью игру.
26 августа
Этой ночью из-за знойности воздушной массы, моих рьяных зоологических исследований и приближения месячности я никак не могла заснуть. Около трех часов я встала, накинула пеньюар и вышла во двор фермы. Было тихо. Луна величественно перекатывалась по небесному ковру, обрызгивая своей молочностью недвижимость дяди Мак-Куллоха. Внезапно в ночной тишине раздался пронзительный крик. Я не на шутку перепугалась: жуть зеленая![*] Светлый пух юного тела непорочной девственницы встал от ужаса дыбом. Я замерла. Крик раздался снова: тревожный, истошный, агрессивный. Я мигом вспотела: сначала пот выступил на лбу, затем под мышками, наконец в промежности. Стенания стихали и вновь звучали с еще большей интенсивностью. На секунду я представила себе близкое присутствие какого-нибудь безутешного привидения, но, поскольку здесь их никогда не замечали, сочла это маловероятным. Кроме того, я в эти штуки не очень-то верю.
Легкий бриз, несущий с собой густой торфяной запах, освежил мне лицо. Я распахнула пеньюар, чтобы высохло и остальное. Хотя стоны не прекращались, я набралась мужества и решилась посмотреть, кто так громко вопит. Ориентируясь по звуку, я боязливо приближалась к звукоиспускающему существу, пока не заметила двух кошек. Одна, собственно звукоиспускающая, распласталась, прижав голову к земле и задрав зад. Другая бродила вокруг нее. Время от времени она приближалась к первой, провоцировала стычку, сопровождавшуюся мяуканьем, затем отступала и продолжала блуждать кругами вокруг соперницы. Я быстро вычислила поражение последней, изучив ее расположение и боевую тактику. Могу говорить об этом с полным основанием, так как состояла в Ж.А.П.О.М. (Женской Ассоциации Профессионального Отката Мышцы), в Ж.А.Х.Н.У. (Женской Ассоциации Хватания Наугад) и даже в Ж.А.Р.К.О. (Женской Ассоциации Рестлинга и Копулятивной Обороны). Правда, я уже год как не хожу на тренировки и даже перестала делать взносы. Надо бы снова этим заняться. В этом году изучение ирландского отнимало у меня все свободное время. И будет продолжать отнимать. Офигенный язык, как говорил Прель, ну до чего же заковыристый. Это вам не почтовые занятия Мэри. Но я не отступаюсь от принятого решения: написать на этом причудливом языке целый роман. Я чувствую в себе одновременно литературное и паранормальное призвание. Ведь я могла бы писать по-английски (мой родной язык) и даже по-французски (на этом языке я веду сейчас свой интимный дневник), но нет, видите ли, захотелось, чтобы роман был написан по-ирландски. А я даже не знаю, о чем он будет! Странно, не правда ли? Ах да, вернемся к моим кошкам. Так вот, все произошло как я и предвидела. Блудящий кругами запрыгнул на спину распластанной и затряс ее как грушу.
И чего ради все эти звери забираются друг другу на спину? Можно подумать, что они только об этом и думают и ничего в жизни, кроме этого, нет.
27 августа
Сегодня утром, созерцая красивейшие реповые поля дяди Мак-Куллоха, я освежала в памяти обрывки школьных сведений по естествознанию. О размножении растений что-то вспомнилось, но о размножении животных — чистый ноль. До меня только сейчас начинает доходить, что все, чем я была последнее время озабочена, имеет какое-то отношение к этому щекотливому вопросу. Впрочем, я не совсем понимаю аналогии: прибор мужчины внешне похож на пестик растения, но что общего в их функциях? И что, в таком случае, можно сравнить с тычинкой? Дикие травы, что растут, обращаясь к моей сердцевине. Тайна. Все это ужасно нелогично.
28 августа
Несмотря на мои размеры — да и на размеры совсем не маленькой Мэри, — дядя Мак-Куллох называет нас «малышками». Сегодня утром он так и сказал:
— Малышки, если хотите позабавиться, можем повести козу к козлу.
Мы сказали «да», тогда он повесил на белую козочку Бетти недоуздок, и мы отправились (странно, что во множественном числе глаголы имеют одну и ту же неизменную форму, даже если в многочленности на один член мужского рода приходится три члена женского) на ферму Файва О’Клоха, в двух милях от дядиной.
Прошагав каких-нибудь полчаса, мы с Мэри воскликнули в один голос:
— Боже мой! Ну и запах!
И действительно, по части вони шмонило вовсю.
— Ничего не чувствую, — сказал дядя. — Наверное, Варнава.
— Варнава?! — воскликнула я, сжавшись сердцем.
Мэри засмеялась.
Дядя состроил хитрую рожу:
— Должно быть, малышка Салли крутит в городе с каким-нибудь Варнавой. В нашей деревне Варнава — это козел О’Клоха.
— Не мешало бы его помыть, — заметила Мэри.
— От этого у него поубавилось бы шарму. Правда, козочка? — Он ласково ткнул козочку палкой.
— Так что у тебя с твоим Варнавой? — продолжил дядя. — И когда свадьба?
— Она не решила, — сказала Мэри.
— Я еще не готова идти замуж. Тем более за Варнаву, которого я едва знаю. Мы поговорили с ним два-три раза, вот и все.
— А чем он занимается?
— Учит ирландский.
— Дело нелегкое, — сказал дядя.
— Еще бы, — согласилась я.
— А отчего бы тебе не выйти замуж?
— Она даже не знает, что это такое, — заметила Мэри.
— Пока у меня и в мыслях этого нет.
Чем дальше мы шли, тем сильнее воняло. А я должна была обязательно найти какую-нибудь вескую причину своего недомыслия по поводу замужества. Одну я все-таки придумала, и, конечно же, она оказалась самой мнимой из всех:
— Неужели ты думаешь, что мамин пример замужества может кого-то воодушевить?
— А что? Она попользовалась своим мужем в молодости, а теперь избавилась от него.
— Она его ждет, — заметила Мэри.
— Показуха, — фыркнул дядя.
— Глупость, — фыркнула Мэри.
— Наглая пигалица! — заорал дядя. — Так оскорбить мою сестру!
Он выглядел искренне возмущенным. Хотя и так все знают, что у мамы тыква явно недозрела.
— Держи козочку, — приказал мне дядя.
Я взяла недоуздок. Дядя схватил Мэри, зажал ее под мышкой и отвесил ей полдюжины шлепков по заднице. Потом отпустил. Потянулся за недоуздком. Передумал. Снова схватил сестру и снова напарил ей чресла. В очередной раз отпущенная Мэри надулась и поплелась за нами. Выглядела она при этом очень странно. Дядя с недоуздком тоже. Краем глаза я оглядела его с ног до головы. Как я отметила, посередине туловища его духовность проявилась столь масштабно, что он наверняка мог бы использовать ее как палку для козы. Которая все время блеяла и, похоже, почему-то нервничала. Ферма с козлом показалась на повороте дороги. Мы шли молча.
— Ну, будет тебе, Мэри, — произнес наконец дядя, — хватит рожу кривить.
Такого с нами не случалось давно, а именно с тех пор, как папа ушел из дома десять лет назад. Джоэл пробовал несколько раз, но он был слабее нас, и мы вдвоем давали ему хорошую взбучку. Наш братец — тряпка. Зато трепки фазера я не забуду никогда. Он совершал их торжественно и методично. Закатать рукава, спустить с меня панталоны, положить к себе на колени, все это занимало время, и время немалое. Для него это было настоящей мессой, в некотором смысле причастием. А какая лапища у него была! Но я совершенно не чувствовала себя оскорбленной. И еще меньше наказанной. Я испытывала чувство величайшего триумфа. Я считала, что унижался он сам, поскольку проявлял такой настойчивый интерес к той части моего тела, которая для меня представляла всего-навсего седалище. Я воспринимала себя как королеву, а он был рабом моих ягодиц, слугой для взбивания сидений[*]. Когда это заканчивалось, я натягивала панталоны и без слез (если было слишком больно, иногда все-таки со слезами) уходила, с достоинством и удовлетворением, так как мне, по правде говоря, нравится держать задницу в тепле.
Тем временем Мэри догнала нас и пошла рядом.
— Надо же понимать, — объяснял ей дядя. — Я хорошо знаю, что твоя мать редкостная простофиля, но не тебе об этом говорить. Тоже мне! Харррк! — Он гордо сплюнул.
— Вот и пришли. Красивая ферма у этого О’Клоха. И козел красавец. Ну, малышки, сейчас увидите, какая получится шикарная свадьба.
Он загоготал.
— Шикарная свадьба! Шикарная свадьба!
Мы с Мэри переглянулись: в наших черепушках, должно быть, промелькнула одна и та же мысль.
— Зачем вы водите козочку к козлу? — спросила я у дяди дрожащим голосом.
— Сейчас увидите, малышки! Сейчас увидите!
Мы заходим внутрь, видим папашу О’Клоха, договариваемся, животные громко блеют, козел заперт в своей халупе, сейчас увидите, малышки, сейчас увидите, пьем уиски, обговариваем цену за бракосочетание, поскольку сочетание намечается, животные очень громко блеют, снова пьем уиски, наконец сходимся в цене, сейчас увидите, малышки, сейчас увидите, затаскиваем козочку, дверь открыта, ну и запах, ну и запах, бородатое существо от нетерпения семенит копытами, глаза сверкают, он так и норовит встать на задние ноги, кладет передние на спину козочке и принимается дергаться как настоящий кобель с очень довольным видом. У меня в голове все завихрилось: бесплотные духи, эмоции Варнавы, месячности, миссис Килларни, залезания Джоэла, приборы у ослов, трусы у статуй, размножение растений, животных и людей, брачность. Все состыковывается, и все (так, по крайней мере, мне кажется) объясняется. Молнии бороздят мою маленькую душу (бессмертную). У меня темнеет в глазах, я чувствую, что задыхаюсь от козлиного смрада. Меня начинает шатать. Еще немного — и я упаду.
— Покрепче держись, — шепчет мне в ушную раковину дядя.
Я протягиваю руку и хватаюсь за его палку.
За грубую деревянную палку.
Дядя Мак-Куллох — не джентльмен. Не то что тот, в порту.
1935
13 января
(годовщина со дня отъезда Мишеля Преля и моей встречи с джентльменом)
Уже шесть месяцев, нет, чуть больше четырех, как я забросила этот дневник. Я захерачила его в глубь ящика и не доставала оттуда; я не знала, что в него писать. После каникул ничего особенного не произошло. Я возобновила уроки у Богала, Варнава тоже. Я с ним никуда не хожу, нет уж, спасибо. И с другими мужчинами тоже. Миссис Богал с прежней старательностью рисует свои миниатюры, мне становится от этого неловко и даже дурно, я стала хуже учиться. Джоэл купил себе патефон. Когда его нет дома, мы с Мэри учимся танцевать. Она уже ходит на танцы, раз в неделю, иногда два. Она встречается с неким Джоном Томасом[*]. В тот вечер после козлиной свадьбы, лежа в постели (мы жили с ней в одной комнате), она разрыдалась: «Бедная козочка, бедная козочка!» Вот каково приходится девушкам. А я вот не хожу ни на какие вечеринки. Что еще? Мама рассчитала миссис Килларни из-за ее прогрессирующей полноты. Та учинила скандал, сказала, что еще вернется и просто так все это не оставит. Теперь у нас молоденькая кухарка вроде Мэйв. Джоэл к ней даже не подходит. Он по-прежнему алкоголизирует. Я вижусь с ним не часто. Мэри в одном углу, Джоэл — в другом, мама вяжет носки для папы, который, возможно, вернется на днях, я чувствую себя одиноко. Мне ничего не хочется. У меня приступ меланхолии, хотя с яичниками, слава Богу, все в порядке.
Сегодня я взялась за эту тетрадь потому, что ровно год назад начала вести интимный дневник. Но теперь сердце к этому не лежит.
Мишель Прель написал мне дважды, он прислал мне несколько французских журналов: «Вог», «Фемина» и т. п. Мне было приятно их полистать, я бы не отказалась одеться в красивые вещи, которые в них изображены, но поскольку это вряд ли когда-нибудь со мной произойдет, у меня начался приступ ностальгии. К тому же прихорашиваться, наряжаться, украшаться, завиваться, душиться и так далее — и все только для того, чтобы в конце концов тебя перфорировал какой-нибудь вонючий козел? Чего ради?
16 января
Возобновляя дневник, я и не думала, что так быстро представится повод законспектировать на его страницах столь фантастические события. Случилось нечто неслыханное, невероятное, потрясающее, а именно:
Мы ужинали. Только что закончили селедку в имбире и собирались приступить к салу с капустой. Совершенно случайно дома оказались и Джоэл и Мэри, а это бывает очень редко, всегда кого-нибудь из них нет. Не очень пьяный Джоэл рассеянно ковырял в ухе тонким кончиком маринованного огурца. Мама нарезала сало, капуста вкусно пахла, на улице было холодно, дома — тепло, мы чувствовали себя уютно, и вдруг позвонили в дверь. Молоденькая кухарка пошла открывать. Раздались голоса, крики, возникла какая-та суета, дверь распахнулась настежь, и, оттолкнув Бесс, в столовую вошла миссис Килларни. Она была уже совершенно сдутая, а в руках держала сверток. Сверток пищал. Она положила его на колени маме.
— Держите, бабушка, держите, — сказала она маме, — теперь вам этим заниматься. У меня и других дел хватает. До свидания!
Она сделала вид, что уходит.
— Ну уж нет! — воскликнула мама. — Заберите назад!
Она вскочила и сбагрила дите мамаше.
— Нет уж! — заорала миссис Килларни. — Я и так таскала его девять месяцев! С меня довольно!
— Ничего не попишешь! — заорала мама. — Нам это ни к чему! Да и откуда мы знаем, не вытащили ли вы его из чужой коляски, чтобы нас разыграть?
Мамина сметливость просто поражает.
Мэри лягнула Джоэла под столом.
— Может быть, ты что-нибудь скажешь?
Джоэл разглядывал ушную серу, украшавшую тонкий кончик маринованного огурца, и ответил только: «Ай!» Глаз он так и не поднял.
А мама тем временем совершала чудеса стратегии:
— Бесс! Бесс! Закройте дверь!
Бесс, посмеиваясь, помчалась к дверям.
— Миссис Килларни, вы отсюда не уйдете, не забрав с собой это очаровательное дитя.
— Правда, милое? — спросила миссис Килларни.
— Прелестное. А как на вас похоже! — добавила мама.
— Вы так считаете?
— Просто кукольное личико. И ваши глаза.
— Вы находите?
— Очень красивые глазки.
— А мне кажется, глаза отца, — сказала миссис Килларни.
— И кто же отец? — спросила мама несколько отрешенно.
— Как это «кто»? Ваш сын, — ответила миссис Килларни.
— Ну, ну, ну, — снисходительно протянула мама. — Если он сын, то как он может быть отцом? Подумайте сами, миссис Килларни! Вы лучше такое и не говорите, а то над вами будут смеяться. Вот выпейте-ка стаканчик уиски с нами за компанию, мы как раз заканчиваем ужинать. Вы еще не ужинали? Бесс! Тарелку для миссис Килларни и еще одну бутылку уиски.
Миссис Килларни очутилась за нашим столом с ребенком на руках.
— Попробуйте сало с капустой, что приготовила Бесс, и скажите, что вы об этом думаете.
Мама бухнула ей в тарелку целый черпак.
— Спасибо, миссис Мара, — сказала миссис Килларни. — Очень вкусно пахнет.
Она набросилась на сало с капустой.
Мы тоже принялись пожирать сало с капустой, затем двенадцатифунтовую головку сыра и, наконец, пирог с морской капустой.
— А малышка прекрасно готовит, — сказала миссис Килларни, вытирая усики тыльной стороной ладони. — Вам повезло, потому что я вернусь к вам не скоро.
— Нам так вас не хватает, так не хватает, — залопотала мама.
До сих пор ребенок вел себя спокойно. Со стыдливым любопытством я поглядывала на него краем глаза. Он лежал на коленях миссис Килларни, и, пока она ела, крошки еды падали ему прямо на лицо. Когда звуки пережевываемой пищи смолкли, он проснулся. И запищал.
— Малыш проголодался, — подсказала мама.
Миссис Килларни кивнула, расстегнула корсаж и высвободила огромный, разбухший от молока шар, на который бэби набросился с таким же рвением, как мы на сало с капустой. Мысль о том, что эта прожорливая мягкая хризалида (может быть) — мой племянник, ошеломляла меня не меньше, чем мысль о том, что однажды я вынесу на себе какого-нибудь козла и мои маленькие твердые груди станут такими же шарами, как у миссис Килларни, а также о том, что ей пришлось когда-то стоять на четвереньках перед моим братом. Я плохо себе представляла, как все происходило, не могла вообразить эту сцену. Я в нее не верила. Все путалось и мешалось у меня в голове, я никак не могла в этом разобраться. А обжористый бэби продолжал сосать: у мамы был растроганный вид, у Мэри — брезгливый. Тут Джоэл поднял глаза и сказал:
— Миссис Килларни, лучше бы вы спрятали свое добро с глаз долой.
— Это еще почему? — спросила мама. — Миссис Килларни не делает ничего дурного.
— А! — воскликнула кормящая. — Наконец-то сударь соизволил ко мне обратиться.
— Спрячьте, я вам говорю!
— Грубиян!
— Спрячьте, спрячьте!
— Наглец!
— Ну, ну, ну, — запричитала мама. — Не будем ссориться из-за такого пустяка! Джоэл, если это зрелище тебе противно (непонятно почему?), возьми и отвернись. Думаю, малыш скоро насытится.
— Это девочка, — с достоинством произнесла миссис Килларни.
— А как ее зовут?
— Саломея[*].
— О! Какое восхитительное имя! — засюсюкала мама.
— Я дала ей это имя в память о мистере Джоэле. Так он называл меня в моменты нашей близости.
— Саломеей? — спросила Мэри, пристально глядя ей в глаза.
— Да, мисс. Он говорил так: «Ты станешь моей Саломеей, но сохранишь семь своих покрывал»[*].
— Нет, ну каков мой Джоэл?! — гордо провозгласила мама. — Воображения у него хватает; было бы желание.
И она присоединилась к нашему смеху. Нас с Мэри от смеха просто выворачивало наизнанку, пучило аж до слез.
— Черт-те что! — пробурчал Джоэл и выдавил кривую гримасу. — Черт-те что! И к тому же все неправда!
— Как не стыдно!
— Убирайтесь!
Джоэл попытался принять достойный вид.
— Пум-пум, — прокомментировала Мэри.
Мы изнемогали от смеха.
— Я обращался с вами слишком хорошо, — объявил Джоэл. — С женщинами так всегда. С ними по-хорошему нельзя.
Я досмеялась до того, что пришлось бежать кое-куда. Справив малую нужду, я уже собиралась вернуться в столовую, где шум усилился, как вдруг в дверь позвонили.
— Я открою, — крикнула я, но в столовой вряд ли меня услышали.
Я открыла дверь. Передо мной стоял мужчина в надвинутой на глаза шляпе, руки в карманах. Ни идиотский фонарь, освещавший улицу перед домом, ни хилая лампочка в коридоре не позволяли мне разглядеть его лицо. Мужчина был с меня ростом, широк в плечах и чуть горбился.
Еще не отойдя от развеселого состояния, я оторопела. Наконец с трудом промямлила:
— Что вам угодно, сэр?
Глухим голосом он спросил, по-прежнему ли здесь живет миссис Мара. Я ответила утвердительно.
— Прекрасно, — промолвил он.
Затем тщательно вытер ноги о половичок, вынул руки из карманов, решительно отодвинул меня в сторону и вошел.
— Сэр! — глупо крикнула я, следуя за ним. — Сэр!
Дойдя до конца коридора, он остановился.
— Ну и гвалт! — прошептал он.
— Сэр! — повторила я.
Он снял шляпу и уверенно запустил ее в сторону вешалки. Затем взял меня за подбородок:
— Ты — домработница?
Я оттолкнула его руку. Я была почти уверена, что узнала его.
— Нет. Я — Салли.
— В таком случае, — сказал он спокойно, — можешь поцеловать своего отца.
Мне этого совсем не хотелось. Мужчина обхватил меня и поцеловал. У него была колючая щетина, холодные серые глаза и изрядно помятый вид. Я вдруг подумала, что совершенно ничего не помню о нем. А еще заметила, что его куртка протерлась и вся в пятнах.
— Что там за шум? — спросил он.
Казалось, он был заинтригован и озадачен.
— Наша прежняя экономка уверяет, что Джоэл — отец ее ребенка. Вы пришли как раз вовремя.
Он немного подумал и спокойно сказал:
— Черт. Хорошее начало.
Он почесал голову и шагнул к вешалке:
— Что-то мне опять захотелось смыться.
Шум в столовой усилился: неразборчивый гул из ругани, смеха, стонов и звуков передвигаемой мебели.
— Все-таки загляну, — решился папа. — Это хоть весело?
— Местами, — ответила я неуверенно.
Он тихонько открыл дверь в столовую, и мы увидели Джоэла, который, вытащив из штанов свой прибор, пытался расплющить его щипцами для колки орехов. Мама дико визжала:
— Не делай этого, Джоэл! Ты его повредишь!
Миссис Килларни вопила, ребенок пищал, Мэри, закатив глаза к потолку, истерично хохотала.
— Очень мило, — прошептал папа.
Первым его заметил — и узнал — Джоэл.
— Отец! — воскликнул он.
Он выронил щипцы и натянул штаны. Мама обернулась и с криком «Джон!» ринулась к нему в объятья. Мэри никак не отреагировала.
— Здрасте всем, — сказал папа.
Он раздал поцелуи семейному кругу, уважительно поклонился миссис Килларни и пожал ей руку. Одарил улыбкой младенца. Затем сел, налил себе стакан уиски и с задумчивым видом осушил его маленькими глотками.
— Ты принес спички? — спросила у него мама.
— Конечно.
Он пошарил в кармане, вынул совершенно новый коробок и бросил его на стол.
— Спасибо, — сказала мама.
— Подобрал бы щипцы, — сказал папа Джоэлу.
Джоэл встрепенулся, но щипцы подобрал.
Потом папа обратился к миссис Килларни:
— А вы, уважаемая, что намерены делать?
— Ах, сэр, я так рада, что вы здесь. Я вам сейчас все объясню.
— Не стоит. Я уже знаю. Вы уверяете, что этот огрызок — мой внук? Так вот, правда это или нет, идите отсюда на хер, и причем немедленно.
— Нет! — произнес Джоэл.
— Что ты сказал?
— Я сказал: нет. Она останется здесь, или уйду я.
— Она уйдет отсюда на хер, а ты можешь уйти вместе с ней, если тебе так хочется.
— Хорошо.
Джоэл встал и подошел к миссис Килларни. Помог ей подняться со стула и торжественно объявил:
— Миссис Килларни, позвольте мне разделить вашу жизнь. Мы воспитаем нашего ребенка в чести и достоинстве!
Мы с Мэри встретили это заявление энергичными аплодисментами. Мама прослезилась.
— Завтра заберу свои вещи, — продолжал Джоэл. — Прощай, мать, прощайте, сестры, простите, что покидаю вас. Меня призывает долг.
Подхватив миссис Килларни под руку, он вышел, а мы проводили их бурными аплодисментами.
— Что касается вас, — произнес папа, — если хотите здесь остаться, то ведите себя тихо, не то получите по первое число.
Мы замерли. Входная дверь хлопнула. Воцарилась тишина.
Мама нашлась первой. С легким укором в голосе она обратилась к папе:
— Джон, долго же ты ходил за коробком спичек.
— Спички — это плевое дело, — ответил папа. — Труднее было найти коробок.
И он налил себе еще один стакан уиски. Так я проиграла брата и выиграла отца.
25 января
Вялый, но суровый, он кристаллизует домашнюю атмосферу в кусок режущего льда или сгущает в подобие вязкого клея. Он пьет почти столько же, сколько и Джоэл (нет, все-таки намного меньше), но это никак на нем не отражается. Он нечасто покидает дом, по правде говоря, после своего возвращения он вообще еще не выходил. Мама светится от счастья, Бесс — запугана до смерти. Мэри заявила, что уйдет из дома, как только станет почтовой служащей.
Да, жизнь в доме заметно изменилась.
30 января
Мы с Мэри пошли проведать Джоэла. Он живет на очень крутом повороте улочки, идущей от Кросс Кевин-стрит возле Политехнического института до Нью-стрит. Первый этаж дома занимает лавка потрохов и требухи. Мы перешагнули через закисающие свиные головы, циррозные телячьи желудки и прохудившиеся бычьи яйца и стали взбираться по занозистым ступеням темной лестницы, посреди которой проложил себе русло ручеек мочи.
— Здорово! — увидев нас, заорал Джоэл. — С тех пор, как я ушел из дома, ни разу не напивался. Правда, Саломея?
Мы поприветствовали миссис Килларни и подошли взглянуть на нашу племянницу, которая дрыхла на дне чемодана, приспособленного под люльку.
— Смотрите, — продолжил Джоэл, — всего-навсего восьмой стакан уиски (было шесть часов вечера). И я даже начал работать! Я работаю! Вчера отнес чемодан на вокзал Уэстланд-Роу, а позавчера провез тачку через всю Кукс-лейн! Я словно заново родился!
Он удовлетворенно улыбнулся и плюхнулся на табуретку.
— Саломея, а чем мы их угостим? Уиски?
— Кончился.
— Может, сходишь за бутылочкой?
— Денег нет.
— О’Кохтэйл даст в кредит.
— Больше не даст.
Джоэл вывернул карманы: у него оставался всего один реал. Миссис Килларни обладала еще тремя финингами. У Мэри в сумке был один флорин, а у меня — три пунта, но я показала лишь две куроны.
— Хватит, — сказала миссис Килларни и весело убежала за напитком.
— А отец? — спросил Джоэл, отковыривая ногтями засохшую грязь на ботинках.
— Отец! Отец меня достал выше крыши, — сказала Мэри. — Я свалю из дома, как только смогу зарабатывать на кормежку.
— Будешь жить с Джоном Томасом?
— Возможно.
— Дома обо мне говорят?
— Мама передает привет. А он если и говорит, то только для того, чтобы сказать гадость, сморозить глупость или отдать приказ. Напыщенный мудак.
— А ты, Салли, почему молчишь?
— Ну, я-то, — ответила я. — Мне по фигу.
— Ты что, Салли? У тебя что-нибудь не так? По-моему, ты после каникул изменилась. Что с тобой?
— Со мной? Ничего. Совершенно ничего.
— Она страдает от засунутой внутрь любви, — заметила Мэри.
— Ты вгонишь меня в краску, дурочка.
— Она не знает, куда ее прицепить, эту любовь. В ее жизни не хватает вешалки.
— А с Варнавой ты больше не видишься? — спросил Джоэл.
— Смотри, как ты мною заинтересовался, с тех пор как отбыл из дому.
— Говорю тебе, я словно заново родился.
Миссис Килларни вернулась с пятью бутылками.
— Кредит возродился, — сказала она, подмигнув.
Мы устроились поудобнее на валяющихся в комнате обломках мебели и принялись говорить о том о сем: о финансовом положении Финляндии, о содержании витаминов в сале с капустой, о существовании Гомера и Шекспира, о роже принца Уэльского и т. п. Когда мы прикончили третью бутылку, Мэри заметила, что пора уже, наверное, возвращаться. Я объявила, что кладу на это с королевским прибором. Мы договорились прерваться на четвертой бутылке. Джоэл продекламировал лимерики, и от смеха нас буквально скрутило в штопор (на этот раз я понимала один куплет из пяти). Мэри перечислила наизусть тысячу двести филиппинских островов. А в конце мы спели все вместе несколько песен. Справив малую нужду (каждая — свою, и по очереди) на лестнице, мы попрощались с Джоэлом, миссис Килларни и Саломеей, которую разбудил наш уход и которой мы договорились в складчину купить какую-нибудь увлекательную игрушку вроде металлического конструктора или микроскопа.
Лестница оказалась причудливо обрывистой, мостовая — причудливо скользкой. Хозяева прокричали нам последнее прощай, высунувшись из окна, откуда свисало грязное белье, которое уже никогда не побелеет. Мэри вырвало на стер[*] свиных ушей, заждавшихся покупателя, и мы направились к дому, отныне не только материнскому, но и отеческому. Ходьба в потемках показалась нам спортом весьма непростым и небезопасным, мы взбодрили себя куплетами, в которые постарались ввести как можно больше слов с непонятным нам смыслом. Прохожие бурно нас приветствовали. Некоторые даже предлагали разделить с ними их ложе, но мы отказывались, потому что любим свои кроватки и к ним очень привыкли (по крайней мере, я). Например, у дяди Мак-Куллоха я спала очень беспокойно.
На углу Лонг-лейн и Хейтсбери-стрит мы столкнулись с молодым человеком, которого, как нам показалось, мы узнали.
— Да ведь это Варнава! — воскликнула я.
— Думаешь, это Варнава? — спросила Мэри.
— Очень похоже на то, что должно быть Варнавой, — ответила я.
— И как у него идут дела, у этого, должно быть, Варнавы? — спросила у меня Мэри.
— У Варнавы дела идут совсем неплохо в последнее то и дело наступающее время, — ответила я.
— Я так рада, что у Варнавы дела идут хорошо в последнее то и дело наступающее время, — объявила Мэри.
— Факт, что у Варнавы дела идут очень и очень хорошо в последнее то и дело наступающее время, — подтвердила я.
— Вы не против, если я вас провожу? — спросил Варнава.
— Кажется, Варнава намерен нас проводить, — сказала Мэри.
— А не попросить ли нам Варнаву, чтобы он вознамерился нас проводить? — предложила я.
Обменявшись различными сообщениями скорее монологического характера, два с половиной часа спустя мы очутились перед дверью нашего дома.
— Я поговорю с вашей матерью, — предложил конфиденциально Варнава.
— Не стоит, — сказала я. — Сами разберемся.
Мэри позвонила в дверь. Варнава удалился.
— Когда ты сводишь меня в кино? — прокричала я вслед.
Но так и не услышала, что он ответил. Дверь отворилась, и мы легким галопом протопали в столовую. К нашему изумлению, стол не был накрыт.
— Это еще что такое?! — спросила Мэри. — Жрать сегодня не будем?
— Шш, — зашептала мама. — Шш, шш.
— И впрямь, — подхватила я. — Что происходит?
Тут в комнату вошел папа.
— Гляди-ка, а вот и он, — проговорила я.
И добавила, обращаясь к маме:
— Так что? Стол еще не накрыт?
— Мы уже закончили ужинать, — ответил папа голосом баобаба.
— А мы нет. Еще и не начинали.
— Ничего не поделаешь: сегодня уже не получится.
— Но я хочу есть, — сказала Мэри.
— А пить ты не хочешь?
— Разумеется. Что за вопрос? Как вам это нравится?
В ответ она получила такую затрещину, что застыла разинув рот. Этот акт вандализма толкнул меня на чрезвычайные меры: я устремилась к папе, чтобы потрясти его немного за одежду и научить хорошим манерам. Но я не учла, что он хранит в памяти кое-какие приемы внутрисемейного единоборства, а у меня от выпитого уиски воспоминания о них несколько размылись.
Несколько секунд спустя я возлежала с задранной юбкой и приспущенными трусиками на папиных коленях и получала энергичные шлепки. В связи с происходящим я принялась сначала размышлять о суетности мира сего, о взлетах и падениях на жизненном пути, об улыбках и гримасах фортуны, после чего разогревание базиса устремило меня к раздумьям о размножении растительных и животных видов, о пошиве мужской одежды в целом и шестеринок в частности, о росе магических валунов, о козлиных бородках и сумраке кинозалов. Я впала в исступление и, покуда папа яростно румянил обширную поверхность, с честью представленную его взору, провалилась в удивительное состояние блаженства, хотя и пыталась уцепиться за спасительные, словно буй, слова: «Покрепче держись... Покрепче держись за поручень...»
31 января
Варнава ждал меня у выхода после урока и напомнил, что я просила его сводить меня в кино. Мы пошли смотреть «Нью-Йорк — Майами»[*]. Я следила за тем, чтобы не положить ему руку на ляжку. Со своей стороны, он, как мне показалось, пугливо забился в кресло. Потом он проводил меня домой. Мы почти ничего друг другу не сказали, лишь немного поговорили о кельтской филологии. Интересно, о чем он думал? Сегодня папа оказался более разговорчивым. Он рассказывал маме про Чикаго, бутлегеров, пулеметные очереди и про то, что еще бы чуть-чуть и он нашел бы коробок спичек, после чего смог бы сразу вернуться. Захватывающий рассказ. Но все это он адресовал маме, а нас словно и не замечал. На Бесс он тоже не обращает внимания. Она очень красивая и немного похожа на Мэйв, такая же худенькая. А я-то думала, что папа начнет ее козлячить. Вовсе нет. Он на нее даже не смотрит, что не мешает Бесс пребывать в состоянии перманентного ужаса.
1 февраля
Пусть не думает, что может проделывать это ежедневно. Сегодня под предлогом того, что прищемил себе палец щипцами для колки орехов (опять эти чертовы щипцы!), он вздумал разукрасить мне попу. Но теперь я уже знаю его силы и стиль нападения. Когда он захотел меня схватить, я бросилась к нему и заломала ему руку за спину приемом собственного изобретения, от которого он просто обалдел.
3 февраля
Папа ничего не может поделать со мной и оттягивается на Мэри.
На обед был хек. Мэри придумала его немного посолить (обычно мы посыпаем сахаром, по-английски). Это повергло папу в ярость, он набросился на Мэри и сурово ее наказал. Я внимательно наблюдала за процессом: самое интересное — изменение цвета кожи. Забавно, что зад — обычно белый, почти опаловый (я говорю о себе и Мэри) — на ваших глазах становится красным, как рак или помидор. А еще любопытно рассматривать выражение лица отшлепываемого. У Мэри выражение было более чем странным. Интересно знать, какая физия была у меня в тот день, когда шлепали меня.
Как только мы остались одни, Мэри закатила мне ужасную сцену. Я, видите ли, не пришла ей на помощь. Я, понимаете ли, — ложная сестра, вероломная сука и законченная стерва. Понемногу она успокоилась и заявила:
— Не хватало, чтобы наш дом превратился в дом генерала Дуракина. Если он проделает это еще раз, я уеду отсюда, на хер, до сдачи экзамена.
— Как ты будешь жить?
— С Джоном Томасом.
— Тебе придется выйти за него замуж.
— Ну и что с того?
— Вот именно: что с того?
Мы обе задумались. Я наблюдала за ее физиономией.
— Какой забавный эффект это производит, — сказала я.
— Что именно?
— Ну, шлепки по заднице.
— Да, действительно. Сейчас я не отказалась бы трахнуть какого-нибудь типа.
— Что ты сказала?
— Ах да. Ты же не понимаешь.
— Что я не понимаю?
— Все это.
— Что именно? Объясни.
— Любовные дела.
— О-ля-ля! — протянула я. — О-ля-ля!
Как будто «о-ля-ля» что-то означало... но что я могла ответить? И в самом деле, что я знаю о любовных делах, не считая того, что ими занимаются на четвереньках и они имеют какое-то отношение к размножению животных и растений?
Мэри не настаивала, она была, конечно же, уверена в своем тайном превосходстве, о котором я ничего не знала. Она вернулась к изначальной причине своей озабоченности:
— Слушай, Салли, обещай, что ты защитишь меня, если он снова ко мне полезет.
— Можешь на меня рассчитывать, Мэри.
Мэри задумалась.
— А если бы мы взяли его в оборот вдвоем? Ведь он слабее нас.
— И тогда бы уже мы его наказали.
Эта перспектива вызвала у нас улыбку.
4 февраля
Варнава отправил мне цветы, хоть и искусственные, поскольку сейчас зима, но все равно цветы. Он приложил к ним визитную карточку, бристоль, на котором гэльским шрифтом откаллиграфировал свою фамилию.
Странное дело получать цветы. Это случается со мной в первый раз. Мило, красноречиво и намекательно. Так сразу и думается о пестиках, пыльце и оплодотворении. Я долго держала их за стебли, прежде чем воткнуть в вазу.
Я очень тронута.
6 февраля
Как я и подозревала, папа дрейфит. Стоило мне резко поднять руку, чтобы достать чашку, которая стояла у него над головой, как он машинально закрылся локтем и тут же покраснел. Он больше ничего не говорит Мэри. Наверное, подслушал тогда наш разговор.
Тряпка.
12 февраля
На этой неделе два раза встречалась с Варнавой. Мы подолгу обсуждали будущее гэльского языка. Мы вместе повторяем уроки. Относимся друг к другу как хорошие товарищи, и наши кожи контактируются лишь для приветствия при встрече и прощании.
13 февраля
Воспользовавшись моим отсутствием, папа набросился на Мэри за то, что накануне она положила слишком много варенья на его форель. Отделал ее так, что она не может сесть.
Мэри — в ярости.
15 февраля
С последнего посещения Джоэла прошел месяц. Когда мы пришли в этот раз, все дрыхли, было около трех часов дня. В ожидании их пробуждения мы слили остатки уиски из всех бутылок и нацедили себе две приличные порции. Мы наблюдали за спящими: Джоэл был похож на ангела, зато у миссис Килларни вид был непривлекательный. Ее усы так и топорщились при каждом синюшном выдохе, а по подбородку до самой шеи текла тоненькая струйка слюны.
— И как он только может тюхать эту тетю? — удивилась Мэри. — Нет, все-таки комплексы — это великая сила, из-за них можно сделать такое...
Я попыталась себе представить эту тетю на четвереньках, но так и не сумела вообразить, как мой брат ее козлячит. Во сне он был красивый, спокойный, возвышенный, поэтичный. А Саломея с прошлого раза как-то заскорузла и постарела: этой малютке можно было дать лет шестьдесят.
Затем мы стали смотреть в окно. На улице все двигалось и сильно воняло. Грузчики сновали туда-сюда со своими потрохами и требухой, покупатели торговались, попрошайки попрошайничали. Прошествовала зелено-красно-желтая цыганка. Две собаки блудили на глазах у стайки заинтересованных ребятишек: юные зрители набирались ума-разума, и я вспомнила свою юность, те времена, когда сама с трудом взбиралась по лестнице половых премудростей.
Два животных, судя по всему, раздумали: попытались отклеиться друг от друга. Но у них никак не получалось: тянул кто в лес, кто по дрова. Сначала мы все смеялись, потом я заметила, как лицо Мэри застыло и посерьезнело. Под ее озабоченным видом угадывалось недоумение, которое я полностью разделяла: что происходит при подобных обстоятельствах, когда жена хочет в одну сторону, а муж — в другую, и у них ничего не получается? Случалось ли подобное у Джоэла и миссис Килларни? У Падрика Богала и миссис Богал? У Марка Антония и Клеопатры? У Адама и Евы? Тайна. Ведро воды, вылитое продавцом потрохов и требухи, увенчало успехом усилия двух бобиков и тем самым распылило группу сорванцов.
Мы покинули свой смотровой пост. В комнате по-прежнему дрыхли. Мы осушили стаканы, черкнули дружескую записку на клочке сальной бумаги и ушли.
Какое-то время шли молча, и вдруг Мэри сказала:
— Знаешь, ведь я уже не девственна.
Я это подозревала, хотя по-прежнему не понимала точный смысл сей вокабулы, теологическое использование которой кажется мне непристойным. Кюре, вечно брюзжащим по поводу каких-то пустяков, следовало бы постыдиться постоянно подчеркивать столь интимную подробность из жизни исторической фигуры, которая не может не внушать уважение. То же самое и с французской Жанной д’Арк, которую почитают офигенной девственницей. Здесь дело нечисто. Поневоле думаешь об обратном.
— Почему ты молчишь?
Да, я молчала. Сестры могут обсуждать все, что угодно, но не буду же я спрашивать, имела ли она в момент утраты своего девственного состояния трудности, аналогичные трудностям двух гав-гав. Тем не менее вопрос напрашивался сам собой. Я кое-как промямлила:
— Э-э... и как это... было?
— Ну, знаешь, об этом даже не рассказать. Пока сама не познала, это невозможно выразить обычными словами.
— Невозможно?
— Невозможно. Ни на что не похоже. Невероятно. Увидишь сама.
— И видеть не хочу.
— Все так говорят.
Я ничего не ответила и задала еще один вопрос:
— А... давно ты уже... ты больше не... ты уже... больше не?
— Сразу после каникул. Второго октября, приблизительно в четырнадцать тридцать.
— И ничего мне не сказала?
— В тот момент это могло тебя сильно... расстроить. Ты была такая странная после... той истории с козочкой.
— А у тебя разве она не вызвала отвращения?
— Понимаешь, сначала и я смотрела на происходящее с сентиментальной точки зрения... что-то вроде жалости... бедная козочка, такая беленькая и хорошенькая... и этот мерзкий мохнатый зверь... но, знаешь, теперь я могу тебе сказать: в любви жалость не считается... Да, именно так, сначала жалость... грусть... страх... а потом я подумала... и сказала себе, что так было всегда, с самого сотворения мира...
Да, с головой у моей сестрицы все в порядке, и не только для того, чтобы вызубрить тысячу двести филиппинских островов и пять тысяч парижских улиц.
— И когда Джон меня об этом попросил, я с ним переспала.
— Переспала? В одной кровати?
— Нет, первый раз в кустах в Феникс-парке.
Я попыталась представить себе эту сцену, используя редкие крупицы своего жизненного опыта. Возникла пауза.
— Я понимаю, о чем ты думаешь, — произнесла Мэри. — Но, знаешь, мужчины — это все-таки не животные. С ними любовь, ну... разнообразнее.
И добавила:
— Мне не следовало тебе это говорить. Но, знаешь, это еще и очень здорово.
Тут мы как раз дошли до дверей нашего дома.
16 февраля
И все же, и все же. Чем больше я стараюсь представить себе сцену, тем менее правдоподобной она мне представляется. (Кстати, когда мы первый раз пошли гулять с Варнавой, он хотел меня повести как раз в Феникс-парк.) Что она подразумевает под «разнообразнее»? Разнообразнее как? Почему? И что именно разнообразится? Ах! Как когда-то удачно сказал Гамлет: «Как много в мире есть такого, что и не снилось нашим мудрецам».
17 февраля
Только что пришло в голову: ведь у нее будет бэби!
18 февраля
Не будет. Я у нее спросила. Кажется, не будет. Она говорит, что есть средство этого избежать. Ничего не понимаю. Зачем это вообще делают, если не для того, чтобы завести бэби? Потому что это «очень здорово»? Я не осмелилась у нее спросить. Ах! Как позавчера удачно сказала я: «Как много в мире есть такого, что и не снилось нашим мудрецам».
20 февраля
Как можно быть таким холодным и вялым? В последнее время папа ведет себя тихо, никуда не выходит, не стремится никого выпороть (что не избавляет несчастную Бесс от дикого страха), но в его присутствии есть что-то подловато-липкое. Его взгляд режет, колет, пронзает, проникает, что не мешает ему быть похожим на улитку. На улитку, которая прятала бы свою раковину под курткой, а голову всегда высовывала бы наружу.
Меня интригует то, что уже несколько дней подряд он смотрит на меня с иронией.
24 февраля
Давно уже не видела Варнаву. Сегодня он поджидал меня после урока. Взаимно справившись о наших здоровьях, мы прошли несколько шагов молча, после чего я указала ему на то, что погода стоит великолепная. Очень холодно, но сухо. Блистательное солнце. На это он не смог ничего возразить. Я намекнула на пешеходную прогулку. Он не противился. Я предоставила ему возможность предложить маршрут. Мэррион-сквер? Никакого интереса. Сент-Стивенс Грин? Не люблю. Ратлэнд-сквер? Тоскливо из-за соседства с больницей. Маунтджой-сквер? Слишком далеко. Набережная Лиффи? Слишком шумно. Он выглядел расстроенным и не находил ничего другого. К счастью, у меня появилась идея.
— А если в Феникс-парк? — воскликнула я.
— Но это еще дальше, чем Маунтджой-сквер!
— Мы как раз у трамвайной остановки.
— Там собачий холод.
— Я не мерзлячка.
Итак, он заплатил за проезд до парка, и там, сразу же свернув с центральной аллеи, мы заблуждали, не переставая говорить о лингвистике. Точнее говоря, я предоставила ему возможность вволю помонологизировать. Моя голова была занята совершенно другим. В конце концов он это заметил:
— Салли, похоже, вы что-то ищете.
Разумеется, я изобразила удивление и не созналась. Но на самом деле я все время задавалась вопросом, какие именно кусты были свидетелями сопряжения сестрицы и Джона Томаса. Любопытство совершенно праздное: вряд ли существовала табличка с указанием; это мог быть первый попавшийся куст.
— Кажется, вы пришли сюда с определенной целью, — продолжал Варнава. — О! Я не спрашиваю у вас с какой.
— Тем не менее я могла бы вам ответить. Помните нашу первую встречу?
— В трамвае? — прошептал он, краснея.
— Нет, я имею в виду, когда мы первый раз гуляли вместе.
— Помню, — прошептал он.
— Сегодня исполнился ровно год.
От удивления он забормотал что-то вроде «неужели» или «не может быть».
— Похоже, это не произвело на вас сильного впечатления?
— Я... У меня плохая память на даты.
— Да, но на эту?!
Бедный юноша, до чего же он конфузливый!
— Неужели вы не помните, как ждали меня после моего урока и предложили пойти погулять в Феникс-парк?
— Да-да, — покорно согласился он.
— Тогда я отказалась, но сейчас подумала, что в честь годовщины нашего знакомства с моей стороны было бы любезно удовлетворить ваше желание.
Он поблагодарил меня дрожащим голосом и объявил, что весьма тронут.
Поскольку первые вечерние намеки начали окрашивать небосклон, мы повернули назад.
Чуть позднее он робко у меня спросил:
— Вы уверены, что это было в один день?
— То есть?
— Что я предложил вам сюда прийти, когда ждал после урока?
— Ну да.
— Мне кажется, это было в другой раз. Когда я встретил вас в музее.
Я холодно на него посмотрела:
— В день кино, не так ли?
Он снова увяз в лепете.
— Варнава, вы ведете себя нетактично, — высокомерно заявила я.
В трамвае у него был вид побитого бобика с поджатым хвостом. Мне по-глупому стало его жалко. При расставании я отпустила в его адрес несколько любезных слов, и этого оказалось достаточно, чтобы его осчастливить.
Перечитав запись в дневнике, я обнаружила, что Варнава был прав. Моя ошибка заключалась в том, что, сама того не желая, я намекнула на киносеанс. Даже сейчас я не совсем понимаю, что именно произошло в тот день.
25 февраля
Почему он не увлек меня в кусты? Если бы он это сделал, то что сделала бы я? А если бы это сделала я, то что сделали бы мы вместе?
Ответ: то, что делают в подобных случаях все. Всем это может показаться простым, а мне кажется ужасно запутанным.
А потом, меня коробит уже от того, что я все время об этом думаю и постоянно задаю себе разные вопросы.
А если разок попробовать?
С кем?
С Варнавой?
Но он такой олуховатый.
Зато единственный мужчина, с которым я знакома.
С папой нельзя. С Джоэлом тоже. Есть еще Падрик Богал. Но способен ли он размножаться? В его-то возрасте?
Как следует поразмыслив, я решила, что Мишель Прель мог бы мне понравиться. К слову сказать, этот негодяй мне так и не пишет. Я, впрочем, тоже.
Есть еще помощник молочника.
2 марта
Я сообщила Мэри, что экзамен на должность почтовых служащих будет через две недели. Думала, что сестру эта новость обрадует, но она восприняла ее довольно безразлично.
5 марта
Тем не менее она очень серьезно готовится к своему экзамену. Сегодня я предложила ей повидаться с Джоэлом, но ей нужно было заниматься. Я решила пойти одна.
На пороге я столкнулась с молодым человеком, который собирался звонить в дверь. Это был Тимолеон Мак-Коннан, он пришел навестить Джоэла.
— Джоэл не объявлялся уже целый месяц. Он болен?
Я сказала, что он с нами больше не живет. Уж лучше бы что-нибудь выдумала. Что у него заразная болезнь, например. Потому что Тим стал сразу же выспрашивать.
— Даже не знаю, что вам сказать, — промямлила я.
— Правду!
Я оказалась в неприятном положении. Правду, правду! Звучит красиво, но что именно было правдой для моего брата?
— Я передам ему, что вы приходили, — предложила я.
— А вы скоро его увидите?
— Я как раз к нему собиралась.
Вот это как раз и нельзя было говорить. Он сразу же предложил:
— Я вас туда отвезу.
Его мотоцикл стоял у дверей. Мне очень захотелось проехаться, да и невежливо было бы отказаться от столь любезного предложения. Кроме того, я была уверена, что Джоэлу будет приятно повидаться с Тимом.
Итак, я соглашаюсь, устраиваюсь на багажнике и объясняю Тиму, куда ехать.
— Держитесь за меня, если не привыкли так ездить.
Мотор ревет, мы срываемся с места, я цепляюсь за Тима.
— Обнимите меня за пояс.
Мне слишком страшно, чтобы противиться совету. Я обхватываю его и плющу свой нос о кожаную куртку. Мы несемся вперед, как здорово! Меня все время подбрасывает, и в результате от этого возникает приятное ощущение в основании, эдакая волнистая дрожь, которая поднимается вверх по позвоночнику и, добравшись до головного мозга, разрывает его на оригинальные и фантастические идеи.
Приехали очень быстро. Я показываю ему дом. Снаружи по-прежнему потроха, требуха и прочие выдержанные для пущего вкуса душистости.
— Какой ужас! — восклицает Тим. — Жить в таком месте! Он что, рехнулся?
Я двинулась первой. Тим шел за мной по совершенно темному коридору, потом стал карабкаться следом по по-прежнему обшарпанной и описанной лестнице. Мы уже почти добрались до этажа Джоэла, и вдруг я почувствовала, как рука Тима погладила мне икру. Наверняка дружеский жест, машинальный или аффективный. Я резко остановилась. Тим тоже остановился, но руки не убрал. Не поворачиваясь, я переместилась на одну ступеньку вниз, а поскольку он не двигался с места, его рука поднялась вверх. В итоге она добралась до моих ляжек, где я ее и зафиксировала. Какое-то время мы продолжали так стоять, слегка покачиваясь, затем я резко вытащила его руку и в один прыжок очутилась на лестничной площадке. Забарабанила в дверь. Открыл мне зевающий, взлохмаченный и опухший Джоэл.
— Здесь Тим, — сказала я.
Тим действительно появился и, бросив на меня удивленный взгляд, пожал Джоэлу руку.
Джоэл очень обрадовался Тиму, начал расспрашивать об общих знакомых и рассказывать о своей жизни, о том, как он зарабатывает по несколько фьюрлингов то охотой на крыс, то тасканием пакетов. Он подумывал взяться за торговлю кожами и тряпками. Торговля старыми костями также представляла определенный интерес, а благодаря продавцу потрохов с первого этажа практически все сырье поставлялось бы на дом. Если бы ему удалось отложить несколько пинджинов про запас, он купил бы набор инструментов и изготавливал бы из старых костей пуговицы, которые потом продавал бы на улицах города. Впоследствии, если дела пойдут хорошо, он приобретет кисточки и несмываемые краски, чтобы украшать свою продукцию.
Тим сопровождал эту речь вежливыми односложностями, но за ними я угадывала нарастающий ужас. Время от времени он с прежним удивлением поглядывал на меня, а я не понимала, чем именно могла его удивить. Что касается инцидента на лестнице, то я хотела лишь пофлиртовать, и только. Быть может, я сделала это не совсем удачно. Но из рассказов сестрицы я сделала вывод, что именно так девушки и юноши обычно вступают в контакт.
Впрочем, Тим постарался сократить визит. Мне показалось, что мы с Джоэлом его несколько встревожили. Я подождала, когда он уйдет, поскольку не испытывала никакого желания снова очутиться с ним наедине на темной лестнице, где ему в голову могла прийти мысль меня откозлячить.
Джоэл продолжал свой монолог. Я рассеянно слушала, попивая уиски, который у него, похоже, никогда не переводится. Вскоре домой вернулась миссис Килларни с Саломеей. Мы предоставили Джоэлу поговорить еще чуть-чуть, а потом я ушла.
Уходя, я заметила на кровати смятые клочки бумаги. Я узнала почерк брата. Похоже на стихи.
7 марта
Когда что-то начинает происходить, то происходит нечто. Когда ничего не происходит, то не происходит ничего.
Так, после возвращения папы все бурлит. События чередуются, ускоряются, сталкиваются. Я продвигаюсь от открытия к открытию, от эксперимента к эксперименту. Настоящая фарандола, от которой разбухает мой дневник и смущается моя маленькая душа (бессмертная), чистое озерцо моего сознания, которую легонько морщинит красноватый бриз невинных пансексуальных эмоций. Я часто себя спрашиваю, что бы произошло, если бы я оказалась в закрытой комнате наедине с Падриком Богалом. Так вот, сегодня именно это и случилось.
Когда Мэйв открыла мне дверь, я сразу же заметила искаженное выражение ее лица. Мы уже несколько месяцев не разговаривали, но сейчас, едва впустив меня на порог, она прошептала:
— Будьте внимательны... Остерегайтесь...
Я также шепотом спросила, в чем дело. Она торопливо рассказала, что миссис Богал больна, что у нее в носу нашли червяков, что увезли в специальную гидроклинику, дабы вывести на чистую воду, и, следовательно, на сегодняшнем уроке ее не будет. А значит: «Остерегайтесь... Будьте внимательны...»
А если мне самой нравится не остерегаться? Но я не хотела обидеть бедную Мэйв и поблагодарила ее. Тогда в сильном порыве она обняла меня и сжала. Я была растрогана этим проявлением чувств, хотя выражение ее глаз меня поразило. Наверное, вчера точно так же я поразила Тима.
Я не могла долго думать о Мэйв, поскольку находилась уже наедине с Падриком Богалом. Я уселась, взяла учебник, открыла тетрадь. Время от времени он покашливал, но не потому, что робел, а, вероятно, для того, чтобы усилить мое смущение. Я начала с того, что проспрягала несколько препозитивных местоимений. Я отлично выучила свой урок, ничего не скажешь, и тогда мы занялись анализом отрывка из «Двадцати лет молодости» О’Салливана[19]. Я очень люблю эту книгу, настоящий маленький шедевр свежего юмора и искренней наивности, но отсутствие миссис Богал мне мешало (хотя присутствие всегда стесняло) с должным уважением следить за философскими, синтаксическими и стилистическими замечаниями моего преподавателя. Тот с самого начала был надут и, казалось, ждал от меня малейшей ошибки с целью, которую мне не удавалось прояснить. Итак, Падрик Богал быстро заметил мою невнимательность и резко замолчал.
— Вы не слушаете, что я вам говорю.
— Но, сэр...
— Я же вижу.
— Нет, сэр. Например, вы только что заметили, что...
— Нет. Вы не слушаете. Как вы собираетесь выучить гэльский язык, если приходите сюда, чтобы думать о своих амурах?
О моих амурах!
Он начинал меня раздражать, этот уважаемый поэт. Почему он принимает меня за маленькую девочку?
— Любую провинность я привык наказывать самым строгим образом, — продолжал он.
Ну-ну, этот хитрец и впрямь принимал меня за маленькую девочку. Еще один, который под предлогом радения за дисциплину и мораль вздумал добраться до моей попы.
Он отодвинул стул и велел мне подойти. Мудак. Еще один озабоченный генерал Дуракин. И, несмотря на весь свой ирландский патриотизм, еще один фанатик британского воспитания. Конечно, я решительно противилась этим англо-русским методам, но до чего же утомительно постоянно защищаться от мужских намерений! Задумавшись об этом, да-да, о том, что на протяжении лучших лет своей юности и даже зрелости, и, кто знает, возможно, и взрослости (перед моими глазами возник пример миссис Килларни), задумавшись об этом, да-да, о том, что еще очень долго мне придется неустанно защищать свои тылы от посягательств всяких козлов, я вся ослабла и на какую-то долю секунды мысленно согласилась припасть к коленям поэта и принять наказание.
Однако гордость победила, и я спросила у Богала:
— А зачем именно, сэр?
— Чтобы наказать вас за невнимательность.
— А как вы собираетесь меня наказывать? — спросила я с невинным видом, но насмешливым голосом.
— Сейчас увидите. Подойдите.
Было видно, что он ощущал некое неудобство и даже легкое беспокойство.
— Быть может, вы хотите, — продолжала я, — задрать мне юбку, спустить трусы и отшлепать по жопе?
— О! Какое ужасное слово! Салли, как вам не стыдно?! Вы будете наказаны вдвойне.
Он пунцово заерзал на своем стуле, но, похоже, совершенно не знал, что делать дальше.
— Но разве не так? Вы хотите меня выпороть?
— Именно, — прошептал он неуверенно.
— Ну, так вот, — ответила я, — зря надеетесь!
Он сразу не нашелся, что сказать; затем возразил еще менее уверенно:
— А если я применю силу?
— Попробуйте.
Богал бросил на меня оценивающий взгляд. Он был красивым мужчиной, но тюфяком и далеко не спортсменом. Он сразу же сообразил, что у него ничего не получится. Впрочем, он должен был понять это уже давно, все то время, что смотрел на меня снизу вверх. Поскольку устрашение не сработало, он избрал другую тактику и понес явную чушь.
— Ну, моя малюсенькая Салли, — засюсюкал он бумазейным голосом, — будьте паинькой, согласитесь.
— Ни за что.
— Маленькая Салли, миленькая Салли, будьте паинькой, ну хотя бы два шлепочка.
— Нет.
— По одному с каждой стороны.
— Нет.
— Ну, только для виду.
— Нет.
— Я рассержусь.
— Сердитесь на здоровье.
— Салли, соглашайтесь. Хорошо: один бесплатный урок за одну хорошую порку.
— Нет.
— Два бесплатных урока.
— Нет.
— Три.
— Нет.
— Подумайте, Салли. На сэкономленные таким образом деньги вы сможете купить себе шелковые чулки и бюстгальтер.
— Я его не ношу.
— Кроме того, знаете, Салли, это не так уж и неприятно.
— Знаю.
— Откуда вы это знаете?
Черт! Проговорилась.
— Нет, не знаю.
— Многим девушкам это очень нравится.
— Мне — нет.
— И даже замужним женщинам.
— Мне все равно.
— Например, миссис Богал. Я наказываю ее утром и вечером.
Я не ослышалась?! Неужели такое возможно? Изумление даже пересилило желание рассмеяться. Я разинула рот. Богал моментально воспользовался своим преимуществом:
— Вот видите. Ну, давайте, Салли, миленькая, соглашайтесь. Идите сюда, на колени.
Я продолжала размышлять. Как много еще вещей, о которых даже не подозреваешь. Как много секретов, тайных поступков, масок. У меня даже закружилась голова. Я услышала далекий и липкий голос Богала:
— Неужели мне придется самому к вам подойти?
Я услышала, как упал стул, и поняла, что Богал встал, сочтя момент благоприятным из-за моего помутнения. К счастью, голос разума во мне проснулся и посоветовал: «Покрепче держись за поручень». Я вскочила и крикнула ему в лицо:
— Нет!
Он не сделал больше ни одного шага. А я направилась к двери.
— Мистер Богал, не удивляйтесь, если я буду искать другого преподавателя!
Мне не особенно хотелось менять преподавателя, но я должна была нанести завершающий удар.
И действительно, он совершенно потерял голову.
— Нет, нет, Салли. Умоляю вас, не надо скандала, не рассказывайте об этом, прошу вас, останьтесь, обещаю вам, что больше никогда не буду, обещаю вам, обещаю, но пусть это останется между нами, Салли. Поклянитесь мне и продолжайте учиться у меня, вы моя лучшая ученица, самый прекрасный цветок в моем учительском венке, прошу вас, останьтесь.
У меня был не очень убежденный вид. Он воскликнул:
— Да и к кому вы хотите идти?
— К Грегору Мак-Коннану.
— К Грегору Мак-Коннану! — Он усмехнулся: — Он тестирует всех своих учениц.
— Что это значит?
— Что он сатир.
— Козел?
— Вот именно.
Никогда бы не поверила. Он выглядел таким благопристойным, а его поэзию заполняли целомудренно возвышенные девы и супружески безгрешные мадонны.
— Со мной мог бы позаниматься его сын.
— Тимолеон? Тим разбирается только в мотоциклетах. Он едва способен объясниться на ломаном языке.
— Есть еще О’Сир.
— Еще хуже.
Я так и знала: бард...
— Ну, ладно! Пойду к О’Грегору Мак-Коннану.
— Педераст.
— Что это значит?
— Это трудно объяснить.
— Вы же рассказывали мне о своей супружеской жизни. Я готова услышать все.
— Ну, в общем, это мужчина, который делает с мужчинами то, что нужно делать с женщинами.
Еще одна странность.
— Козел для козлов, что ли?
— Вот именно.
Я поразмыслила и заключила:
— Значит, с ним мне будет спокойно.
— Но вам не удастся избавиться от его жены.
— Это еще почему?
— Лесбиянка.
— Что это значит?
— Коза для коз, как вы выражаетесь.
Еще причудливее.
Видя мое замешательство, Богал торжественно объявил:
— Салли, обещаю никогда вам больше не докучать.
— Вы клянетесь, мистер Богал?
— Клянусь.
Вид у него был искренний.
— Ну вот, — заметила я, — время урока почти прошло.
— Этот урок я считать не буду.
Что естественно.
Затем мы не знали, что делать.
К счастью, у меня возникла идея. Причем, признаюсь без ложной скромности, идея презабавная. Она вербализнулась за порог моих губ еще до того, как я ее осознала:
— Мистер Богал, вы могли бы показать мне творения миссис Богал?
— Какие еще творения? — оторопел он.
— Которые она рисует там, за столом, во время моих уроков.
Как я и предвидела, он растерялся.
— А, творения, которые она рисует там, за столом, во время ваших уроков.
Он совершенно запутался.
— Ах да, — наконец выпутался он, — ее миниатюры, да, ее миниатюры. Те, которые она рисует там, за столиком?
Он опять завяз.
— Так я могла бы на них взглянуть? — спросила я, придав своему взору как можно больше невинности.
— Конечно.
А что он еще мог ответить? Мерным шагом Богал подошел к столику и с благоговением снял покрывало из жуйской ткани, скрывающее работы хозяйки дома.
Я приблизилась. Там было несколько миниатюр: три-четыре совсем или почти законченные, две-три едва набросанные. Все то же самое. Они идентично и скрупулезно походили на миниатюры, которые мне показывала Мэйв. Как все странно: если люди чем-то навязчиво озабочены, то они настойчиво вгрызаются в свою озабоченность и цепляются за нее изо всех сил. С какой бы планеты или туманности ни являлись небесные ангелы и бесплотные духи миссис Богал, любой мало-мальски искушенный глаз — каковым уже стал мой, — несмотря на крылышки, угадывал в них самых обычных козлов.
Я указала пальцем на одну из картинок и сказала:
— У этого персонажа вот эта часть тела мне кажется непропорционально увеличенной.
— Аоай...
— Вы так не находите, мистер Богал?
— Ооай...
— Да и к этому природа отнеслась с чрезмерной щедростью.
— Оаой...
— Что касается этого, то он наверняка запинается при ходьбе, если, конечно, не носит свое добро через плечо.
— Аоой...
— А вот наконец-то нашелся один более или менее соразмерный, хотя и ему вряд ли удастся пройти с этим через игольное ушко.
Выражение лица Богала меня поразило. Из столь благородного оно превратилось в такое тупое, из помпезного — в лживое, из основательного — в хрупкое. Он впитывал мои слова в полнейшем остолбенении, как будто ему выпало внимать очно непреложной оракульной истине.
— А вот у этого действительно недурственная пара, — заявила я, указывая на распростертые крылья предположительно уранового духа.
— Уууууууууюй! — взвыл Падрик Богал, словно ошпаренный.
Он заскакал по комнате, перепрыгивая через стулья (не очень высокие) и тряся седеющей шевелюрой. Сделав таким образом два-три круга, он повернулся ко мне, явно демонстрируя сатировские намерения. Но я поджидала его решительно, и моя нога не дрогнула; с помощью элементарной подножки я помогла ему врезаться в стену. Череп агрессора столкнулся с преградой, тело рухнуло без чувств.
Последняя сцена произвела некоторый шум. Медленно, робко отворилась дверь. Появилась мордашка Мэйв. Циркулярно осмотрев комнату, она вошла и приблизилась к псевдотрупу.
— Вы убили его? — спросила она.
— Нет, — ответила я. — Через пять минут очнется.
— Было бы здорово, если бы не очнулся, — прошептала она.
После чего обняла меня и прижалась, дрожа. Мы молча взирали на обморочного, она смотрела так напряженно, что ее рот приоткрылся и оттуда высунулся кончик розового языка. Она заметила, что я рассматриваю ее, и подняла глаза на меня. В них я обнаружила столько нежности и пыла, что вскоре наши губы встретились, а языки смешались в сугубо сдержанном поцелуе. Затем непорочными руками мы взаимно оценили наши индивидуальные прелести. Мои трусики стыдливо пали к моим ногам, энергичная ладошка Мэйв направила меня к дивану, и там, закрыв глаза, я смогла пережить воздействие чистейшей духовности. В укромном местечке тенистой долины к бурлящей речке кошка пришла утолить свою жажду, ее шершавый язык корпел над маленькой скалой, словно желая высечь в ней источник. Напрасно я повторяла: «Покрепче держись за поручень, покрепче держись за поручень» — и сама же себе отвечала: «Какой поручень, какой поручень?»; в конце концов меня куда-то унесло, а там свершилось чудо: из меня брызнули звезды, и я оросила небо.
Когда я наконец спустилась на землю, в Дублин, к поэту Падрику Богалу, нежная головка Мэйв покоилась у меня между ног, а ее волосы смешались с шерсткой, которой по особой прихоти природы украшены женские интимности. Я медленно погладила пальцами локоны Мэйв, отчего та задрожала. Она подняла голову, но я повелительно склонила ее к прежнему положению и вновь насладилась целомудренным полетом моей маленькой души (бессмертной).
Немного спустя Мэйв спросила:
— Вы не забудете?
И я ответила:
— Никогда.
Я натянула трусики. Поправляя прическу, Мэйв подошла к Богалу, чья большая душа (бессмертная), должно быть, разгуливала в районе страны блаженных Тир-на-нОг[*].
— Наверное, надо его очнуть, — спросила Мэйв. — Вы уверены, что он жив?
— Да, — ответила я.
Она ударила его ногой в бок. Он заурчал.
— Падаль, — сказала Мэйв.
— Точно, — ответила я.
И добавила:
— Окатить его водой, и все.
— А если плеснуть в рыло из чайника? — предложила Мэйв.
— Нет, — сказала я. — Лучше холодной водой.
Она принесла из кухни грязную половую тряпку и стала ею бить своего хозяина по лицу. Два мутных ручейка потекли по морщинам, обнаружилось припасенное к случаю носовое кровоизлияние: подонок что-то прошепелявил и заморгал. Мы с Мэйв дотащили его до дивана, на котором сопоставляли свои чувственности, и усадили. Он медленно покидал страну Тир-на-нОг и возвращался в состояние остолбенелости. Похоже, он начал меня узнавать.
— Позвольте мне удалиться, мистер Богал? — уважительно спросила я.
Он, вероятно, дал позволение. Мэйв проводила меня до двери. Мы обнялись в последний раз, и без единой фразы, без единого слова наши языки передали друг другу ангельский пыл наших юных маленьких душ (бессмертных).
На протяжении всего ужина я ни о чем не думала и по-идиотски улыбалась. Мэри посматривала на меня испытующе. Мама вязала носки для уже вернувшегося папы. Сам папа оставался в столовой недолго и после ужина быстро уединился в своей комнате (он занял комнату Джоэла). Папа оставался таким же медведем и стал еще большим змеем.
Выждав несколько минут и удостоверившись, что он не подслушивает за дверью, я поведала Мэри и маме приключения Богала. Веселье быстро переросло в истерический хохот. Естественно, я не очень распространялась насчет Мэйв, только подчеркнула оригинальность способа, которым она хотела вывести нашего поэта из лимбического состояния. Маму от смеха скрутило так, что она чуть не задохнулась. Сестрица вела себя более сдержанно, но, судя по ее виду, что-то заподозрила.
8 марта
Девственна ль я все еще или больше не?
Надо будет откровенно поговорить об этом с Мэри, чтобы совесть была чиста.
Я больше склоняюсь к тому, что «все еще».
9 марта
И в самом деле оказалось, что «все еще». Мэри успокоила меня на этот счет, хотя и поиздевалась. Я была вне себя от ярости. Ее превосходство, заключающееся в том, что она «больше не», вовсе не дает ей права строить из себя нечто.
16 марта
Все эти дни бóльшую часть времени я проводила, проверяя, как Мэри вызубрила названия двадцати двух швейцарских кантонов, сорока двух английских графств, восьмидесяти парижских районов и тысячи двухсот филиппинских островов.
Должна отметить, что я целых два раза была у Падрика Богала; на уроках присутствовала Мадам с забинтованным носом, Мусью держался очень спокойно, а Мэйв довольствовалась обычными приветствиями: «Здравствуйте, сударыня... До свидания, сударыня».
17 марта
Сегодня Мэри сдавала экзамен на почтовую служащую.
В ожидании ее возвращения, чтобы как-то заполнить время, мы с мамой пили пунш. Папа замкнулся в своей комнате и выделывал там непонятно что.
— Хоть бы она прошла, — машинально повторяла мама, — хоть бы она прошла.
— Особенно не надейся.
— Почему ты так говоришь?
Почему бы ей это не сказать?
— Если она пройдет и получит место, то уйдет из дома.
Мама ничего не ответила.
— И тебе будет грустно, — добавила я, решив, что она не поняла. — Она хочет уйти, как только сможет зарабатывать себе на жизнь. Она не хочет здесь оставаться. С этим.
Было слышно, как папа ходит туда-сюда по комнате Джоэла, как раз над нашими головами. И чем он там занимается?
— Он всегда был таким?
Мама подумала и ответила:
— Нет. Он очень изменился. Все из-за этой истории со спичками.
— А он не может пойти за другим коробком и освободить пространство?
— Замолчи, — прошептала мама.
Я продолжала:
— К счастью, он понял.
— Понял что, моя девочка?
— И наверняка из-за этого расстроился.
— Из-за чего, Салли?
— Что больше не сможет шлепать по нашим ягодицам, когда ему вздумается, — с раздражением пояснила я.
— Но ведь он продолжает шлепать.
— По твоим? — съязвила я.
— Нет, по ягодицам Мэри.
Я разинула рот от изумления.
— Не удивляйся, — продолжала мама. — Как только тебя нет, она умудряется схлопотать порку. В этом и папа и она сходятся как жулики на ярмарке.
Она вздохнула:
— Странная девушка. Я не понимаю ее потребности в нравственной дисциплине. Ну да ладно. Надеюсь, она пройдет по конкурсу.
Мэри вернулась с экзаменов очень довольная и уверенная. Теперь она должна ждать результатов. Я не смела поднять на нее глаза, не знала, что ей сказать. Ужин был тусклым. Папа, как обычно, не задал ни одного вопроса. Похоже, ему было по фигу, что Мэри будет делать, если станет почтовой служащей.
Очутившись со мной наедине в нашей комнате, Мэри спросила, что со мной:
— Ты какая-то странная сегодня, будто в котелке перекипело.
— Так ты собираешься уйти из дома, если начнешь работать?
— Разумеется.
— Почему?
— Я тебе уже говорила. Нет сил выносить патера. Меня от него корчит. Это не жизнь. Он не человек, а просто какое-то привидение.
Она добавила:
— Он все больше и больше меня пугает.
— А Джон Томас? Ты будешь жить с ним?
— Да. Мы уже решили. Мы поженимся. Рано или поздно.
Но я уже не верила в существование ее Джона Томаса.
— Значит, ты довольна, — рассеянно сказала я.
— Время у меня еще есть. Буду ждать результаты.
— Разумеется, — фальшиво согласилась я.
— Похоже, тебя это совсем не радует.
— Почему же?
— Ты от меня что-то скрываешь.
— А ты?
— Я? Что я могу от тебя скрывать?
Она посмотрела мне прямо в глаза:
— Не знаю.
— Я тебе рассказываю обо всем. Конечно, за исключением подробностей, которые такой девушке, как ты, было бы стыдно выслушивать и о которых узнают на собственном опыте. Но в остальном я тебе рассказываю обо всем. Ты мне не веришь?
— Верю, если ты так говоришь.
— Похоже, ты в этом сомневаешься?
Я промолчала. Она зарылась в простыни и закричала:
— Ты меня достала! Если твои амуры с Мэйв доводят тебя до такого состояния, то мне наплевать! Привет и спокойной ночи!
Вдруг непонятно почему я разрыдалась.
Мэри вскочила и обняла меня.
— Ну что ты, дуреха, что с тобой? Скажи, что с тобой случилось?
Я только икала.
— Из-за того, что ты все еще девственна и это тебя расстраивает?
— Нет, не из-за этого, — икнула я.
— Из-за того, что Мэйв относится к тебе плохо?
— Нет, не из-за этого, — икнула я.
— Из-за того, что ты предпочла бы интимничать не с женщиной, а с мужчиной?
— Нет, не из-за этого, — икнула я.
— Из-за того, что ты уже не девственна и боишься мне об этом сказать?
— Нет, не из-за этого, — икнула я.
— Из-за того, что я уйду из дома?
— Нет, не из-за этого, — икнула я.
Хотя мне становилось плохо от одной мысли о том, что скоро я останусь в этом тоскливом доме одна, меж зверем и простушкой.
— Тогда что? — спросила Мэри. — Объясни же. Может быть, из-за Варнавы? Ты давно ничего о нем не рассказывала. Что с ним случилось?
— У него свинка.
— Не из-за этого же ты плачешь?
Я рассмеялась сквозь слезы:
— Нет, конечно.
— Тогда что?
— То, что ты лицемерка.
— Я?
— Да, ты.
Я перестала плакать.
— Да, ты, ты, ты. Гадкая маленькая врунья. Я больше никогда не буду тебе верить.
— Господи, но что я такого сделала?
— Ты напрашиваешься на порку за моей спиной.
Она отошла от меня и села на свою кровать.
— Кто тебе это сказал?
— Мама.
— Смотри-ка! Она заметила.
— Не смейся.
— Но если мне это нравится.
— Ты ведь просила, чтобы я тебя защищала. И только что сказала, что обо всем мне рассказываешь.
— Да, обо всем, кроме подробностей.
— Ничего себе подробность!
— Да. Мои интимные и приватные удовольствия выносятся за скобки. Я не обязана тебе их раскрывать. Я не хотела вгонять в краску девственницу.
— Хорошенькое оправдание! Как будто ты всегда была такой скромницей.
— А ты сама со своими маленькими приватными удовольствиями, ты всегда мне о них рассказываешь?
Тут я, разумеется, была вынуждена слегка соврать.
— Всегда, — ответила я.
— Всегда?
— Всегда.
Я посмотрела ей прямо в глаза, это было совсем не трудно, поскольку она и сама не раз такое проделывала.
— А о своем приватном удовольствии, которое заключается в том, что ты трешься о статуи, ты мне рассказывала?
У меня сперло дыхание.
— Отвечай, — слащаво продолжала Мэри, — ты мне рассказывала об удовольствии, которое испытываешь, когда трешься о мраморных самцов?
Откуда она могла узнать? Я поделилась с ней своим удивлением:
— Как ты узнала?
— Так это правда?
— Как ты узнала?
— Я была не совсем уверена. Об этом рассказал отец Джона Томаса. Он — сторож в музее. Он гулял с Джоном и заметил тебя, а ты была со мной. Он все рассказал своему сыну, а тот рассказал мне. Он, разумеется, не знает, что Джон меня знает. Забавно, правда?
— Очень.
Разве я могла отрицать, что это действительно забавно?
— И давно ты это узнала? — спросила я.
— Чуть больше месяца.
Значит, уже больше месяца она знала это обо мне, но в моих глазах оставалась прежней. И точно так же уже больше месяца она получала удовольствия от подвигов нашего генерала О’Дуракина, а я не замечала в ней никаких изменений.
— Так это правда? — переспросила она.
— Ну, понимаешь, это случилось со мной всего один раз.
— Тебя, должно быть, здорово свербило.
— Для меня это уже пройденный этап, — рассеянно сказала я.
— Разумеется, лучше уж с Мэйв.
Не знаю, была ли в этой фразе ирония, но я все равно не отреагировала. Застыла. Как гипсовая статуя.
— Ладно, — сказала Мэри. — Ты бы лучше легла и заснула.
Я легла и заснула.
18 марта
Своеобразные вкусы Мэри, бестактная болтливость отца Томаса, секреты, совпадения, все это просто невероятно. Уже не помню, чьи это слова, но жизнь оказывается порой причудливее, чем какой-нибудь роман. Впрочем, эта проблема еще встанет передо мной, когда я буду писать собственный роман: должен ли он быть невероятнее действительности или нет? Следует ли сразу вкалывать лошадиную дозу или отпускать по капле в час? Давить вовсю или спускать на тормозах? Накручивать дополнительное или выкидывать лишнее? От всего этого можно просто охереть! Искусство — тяжкий труд.
20 марта
Я вижусь с Мэйв лишь очень короткое время, с момента, когда она открывает мне дверь, до того момента, когда я проникаю в кабинет Богала. Сегодня я попыталась поймать ее в коридоре и обнять. Нежно. Но она оттолкнула меня.
25 марта
У Варнавы до сих пор свинка. Что за олух.
28 марта
Мельком видела Тима с его мотоциклом. На багажнике сидела Пелагия. Смотри-ка ты...
Впрочем, в последнее время я ни с кем не вижусь. С Пелагией в том числе. Возможно, уже весь город знает о моих эксцентричностях в музейном саду.
2 апреля
Что, если весь город об этом знает? Хотя, когда я прогуливаюсь, никто надо мной не смеется. Смотрят на меня, пожалуй, с симпатией, а мужчины к тому же все время стараются выразить ее разными жестами. В церкви (я посещаю мессы все реже и реже) или в трамвае редко бывает, чтобы меня разок-другой не ущипнули за ягодицу.
5 апреля
Я обнаружила, что ненавижу Мэри.
Это произошло во время ужина. Папа верещал на этот раз без умолку. Он прочел в газете о том, как линчевали одного негра, и это его раззадорило. Когда речь идет о каких-нибудь жестокостях, он просто не иссякает. Это его возбуждает, и он забалтывается как базарная баба. Мне же на подобные истории плевать, и если наш генерал О’Дуракин думает, что это производит на меня впечатление, то он глубоко ошибается. Я посмотрела на Мэри: она тоже не обращала особого внимания на разглагольствования извращенца. Со дня той самой сцены мы почти не обменивались конфиденциальностями, а точнее говоря, не обменивались вовсе. Я смотрела на нее и спрашивала себя, продолжает ли она поддерживать с отцом инфантильные и обосновывающие родственность отношения. Внезапно у меня в памяти всплыли откровения Богала по поводу своей супружеской жизни, и сопоставление миссис Богал и Мэри меня возмутило. Я начала ее ненавидеть.
Хоть бы она получила свое место и ушла из дома. Пусть побыстрее сматывается отсюда.
8 апреля
Короткое, но очаровательное письмо от Мишеля Преля. Он пишет, что, возможно, приедет в этом году в Ирландию. Я — в полном смущении. Теперь, когда я знаю все то, что знаю, что бы я сделала, оказавшись с ним наедине? Что бы сделал он? Что бы он сделал со мной? Что бы я сделала с ним? Что бы мы сделали вместе? Возможно, какие-нибудь ужасные вещи, вроде поцелуев в кончик носа или переплетения пальцев.
Бред какой-то.
9 апреля
А еще, в преддверии моего дня рождения, он прислал мне несколько французских журналов мод. Я меланхолично их пролистала. До чего же странными кажутся мне француженки со своими многочисленными заботами: угри, гигиенические приспособления, перманент, пот под мышками, форма бровей, двухцветный макияж грудных сосков, морковные витамины, утренняя гимнастика, о чем они только не думают? А сколько времени все это должно занимать!
Я листаю, перелистываю, мечтаю, прельщаюсь, а потом все-таки не прельщаюсь. Не могу себе представить, как я покупаю пояс для чулок или делаю завивку. Я остаюсь такой, какая есть, естественной: плоские туфли, гольфы или хлопчатобумажные чулки, закатанные выше колен, трусики и никаких лифчиков (ни за что! — описывая все это правой рукой, я поглаживаю свои груди левой); очень короткая юбка, пуловер (пока еще не очень тепло) в обтяжку.
12 апреля
Мы с Мэри пошли навестить Джоэла. Он переехал из комнаты над торговцем потрохами и требухой и теперь живет чуть дальше, около Харбертон-бридж, на этот раз в тупике, где вообще нет никаких торговцев. На пороге одной из лачуг намывалась плешивая крыса. Из окна выплеснули содержимое ночного горшка, совсем рядом с нами. Наконец, в глубоком анусе глухого тупика, мы обнаружили какую-то заплесневелую и источенную червями лавочку, на которой мелом было написано: ДЖОЭЛ МАРА, специалист по пуговицам без дырок из настоящей кости (кошачьей, кроличьей или воробьиной по желанию). Рукоятки ножей из телячьей бедренной кости. Исключительно на заказ: прищепки для носков из свиных хрящей.
Мы вошли, пригнув голову. Посреди более или менее вылущенных скелетов мелких животных с громким храпом спал наш брат. В глубине тихо скулил ребенок, в полумраке мы разглядели почти бесшумно спящую миссис Килларни.
С большим трудом мы разбудили Джоэла, которому потребовалось добрых четверть часа, чтобы нас узнать. Он указал нам на ящики, заменяющие стулья, и немедленно предложил уиски.
Нам не хотелось ему перечить, и мы согласились.
— Эй, Килларни! — заорал он. — Бутылку и стаканы!
Миссис Килларни судорожно вскочила и, почти не открывая глаз, с точностью лунатика направилась к двери. По скорости ее исчезновения можно было предположить, что она знает верный алкогольный источник.
Джоэл разговорился:
— Я сказал «стаканы» потому, что просто невероятно, до чего легко бьются стаканы. Я использую куски стекла для обтесывания и полировки пуговиц, мне не на что купить инструменты. Ну, ладно, я не жалуюсь, торговля идет неплохо, но сама работа адская. Клиентам нужны пуговицы с дырками, а делать дырки — просто замудохаешься, верно, сестрички?
Мы согласились.
— Ну, а что у вас?
— Она продолжает учить гэльский, — сказала Мэри. — И добивается в этом значительных успехов.
— Она сдала экзамены на соискание, — добавила я. — И теперь ждет результатов.
— Их объявят шестнадцатого апреля, — сказала Мэри.
— Вот те на, как раз в твой день рождения, — заметил Джоэл с находчивостью, которой я от него не ожидала.
— Мы как раз пришли тебя пригласить.
— Как это любезно, благодарю вас.
— С миссис Килларни и малышкой, разумеется, — добавила я.
— Спасибо, благодарю вас, я очень тронут.
В его голосе послышались фальшиво-растроганные алкоголистические нотки.
— Это надо спрыснуть, — предложил он. — Килларни! Бутылку и стаканы!
— Она еще не вернулась, — заметила я.
— Просто невероятно, до чего легко бьются стаканы. Я использую куски стекла для работы...
В этот момент Мэри закатила глаза и потеряла сознание. Я успела ее подхватить. Джоэл даже не пошевелился.
— Она беременна? — безразлично спросил он.
— Наверное, от запаха, — ответила я.
Пахло не так сильно, как потроха, зато запах был еще неприятнее. К счастью, подоспела миссис Килларни с бутылкой (полной) и стаканами. Хороший глоток привел Мэри в чувство. Джоэл продолжал гнуть свою линию:
— Ты беременна?
— Маловероятно, — ответила Мэри.
— А как вам это удается? — поинтересовалась у нее миссис Килларни.
— Кстати, — прервал ее Джоэл, внезапно обнаружив свое присутствие, — мы приглашены к моим родителям на ужин по случаю дня рождения Салли.
— Я не смею, — сказала миссис Килларни.
— Мы вас просим, — сказала я.
— Ваш папа согласен?
— Кто? — спросил Джоэл. — Их папа?
— Ты что, забыл, что папа вернулся?
— Да, действительно. О, черт! Он там будет, этот мерзавец?
— Вы помиритесь, — сказала Мэри.
— Не особенно и хочется, — заявил Джоэл.
— Чтобы сделать нам приятное, — сказала я.
Джоэл, похоже, задумался.
— А ужин будет хороший? — спросил он.
— Мама ради тебя постарается, — сказала Мэри.
Он повернулся к миссис Килларни:
— Что скажешь, Саломея?
— Мы давно уже как следует не угощались, — отстраненно заметила миссис Килларни.
— А вы уверены, что папа согласен?
— Конечно.
— Ну ладно, тогда придем.
Мы осушили бутылку за предстоящее примирение, Саломее (дочери) даже предоставили право обмакнуть губы, и мы радостно простились, хотя Джоэл и взгрустнул из-за того, что мы уходим и он не сможет вместе с нами оприходовать другие бутылки, которые могла бы достать ловкая миссис Килларни.
Обернувшись, чтобы бросить последний взгляд на отвратительную хижину, где размещался Джоэл, я подумала, по-прежнему ли он пишет стихи.
13 апреля
Я не так уж сильно ненавижу Мэри. Но все равно хотела бы, чтобы она получила свое место и ушла.
15 апреля
Варнава ждал меня после урока у Богала. Мэйв остается нечувствительной к моим любезным жестам; ничего не понимаю. Например, сегодня я хотела отметить поцелуем ее мраморный лоб. Она оттолкнула меня своей миловидной, но решительной рукой, что меня разозлило. Я искренне желала возобновить любезности, которые привели бы к тотальной осчастливленности. Но Мэйв явно этого не хочет, наверняка боится Богала или Мадам. Как бы там ни было, ее отказ меня разозлил. А тут еще этот Варнава.
— Ну что, — спросила я, — как ваша свинка?
— Я поправился, — ответил он, глупо ухмыляясь.
— Болезнь не слишком исказила ваше лицо, — заметила я, рассматривая его критическим оком.
Он покраснел.
— А вы, Салли, как вы?
— Не слишком деформировала вашу физиономию. А свинка, это болезненно?
— Ээ... Немного...
— А в чем она конкретно выражается?
— Болят... уши...
— Похвастаться, в общем, нечем.
— Нет... конечно...
— А как рефлексы?
— Я не очень вас понял. Меня не проверяли у психолога.
— Меня тоже, — отрезала я.
До чего же он меня раздражает, этот воздыхатель.
— Кстати, — сказала я, — как называется болезнь, когда уши шелушатся, а потом отпадают?
— Не знаю...
— Похоже, ваши уши уже начинают...
— Вы... Вы так считаете?
— Не считаю, а вижу. Во всяком случае, очень рада была с вами повидаться.
После чего я с ним распрощалась.
16 апреля
Сегодня утром я искренне пожелала, чтобы Мэри не сдала экзамен. Ни с того ни с сего. Просто возникла такая мысль.
Мое желание не осуществилось. Она прошла.
Как она рада. Естественно.
Теперь у нее не будет ежедневного отцовского наказания, зато будет Джон Томас на всю жизнь.
По ее словам.
Возможно, она еще пожалеет о ежедневном отцовском наказании. Ну, это ее дело.
Сегодня мне исполнилось девятнадцать лет.
Девятнадцать цветущих годков.
Уже пять часов вечера. Скоро начнется обалденный ужин по случаю моего дня рождения.
Я чувствую себя как-то странно.
Но не из-за праздника.
Не из-за чего.
Если какой-нибудь тип попал бы сейчас мне под руку, думаю, надрала бы ему уши. И шнибель. Нет, шнобель. До чего трудный этот французский язык.
Маленький розовый язычок Мэйв.
Рука Тима.
Шестеринка Варнавы.
Твердость статуй.
Ах, ностальгия, ностальгия!
Покрепче держись за поручень, говорю я себе. Держись за поручень.
17 апреля
Мы немного подождали братца, его сожительницу и их отпрыскунью; наконец они заявились, обрамляемые почти флуоресцентным этиловым ореолом. Джоэл с папой облобызались. Папа состроил благодушное рыло, вроде тех, что бывает у закоренелых предателей в низкопробных мелодрамах. Миссис Килларни была встречена почестями, а писклявый выкормыш получил свою порцию улыбчивых гримас. Мэри поздравили с успехом. Сияющая мама механически опустошала стаканы всех присутствующих. О моем дне рождения и не вспоминали.
Упразднив одним залпом и махом бутылку 45-градусного рикара, присланную М. Прелем и полученную как раз сегодня, мы устроились вокруг стола, и Бесс начала подавать ужин, который состоял (описываю сразу всю разблюдовку) из селедки в имбире (я ее обожаю), сала с капустой, стофунтовой головки сыра и пирога с морской капустой, украшенного девятнадцатью свечами.
Сначала разговор был неимоверно светский и невыносимо банальный.
— Ну и как, — спрашивала мама у миссис Килларни, — вы довольны моим петушком?
— Признаться, право, — отвечала миссис Килларни, — весьма пылкий, весьма пылкий. Женщину в моем возрасте это может и утомлять, черт возьми!
Пылкий для чего именно? Полировать пуговицы?
— А твой жених, — спрашивал Джоэл у Мэри, — ты довольна его услугами?
— Сиди и дрючь в своем углу, — благосклонно отвечала Мэри, — и не трепли ленточки малышки.
Дрючить что именно? Рукоятки для ножей?
Развеселившийся папа пытался заинтересовать меня разговорами на самые разные темы, как, например, классификация смертных казней в зависимости от географической долготы или безразличие кухарок к страданиям животных, предназначенных в пищу.
Вечер наверняка прошел бы нормально, то есть к двум часам ночи совершенно ухайдаканные папа и Джоэл рухнули бы со всего маху в объятья друг к другу с умиленными возгласами, итак, повторяю, вечер наверняка прошел бы нормально, если бы, на стадии сала с капустой, Джоэл не заметил присутствия Бесс.
— А ты все еще здесь? — внезапно гаркнул он.
Не знаю, какая муха его укусила и насколько она была шпанской[*]; ведь на Бесс никто — даже папа — не обращал внимания, а Джоэл, в свое время, и подавно. А тут обратил, да еще и сопроводил вышеприведенные слова аффективным шлепком по ее крупу. От этого чуть ли не родственного и, вероятно, нежного жеста робкую девчушку так передернуло, что она вывалила остатки капусты на голову мамы. У мамы всегда был добродушный характер типичной бестолочи, а в этот вечер настроение оказалось особенно эйфорическим по причине бааааальшого семейного примирения. Она сочла инцидент невероятно комичным и долго корчилась от смеха, вытирая с лица овощной гарнир. Мы шумно разделяли ее вполне объяснимую веселость, но тут папа, непонятно с какой стати, спокойно поднялся и направился к Бесс. Та с ужасным криком бросилась в сторону кухни, но, подбежав к двери, натолкнулась на папу; он, точно рассчитав траекторию, успел переместиться и встать на пороге в ожидании. Его намерения — это сразу же стало понятно — были явно исправительные. Вмешался Джоэл. Мелодраматическим, будто вымоченным в джине голосом он заявил, что покарать оскорбление, нанесенное матери, обязан сын; потянув Бесс за руку, он вырвал ее из отеческих когтей. Папа, ухватив Бесс за другую руку, ответил, что сурово расправиться с лицом, окатившим супругу подливкой, обязан супруг. Бесс дергали из стороны в сторону. Тут Мэри встала и объявила, что противится любому наказанию; она схватила Бесс за талию и освободила девушку от преследователей. Те яростно закричали и опять стали вырывать жертву. Миссис Килларни заорала, что только ее петушок вправе выпороть служанку, в то время как внезапно разгневанная мама провозгласила, что никто, кроме ее мужика, не смеет поднять руку на этого ребенка, за которого она, кстати, несет полную моральную ответственность. Я с восхищением наблюдала, как легко все эти люди встают на свою сторону, и уже задумалась, к какому из трех лагерей примкнуть, если вообще не составить свой собственный, четвертый, как тут начались военные действия.
Первыми ввязываются в бой боковые судьи слабого пола. Пригоршней подобранной капусты мама квасит лицо миссис Килларни, а та отвечает суингом, который проходит мимо цели и вдребезги раскалывает грязную тарелку. Мэри наносит Джоэлу удар ногой, отчего тот ослабляет хватку, но папа, схватив за шевелюру, отшвыривает дочь к буфету, в котором разбивается несколько стаканов. Бесс жалобно стонет, а миссис Килларни, распоров себе руку в неудачной атаке на нашу посуду, прыгает от боли и звучно матерится. Мама, используя свое позиционное преимущество, тычет ей в пупок бутылкой с английским соусом. Миссис Килларни валится с ног. С целью аннексировать Бесс папа запускает пивной бутылкой в голову Джоэла, но мажет и захерачивает осколками все блюдо с салом. Мэри снова бросается на приступ, на этот раз вооружившись щипцами для колки орехов; папин нос, зажатый между двумя металлическими стержнями, брызжет кровью. Мама, развалившись на миссис Килларни, ритмически бьет ее башкой об пол. Воспользовавшись тем, что папа, пытаясь высвободиться, щекочет Мэри под мышками, Джоэл увлекает Бесс на кухню и закрывается там. Мы подскакиваем к двери, трясем ее и стучим в нее ногами. Дверь крепко заперта. Пора утихомириться.
Мама подняла миссис Килларни, усадила ее на стул и предложила ей укрепляющее. Затем мы расставили все приблизительно по своим местам, замели осколки и обломки в дальний угол и вновь устроились за столом в ожидании продолжения ужина. Обнаруживается, что Саломею, свалившуюся на пол во время стычки, слегка потоптали: ей также поднесли укрепляющее. Папа разлил по кругу уиски, дабы замедлить сердечное биение и отрегулировать дыхательный процесс.
По другую сторону кухонной двери слышны разнообразные звуки: стоны, сопение, робкие протесты, экзальтированные одобрения. Теперь я уже приблизительно знаю, в чем дело, и угадываю кое-что из того, что там происходит; я взрослая и почти осведомленная девушка. Я испытываю большое удовлетворение оттого, что могу в целом понять завязавшийся за столом разговор.
— Не сделал бы он еще одного ребенка, — шепчет мама со смущенным видом.
— Это удается не каждый раз, — замечает миссис Килларни с очень претенциозным видом.
— Чего они так шумят, — ворчит Мэри с раздраженным видом.
— Малышка все же получит свое, — подытоживает папа, делая вид, что не подает виду.
Вокальные сигналы Бесс и Джоэла достигают такой интенсивности, что дверь начинает вибрировать. Мэри закидывает ногу на ногу, спазматически царапает стол, откидывает голову назад и тяжело дышит. Втайне я уже давно разделяю эти эмоции.
И вдруг, внезапно — тишина.
Такая, что можно услышать, как кошка лакает молоко.
— Ах, — вздохнула мама, — теперь можно продолжать.
— Да, — сказал папа. — У меня начинает посасывать под ложечкой. Тем более что сало испортили.
— Осталась стофунтовая головка сыра, — сказала мама.
— Вы по-прежнему покупаете его у бакалейщика на Хатч-стрит? — спросила миссис Килларни.
— По-прежнему, — ответила мама.
— В таком случае я сейчас налакомлюсь, — сказала миссис Килларни.
Густо зардевшаяся Мэри не отрывала глаз от крохотного блика, маячившего в ее стакане с уиски. Со своей стороны, я была взволнована не меньше ее. Она подняла голову, и наши взоры встретились: они сами не ведали, что в них такое. В этот момент мы разом вздрогнули: в кухне возобновилась анимация.
— Ну нет! — завопил папа и ударил кулаком по столу. — Хватит! Я жрать хочу.
— Что ж ты хочешь, — произнесла мама, — молодость.
— Со мной такого никогда не бывало, — заметила миссис Килларни с достойным стремлением к объективности.
Я снова вздрогнула. В дверь позвонили.
Тотальная обеспокоенность.
В дверь позвонили еще раз, и уже настойчивее. Я сказала:
— Пойду открою.
И пошла открывать.
Это были два констебля: одного, Киргоу, в нашем квартале хорошо знали, другого я никогда не видела. Именно этот, второй, и заговорил первым.
— Ну что? — важно спросил он.
— Что «что»?
— Соседи жалуются.
Соседи! Ну и ну, это они-то жалуются! А сами кутят от Рождества до Сочельника, когда все хорошо, и дерутся от Сочельника до Рождества, когда все плохо.
— И на что же они жалуются?
— У вас произошло что-то серьезное.
— Выдумки.
— Возможно, имело место преступление. По их словам.
— Враки.
— Позвольте нам взглянуть.
Констебль отстранил меня рукой и вошел в сопровождении Киргоу, чья мимика дала мне понять, что лично он ни за что не предъявил бы таких требований. Мне следовало бы потребовать ордер на обыск, как в детективных романах, но констебли были уже в столовой. Я просеменила следом и оказалась свидетельницей аналогичного допроса мамы, которую, как обычно, распирало от невиновности, миссис Килларни, которая, пряча раненую руку, сжимала Саломею в трагической и обиженной позе, и Мэри, которая стеснительно покусывала подол своей юбки, что позволяло легавому рассмотреть ее ноги аж до самого пупка. Впрочем, вышеупомянутый легавый не обращал на это ни малейшего внимания, наверняка педераст и уж во всяком случае сукин сын, так как, несмотря на наши единогласные отрицания, он воспользовался кучкой битой посуды в углу и пятнами крови повсюду, принадлежавшими папе (кстати, куда он подевался?) и миссис Килларни, как основанием для более пристального расследования. Как будто он изо всех сил желал, чтобы здесь кого-нибудь убивали. Напрасно мы его разубеждали, все было бесполезно. В конце концов он озадаченно замолчал, нам тоже не хотелось говорить; воцарилась тишина.
И тут мы услышали, что на кухне что-то происходит.
— Это еще что такое? — спросил полисмен, нахмурив брови.
— Это наша юная экономка разделывает угря, — ответила мама и состроила гримасу, какая бывает у впервые причащающихся.
— Живого?
— Так вкуснее.
— Но это противоречит законам Общества защиты животных!
В этот момент тоненький голос Бесс заблеял:
— Нет, нет, ты делаешь мне больно!
Важный полицейский сурово посмотрел Киргоу прямо в глаза и робко проговорил:
— Мы должны вмешаться.
Поскольку при них не было ПШГ[20], они ограничились тем, что изрешетили дверной замок револьверными пулями, и задвижка пала. Дверь приоткрылась, мы увидели Джоэла, вытаскивающего из печи пирог с морской капустой, и помогавшую ему Бесс, которая дула на обожженные пальцы.
— Просим извинить, — сказали полицейские громилы, признав свое заблуждение.
После определенного количества вежливых фраз и еще более определенного количества стаканчиков уиски представители закона удалились, и мы смогли наконец рассесться вокруг стола с пирогом, украшенным в мою честь девятнадцатью свечками.
— Из-за всей этой истории, — заметил внезапно появившийся папа, — даже сыра не попробовали!
— Не засирай нам мозги, — ласково ответила ему мама.
Одним махом я задула все свечки, и праздник продолжался до шести часов утра. Только что закончила его описание. Теперь — в постель.
Одна-одинешенька.
18 апреля
Мэри дали место в почтовом отделении в Гэлине. Гэлин находится в устье Ли, перед портом Корка, неподалеку от маяка Рош-Пойнт. Она надеялась, что ей дадут работу в Дублине и она останется со своим Джоном, ну, ничего страшного, все равно она не против отсюда свалить. Я поехала с ней на вокзал. Вернувшись, узнала, что Бесс исчезла.
20 апреля
Сегодня я была приглашена к миссис Богал на чаепитие, устраиваемое несколько раз в году. Многочисленные заботы омрачали мое чело, мне не потребовалось, как в прошлые разы, забегать к тете Патриции и набираться там мужества. Я встретила там — у миссис Богал — конечно же, и Падрика, и Варнаву, и по-прежнему сдержанную Мэйв, и саму Мадам, нос которой становился все больше похож на дуршлаг. А еще я встретила там — у той же миссис Богал — Коннана О’Коннана, Грегора Мак-Коннана, Мак О’Грегора Мак-Коннана (все поэты) с их женами, а также сыновьями и дочерьми Джорджем, Филом, Ирмой, Сарой, Тимом, Пелагией, Падриком, Игнатией. Еще там был бард-друид О’Сир со своей женой и четырьмя детьми, равно как и философ-примитивист Мак-Адам с миссис Мак-Адам и детьми: Авелем Мак-Адамом, Каином Мак-Адамом и двумя сестрами Мак-Адам, Беатицией и Евой, девушками, которые давали вечеринки, куда до сих пор меня не приглашали, хотя сейчас я уже смогла бы танцевать, но как они об этом могли догадаться, если до сих пор я скрывала свои новые способности, как, впрочем, и не имела никакой возможности демонстрировать их даже перед узкой публикой.
Французского мусью не было.
Ко мне подошел Варнава.
— А вот и вы, — сказала ему я.
— Какая вы красивая, Салли, — прошептал он дрожащим, но убежденным голосом.
— Что это на вас нашло?
— Я нахожу вас восхитительной, Салли. Ваше платье так вам идет.
Оно мне и впрямь шло: соломенно-желтое с мелким повторяющимся орнаментом из раков фисташкового цвета. В этот день я надела чулки, самые лучшие, хлопчатобумажные, заштопанные всего в двух местах.
— Вы не хотите как-нибудь на днях сходить в кино? В «Палладиуме» показывают Грету Гарбо.
— В «Палладиум» дорого.
— Я приглашаю вас, Салли, я вас приглашаю.
Был ли он готов ради меня пойти на безумные траты? Я решила его к этому подтолкнуть, но для начала — слегка, не очень сильно. Опустив глаза как можно ниже, то есть как можно скромнее я промолвила:
— Я рада, что у вас больше нет свинки... И с ушами у вас все в порядке... Очень даже красивые.
Он покраснел, засиял и сделал выражение лица, характерное для составителя комплимента. Но внезапно мое внимание привлек проходивший мимо нас О’Грегор Мак-Коннан; вспомнив то, что о нем рассказывал Богал, я спросила у Варнавы на ушко (мое горячее дыхание проникло в это отверстие, и он, кажется, затрепетал от удовольствия):
— Это правда, что О’Грегор Мак-Коннан — педераст?
— О! — выдохнул Варнава.
Он отступил на шаг и пристально на меня посмотрел.
— О! — выдохнул еще раз Варнава.
— Я задала вам вопрос, — напомнила я с некоторым раздражением.
Он продолжал рассматривать меня с такой озадаченностью, как если бы я была надписью на огамическом языке[*]. С серьезностью друида, собирающего волшебную алтею, он поднял палец к потолку и торжественно спросил:
— Салли! Известно ли вам значение слова, которое вы только что употребили?
— Какого именно? «Педераст»?
— О!
И рукой, только что указующей перстом в небо, он с самым безутешным видом схватился за голову.
— Этого самого, — сказал он. — Вам действительно известно его значение?
— Вы считаете, что я говорю, сама не ведая, что?
Иногда это со мной случается, но вдаваться в детали было некогда.
— Вам известно его значение? Да или нет?
— Да.
— Тогда, — прошептал он, — скажите, что именно оно означает.
Было это неведением или вызовом? Этот дуралей сбивал меня с толку.
— Скажите, Салли, — взмолился он.
Неужели он подтрунивал надо мной? Я этого не люблю. Поразмыслив еще несколько секунд, я выдала ему объяснение:
— Педераст — это господин, который делает другим господам то, что я сделала вам в кинотеатре в тот день, когда мы пошли смотреть Джин Харлоу.
Теперь-то я уже догадывалась, что произошло в тот раз, хотя некоторые детали все еще требовали прояснения.
Излагая суть своих познаний в педерастической области, я стыдливо опустила глаза. Когда я их подняла, Варнава исчез. Вне всякого сомнения, он был вынужден удалиться по какой-нибудь гигиенической или этикетной надобности.
Тут объявили начало психихического сеанса, и все принялись устраиваться вокруг миссис Богал. На ней было платье из красного римского крепа в фиолетовых кружевных инкрустациях с облегающими, начиная от локтя, рукавами. Все уселись, и Богал попросил потушить свет и задернуть шторы. Теперь я была уже смышленой и хорошо понимала, что сумрак — всего лишь повод для того, чтобы пощупать облачение соседа и оценить мягкость его тканей.
Случайно я очутилась между поэтом Мак-Коннаном и Авелем Мак-Адамом, сыном философа-примитивиста. Я сказала «случайно», так как не была знакома ни с тем, ни с другим; ни тот и ни другой вроде бы не обращали на меня внимания. И тем не менее, как только под покровом тьмы они удостоверились в анонимности (страусиной), каждый немедленно положил руку мне на бедро. Это совершенно не соответствовало моим намерениям; я пришла туда не ради глупых пустяков, а для того, чтобы прояснить два теоретических пункта, которые казались мне неясными. Используя свой обычный прием, я соединила обе руки, которые торопливо отдернулись, и смогла продолжить исследования.
Сначала я колебалась, выбирая между Мак-Коннаном и сыном Мак-Адама, но в конце концов решила, что предпочтительнее остановиться на экземпляре молодом и сильном, у которого феномены представлены с большей четкостью и быстротой (сеанс не будет длиться вечно), чем у индивидуума, несколько тронутого возрастом. Итак, я решилась взяться за Авеля.
Смещенным в сторону голосом миссис Богал начала издавать до странности претенциозные звуки, которые следовало воспринимать как фонемы какого-то слегка архаического марсианского языка; тем временем около нее материализовалось тщедушное привидение, чье сходство с Мэйв было столь очевидным, что никому из приверженцев даже не могла прийти в голову мысль о мошенничестве. Со своей стороны, я отметила, что брючная ткань Авеля довольно жесткая — наверное, местный вид твида. Затем я сделала несколько наблюдений общего характера, относящихся к разнообразию застегивания мужской и женской одежды; несомненно то, что мужчина предпочитает петлицу, а женщина узелок[*].
Но это не отвлекло меня от главного направления моих изысканий. Я была полна решимости окончательно определить свое отношение к противоречивым аспектам того, что держала в руке. Прежде всего я смогла убедиться в том, что у некоторых естественных объектов изменение объема и плотности происходит значительно быстрее, чем изменения, превращающие нейлоновый балахон в дирижабль. Пример выбран неудачно, поскольку предмет моего внимательного изучения обладал значительно большей плотностью, чем плотность такого устаревшего средства передвижения, как надувной шар. Затем, в результате целой серии легких надавливаний, я удостоверилась, что эта твердыня была равномерной во всех точках, после чего предприняла ритмичное растирание с целью проверить, возможно ли придать еще большую экстенсивность тому, что в начале моего эксперимента имело параметры жеваного кусочка жевательного табака. Несмотря на все старания, мне не удалось добиться конкретных результатов, для подтверждения которых у меня не было, впрочем, ни метра, ни компаса.
Я помедлила сразу переходить ко второму теоретическому пункту, оставленному в подвешенном состоянии, хотя меня и приободряло ощущение тепла и мягкой упругости предмета, который я сжимала в руке. Впрочем, я правильно сделала, что не поторопилась, ибо вскоре почувствовала, что в моей ладони забурлил поток, как из гейзера ударила струя и что-то залило мои пальцы. После этого изменение объема и плотности произошло в сторону радикально противоположную той, которая способствовала кризису, и я оставила в панталонном гнезде влажное и дрожащее невесть что.
Затем я перешла к изучению химического состава только что выжатой субстанции, используя при этом довольно грубые приемы качественного анализа, то есть ограничилась определением запаха, вкуса, текучести, растворимости и т. п. Несмотря на темноту, вещество показалось мне белесым, но это было не молоко. Как я и подозревала, этот продукт человеческой деятельности радикально отличался от мне известных и имел совершенно оригинальные свойства. Я почувствовала такую радость оттого, что мои гипотезы подтвердились, что немедленно задумала новый эксперимент, относящийся к области восстановления прежних объемов и плотности предмета. Я взялась за дело, но, к моему огорчению, свет загорелся раньше, чем я смогла добиться удовлетворительного результата. Наши соседи начали вставать, и я заметила, что сидевший перед нами Падрик Богал в ходе наших первых опытов оказался весь забрызганным. Авель Мак-Адам бросился промокать ему спину носовым платком. Богал гневно обернулся и рявкнул: «В чем дело?» Я глупо рассмеялась.
21 апреля
Утром позвонили в дверь. Я пошла открывать. Опять легавые. Однако у нас все было тихо. Один из них был не кто иной, как новенький полисмен с прошлого раза, другой — еще незнакомее первого — какой-то тип в просторном штатском костюме.
— Это его сестра, — сказал первый второму.
— Ваша мать дома? — спросил второй.
— Да.
— Мы хотели бы ее видеть.
Они проследовали за мной. В коридоре были очень корректны. Я открыла дверь в столовую; мама вязала носки. Она улыбнулась вошедшим. Они сели.
— Предложи господам стаканчик уиски, — предложила мама.
— Была еще другая сестра, — заметил первый полицейский.
— Теперь она живет в Гэлине, — сказала мама.
— Вы получали от нее в последнее время известия?
— Она посылает нам телеграммы каждый день. Видите ли, ей это ничего не стоит, она — почтовая служащая.
— Когда вы получили последнюю телеграмму?
— Сегодня утром.
— Когда она уехала?
— Позавчера.
Полицейский глубокомысленно посмотрел на маму. Затем продолжил:
— А ваша молоденькая экономка?
— Бесс?
— Да, молоденькая экономка, которая была здесь в тот вечер, когда вы устроили бедлам.
— О! Вовсе нет! — запротестовала мама. — Всего лишь потасовку третьей категории.
— Допустим. Так где она?
— Третья категория?
— Черт возьми! — ругнулся первый инспектор. — Везет же некоторым: попасть на такую дуру!
— Эта дурость кажется мне подозрительной.
— Допросите членов семьи.
— Где Бесс? — спросил меня держиморда. (Ни хера себе! Откуда я выудила это слово? Вот что значит французский язык!)
— Исчезла, — ответила я.
— Исчезла?
— Исчезла, — подтвердила мама.
— И вы не думали ее искать?
— Нет.
— А обратиться в полицию?
— Еще меньше.
Они вздохнули.
— А где ваш брат?
— У себя.
— Где это — у себя?
— Возле Харбертон-бридж.
— Он давно там живет?
— Приблизительно три месяца.
— А здесь его нет?
— Я ведь сказала, что он у себя.
Держиморда (как мне нравится это слово!) вопросительно глянул на своего начальника.
— Дом обыскивать бесполезно, — сказал тот.
— Так было бы надежнее.
— Бесполезно. Я все вижу.
Он осушил свой стакан и встал. Подчиненный сделал то же самое.
— Может, их предупредить? — спросил он.
— Примите ораторские меры, подобающие ситуации.
— Корректность — прежде всего.
Он повернулся к маме, прочистил горло и огласил:
— Ну, значит, так, уважаемая тетенька, мы сейчас тихонечко пойдем и скрутим вашего сына Джоэла, который ужасный злодей и убил вашу экономку Бесс, чтоб выпить ее кровь, чей труп нашли в бочке, которую он спрятал рядом с Ист-Уоллом.
Поскольку мы замерли и замолчали, он добавил:
— Я сейчас быстренько плесну вам по глотку уиски, чтоб взбодрить после известия об этом страшном преступлении, а сами мы, безумно поспешая, двинемся на арест Дублинского Вампира.
И они удалились мерным шагом.
Мы даже не успели допить свой ободряющий глоток, как, медленно отворив дверь, на цыпочках вошел папа.
— Что тут происходит? — прошептал он.
— Легавые, — прошептала я.
— Чего они хотят?
— Арестовать Джоэла.
При этих словах мама, которая наконец что-то поняла, жалобно запричитала.
— Заткнись, — оборвал ее папа.
Она замолчала.
— Они ушли?
— Кажется, да.
Он сходил проверить, вернулся и уселся перед стаканчиком уиски. В его отсутствие мама накапала себе двенадцать-пятнадцать ободряющих капель.
— Чего они к нему прицепились, к Джоэлу?
— Он убил Бесс. Он — вампир. Так они говорят. Я им не верю.
— Не веришь? — удивилась мама. — Но раз они говорят...
— Джоэл пьет кровь! Да эти держиморды хотя бы раз на него взглянули! Если бы они его увидели, то сразу бы поняли, что он не способен ее пить, эту кровь, даже через соломинку, как это делают приличные вампиры. Он не способен пить даже воду!
— Ты его недооцениваешь, — мягко заметила мама. — У него ведь не исключительно алкогольный рацион.
— Я уверена, — ответила я, — что кровь для него — это сильнейший удар по печени.
— А может, он об этом не подумал?
Папа с силой ударил кулаком по столу.
— Хватит, — рявкнул он.
Потом, успокоившись, произнес:
— Бездари.
— Кто? — спросила мама.
— Полицейские, черт побери!
— А! — вскричала я. — Ты тоже не веришь, что Джоэл — вампир?
— Они — бездари. Никого не арестовать — это я еще понимаю, но арестовать невиновного...
— Ты уверен, что он невиновен?
— Больше чем уверен.
Фрагменты «Одиссеи», «Царя Эдипа», «Песни о Роланде» и прочих детективных романов, которые я читала, всплыли у меня в памяти и позволили оказаться на высоте в этой непростой ситуации.
— Папа, ты можешь подтвердить его алиби?
— Конечно, нет.
— Как же доказать его невиновность?
— То-то и оно, — ответил он. — Вот я и думаю.
— Ты знаешь виновного?
— Конечно. Это я.
В течение нескольких минут мы с мамой оспаривали друг у друга бутылку уиски, чтобы сделать бодрящий глоток.
Я подозревала, что папа — негодяй, но до такой степени — это действительно рекорд. Я смотрела на него и поражалась. Я думала, что когда в газетах появится его портрет, нашей семье это чести не прибавит. Обычно на лице у преступников есть нечто вроде оскорбленной гордости, которая придает самым красивым из них, например Ландрю[*] и Наполеону, демонический вид. Что до папы, то никогда еще самая сопливая вялость не размазывалась с такой легкостью по серой, невзрачной харе, никогда еще самая извращенная трусость не растекалась с такой липкостью по посредственной роже, никогда еще самая закоренелая лень не разливалась с такой низостью по тусклому мордовороту.
Он дал нам время передохнуть. Затем заявил:
— Ну да, пил, но и только. Не думайте, что я убил малышку.
— Он ее даже не убил! — застонала мама.
— Нет. Послушайте, как это произошло.
— Да, да, рассказывай.
— Так вот, я уже давно переживал, что она меня боится, не знаю, заметили вы или нет, но она, увидев меня, всегда дрожала. И тогда, чтобы успокоить малышку, как-то я пообещал прокатить ее на карусели с деревянными лошадками.
— Очень хорошо, — сказала мама.
— Не знаю, как это произошло, клянусь, я этого не хотел, но вдруг мы очутились около Ист-Уолла. Пустырь, бродячие собаки, сумрак, разбитые фонари, отсутствие деревянных лошадок так поразило девушку, что она упала в обморок.
— Бедное дитя.
— Она упала резко, вот так: шлеп! Я склонился над ней. Она была мертва.
— Господи, помилуй! — воскликнула мама и религиозно прожестикулировала.
— Чувствовал я себя довольно кисло.
— Понимаю, — посочувствовала мама.
— Я оттащил ее в укромный уголок. И потом там... там...
Он разнервничался:
— Я бы на вас там посмотрел! Короче говоря, я не удержался. Ведь не каждый день выпадает такая возможность.
— Понимаю, — вновь посочувствовала мама.
— Потом я спрятал ее в бочку.
— Не так быстро, — попросила мама. — Расскажи подробности.
— Ну, как же... — замялся папа. — Как же...
— Да, да, да. Мы тебя просим, пожалуйста, будь любезен.
— Во всяком случае, клянусь вам, я отнесся к ней с уважением.
— О!
У мамы был совершенно недоверчивый вид.
— Даю вам слово. Я предался лишь антропофагическому пороку. Да и то. Я вовсе ничего не ел. Только пил.
Затем добавил ровным голосом:
— Потом спрятал ее в бочку. Это все.
Мы молчаливо погрузились в свои мысли, что придало атмосфере некую грандиозность. Я даже почувствовала к нему некую симпатию, он был все-таки не злобным мерзавцем, а слабым, безвольным и импульсивным человеком. Джоэл — весь в него. Да, Джоэл. Кстати, Джоэл.
— Что мы можем сделать для Джоэла? — спросила я.
— Если его сцапают, — сказал папа, — он окажется в мерзком положении.
— Бедный Джоэл, — вздохнула мама и вновь принялась за вязание.
— Он ни за что не сможет доказать, что не убивал ее, — продолжал папа. — Акт вампиризма всегда вызывает негодование судей. Знаю по опыту. Значит, он получит по полной катушке, то есть смерть через повешение.
— Я бы никогда не подумала, что он так кончит, — сказала мама. — Ну, ничего, возьмем к себе миссис Килларни и Саломею.
— Посмотрим, — сказал папа. — Короче говоря, мы влипли в очень неприятное дело.
— А вдруг у него найдется алиби, — воскликнула я с надеждой в голосе.
— Тогда совсем хреново, — отозвался папа.
— Это почему? — спросила мама.
— Потому что тогда они вернутся сюда с обыском, а мне бы этого не хотелось, понимаешь?
— Понимаю, — посочувствовала мама.
22 апреля
Сегодня утром наша фамилия была пропечатана большими буквами в газете. Я думала, что это случится лишь после того, как я опубликую свой роман, через несколько лет. Нам есть чем гордиться! Я решила вырезать статью и отправить Мишелю Прелю. Папа громко прочел ее вслух. Теперь не оставалось никаких сомнений: у Джоэла дела плохи. К несчастью, когда его арестовывали, он еще вздумал защищаться. А еще в статье намекали на то, что он изготавливал пуговицы из человеческих костей; ну и посмеялись же мы: какие все-таки они тупые, эти журналисты.
Затем пришли соседи и соседки с комплиментами. Папа, конечно, спрятался. Радостная мама ораторствовала, наливала, плакала.
То и дело велосипедный почтальон привозил мне дружеские послания: в первую очередь от Богала, потом от Варнавы, Тимолеона, Пелагии, Игнатии, Аркадии и от многих других. Авель Мак-Адам писал:
Мисс, присутствие Вашей руки ощущается до сих пор и поддерживается каждые четверть часа воспоминанием о приятных минутах, проведенных рядом с Вами. Счастливые мгновения, сказал бы я, если бы не опасался истощения. Прошу Вас, мисс, принять уважительные заверения в моих растроганных чувствах. А.
Мистер Томас, садовый сторож:
Мисс, в величии преступления раскрывается жалость. Мисс, отныне Вы можете бесстрашно приходить в наши публичные сады, если туда Вас будет затягивать меланхолия. Я лично вызываюсь охранять доступ, дабы Ваша маленькая душа (бессмертная) находила там оптимальное утешение. Прошу Вас, мисс, не сомневаться в моем искреннем почтении. Ваш преданный слуга. Томас.
Post Scriptum: Мой сын Джон не может понять, куда исчезла ваша сестра Мэри.
Да, кстати, надо бы ее предупредить; в Гэлине она вряд ли читает газеты. Еще я получила телеграмму от Мишеля Преля:
Откровенно ошарашен и приятно удивлен Джоэлом. Точка. Целую. Мишель.
Какой он все-таки любезный. А еще пришла загадочная записка:
Поделом. М.
Я довольно долго не могла понять, кто ее отправил, и в конце концов решила, что Мэйв.
Под конец меня достали все эти соседи и соседки, и я вышла. Села на трамвай, затем пересадка. Вышла на остановке Кинг-стрит и пошла пешком. Прошла мимо одной казармы, трех больниц, одного дома призрения и двух сумасшедших домов, после чего прибыла к Ричмондской тюрьме и попросила разрешить мне свидание с Джоэлом. Старший надзиратель принял меня с большим почтением, но распоряжение было категоричным: я получила безапелляционный отказ, а вместе с ним, через посредничество надзирателя, поцелуй от администрации. Посредник предложил еще и разделить с ним его ложе. Но поскольку, с одной стороны, из всех поцелуев меня интересовали лишь те, которые телеграфировал Мишель Прель, а с другой стороны, я не чувствовала себя чрезмерно усталой, то с помощью бокового удара по адамову яблоку я дала понять старшему надзирателю, что ничто из предложенного меня не прельщает. Он проводил меня к выходу, оказывая знаки глубочайшего и несколько болезненного уважения.
Я погуляла немного вдоль и поперек Грэйндж Горман-лейн. Тюрьма — дело невеселое. До этого я никогда не обращала на нее внимания, но теперь, когда там сидел Джоэл, уже один ее вид разрывал мне сердце. Наконец я пошла прочь и вернулась домой пешком, умяв по пути несколько пирожных. Еще я отправила телеграмму Мэйв.
Дома бедламило вовсю. Мама была совершенно пьяна. Ликвидировав все наши запасы, соседи уже потянулись к выходу. Но поскольку на помощь прибывали более щедрые знакомые со своими бутылками, все закончилось не раньше трех часов ночи.
23 апреля
Сегодня было чуть поспокойнее. В газетах по-прежнему пишут о Дублинском Вампире[*], но так как папа сразу же вырезает эти статьи для себя, приходится покупать по второму экземпляру для Мишеля Преля. Я вернулась в тюрьму: разрешения на посещение по-прежнему нет. Все-таки тюрьма — мрачное место, да и не могу же я все время лупить старшего надзирателя по адамову яблоку. Чтобы вытащить оттуда Джоэла, надо что-то придумать.
Мэри приехала, когда мы садились за стол ужинать. «Ну и ну, вот незадача», — сказала она и набросилась на селедку в имбире: аппетит в пути разыгрывается.
После селедки настал черед сала с капустой, головки сыра в десять фунтов (все, что осталось) и пирога с морской капустой, который мама сварганила на скорую руку, чтобы побаловать Мэри, и который был отвратительным.
— Мама, — сказала Мэри, — не буду тебе льстить, от замены мы явно не выиграли.
— Что касается пирога с морской капустой, — подхватил папа, — то должен признать, что Бесс знала в нем толк.
— Давайте лучше поговорим о бедной девочке. И о Джоэле. Вы верите в то, что он занимался такими эксцентричностями? Я — нет.
— Я — тоже, — сказала мама.
— Нужно найти ему хорошего адвоката, — сказала Мэри.
— Это будет дорого стоить, — сказал папа. — Ведение дела о вампирах стоит раза в два дороже, чем дело о сатирах или дезертирах, а это не шуточки. Найдутся ли у нас средства?
— Можно все-таки чем-то пожертвовать, — сказала Мэри.
— Тем более что он невиновен, — сказала мама.
— Я в этом не очень уверена, — сказала Мэри.
— А я уверена, — сказала мама.
— Как ты можешь быть в этом уверена? Может, ты и виновного знаешь?
— Конечно. Вот он.
И она посмотрела в сторону папы.
Мэри хлопнула себя по ляжке (жест, который она наверняка подцепила на своей работе).
— Забавная ситуация, — сказала она. — Я об этом думала. Вы разве не находите это забавным?
— Какая сообразительность, — сказала мама.
— А откуда ты знаешь, что это он?
— Он сам признался.
— Ну и ну...
Несколько секунд она молча рассматривала папу.
— Ну и ну, — повторила она, на этот раз обращаясь к нему. — Так чего же ты ждешь? Пошел бы и сдался.
— Почему ты хочешь, чтобы он сдался? — спросила ошеломленная мама.
— Потому что он — виновный.
— Не все виновные сдаются, — сказала мама. — Если бы все это делали, детективных романов не было бы вовсе.
— Чтобы освободили его сына, — пояснила Мэри. — Твоего.
— Думаешь, поможет? — спросила мама.
— Вне-фся-ка-ва-сам-не-ни-яяя! — гаркнула Мэри ей в ухо.
Мама посмотрела на супруга:
— Собрать тебе вещи?
— И ты туда же! И ты за это бессмысленное предложение! Но я ведь вам сказал, что не убивал ее.
— Как это? — спросила Мэри.
— Ну да. Она умерла от обморока. Умерла сама, сама по себе. Я ни при чем. Я только пил ее кровь. И то не так чтобы. Выпил-то совсем немного. И все. Я не преступник. Нет смысла рисковать своей шкурой. Я ни за что не смогу доказать, что не убивал ее. Не хочу, чтобы меня приговорили к смертной казни. Я только пил, чуть-чуть выпил, и все.
Рассказывая всю эту жалостливую дурь, папа делал невообразимо плачевный вид.
— Но ты же не позволишь, — сказала Мэри, — чтобы вместо тебя повесили Джоэла?
— Не позволишь? — повторила я.
— Это было бы нехорошо, — заметила мама.
— Но ведь я вам сказал, что не убивал ее!
— Тем более, — сказала Мэри.
— Тем более, — добавила я.
— Это было бы нехорошо, — заметила мама.
— Если ты сдашься сам, — сказала Мэри, — ты заслужишь снисхождение присяжных.
— Судья тебя похвалит, — добавила я.
— В округе к нам будут относиться лучше, — заметила мама.
— Твоя фотография появится на первой странице, — сказала Мэри.
— Мы будем вырезать статьи о тебе, пока ты будешь сидеть в тюрьме, — добавила я.
— Я об этом даже и не мечтала, — подхватила мама. — Сначала сын, потом муж, и их портреты в газете. Как нам повезло!
— Видишь? — спросила Мэри.
— Видишь? — спросила я.
— Я не знаю, — сказала мама, — собирать ли тебе теплые вещи на лето. Как ты думаешь?
Папа не ответил.
— А? — спросила мама.
Рука папы безвольно упала на стол.
— Как все печально, — сказал он. — Ну, как все печально. В кои веки удалось выпить пинту хорошей крови...
Он вздохнул:
— Ну, да ладно...
Он с трудом оторвал зад от стула. Медленно вышел из столовой. Было слышно, как он поднялся по лестнице, потом заходил наверху взад и вперед, прямо над нашими головами.
— Что он собирается делать в твоей комнате? — спросила Мэри.
— Не знаю, — невозмутимо ответила мама.
Он спустился минут через десять, даже раньше. Приоткрыл дверь, просунул голову и сказал:
— Я пошел за спичками.
Его шаги удалились по коридору. Входная дверь тихонько открылась, затем осторожно закрылась.
24 апреля
Джоэла сместили на третью страницу. В вечерних газетах еще не объявляли о его освобождении.
25 апреля
Ничего особенного.
Вряд ли папа пошел за спичками в сторону тюрьмы.
26 апреля
Ничего.
27 апреля
Ничего.
28 апреля
Ничего.
29 апреля
Мэри предложила донести на папу, у него было достаточно времени, чтобы смыться. Мы с мамой не согласились.
2 мая
Мы были правы. Невиновность Джоэла доказана. Виновным оказался высокий, сутулый мужчина сорока лет в розыске. К нам пришел инспектор и стал нас опрашивать. Ушел, не добившись никаких сведений, кроме тех (положительных), что касались бедняги Джоэла.
3 мая
Джоэла освободили сегодня утром. Миссис Килларни и Саломея ждали его у нас. Настоящий триумф. Мы обмывали его освобождение целый день без остановки. Набежали соседи и друзья с поздравлениями. Было выпито неисчислимое количество бутылок. В шесть часов Джоэл отправился к себе вместе с миссис Килларни и ребенком. Мэри уезжала в Гэлин, ее поезд уходил в семь часов. За ужином мы с мамой остались одни. Было невесело. Я вспомнила, что забыла показать Мэри письмо отца Томаса.
4 мая
Опять приходили инспекторы. Шарили повсюду.
5 мая
Наконец-то они попали в точку: папина фотография на первой странице. Он — Дублинский Вампир. Похоже, что он виновен во многих других подобных преступлениях, совершенных в разных местах земного шара. Мама ликует. Мы снова обмываем случившееся с соседями и друзьями.
Я пошла к Джоэлу, чтобы спросить, что он думает по этому поводу. Перед его лавочкой собралась толпа. Ему устроили овацию. Забравшись на лестницу, он прибивал над своей дверью табличку «Покупайте у Вампира». Когда он спустился, его встретили аплодисментами. Невозможно было к нему подступиться. Наконец он меня заметил и провел в свою берлогу. Миссис Килларни, срубившаяся после долгих праздников, спала в углу, равно как и невосприимчивая к шуму и по-стариковски сморщенная Саломея. Джоэл не без труда вытурил всех за дверь, каковую тут же запер. Бутылки из-под уиски, полные и пустые, устилали пол. Уверенной рукой Джоэл подобрал одну из них, полную, и подвинул ко мне ящик, чтобы я могла сесть.
— Сногсшибательно, — сказал он, наполняя мой стакан. — Неограниченный кредит у всех торговцев квартала. Непрерывные заказы. Я уже готовлю новые модели: в частности, квадратную пуговицу с внутренней пружиной из брюшной щетины. Если бы я не осуждал эксплуатацию пролетариата и интенсивность труда, пришлось бы нанимать рабочих. Ну, в общем, грех жаловаться.
— Ты удивился, когда узнал, что это был папа?
— Нисколько. Кстати, о тюрьме, даже думать о ней не могу. Ужас. Там даже выпить нечего. Думал, свихнусь.
— Думаешь, его арестуют?
— Папу? Конечно, нет. Он свое дело знает. Жаль, что я так плохо знал его раньше.
— В любом случае, мы его больше не увидим.
— Не стоит из-за этого убиваться. Еще стаканчик?
— Пожалуй. Если, судя по его словам, он действительно ее не убивал...
— Шшшш. Не распространяй подобных слухов, мало ли что.
— Я просто так сказала.
— Впрочем, я подозревал, что этот тюфяк не способен на убийство.
— Ты расстроился, когда узнал, что она умерла?
— А почему я должен расстраиваться? Из-за того, что произошло в твой день рождения? Это было так, смеха ради. Вообще-то, да, я расстроился. Теперь, когда ты об этом сказала, а я подумал.
— Не думай слишком много.
— За это не переживай. Слышь, а у меня для тебя новость, но как-то неловко о ней говорить. Может, это покажется тебе смешным.
— Давай.
— Ну так вот, из «Дублинской воскресной» попросили у меня, значит, что-нибудь написанное мной, чтобы опубликовать. И я дал им одно стихотворение.
— Я не знала, что ты пишешь стихи.
— Да. А у тебя самой нет никакой идейки, по части литературы?
— Я хотела бы написать роман.
— О чем?
— Не знаю.
— Ты уверена, что это будет роман?
— Это — точно. И еще: я напишу его на ирландском.
— Ну, тогда я не смогу его прочесть.
— У меня уже есть название.
Оно только что пришло мне в голову.
— Какое?
— «С мужчинами по-хорошему нельзя».
— Что-то длинновато.
— Меня поразила одна фраза, которую ты произнес в тот самый вечер, когда вернулся папа, когда миссис Килларни принесла Саломею, но слушать ее никто не хотел.
— Хреновый получился вечер. Нам всем досталось.
— Ты сказал тогда: «С женщинами так всегда, с ними по-хорошему нельзя».
— Я так сказал?
— Да. Но я ее изменила и поставила «с мужчинами».
— И о чем ты там напишешь?
— Не знаю.
— Смешное название, но если ты напишешь «с женщинами», будет оригинальнее.
— Ты думаешь?
— Конечно.
В дверь застучали кулаками и ногами.
— Пойду их усмирю, — сказал Джоэл. — Я теперь так знаменит, что они готовы все снести.
Я оставила его на восторженных почитателей.
Я шла медленным, задумчивым шагом. Перспектива остаться с мамой лицом к лицу меня не радовала. Мне не очень хотелось возвращаться домой. На углу О’Коннелл-стрит я встретила Варнаву. Он явно не знал, следовало ли ему со мной заговорить. В итоге решился.
— Вы стали видной личностью, Салли, — робко произнес он.
— Да нет же, нет.
— Да, да. Уверяю вас. В вашу честь Мак-Адамы устраивают целый праздник.
— Я об этом ничего не знаю.
— Это будет сюрпризом. Они вас пригласят. Беатиция и Ева.
— Вы, конечно же, придете?
— Не думаю. К этому времени я наверняка уже уеду.
— Вы уезжаете?
— Да. Я перебираюсь в Корк.
— А уроки?
— Придется бросить.
— Что произошло?
— Мой отец умер.
— Искренне сочувствую, — с теплотой в голосе сказала я.
— Большое спасибо. Он умер на следующий день после того, как арестовали вашего брата. Я должен остаться в Корке, чтобы помогать матери в магазине.
— Чем будете торговать? — вежливо спросила я.
— Скобяными товарами.
Я чуть не рассмеялась ему в лицо. Хотя ничего веселого в торговле скобяными товарами нет. Он выглядел таким расстроенным, что я постаралась сдержаться. Но он все-таки заметил:
— Вижу, вам хочется надо мной посмеяться.
— Вовсе нет, уверяю вас.
— А вы знаете, что это очень интересная работа?
— Не сомневаюсь.
Меня начинало трясти от смеха.
— Извините меня, — давилась я, — ужасно глупо, но это все нервы.
— Понимаю. Эмоциональное потрясение, которое вы пережили!
Это было уже слишком. Тут я не выдержала. И расхохоталась так, что замочила трусики.
— Прошу вас, прошу вас, — твердил Варнава.
Я наконец успокоилась. Ничего, в общем-то, смешного.
— Время от времени я буду приезжать в Дублин, — сказал Варнава. — Надеюсь, мы увидимся.
— А как же.
— Вы будете обо мне вспоминать?
— Конечно.
— Я вас не забуду, Салли. Никогда.
Он взял мою правую руку и поднес ее к сердцу (с левой стороны); поприжимал ее несколько секунд, встав на цыпочки и вознеся взор к небу. Потом бесцеремонно отпустил мою руку, отступил на несколько шагов, держа свою по-прежнему простертой, согнул ее, чтобы прикрыть ладонью глаза, резко развернулся и исчез в толпе.
7 мая
Впервые после всех этих историй я вновь пришла к Богалу. Мы сообща оплакали отъезд Варнавы Паджа, блестящего гэлиста. Миссис Богал оставила нас наедине на протяжении всего урока, но ничего не произошло.
Приятно чувствовать, как тебя уважают. И Мэйв смотрела на меня с благоговением. Она даже не осмелилась сказать: «Здравствуйте, мисс».
8 мая
И действительно, меня пригласили на вечеринку к Мак-Адамам. Беатиция написала столь любезную-прелюбезную записку, а Ева приписала такой милый-премилый постскриптум. Я была просто сама не своя. Понятно, что, если бы я не была дочерью Вампира, меня бы не пригласили. Доказательство: они никогда раньше это не делали, эти две стервы. И все-таки приятно. Но я так боюсь, так переживаю. С ума сойти можно. Все равно, какое событие! И очень кстати: в последнее время я стала находить существование немного плоским.
10 мая
Точно. Стихотворение Джоэла опубликовано в «Дублинской воскресной». Это фантастическая эпопея: «Битва Спаржи с Мидиями»[*], немного в духе «Батрахомиомахии» Гомера[*], «Путешествий Гулливера» Льюиса Кэрролла[*] и «Аль Маньяка» Вермота[*].
Мама его прочла и сказала, что совершенно непонятно, где здесь начало, а где конец. По-моему, она не вникла в поэтический символизм; в данном случае, как мне кажется, он носит кулинарный характер и раскрывает свойства растительного и животного царства с точки зрения высасывания, но все эти психологические понятия абсолютно недоступны старой тыкве с усохшей подкоркой. Все равно она рада. Чтобы отметить событие, она сварганила пирог с морской капустой и попросила отнести его Джоэлу.
Я захерачила его (пирог) в первый попавшийся люк — из боязни, что Джоэл заболеет дизентерией, и купила другой, на Йорк-стрит, у модного откормщика Джека Фаса.
Я застала Джоэла за сиестой. За последние дни дождь смыл надпись на табличке его лавочки. Ни одного восторгающегося соседа. Я тихонько растолкала брата и вручила ему пирог, который он тут же хотел выкинуть в окно, не объяви я вовремя источник поступления. А еще я принесла адресованное ему письмо, которое он принялся вскрывать с глупой и тщательной осторожностью.
Выглядел он слегка чокнутым.
— Классное стихотворение, — сказала я. — Мы тобой гордимся.
— Ты никогда не угадаешь, сколько пуговиц я изготовил с тех пор, как взялся за это ремесло.
— Правда, мама почти ничего не поняла.
— Семь дюжин, в том числе двадцать три без дырок и две квадратные.
— Ты собираешься публиковать другие?
— Теперь я задумал делать рукоятки для ножей. У пуговиц нет будущего. Из-за «молнии».
— А новостей от Вампира у тебя нет?
— Нет. Кстати, какой-то Авель Мак-Адам приглашает меня на вечеринку. Что еще за хрен?
— Ну, знаешь, сын философа-примитивиста. Я тоже пойду.
— Ты идешь туда танцевать?
— Я научилась.
— Этот тип, он что, от меня в восторге?
Джоэл протянул мне письмо.
Сын Мак-Адам в самом деле находил стихотворение «умопомрачительным», «сногсшибательным» и «в самую точку»; особенно его пробрала «анакомическая[*] и сатирическая формулировка распада субстанции, который претерпевает самосознание в результате трения материи».
— От таких выражений можно просто охереть, — сказала я.
— Ты его знаешь?
— Мы с ним чуть-чуть занимались физиологией.
— Умора.
— Не то, что ты думаешь.
— Ну, мне-то по фигу. Можешь делать со своей пипиркой все, что захочешь. Пирог будем есть?
— А миссис Килларни?
— Гуляет с девчонкой. Мы оставим ей кусочек. Подожди, где-то еще оставалось немного уиски. Ну так что: идти мне туда?
— Не знаю.
— Так будет веселее.
— Не знаю.
— Может, там будет Тим.
— Не знаю.
— А твой Варнава?
— Нет. Теперь он живет в Корке.
— Тоскуешь?
— Нет.
— А что он там делает, в Корке?
— Торгует скобяными изделиями.
— Да ну? Скобяные изделия — это неплохо. Очень даже неплохо. А что, если и мне за это взяться? Я делал бы гвозди из зубов ската, засовы из утиного грудного гребня и насадки из мозговой кости.
Он осушил стакан.
— Что ты об этом думаешь?
— Ты опубликуешь другие стихотворения?
— Отличная идея насчет скобяных изделий. Надо срочно откупорить бутылку. Люблю обмывать свои идеи.
— Ты бы отправил свое стихотворение Мэри.
— Еще одна идея. Еще одна бутылка. Я ведь и чужие идеи люблю обмывать. Если у приглашенных к Мак-Адаму с мозгами не совсем кисло, надо будет привезти побольше бутылок.
— Если бы ты жил один с мамой, ты бы так часто не пил.
— Это правда. Тебя уже, наверное, заколебало сносить ее в одиночку. Бррр. Не разгуляешься. Хотя с миссис Килларни оттянуться удается тоже не часто. Но я выкручиваюсь.
Внезапно он напоролся взглядом на мои ноги.
— Знаешь, что? Если ты пойдешь на эту вечеринку, тебе надо надеть другие чулки.
— Это моя лучшая пара.
— Одна стыдоба. Купи себе другие. Классные. Шелковые. Очень тонкие. Легкая облачность. И чтобы сзади стрелка была совершенно прямая, строго перпендикулярная линии горизонта. Покажись-ка. Ты только посмотри на этот зигзаг. Омерзительно. Готов поспорить, что ты еще и заворачиваешь чулки под юбкой. Да? Совсем скверно! Доставь мне удовольствие: к этому дню купи себе еще и корсет. Кстати, ты получила другие журналы мод из Парижа? Да? Тогда одолжи мне. Приятно быть в курсе. А как там Прель?
— Он на днях сюда приедет.
— Вот это мне нравится. Надеюсь, он пронесет через таможню несколько бутылочек рикара.
— Да. А мы можем приехать к Мак-Адаму вместе?
— Если хочешь. А что? Робеешь?
— Конечно.
— Ты там еще ни разу не была?
— Нет.
— Пригласили-то нас из-за папы.
— И из-за твоего стихотворения.
— Это тоже из-за папы.
— В таком случае еще из-за Бесс.
— Знаешь, после того, что ты мне тогда сказала, я пошел к ней на могилу и положил цветы.
Я была ошарашена не меньше, чем когда узнала, что Мэри с удовольствием воспринимает отцовскую порку. Человечество — забавное все-таки явление.
11 мая
Пересчитав все свои сбережения и перечитав все свои парижские журналы, я отправилась глазеть на витрины в центре города. Я еще никогда не осмеливалась там что-либо покупать. Самое страшное — это то, что в некоторых магазинах вас обслуживают продавцы-мужчины. Но в чем заключается их обслуживание? Я предпочла вообще туда не заходить. А потом, корсет — это для меня слишком дорого. И надо ли вообще его надевать? «Ваша красота» заявляет: «Мыслимо ли не уделять максимум внимания тщательности выбора корсета, который должен целый день облегать ваше тело?» Красиво звучит «облегать». Правда, в одном номере они пишут: «Каждая женщина должна носить корсет», а в другом: «Остается лишь мечтать о том, чтобы женщины могли обходиться без него». Кажется, я достаточно мускулиста, чтобы обходиться без него. Куплю-ка лучше туфли на высоком каблуке.
14 мая
В конце концов я купила себе очень тонкие шелковые чулки дымчатого цвета, черный пояс, красные шелковые трусики из джерси[*] и изящные туфельки из черносмородинового шевро (с накладкой из кожи ящерицы) на пятисантиметровых с четвертью каблуках а-ля Людовик XV. Что касается лифчика, то, учитывая стойкость моей груди, это была бы совершенно бесполезная трата. На вечеринку я надену платье из разлинованного в клетку фисташково-ванильного фая с пышными короткими рукавами.
15 мая
Я разделась, чтобы одеться. Начала с чулок: было так приятно на ощупь, что я долго гладила себе ноги. Затем надела пояс, внимательно следя за тем, чтобы шов сзади шел прямо. Посмотрела на себя в зеркало и нашла себя очень элегантной и на удивление стройной. Я так себе понравилась, что с радостью пошла бы прямо так, но идти на свою первую вечеринку в таком виде было бы несколько рискованно. Платье сидело хорошо, туфли почти не жали. Я чуть не забыла красные шелковые трусики из джерси; надела их в последнюю очередь.
Спустилась вниз. Мама воскликнула:
— Какая ты красивая! Как жаль, что тебя не видит отец, он был бы сейчас так горд за тебя.
Я отправила ее ловить такси, хотя это было опрометчивым решением: она могла запросто забыть, зачем вообще вышла. Однако она вернулась через четверть часа, я успела на всякий случай кое-куда сходить. В такси я дала шоферу адрес Джоэла, и он мгновенно завязал со мной разговор:
— А вы никак знакомы с сыном Вампира?
Я ответила, что это мой брат, и он так этим заинтересовался, что за разговором мы чуть не уехали в другую сторону.
Когда мы приехали в тупик, я попросила его подождать и вошла в заведение Джоэла. Когда входят в лавку, обычно не стучат. Я вошла, наверное, очень тихо и заметила в углу, при свете коптящей керосиновой лампы, среди мелких костей — сырья для кустарного производства брата — что же я заметила? — ритмично задыхающуюся телесную магму. Так как я уже начала понемногу трезветь, то сразу поняла, что речь идет о двух человеческих существах, которые предпринимают попытку воспроизвести третье. Повнимательнее рассмотрев феномен, я отметила, что их позы не соответствовали общепринятым, по крайней мере тем, которые я себе представляла исходя из данных, почерпнутых в результате наблюдения за животным царством. А значит, на моих глазах разворачивалось одно из тех разнообразий, на которое как-то намекнула Мэри и которое заключалось в перевернутости представительницы женского пола, каковая находилась как бы в некой супинации[*]. В данном случае вышеупомянутая представительница, используя голос миссис Килларни, сопровождала процесс довольно бессвязным речевым комментарием, из которого вытекало то, что она сейчас кончит существование земное, чтобы перейти к загробному. Однако второй персонаж, перемежая проклятия и призывы «о my God», отвечал, что он получает огромное удовольствие, но ни голосом, ни манерами он не был похож на моего брата. Итак, я присутствовала при адюльтере, и даже хуже того, поскольку Джоэл и миссис Килларни не были женаты.
Сообразив, что оказалась здесь лишней, я на цыпочках вышла. В тупике я выбрала темный угол, чтобы дать выход своим эмоциям. Но я совершенно позабыла о шофере, который в это время прогуливался по окрестностям тупика, покуривая сигарету. Искренне заинтересовавшись, он приблизился ко мне и, сопровождая слова жестом, предложил: «Пожурчим и чокнемся?» Это была старая добрая шутка, позаимствованная — по словам Мишеля Преля, по крайней мере — из изысканного нормандского юмора через солдатню генерала Эмбера[*] во время неудачной высадки французов в 1798 году[*].
Я была слегка раздосадована помехой, но не могла помешать себе закончить то, что начала. Вместе с тем я была тронута дружеским порывом этого славного мужчины и боялась его обидеть, не ответив ему какой-нибудь вежливой сентенцией. Я осознавала всю щекотливость ситуации. К счастью, дверь лавочки открылась, какой-то мужчина массивных размеров — возможно, мясник — вышел и удалился, так нас и не заметив. Миссис Килларни высунула голову и выкрикнула:
— Кто там еще?
— Я, — ответила я. — Салли. Я приехала за Джоэлом.
— Что-нибудь серьезное? Что это за господин?
— Шофер такси. Мы с Джоэлом приглашены на вечеринку к Мак-Адамам.
— Так что же вы! Входите, мисс Мара. По-моему, Джоэл еще не готов. Он, наверное, спит.
Через час я уже заталкивала Джоэла в машину, миссис Килларни помогала мне. Я спросила, поедет ли она с нами.
— Нет, спасибо. Это для молодых.
Она захлопнула дверцу, и я дала шоферу адрес Мак-Адамов. По дороге я попросила его остановиться перед домом тети Патриции, чтобы еще раз воспользоваться ее удобствами, так как чувствовала себя все более и более взволнованной. Когда я от нее вышла, Джоэла с шофером в машине не было. Я с трудом вытащила их из ближайшего паба, успев при этом пропустить для храбрости три стаканчика уиски. Мы прибыли в пункт назначения на два часа позже назначенного времени. Мои последние фиорлайны ушли на оплату такси.
Нас встретили бурной овацией, Джоэл, не долго думая, шмыгнул в сторону бутылок, а мои подруги — только сейчас я заметила, что их, оказывается, немало — налетели на меня с вопросами, комплиментами и объятиями. Я весьма оробела, несмотря на изрядное количество уиски, и обнаружила, что была единственной девушкой, которая не пользуется пудрой и помадой. Даже Игнатия покрасила ногти. Когда вызванный нашим приездом энтузиазм поутих, кто-то завел патефон и несколько пар принялись танцевать. Это была мазурка, а я как раз ее и учила: глиссе, купе-дессю, фуэте, глиссе, купе-дессю, жете, шесть тактов, восемь движений[*]. С трепещущим сердцем, сжавшимся зевом и сухим языком, я себя спрашивала, пригласят ли меня. Меня пригласили, но не сразу, и это был парень, которого я никогда раньше не видела.
Когда он обнял меня за талию, а его рука углубилась в изгиб моей спины, я так разволновалась, что чуть не потеряла сознание. Мой позвоночник пронизывали молнии, в глазах маячило и рябило, а интимности обожгло огненным шаром: я дебютировала галопом и сдуру выдала несколько па из кадрили лансье. Мы оступились, мой кавалер (о!) сжал меня крепче, чтобы удержать от падения, глубины моего существа увлажнились, и, откинув голову назад, я закатила полуобморочные глаза кверху, в то время как мои ноги, запутавшиеся в тщетных поисках дцатого движения внутри надцатого такта, натыкались лишь на отдавленные пальцы моего кавалера (о!).
— Вы не в форме? — любезно спросил он.
— Аааа! — ответила я.
— Не желаете ли выпить дринк и немного передохнуть?
— Отличная мысль, — ответила я.
Он разжал объятия и, взяв меня под руку (как невесту, о!), подвел к буфету. Авель суетился за стойкой, я выбрала уиски, мой кавалер (о!) — тоже. Отхлебнув изрядную толику, он спросил:
— Вы действительно дочь Вампира?
— Получается, что да.
— Меня зовут Стив.
— Меня — Салли.
— Я никогда вас здесь не видел.
— Наверняка.
— Bhuil tû ag foghluim na Gaedhilge?
— Táim le tamall.
— С Падриком Богалом?
— Получается, что да.
— Я — тоже. Он возьмет меня учеником вместо Варнавы Паджа. Вы его знаете?
— Знаю ли я его? Скобянщика?
— Профессия еще та, — заметил Стив.
— А вы сами чем занимаетесь?
— Вампирологией. Я бы хотел, чтобы вы мне рассказали о вашем папе; меня привлекают небывалые и неизвестные подробности, а ваш папа сделал отменную карьеру в области, которую я выбрал поприщем для применения своей эрудиции.
— Пошел ты на хер, — ответила ему я.
— Простите?
— Я вам сказала пойти на хер.
— Мисс!
Он грациозно поклонился и удалился. Я осталась одна. Авель, наливая по кругу, предложил наполнить и мой стакан, с чем я сразу же согласилась. Я заметила, что он держался от меня на почтительном расстоянии.
Осмелев от тепла, растекающегося в груди (вероятно, из-за очередного прилива уиски), я спросила:
— Вы боитесь меня?
Он застыл с бутылкой в руке и что-то пробормотал. Я подошла к нему ближе и, указывая пальцем на вышеназванного Стива, спросила:
— Что это за грязный тип?
— Приятель Патриции. Студент-вампиролог.
— Поэтому я его и интересую?
— Я... э-э... не знаю.
Я подумала, что пришло время флиртовать. С кем — мне было совершенно все равно, почему бы и не с этим Авелем, которого я почти не знала. Я попыталась припомнить — что именно? когда я встречалась с ним в последний раз? где точно, если мне не изменяет память, мы сидели рядом? — но так и не смогла.
Поэтому спросила в лоб:
— А вас я не интересую?
— Ну да... да, да... очень.
— Интересными могут быть не только папы. Вы не находите?
— Да, да... конечно.
Тем временем завели новую пластинку, бостон. Я обожаю бостон. Думаю, что люблю его не меньше, чем селедку в имбире, а мысль о возможности танцевать его с молодым человеком приятной наружности озарила мне спинной мозг до такой степени, что я уже не могла сдерживать флиртующие речи, хотя и понимала, что выхожу за рамки дозволенности.
— Станцуем? — предложила я Авелю.
Он стал оглядываться по сторонам, как утопающий в проруби, но, так и не дождавшись помощи, поставил бутылку на стол, подхватил меня и увлек в танец. Я сразу же поняла, что он стесняется. И действительно, он часто наступал мне на ноги. Чтобы его чуть-чуть успокоить, я крепко прижалась к нему и тут вспомнила, при каких обстоятельствах встретилась с ним в первый раз: конечно же! — на последнем чаепитии миссис Богал.
— Вы меня помните? — прошептала я ему в шею.
— Эээ... да... только не здесь, — прошептал он очень взволнованным голосом.
Не здесь что? На что он намекал? Я попросила бы у него объяснений, если бы танец не был прерван инцидентом, который меня удивил тем, что он произошел только сейчас. Бостон доиграл до своего пятьдесят второго такта (я не забывала их считать, даже флиртуя) и оборвался, поскольку Джоэл с диким криком бросился к бостоновоспроизводящему аппарату и стал пожирать пластинку, на котором он (бостон) был выгравирован. Несколько мужественных индивидуумов бросились на помощь к жертве, но было уже поздно. После второй изжеванной порции винила мой брат рухнул на пол, окончательно разрушив всякую надежду на спасение бостона, низведенного до кучи осколков. Неподвижно полежав некоторое время, Джоэл вскочил и запрыгал, издавая предсмертные крики. Мы окружили поэта, но его вдохновение, похоже, затрагивало лишь окружающую меблировку. Каин Мак-Адам, будучи верным сыном своего отца и опасаясь за мебель, ошеломил моего братца ударом бутылки по голове и вежливо попросил меня увести его at home. Что я и сделала.
Я была расстроена, что мой первый бал закончился так быстро, и выразила Беатриции непритворное сожаление по этому поводу. Она пообещала пригласить меня еще. Пелагия — тоже.
18 мая
Проспав сорок восемь часов кряду, Джоэл уехал к себе. Его отъезд меня огорчил. Хотя его присутствие выражалось лишь в выдыхательном храпе, который извергался одновременно из ноздрей и рта (проходя между зубами), оно позволяло мне выносить присутствие бедной мамы. И вот я снова с ней наедине.
20 мая
Получила письмо от Варнавы. Как говорят французы, «цыпочку». Другими словами, признание в любви. Я прочла его бедной маме, чтобы немного ее развлечь. Мы вволю посмеялись. Не могу все-таки отрицать, что это доставляет мне определенное удовольствие.
22 мая
Еще одно письмо от Варнавы. Такое пылкое, что можно было пальцы обжечь. Это привнесло в наш грустный очаг толику веселья.
27 мая
Никак этого не ожидала: Пелагия пригласила меня на вечеринку. Не знаю, приглашен ли Джоэл. Мама дала мне несколько файрлингов, чтобы я купила себе пудру и помаду. Я отыскала флакон духов, который с Атаназом передал Мишель Прель. Надушусь перед самой вечеринкой.
29 мая
Съездила проведать Джоэла. Дождь шел всю ночь, весь день до нее и весь день после. Тупик залило: настоящая прорва. Приходилось прыгать через лужи и балансировать, чтобы не съехать в соседнюю грязь. Лачуга братца в глубине тупика, казалось, совершенно обесцветилась. На ветру тупо постукивал сломанный ставень. Я толкнула дверь и вошла, хотя оттуда здорово воняло — насыщенно, интенсивно и осознанно. Инкрустации вони сталактизировались с потолка и сталагмитировались из пола. В полумраке — тишина. Я обнаружила нежно похрапывающую Саломею. Похоже, она была одна посреди костных останков, предназначенных для изготовления пуговиц. Я обошла лавку, спальню, кухню, сортир. Никого. Лишь совершенно серая Саломея в своих лишаях дрыхла где оставили.
Я вышла и какое-то время постояла на пороге.
Дождь вновь заструячил по лужам и грязи. Можно было бы чисто по-человечески, а следовательно, и по-ирландски забрать соплячку и аккредитовать ее к бабушке для того, чтобы они обе имели веский повод прожить чуть дольше. Но пришлось подумать и о другом: это могло быть воспринято как похищение ребенка. Я попыталась оценить степень своей зрелости в области материнства. Оценивая себя в последнее время, я начала сомневаться в том, что скончаюсь девственницей и сыграю в ящик неоткозляченной как минимум одним самцом. А следовательно, я могла предвидеть осеменение того, что в газетах называют маткой, и, в финальном заключении, производство беби, которого мне придется кормить молочным продуктом и подтирать в месте, называемом в спортивных газетах анусом, в ожидании того момента, когда, став взрослым, отродье будет подтираться само, грызть бифштекс и жертвовать часть своего заработка на содержание старой дуры, в которую я к тому времени превращусь.
Все это казалось довольно абстрактным. Мужская рука, трогающая меня за ягодицы: это определенно волновало. Но то, что постепенно и поступательно я должна буду ощущать внутри себя другое волнение потому, что через несколько волнительных месяцев это волнение выплеснет пополнение (другое я), казалось мне очень зыбким и неопределенным в сей час, покуда тысячи водяных капель тонули в заболоченном тупике.
Думаю, я в конце концов забрала бы девчонку, но в этот момент от лужи к луже стала прибывать волна, гонимая шатающимся приближением эдакого мокрого тряпичного кома. Миссис Килларни возвращалась at home здорово нагрузившаяся. Ей понадобилось добрых четверть часа, чтобы добраться до моих ног, и уже на последнем этапе она шумно плюхнулась в лужу, отчего та превратилась в настоящее озеро.
Я не стала ей помогать. Ей удалось подняться самой. Она узнала меня незамедлительно.
— Входите, мисс Мара, — пригласила она. — Есть новости, есть новости.
Она двинулась вперед, сделала полупируэт и рухнула на псевдомебель, претендующую на звание сиденья, раздавив при этом под собой несколько воробьиных скелетиков.
— Уиски, мисс Мара? — предложила она. — Уиски?
Я никогда не отказываюсь.
— Садитесь же, мисс Мара, садитесь. Есть новости, есть новости.
Я устроилась на не самом липком ящике и принялась цедить свой уиски, чтобы как-то перебить густоту окружающего запаха. Миссис Килларни цедила тоже.
— Так вот, — сказала она, — новость так новость, сейчас я вам ее расскажу, эту новость. Ваш брат Джоэл ушел.
— За спичками? — спросила я.
— Нет. Уехал вербоваться во французский Иностранный легион.
— Неужели?
— Он мне поклялся, что так и сделает.
— Но, миссис Килларни, с чего это вдруг он решил вербоваться во французский Иностранный легион?
— С любовного отчаяния, мисс Мара.
— К кому?
— Ко мне, конечно же, мисс Мара. Он вообразил, что я ему изменяю, мисс Мара. Вы меня понимаете?
— Ыгы.
— Я вам все расскажу, хотя о таких вещах при девушках не говорят, так вот, он обвиняет в этом меня. Разве не обидно слышать подобное о такой порядочной женщине, как я? Нужно быть отъявленным негодяем. Да еще и бросить с ребенком на шее посреди этих омерзительных заготовок. Что со мной будет, мисс Мара, что со мной будет?
Старая кляча продолжала ныть. Я сказала себе: «Нужно быть отъявленным мудаком. Нет, но каков Джоэл. Нет, но каков».
Нет, но каков.
Завопила Саломея.
Я решила, что они составят моей бедной глупой мамочке компанию, и повела их домой. К тому же миссис Килларни сможет готовить. Как раньше.
1 июня
Какое удовольствие надевать чулки, намалевываться и повсеместно обхерачиваться духами! Трепеща, я отправилась к Пелагии. Танцевала танго, матчиш[*] и прочие модные штуки. Мы прилично выпили и отлично повеселились. Мне немного пощупали зад, а я проэталонировала нескольких молодых людей. Было очень мило. Все закончилось всеобщим кекуоком. Тимолеон подвез меня до дома на мотоцикле. Нас трясло, это было забавно.
Я довольна.
4 июня
Опять письмо от Варнавы. Я прочла его маме и миссис Килларни после ужина, чтобы немного их повеселить. Ужин оказался несколько усеченным, и я надулась: два дополнительных рта — это еще не повод, чтобы отменять селедку в имбире (я ее обожаю), совсем недавно нас вообще было пятеро. Мама ничего не сказала, но обстановка охладилась. Вот тогда, чтобы их развлечь, я и прочла письмо Варнавы. Начало было интересным, он рассказывал о своей новой работе, о торговле скобяными товарами, которые распределяются по четырем отделам: крупные, строительные, морские и хозяйственные, причем в последние попадают также охота и рыболовство. Еще в письме шла речь о бесконечном разнообразии гвоздей, виды которых Варнава перечислял по-ирландски: tardhleóir, oirdhearcas, shoilise и т. д., слова, значения которых я не знаю, поскольку еще не приступила к изучению с Падриком Богалом технических терминов.
Мы погрузились в серию предположений относительно возможных значений всех этих слов, но наши познания не шли дальше nail и tack, а во французском я не находила ничего, кроме гвоздя.
— Ах! Если бы г-н Прель был здесь, — вздохнула я, — он дал бы нам эквивалент всего этого, да к тому же на тридцати шести языках, включая лазский и ингушский.
— Очень милый молодой человек этот г-н Прель, — сказала мама.
— И такой вежливый, — добавила миссис Килларни. — Он ни разу не предложил мне заняться копуляцией.
— Единственный из нас всех, кто оказал на Джоэла положительное влияние, — сказала мама.
— Миссис Мара, это намек на то, что я оказывала отрицательное? — спросила миссис Килларни.
— Не очень положительное, — ответила мама, — не очень.
— Как это? Но я же сделала вас бабушкой!
— Покорно благодарю вас за это.
— Не будете же вы утверждать, что он завербовался во французский Иностранный легион из-за меня?
— Да. Вы ему изменяли, — сказала я.
— Не смей непристойничать! — сказала мне мама.
— Я ему не изменяла!
— А в тот день, когда я заехала за ним, чтобы вместе отправиться на вечеринку?
Миссис Килларни задумалась:
— Ах да, живодер.
— Вот видите, — сказала мама.
— Ну и что?
— Все может измениться, вот доказательство.
— Единичный случай. Но не повод, чтобы критиковать мое влияние.
— Это было в первый раз? — спросила я.
— Что?
— С живодером?
— О! — охнула миссис Килларни. — Я вас не узнаю, мисс Мара. Задавать такие грубые вопросы...
— Да, вынуждена признать, — согласилась мама, — ты переходишь рамки приличия.
— Мисс Мара, я ужасно шокирована.
— Салли, я просто не могу прийти в себя!
— Как вам не стыдно, мисс Мара, произносить похотливые речи в адрес порядочной женщины.
— Салли, твоя мать от стыда готова провалиться сквозь землю.
— Я еще никогда не слышала столь непристойных деклараций.
— Я и не знала, что моя дочь — порнографистка!
— Ах! Миссис Мара, до чего же развратна нынешняя молодежь!
— Да, — изрекла мама. — Она думает только об этом.
— О чем именно? — спросила я.
— О живодерне, — ответила мама.
Миссис Килларни повернулась в мою сторону, закатив глаза к небу.
— Нужно ее простить, — вздохнула она.
— Я ее прощаю, — торопливо заверила ее мама.
— Невелика сообразительность! — заметила я.
— Салли, теперь ты начинаешь говорить дерзости. Я нахожу, что миссис Килларни очень умна для своего социального положения.
— Дура и шлюха, — высказалась я.
— Чего только не приходится слышать, — простонала миссис Килларни, наливая себе приличную дозу уиски. — За всем этим мы так и не продвинулись по части гвоздей.
— Ничего не поделаешь, — произнесла мама.
— Ах! — вздохнула я. — Если бы господин Прель был здесь.
В дверь позвонили.
Я пошла посмотреть, и кто же оказался за дверью?
Мишель!
— Я в Дублине проездом. Сегодня вечером уезжаю в Корк.
Я была так взволнована, что даже язык не ворочался.
— Как ты похорошела, — сказал он, похлопывая меня по ягодицам. — Вполне оформилась. Настоящая красотка.
— Кто там? — крикнула мама.
— Господин Прель! — выкрикнула я.
— Про волка речь, а волк навстречь, — прокричала миссис Килларни.
— Входите, — закричала мама.
— Я ненадолго, — сказал Мишель. — Боюсь опоздать на поезд.
— Выпьете стаканчик уиски? — подсказала я.
— Конечно, моя девочка.
Он выпил их несколько. Мама была ему очень рада, а миссис Килларни его очень уважала. А у меня изо всех сил билось сердце.
— Итак, мамаша Мара, — сказал Мишель, — ваш супруг наломал дров.
— И не говорите. Но все же он не настолько глуп, чтобы попасться.
— Новостей от него нет?
— Он никогда не любил писать.
— А Мэри? Джоэл?
— Мэри — почтовая служащая в Гэлине.
— Тоже ничего.
— Джоэл завербовался в ваш Иностранный легион.
— Это было необходимо?
— Так ему вздумалось.
— Как раз в тот момент, когда началось его поэтическое становление, — добавила я.
— А этот пупс?
— Моя внучка.
— Так ты позволила себя надуть? — изумленно спросил у меня Мишель.
— Еще чего! — ответила я.
— Это мой ребенок, — заявила миссис Килларни.
— Ну и ну!
— И Джоэла, — добавила мама.
— Ну и ну!
Мишель снова повернулся в мою сторону:
— Ты мне об этом не рассказывала. Впрочем, ты писала не слишком часто.
— Вы — тоже, господин Прель.
— Это правда.
Он вздохнул:
— Я должен идти.
Мама и миссис Килларни запротестовали, но он был настроен очень решительно.
— Мне нельзя опаздывать на поезд.
— Могу я проводить вас до вокзала? — спросила я с дрожью в голосе.
— Конечно, это очень любезно.
Трамвай шел прямо до Кингс-бридж. Кольцо. Мы сели рядом. Мишель спокойно положил руку на мое бедро.
— Смотри-ка, — удивился он. — Ты уже носишь пояс?
— Иногда, — ответила я, зардевшись.
— И красишься?
— Даа, — прошептала я.
— Как у нас все изменилось.
— С тех пор, как я начала ходить на вечеринки. Меня стали приглашать, потому что я дочь Вампира. Научилась танцевать.
— Настоящая метаморфоза. Тебе это идет.
При этом он нежно меня поглаживал. У меня, конечно, все переворачивалось внутри, и я ничего уже не соображала.
— Как жаль, что вы уехали, господин Прель, — лепетала я. — Мне было очень жаль, что вы уехали.
— Мне тоже, моя девочка. А как у нас с гэльским, получается?
Он оставил бедро в покое и обнял за талию. Его рука скользнула у меня под мышкой и легла на левую грудь.
— Ты делаешь успехи?
— Дааа, господин Прель.
— Не сомневаюсь. Ты была хорошей ученицей по французскому. У тебя к языкам способности.
— Даааа, господин Прель.
Я уже не могла сдержаться: уронила голову на его плечо и тихонько застонала.
— Ты думаешь, я сейчас тебя поцелую, да?
— Дааааа, господин Прель. — Из-за ассоциации идей.
— Ты права.
И он меня поцеловал. Первый раз меня целовал мужчина! Я закрыла глаза и попала на великолепный салют с римскими свечами, бенгальскими огнями и всем прочим. Но увы, вокзал был совсем недалеко, и все прервалось на самом интересном месте.
В поезде на Корк оказалось мало пассажиров. Мишель ехал первым классом, у него было целое купе. С несколько отстраненным видом он курил сигарету и рассказывал мне о своей работе: он ехал в макрунскую епархию изучать англо-ирландскую рукопись. Я посоветовала ему встретиться с дядюшкой Мак-Куллохом. Он меня поблагодарил. Контролер издал жалобный клич. Вокзал наполнился паром. Мишель в последний раз хлопнул меня по ягодицам, назвал «славной девочкой» и поднялся в вагон. Остановился, сунул руки в карманы и улыбнулся мне. Я замахала платочком. Поезд тронулся. Мишель исчез.
Я медленно вышла с вокзала и нерешительно застыла на тротуаре, глядя туманным взором на чернеющую Лиффи и пустую массу Феникс-парка на другом берегу. Я уже собиралась вернуться к трамвайной остановке, как вдруг кто-то меня окликнул.
Это был Тим.
— Привет, Салли, хотите, подвезу?
Естественно, при нем был мотоцикл.
Я согласилась, поскольку обожаю езду на мотоцикле.
5 июня
Сегодня опять не было селедки в имбире на закуску. Я возмутилась. Мама уткнулась в тарелку, миссис Килларни — тоже, и все это без каких-либо объяснений. Интересно, что с ними происходит?
Я получила еще одно приглашение, на этот раз — на вечеринку к Экс’Грегор О’Грегорам, которых я, впрочем, совсем не знаю. Приглашение пришло от Пелагии. Я сразу же купила три пары новых чулок, еще один пояс, два флакона духов (для головы и для подмышек) и вторую пару бальных туфель на не очень высоких каблуках. А то я получаюсь слишком высокой.
Кстати, чуть не забыла: вчера Тим лишил меня невинности.
7 июня
По-прежнему нет селедки в имбире.
8 июня
Сходила на вечеринку к Экс’Грегор О’Грегорам. Хорошо выпили, танцевали галопад, шают и джигу. Аркадиус О’Сир показал мне несколько па из шимми и чарльстона, это американские буррэ[*]. Затем мы уединились в маленькой темной комнате, и, поскольку Тима в этот вечер не было, я предоставила свои благосклонности Аркадиусу. Но то ли из-за усталости, то ли из-за злоупотребления алкоголем Акадиус не сумел ими воспользоваться.
9 июня
По поводу того, что произошло вчера вечером и еще раньше, я не очень хорошо понимаю, как именно это происходило.
11 июня
Еще одна вечеринка. Совершенно случайно я оказалась наедине с Джорджем О’Коннаном. У него все получилось удачно, совсем как у Тима. Но поскольку все опять произошло в темноте, в моем половом воспитании по-прежнему наличествуют дыры, которые необходимо заполнить. Для этого мне нужен дневной свет. Сейчас погода стоит теплая, и я смогла бы осуществлять свои сопоставления в Феникс-парке.
12 июня
По-прежнему нет селедки в имбире. Я обругала маму, но та не знала, что ответить.
14 июня
Мой последний урок с Богалом. Как и в прошлом году, он едет на каникулы в Италию. Мне предстоит учиться у него еще как минимум год, прежде чем я начну писать роман, о котором у меня нет ни малейшего представления, разве что название, да и то. Я пожелала им счастливого пути, ему и миссис Богал, которая, естественно, присутствовала на занятии. На протяжении всего урока я себя спрашивала, осуществлю ли я когда-нибудь сопоставление с Падриком Богалом. Дело в том, что он офигенно старый, тридцать пять лет, не меньше. К тому же мне этого совершенно не хочется...
Уходя — не знаю, что на меня нашло, — я наклонилась к Мэйв и прошептала ей в ухо: «Я тебя люблю». Затем убежала, на ватных ногах, но с позвякивающим сердцем.
16 июня
По-прежнему нет селедки в имбире. Мама, наверное, с ума сошла.
18 июня
Письмо от Варнавы. Я не нашла в себе мужества прочесть его перед своей малочисленной аудиторией. Даже не знаю, о чем он пишет. Только и сделала, что бегло просмотрела. Жалкий тип. Мудак, как сказал Тим. Из письма запомнила только то, что он встречался со знаменитым французским лингвистом, который был проездом в Корке, и говорил ему обо мне. Наверняка Прель.
20 июня
Вечеринка у О’Коннор О’Коннор О’. Еще одна незнакомая компания. Встретила там нескольких приятелей: Джорджа, Тима, Аркадиуса. Я попыталась осуществить сопоставление с Падриком О’Грегором Мак-Коннаном, но нам помешало появление Пелагии. Тогда я захотела узнать, хорошее ли воспоминание обо мне осталось у Тима. Великолепное. Но все опять произошло в полной темноте.
21 июня
Мама предлагает поехать на каникулы к дядюшке Мак-Куллоху вместе с миссис Килларни и Саломеей в пеленках. Только подумать, эта кроха — моя племянница! Ну и ну.
Однако меня это совершенно не прельщает. Теперь я уже знаю, что почем, и у меня нет ни малейшего желания служить подкладкой ни для дядюшки, ни для козла Варнавы. Когда я думаю о своем прошлогоднем неведении, дрожь пробирает мое естество аж до самого основания.
Ферма Мак-Куллоха? Нет уж, спасибо.
22 июня
Дома нет не только (по-прежнему) селедки в имбире, но теперь еще и пирога с морской капустой. Я готова плакать от ярости.
24 июня
После сегодняшнего ленча я почувствовала себя на редкость странно. Обширная ностальгия пропитывала мою маленькую душу (бессмертную), а я продолжала сидеть на стуле, развалившись, раздвинув ноги, с опущенной между ними рукой, и с мрачной иронией думала о том, что сейчас мне сгодился бы даже самый последний недоумок. Я мечтательно рассматривала стакан с уиски, покачивая его, отчего кубики льда тихонько звякали о стекло. В этот момент в дверь позвонили.
Я встрепенулась, да так волнительно, что чуть не расхерачила все, что стояло на столе; содержимое стакана вылилось мне на платье. Но я все равно подбежала к двери и отворила ее.
На пороге стоял Мишель Прель.
— У тебя взволнованный вид, — сказал он.
— Вовсе нет, — ответила я.
— Что с тобой стряслось? — спросил он, увидев подол моего платья.
Я глупо хихикнула:
— Не то, что вы думаете. Это просто уиски. Уиски.
— Ладно, ладно. Я у вас чемодан оставлю ненадолго, а потом заберу.
— Вы уже уезжаете?
— Да. В пять часов сажусь на грузовое судно, которое идет на остров Мэн. Тебе не мешало бы выучить мэнский диалект, а?
С этими словами он хлопнул меня по заднице.
Я вздрогнула, у меня пересохло во рту. Пока я готовилась ответить по поводу мэнского диалекта, Мишель прошел в столовую. Я побежала за ним следом.
— Уиски? — предложила я.
— Ты одна дома? Да, уиски, конечно.
— Мама устроила себе небольшую сиесту, миссис Килларни и Саломея на кухне.
— Невеселая у тебя, должно быть, жизнь с тех пор, как Джоэл и Мэри отсюда уехали.
— Ой, бля! И не говорите, господин Прель! Как меня это все затрахало! Как затрахало! Ну его на хер!
Он смотрел на меня с улыбкой, чуть ли не с насмешкой.
— Ничего смешного, — обиделась я.
— Язык у тебя смешной.
— Разве я плохо говорю по-французски? По-моему, вы гордились мной.
— Да, но теперь я должен перед тобой извиниться. Я научил тебя неприличным словам.
— А что, существуют неприличные слова?
— Послушав тебя, один из моих соотечественников очень бы удивился.
— Как Атаназ.
— Да, кстати. Ты же его видела. Что ты о нем думаешь?
— Что он — мерзавец, поганец и мудак.
Мишель продолжал смеяться над тем, что я говорила. Это меня начинало злить.
— Какие же неприличные слова я сказала?
— Ну, например: хер, трахать, мудак. Во Франции девушки употребляют такие слова только в разговоре с родными или друзьями.
— Но вы же мой друг, господин Прель.
— Надеюсь. Поэтому и не укоряю тебя, а даю маленький совет.
— Благодарю вас, господин Прель. Не могли бы вы составить мне список слов, которые нельзя употреблять.
— Вот-вот. Он начнется со слова амур и закончится словом ялда.
— Какой вы душка, господин Прель.
— Еще больший, чем ты думаешь, — сказал он, вставая и направляясь к своему чемодану, — потому что привез тебе подарок.
— О! — радостно протянула я, сжимая руки на груди и закрывая глаза в ожидании сюрприза.
Мишель положил мне на колени плоскую коробку, которую я открыла дрожащими руками. В ней был корсаж «Скандал». Я заверещала от счастья.
— Вот это да, вы действительно душка, господин Прель! Вы позволите, я его примерю?
— Пожалуйста.
Я начала раздеваться.
— Ты вообще не носишь лифчик?
— А что, надо?
— Нет, нет.
— А трусики, их надевать до или после?
— Не надевай вообще.
Я принялась облегать (как писали в журнале мод) свое тело в корсаж, впрочем не без труда. Пристегивая к нему чулки, я взглянула снизу вверх на г-на Преля. Мне показалось, что у него вот-вот глаза на лоб полезут.
В этот момент вошла мама.
— О! Господин Прель! — обрадованно воскликнула она. — Как я рада вас видеть.
— Мое почтение, сударыня, — сказал он, вставая, что позволило мне отметить, что у него вот-вот полезут не только глаза.
— Это подарок господина Преля, — сказала я маме, подтягивая корсет, чтобы он лучше сидел.
— Вы ее балуете, господин Прель! К чему такие безумные траты?
— Не будем об этом говорить.
— Красивая девочка моя Салли!
— Восхитительная.
Я надела платье.
— А теперь прошу меня извинить, — сказал Мишель. — У меня в городе кое-какие дела.
— Можно проводить вас, господин Прель?
— Конечно, конечно.
Мы сели на трамвай, который шел до О’Коннелл-стрит. Мы сидели рядом, но с небольшим интервалом между. Пока ехали, особенно не разговаривали. Затем г-н Прель заходил в разные места, а я следовала за ним как собачонка и терпеливо ждала, когда он выйдет. Закончив свои дела, он спросил:
— Что теперь будем делать?
— Давайте поедем в Феникс-парк, — предложила я.
— Что за мысль?
— Мне было бы приятно.
— У меня нет времени.
— Мне было бы приятно.
Он внимательно посмотрел на меня:
— Почему?
— Мне было бы приятно.
Он раздумывал, колебался, снова раздумывал.
— Нет, точно, у меня нет времени.
Я была невероятно разочарована.
Потом он стал рассказывать об одном типе из Дублина, некоем Джойсе (порнографе), вынужденном печатать свои книжки в Париже. Затем мы вернулись домой, он забрал чемодан и ушел. На прощание крепко меня поцеловал. Как надо. И все. Я была очень, очень, очень расстроена. Устроилась перед бутылкой уиски в ожидании ужина.
На этом херовом ужине опять не было селедки в имбире.
— Меня это достало, — заявила я. — Я хочу селедки в имбире. Почему у нас больше нет селедки в имбире?
Мама расплакалась.
— Лучше бы вы ей рассказали, — сказала миссис Килларни.
Уняв свои икания и всхлипывания, мама объяснила причину: денег у нас больше нет. Оказывается, папа, уходя во второй раз, забрал все, что оставалось от суипстейка.
— Черт, — прошептала я.
И спросила:
— Значит, никогда больше не будет селедки в имбире?
— Никогда.
— И пирога с морской капустой?
— И пирога с морской капустой.
Я задумалась.
Чуть позднее мама невзначай, вскользь и между прочим спросила у миссис Килларни:
— Вы не находите, что торговля скобяными товарами — хорошая профессия?
— Признать, она приносит немало, — сказала миссис Килларни.
25 сентября
На борту «Святого Патрика».
Наконец-то я побываю в Париже! Мы отплыли час назад, у Варнавы морская болезнь, он блюет вовсю.
Сегодня утром мы поженились, а вечером сели на пароход. Шел дождь. Дул ветер. Сходни плохо освещались. Варнава шагал впереди. Идти было нелегко, я все время боялась шлепнуться в воду и в конце концов еле передвигала ноги. Тогда Варнава крикнул:
— Салли, покрепче держись за поручень!
Я протянула руку в темноте, но нашла всего лишь холодный и мокрый трос. И поняла, что моя супружеская жизнь уже началась.
П. Лётелье, В. Кислов. Послесловие
Трудно верить всему, что говорят. Еще труднее — тому, что пишут. Перечитывая предисловие Салли Мара к Полному собранию ее сочинений (изд-во «Галлимар», 1962), мы не могли отделаться от двойственного ощущения, в котором смешивалось сомнение в достоверности официальной версии (чего только не выдумывают издательства для того, чтобы заработать дополнительную тысячу пинджинов или фьюрлингов) и искреннее сочувствие живому автору с непростой судьбой и подмоченной репутацией, который всегда называл «кошку кошкой, а мудака мудаком». Не довольствуясь редкими и скудными сведениями о Салли Мара в критической литературе (самым полным и значительным источником на сегодняшний день является книга Пьера Давида «Единосущность и квинтэссенция производной фикции», Лион, 1958), мы попытались разобраться в этой запутанной истории, дабы покончить с наглой мистификацией per fas et nefas, unguibus et rostro, ense et aratro.[21]
Вот что нам удалось узнать.
Миссис Мара и мисс Килларни исчезли при невыясненных обстоятельствах. Саломея Килларни-Мара попала в детский приют при протестантской церкви Святого Николая за Городом (Дублин), получила образование, вышла замуж, родила сына и работает главным бухгалтером на пивоварне «Гиннес». Она совершенно не помнит своих родителей, но до сих пор хранит куклу, подаренную ей после войны «одной тетей». Варнава Падж трагически погиб в июле 1969 года в Ольстере, где собирался купить магазинчик скобяных товаров. Взрыв магазина взяла на себя одна из группировок ИРА, которая даже не подозревала о смене хозяина. На месте трагедии, среди обломков и осколков, была обнаружена сумка скобянщика с документами и учебником гэльского языка под редакцией У. Мэйдженниса и Д. У. Рассела (1938, изд. Дублинского университета). Обгоревшая книга была испещрена пометками на французском языке, а на титульном листе сохранилась дарственная надпись на английском: «Дорогой Салли в день ее рождения от сестрицы. 16 апреля 1947». Мэри Мара не дождалась своего Джона Томаса (он погиб при высадке союзных войск в Нормандии в 1944 году), так и не вышла замуж, у нее не было детей; она проработала всю жизнь в почтовом отделении городка Гэлин и умерла там же в состоянии полного склероза и глубокого маразма в 1981 году. В ее вещах были найдены четыре почтовые открытки, присланные Джоэлом: в 1942-м (из Конго) брат сетовал на «сильную жару и непроходящую лихорадку»; в 1948-м (из Колумбии) жаловался на «тяжелые условия работы» и «частые переезды»; в 1954-м (из Гватемалы) писал, что «опять взялся за стихи» и рассчитывает на «серьезные изменения в ближайшем будущем». В последней открытке, 1961 года (из Анголы), Джоэл клялся, что «пошлет все на хер» и поедет «к Салли в Париж». В картотеке отдела кадров деканата филологического факультета Университета Париж-VIII Венсенн–Сен-Дени за 1976/77 учебный год фигурирует фамилия преподавательницы ирландского языка Сара Марра. В Национальной публичной библиотеке хранится по одному неразрезанному экземпляру следующих работ: С. М. «Гэльская метрика в произведениях поэтов круга Падрика Богала» (1980, Париж, изд-во «Иси», тир. 18 экз.), Салли М. «Плагиат наоборот: ономастика в «Улиссе» Дж. Джойса» (1986, Париж, изд-во «Ла-ба», тир. 50 экз.), С. Мара «Автобиография как моток сознания» (1991, Париж, изд-во «Нюльпар», тир. 100 экз.).
Мы долго разыскивали Салли и Джоэла Мара по всей Франции: обращались в издательства и типографии, изучали каталоги библиотек и архивов, литературных ассоциаций и фондов, рассылали запросы в Министерство культуры, Государственное общество писателей, Общество защиты авторских прав и прочие организации. Мы встречались с сотрудниками издательства «Галлимар»: все в один голос утверждали, что Салли Мара и Мишель Прель являются не более чем псевдонимами, а интересующие нас романы принадлежат перу некоего Кено (неужели того самого?). Просмотрев телефонные справочники и адресные книги, исследовав Минитель и Интернет, мы смогли найти девятерых Мишелей Прелей (3 — в Париже, 1 — в Нанте, 2 — в Марселе, 1 — в Бар-ле-Дюке, 1 — в Дижоне, 1 — в Женеве). Мы проверили всех девятерых: псевдопереводчика и якобы писателя среди них не было. Мы не теряли надежды и продолжали поиски, используя всевозможные источники информации; особое внимание уделяли различным ирландским учреждениям: Генеральное консульство и торговые представительства, церкви, общины, общества, землячества и кружки. Мы обошли все ирландские бары Парижа и провели там не один вечер. Отчаявшись, мы дали объявление в газетах, на телевидении и на радио, но все меры оставались тщетными.
Какова же была наша радость, когда однажды нам позвонила сама Салли Мара и предложила встретиться. Голос у нее был хриплый, уверенный; говорила она на правильном французском языке с сильным ирландским акцентом.
В назначенный день и час (19 апреля 1999 года в 17.00) мы пришли по указанному адресу: № 109 по улице Шарантон, что в 11-м округе. Нам пришлось долго идти (это одна из самых длинных парижских улиц, она ведет к городку Шарантон, единственному месту, где после религиозных войн (вторая пол. XVI в.) разрешалось проживать протестантам) под проливным дождем, и мы основательно промокли. По пути, готовясь к предстоящему интервью, мы пытались придумать не очень глупые вопросы и представить себе возможные ответы. В нашем списке было что-то про авторскую фикцию и фиктивное авторство, психоанализ и подсознательное, интертекстуальность и автобиографический пакт и даже про три центра души, согласно Платону: nous (расположенный в голове и управляющий интеллектуальными и духовными функциями), thumos (расположенный в самой середине тела и ответственный за чувства) и epithumia (расположенный в низу живота, в области желаний). У нас ничего не получалось: все казалось каким-то искусственным, скучным и чуть ли не постмодернистским. Мы решили действовать сообразно обстановке. Не доходя до бара «Оливковое дерево», в котором грустные кабилы играли в карты, мы вошли в шестиэтажное безликое строение 60-х годов, поднялись в лифте на четвертый этаж и позвонили в дверь «Н». Нам открыла сама хозяйка и пригласила войти. Салли Мара оказалась высокой худощавой женщиной с густыми седыми волосами, стянутыми в хвост, и пронзительным взглядом больших голубых глаз. Косметикой она не пользовалась. Несмотря на все издержки преклонного возраста, в ее чертах угадывалась былая красота. Одета она была простенько и безвкусно: зеленое платье с перламутровыми пуговицами, длинная оранжевая кофта с костяными пуговицами, штопаные шерстяные носки, шлепанцы. Держалась доброжелательно и производила впечатление человека энергичного и решительного: сразу же пригласила нас пройти в гостиную и чего-нибудь выпить. Мы попросили минеральной воды. Она удивленно хмыкнула, предложила сесть и ушла на кухню. Мы сели в кресла, достали диктофон (в котором не оказалось батареек) и стали осматриваться. Комната была маленькой и светлой. У окна без штор — высокий табурет с патефоном. На полу — ворсистый ковер с неясными мотивами и подозрительными символами. Во всю стену — стеллажи с книгами на гэльском, английском и французском языках. На другой стене — черно-белая фотография молодого мужчины в шляпе и репродукция с картины, изображающей трамвайную остановку на фоне каких-то доков и пароходов. «Это портрет Ронсерая, а это Дун Логари», — сказала хозяйка, входя в гостиную. Она поставила на низкий журнальный столик поднос с бутылкой минеральной воды, бутылкой виски, тремя стаканами и спросила: «Может быть, все-таки глоточек уиски?»
* * *
Книжки бывают разные. На любой вкус, подготовленность и количество извилин. Вне зависимости от общей оценки прочитанного, сами впечатления могут разительно различаться по характеру: спектр широк, от буйного, восторженного опьянения до туманной созерцательности с тихой грустью и горьким осадком. Говоря о книгах, редко имеют в виду ощущения в процессе чтения и почти всегда обсуждают состояние читателя после прочтения, и именно они, эти остаточные явления, эти послевкусья, и дают пищу дальнейшим домыслам и вымыслам. О предварительном настрое не упоминают вовсе. Ничего не говорят об условиях чтения, равно как и о сопутствующих ему мероприятиях. Это неправильно. Искушенный, подготовленный и извилистый читатель сам разберется, как подготовиться к чтению и как его провести. Неискушенный будет читать без подготовки. Мы не вправе навязывать свой метод, но поделиться соображениями нас все-таки подмывает. И мы не в силах отказать себе в этом удовольствии. Чтобы получить удовольствие от чтения Салли Мара, пить надо только виски, и предпочтительно ирландский.
* * *
Ирландцы утверждают, что их виски (Irish whiskey, да-да, именно так, с why на конце) — самый старый, поскольку он был изобретен самим святым Патриком, первым крестителем и покровителем Ирландии. Во-первых, самое старое из существующих в мире предприятий по производству виски находится в Ирландии — это Old Bushmill’s Distillery Company. Во-вторых, именно ирландец Энее Коффи в свое время усовершенствовал перегонный аппарат и поставил производство виски на промышленную основу. Изготовление живой воды (слово «виски» есть англизированный вариант кельтского uisge beatha, которое, в свою очередь, является гэлицизированным вариантом латинского сочетания aqua vitae) — дело почетное, нужное, но отнюдь не простое. Ирландский виски делается так: за основу берется рожь и ячмень, которые поливают водой из местных источников. Когда злаки дружно прорастают, их подсушивают; крахмал серьезно засахаривается. Полученный солод перемалывается; помол поступает в чаны, заливается шестидесятиградусной водой и варится около восьми часов. В переваренное и охлажденное сусло добавляют дрожжи. После сбраживания жидкость, содержащая 70–75% алкоголя, подвергается перегонке в больших кубах, имеющих форму луковиц, и проходит таким образом огонь, воду и медные трубы (чем выше вытянута горловина аппарата, тем легче консистенция продукта). Жидкость перегоняют еще два раза и получают спирт высшего качества, чистоты и крепости. Затем он «смягчается» водой из источника до 60–65% и фильтруется через древесный уголь, полученный исключительно из зимней древесины, без смол и сахара. Сердцевина перегонки разливается в обожженные дубовые бочки: зачастую используют те, в которых перевозился херес, портвейн, шерри или бурбон (так называемый «американский дуб»). Продукт взрослеет, одновременно теряя резкость и крепость, и выдерживается не менее пяти лет. Перед розливом в бутылки вискэй чаще всего «смягчается» второй раз до коммерческой крепости в 40–45% (хотя отлично пьется и без смягчения — мы проверяли). Национальный ирландский напиток можно условно разделить на несколько групп. Прежде всего, это демократичные и популярные blended whiskey, смесь зерновых сортов grain, чаще всего кукурузы с добавлением ячменного и пшеничного солода, среди которых стоит отметить pure pot still, самый фруктовый и карамелизованный вариант вискэй, насыщенный различными специями (корица, ваниль, гвоздика, перец, почки смородины, лимон, персик и т. д.). Несмотря на яркие вкусовые ощущения этих смесей, мы склоняемся к более классическим malts (несколько солодовых с разных заводов) или single malts (чистый солодовый с одной винокурни). Эти различия не всегда маркируются на этикетках; при выборе мы советуем оказывать предпочтение напиткам с большей выдержкой, как это делают сами ирландцы. Мы неоднократно расспрашивали ирландских барменов в ирландских барах о том, как они различают свои сорта виски. Все ответы сводились к одному: они их не различают, а просто пьют, причем много и не разбавляя. Мы также не рекомендуем смешивать виски с содовой (мы — не в Америке) или простой водой (у нас не та вода); не советуем бросать кубики льда, запивать, закусывать и занюхивать. Категорически возбраняется пить залпом и тем более слушать эстрадную музыку. Устройтесь поудобнее, снимите восковую печать, откупорьте бутылку, медленно налейте (стоит прислушаться к самому первому «волшебному» буль-булькающему низкому звуку) грамм пятьдесят в tumbler, специальный широкий с толстым дном стакан, посмотрите на свет и полюбуйтесь цветом. Глубоко вдохните. Насладитесь ароматом. Медленно выдохните. Обмакните губы. Отпейте маленький глоток. Прочувствуйте, как жидкость слегка пощипывает язык и десны, покалывает гортань, согревает грудь изнутри. Ощутите, как там, внутри, разжимается какая-то пружина. Отпейте еще два раза и, осознав, что пружина разжалась, откройте книгу.
* * *
Первая выпитая нами бутылка виски, или — как говорят по ту сторону пролива Святого Георга, — уискэй, сняла некую скованность и придала встрече простой и доверительный характер. Это был традиционный, резковатый и слегка окрашенный древесным привкусом светло-золотистый Bushmill 8-летней выдержки. Во второй бутылке оказался не менее традиционный, но необычно маслянистый и сладковатый желтый Jameson 10-летней выдержки. За ними последовал густой и терпкий темно-оранжевый Paddy 12-летней выдержки. Последний виски, название которого сохранилось у нас в памяти, оказался ароматный и мягкий янтарный Tullamore Dew, волшебный и, судя по вкусу, древний, несмотря на отсутствие указанной выдержки, напиток. За окном продолжал лить дождь, хозяйка лукаво улыбалась и молча подливала, а мы, молча, пили и пили...
* * *
Покачиваясь в тесной прихожей, мы надевали мокрые ботинки, а хозяйка вслух читала что-то по-гэльски. Мы спросили у нее, что она читает (это был первый и последний вопрос, который мы задали неизвестной ирландской писательнице).
«Это цитата», — многозначительно произнесла Салли.
Она посмотрела на себя в зеркало, прямо в глаза, не видя их, а затем опять принялась читать, улыбаясь, целуя книгу. Лицо ее покрылось нежным румянцем. Пуговицы на одежде были алмазными и рубиновыми. В левой руке она держала тонкую палочку слоновой кости с лиловым бантиком. Белый агнец выглядывал из кармана ее кофты.
П. Лётелье, В. КисловПримечания
1
Что вы говорите? (англ.) — Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, — примечания составителя.
(обратно)2
Здесь и сейчас (лат.).
(обратно)3
Кельтицизм для обозначения термина «интуиция». (Прим. Мишеля Преля.)
(обратно)4
Германизм для обозначения термина ankou. (Прим. Мишеля Преля.)
(обратно)5
Галлицизм для обозначения термина Anschauung. (Прим. Мишеля Преля.)
(обратно)6
Английская народная песня. Пропев ее, обычно расстаются. (Прим. Мишеля Преля.)
(обратно)7
Здесь имеет место легкий анахронизм, но Кэффри, будучи безграмотным, не мог знать в 1916 году, что «Улисс» еще не напечатан. (Прим. автора.)
(обратно)8
Вполголоса (итал.)
(обратно)9
Деталь мужского туалета, распространенная в Ирландии. (Прим. Мишеля Преля.)
(обратно)10
Латинизм (от speculatrix — «шпионка»), непереводимый на французский — язык, как всем известно, бедноватый. (Прим. Мишеля Преля.)
(обратно)11
Королевский Военно-морской флот (фр.)
(обратно)12
Черт побери! (англ.)
(обратно)13
Да почиет в мире (лат.).
(обратно)14
Участник Ирландского освободительного движения.
(обратно)15
Sweepstake (англ.) — полный выигрыш всех заявленных ставок на скачках.
(обратно)16
«Отче наш», «К Деве Марии» (лат.).
(обратно)17
Batter (англ.) — бить, здесь: в значении «убойный запой».
(обратно)18
См. примечание 9.
(обратно)19
Переведена на французский язык Раймоном Кено (изд-во «Галлимар», 1936). (Прим. Мишеля Преля.)
(обратно)20
Переносные штурмовые гаубицы, широко применяемые ирландской полицией. (Прим. Мишеля Преля.)
(обратно)21
Всеми и всяческими возможными способами (лат.)
* * *
sine die (лат.) — без указания дня — на неопределенное время; ipso facto (лат.) — в силу самого факта — следовательно, автоматически; manu militari (лат.) — военной рукой — с применением силы. (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Вздорности» («Foutaises») — книга, выпущенная ограниченным тиражом (91 экз.) без указания автора, издателя, места и времени публикации (Париж, 1944 г.). Впоследствии текст ее публиковался в различных журналах, в частности в «Досье Патафизического колледжа» в № 7 от 11 гидуя 86 г. п. э. (25 июня 1959 г. по вульгарному календарю). Большая часть «Вздорностей» вошла в сборник «Более интимная Салли», включенный в «Полное собрание сочинений Салли Мара» (издательство «Галлимар», 1962 г.). (Прим. В. Кислова.)
* * *
ejusdem farinae (лат.) — из одной и той же муки — в том же духе. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...подписанное «Мишелем Прелем»... — Presle (фр.) от лат. asperella — хвощ (в просторечии: конский или крысиный хвост). Мишель Прель не имеет никакого отношения к французской актрисе Мишелин Прель (урожденной Шессань), с которой Кено был знаком. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Я родилась в пасхальный понедельник 1916 года, в день ирландского восстания? — «Пасхальное» восстание за независимость Ирландии (тогда — Британской колонии) началось в Дублине в понедельник 24 апреля и к воскресению 30 апреля было подавлено. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...в кругу поэта Падрика Богала. — Падрик Богал мог и не быть знаком с Падриком Пирсом — ирландским политическим деятелем, борцом за возрождение гэльского языка, президентом Временного революционного правительства, сформированного в дни восстания 1916 г. В ходе восстания Пирс и его отряд инсургентов удерживали дублинский Главпочтамт и сдались англичанам лишь 9 мая; 13 мая Пирс, как один из зачинщиков восстания, был расстрелян. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Эйре, или Эрин, — самоназвание Ирландии. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Что касается биографических данных... они все неукоснительно неточны. — действительно, день рождения Салли — 16 апреля, а пасхальный понедельник в 1916 году пришелся на 24 апреля. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...называла кошку кошкой... — «Я называю кошку кошкой» — название статьи Кено, опубликованной в журнале «Derrière lе Miroir» («По ту сторону зеркала») № 35, 1951 г. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Роман «С ними по-хорошему нельзя» (дословно «Мы всегда слишком добры к женщинам» («On est toujours trop bon avec les femmes») впервые опубликован под псевдонимом (!) Салли Мара с предисловием Мишеля Преля в 1947 г. издательством «Скорпион» (издатель Жан д’Алюэн). Любопытно, что в тот же период это издательство выпускает романы Бориса Виана под псевдонимом Вернон Салливан: «Я приду плюнуть на ваши могилы» (1946), «У всех мертвых одинаковая кожа» (1947) и «Женщинам не понять» (1948). Название последнего явно перекликается с названием романа Кено. В 1962 г. он был переиздан в «Полном собрании сочинений Салли Мара» (издательство «Галлимар»). В 1971 г. по роману был снят одноименный фильм (реж. Мишель Буарон и Марсель Жюлиан). (Прим. В. Кислова.)
* * *
Корни Келлехер — так зовут директора дублинского похоронного агентства в «Улиссе» Джеймса Джойса. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Джон Маккормак — как и появляющиеся далее Мэт Диллон, Кэффри и Каллинен также встречаются в «Улиссе». (Прим. В. Кислова.)
* * *
Белл, Александр Грэм (1847–1922) — американский ученый-физик. Пытаясь вылечить глухонемую супругу, изучал акустику и в 1876 г. изобрел телефон. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Ганноверская корона — Ганноверская династия правила Великобританией (и, соответственно, Ирландией) с 1714 по 1901 гг. Описываемые события происходят в царствование короля Георга V (1910–1936) из Саксен-Кобург-Готской династии, год спустя переименовавшейся в Виндзорскую. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...в битве при Хартуме... — Сражение между британскими колониальными войсками и восставшими суданцами (1885), в котором англичане потерпели поражение. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Finnegans wake! — обыгрываются два названия: «Finnegan’s Wake» (Finn Again Wake — «Финн проснется снова») — название ирландской патриотической баллады и «Finnegans Wake» — «Поминки по Финнегану» — название последнего (1939) романа Джеймса Джойса. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Ларри О’Рурки — так зовут хозяина пивной в «Улиссе». (Прим. В. Кислова.)
* * *
О’Коннелл, Дэниел (1775–1847) — лидер ирландского национально-освободительного движения. Боролся против ограничения избирательных прав католиков. После проведения в Ирландии в 1829 году Акта об эмансипации католиков (предоставления им избирательных прав) его стали называть Освободителем. (Прим. В. Кислова.)
* * *
О’Брайен, Уильям Смит (1803–1864) — ирландский хирург и революционер. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Преподобный Мэттью — Теобальд Мэттью (1790–1861) — знаменитый поборник трезвости в Ирландии. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Герти Гердл — в «Улиссе» встречаются Герти Макдауэл и Брейс Гердл. Gertie (англ.) — корсаж. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Уиски, виски (англ. whiskey, whisky) — англизированный вариант кельтского словосочетания uisge beatha, которое, в свою очередь, является искажением латинского aqua vitae — «живая вода». И французский переводчик романа и Салли Мара (в «Интимном дневнике») пишут это слово как слышат. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Паскаль, Блез (1623–1662) — французский математик, физик, философ и писатель. Изобрел арифметическую машину, но никогда не изобретал наручных часов. Герти могла спутать Паскаля с Бомарше, которому приписывают изобретение миниатюрных часов. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Милль, Джон Стюарт (1806–1873) — британский философ-позитивист, экономист и общественный деятель. Герти, вероятно, читала его работу «О порабощении женщин» (1869). (Прим. В. Кислова.)
* * *
Ankou — не имеет ничего общего с интуицией. Это искаженная форма кельтского слова ankavos (смерть), то есть недомогание Кэффри оказывается предчувствием скорой кончины. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...зеленый платок, украшенный... золотыми арфами. — зеленый — национальный цвет, а арфа — символ Ирландии. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Мод... настоящая националистка. — как и Мод Гонн — «муза» У. Б. Йейтса, упоминающаяся в «Улиссе». (Прим. В. Кислова.)
* * *
...бойцы Ирландской Республиканской армии — в 1916 г. таковой еще не существовало. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Артуа — район на севере Франции, место ожесточенных боев во время Первой мировой войны, в частности в 1914-м (т. н. «бег к морю»), 1915-м (Нотр-Дам-де-Лоретт) и 1917-м годах (Вими). (Прим. В. Кислова.)
* * *
Ифигения — согласно греческой мифологии, дочь Агамемнона и Клитемнестры. Отец принес ее в жертву богине Артемиде, прося ее об удаче в походе на Трою. Богиня, сжалившись, подменила Ифигению на жертвеннике ланью. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Генерал Максвелл — Джон Гренфелл Максвелл (1859–1929) командовал английскими войсками при подавлении дублинского восстания. Со словами «Мне мученики не нужны» приказал расстрелять сдавшихся руководителей восстания (Прим. В. Кислова.)
* * *
Святой Патрик — креститель и покровитель Ирландии. По преданию, пояснял триединство Святой Троицы на трилистнике клевера. Позже клевер стал эмблемой Ирландии. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...сохранил верность и чистоту внутри, а скверна осталась снаружи. — Это признание удивительным образом перекликается с рассуждением святого Фомы: «Душа не подвержена порче извне; порча возможна лишь изнутри». (Прим. В. Кислова.)
* * *
...тунца и кусок хлеба. — реминисценция из Нового Завета (Мф. 14:19). (Прим. В. Кислова.)
* * *
Роман «Интимный дневник» («Journal intime») впервые опубликован под псевдонимом (!) Салли Мара в 1950 г. издательством «Скорпион». В 1962 г. издательство «Галлимар» выпускает «Полное собрание сочинений Салли Мара» («Les Oeuvres complètes de Sally Мага») с предисловием автора и дополнительным произведением «Более интимная Салли» («Sally plus intime»). Поскольку сама С. Мара решительно отмежевалась от этого произведения (см. предисловие), издательство «Симпозиум» не считает возможным включить в состав этой книги столь сомнительный текст. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...в то время как ночная луна маячила в своей лунной несдвигаемости под небесными олуненными сферами, освещая бледным лунистым светом... — Кено выстраивает ряд однокоренных неологизмов, следуя примеру Джойса: «Как столь же естественный, как всякий и любой естественный акт природы... совершенный природными тварями в природе оприроденной в соответствии его, ее и их оприроденными природами...» («Улисс», Ч. III, Эп. 17. СПб, 2000, С. 634). Прилагательное illunés (олуненные) образовано от неологизма s’illuner («олуниваться») из стихотворения А. Рембо «Семилетние поэты». (Прим. В. Кислова.)
* * *
Дюмезиль, Жорж (1898–1986) — французский историк и этнолог, специалист по сравнительной мифологии и общественным формациям индоевропейских народов. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...твердостойкость битенгов... — игра слов, основанная на омофонии: bitte (фр.) — битенг, кнехт; bite — х... (фр. арго). (Прим. В. Кислова.)
* * *
Рикар (фр. ricard) — крепкий анисовый ликер, который принято пить разбавленным. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...меня зовут Салли... — В «Поминках по Финнегану» Джойса присутствует «смеющаяся Салли». (Прим. В. Кислова.)
* * *
Килларни — район на юго-западе Ирландии, знаменитый своими озерами. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Кингстаун — английское название дублинского порта, Данлири — англизированное ирландское. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Тарн-и-Гаронна и Вар — департаменты соответственно на юге и на юго-востоке Франции. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...удобства на английский манер. — т. е. туалет, снабженный унитазом. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...в Париже была большая заваруха. — 6 февраля 1934 г. правонационалистские круги организовали в Париже крупную манифестацию с целью свержения правительства Э. Даладье. В результате столкновений имелись убитые и раненые. (Прим. В. Кислова.)
* * *
О’Даффи, Эойн (1892–1944) — командующий Ирландской национальной гвардией, глава фашистского движения «синерубашечников». В 1934 г. возглавил выступление против правительства и захватил г. Корк. В 1936 г. участвовал, на стороне Франко, в гражданской войне в Испании, командовал отрядом ирландских наемников. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Варнава Падж (Barnabé Pudge) — имя и фамилия героя представляют явное сходство с Barnaby Rudge, умственно отсталым героем одноименного романа Ч. Диккенса. «Rudge» по-английски — кудахтающий, квохчущий. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Унтенвальден, Юг — Салли не зря предупреждала о возможных ошибках: здесь она переврала названия двух швейцарских кантонов Унтервальд и Цуг. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Лесли, Чарльз Роберт (1799–1859) — английский художник, автор картин, трактующих сюжеты произведений Шекспира, Сервантеса, Мольера. Маклиз, Дэниел (1806–1870) — английский живописец и график, знаменит картинами, прославляющими знаменитостей своего времени: Диккенса, Нельсона, Веллингтона. Малриди, Уильям (1786–1863) — английский живописец, автор романтических пейзажей и интерьерных сцен. Лэндсир, Эдвин Генри (1802–1873) — английский живописец, автор сентиментальных портретов и пейзажей. Уилки, Дэвид (1785–1841) — шотландский живописец, создавший большое количество жанровых полотен. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Фарнезианский Геракл — знаменитая статуя Геракла работы греческого скульптора Лисипа (IV в. до Р. X.), долгое время украшала дворец семьи Фарнезе (Палаццо Фарнезе) в Риме. Позже перевезена в Национальный музей в Неаполе. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Гликон — древнегреческий поэт, которому приписывается создание стихотворного размера (гликонея), состоящего из стоп дактилей и ямбов или стоп анапестов и хореев. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Мэйв — такое имя носила кельтская богиня (Maëve, Medb), по-гэльски это значит «опьянение». (Прим. В. Кислова.)
* * *
...из жуйской ткани — Жуи-ан-Жозас — город во Франции, где в 1759 г. промышленник Кристоф Оберкампф основал первую мануфактуру, производившую ткани с тисненым рисунком. Вряд ли Салли знала об этом и уж наверняка не догадывалась о фонетическом совпадении названия города Jouy с формой 1-го лица единственного числа глагола jouir (получать удовольствие, наслаждаться, испытывать оргазм). (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Галери Лафайет» — парижский универмаг. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...по одному бушелю или... по семьдесят два литра — англ. бушель = 36,37 литра, т. е. бочонки были по два бушеля. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Лимерик — (по названию ирландского города Limerick) шуточное рифмованное стихотворение, которое состоит из пяти строк, рифмующихся по схеме aabba и имеет строго формализованное содержание. Стишок Джоэла лимериком вовсе не является — по крайней мере так, как его пересказала Салли. (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Blonde Bombshell» — фильма с таким названием нет. Салли спутала «Платиновую блондинку» («Platinum Blonde», 1932, реж. Ф. Капра) с «Сексбомбой» («Bombshell», 1934, реж. В. Флеминг), в которых главную роль играла одна из самых популярных голливудских звезд и настоящий секс-символ 1930-х годов Джин Харлоу (наст. имя Харлин Карпентер, 1911–1937). (Прим. В. Кислова.)
* * *
Венера Каллипига — от греч. kallipygos (kallos — красивый и pyge — зад) — В. Прекраснозадая или В. Каллипига. (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Бон Марше», «Прентан» — парижские универмаги. (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Айриш Стью Геральд» — «Irish Herald» — действительно существующая ирландская газета; Irish stew — ирландское рагу. (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Генерал Дуракин» — сентиментальный роман графини де Сегюр (наст, имя София Ростопчина, 1799–1874), в котором главный герой под грубой внешностью скрывает золотое сердце и проходит через многочисленные испытания (битва при Севастополе, тюремное заключение во Франции, бесконечные интрига родственниц, возвращение в Россию и т. п.). (Прим. В. Кислова.)
* * *
Кюкюлэн — то есть Кухулин (ирл. Cú Chulainn, англ. Cuchulain) — один из главных героев ирландских мифов. Салли пишет это имя как Cuculain, и в нем дважды звучит столь часто забываемое ею французское слово cul — задница. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Айриш-брог — ирландское диалектное произношение в английском языке, характеризующееся смещением гласных и выпадением некоторых согласных звуков. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Бюффон, Жорж-Луи-Леклер (1707–1788) — французский ученый, автор знаменитой «Естественной истории» в 40 томах, покорившей читателей своим блестящим стилем. Основал парижский Ботанический сад. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Пойдем смотреть «Тарзана». — Салли могла увидеть один из четырех фильмов, снятых о Тарзане к 1934 г.: «Т. у обезьян» (1918, реж. С. Сидни); «Т. человек-обезьяна» (1932, реж. Ван Дик), «Бесстрашный Т.» (1933, реж. Р. Хилл) и «Т. и его компания» (1934, реж. С. Гиббонс). (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Совмещать приятное с приборным» — игра слов, построенная на омофонии: Салли ошибочно написала outil (прибор) вместо utile (полезный). (Прим. В. Кислова.)
* * *
...встретила тетю Патрицию. — два месяца назад тетю Салли звали Корнелией. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...разюрель... — «Разюрель» — французская марка женского белья. Лавочка (фр. устар. boutique) — арго: половые органы. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...меня можете называть Атаназом... — имя перекликается с Анастазом из «Поминок по Финнегану» Джойса. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...к дяде Мак-Куллоху... — Салли могла и не увидеть в фамилии MacCullogh французские слова: cul (задница) и culot (наглость). Сомнительно и то, что она когда-либо слышала об однофамильце дядюшки — английском экономисте Джоне Мак-Куллохе (1789–1864). (Прим. В. Кислова.)
* * *
...жуть зеленая! — Неологизм, который Салли образует, «перекрашивая» устойчивое французское словосочетание «жуть голубая». Еще одно явное свидетельство плагиата: именно так назван рассказ Кено, опубликованный в 1947 г. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...слугой для взбивания сидений. — Салли игриво или ошибочно использует французское выражение tête à claques (неприятное, отвратительное лицо; досл. рожа для затрещин), заменяя tête (голова; лицо) не на siège (сиденье; ягодицы), а на chaise (стул). (Прим. В. Кислова.)
* * *
Джон Томас — в знаменитом романе «Любовник леди Чаттерлей» (1928) Д. Дж. Лоуренса хозяйка именует «томасом» фаллос своего егеря. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Саломея — в Библии (Мф. 14:1-12) — дочь Иродиады, которая во время празднования дня рождения Ирода плясала перед ним и по наущению своей матери запросила у него голову плененного Иоанна Крестителя. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...но сохранишь семь своих покрывал. — Имеется в виду танец, во время которого Саломея скидывала с себя одежду, дабы обольстить Ирода. Вероятнее всего, Джоэл нашел «семь покрывал» в одноименной драме О. Уайльда или одноименной опере Р. Штрауса. Если, конечно, миссис Килларни все это не выдумала. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Стер — единица объема пиломатериалов, равная кубометру. (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Нью-Йорк—Майами» — название фильма «Однажды ночью» («It Happened One Night», 1934, реж. Ф. Капра) во французском прокате. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Тир-на-нОг (гэльск. Tir па nOg, букв. Страна Юности) — в кельтской мифологии — одна из «Чудесных стран», другой (лучший) мир. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Шпанская (испанская) муха, или шпанка, — насекомое кантаридия, которое выделяет якобы возбуждающую субстанцию. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...на огамическом языке. — огамический алфавит был составлен в первые века н. э. для буквенной записи древнеирландского и пиктского языков. Вытесненный из употребления латиницей, сохранялся в Ирландии в качестве тайнописи до XVII в. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...«мужчина предпочитает петлицу, а женщина узелок». — Вряд ли Салли знает, что на французском арго boutonnière (петлица) означает клитор, a noeud (узел) — член. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Ландрю — «Дело Ландрю» (1921): громкий судебный процесс во Франции над Анри Дезире Ландрю (1869–1922), который был обвинен в убийстве десяти женщин и одного подростка и приговорен к смертной казни. Известно, что Кено внимательно следил за этим процессом. В 1962 г. писатель играет одну из ролей в фильме К. Шаброля «Ландрю». (Прим. В. Кислова.)
* * *
Дублинский Вампир — напоминает о «Дюссельдорфском Вампире», дело которого послужило основой для фильма Ф. Ланга «М. (Убийца)» (1931). (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Битва Спаржи с Мидиями». — на фр. арго слово asperge (спаржа) означает мужской половой орган, moule (мидия) — женский. (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Батрахомиомахия» Гомера. — Если Гомеру безнаказанно и безапелляционно приписывают авторство «Одиссеи» и «Илиады», то почему Салли не вправе приписать к приписанному анонимную «Батрахомиомахию»? (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Путешествия Гулливера» Льюиса Кэрролла. — Салли могла упомянуть (забыла) еще и «Алису под землей» Джонатана Свифта. (Прим. В. Кислова.)
* * *
«Аль Маньяк» Вермота — искаженное название «Альманаха Вермо» (L’almanach Vermot) — ежегодного журнала глупейших каламбуров и шуток, выходившего во Франции с начала XX века. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...анакомическая... — Сын Мак-Адама строит неологизм из двух элементов: греч. ανα — наоборот, назад, обратно + κωμικός — комический, смешной. Идет ли речь о пародийности или серьезности? (Прим. В. Кислова.)
* * *
...шелковые трусики из джерси. — Салли явно надули: либо «шелковые», либо «из джерси». (Прим. В. Кислова.)
* * *
Супинация (от лат. supinatio) — медицинский термин, обозначающий положение руки ладонью кверху; устар. положение больного лежа на спине. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Эмбер, Жан-Жозеф (1767–1823) — французский генерал, который, не зная о подавлении ирландского восстания, 5 фрюктидора VI года по республиканскому календарю (22.08.1789) высадился в Ирландии и через две недели в Кастлебаре провозгласил Ирландскую республику. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...во время неудачной высадки французов в 1798 году. — Речь идет о неудачной попытке ирландских повстанцев под предводительством Теобальда Вулфа Тона (1763–1798) высадиться в Ирландии и с помощью французов свергнуть английское владычество. (Прим. В. Кислова.)
* * *
...шесть тактов, восемь движений. — С мазуркой Салли явно переборщила: в этом традиционном польском танце всего три такта и три движения. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Матчиш — быстрый (изначально матросский) танец. Кекуок — традиционный ирландский танец. (Прим. В. Кислова.)
* * *
Галопад, или галоп — быстрый двухтактный французский танец, популярный в XIX в. Шают — эксцентрический танец, модный в 30-е годы XIX в. Джига — быстрый трехтактный британский танец. Шимми — американский двухтактный танец, похожий на чарльстон. Буррэ (бурэ) — старинный французский танец, исполнявшийся в деревянных башмаках — сабо. (Прим. В. Кислова.)
(обратно)
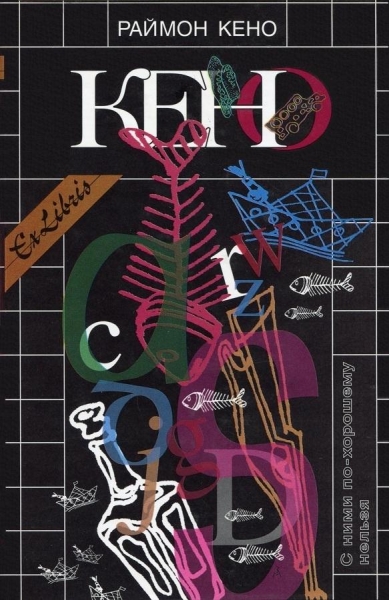

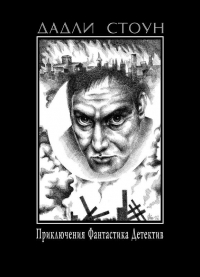
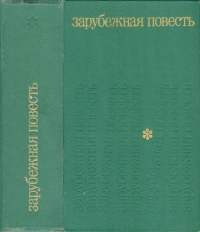

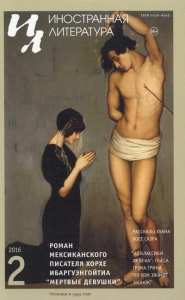

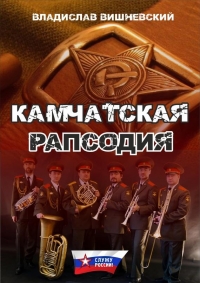

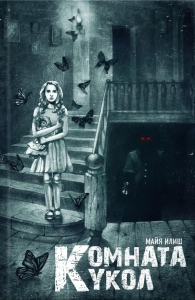



Комментарии к книге «С ними по-хорошему нельзя», Раймон Кено
Всего 0 комментариев