Гюнтер Грасс Собачьи годы[1]
ПАМЯТИ ВАЛЬТЕРА ХЕННА[2]
КНИГА ПЕРВАЯ УТРЕННИЕ СМЕНЫ
ПЕРВАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Рассказывай ты. Нет, лучше вы расскажите. Или ты будешь рассказывать? Может, лучше господин артист начнет? Или пугала, все скопом? А может, подождем, покуда восемь планет не сойдутся в знаке Водолея[3]? Ну хорошо, прошу вас, начинайте вы! В конце концов, ведь это ваш кобель тогда… Да, но прежде чем мой кобель, ваша сука тоже… а до нее многие суки от многих кобелей… Но должен же кто-то начать — ты или он, вы или я… Итак: давным-давно, много-много закатов тому назад, задолго до того, как мы появились на свет, уже текла, не отражая нас в своих водах, Висла, текла каждый божий день и впадала куда следует.
Летописца, чье перо выводит эти строки, в данное время зовут Брауксель, и он по роду работы командует то ли рудником, то ли шахтой, где добывается, однако, не руда, не уголь и не калийная соль, но где, тем не менее, в поте лица своего трудятся сто тридцать четыре рабочих и служащих, вкалывая на откаточных штреках и промежуточных горизонтах, в забоях и квершлагах, не покладая рук ни в бухгалтерии, ни на отгрузке, и все это изо дня в день, из смены в смену.
Неуправляемо и коварно несла свои воды Висла в прежние времена. Покуда не созваны были многие тысячи землекопов и в году одна тысяча восемьсот девяносто пятом не прорыли между косовыми деревнями Шивенхорст и Никельсвальде, с севера к югу протоку, так называемый «стежок». И он, этот стежок, приняв воды Вислы в свое прямое, как по шнурку протянутое русло, уменьшил опасность наводнений и паводков.
Летописец Брауксель по большей части пишет свое имя через «кс», как «ксиву», но иногда и через «хс» — Браухсель. А иной раз, в соответствующем настроении, он именует себя Брайксель, почти как Вайксель, то бишь Висла по-немецки. Игривость и педантизм водят его рукою попеременно и ничуть друг другу не мешают.
От горизонта к горизонту протянулись вдоль Вислы дамбы, и под присмотром главного комиссара водорегулирующих сооружений в Большой Пойме Мариенвердер надлежало этим дамбам противостоять как могучим весенним половодьям, так и августовским «доминиканским» паводкам[4]. И не приведи Бог, если в дамбе заводились мыши.
Тот, чье перо выводит сейчас эти строки, тот, кто командует то ли рудником, то ли шахтой и пишет свое имя по-разному, изобразил на расчищенной для такого случая столешнице с помощью семидесяти трех сигаретных «бычков», добытых честным двухдневным трудом заядлого курильщика, русло Вислы в двух вариантах — до и после урегулирования: табачная труха вперемешку с рыхлым серым пеплом обозначит течение реки со всеми его тремя устьями, обгорелые спички — это дамбы, что удерживают строптивую реку в ее зыбких берегах.
Итак, много-много закатов тому назад: вот и господин главный комиссар водорегулирующих сооружений не спеша спускается вниз по склону, где возле села Кокоцко, аккурат против меннонитского кладбища, в восемьсот пятьдесят пятом прорвало дамбу — в кронах деревьев потом неделями торчали гробы — он же, пеший ли, конный или на лодке, в своем неизменном сюртуке с неизменной чекушкой рисовой араки в оттопыренном кармане, он, Вильгельм Эренталь[5], тот самый, что в свое время в потешных и торжественных, на античный манер сложенных виршах сочинил знаменитую «Дамбоспасательную эпистолу», после публикации преподнеся ее с дружественным напутствием всем окрестным смотрителям дамб, сельским учителям и меннонитским проповедникам, он, упомянутый здесь в первый и последний раз, дабы никогда больше не появиться на этих страницах — вот он блюдет свой неусыпный дозор вверх ли, вниз по течению, пристально оглядывая плетеные перемычки и полузапруды-буны и нещадно гоняя с дамбы поросят, ибо согласно земельно-правовому уложению от ноября месяца года одна тысяча восемьсот сорок седьмого, параграф восемь, пункт два, «запрещается всякой скотине, пернатой равно копытной, на дамбах пастись и особливо рыться».
По левую руку солнце падает к закату. Брауксель ломает надвое спичку: второе устье Вислы возникло второго февраля тысяча восемьсот сорокового без какого-либо участия землекопов, когда река, запруженная льдом, прорвала косу, слизнув по пути две деревни, что, в свою очередь, привело к образованию двух новых селений, рыбацких деревушек Западный Нойфер и Восточный Нойфер. Однако, сколь ни богаты обе эти деревушки своими байками, преданиями и замечательными небывальщинами, мы будем вести речь главным образом о двух других, что расположились на восточном и западном берегах первого — не по времени, но по течению — устья: Шивенхорст и Никельсвальде были, да и сейчас остаются последними деревнями вдоль «стежка», между которыми есть паромная переправа, ибо уже пятьюстами метрами ниже мутный исток Вислы, чаще глинисто-желтый, чем пепельно-серый, изливается с просторов нынешней Польской республики в почти пресные (ноль целых восемь десятых процента соли) воды Балтийского моря.
Тихо, словно заклинание, бормоча под нос заветную цитату: «Висла — это широкая, с каждым воспоминанием все более привольная река, вполне судоходная, несмотря на обилие песчаных отмелей» — Брауксель пускает по столешнице своего письменного стола, превратившейся в наглядный макет дельты Вислы, паромную переправу в виде изрядно потертого ластика и сей же час, поскольку первая утренняя смена уже заступила, а день начинается громким чириканьем воробьев, водружает девятилетнего Вальтера Мате́рна — ударение по последнем слоге: Мате́рн — на самый гребень никельсвальденской дамбы прямо под лучи заходящего солнца; Вальтер скрежещет зубами.
А что, собственно, происходит, когда девятилетний сын мельника, высвеченный лучами закатного солнца, стоит на гребне дамбы, смотрит на реку и скрежещет зубами наперекор ветру? Это у него от бабки, которая девять лет сиднем просидела в своем деревянном кресле, и только и могла, что глазами лупать.
По воде много всего плывет, и Вальтер Матерн на все на это смотрит. А здесь, перед самым устьем, еще и море помогает. Говорят, в дамбе мыши. Так всегда говорят, коли дамбу прорывает — мол, мыши в дамбе. Меннониты говорят, это, дескать, поляки-католики среди ночи прокрались да мышей в дамбу напустили. А еще говорят, кто-то видел плотинного графа — всадника на белом коне[6]. Но страховая компания не желает верить россказням — ни про поляков-католиков, ни про графа из Гюттланда. Когда дамбу прорвало — из-за мышей — граф, как и положено по преданию, на своем белом коне ринулся навстречу хлынувшей волне, только проку от этого все равно мало, потому что Висла уже поглотила всех плотинных смотрителей[7]. И польских католических мышей тоже. Поглотила и грубых меннонитов, тех, что с крючками и петлями, но без карманов, и меннонитов тонких, с пуговицами, петлицами и с дьявольскими карманами[8], поглотила в Гюттланде и трех прихожан евангелической церкви, а заодно и учителя-социалиста. Поглотила в Гюттланде и скотину мычащую, и резные деревянные колыбельки, поглотила вообще весь Гюттланд — гюттландские кровати и гюттландские шкафы, гюттландские часы с боем и клетки с канарейками, гюттландского проповедника — этот был из грубых меннонитов, с крючками и петлями — поглотила и проповедницкую дочку, а она, говорят, очень была собой хороша.
Все это и много чего еще тащится по воде. Что вообще может нести в своих водах такая река, как Висла? Да все, что идет прахом — дерево и стекло, карандаши, разные написания имени Брауксель, стулья, косточки, но и заходы, закаты. Все, что забыто и быльем поросло, вдруг всплывает в водах Вислы спиной или брюхом вверх и влачится в потоке воспоминаний: вот и Адальберт[9] пришел. Он приходит пешим. И тут его сшибает огромным суком. Но Святнополк[10] все равно примет крещение. А что станется с дочерьми Мествина[11]? Вот одна, босая, бросилась наутек — убежит или нет? Кто возьмет ее с собой? Богатырь Милигедо[12] со своей чугунной палицей? Или огненно-рыжий Перкунас? А может, бледный Пеколс, тот, что все время глядит исподлобья? Отрок Потримпс[13] только посмеивается и жует свои пшеничные колоски. Дубы уже срублены[14]. Еще один скрежет зубовный — и вот уже дочка князя Кестутиса идет в монастырь[15]. Двенадцать рыцарей без голов, двенадцать монахинь без голов, зачем они пляшут на мельнице? Мельница крутится, мельница вертится, монашки и рыцари на Сретенье встретятся; крутится мельница, вертится мельница, души в муку, а мука что метелица; крутится мельница, вертится мельница, последним куском мы с костлявой поделимся; мельница вертится, мельница крутится, монашки и рыцари стерпятся-слюбятся… когда, однако же, мельница заполыхала изнутри и к ней стали подкатывать экипажи для безголовых рыцарей и безголовых монахинь, и когда много позже — заходы, закаты — святой Бруно[16] прошел сквозь пламя, а разбойник Бобровский со своим дружком Матерной[17], от которого все и пошло, ходили по дворам и подпускали красного петуха всюду, где на воротах уже были кем-то услужливо намалеваны кресты, — закаты, заходы — и Наполеон, до и после[18], когда город был осажден по всем правилам военного искусства, ибо на нем были неоднократно и с переменным успехом опробованы знаменитые пороховые ракеты Конгрева[19] — но и в самом городе, и на его укреплениях, на бастионах Волк, Медведь, Буланый и на бастионах Выскок, Кролик и Девкина Дырка, задыхались в чаду французы, чертыхались от бессильной злобы поляки с их князем Радзивиллом[20], тщетно надрывал глотки полк однорукого капитана де Шамбюра. Однако пятого августа к городу подступил доминиканский паводок, вода без всяких штурмовых лестниц с первого приступа взяла бастионы Буланый, Кролик и Выскок, подмочила пороха, с шипением и треском загасила в своих толщах грозные ракеты Конгрева и запустила в город, в его улочки и закоулки, кладовки и кухни несметные полчища рыбы, особливо щук — вот уж кто поживился на славу, хоть провиантские склады на Хмельной улице к тому времени и были сожжены, — заходы, закаты. Такой реке, как Висла, все к лицу и все ее красит: закаты и кровь, глина и пепел. Ей бы улететь вместе с вольным ветром. Но не всякая воля исполняется, и реки, которым так хочется в небо, тоже впадают в Вислу.
ВТОРАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Вот она, здесь, на столешнице у Браукселя, и перекатывается через шивенхорстскую дамбу, изо дня в день. А на никельсвальденской дамбе стоит Вальтер Матерн и скрежещет зубами — ибо вода сходит. Как отмытые, помолодев, обнажаются из-под воды дамбы. Только скрещенные крылья ветряков, туповерхие колокольни да тополя — Наполеон приказал посадить их тут для прикрытия своей артиллерии — лепятся, как приклеенные, на их гребнях. И он, Вальтер, стоит один-одинешенек. Правда, с собакой. Но та не стоит, носится, то она там, то тут. За его спиной, уже в полумраке и ниже уровня реки, раскинулась отвоеванная людьми Пойма и пахнет маслом, сывороткой, сливками, сыроварнями, почти до тошноты пахнет здоровьем и молоком. Вот он стоит, девятилетний пацан, по-хозяйски расставив ноги с багрово-синюшными коленками, растопырив обе свои пятерни, прищурив глаза и напыжившись так, что все шрамы и царапины, все отметины и следы падений, драк и нырков под колючую проволоку на его стриженой макушке набухают от напряжения, вот он, Вальтер Матерн, скрежещет зубами, двигая челюстью слева направо — эта привычка у него от бабки — и ищет камень.
А на дамбе хоть шаром покати. Но он все равно ищет. Сухие сучки есть, это он видит. Но сухой сучок против ветра не швырнешь. А ему хочется, надо, невтерпеж швырнуть. Мог бы свистнуть, подозвать Сенту, которая то тут, то там, но не свистит, только скрежещет зубами — чтобы ветер заглушить — и хочет что-нибудь швырнуть. Мог бы криком «Эй, ты!» обратить на себя взор Амзеля, что копошится внизу под дамбой, но во рту у него только скрежет зубовный и нет места ни для какого «Эй, ты!», и ему хочется, надо, очень надо швырнуть, а в карманах, как назло, ни одного камушка; обычно-то у него в каком-нибудь из карманов обязательно камушек найдется, если не два, а сейчас нету.
Такие камушки в здешних местах называют «голышами». Евангелические говорят — «голыши», и немногие католики — тоже говорят «голыши». Грубые меннониты — «голыши». И тонкие меннониты — «голыши». И Амзель, который вообще-то любит быть не таким, как все, тоже говорит «голыш», когда имеет в виду камень. И Сента, если ей сказать «Принеси-ка голыш», обязательно принесет камушек. И Криве говорит «голыш», Корнелиус, Кабрун, Байстер, Фольхерт, Август Шпанагель и майорша фон Анкум — все так говорят; и проповедник Даниэль Кливер из Пазеварка, обращаясь к своей пастве, что к грубым, что к тонким меннонитам, говорит примерно так: «И тады малыш Давид как возьмет голыш, и как заедет ентому дылде Голиафу…»[21]. Потому как «голышом» в здешних местах называют всякий «сподручный», удобный камушек величиной примерно с голубиное яйцо.
Но Вальтер Матерн, как назло, ничего такого в карманах не находит. В правом только крошки да семечки, а вот в левом, между кусками бечевки и бренными останками кузнечика — а зубы тем временем скрежещут, а солнце между тем скрылось, а Висла течет, влача в своих водах что-то из Гюттланда, что-то из Монтау, а Амзель все еще копается, и облака куда-то и Сента против ветра, а чайки на ветру и дамбы чисты как вылизанные, а солнце ушло, ушло, ушло, — он нашаривает свой перочинный нож. Солнце заходит в восточных краях медленнее, чем в западных, это любому ребенку известно. Висла течет от одного небосклона к противоположному. Вот уже от шивенхорстской пристани отделился паром с намерением дотащить, косо идя наперерез течению и всеми силенками упираясь, дотащить два товарных вагона до рельсов узкоколейки, что протянулась от Никельсвальде до Штуттхофа. Как раз сейчас кусок дубленой кожи по имени Криве отвернет от ветра свое бычье лицо и начнет ощупывать неморгающим, почти без ресниц, взглядом противоположную дамбу: лениво вращаются крылья ветряка, а вон тополя — Криве их наперечет знает. Глаза у него слегка навыкате, и выражение в них несгибаемое, а рука в кармане. Наконец, он соизволяет опустить взгляд чуть пониже — а что это там копошится возле самой воды, этакое смешное и круглое, и, похоже, норовит что-то выудить из Вислы. Да это же Амзель охотится за старьем. А зачем ему старье, это любому ребенку известно.
Дубленому Криве, однако, неизвестно, что такое обнаружил Вальтер Матерн в своем кармане, обшаривая его в тщетных поисках голыша. И пока Криве прячет свое сыромятное лицо от ветра, нож в ладони Вальтера Матерна потихоньку согревается. Это Амзель ему нож подарил. Три лезвия, штопор, пилка и даже шило. Краснощекий увалень Амзель, уморительно смешной, когда он плачет. Амзель, который сейчас внизу под дамбой копается в прибрежной тине, ибо хотя сейчас Висла медленно, пядь за пядью, на палец в час, отступает, но когда от Монтау до Кэземарка потоп, она поднимается до самого гребня дамбы и оставляет разные вещи, иной раз аж из самого Пальшау.
Ушло. Село. Упало там, на горизонте, за дамбу, оставив только разгорающийся багрянец. И тогда — один лишь Брауксель это знает — Вальтер Матерн еще крепче сжимает нож, который покамест у него в кармане. Амзель — тот немного помоложе Вальтера Матерна. Сента, черным-черна, мышкует вдалеке, такая же черная, как багрово закатное небо над шивенхорстской дамбой. Дохлая кошка в ветвях плавника. Чайки совокупляются на лету, шелковистая оберточная бумага на ветру трепещет — то расправится, то свернется; стеклянные глаза-пуговки цепко видят все, что плывет, парит, юркает, шмыгает, затаилось, замерло или просто существует на свете, как существуют две тысячи веснушек на физиономии Амзеля; видят и то, что на голове у него каска, какие носили еще до Вердена[22]. Каска сползает на глаза, надо ее отодвинуть на макушку, она опять сползает, мешая Амзелю выуживать из тины штакетины, жерди и свинцово набрякшее тряпье, — вот тут-то как раз из ветвей на прокорм чайкам вываливается кошка. Мыши снова снуют в недрах дамбы. И паром все еще приближается к берегу. Река несет и вращает дохлую рыжую псину. Сента нюхает ветер. Паром упрямо и зло тащит наперерез течению два товарных вагона. И телку, уже неживую, тоже несет река. Ветер вдруг стих, запнулся, но еще не переменился. Чайки замерли в воздухе, они в недоумении. И вот тут, покуда все это, — паром и ветер, телка и солнце за дамбой, мыши в дамбе и чайки на лету, — Вальтер Матерн достает из кармана зажатый в кулаке нож, прижимает его — а Висла все течет — к шерстяной груди свитерка и стискивает что есть силы, так что костяшки пальцев в разгорающемся зареве отливают мелом.
ТРЕТЬЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Каждый ребенок от Хильдесхайма до Зарштедта знает, что добывается у Браукселя в рудниках — тех самых, что пролегли от Зарштедта до Хильдесхайма.
Каждый ребенок знает, почему сто двадцать восьмой пехотный полк, погрузившись в двадцатом году в эшелон, вынужден был оставить[23] в Бонзаке ту каску, которую носит сейчас Амзель, наряду с множеством других касок, грудой обмундирования и парочкой походных кухонь, именуемых на солдатском наречии «гуляш-мортирами».
А вот опять кошка. Каждый ребенок знает — это уже другая кошка, только мышам это невдомек и чайкам тоже. Кошка плывет мокрей мокрого, дохлей дохлого. А вот и еще что-то несет, не собаку и не овцу, эге, да это платяной шкаф. С паромом он вроде уже разминулся. И в тот миг, когда Амзель вытягивает из тины очередную жердь, а кулак Вальтера Матерна сжимает нож что есть силы, до дрожи — в этот миг кошка обретает свободу: ее подхватывает течением и несет в открытое море, в открытое небо… Чайки все меньше, мыши шебаршатся в дамбе, Висла течет, нож в кулаке дрожит, ветер называется норд-вест, дамбы молодеют на глазах, море всеми силами упирается, не пуская в себя реку, солнце все еще заходит и никак не зайдет, а паром все еще тащится, тащит себя и два вагона, наперерез течению. Паром не опрокинется, дамбы не прорвутся, мыши ничего не боятся, солнце вспять не повернет, и Висла не повернет вспять, и паром не повернет, и кошка, и чайки, и облака, и пехотный полк, Сента не хочет обратно к волкам, а хочет умница, умница, умница… Вот и Вальтер Матерн не хочет класть обратно в карман тот перочинный нож, что недавно подарил ему толстяк-коротышка-увалень Амзель; наоборот, кулаку, что сжимает в себе нож, даже удается побелеть еще чуточку сильнее. И зубы где-то над кулаком скрежещут слева направо. Но вот кулак чуть разжался, и покуда вокруг все течет, движется, тонет, влачится, кружит, прибывает, убывает — кровь, что застоялась в запястье, теплой волной приливает к ладони, и Вальтер Матерн легко вскидывает за голову кулак с теплым ножом, вот он уже стоит только на одной ноге, да и то на носке, почти на цыпочках, на кончиках пальцев, что привычно мерзнут в зашнурованном ботинке, потому что без чулка, как бы приподняв весь свой вес и уже перенеся его назад, за плечо, в закинутую руку, и не целится никуда, и даже почти не скрипит зубами: и в этот быстротекущий, уходящий, уже канувший миг — даже Браукселю его не спасти, ибо он забыл что-то, напрочь забыл, — вот сейчас, когда Амзель отрывает наконец взгляд от прибрежной слякоти и сдвигает стальную каску с одной тысячи своих веснушек на вторую, со лба на затылок, — в этот миг выкинутая вперед ладонь Вальтера Матерна уже пуста, легка и сохраняет лишь вмятины, отпечаток перочинного ножа, у которого имелось три лезвия, штопор, пилка и даже шило; а в пазах рукоятки забились морские песчинки, остатки мармелада, сосновые иголки, труха от коры и сгустки кротовой крови; ножа, за который запросто можно было выменять новый велосипедный звонок; даже не украденного, а честно купленного Амзелем на честно заработанные деньги в лавке у собственной матери, а потом подаренного им своему другу Вальтеру Матерну; нож, который прошлым летом во дворе у Фольхертов пригвоздил к воротам сарая бабочку, а под паромной пристанью, куда причаливает Криве, однажды за один день прикончил четырех крыс, в дюнах едва не прикончил кролика, а две недели назад пронзил крота, прежде чем того успела взять Сента. Пока что ладонь все еще хранит на себе отпечаток ножа, того самого, которым Вальтер Матерн и Эдуард Амзель, когда им было по восемь лет и очень хотелось заключить кровное братство, сделали себе надрезы на руке, там, где мускулы, потому что Корнелиус Кабрун, который был в немецкой Юго-Западной Африке[24] и знает обычаи готтентотов, так им рассказывал.
ЧЕТВЕРТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Тем временем — ибо пока Брауксель изучает историю ножа, пока он экспериментальным путем исследует траекторию полета ножа с учетом силы броска, сопротивления ветра, закона всемирного тяготения, времени у него остается ровно столько, что он едва успевает засчитать себе целый рабочий день от одной смены до другой и написать «тем временем» — так вот, тем временем Амзель тыльной стороной ладони сдвигает каску со лба на затылок. Взгляд его скользит вверх по склону дамбы, успевает заметить и бросок, и бросившего, и перехватить на лету брошенный предмет; а нож, утверждает Брауксель, тем временем достиг той высшей точки, какой достигает всякий предмет, движущийся вверх под воздействием внешней силы — а тем временем Висла течет, кошка дрейфует, чайка кричит, паром приближается, сука Сента чернеет на фоне неба, а солнце все заходит и никак не зайдет.
Тем временем, ибо когда брошенный предмет достигает той высшей точки, после которой начинается падение, он на секунду как бы замирает, пребывая в кажущейся неподвижности, — так вот, пока нож на секунду замирает в этой точке, Амзель отрывает от него взгляд и снова — а нож тем временем начинает падать в воду, стремительный и обреченный под порывами встречного ветра — снова смотрит на своего друга Вальтера Матерна, который все еще балансирует на одной ноге в зашнурованном ботинке, без чулка, правая рука все еще вытянута, а левая для равновесия загребает воздух.
Тем временем — ибо пока Вальтер Матерн балансирует на одной ноге, стараясь сохранить равновесие, пока Висла и кошка, мыши и паром, Сента и солнце, пока перочинный нож падает в воду — на руднике Браукселя заступила очередная утренняя смена, а ночная, наоборот, отшабашила и разъехалась по домам на велосипедах, комендант запер штейгерский барак, а воробьи во всех канавах возвестили приход нового дня… Амзелю тогда все же удалось — то ли своим шустрым взглядом, то ли чуть менее шустрым криком — вывести Вальтера Матерна из едва сохраняемого равновесия. И хотя тот и не свалился с самой кромки никельсвальденской дамбы, однако качнулся, зашатался и накренился так, что потерял из вида свой нож и не углядел, как тот соприкоснулся с водами Вислы и юркнул в глубь.
— Эй, Скрыпун! — кричит Амзель. — Опять зубами скрипишь и швыряешься чем ни попадя?
Вальтер Матерн, которому адресованы и этот вопрос и кличка Скрыпун, уже снова твердо стоит на ногах, сверкая ободранными коленками и потирая ладонь своей правой руки, на которой остывающим контуром меркнет отпечаток ножа.
— Ты же видел, что швыряюсь, чего зря спрашиваешь?
— Но ты не голышом швырнулся.
— А если нет голыша.
— А чем ты швырнулся, коли голыша нет?
— Кабы у меня был голыш, я б голышом швырнулся.
— Чего же ты Сенту не послал, она бы тебе принесла.
— Этак любой дурак скажет: «Чего же ты Сенту не послал». Попробуй, пошли эту тварь, она вон за мышами носится.
— Чем же ты тогда швырнулся, коли голыша не было?
— Заладил тоже — чем да чем? Чем надо, тем и швырнулся. Будто сам не видел.
— Ты ножиком моим швырнулся.
— Это мой был ножик. Подарок, он подарок и есть. Кабы у меня голыш под рукой был, разве стал бы я ножом швыряться.
— Мог бы сказать по-человечески, что у тебя там голыша нет, я б тебе мигом бросил, у меня их тут навалом.
— Чего зря языком молоть, все равно его уже не вернешь.
— Может, мне новый подарят на Вознесение.
— А я, может, не хочу новый.
— Ну, если бы я тебе его отдал, захотел бы.
— А спорим, что не возьму?
— А спорим, что возьмешь?
— А спорим, что нет?
— А спорим, что да?
И они ударили по рукам — зажигательное стекло против оловянных гусаров, — причем Амзель подает свою веснушчатую ладонь снизу, а Вальтер Матерн, наклонившись, тянет свою, еще с отпечатком ножа, ему навстречу, и, скрепив спор рукопожатием, одновременно втаскивает Амзеля на гребень дамбы.
Амзель настроен миролюбиво:
— Ты такой же чудной, как ваша бабка на мельнице. Она тоже зубами скрипит, какие у нее еще остались. Правда, она у вас не швыряется. Зато поварешкой дерется дай боже.
Сейчас, когда оба стоят на дамбе, видно, что Амзель росточком пониже. Говоря о бабке Вальтера Матерна, он тычет большим пальцем через плечо, где позади дамбы вдоль дороги растянулась деревушка Никельсвальде, а чуть поодаль виднеется принадлежащая Матернам ветряная мельница. Амзель тянет вверх по склону дамбы свою сегодня не слишком богатую добычу — связку штакетин, жердин, выкрученного тряпья. Рука его то и дело тянется к каске, которая застит ему глаза. Паром уже причалил к никельсвальденской пристани. Слышен лязг двух вагонов. Черное пятно, Сента, то больше, то меньше, снова больше, приближается. Снова тащится мимо какая-то утопшая животина. Висла течет, во всю ширь расправив плечи. Вальтер Матерн кутает правую руку в драную бахрому свитера. Между ним и Амзелем твердо стоит на всех своих четырех лапах Сента. Вываленный налево язык ритмично подрагивает. Она не сводит глаз с Вальтера Матерна, потому что он опять зубами. Это у него от бабки, которая девять лет сиднем и только глазами.
Наконец они тронулись — три неодинаковых фигурки движутся по кромке дамбы в сторону пристани. Вот бежит, черным-черна, Сента. Потом, на полшага впереди попутчика, Амзель. Следом, на полшага сзади, Вальтер Матерн. Он волочит сегодняшний улов Амзеля. Трава, примятая связкой досок и тряпья, нехотя распрямляется, покуда вся троица медленно исчезает на дальнем конце дамбы.
ПЯТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Итак, как и было условлено, Брауксель прилежно склоняется над бумагой, а тем временем другие летописцы с не меньшим усердием, добросовестно соблюдая сроки, тоже склонились над картиной прошлого, каждый над своим манускриптом, дав волю безудержному течению Вислы.
Пока что Браукселю нравится припоминать все в точности: много-много лет назад, когда дитя явилось на свет, но еще не могло скрежетать зубами, ибо, как и все дети на земле, явилось на свет беззубым, бабка Матернов сидела в своей верхней горенке, прикованная к своему стулу, вот уже девять лет не в силах пошевельнуться, а в силах только вращать глазами, лопотать что-то невразумительное и пускать слюни.
Верхняя горенка — это такая комната, нависающая над кухней, одним окном выглядывающая во двор, чтобы можно было присматривать за прислугой, а другим — на ветряную мельницу Матернов, примечательную тем, что она посажена на козлы и тем самым вот уже более ста лет являла собой классический тип мельницы немецкой. Матерны построили ее в одна тысяча восемьсот пятнадцатом году, вскоре после взятия города и крепости Данциг доблестью победоносного российского и прусского оружия; благо Август Матерн, дед нашей прикованной к стулу старушенции, во время длительной, нудной и ведущейся без всякого азарта осады города сообразил организовать весьма выгодные сделки, так сказать, с двойным дном: с одной стороны, с весны он начал поставлять некоему заказчику, платившему за это полновесными серебряными талерами, штурмовые лестницы, с другой же, получая в уплату за эти услуги так называемые «талеры с листьями»[25], а также еще более вожделенную брабантскую валюту[26], контрабандой отправлял в Данциг генералу графу д’Оделе коротенькие депеши, в коих делился своими недоумениями: с какой это стати весной, когда до сбора яблок еще Бог весть сколько времени, русским понадобилась такая уйма приставных лестниц.
А когда генерал-губернатор граф Рапп[27] в конце концов подписал акт капитуляции крепости, в отдаленной деревушке Никельсвальде Август Матерн, выложив дома на столе изрядную горку датских монет — так называемых «специй» и «двух третей», — горку быстро поднимающихся в цене рублей, горку гамбургских марок, талеров обычных и талеров с листьями, мешочек голландских гульденов и стопку только что добытых данцигских «бумаг»[28], счел, что он неплохо обеспечен и предался радостям строительства: старую мельницу, в которой, по преданию, после сокрушительного поражения Пруссии[29] соизволила переночевать королева Луиза, ту мельницу, чьи махи, иглицы и дранка пострадали сперва от датской атаки с моря, а затем при ночном яростном прорыве отступающего добровольческого корпуса капитана де Шамбюра, Август Матерн распорядился снести всю, кроме козел, где дерево было еще добротным, и водрузил на старые козлы новую мельницу, которая благополучно просидела на них своим гузном до той поры, покуда бабке Матерн не пришлось на долгие годы засесть в кресло в полной неподвижности. В этом месте Брауксель решает, пока не поздно, ввернуть, что на свои сбережения, доставшиеся когда тяжким трудом, а когда и легкой смекалкой, Август Матерн не только отгрохал себе новую мельницу на старых козлах, но и пожертвовал часовне в Штегене, где жили кое-какие католики, фигурку мадонны, которая, впрочем, хоть даритель и не поскупился на сусальное золото, не явила миру ни чудес, ни сколько-нибудь заметного паломничества.
Вообще католицизм семейства Матернов определялся, как и положено в семье мельника, тем, откуда ветер дует, а поскольку на побережье в любой день какой-никакой ветерок обязательно сыщется, ветряное колесо мельницы Матернов худо бедно крутилось круглый год, как крутилось и все семейство, воздерживаясь от чрезмерно частых и раздражающих соседей-меннонитов походов в церковь. Только на крестины и похороны, на свадьбы или по большим праздникам часть семьи отправлялась в Штеген, да еще раз в году по случаю праздника тела Христова и положенной в этот день процессии, вся мельница, включая козлы со всеми их шпонами и гнездами, мельничные балки и постав, кружловина, седло и поворотный брус, а перво-наперво крылья со всеми их щитиками окроплялись святой водой и осенялись крестным знаменем, — роскошь, которую, кстати говоря, Матерны ни в жизнь не смогли бы себе позволить в таких истово-меннонитских деревнях, как Юнкеракер или Пазеварк. Однако меннониты деревни Никельсвальде, которые все как один выращивали на жирных землях поймы тучную пшеницу и волей-неволей зависели от католической мельницы, обнаруживали куда больше учтивости, то есть не боялись носить одежду с пуговицами, а особливо с настоящими карманами, благо туда было что положить. Один только рыбак и никудышный крестьянин Симон Байстер оставался истовым меннонитом, с крючками и петлями, был неучтив и без карманов, поэтому на его лодочном сарае красовалась деревянная вывеска с надписью завитушками:
Кто крючки да петли носит, Того Боженька не бросит. У кого карман да пуговицы, Тот навек с чертями спутается.Но Симон Байстер был в Никельсвальде один такой, кто возил молоть свое зерно не на католическую мельницу, а в Пазеварк. Однако, похоже, это все-таки не он в тринадцатом году, незадолго до большой войны, уговорил спившегося батрака из Фраенхубена подпалить мельницу Матернов чем только можно и со всех концов. Пламя уже выбивалось из-под козел и станины, когда Перкун, молодой пес работника Павла, которого, впрочем, никто иначе как Паулем не называл, неистово мечась вокруг мельницы черным волчком и оглашая округу сухим, хриплым лаем, все-таки заставил и Павла, и его хозяина-мельника выйти на крыльцо.
Павел, или, проще говоря, Пауль, привел с собой этого зверюгу из Литвы и охотно показывал всем желающим нечто вроде его родословной, из которой явствовало, что бабка Перкуна по отцовской линии была то ли польской, то ли литовской, то ли русской волчицей.
А Перкун зачал Сенту; Сента принесла Харраса; Харрас зачал Принца; а Принц творил историю… Но пока что бабка Матернов все еще сиднем сидит в своем кресле и может только лупать да вращать глазами. Не в силах шевельнуться, она вынуждена просто наблюдать, как невестка хлопочет по дому, сын возится на мельнице, а дочь Лорхен бог весть чем занимается с работником Павлом. Но работник пропадет на войне, а Лорхен после этого малость потеряет рассудок — с этой поры она повсюду, в доме и на огороде, на мельнице и на дамбе, в зарослях крапивы и в сарае у Фольхертов, в дюнах и босиком по прибрежному песку, за дюнами и в чернике прибрежной рощи — всюду будет искать своего Пауля, о котором так никогда и не узнает, кто — пруссаки или русские — загнали его в сырую землю. И только пес Перкун неизменно будет сопровождать в этих поисках кротко увядающую молодицу, делившую с ним одного господина.
ШЕСТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Итак, давным-давно, — Брауксель отсчитывает годовщины по пальцам, — когда в мире уже третий год шла война, Пауль сгинул где-то в мазурских болотах, Лорхен с псом бродила по всей округе, а мельник Матерн по-прежнему продолжал таскать мешки, поскольку стал плохо слышать на оба уха и для армии не годился, — в один прекрасный солнечный день бабка Матернов сидела дома одна, поскольку все ушли на крестины, — сорванец и большой любитель швыряться перочинным ножом из предшествующих утренних смен в этот день был наречен именем Вальтер, — сидела сиднем, вращала глазами, что-то бормотала, пускала слюни, но тем не менее, увы, не могла произнести ничего вразумительного.
Она сидела в своей горенке, и по лицу ее пробегали стремительные тени. Лицо то вспыхивало, то исчезало в тени, то высвечивалось, то темнело. И мебель, целиком и частями, — карниз буфета, горбатая крышка сундука, красный, вот уже долгих девять лет несминаемый плюш резной молельной скамеечки, — все это вспыхивало, меркло, теряло и вновь обозначало свои очертания то в дрожащей пыльной взвеси солнечной дорожки, то в сером беспыльном полумраке на лице бабки и на ее мебели. На ее чепце и ее любимом, голубого стекла, бокале в горке буфета. На бахроме рукавов ее ночного халата. На выскобленном добела полу и на шустрой, примерно в ладонь величиной черепахе, которую подарил ей когда-то их работник Пауль и которая, поблескивая панцирем и бодро переползая из угла в угол, питалась листьями салата, оставляя на своем любимом лакомстве ровные полукруглые надкусы, и давно Пауля пережила. И эти листья, рассыпанные по всему полу верхней горенки и окаймленные аккуратным орнаментом черепаховых надкусов, тоже то и дело мерцали — блик, блик, блик, — ибо во дворе за домом, усердно и в соответствии со скоростью ветра, составлявшей восемь метров в секунду, вращала своими крыльями матерновская мельница, перемалывая пшеницу в муку и заодно успевая за каждые три с половиной секунды застить солнце четыре раза.
Примерно в то же время, когда в горнице у бабки творилась эта демоническая свистопляска света и тени, крестный младенец тронулся в путь по проселочной дороге через Пазеварк и Юнкеракер в Штеген — к своей крестильной купели, а подсолнухи у забора, что отгораживал участок Матернов от проселка, раскрывались все шире и шире, наклоняясь друг к другу и млея на том самом солнце, которое четыре раза за три с половиной секунды успевали застить крылья ветряной мельницы, — подсолнухи, они-то могли услаждаться солнцем без малейших перерывов, ибо мельница между ними и солнцем никогда не встревала, только между солнцем и домом, причем даже в полдень встревала между неподвижной, сиднем сидячей бабкой и солнцем, которое в здешних краях светит хоть и не бесперечь, но достаточно часто.
Так сколько уже лет бабка Матернов прикована к креслу?
Девять лет в верхней горенке.
Сколько-сколько — за геранями, ледяными узорами, вьюнками и душистым горошком?
Девять лет — свет-тень, свет-тень со стороны мельницы.
А кто же это ее так надолго усадил?
Это невестушка ее, Эрнестина, в девичестве Штанге, ей так удружила.
Да как же такое могло случиться?
Эта евангеличка из Юнкеракера сперва выжила Тильду Матерн, которая в ту пору еще вовсе не была бабкой, скорее, напротив, крепкой и громогласной хозяйкой, из кухни, затем распростерла свое влияние по всему дому до прихожей, и обнаглела до того, что даже в праздник тела Христова стала мыть окна. Когда же Тина попробовала выжить свекровь и со скотного двора, тогда, в курятнике, в первый раз дошло и до рукопашной, да так, что от кур только перья летели, — женщины лупили друг друга кормовыми лоханями.
Все это, вычисляет Брауксель, должно было случиться году эдак в девятьсот пятом; ибо, когда двумя годами позднее Тина Матерн, в девичестве Штанге, все еще не выказывала ни малейшего интереса к зеленым яблокам и соленым огурцам, а по ее месячным можно было хоть календарь сверять, Тильда Матерн заявила своей невестке, которая, скрестив руки, нагло стояла перед ней в верхней горенке:
— Не зря я всю жисть думала, что кажной евангеличке черт мышей в дырку запускает. Они там все и грызут, вот ничего оттудова и не выходит, только вонь одна.
После этих слов разразилась настоящая религиозная война, причем сражение велось деревянными поварешками и закончилось для католической стороны весьма плачевно: дубовое кресло, то, что стояло между кафельной печкой и молельной скамеечкой, приняло в свои объятия Тильду Матерн, когда ее хватил удар. С тех пор она девять лет сидела на этом троне безотлучно — за исключением тех недолгих минут, когда чистоты ради Лорхен и служанка приподнимали ее с кресла справить нужду.
Когда девять лет прошло и вдруг выяснилось, что в лоне у евангеличек вовсе не заводятся дьявольские мышки, которые все сгрызают и ничему не дают созреть, а что, напротив, лоно это способно выносить и не что-нибудь, а даже сына, — бабка Матерн, покуда в Штегене при хорошей погоде шли крестины, по-прежнему и все так же несдвигаемо сидела в своем кресле. А под верхней горенкой, внизу на кухне, в духовке жарился гусь, истекая и шипя собственным жиром. Он шипел и жарился на третьем году большой войны, когда гуси стали настолько редкими птицами, что их уже даже причисляли к вымирающим видам животного мира. А Лорхен Матерн, — та самая, с родимым пятном, плоской грудью и кучерявыми волосами, Лорхен, которой не досталось мужа, потому что ее Пауль в сырой земле, — Лорхен, которой надлежало за гусем неустанно следить, гуся жиром поливать, гуся переворачивать, приговаривать над ним заветные слова и прибаутки — вместо этого встала между подсолнухов у забора, который новый работник по весне, слава Богу, хоть побелил, твердя поначалу ласково, потом озабоченно, потом с досадой, а затем опять по-хорошему, снова и снова одни и те же слова кому-то за забором, кому-то, кто за забором вовсе не стоял и не проходил мимо в смазанных, хотя и скрипучих сапогах, и в шароварах, и тем не менее звался Паулем и даже Паульчиком и якобы ей, Лорхен, стареющей барышне с водянистым взором, что-то должен был отдать, что он у нее забрал. Но Пауль ничего не отдавал, хотя время вроде было подходящее — тихо, если не считать жужжания летней мошкары — и ветер со скоростью восемь метров в секунду наконец-то подобрал обувку по размеру и так ловко подгонял крылья мельницы, что те крутились, похоже, даже быстрее ветра и всего лишь за один помол превратили пшеницу крестьянина Мильке — он как раз приехал молоть — в превосходную пшеничную муку.
Ибо, хотя сын мельника и принимал крещение в деревянной часовне в Штегене, мельница Матерна даже по такому торжественному случаю не простаивала. Помольный ветер не должен пропадать зря. Для ветряной мельницы праздников не бывает, бывают только помольные дни и безветренные. А для Лорхен Матерн бывали только дни, когда ее Паульчик проходил мимо и останавливался у забора, и дни, когда никто мимо не проходил и у забора не останавливался. Когда колесо мельницы крутилось, Паульчик приходил и останавливался. Тявкал Перкун. Вдалеке, за наполеоновскими тополями, за избами Фольхертов, Мильке, Карбунов, Байстеров, Момбертсов и Криве, за плоской крышей школы и за молочным двором Люрмана сонным мыком перекликаются коровы. А Лорхен все твердит свое ласковое «Пауль-Паульчик», снова и снова «Пауль-Паульчик», а тем временем гусь в духовке, без полива, переворотов и прибауток покрывается все более поджаристой праздничной корочкой.
— Ну отдай мне! Отдай сейчас же! Ну не будь таким. Зачем ты так? Отдай, пожалуйста, ты же знаешь, как мне это нужно. Отдай, не будь, ну почему же ты не хочешь…
Никто, ничего. Пес Перкун, вывернув голову на упругой шее, поскуливает вслед уходящему прохожему. Коровы набираются молока. Мельница восседает гузном на козлах и мелет зерно. Подсолнухи, кланяясь друг другу, творят свою таинственную молитву. В воздухе гудит мошкара.
А тем временем гусь в печке начинает подгорать, сперва потихоньку, а затем все быстрее и недвусмысленней, в связи с чем бабка Матерн в своей верхней горенке над кухней начинает в беспокойстве вращать глазами быстрее, чем вертятся крылья мельницы. И покуда в Штегене крестный младенец извлекается из купели, а в верхней горенке черепаха величиной с ладонь переползает с одной выдраенной половицы на другую, бабка Матерн, мелькая в чересполосице бликов и чуя подгорающего гуся, бормочет все громче, все сильнее пускает слюни и пыхтит. И пыхтит так, что сперва из ноздрей, как и у всех старух в столь почтенном возрасте, топорщатся пучки волос, а затем, когда чадный угар заполняет горенку целиком, заставляя черепаху в испуге замереть, а листья салата по полу пожухнуть, из ноздрей у бабки тоже уже валит настоящий дым. Гнев, накапливавшийся в ней девять лет, требует выхода — в старухиной топке разгорается пламя. Словом, Везувий и Этна. Излюбленная адова стихия — огонь, усиливая игру света и тени, заставляет старуху содрогнуться, и вот, девять лет спустя, зловещая и грозная в набегающих бликах, она первым делом пробует сухо скрипнуть зубами слева направо. И не без успеха: немногие пеньки, оставшиеся во рту у бабки Матерн вместо зубов, должно быть, под воздействием гари, со скрипом и скрежетом трутся друг о друга. А тут еще вдобавок к драконьему шипению, скрежету зубовному, к клубам пара и струям огня раздается треск и летят щепки, — это кресло, еще донаполеоновских времен, которое девять долгих лет, за исключением коротких, соображениями опрятности вызванных пауз, носило старухино бренное тело, не выдержало и распалось. В тот же миг черепаху на полу подбросило и перевернуло брюхом вверх. В ту же секунду потрескались и пошли сеточкой многие изразцы на кафельной печке. А внизу лопнул гусь, с шипением испустив из себя богатую начинку. Бабкин же трон, в мгновение ока превратившийся в деревянную труху такого тонкого помола, какой даже мельнице Матернов не снился, пыхнул облаком пыли, вознесясь над полом помпезным и причудливо освещенным памятником самой бренности и скрыв в своих пыльных формах саму бабку Матерн, которая, кстати, участь своего седалища вовсе не разделила и в отличие от оного отнюдь не думала обращаться в прах и тлен. Нет, прах, что медленно оседал на пожухлые листья салата, на перевернутый панцирь черепахи, на половицы и на мебель, был всего лишь дубовой трухой, — сама же старуха, отнюдь еще не трухлявая, но грозная, вовсе не оседала, а напротив, с хрустом и скрежетом, вся в электрических искрах, черно-бело-красных бликах мелькающих крыльев мельницы, поднялась из праха и тлена, скрипнула остатками зубов слева направо и с этим же скрипом сделала первый шаг — из света во тьму, потом снова в свет, шаг в тьму, шаг в свет, перешагнула полумертвую от ужаса черепаху, беззащитную и прекрасную в сернисто-желтой наготе своего панцирного брюшка, целеустремленно зашагала дальше, прочь от своего девятилетнего паралича, не поскользнулась на листьях салата, пнула дверь горенки, распахнув ее настежь, в своих войлочных тапочках спустилась, как воплощенный образец бабкиных доблестей, по лестнице на кухню, ступила, наконец, на ее каменный, посыпанный опилками пол, и в тот же миг обеими руками была в духовке, пытаясь заветными, только ей, бабке, известными кулинарными ухищрениями спасти столь бесславно подгорающего праздничного гуся. Что ей отчасти — после того, как она совсем подгорелое соскребла, пылающие места погасила, а саму птицу заботливо перевернула, — удалось. Но всякий, кто еще имел в Никельсвальде уши, слышал, как, спасая гуся, бабка во всю силу своей отдохнувшей глотки грозно, яростно и отчетливо прикрикивала:
— Ах ты шлюха, ах ты шалава! Где тебя, шлюха, черти носят! Лорхен, шалава! Ну погоди, ты у меня дождешься, шлюха ты поганая! Ах ты стерва! Ах ты шлюха!
И вот она выходит — с тяжелой деревянной поварешкой в руке — из чадной кухни в гудящий жужжанием сад, и в тылу у нее мельница. Она наступает на клубнику слева, на цветную капусту справа, не застревает в кустах крыжовника, впервые за долгие девять лет добирается до свинских бобов, но не останавливается, и вот она уже возле, вот она уже среди подсолнухов, и уже замахивается правой рукой, и молотит поварешкой что есть мочи, в такт ритмичному мельканию мельничных крыльев, по бедной Лорхен, а заодно и по подсолнухам, но не по хитрому Перкуну, который успевает черной молнией метнуться сквозь шпалеры свинских бобов за забор.
Несмотря на удары, а смотря все еще в сторону Пауля, которого там вовсе нет, бедная Лорхен только повизгивает:
— Ну помоги же, Паульчик, ну помоги же, Пауль!
Но на нее обрушиваются только новые колотушки и боевой гимн расколдованной бабушки:
— Ах ты, шлюха! Шлюха поганая! Ах ты, шлюха! Шлюха поганая!
СЕДЬМАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Брауксель уже спрашивал себя, не переусердствовал ли он с чертовщиной, описывая феерию бабкиного освобождения от немощи. Допустим, если добрая парализованная старушка просто так встанет и не без труда поковыляет на кухню, дабы спасти гуся, — разве это само по себе уже не чудо? Так ли уж необходимы клубы пара и огненные стрелы? Треснувший кафель и пожухшие листья? Околевающая черепаха и дубовое кресло, рассыпающееся в прах?
И если Брауксель, — вполне трезвомыслящий человек, вписавшийся как-никак в нелегкую конъюнктуру свободного рынка, — на все эти вопросы вынужден ответить утвердительно, по-прежнему настаивая на огне и дыме, то ему придется эту свою настойчивость обосновать ссылкой на причины. А причина всех этих роскошных эффектов по случаю чудесного исцеления бабки Матерн была и есть только одна: все Матерны, особливо же «скрыпучая», скрежещущая зубами ветвь их рода, — от средневекового разбойника Матерны через бабку, которая была самая что ни на есть Матерн, даром что замуж — и то за кузена вышла, и вплоть до крестного младенца Вальтера Матерна, — все они питали врожденную склонность к грандиозным, можно сказать, почти оперным сценическим эффектам. Так что бабка Матерн в мае семнадцатого года воистину и вправду не просто тихо и как бы само собой восстала из немощи и отправилась спасать гуся, а сперва устроила целый — вышеописанный — фейерверк.
К этому следует добавить вот что: покуда старуха Матерн пыталась спасти гуся, а сразу после этого научить бедную Лорхен уму-разуму с помощью деревянной поварешки, из Штегена, уже миновав Юнкеракер и Пазеварк, направлялась к дому голодная праздничная процессия из трех повозок, каждая в упряжке из двух лошадей. И как ни подмывает Браукселя поведать о последующей трапезе, — поскольку от гуся отодралось не слишком много, пришлось тащить из подвала заливное и солонину, — он вынужден оставить праздничное общество за этим роскошным столом, увы, без свидетелей. Никто никогда не узнает, как в разгар третьего года войны обжирались Ромейкесы и Кабруны, все Мильке и вдова Штанге, набивая животы подгорелой гусятиной, заливным, солониной и маринованной тыквой. Особенно жаль Браукселю эффектной сцены выхода к гостям расколдованной и шустрой, как прежде, старухи Матерн; единственная, кого ему дозволено изъять из этой сельской идиллии и перенести в текст — это вдова Амзель, ибо она приходится матерью нашему толстячку Эдуарду Амзелю, который с первой по четвертую утреннюю смену доблестно трудился, выуживая из поднявшейся Вислы жерди, доски и набрякшее, тяжелое, как свинец, тряпье, а сейчас, сразу за крестинами Вальтера Матерна, пришел и его черед креститься.
ВОСЬМАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Много-много лет назад — если уж рассказывать, то Брауксель больше всего любит сказки — жил в Шивенхорсте, рыбацкой деревушке, что на левом берегу при впадении Вислы в море, торговец Альбрехт Амзель. Керосин и парусина, канистры для питьевой воды и тросы, сети и ящики для угрей, бредни и всякая прочая рыбацкая снасть, деготь и краска, наждачная бумага и нитки, промасленная ткань, вар и смазка, — вот чем он торговал, а еще инструментом всех видов, от топора до перочинного ножа, не считая того, что хранилось на складе — столярных верстаков и шлифовальных кругов, велосипедных шин и карбидных ламп, полиспаста, лебедок и тисков. Морские сухари громоздились здесь вперемешку со спасательными жилетами, спасательный круг, целехонький, только без надписи, уютно обнимал огромную стеклянную банку с солодовыми леденцами; пшеничная водка, любовно именуемая «хлебной», разливалась по стопкам из пузатой, зеленого стекла бутыли в оплетке; ткани на метр и мерный лоскут, но и готовое платье, как ношеное, так и новое, тоже имелось в продаже, а к нему, разумеется, вешалки, подержанные швейные машинки и шарики нафталина. Но несмотря на нафталин и деготь, керосин, карбид и шеллак, в лавке Альбрехта Амзеля — солидном, на бетонном фундаменте, деревянном строении, которое каждые семь лет красили темно-зеленой краской — первым и главенствующим запахом был запах одеколона, а вторым, задолго до того, как начинал чувствоваться и нафталин тоже, был одуряющий аромат копченой рыбы, — ибо Альбрехт Амзель был не просто владельцем мелочной лавки, но и оптовым закупщиком речной и морской рыбы: ящики этой рыбы, сколоченные из легчайшей сосновой планки, золотисто-желтые и битком набитые рыбой, — копченой речной камбалой и копченым угрем, шпротами — россыпью и в снизках, речными миногами, копчушкой, а также знаменитым здешним лососем, как холодного, так и горячего копчения, — красуясь выжженным на верхней стороне наименования фирмы: «А. Амзель / Свежая и копченая рыба / Шивенхорст» — доставлялись в Данциг, на Главный рынок, огромное кирпичное здание между Лавандовым и Юнкерским переулками, между Доминиканской церковью и Староградским рвом, где и вскрывались с помощью средней монтировочной лопатки, в просторечии «фомки». С сухим треском отскакивала крышка, со скрипом вылезали из боковинных досок гвозди, — и вот свет из новоготических стрельчатых окон Главного рынка уже падает на золотистые спинки свежекопченой рыбы.
А сверх того, как делец с дальним прицелом, которому отнюдь небезразлична судьба рыбацких коптилен в дельте Вислы и на всей косе, Альбрехт Амзель держал своего печника по каминам, благо от Пленендорфа до Айнлаге, то есть во всех деревнях вдоль Мертвой Вислы, внешний вид которых благодаря торчавшим в небо трубам коптилен приобретал причудливое сходство с руинами, этому печнику всегда работы хватало: то прочистить камин, в котором ослабла тяга, а то и перебрать наново один из тех гигантских коптильных каминов, что гордо возвышались на рыбацких дворах, превосходя ростом и кусты сирени, и сами понурые рыбацкие хижины, — и все это под вывеской Альбрехта Амзеля, которого, и не без оснований, называли богачом. Так и говорили — «Амзель-богач»; или еще «Амзель-жид». Разумеется, никаким жидом Амзель не был. И хотя и меннонитом он не был тоже, но все же называл себя добрым христианином евангелического вероисповедания, держал в рыбацкой церкви в Бонзаке постоянное место, которое каждое воскресенье было занято, и женился на Лоттхен Тиде, рыжеволосой и склонной к полноте дочери зажиточного крестьянина из Грос-Цюндера. Что примерно должно означать: да как это Альбрехт Амзель мог быть жидом, если кулак Тиде, выезжавший в Кэземарк из Грос-Цюндера не иначе, как на четверке лошадей и в лакированных сапогах, который к самому окружному советнику захаживал как к себе домой, который сыновей своих отдал служить в кавалерию, и не куда-нибудь, а в очень даже недешевые лангфурские гусары[30], — все-таки отдал ему свою дочь Лоттхен в жены.
Потом, правда, многие стали поговаривать, что старик Тиде отдал свою Лоттхен за Амзеля-жида только потому, что он, как и многие другие крестьяне, торговцы, рыбаки и мельники, в том числе и мельник Матерн, многовато — для дальнейшего существования четверки лошадей просто опасно много — Альбрехту Амзелю задолжал. А кроме того, говорили еще, явно желая что-то доказать, что Альбрехт Амзель в свое время решительно не одобрял все меры окружной комиссии по регулированию рынка, направленные на поощрение свиноводства.
Брауксель, которому все известно лучше, чем кому-либо, пока что подводит под всеми этими домыслами промежуточную черту, ибо Альбрехт Амзель, — не важно, любовь или долговые векселя привели к нему в дом Лоттхен Тиде, сидел он в рыбацкой церкви в Бонзаке евреем-выкрестом или обычным крещеным христианином, — Альбрехт Амзель, предприимчивый основатель атлетического кружка «Бонзак 1905» и ведущий баритон местного церковного хора, дослужился на берегах Соммы и Марны[31] до многажды орденоносца, лейтенанта запаса, и сложил голову в девятьсот семнадцатом всего лишь за два месяца до рождения своего сына Эдуарда, неподалеку от крепости Верден.
ДЕВЯТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Вальтер Матерн, подтолкнутый Овеном, увидел свет в апреле. Мартовские Рыбы, шустрые и талантливые, вытянули из материнского лона Эдуарда Амзеля. В мае, когда подгорел гусь, а старуха Матерн восстала из немощи, принял крещение сын мельника. И свершилось это по католическому обряду. Уже в конце апреля сын погибшего торговца Альбрехта Амзеля был крещен по доброму евангелическому обряду в рыбацкой церкви в Бонзаке и, по тамошнему обычаю, окроплен смесью пресной воды из Вислы и чуть солоноватой — из Балтийского моря.
Сколь бы ни отклонялись от мнения Браукселя иные хронисты, те, что вот уже девятую утреннюю смену подряд пишут с ним наперегонки, сколь бы ни расходились они с ним в других вопросах, — в том, что касается крестного младенца из Шивенхорста, все они вынуждены вместе с автором этих строк засвидетельствовать: Эдуард Амзель, Зайцингер, Золоторотик и как там его еще ни называли, останется среди персонажей, коим надлежит оживлять сей торжественный опус, — ибо шахты Браукселя вот уже десять лет не выдают на-гора ни угля, ни руды, ни калийной соли, — наиболее динамичным героем, исключая разве что самого Браукселя.
С младых ногтей призвание его было в изобретении птичьих пугал. И это при том, что против птиц как таковых он ничего не имел; зато уж птицы, сколько бы ни насчитывалось среди них видов и форм, мастей и разновидностей, судя по всему, много что имели против него и против его пугалотворческого духа. Сразу после крестин — колокола еще не успели отзвонить — они его уже распознали. Сам же крепыш Эдуард Амзель, лежа в своем накрахмаленном крестильном конверте, никакого видимого интереса к пернатым не проявлял. Крестной матерью была Гертруда Карвайзе, которая потом исправно, из года в год аккурат к Рождеству, вязала ему шерстяные носки. На ее сильных руках крестник был вынесен из церкви во главе многочисленной праздничной процессии, направлявшейся на нескончаемый и обильный праздничный обед. Сама вдова Амзель, в девичестве Тиде, осталась дома, наблюдая за приготовлениями к столу, давая последние указания на кухне и пробуя соусы. Зато все представители клана Тиде из Грос-Цюндера, за исключением четверых сыновей, несших свою опасную службу в кавалерии, — позже третий сын и вправду погиб, — тяжело ступая в своих добротных сукнах, потянулись вслед за младенцем. Процессия двинулась вдоль Мертвой Вислы: шивенхорстские рыбаки Христиан Гломме и его жена Марта Гломме, урожденная Лидке; Герберт Кинаст и его жена Иоганна, урожденная Пробст; Карл-Якоб Айке, чей сын Даниэль Айке нашел свою смерть на Доггер-банке[32] под флагом кайзеровского военно-морского флота; рыбацкая вдова Бригитта Кабус, чей кутер водил теперь ее брат Якоб Ниленц; а между невестками Эрнста Вильгельма Тиде, которые, щеголяя в розовом, ярко-зеленом и фиалково-голубом, цокали каблучками, черным свежевычищенным пятном затесался старый пастор Блех — потомок того самого знаменитого дьякона А.-Ф. Блеха[33], который, будучи настоятелем церкви Святой Марии, написал хронику города Данцига с 1807 по 1814 год, то бишь когда город был под французами. Фридрих Больхаген, владелец большой коптильни в Западном Нойфэре, шел бок о бок с отставным морским капитаном Бронсаром, который в военное время снова нашел себе применение в качестве добровольца-смотрителя пленендорфских шлюзов. Август Шпонагель, владелец трактира из Весслинкена, на целую голову превосходил ростом свою спутницу, майоршу фон Анкум. Поскольку Дирка Генриха фон Анкума, хозяина поместья в Клейн-Цюндере, с начала пятнадцатого года уже не было в живых, Шпонагель подставлял майорше свой безупречно прямоугольный локоть. Замыкали процессию вслед за супружеской четой Бузениц, что вела в Бонзаке угольную торговлю, шивенхорстский сельский учитель, инвалид Эрих Лау и его бывшая в ту пору уже почти на сносях жена Маргарета Лау, — дочь никельсвальденского сельского учителя Момбера, она не могла позволить себе мезальянс. Смотритель дамб Хаберланд, поскольку он был строго при исполнении, с явным сожалением откланялся сразу после выхода из церкви. Впрочем, не исключено, что шествие усугубляла в длину пригоршня детей, сплошь чересчур белокурых и слишком нарядно одетых.
По песчаным тропкам, которые лишь приличия ради слегка прикрывали извилистые корни прибрежных сосен, общество двигалось правым берегом вдоль реки к поджидающим его повозкам-двойкам, а сам старик Тиде — к своей четверке, за которую он, несмотря на тяготы военного времени и нехватку лошадей, по-прежнему упрямо держался. Песок в туфлях. Капитан Бронсар без умолку громко смеется, потом долго кашляет. Разговоры явно откладываются на после обеда. Прибрежная роща дышит Пруссией. Еле-еле течет река, старица Вислы, к которой лишь благодаря впадению Мотлавы возвращается некое подобие жизни. Солнце бережно освещает праздничные наряды. Невестки старика Тиде зябнут, отсвечивая розовым, ярко-зеленым, фиалково-голубым, и, наверное, не отказались бы от теплых вдовьих платков. Не исключено, что обилие вдовьего черного цвета, статная фигура майорши и величественно ковыляющего подле нее инвалида дали решающий толчок событию, которое, похоже, готовилось с самого начала. Едва процессия вышла из церкви, как над церковной площадью тучей взмыли в воздух обычно почти неподвижные чайки. Не голуби, нет, — на рыбачьих церквях живут чайки, а не голуби. Теперь же из камышей и прибрежной ряски, веером и поодиночке, наискось и пулей вверх, взлетают в воздух выпи, крачки, чирки. Куда-то разом исчезли все чомги. С крон прибрежных сосен неведомой силой поднимает в воздух воронье. Скворцы и дрозды, как по команде, покидают кладбища и палисадники возле беленых рыбацких хижин. Из кустов сирени и боярышника брызгают трясогузки, синицы, щеглы, малиновки и вообще все, кто там гнездится; целые облака воробьев с проводов и из сточных канав; ласточки с амбаров и из-под крыш; словом, все живое, что принято относить к семейству пернатых, взмывает ввысь, рассеивается, улетает стрелой и со свистом, едва завидев нарядный конверт с крестником-младенцем, уносится, постепенно образует черную, зловещую, рваную и мечущуюся по краям тучу, в которую без разбора сбиваются даже птицы, обычно друг друга избегающие: чайки и вороны, пара ястребов среди перепуганных певчих птах, а уж сороки, сороки!
И вот пять сотен птиц, не считая воробьев, темной массой мечутся где-то между людьми и солнцем, пять сотен птиц то и дело отбрасывают на торжественную процессию и на крестника — виновника тожества — тревожную тень, полную значения и смысла.
И пять сотен птиц — ибо кто же считает воробьев? — способны, оказывается, привести гостей в замешательство, отчего они, от инвалида-учителя Лау до всего клана Тиде, все теснее жмутся друг к дружке и сперва молча, а потом все явственней бормоча и все пугливее поглядывая на небо, прибавляют шагу, причем задние напирают на передних, и постепенно переходят на бодрую рысцу. Август Шпонагель спотыкается о сосновые корни. Между капитаном Бронсаром и пастором Блехом, который то ли просто робко воздевает руки к небу, то ли наспех обозначает профессиональный жест усмирения стихий, вклинивается, подхватив юбки, словно в ливень, исполинская фигура майорши и увлекает за собой всех — Гломмов и Кинаста с женой, Айке и вдову Кабус, Больхагена и чету Бузениц; даже инвалид Лау и его супруга на сносях, которая вскоре, но отнюдь не прежде срока, разродится здоровенькой девочкой, хоть и задыхаются, но поспевают за остальными; и только крестная мать, не выпуская из сильных рук крестника-младенца в слегка сбившемся конверте, мало-помалу отстает и самой последней достигает спасительных повозок-двоек и гордой четверной старика Тиде, что ждут их под первыми тополями проселочной дороги на Шивенхорст.
Кричал ли младенец? Нет, даже не хныкал, но и не спал при этом. Рассеялась ли черная туча из пяти сотен птиц и несчетного числа воробьев после того, как праздничный кортеж отнюдь не торжественно, а спешно, чтобы не сказать стремглав, тронулся восвояси? Нет, она долго еще беспокойно кружила над ленивой рекой: то нависала над Бонзаком, то стрелой проносилась над прибрежной рощей и дюнами, а потом растянулась широкой, подрагивающей полосой над противоположным берегом и обронила на болотистый луг ворону — мертвая птица долго еще выделялась на сочной мураве серым неподвижным пятном. Лишь когда повозки въехали в Шивенхорст, туча стала распадаться на различные породы и так, отрядами, возвращаться на церковную площадь и кладбище, в палисадники и под крыши амбаров, в прибрежный камыш и кусты сирени, на кроны сосен; но до самого вечера, когда гости, давно уже сыты и пьяны, грузно попирали локтями длинный праздничный стол, в разновеликих птичьих сердцах царило смятение: ибо пугалотворческий дух Эдуарда Амзеля дал о себе знать всем птицам, когда сам творец еще лежал в своем крестильном конверте. И с тех пор птицы об этом не забывали.
ДЕСЯТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Так кто-нибудь хочет знать, был все-таки Альбрехт Амзель, торговец и лейтенант запаса, евреем или нет? Уж вовсе без причины не стати бы, наверно, в Шивенхорсте, Айнлаге и Нойфэре звать его «богатым жидом». А фамилия? Разве не типично еврейская? Что? Просто дрозд по-голландски? А в средние века голландские переселенцы осушали тут долину Вислы? И принесли с собой всякие словечки, имена-фамилии и ветряные мельницы?
После того как Брауксель на протяжении уже отработанных утренних смен столько раз заверял, что А. Амзель не был евреем, — да вот же, дословно утверждал: «Разумеется, никаким жидом Амзель не был» — он теперь с тем же полным правом — ибо всякое происхождение есть понятие произвольное и условное, — может смело заявить: «Разумеется, Альбрехт Амзель был евреем». Родом он из прусского Штаргарда, из давно осевшей семьи еврейского портного, но уже в юности, шестнадцатилетним пареньком, вынужден был, поскольку в родительском доме было семеро по лавкам, покинуть отчий кров и тронуться в сторону Шнайдемюля, Франкфурта-на-Одере, а потом и Берлина, чтобы четырнадцатью годами позднее, уже обращенным правоверным и зажиточным христианином, добраться — через Шнайдемюль, Нойштадт и Диршау — до устья Вислы. Тому самому «стежку», который сделал Шивенхорст деревней на реке, в ту пору, когда Альбрехт Амзель здесь столь выгодно обосновался, еще и года не стукнуло.
Итак, он открыл здесь свою лавку. А что еще ему здесь было открывать? Пел в церковном хоре. А почему ему не петь в хоре, когда у него такой баритон? Основал вместе с другими атлетический кружок и пуще всех прочих жителей был свято убежден, что он, Альбрехт Амзель, никакой не еврей, а фамилия Амзель происходит из голландского; сколько вон людей с фамилией Шпехт, что означает попросту «дятел», а знаменитый путешественник, исследователь Африки, так и вовсе был Нахтигаль[34], то бишь «соловей», и только Адлер — «орел» — это уж точно еврейская фамилия, но никак не Амзель-дрозд: портновский сын четырнадцать лет весьма усердно предавался забвению своего происхождения и лишь между делом, попутно, но не менее успешно — сколачиванием своего правоверно-евангелического достатка.
А между тем в году одна тысяча девятьсот третьем некий молодой, но не по годам многоумный человек по имени Отто Вайнингер[35] написал книгу. Неповторимое это произведение называлось «Пол и характер», оно было издано в Вене и в Лейпциге и на протяжении шестисот страниц доказывало, что у женщины душа отсутствует. Так как тема эта во времена эмансипации оказалась весьма актуальной, в особенности же потому, что в тринадцатой главе сего неповторимого произведения — она называлась «Еврейство» — доказывалось, что, поелику евреи относятся к женской расе, то душа отсутствует и у евреев, книжная новинка, достигнув высоких, поистине головокружительных тиражей, стала неотъемлемым предметом семейного обихода даже в тех домах, где, кроме Библии, других книг отродясь не держали.
Так гениальное произведение Вайнингера очутилось и в доме Альбрехта Амзеля.
Возможно, торговец никогда бы и не раскрыл сей толстенный фолиант, знай он, что некий господин Пфенниг[36] вот-вот публично назовет Отто Вайнингера плагиатором. Ибо уже в году одна тысяча девятьсот шестом в свет вышла весьма злая брошюра, которая в грубой форме выдвигала обвинения против покойного Вайнингера — многомудрый молодой человек тем временем успел наложить на себя руки — и его коллеги Свободы[37]. Даже Зигмунд Фрейд, отозвавшийся о покойном Вайнингере как о «высокоодаренном юноше», сколь ни осуждал он недопустимый тон брошюры, не мог закрыть глаза на документально зафиксированный факт: главная идея Вайнингера — догадка о бисексуальности — была не оригинальна, ибо первым она осенила некоего господина Флиса[38].
Итак, в полном неведении относительно всего этого, Альбрехт Амзель раскрыл книгу и прочел у Вайнингера (который посредством сноски не преминул мужественно сообщить, что и себя считает представителем еврейства), что у еврея, оказывается, нет души. Еврей не поет. Еврей не занимается спортом[39]. Еврей должен преодолеть в себе свое еврейство… Вот Альбрехт Амзель и стал оное в себе преодолевать, распевая в церковном хоре, основав атлетический кружок «Бонзак 1905», и не только основав, но еще и регулярно, в соответствующем костюме, становясь с сотоварищами в шеренгу, кувыркаясь на поперечных брусьях и на перекладине, прыгая в длину и в высоту, тренируясь в эстафетном беге и насаждая (опять-таки в качестве первопроходца и наперекор ретроградам) по обе стороны всех трех рукавов устья Вислы относительно новый тогда вид спорта — игру в лапту[40].
Брауксель, который с полным знанием дела ведет сию хронику, подобно всем прочим сельским жителям здешних мест так никогда и ничего не узнал бы ни о прусском городишке Штаргард, ни о закройщике-дедушке Эдуарда Амзеля, если бы Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, до конца держала язык за зубами. Много лет спустя после того рокового дня под Верденом она, однако, все же проболталась.
Молодой Амзель, о котором в дальнейшем, хотя и не без перерывов, и пойдет здесь речь, примчался из города к смертному одру своей матери, и та, не в силах более сопротивляться сахарной болезни, прошептала горячечными губами сыну на ухо:
— Ох, сыночек. Прости твоей бедной мамке. Амзель, папка твой, которого ты хоть и не знаешь, но который и вправду твой кровный отец, был, прости Господи, из обрезанных, как говорится. Смотри, как бы тебя на этом не прищучили, коли у них нынче с законами такие строгости.
Эдуард Амзель унаследовал во времена строгих законов[41] — которые, однако, на территории вольного города Данцига еще не применялись — фамильное дело и состояние, дом и все имущество, среди которого имелась и полка с книгами: «Прусские короли», «Великие мужи Пруссии», «Старый Фриц», «Анекдоты», «Граф Шлиффен», «Хорал человеческий», «Фридрих и Катте», «Барбарина»[42] — и несравненное творение Отто Вайнингера, с которым Амзель, в отличие от других книг, постепенно утраченных и исчезнувших, впредь не разлучался. Он читал ее то и дело, хотя и на свой манер, читал и пометки на полях, оставленные рукой исправно певшего и занимавшегося спортом родителя, пронес книгу через все лихолетья и позаботился о том, чтобы она и сейчас лежала на столе у Браукселя, готовая открыться сегодня и в любую другую минуту: Вайнингер уже успел одарить автора этих строк не одним озарением. В конце концов, пугала создаются по образу и подобию человеческому.
ОДИННАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Волосы у Браукселя отрастают. Пишет ли он свою хронику или командует шахтой — они отрастают. Ест ли он или ходит, подремывает, дышит или задерживает дыхание, покуда утренняя смена заступает, а ночная, наоборот, кончает работу и воробьи возвещают новый день, — волосы растут. И даже когда парикмахер недрогнувшей рукой укорачивает Браукселю волосы в соответствии с его просьбой и прихотью, поскольку, видите ли, год идет к концу, — волосы продолжают расти прямо под ножницами. Когда-нибудь Брауксель, как и Вайнингер, умрет, но его волосы, равно как и ногти на руках и ногах, на какое-то время переживут своего обладателя — точно так же, как и данное пособие по конструированию эффективных птичьих пугал найдет себе читателей даже тогда, когда автора этих строк давно не будет на свете.
Итак, вчера речь зашла о строгих законах. Но во времена, о которых сегодня толкует наше только начинающееся повествование, законы пока что снисходительны и происхождение Амзеля вообще никак не карают; Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, еще знать не знает об ужасной сахарной болезни; Альбрехт Амзель еще, «разумеется», вовсе никакой не еврей; Эдуард Амзель, тоже правоверный евангелический христианин, унаследовав от своей матери пышные, быстро отрастающие светло-рыжие волосы, увальнем-колобком слоняется среди сохнущих рыбацких сетей, сияя всеми своими веснушками, и смотрит на окружающий мир преимущественно сквозь ячеистую кисею сетей; не удивительно, что уже вскоре ему весь мир начинает видеться в косую мелкую клеточку, к тому же под конвоем бесчисленных жердин.
Птичьи пугала! Со всей определенностью здесь следует заявить: поначалу маленький Эдуард Амзель — а свое первое достойное упоминания пугало он соорудил пяти с половиной лет от роду — вовсе не имел намерения создавать именно птичьи пугала. Однако и местные жители, и проезжий народ — страховые агенты, стращавшие всех пожаром, коммивояжеры с образцами посевного зерна, крестьяне, возвращавшиеся от нотариуса — все, кто наблюдал за мальчонкой, когда тот ставил на дамбе возле пристани свои причудливые фигуры, заставляя их трепетать на ветру, почему-то мыслили именно в этом направлении; покуда старик Криве так прямо и не сказал Герберту Кинасту:
— Слышь, сосед, глянь-ка, чего Амзелю его малец понастроил. Ни дать ни взять пугала огородные, честное слово!
Как и в день своих крестин, так и позже Эдуард Амзель ничего не имел против птиц; однако по обе стороны Вислы любая пернатая тварь, способная рассекать крыльями воздух или просто парить на ветру, не в состоянии была ужиться с продуктами его творчества, именуемыми в народе «птичьими пугалами». Продукты эти — а он создавал по штуке в день — никогда не повторяли друг друга. Изделие, которое он, вооружившись всего-навсего шаткой, да к тому же ущербной стремянкой и охапкой свежих ивовых веток, за каких-нибудь три часа работы сотворял вчера из полосатых штанов, некоего загадочного лоскута в крупную клетку, долженствующего изображать сюртук, и старой шляпы без полей, на следующее же утро безжалостно разбиралось, дабы из тех же реквизитов создать некий уникум другого рода и племени, пола и вероисповедания, — но в любом случае нечто такое, от чего все птицы предпочитали держаться на расстоянии.
И хотя все эти преходящие сооружения всякий раз несомненно свидетельствовали о живейшей и неуемной фантазии автора, истинную силу изделиям Амзеля сообщала все же именно его неусыпная тяга к многосложностям реальной жизни: любознательный взгляд его беспокойных глазенок над пухлыми щечками неизменно и цепко выхватывал из гущи бытия какую-то одну деталь, которая и придавала художественному продукту окончательную убедительность и функциональную действенность птичьего пугала. Они, эти изделия, отличались от общепринятых и традиционных пугал, что в изобилии населяли окрестные сады, поля и огороды, не только формально, но и по силе воздействия: ибо если всякое другое пугало производило на птичий мир лишь скромный, мало заметный и почти не поддающийся учету эффект, то творения Амзеля, созданные не для устрашения и вообще без всякой видимой цели, способны были посеять среди пернатых настоящую панику.
Пугала его казались живыми, да они и были живыми, стоило чуть подольше на них посмотреть хотя бы в процессе их сотворения или в виде торса, когда он их разбирал, — в них все дышало жизнью! Вот они пустились взапуски по дамбе, бегут, машут, грозят кому-то, нападают, бьют, кого-то приветствуют на том берегу, или, подхваченные ветром, парят в воздухе, ведут беседы с солнцем, благословляют реку и рыб в реке, пересчитывают тополя, обгоняют облака, обламывают маковки колоколен, хотят переправиться на небо, взять на абордаж паром, преследуют, шлют проклятья, — ибо это не какие-нибудь анонимные фигуры, они всегда кого-то обозначают: рыбака Иоганна Ликфетта, пастора Блеха, снова и снова, в бессчетных вариантах, паромщика Криве — рот разинут, башка набекрень, — Бронсара, инспектора Хаберланда и вообще всякого, кого только не носит на себе плоская, как стол, пойма Вислы. Даже мосластая майорша фон Анкум, хотя ее имение-развалюха было в далеком Кляйн-Цюндере и на пароме она позировала крайне редко, и та в виде гигантской ведьмы утвердилась на шивенхорстской дамбе и отпугивала не только птиц, но и детей.
А несколько позже, когда Эдуард Амзель пошел в школу, настал черед господина Ольшевского, молодого учителя начальной сельской школы в Никельсвальде — в Шивенхорсте своей школы не было — столбенеть от удивления, когда самый веснушчатый его ученик водрузил своего наставника в виде птичьего пугала на самой большой дамбе по правую руку от устья. На самом гребне дамбы, среди девяти покореженных ветром сосен, Амзель установил фигуру учительского двойника, для пущей наглядности положив к его ногам, под самые мыски его парусиновых туфель всю плоскую, как сковородка, Большую пойму Вислы до самого Ногата, а сверх того — всю песчаную косу вплоть до неприступных башен города Данцига, до холмов и лесов за городом, а вдобавок еще и реку от устья до самого горизонта, и открытое море вплоть до смутно угадывающегося полуострова Хела, включая корабли, что бросили якорь на рейде.
ДВЕНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Год близится к концу. Странное окончание для года, поскольку из-за берлинского кризиса[43] и новоявленной берлинской стены на новый год разрешено запускать только осветительные ракеты, а петарды — ни под каким видом. К тому же здесь, в федеральной земле Нижняя Саксония, только что схоронили Хинриха Копфа[44], прирожденного отца нашего края, — одной причиной больше, чтобы не запускать в новогоднюю полночь искрометные хлопушки-шутихи. По согласованию с производственным комитетом Брауксель заблаговременно распорядился вывесить на проходной и в здании конторы, а также на приемной площадке и на рудничном дворе объявления следующего содержания: «Всем рабочим и служащим фирмы „Брауксель и К°, Экспорт-импорт“ рекомендуется, учитывая серьезность момента, отметить новогодний праздник без лишнего шума». Кроме того, автор этих строк, не удержавшись от соблазна самоцитирования, заказал в типографии на бумаге ручной выделки партию открыток, на которых с большим вкусом воспроизведено изречение: «Пугала создаются по образу и подобию человеческому», кои открытки в качестве новогоднего привета он и разослал клиентам и деловым партнерам.
Первый школьный год Эдуарду Амзелю пришлось осиливать в одиночку. Сдобный колобок, усеянный веснушками, он был один такой на обе деревни, и притом каждый день на виду, — немудрено, что ему выпала роль мальчика для битья. Какие бы игры ни затевало местное юношество, он принимал в них непременное участие, а вернее, его непременно делали их участником. Правда, хотя малыш Амзель и плакал, когда ватага мальчишек затаскивала его в крапивные заросли, что за сараем у Фольхерта, или, привязав трухлявыми, провонявшими дегтем веревками к столбу, в том же сарае подвергала его пусть не слишком изощренным, но все равно мучительным «пыткам», — однако сквозь слезы, которые, как известно, сообщают нашему зрению хотя и расплывчатую, но все же на редкость истинную и точную оптику, его серо-зеленые, заплывшие пухлым детским жирком глазки не упускали случая подметить, оценить и «ухватить» типичные движения и жесты мучителей. И вот два-три дня спустя после очередных «колотушек» — не исключено, что на десять ударов среди прочих ругательств и обидных кличек приходилось и одно не обязательно с пониманием смысла выкрикнутое словечко «абрашка!» — та же самая сцена избиения совершалась еще раз в прибрежном лесу, в дюнах или прямо на вылизанном прибоем песке, воссозданная в многорукой свистопляске одного-единственного пугала.
Этим регулярным колотушкам, равно как и их последующему художественному воспроизведению, положил конец Вальтер Матерн. Именно он, хотя некоторое время и лупил Амзеля вместе со всеми и даже, не слишком, правда, вникая в смысл, пустил в оборот кличку «абрашка», в один прекрасный день, возможно, вспомнив обнаруженное им накануне на морском берегу, хотя и растрепанное ветром, но яростное, дикое, свирепо размахивающее вокруг себя кулачищами, не совсем даже на него похожее, а как бы воспроизводящее его в девятикратном умножении «пугало», — вдруг посреди драки опустил руки, дал им, так сказать, на промежуток в пять ударов остыть и одуматься, после чего принялся лупить снова: но теперь уже не малышу-Амзелю надо было сжиматься и прятать голову от этих расходившихся кулаков, теперь удары сыпались на оставшихся мучителей Амзеля, и Вальтер Матерн наносил их с таким остервенением, так истово поскрипывая зубами, что он долго еще молотил кулаками теплый летний воздух за сараем Фольхерта, прежде чем понял, что никого, кроме изумленно вылупившегося на него Амзеля, вокруг не осталось.
Дружбе, которая заключается во время драки или после нее, суждено, как правило, — мы знаем об этом из приключенческих фильмов, — пройти затем еще не одну суровую и увлекательную проверку. Так и дружба Амзеля и Матерна будет подвергнута в этой книге — по одной только этой причине наше повествование затянется — еще многим испытаниям. Уже в самом начале, с большой, кстати, пользой для новой дружбы, кулакам Вальтера Матерна пришлось немало поработать, поскольку крестьянские и рыбацкие олухи никак не могли уразуметь смысл столь стремительно возникшего дружеского союза и по старой привычке, едва завидев робко выходящего из школы Амзеля, норовили утащить его за фольхертовский сарай. Ибо медленно течет Висла, медленно ветшают дамбы, медленно сменяются времена года, медленно плывут облака, медленно пробивается паром, медленно приходит электричество на смену керосиновым лампам, так что и в деревнях по обе стороны Вислы тоже не до всех и не сразу дошло: кто хочет потолковать с Амзелем-коротышкой, сперва должен с Вальтером Матерном словечком перемолвиться. И тайна этой удивительной дружбы постепенно стала творить чудеса. Одна и та же картина, символизируя собой обилие и пестроцветье множества других житейских эпизодов этой ранней дружбы, разыгрывающаяся на фоне незыблемых статичных фигур деревенского бытия — хозяин и работник, пастор и учитель, почтальон и лодочник, владелец сыроварни и инспектор объединения молочников, лесничий и деревенский сумасшедший, — запечатлелась в своей неповторимости навсегда, хотя никто не заснял ее на фотопленку: где-нибудь в дюнах, спиной к прибрежному лесу со всеми его отрадами и прелестями, работает Амзель. На песке в обозримом порядке разложены предметы одежды самых разных видов и форм. Законы моды тут не властны. Придавленные к поверхности земли горками песка или сучьями потяжелее, дабы их не унесло ветром, здесь мирно соседствуют фрагменты обмундирования доблестно сгинувшего прусского воинства с не менее доблестно задубевшим и забуревшим тряпьем — трофеями последнего паводка: ночные рубахи и сюртуки, штаны без поясной части, кухонные тряпки, фуфайки, скукоженный парадный мундир, шторы с дырками-гляделками, майка, лацканы, кучерские камзолы, набрюшники и нагрудники, траченные молью ковры, галстуки, вывернутые кишкой, флажки от стрелкового праздника и целое скатертное приданое, — все это изрядно воняет и притягивает мух. Гусеница-многочлен из войлочных, фетровых и соломенных шапочек, шляп, а также всевозможных кепок, армейских касок, ночных колпаков, беретов вьется, норовя укусить себя за хвост, беззастенчиво являет миру каждый предмет своих сочленений и, тоже облепленная мухами, ждет своего часа. Солнечный свет падает на воткнутые в песок штакетины, обломки стремянок и приставных лестниц, жердины, гладкие и узловатые прогулочные трости и просто палки, прибитые к берегу морской волной или речным течением, заставляя их отбрасывать разновеликие, блуждающие, споспешествующие ходу времени тени. Тут же, поблизости, гора старых бинтов, проволоки от искусственных цветов, полуистлевшей бечевы, ветхой кожи, покрывал, шерстяной требухи и черной, осклизлой прессованной соломы, сорванной ветром с крыш крестьянских овинов. Пузатые бутыли, подойники без дна, ночные посудины и просто кастрюли лежат отдельно. И среди всех этих сокровищ, гляди-ка, неожиданно резвый и прыткий — Эдуард Амзель. Взмокший, босой, прыгает прямо по песчаным колючкам, постанывая, прихрюкивая, похихикивая, уже воткнул в песок жердину, поперечиной приложил к ней штакетину, набросил проволоку, — он не связывает, а именно набрасывает внахлест, и все прекрасно держится — затем в три витка обвивает эту конструкцию красно-бурым, с серебряной ниткой, покрывалом, милостиво позволяет горшку из-под горчицы, увенчавшему себя пучком соломы, превратиться в голову, сперва отдает предпочтение плоской шляпе-тарелке, потом меняет студенческую шапочку на квакерский котелок, после чего, разметав всю гусеницу из головных уборов и всполошив целое полчище разноцветных и жирных пляжных мух, на короткое время останавливает свой выбор на ночном колпаке, чтобы в конечном счете утвердить на макушке пугала чехол для кофейника, которому последнее наводнение придало еще более выразительную форму. Он вовремя успевает смекнуть, что для завершения образа недостает еще жилетки, и не простой, а с шелковой спинкой, с безошибочным чутьем опытного старьевщика выхватывает из вороха тряпья и хлама то, что нужно, и, почти не глядя, уверенным движением набрасывает жилетку на плечи своего очередного детища. И вот уже он втыкает скособоченную убогую лесенку слева, две палки крест-накрест, в человеческий рост, справа, скашивает разболтанный кусок садовой ограды из трех штакетин, превратив его во фрагмент какой-то расхристанной арабески, набрасывает сверху, коротко прицелившись и точно попав, какую-то задубевшую хламиду, с треском и хрустом все это стягивает и укрепляет, затем с помощью всякого шерстяного отрепья придает этой фигуре, этому форейтеру, возглавляющему всю группу, некую военно-командную стать, — и в тот же миг, сгибаясь под ворохом тряпья, увешанный обрезками кожи, обмотанный веревками, увенчанный сразу семью шляпами и нимбом гудящих мух, он уже скатывается по склону куда-то вниз и вбок, даже не оглядываясь на то, что осталось позади и что по мере его удаления все явственнее обретает очертания птицеустрашающего образа; ибо со стороны дюн, из камыша осоки, с пышных крон прибрежного сосняка некая сила уже поднимает в воздух как обычных, так и — с орнитологической точки зрения — редких птиц. Причина и следствие: та же сила сбивает их в тучу высоко над тем местом, где работает Эдуард Амзель. Своим причудливым птичьим шрифтом они выписывают на небе все более резкие, вихлявые и стремительные каракули страха. В этом тексте явственно варьируется на все лады корень «кар-р», слышно и его вихревое ответвление «мару-кру», он заканчивается — если вообще заканчивается — щемящим звуком «пи-и-и», но расцвечен и широчайшим спектром других фонетических ферментов, начиная от бессчетных «тю-и-ить» и множества «э-эк» и кончая рявканьем кряквы и истошными завываниями выпи. Нет такого ужаса, который, будучи разбужен творением Амзеля, не смог бы выразить себя в звуке. Но кто же, коли так, обходит дозором сыпучие гребни дюн, обеспечивая птицеустрашающей работе друга столь необходимый для творчества покой?
Вот они — эти кулаки, а вот и их хозяин Вальтер Матерн. Ему семь лет, и взгляд его серых глаз скользит по морю, словно море принадлежит только ему. Молодая сука Сента заливисто лает на астматическую балтийскую волну. Перкуна больше нет. Его унесла одна из многочисленных собачьих болезней. Перкун зачал Сенту. Сента, из рода Перкуна, родит Харраса. Харрас, из рода Перкуна, зачнет Принца. Принц же, из рода Перкуна, Сенты и Харраса, — а в начале начал хрипло воет литовская волчица — будет творить историю… но пока что Сента заливисто облаивает хилое Балтийское море. Хозяин же ее стоит босиком на песке. Одним только усилием воли и легкой вибрацией, от ступни до колен, он способен все глубже и глубже вбуравливаться в дюны. Песок вот-вот достигнет потрепанных обшлагов его вельветовых, задубевших от морской воды брючин — но тут Вальтер Матерн прыг из песка, песок по ветру, а сам он уже вниз по склону, и Сента прочь от мелкой воды, должно быть, оба что-то учуяли, оба — он коричнево-зеленый, вельвет и шерсть, она черная, вытянувшись стрелой — перемахивают через верхушку соседней дюны, бросаются в камыши, выныривают на миг где-то совсем в другом месте, снова исчезают и затем — ленивое море едва успевает шестой раз лизнуть прибрежный песок — нехотя и тоскливо возвращаются назад. Ничего. Наверно, ничего и не было. Шиш с маслом. Дырка от бублика. Даже не кролик.
А наверху, там, где со стороны Путцигского Угла по направлению к Хоффу по яркой синьке неба тянутся аккуратные, почти одинаковые, словно нарисованные облака, неугомонные птицы своим истошно-пронзительным криком не устают подтверждать, что не совсем еще завершенное Амзелем птичье пугало на самом деле давно, давным-давно готово.
ТРИНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Завершение года было встречено на производственной территории с благодатным спокойствием. Подмастерья, под присмотром штейгера Вернике, запустили с башни копра несколько веселеньких ракет, огненными линиями воспроизведших на небе наш фирменный знак, небезызвестный пернатый мотив. К сожалению, была слишком низкая облачность, что помешало волшебству развернуться в полную силу.
Сотворение фигур, эта забава, свершавшаяся то в дюнах, то на гребне дамбы, то на черничной поляне береговой рощи, обрела дополнительный смысл, когда однажды вечером, — паром уже кончил ходить, — паромщик Криве провожал домой шивенхорстского сельского учителя и его дочурку в красно-белую клеточку, причем шли они как раз той лесной опушкой, на которой Эдуард Амзель под охраной верного друга Вальтера Матерна и собаки Сенты выстроил над крутым склоном лесной дюны шесть или семь своих изделий самого свежего изготовления, выстроил хотя и рядом, но даже не рядком и уж тем паче не шеренгой.
Вдали за Шивенхорстом нехотя заходило солнце. Друзья отбрасывали на песок длинные, долговязые тени. А поскольку даже при таком освещении тень Амзеля оставалась заметно толще, пусть закатывающееся светило и засвидетельствует весьма упитанную комплекцию мальчика — с годами эта его полнота только усугубится.
Оба не шелохнулись, когда кривой и задубелый Криве и увечный крестьянин Лау с плетущейся позади девчушкой и тремя тенями подошли ближе. Сента выжидала, изредка деловито почесываясь. Ничего не выражающим взглядом — они частенько его тренировали — оба уставились вдаль, поверх выстроенных пугал, поверх скатывающейся вниз луговины, где обитают кроты, куда-то в направлении матерновской мельницы. Мельница, сидя гузном на козлах, хотя и вознесена округлым загривком холма на самое ветряное раздолье, крыльями не шевелила.
Но кто там стоит у подножия холма с огромным мешком муки, переломившимся через правое плечо? Да это же мельник Матерн, весь белый, стоит под мешком. И он тоже, как и крылья его мельницы, как и мальчишки на гребне дюны, как и Сента, застыл в неподвижности, хотя и совсем по другой причине.
Криве медленно вытянул вперед левую руку с корявым, бурым указательным пальцем. Хедвиг Лау, даже по будням одетая по-воскресному, буравила песок мыском лаковой туфельки с пряжкой. Указательный палец Криве уткнулся в экспозицию Амзеля:
— Вот это они самые и есть. — И его палец обстоятельно проследовал от одного пугала к другому. Мужицкая, почти восьмиугольная голова Лау послушно поворачивалась в такт каждому перемещению сучковатого пальца паромщика, отставая, впрочем, до самого конца этого действа (а числом пугал было семь) ровно на два такта. — Этот малец делает такие пугала, что у тебя, кум, ни одной пичуги на огороде не останется.
Поскольку туфелька продолжала буравить песок, это движение передалось оборке платья и косичкам с бантиками из той же материи. Крестьянин Лау почесал под шапкой макушку и обтискал глазами уже степенно, с чувством, с толком, все семь пугал снова, но в обратном порядке. Амзель и Вальтер Матерн, усевшись на крутом гребне дюны, вразнобой болтают ногами и не сводят глаз с неподвижных крыльев далекой мельницы. Упитанные икры Амзеля туго перехвачены резинками гетр — в припухлостях розовой кожи есть что-то кукольно-голышовое. Белый мельник у подножья холма все еще стоит. Все так же покоится на его правом плече неподъемный шестипудовый мешок. И хотя самого мельника хорошо видно, мыслями он совсем не здесь.
— Слышь, браток, если хочешь, могу спросить у мальца, сколько такое пугало может стоить, если оно вообще что-то стоит.
Медленнее, чем кивает мужицкая голова сельского учителя, кивнуть просто невозможно. А у дочурки его каждый день воскресенье. Сента, навострив уши, ловит каждое движение, большинство из которых угадывает наперед: она еще слишком молодая собака, чтобы привыкнуть к нерасторопности человеческих указаний. Когда Амзеля крестили и птицы подали первый знак, Хедвиг Лау еще плавала в водах материнского лона. Морской песок очень портит лаковые туфельки. Криве в своих деревянных башмаках, нехотя повернув голову в сторону дюны, сплевывает куда-то вбок сгусток табачной жижи, который в песке тут же превращается в шарик, и произносит:
— Слышь, малец, тут кое-кто любопытствует, сколько такое вот пугало огородное может стоить, если оно вообще что-то стоит.
Нет, белый мельник вдалеке не уронил свой мешок, и Хедвиг Лау не перестала буравить песок мыском туфельки, только Сента подскочила, взметнув пыль, когда Эдуард Амзель свалился с гребня дюны. И покатился вниз, дважды перевернувшись через голову. И вскочил, как бы завершив тем самым два кувырка, и оказался аккурат посередке между двумя взрослыми мужчинами в суконных куртках, чуть-чуть не доходя до девчоночьей туфельки, что буравит песок.
Только тут, наконец, белый мельник тронулся с места и неторопливо, за шагом шаг, стал подниматься на вершину холма. Лаковая туфелька с пряжкой прекратила буравить песок, красно-белое клетчатое платьице и такие же бантики в косичках то и дело подрагивали, теперь от хихиканья, сухого и бестолкового, как вчерашние хлебные крошки. Стороны приступили к торгу. Амзель, ткнув большим пальцем вперед и вниз, указал на лаковые туфельки с пряжками. Решительно мотнув головой, крестьянин то ли дал понять, что туфельки вообще не продаются, то ли временно изъял их из продажи. Несостоятельность натурального обмена вызвала к жизни звон твердой валюты. Покуда Амзель и Криве (а вместе с ними, но гораздо медленнее, и сельский учитель Эрих Лау), подсчитывали и вычисляли, то и дело загибая и выбрасывая пальцы, Вальтер Матерн продолжал восседать на гребне дюны и, судя по звукам, которые он издавал зубами, явно не одобрял всю эту торговлю, которую он позже назовет «суетней».
Криве и Эдуард Амзель сумели договориться гораздо быстрее, чем крестьянин Лау кивнуть. Его дочурка уже снова буравила песок своей туфелькой. Отныне одно пугало стоило пятьдесят пфеннигов. Мельник исчез. Мельница замахала крыльями. Сента к ноге. За три пугала Амзель запросил один гульден. Сверх того он запросил — и не без оснований, поскольку торговлю надо развивать — по три старые тряпки на каждое пугало и впридачу лаковые туфельки Хедвиг Лау, когда они будут сочтены изношенными.
О, этот деловитый и торжественный день, когда заключена первая сделка! На следующее утро сельский учитель благополучно переправил все три пугала в Шивенхорст и установил их в своей пшенице за железной дорогой. Поскольку Лау, как и многие крестьяне в долине, выращивал либо эппскую, либо куявскую пшеницу, то есть безостные сорта, особенно подверженные птичьей потраве, пугала Амзеля получили прекрасную возможность зарекомендовать себя в деле. В своих кофейниковых нахлобучках, с пучками соломы вместо волос и ремнями крест-накрест, они вполне могли сойти за трех последних гренадеров первого гвардейского полка после битвы при Торгау[45], которая, если верить Шлиффену, была просто смертоубийственной. Так уже сызмальства возобладало явное пристрастие Амзеля к чеканному образу прусского воинства. Как бы там ни было, а эти три головореза свое дело сделали — над вызревающим полем яровой пшеницы, где прежде господствовали птичий грай и разорение, воцарилась мертвая тишина.
Весть об этом разнеслась по округе. Уже вскоре стали приезжать крестьяне из соседних деревень по обе стороны Вислы, из Юнкеракера и Пазеварка, из Айнлаге и Шнакенбурга, но и из глубинки — из Юнгфера, Шарпау и Ладекоппа. Криве посредничал, но Амзель поначалу цены все равно не взвинчивал и принимал, после того как Вальтер Матерн сделал ему серьезное внушение, сперва лишь каждый второй, а потом — каждый третий заказ. И себе, и своим клиентам он объяснял, что халтурно работать не хочет, а потому будет производить на свет по одному, от силы — по два пугала за день. Всякую помощь он отклонял. Помогать дозволялось лишь Вальтеру Матерну, который поставлял Амзелю сырье с обоих берегов и продолжал куда как надежно охранять художника и его творения с помощью двух своих кулаков и черной собаки.
Брауксель считает также необходимым сообщить, что уже вскоре у Амзеля было достаточно средств, чтобы за скромную плату снять у Фольхерта его хотя и развалюшистый, но все же запирающийся на замок сарай. В этом деревянном строении, пользовавшемся дурной славой, поскольку на одной из его балок якобы кто-то когда-то по какой-то причине повесился, то есть под крышей, которая способна вдохновить любого художника, хранилось все, что под рукой Амзеля должно было ожить в образе пугала. В дождливую погоду сарай из склада превращался в мастерскую. Дело здесь было поставлено, как у настоящего ремесленника, ибо Амзель работал на своем капитале: на свои деньги в магазине матери, то есть по оптово-закупочным ценам, он приобрел молотки, две ножовки, дрель, щипцы, клещи и кусачки, долото, стамеску и перочинный нож с тремя лезвиями, шилом, штопором и пилкой. Нож этот он подарил Вальтеру Матерну. А Вальтер Матерн два года спустя, когда он стоял на гребне дамбы и искал да так и не нашел камень, швырнул этот нож вместо камня в половодную Вислу. Но об этом мы уже слышали.
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Некоторым господам не худо бы взять за образец рабочую тетрадь Амзеля, дабы научиться вести книгу как положено. Сколько уж раз Брауксель описывал обоим своим соавторам надлежащий порядок работы? Две поездки — обе, между прочим, за счет фирмы — сводили нас вместе, и обоим господам было предоставлено достаточно времени, дабы без всяких помех сделать необходимые записи, составить подробный план работы и всевозможные рабочие схемы. Вместо этого теперь в ответ сыплются вопросы: «Когда надо представить рукопись? Сколько строк должно быть в одной странице — тридцать или тридцать четыре? Вы действительно согласны с жанром писем или мне следует отдать предпочтение более современным формам в духе, допустим, французского „нового романа“? Удовлетворит ли Вас, если я опишу Штрисбах попросту как мелкий ручеек между Верхним Штрисом и Легштрисом? Или следует ввести исторический контекст, упомянув, допустим, пограничный спор между городом Данцигом и Оливой, монастырем цистерцианцев? В частности, охранное письмо герцога Свянтополка, внука Субислава I, основателя монастыря, от одна тысяча двести тридцать пятого года? Там Штрисбах упоминается в связи с Сасперским озером „Lacum Saspi usgue in rivulum Strieza…“[46]. Или охранную грамоту Мествина II от года одна тысяча двести восемьдесят третьего, где о пограничном ручье Штрисбахе сказано так: „Praefatum rivulum Striecz usgue in Vislam…“[47]. Либо же охранное письмо с подтверждением всех владений монастырей Олива и Сарновиц от года одна тысяча двести девяносто первого? Там в одном месте Штрисбах пишется как „Стризде“, а в другом сказано: „…prefatum fluuium Strycze cum utrogue littore a lacu Colpin unde scaturit descendendo in Wislam…“»[48].
Другой господин соавтор тоже на ответные вопросы не скупится и в каждое письмо норовит вставить напоминание об авансе: «…если дозволено упомянуть об устной договоренности, согласно которой каждый соавтор, начиная работу над рукописью…». Что ж, да получит господин артист свой аванс. Но не худо бы ему при этом положить перед собой рабочую тетрадь Амзеля — если не подлинник, то хотя бы фотокопию — и хранить ее как святыню.
Пусть его вдохновит хотя бы жанр бортового журнала. Ведется на любом корабле, даже на пароме. Возьмем, к примеру, Криве: рожа сыромятная, вся в бороздах, глаза что мартовские лужи, без ресниц вовсе и к тому же косят, что позволяет ему, однако, водить свой паровой паром поперек течения, то бишь тоже наискось, точнехонько от одной пристани к другой. Повозки и экипажи, рыбных торговок с их вонючими коробами, пастора и школяров, просто проезжих и коммивояжеров с образцами товара, пассажирские и товарные вагончики местной узкоколейки, скотину убойную и племенную, свадьбы с молодоженами и похоронные процессии с венками и гробом — всех их Криве переправлял через реку, и все происшествия исправно заносил в бортовой журнал. Между обитым железом бортом парома и пристанью монетку не просунешь — так плотно, без малейшего стука умел причаливать Криве. К тому же дольше, чем кто-либо еще, он пробыл у наших друзей, Вальтера Матерна и Эдуарда Амзеля, надежным торговым агентом, не требуя с произведенных сделок никаких процентов, разве что иногда принимая в подарок табачок. А когда паром прекращал работу, он водил их обоих в места, одному ему, Криве, известные. Это он побудил Амзеля вплотную заняться изучением устрашающего действия ивы, — ведь их, Криве и Амзеля, теории искусства, отразившись впоследствии в рабочем дневнике, вот к чему клонили: «Модели следует преимущественно заимствовать из природы». А уж позже, много лет спустя, под псевдонимом Зайцингер, Амзель развил этот тезис, записав в тот же дневник: «Все, что поддается набивке изнутри, принадлежит природе, включая, допустим, куклу».
Но та — полая — ива, к которой отвел друзей Криве, шевелила ветвями и была еще не набита. Вдали, на плоском фоне, машет крыльями мельница. Из-за поворота медленно выползает по узкоколейке последний поезд, пыхтя куда быстрее, чем он едет. Еще бы — масло растает! Молоко скиснет! Четыре босых ступни, два рыбацких сапога, пропитанных ворванью. Сперва дернина и крапива, потом клевер. Через два забора, три жердины отвалить, потом еще забор перелезть. И вдруг, по обе стороны ручья, ивы обступают на шаг ближе, на шаг дальше, оборачиваются, живые, бедрастые, даже с пупками; а одна — ибо даже среди ив бывает одна ива — была совсем-совсем пустая, покуда Амзель три дня спустя ее не набил; уселся толстячком-хомячком на корточки и изучает нутро ивы, потому что паромщик Криве сказал… А потом, выбравшись из огромного дупла, где он все обсмотрел, сидя на корточках, начинает внимательно обследовать все ивы по обоим берегам ручья, в особенности одну, о трех макушках, которая одной ногой на сухом бережку стоит, а другой в воде прохлаждается, потому что в незапамятные времена богатырь Милигедо, тот, что со свинцовой палицей, ей на пятку наступил, — вот ее-то Амзель и выберет моделью. И она стоит, не шелохнется. Хотя по виду — вот-вот сорвется прочь, тем более, что и туман — ведь рань несусветная, до школы еще сто лет — туман с реки по лугам ползет-клубится, проглатывая ивы сперва по пояс, потом целиком, так что вскоре лишь три головы ивы-натурщицы будут плавать над туманной пеленой, о чем-то друг с дружкой переговариваясь.
Тут, наконец, Амзель вылезает из своего кокона, но хочет не обратно домой, к маме, которая и во сне ворочает свои амбарные книги, снова и снова все подсчитывая, а хочет, наоборот, быть свидетелем млечного часа, о котором говорил Криве. И Вальтер Матерн тоже хочет. А Сенты с ними нет, потому что Криве сказал:
— Ребятки, только псину с собой не брать, а то еще напугается и скулить начнет, когда дело до дела дойдет.
Что ж, без так без. Так что теперь между друзьями как бы пустое пятно о четырех лапах и с хвостом. Тишком босиком по серым лугам, с оглядкой назад, на клубящиеся клочья, то и дело подмывает свистнуты «Сюда! К ноге!», — но идут молчком, потому что Криве сказал… Вдруг, прямо перед ними, как памятники — коровы в туманной мути. Тут же, неподалеку от коров, аккурат посередке между байстеровскими льнами и ивами у ручья, они залегают прямо в росу и ждут. Серая пелена мало-помалу сползает с дамб и с прибрежного леса. Вдали, над туманом, над тополями вдоль шоссе, что на Пазеварк, Штеген и Штуттхоф, скрестились крылья матерновской мельницы. Неподвижные, будто выпиленные лобзиком. В такую рань даже мельник молоть не станет. Даже петух не крикнет, но уже скоро. Безмолвно и близко, как призраки, бредут гуськом, наклоненные ветром в одну сторону с северо-запада на юго-восток, девять береговых сосен по большой дюне. Жабы — или это волы? — жабы, а может, волы, надрываются что есть мочи. Лягушки, те понежней, будто молебен затянули. И комары в унисон. Вот кто-то — но вроде не чибис — то ли всполошился, то ли просто подал голос. Все еще ни одного петуха. Коровы, острова в тумане, сопят. Сердце Амзеля как булыжник по жестяной банке. Сердцем Матерна хоть дверь высаживай. Одна из коров мыкнула теплым мыком. Другие отозвались нутряным, утробным сапом. Сколько же звуков в рассветном тумане: сердце по жести и в дверь, кто-то кому-то голос, девять коров, жабы-волы, комары… И вдруг, вроде и знака никто не подал — безмолвно. Сгинули лягушки, нет ни жаб, ни волов, ни комаров, никто никого не зовет, не приманивает, не кличет, коровы ложатся в траву, а Амзель с другом, затаив дыхание, усмиряя сердце, вдавив ухо в росистый клевер, слышат: вот они! Ровное шуршание от ручья. Как будто мокрая тряпка по половицам, но равномерно и по нарастающей: плюх-плюх-пшиф — плюх-плюх-пшиф. Неужто водяные? Или безголовые монахини? Кума лешего гномы? Да кто же это бродит? Неужто призрак или сам дьявол Злодей-Асмодей[49]? Или черный рыцарь Пиг-Пигуд[50]? Или поджигатель Бобровский и его дружок Матерна, от которого все пошло? Дочка Кестутиса, ее, кажется, Туллой звали? — И вдруг, вот они, высверком в траве, все еще в иле-тине, одиннадцать, пятнадцать, семнадцать бурых речных угрей ползут, плещутся в росе, извиваются, змеятся, проскальзывают сквозь клевер и рвутся все в одну сторону. Липкий-липкий извилистый след на примятой траве. Все еще в немоте жабы-волы и комары-мухи. Певуньи-лягушки тоже помалкивают. Никто не зовет и никто не отзывается. Теплые коровы грузно лежат на черно-белом боку. Каждая выставила вымя — бледно-розово-желтое, по-утреннему тугое: девять коров, тридцать шесть сосцов-титек, восемнадцать угрей. Тут на всех хватит, и вот они уже коричневато-черными шлангами приникли к розовато-пятнистым титькам: дружно-весело рядком смаком млеком молоком… Сперва угри даже дрожат. Чья тут жажда, к кому-чему страсть? Потом, одна за другой, коровы роняют отяжелевшие головы в клевер. Течет молоко. Разбухают угри. Снова ревут жабы. Запевают потихоньку комары. Лягушки-вокалистки подхватывают. Все еще ни одного петуха, но зато Вальтер Матерн сдавленным голосом. Хочет подскочить и поймать рукой. Это запросто, там делать нечего. Но Амзель не хочет, у него другое на уме, он уже делает наброски. И вот угри уже уползают обратно к ручью. Коровы вздыхают. Первый петух. Медленно поворачиваются крылья мельницы. Из-за поворота узкоколейки уже слышно первый поезд. Амзель задумал совсем новое пугало.
Сказано — сделано. Поскольку у Ликфеттов как раз был убой, свиной пузырь достался задарма. Вымя получилось хоть куда — тугое, звонкое. Копченые шкурки настоящих угрей, насаженные на проволоку, набитые соломой и зашитые, были прикреплены к пузырю по кругу, так что угри, словно толстые волосы, извивались и шевелились в воздухе вокруг головы-вымени. И вот, покачиваясь между двумя скрещенными палками, над пшеницей крестьянина Карвайзе поднялась голова Медузы[51].
И точно в том виде, в каком Карвайзе пугало купил — это уж потом оно было дополнено чем-то вроде мантии, когда на перекрестье палок набросили дырявую шкуру сдохшей коровы — Амзель зарисовал новое пугало в свой рабочий дневник: сперва как первоначальный и куда более выразительный набросок, одну голову без мантии, а затем уж и готовое изделие в дурацкой коровьей шкуре.
ПЯТНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Ну вот, с господином артистом уже начались неурядицы. Покуда Брауксель и молодой человек изо дня в день усердно пишут, — один, склоняясь над рабочим дневником Амзеля, другой — обращаясь к своей кузине и помышляя о ней, — этот третий уже в начале года исхитрился подхватить легкий грипп. Вынужден временно прерваться, не имеет надлежащего ухода, об эту зимнюю пору, оказывается, всегда был подвержен, еще раз «позволяет разрешить себе» напомнить об обещанном авансе. Распоряжение уже отдано, господин артист. Отправляйтесь в свой карантин, господин артист, надеюсь, он пойдет вашей рукописи на пользу. О, деловитая радость от того, что есть надежное поприще повседневному тщанию — рабочий дневник, куда Амзель красивым и только что разученным зюттерлиновским шрифтом[52] заносил свои расходы по изготовлению птичьих, или, как их еще называют, огородных пугал. Свиной пузырь достался задарма. Драную коровью шкуру Криве сосватал ему за две пачки жевательного табаку.
О, красивое и округлое словечко «сальдо»: есть цифирки, пузатые и островерхие, которыми Амзель заносил в свой дневник выручку от продажи различных — садовых и огородных, пугал — в частности, вымя с угрями принесло ему полновесный гульден.
Эдуард Амзель вел этот дневник года два, чертил вертикальные и горизонтальные графы, выводил зюттерлиновские буквы кругляшами и с хвостиком, документировал историю создания множества пугал эскизами конструкций и цветовыми пробами, увековечил — задним числом — и почти все пугала, которые к тому времени были проданы, и красными чернилами ставил сам себе оценки за каждое изделие. Позже, уже гимназистом, он куда-то засунул эту мятую, затрепанную общую тетрадку в потрескавшейся коленкоровой обложке, и лишь много лет спустя снова нашел ее во время срочных сборов — он покидал город на Висле, торопясь на похороны своей матери — в сундучке, который служил ему скамеечкой. Среди вещей, унаследованных от отца, среди книг о прусских героях и битвах, под толстенным томом Отто Вайнингера обнаружился рабочий дневник, а в нем добрая дюжина чистых страниц, которую Амзель позднее, уже будучи Зайцингером и Золоторотиком — правда, нерегулярно, порой с годовыми паузами, заполнял многочисленными сентенциями.
Сегодня Брауксель, чьи деловые книги ведет в конторе один делопроизводитель и семь служащих, располагает этой трогательной тетрадкой в коленкоровых ошметках. У него, конечно, и в мыслях нет использовать бесценный и ломкий оригинал для освежения памяти! Нет, вместе с договорами, ценными бумагами, лицензиями и важными производственными секретами сей оригинал хранится в сейфе, тогда как фотокопия дневника, действительно, лежит сейчас прямо перед Браукселем между набитой окурками пепельницей и чашкой полуостывшего утреннего кофе в качестве неизменного подспорья.
Первую страницу тетрадки почти целиком занимает всего одна фраза, скорее нарисованная, нежели написанная: «Пугала, изготовленные и проданные Эдуардом Амзелем».
Под ней, наподобие девиза, значительно мельче и без даты: «Начато на Пасху, потому что ничего нельзя забывать. Криве намедни сказал».
Брауксель, впрочем, считает, что нет особого смысла полностью воспроизводить в данной рукописи своеобычно-терпкую манеру письма восьмилетнего школьника Эдуарда Амзеля; с другой стороны, очарование этого языка, который вскоре, вместе с землячествами беженцев, отомрет и уже как мертвый язык, вроде латыни, будет представлять интерес лишь для науки, вполне допустимо передать в ходе работы над текстом формами прямой речи. Так что лишь когда Амзель, его друг Вальтер, паромщик Криве или бабушка Матерн раскрывают рот, — вот тогда Брауксель и будет во всей красе воспроизводить местные обороты. При цитировании же дневника вполне уместно, поскольку, по мнению Браукселя, главную ценность данной тетрадки определяет все же не столько отважное правописание даровитого школьника, сколько запечатленные в ней на самых первых порах целеустремленные пугалотворческие искания, — воспроизводить неповторимую манеру сельского школьника лишь в стилизованном виде, то есть наполовину подлинным, а наполовину литературным слогом, примерно вот так: «Севодни после дойки одним гульденом больше за пугало што одной ногой стоит а другую держит наперикосяк взял Вильгельм Ледвормер. Дал шлем улана и кусок подстежки когда-то из козы».
Более добросовестно Брауксель пытается дать описание сопутствующего этой записи рисунка: карандашами разных цветов — коричневый, киноварь, лиловый, ярко-зеленый, берлинская лазурь, — цветов, которые, однако, нигде не выступают в чистом виде, а напротив, смешанной заштриховкой наслаиваются друг на друга, дабы вернее передать ветхость поношенного и драного тряпья, — вышеупомянутое пугало, которое «одной ногой стоит а другую держит наперикосяк…» запечатлено целиком, — очевидно, по памяти, эскизы отсутствуют. Наряду с цветовым решением особенно поражает на редкость смелая, набросанная буквально несколькими штрихами и даже на сегодняшний взгляд вполне современная конструкция основного рисунка. Позиция «…што одной ногой стоит…» намечена контуром слегка наклоненной вперед лестницы с двумя отсутствующими перекладинами; позиции же «…а другую держит наперикосяк…» может соответствовать лишь та неповторимая поперечина, что под углом в сорок пять градусов выделывает антраша, как бы отламываясь в неудержимом плясовом порыве от середины лестницы куда-то влево, в то время как сама лестница, напротив, слегка кренится вправо. Первым делом, конечно, именно этот контурный рисунок, но и последующая цветовая заштриховка создают в конечном итоге образ лихого танцора, нацепившего на себя былую доблесть и вылинявшие обноски боевого мундира, в котором красовались мушкетеры славного пехотного полка принца Анхальт-Дессоу в битве при Лигнице[53].
Чтобы не ходить вокруг да около — в дневнике Амзеля прямо-таки кишмя кишат пугала в военных мундирах. Вот гренадер третьего гвардейского батальона штурмует лейтенское кладбище[54]; бедняк из Тоггенбурга[55] стоит во фрунт в рядах своего Итценплицкого полка; беллингский гусар капитулирует при Максене[56]; бело-голубые натцмерские уланы, спешившись, рубятся с шорлемскими драгунами; в голубом, с красной подстежкой мундире, чудом остается в живых стрелок из полка барона де ля Мотт-Фуке[57]; короче, все, что на протяжении знаменитых семи лет, да и раньше бушевало на пространствах между Богемией, Саксонией, Силезией и Померанией, унося ноги под Молльвицем[58], потеряв кисет под Хенненсдорфом[59], присягнув под Пирной Фрицу, переметнувшись к неприятелю под Колином[60], а при Росбахе[61] снискав внезапную славу, — все это оживало под руками Амзеля, — разгоняя, однако, отнюдь не лоскутное имперское воинство[62], а всего лишь птиц в дельте Вислы. И если Зайдлицу пришлось гнать Хильдбургхаузена[63] — «…voila au moins mon martyre est fini…»[64] — через Веймар, Эрфурт, Зальфельд аж до самого Майна, то крестьянам Ликфетту и Момзену, Байстеру, Фольхерту и Карвайзе за глаза хватало и того, что запечатленные в рабочей тетради пугала Амзеля в мгновение ока разгоняли пернатое население дельты Вислы с тучных полей эппской безостой пшеницы, вытесняя его на каштаны и ивы, ольху, тополя и гордые прибрежные сосны.
ШЕСТНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Он благодарит. Звонит по междугороднему, разумеется, за счет собеседника, семь минут, никак не меньше: деньги пришли, ему снова лучше, грипп миновал свой кризисный апогей и теперь отступает, завтра, самое позднее — послезавтра он снова сядет за машинку; как уже говорилось, он, к сожалению, вынужден сразу писать на машинке, поскольку совершенно не в состоянии, увы, разбирать свои собственные каракули, зато во время болезни его осенило несколько прекрасных мыслей…
Будто он сам и вправду не знает цену подобным горячечным озарениям. Господин артист не видит большого проку от ведения приходно-расходной бухгалтерии, хотя Брауксель посредством многолетних подсчетов неутешительных балансов уже не раз подводил его к неутешительному сальдо.
Как знать, возможно, смышленый Эдуард Амзель перенял основы ведения книг не только из бортового журнала Криве, но и от своей матушки, которая в вечерние часы, вздыхая, склонялась над своими бухгалтерскими фолиантами — не исключено, что он даже помогал ей в записях, подшивке документов, в проверке подсчетов.
Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, несмотря на все трудности послевоенных лет, исхитрилась держать фирму «А. Амзель» на плаву и даже смогла, на что сам Амзель, мир его праху, в военные годы никогда бы не отважился, перестроить и расширить дело. Она начала торговать рыбацкими кутерами, не только новенькими, прямо с верфи Клавитер, но и подержанными, которые полностью перебирались на Соломенной дамбе, а еще подвесными моторами. Она продавала кутеры или, что было еще выгодней, сдавала их в аренду молодым рыбакам, которые только что обженились.
И хотя к маме Эдуард относился с достаточным пиететом и никогда, даже ненароком, не воспроизводил ее в виде пугала, с тем большей беззастенчивостью он принялся — примерно с восьмого года жизни — копировать финансово-экономическую политику своей матушки. Если она сдавала в аренду рыбацкие кутеры, то он начал давать напрокат свои особенно прочные, специально для прокатных целей изготовленные пугала. Многие и многие страницы его рабочего дневника скрупулезно документируют, сколько раз и кому выдавались пугала напрокат. Отдельным столбиком, все больше смахивающим на каланчу, Брауксель подсчитывает, сколько Амзель заработал на прокате птичьего страха — получается очень даже приличная сумма! Из прокатных пугал здесь будет рассмотрено лишь одно, которое хотя и не принесло высоких сборов, однако существенно повлияло на дальнейший ход событий нашего повествования, а тем самым, значит, и на всю эволюцию птицеустрашающего искусства.
Итак, вскоре после уже упомянутого ивового похода к ручью, после того, как Амзель создал и продал пугало на тему «Угри, сосущие молоко», возникло еще одно произведение, — отчасти обязанное своим обликом, с одной стороны, трехглавой иве, с другой же — восставшей из немощи, размахивающей поварешкой и скрежещущей зубами бабке Матерн, и работа эта тоже нашла отражение в дневнике Амзеля; однако рядом с эскизом конструкции здесь имеется надпись, безусловно обосабливающая данный художественный продукт ото всех прочих: «Придется сиводни уничтожить потому как Криве говорит ничего окромя беды не будет».
Макс Фольхерт, который вообще-то всю семейку Матернов недолюбливал, взял у Амзеля упомянутое пугало и установил прямо у забора в своем саду, который выходил на штуттхофское шоссе аккурат напротив матерновского огорода. Вскоре выяснилось, что прокатное пугало наводит ужас не только на птиц — при его виде лошади взбрыкивали и, высекая копытами искры, пускались в галоп. Мирно бредущее по домам коровье стадо кидалось врассыпную, едва размахивающая поварешкой ива бросала на них свою грозную тень. Ко всей этой пуганой скотине вскоре присоединилась и бедная, вечно встрепанная Лорхен, которую и так день-деньской гоняла бабка с поварешкой, причем самая что ни на есть доподлинная. Теперь же, узрев еще одну бабку, о трех головах и почему-то в обличье ивы, бедняжка, форменным образом зажатая этими бабками в тиски, совсем обезумела от страха и бродила теперь, простоволосая, шальная, по полям и прибрежной роще, по дюнам и дамбам, по дому и саду, а однажды чуть было не угодила на плетеное крыло вертящейся мельницы, если бы родной брат, мельник Матерн, вовремя не успел оттащить ее, ухватив за передник. По совету Криве и к явному неудовольствию старика Фольхерта, который позднее без всяких церемоний потребовал часть уплаченных денег назад, Вальтер Матерн и Эдуард Амзель за одну ночь разобрали злополучное пугало. Так художнику впервые пришлось осознать, что творения, если они позаимствованы у природы с достаточным усердием, имеют власть не только над птицами в небе, но и способны влиять и на коров, и на лошадей, а также и на бедную Лорхен, то бишь и на людей, сбивая их всех с привычного для сельских мест неторопливо-размеренного шага. В жертву этому знанию Амзель принес одно из самых впечатляющих своих пугал и никогда больше не использовал ивы в качестве моделей, что не мешало ему время от времени, особенно при низком тумане, прятаться в душе старой ивы, а пластунский марш угрей к залегшим в траве коровам вспоминать как событие в высшей степени замечательное. Впредь он предусмотрительно избегал сращивать человека и дерево, а использовал, подвергая себя добровольному самоограничению, в качестве моделей неотесанные и бесхитростные, но вполне пригодные как прообраз пугала фигуры местных крестьян. Этот сельский люд, переодетый в мундиры прусских королевских гусар, стрелков, ефрейтор-капралов, штандарт-юнкеров и старших офицеров поистине преображался, возносясь над садами и огородами, пшеничными нивами и полями ржи. Со спокойной совестью Амзель усовершенствовал свою систему проката и даже предпринял — впрочем, без роковых последствий — уголовно-наказуемый подкуп должностного лица, склонив красиво упакованными подарками кондуктора местной прибрежной узкоколейки к бесплатной транспортировке его, Амзеля, пугал или, фигурально выражаясь, к транспортировке ожившей и наконец-то не совсем бесполезной прусской истории.
СЕМНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Артист протестует. Отступающий недуг не помешал ему самым пристальным образом изучить рабочие планы Браукселя, которые тот рассылает своим соавторам. Его никак не устраивает, что уже в этой утренней смене будет воздвигнут памятник мельнику Матерну. Он считает, что это право неотъемлемо принадлежит ему. Поэтому Брауксель, радея о сохранении и сплоченности авторского коллектива, добровольно отказываясь от создания всеобъемлющего полотна, тем не менее настаивает на своем праве запечатлеть здесь ту часть образа мельника, которая уже бросила свой отсвет на страницы рабочего дневника Амзеля.
Дело в том, что хотя восьмилетний мальчуган и рыскал с особым тщанием по прусским полям боевой славы в поисках бесхозных мундиров, одна модель — а именно вышеназванный мельник — была позаимствована им прямо из жизни, без всяких прусских примесей, зато с мешком муки на плече.
В результате возникло кривое пугало, ибо мельник был, что называется, кривой, как черт. Поскольку на правом плече он всю жизнь протаскал мешки с зерном и мукой, плечо это было теперь чуть ли не на ладонь шире левого, так что всякий, кто смотрел на мельника спереди, испытывал необоримый соблазн немедленно схватить эту голову обеими руками и посадить, как кочан капусты, куда следует. Поскольку ни рабочую, ни выходную одежду он на заказ не шил, любой сюртук и пиджак, любое пальто и вообще все, что он надевал на плечи, казалось сшитым вкривь и вкось, сбивалось на шее складками, а правый рукав был короток и неизменно полз по всем швам. Правый глаз постоянно подмигивал в хитроватом прищуре. На той же правой стороне лица, даже когда на плечо не давил шестипудовый мешок, угол рта почему-то ехал вверх. Нос вело туда же. Вдобавок ко всему — а ради этого, собственно, и пишется весь портрет, — его правое ухо, все расплющенное и раздавленное тысячами мешков, перетасканных за многие десятилетия трудов праведных, пласталось по голове наподобие оладья, тогда как левое, отчасти по контрасту, отчасти же по прихоти матушки-природы, лопухом торчало в сторону. Собственно говоря, если смотреть на мельника спереди, то казалось, что у него вообще только одно ухо и есть — а между тем именно это, второе, как бы отсутствующее, а вернее сказать, лишь слабо угадывающееся ухо и было самым главным.
Он тоже, хотя и не настолько, как бедная Лорхен, был, что называется, не от мира сего. В деревнях вокруг поговаривали, что бабка Матерн, должно быть, в детстве слишком усердно прикладывала к его воспитанию поварешку. От средневекового разбойника и поджигателя Матерны, того самого, что вместе с дружком доживал свой век в темнице, потомкам передалось все самое худшее. Меннониты, что грубые, что тонкие, только перемигивались, а грубый меннонит-бескарманник Симон Байстер вообще уверял всех, что, дескать, католическая вера не идет всей семейке Матернов впрок, особливо мальцу, он только и знает, что с этим увальнем Амзелем, который с того берега, по всей округе шастать да зубами скрипеть: да одна псина их чего стоит — она же чернее преисподней. При этом надобно заметить, что по натуре мельник Матерн был человеком скорее мягким, врагов в окрестных деревнях у него, как и у бедной Лорхен, почти не было, зато насмешников — хоть отбавляй.
Итак, ухо мельника, — а впредь, когда речь пойдет об ухе мельника, будет иметься в виду только правое, расплющенным оладьем прилегающее, раздавленное мешками — так вот, ухо мельника достойно упоминания вдвойне: во-первых, потому что Амзель в своем пугале, которое отражено в рабочем дневнике в эскизном виде, это ухо с истинно творческой отвагой вообще отбросил; во-вторых, потому что это ухо, оставаясь совершенно глухим ко всем обычным мирским звукам, как то кашлю-говору-проповеди, церковному пению, звону коровьих колокольцев, выковке подков, всякому лаю собачьему, пенью птичьему, треньканью сверчковому, — слышало, причем отчетливо, до малейшего шепотка, шушуканья и полуслова, все, что творилось и переговаривалось в мешке с зерном или же с мукой. Зерно голое или мякинное, какое на побережье и не выращивали почти, отмолоченное на грубой или тонкой молотилке; пшеница твердая или мягкая, полбенная двузернянка или эммер, хрупкая, стекловидная, полустекловидная или мучнистая, — ухо мельника, глухое ко всем другим звукам, прослушивало каждый мешок, точно устанавливая процент зерна порченного, прогорклого, а то и вовсе без ростков. Он сорт угадывал на слух, не раскрывая мешка: светло-желтую франкенштайнскую, пеструю куявскую, розоватую пробштайнскую и рыжую цветочную, которая особенно хороша на глинистых почвах, английскую колосистую, и еще два сорта, которые на побережье только начинали пробовать: сибирскую зимнестойкую и шлипхакенскую белую, сорт номер пять.
Еще больший дар яснослышанья ухо мельника, глухое ко всем прочим звукам, обнаруживало в отношении муки. Если, прильнув — не как очевидец, а как ухослышец — к мешку с зерном, он дознавался, много ли в нем живет долгоносиков, включая куколки и личинки, много ли жуков-наездников и жуков-узкотелов, то, приложив свое ухо к мешку с мукой, он мог с точностью до единицы сказать, сколько в данных шести пудах пшеничной муки обитает мучных червей — Tonebrio molitor. При этом — что и вправду поразительно — он благодаря своему плоскостопому уху иногда сразу, а иногда после нескольких минут яснослышанья, был осведомлен даже о том, скольких дохлых мучных червей в данном мешке оплакивают их живые сородичи, ибо, как не без лукавства уверял он, прищурив правый глаз, кривя направо рот и ведя в ту же сторону носом, по шуму от живых червей всегда можно узнать о численности погибших собратьев.
Жители Вавилонии, как утверждал Геродот, засевали пшеницу зернами величиной с горошину; можно ли, спрашивается, положиться на сведения Геродота?
Мельник Антон Амзель особым способом досконально оценивал качество и состояние зерна и муки; можно ли, спрашивается, верить мельнику Матерну?
И вот в корчме у Люрмана, что между усадьбой Фольхерта и его же, Люрмана, сыроварней, устраивается спор. Корчма для этой цели отлично годилась и даже имела наглядные свидетельства славного прошлого по этой части. Во-первых, здесь можно было своими глазами узреть дюймовый, а по некоторым уверениям даже двухдюймовый гвоздь, по самую шляпку утопленный в массивную деревянную стойку, куда его много лет назад и тоже на спор с одного удара голым кулаком загнал Эрих Блок, плотницких дел мастер из Тигенхофа; во-вторых, белый потолок корчмы хранил на себе доказательства и другого рода — следы от сапог, числом не меньше дюжины, наводившие на мысль о кознях нечистой силы, благодаря которым кто-то разгуливал по потолку головой вниз. На самом же деле сила была, с определенными, конечно, оговорками, достаточно чистой и принадлежала Герману Карвайзе, который, когда некий агент-представитель страховой противопожарной компании усомнился в мощи его мускулов, попросту схватил вышеозначенного агента и, перевернув вверх тормашками, стал подбрасывать к потолку, всякий раз заботливо подхватывая у самого пола, чтобы человек не расшибся, а главное, мог потом подтвердить, каким образом доказательства доблестной пробы сил, то есть отпечатки его представительских сапог, запечатлелись на потолке трактира.
Когда испытывали Антона Матерна, тоже не обошлось без силы, но не телесной, — вид у мельника был, пожалуй, тщедушный, — а скорее призрачной и таинственной. Дверь и окна закрыты. Лето осталось на улице. О времени года громко и на разные голоса напоминают только липучки-мухоловки. В стойке дюймовый гвоздь по самую шляпку, отпечатки сапог на сером, когда-то свежевыбеленном потолке. Фотографии и призы, обычные реликвии стрелковых праздников. На полке лишь несколько бутылей зеленого стекла с огнедышащим содержимым внутри. Запахи махорки, сапожной ваксы и молочной сыворотки спорят друг с другом, но едва ощутимый перевес остается за сивушным духом, который набирает силу еще с субботнего вечера. В корчме болтают-пьют-спорят. Карвайзе, Момбер и молодой Фольхерт ставят бочонок крепкого нойтайхского пива. Тишком сгорбившись над шкаликом курфюрстской водки, которую обычно здесь никто, кроме городских, не пьет, мельник Матерн со своей стороны выставляет такой же бочонок. Люрман за стойкой, уже принес десятикилограммовый мешочек муки и держит наготове для окончательной третейской проверки мучное сито. Сперва мешочек просто так, ознакомления ради, покоится на ладонях у кривого-кособокого мельника, а уж потом к нему, как к подушке, приникает плоское мельничье ухо. И тотчас — поскольку в этот миг никто не жует, не мелет деревенской трактирной околесины, даже почти не дышит сивушным перегаром, — явственней раздается пение липучек-мухоловок. Что все арии умирающих лебедей-лоэнгринов во всех театрах мира супротив предсмертного хора разноцветных мух в сельской местности!
Люрман уже подсунул мельнику под свободную руку свою аспидную дощечку с грифелем на веревочке. На ней уже размечены — инвентаризация дело нешуточное — соответствующие графы: 1). Личинки; 2). Куколки; 3). Черви. Мельник пока что все еще слушает. Мухи жужжат. Ароматы сыворотки и ваксы набирают силу, поскольку сивушное дыхание все затаили. Но вот несподручная левая рука — правой мельник чуть приобнял мешочек — поползла по стойке к дощечке: в графе «Личинки» грифель с натужным скрипом выводит скошенную цифру семнадцать. Потом, с повизгиванием, — двадцать две куколки. Но их тут же стирает губка, и по мере просыхания мокрого пятна становится все отчетливей видно, что куколок всего девятнадцать. И, наконец, живых червей в мешке обретается восемь особей. А в довесок, поскольку условия пари этого не требуют, грифель в пальцах мельника торжественно возвещает на доске: «Мертвых червей в мешке пять штук». Вот теперь, наконец, сивушный дух берет свое, разом перебивая ваксу и сыворотку. И предсмертную песню мух тоже кто-то поубавил. Теперь настал черед Люрмана с его мучным ситом.
Короче, чтобы долго не томить: один к одному сошлось предуказанное число жестких пергаментных личинок, мягких, лишь на кончиках роговистых куколок и взрослых личинок, называемых в народе мучными червями. Недоставало лишь одного дохлого червя из предполагаемых пяти: по всей видимости — даже наверняка! — он, высохший и распавшийся на фрагменты, сумел ускользнуть через ячейки сита.
Так мельник Антон Матерн выиграл свой бочонок нойтайхского крепкого пива, а в утешение и в награду всем присутствующим, особенно же Карвайзе, Момберу и молодому Фольхерту, которым пришлось на этот бочонок раскошеливаться, он подарил то ли предсказание, то ли напутствие. Водружая бочонок аккурат на то самое место, где только что лежал испытуемый мешочек муки, он как бы между прочим, словно припоминая какие-то байки, заметил: он, плоскоухий мельник, покуда на этих двадцати фунтах муки своим плоским ухом кемарил, ясно услышал, что полагают некоторые черви, — он правда, не знает, сколько в точности, потому как все они галдели наперебой, — относительно видов на урожай. Эппскую пшеницу, как считают черви, надо сжать за неделю до Семи братьев[65], а куявскую и шлипхакенскую, сорт номер пять, после Семи братьев на третий день.
С тех пор, за много лет до того, как Амзель изготовил пугало яснослышащего мельника, всех Матернов неизменно встречали в округе то ли приветом, то ли присказкой:
— Здравствуй, дорогуша, ну что там сказали старику Матерну его мучные черви?
Шутки шутками, однако многие приходили и упрашивали мельника разузнать у туго набитого мешочка, когда сеять озимую, а когда яровую пшеницу, когда — а мешочек довольно точно знал и это — начинать жать, когда свозить. Задолго до того, как он предстал в виде пугала и был запечатлен в форме эскиза конструкции на страницах рабочего дневника Амзеля, мельник изрекал и другие, куда более мрачные предсказания, которые и по сей день, когда господин артист надумал у себя в Дюссельдорфе воздвигать мельнику памятник, подтверждаются отнюдь не в шутку, а самым недвусмысленным образом.
Ибо он сумел разглядеть в ближайшем будущем не только угрозу подступающей спорыньи; не только градобой, не записанный ни в одной страховке, — он с точностью до дня предсказал обвалы курса на Берлинской и Будапештской зерновых биржах[66], крах банков в тридцатом, смерть Гинденбурга[67], девальвацию данцигского гульдена в мае тридцать пятого; и о дне, когда заговорят пушки[68], мучные черви тоже, конечно, нашептали ему заранее.
Разумеется, благодаря своему удивительному уху он знал и о собаке Сенте, которая родит Харраса, гораздо больше, чем можно было догадаться по внешнему виду этой псины, черным пятном застывшей возле белого мельника.
И после большой войны, когда мельник со своим беженским удостоверением, разряд «А»[69], ютился где-то между Крефельдом и Дюреном, он все еще мог по своему заветному мешочку, который пережил с ним все военные невзгоды и мытарства, предсказывать, как в будущем… Но об этом, по уговору между членами авторского коллектива, Брауксель не имеет права рассказывать, ибо об этом поведает господин артист.
ВОСЕМНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Вороны на снегу — какой мотив! Снег укрыл толстыми шапками заржавелые махины скреперов и воротов — свидетелей славных времен соледобычи. Брауксель распорядился снег растопить, потому как мыслимое ли это дело: вороны на снегу, которые, если смотреть на них долго и пристально, превращаются в монахинь на снегу, нет уж, снег долой! Ночной смене, прежде чем она начнет проталкиваться в проходную, придется часок потрудиться сверхурочно — а если вдруг станут артачиться, Брауксель прикажет поднять со дна семисотдевяностометровой шахты новые, недавно приобретенные и испытанные модели, — комбайны Перкунас, Пеколс, Потримпс, — дабы проверить их эффективность на снежных сугробах: вот тогда и поглядим, каково придется воронам-монахиням, тогда можно и не растапливать снег. Пусть лежит, ничем не запятнанный, под окном у Браукселя и в меру сил поддается описанию. Висла пусть течет, мельница мелет, поезд по узкоколейке спешит, масло тает, молоко киснет — немного сахару сверху, и ложка стоит — а паром пусть приближается, а солнце заходит, а утром всходит, прибрежный песок пусть отступает, а волны прибоя пусть его лижут… И дети бегают босиком, и ищут янтарь, а находят синие черничины, выкапывают из норок мышей, босиком прямо по колючкам, босиком на дуплистые ивы… Но кто ищет янтарь, бегает босиком по колючкам, прячется в дуплистые ивы, выкапывает из норок мышей, тот в один прекрасный день найдет в дамбе мертвую девочку, совсем-совсем засохшую — да это же Тулла, дочурка герцога Свантополка, та самая Тулла, что раскапывала песок, ловила мышей и прикусывала их своими острыми резцами, Тулла, которая никогда не носила ни башмаков, ни чулок, — а дети бегают босиком, ивы колышут ветками, Висла по-прежнему течет, солнце всходит и заходит, а паром плывет, уплывает или скрежещет бортом о причал, а молоко киснет, покуда ложка в нем не встанет торчком, и медленно поспешает, хотя и вовсю пыхтит почти игрушечный поезд на повороте узкоколейки… И мельница тоже покряхтывает, когда ветер восемь метров в секунду. И мельник слушает, что нашепчет ему мучной червяк. И зубы скрежещут, когда Вальтер Матерн ими слева направо. И бабка точно так же, вон она гоняет по огороду бедную Лорхен. Сента, черная и уже беременная, ломится через заросли бобов. Ибо ужасное видение приближается, уже воздета в роковом изломе десница, уже зажата в кулаке и грозно вздымается в небо деревянная поварешка, она уже отбрасывает свою черную тень на лохматую Лорхен, и тень все больше, все жирней, вот она совсем рядом, совсем большая… Но и Эдуард Амзель, который вовсю глазеет по сторонам и ничего не забывает, потому что за него отныне все помнит его дневник, тоже требует теперь за свою работу несколько больше, чем прежде, — гульден-двадцать за одно-единственное пугало.
Тут вот в чем дело. С тех пор, как господин Ольшевский, учитель начальной школы, стал рассказывать детям про всяких богов, которые раньше были, которые и сейчас еще, оказывается, есть, и еще с незапамятных времен существовали, — с тех пор Амзель всецело отдался мифологии.
А началось все с того, что овчарка одного самогонщика из Штуттхофа по узкоколейке была доставлена вместе со своим хозяином в Никельсвальде. Кобеля звали Плутон[70], у него была безупречная родословная и почетная задача покрыть Сенту, что и воспоследовало. Ученик начальной школы Амзель поинтересовался, откуда пошло имя Плутон и что оно, в сущности, означает. Господин Ольшевский, молодой, тяготеющий к педагогическому реформаторству сельский учитель, охотно черпавший вдохновение в вопросах своих питомцев, с тех пор все чаще стал заполнять занятия по своему предмету, что фигурировал в расписании под названием «Родная речь и родной край», цветастыми и весьма многословными историями о чудесных деяниях и подвигах сперва Вотана, Бальдура, Фафнира и Фрейи[71], а потом уж Зевса, Юноны, Плутона, Аполлона, Меркурия[72] и даже египетской богини Изиды[73]. И уж совсем он впадал в раж, когда добирался до древних прусских богов Перкунаса, Пеколса и Потримпса и начинал рассказывать, как они обитали в пышных и раскидистых кронах вековых дубов-исполинов.
Разумеется, Амзель все это не просто мотал на ус, но и, как явствует из его дневника, творчески и с большим мастерством перерабатывал. Так, огненно-рыжего Перкунаса он украсил старыми наперницами, предусмотрительно раздобытыми в домах, где побывала смерть. Растресканный дубовый чурбан, на который Амзель со всех сторон понабил стоптанных лошадиных подков, в расщелины которого понатыкал цветастых перьев из петушиных хвостов, — это была голова Перкунаса. Пугало во всем своем великолепии — ни дать, ни взять огненный бог! — недолго красовалось на дамбе для всеобщего обозрения: не прошло и дня, как оно было продано за гульден-двадцать и перекочевало в равнинный Ладекопп, подальше от побережья.
Бледный Пеколс, о котором сказано, что он вечно смотрит исподлобья и который поэтому в языческие времена ведал делами смерти, был изготовлен отнюдь не из постельных принадлежностей старых, не слишком старых и даже вовсе не старых мертвецов, — такая, отдающая саваном костюмировка была бы решением слишком очевидным и напрашивающимся, — нет, для этой цели было выбрано брошенное при переезде, — вот он, дар благосклонной к художнику судьбы, — пожелтевшее, ветхое, пропахшее лавандой и плесенью, мускусом и мышами свадебное платье. В этом подвенечном наряде, лишь слегка переделанном на мужской манер, Пеколс был просто неотразим, так что пугало божества в облике невесты-смерти не замедлило перебраться в Шустеркруг, в тамошнее садоводческое хозяйство, принеся автору выручку аж в два гульдена.
Зато Потримпс, вечно смеющийся отрок с пшеничными колосьями в зубах, одно из самых вдохновенных творений Амзеля, чарующее своим игривым и многоцветным изяществом, ушло всего за один гульден, хотя, как известно, Потримпс оберегает посевы, что озимые, что яровые, от всех напастей — от посевного куколя и свербигузки, полевой редьки и пырея, вики, торицы и ядовитой спорыньи. Больше недели это юношески-стройное пугало, ажурный торс которого, выполненный из посеребренных станиолью ветвей орешника, украшал еще и передник из кошачьих шкурок, простояло на дамбе, зазывно шурша шафрановым ожерельем из крашеных яичных скорлупок, прежде чем его приобрел крестьянин из Фишер-Бабке. Его беременная и потому особенно приверженная мифологии половина посчитала пугало плодородного божества «прехорошеньким» и «ужасть как уморительным»; несколько недель спустя она разрешилась двойней.
Но и Сенте тоже перепало от милостей отрока Потримпса: ровнехонько через шестьдесят четыре дня она принесла шестерых кутят, покуда еще слепых, но, в строгом соответствии с родословной, густого черного окраса. Все шестеро были зарегистрированы и постепенно проданы, среди них и кобель Харрас, о котором в следующей книге еще не раз пойдет речь, ибо господин Либенау купил Харраса, дабы тот сторожил его столярную мастерскую. По объявлению, которое мельник Матерн поместил в местной газете «Последние новости», столяр приехал в Никельсвальде по узкоколейке, стороны быстро сторговались и ударили по рукам.
А в самом начале, где-то в темном первоистоке, была волчица из литовских чащоб, чей внук, черный кобель Перкун, зачал суку Сенту, а Сенту покрыл Плутон, и Сента ощенилась шестью кутятами, среди которых был и Харрас; а Харрас зачал Принца, а Принц будет героем другой истории — в книгах, которые Браукселю писать не надо.
Но никогда, ни разу в жизни не создавал Амзель птичье пугало по образу и подобию собаки, даже по образу и подобию Сенты, что так преданно носилась между ним и Вальтером Матерном. Все пугала, запечатленные в его дневнике, все, за исключением одного — присосавшихся к вымени угрей, и еще одного — полубабки-полуивы о трех головах — сотворены с оглядкой на людей и богов.
Параллельно к школьным занятиям, облекая в наглядные образы учебный материал, который учитель Ольшевский, превозмогая жужжание мух и изнуряющий летний зной, рассеивал над головами своих задремывающих питомцев, одно за другим возникают птицеустрашающие творения, запечатлевшие наряду с богами также и галерею магистров славных немецких рыцарских орденов[74] — от Германа Бальке и Конрада фон Валленрода вплоть до Юнгингена: вот уж где вдоволь погромыхало заржавелое кровельное железо, в прорезях которого, в обрамлении бочковых заклепок, гордо мерцали на белой промасленной бумаге черные рыцарские кресты. Тут уж, уступая доблестям Книпроде, Летцкау и фон Плауэна, волей-неволей пришлось потесниться не одному Ягайло, но и великому Казимиру, не говоря о столь сомнительных личностях, как разбойник Бобровский, Бенеке, Мартин Бардевик и бедолага Лещинский. А Амзель просто не мог насытиться преданиями прусско-бранденбургской старины: он лудил ее целыми столетиями — от Альбрехта Ахилла[75] до Цитена, выжимая из плодородного компоста восточно-европейской истории свои пугала и наводя ими ужас на птиц в восточно-европейском небе.
Примерно в ту же пору, когда отец Харри Либенау, столярных дел мастер, купил у мельника Антона Матерна щенка Харраса, а мир еще не знал ни самого Харри Либенау, ни его кузину Туллу, всякий, кто умеет читать, мог прочесть под рубрикой «Родимый край» в одном из номеров «Последних новостей» статью, которая весьма пространно, вдохновенно и поэтично воспевала красоты восточно-прусского побережья. Страна и люди, особенности строения аистиных гнезд и архитектуры крестьянских усадеб, в частности, косяков и карнизов над крыльцом, — все это описано с большим знанием дела. А в центральной части статьи, с которой Брауксель на всякий случай даже заказал себе фотокопию, говорилось и все еще говорится примерно вот что: «И хотя в общем и целом на нашем побережье все идет своим привычным чередом, а всепобеждающая техника еще не вошла сюда своим триумфальным маршем, в одной, пусть и побочной области, можно наблюдать поистине разительные перемены. Птичьи пугала на привольных и холмистых пшеничных полях нашего благодатного края, еще несколько лет тому назад банально-целесообразные, пусть чуточку чудные и грустные, но в целом, безусловно, еще вполне схожие с пугалами других земель и провинций, — теперь обнаруживают в полях между Айнлаге, Юнгфером и Ладекоппом, но и вверх по Висле вплоть до Кэземарка и Монтау, а в отдельных случаях даже южнее Нойтайха, совершенно новую и разнообразную физиогномику. Буйная фантазия перемешалась здесь с древними народными поверьями: потешные, но и жутковатые фигуры возвышаются среди колышущихся на ветру нив, среди тучного изобилия садов. Не пора ли уже сейчас местным краеведческим и историческим музеям обратить внимание на эти сокровища пусть наивного, но столь искусного по форме народного творчества? Подумать только, ведь это в наши дни посреди плоской обезлички современной цивилизации снова, а быть может, и по-новому расцветает нордическое наследие, нарождается восточно-прусский симбиоз гордого духа викингов и христианского благочестия! Особенно поражает тройственная группа в привольно колосящемся поле между Шарпау и Бэрвельде, — своей пронзительной простотой она напоминает тройное распятие Господа нашего и двух разбойников на Голгофе и в своей наивной набожности буквально хватает за душу путника, что держит путь по нашим бескрайним, волнистым нивам, пригвождая его к месту — а он и сам не знает, почему».
Только пусть никто не подумает, будто Амзель сотворил эту группу — в дневнике остался запечатленным только один разбойник — исключительно в порыве детского благочестия и совершенно бескорыстно: согласно тому же дневнику, она принесла автору два гульдена двадцать.
А куда девались те деньги, которые крестьяне округа Большой Вердер — с легким ли сердцем или сперва изрядно поторговавшись — выкладывали на плоскую мальчишечью ладошку? Эти растущие богатства хранились в кожаном мешочке под присмотром Вальтера Матерна. Он хранил их бдительно, угрюмо поглядывая исподлобья, и не без скрежета зубовного. Обвязав тесемку вокруг запястья, он повсюду носил с собой этот мешочек, полный звонких монет вольного города Данциг, — под тополями вдоль шоссе и по ветродуйным просекам прибрежного леса, переправлялся с ним на пароме, крутил им в воздухе, бил им об забор, а также — с особым вызовом — о собственное колено, и обстоятельно, не торопясь, развязывал, когда крестьянин превращался в клиента.
Так что кассу держал не Амзель. Вальтеру Матерну полагалось, покуда Амзель изображал напускное безразличие, назначать цену, ударять по рукам на манер барышников, скрепляя сделку рукопожатием, и загребать выручку. Кроме того, Вальтер Матерн отвечал за транспортировку проданных равно как и выданных напрокат пугал. Так он попал в кабалу. Амзель сделал его своим батраком. В коротких приступах гнева он бунтовал, силясь освободиться. История с перочинным ножом и была, в сущности, попыткой такого бессильного бунта; ибо Амзель, с виду столь неповоротливый увалень, катившийся колобком по жизни на своих толстых коротеньких ножках, неизменно умудрялся быть на шаг впереди. Так что когда оба шли по дамбе, сын мельника наподобие настоящего батрака всегда плелся на полшага позади неутомимого изобретателя и создателя все новых и новых птичьих пугал. Ему как батраку полагалось, кроме того, таскать за своим господином все материалы: жердины, палки, мокрое тряпье и вообще все, что вздумает принести в своих мутных водах Висла.
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
«Холуй! Холуй!» — кричали другие дети при виде Вальтера Матерна, который, как батрак, следовал за своим другом Эдуардом Амзелем. Кто сквернословит и богохульствует, того, как известно, ждет суровая кара; но кто станет всерьез спрашивать с деревенских мальчишек, этих сорвиголов, что поминают черта чуть ли не на каждом слове? А уж эти двое — Брауксель имеет в виду сына мельника и толстяка-увальня с того берега — были вообще не-разлей-вода, срослись, словно сам Господь Бог и дьявол, так что им эти подначки сельского юношества были все равно как бальзам. Кроме того, они ведь оба, тоже как Бог и дьявол, скрепили свое кровное братство одним ножом.
Вот так, душа в душу, — ибо добровольное батрачество тоже было любовным проявлением дружбы, — друзья нередко сиживали в верхней горенке, странности освещения которой зависели, как помним, от взаимодействия солнечных лучей и крыльев матерновской ветряной мельницы. Сиживали рядком, на маленьких скамеечках в ногах у бабки Матерн. За окном день клонится к вечеру. Древесные червяки безмолвствуют. Тени от крыльев мельницы падают не в горенку, а уже во двор. Курятник на малой громкости, потому что окно закрыто. Только муха на липучке все тянет и тянет свою сладкоголосую прощальную арию. А внизу, так сказать, в партере, сварливым голосом, словно бы заведомо недовольная любым слушателем, старуха Матерн рассказывает свои байки-небывальщины. Размахивая костлявыми морщинистыми руками и широко разводя их в стороны всякий раз, когда требуется обозначить любые встречающиеся в истории размеры, старуха Матерн рассказывает байки о наводнениях, байки о заколдованных коровах, в том числе и о сосущих молоко угрях и всякую прочую всячину: одноглазый кузнец, лошадь о трех ногах, дочка князя Кестутиса, что выходила ночами мышковать, и историю о гигантской морской свинье, которую выбросило на берег приливом неподалеку от Бонзака, как раз в тот год, когда Наполеон вздумал на Россию войной идти.
Но всякий раз — сколь бы длинными оселками она ни петляла — в конце концов, попадаясь на крючки ловких наводящих вопросов Амзеля, она вступала в гулкие ходы темного подземелья нескончаемой, потому что она не окончена и по сегодня, истории о двенадцати обезглавленных монашках и о двенадцати обезглавленных рыцарях, каждый со своим шлемом под мышкой, которые в четырех экипажах, две упряжки белых, две вороных, проезжали через Тигенхоф по громыхающей мостовой, останавливались на заброшенном постоялом дворе и там, сойдя, выстраивались парами — и сразу же ударяла музыка. Трубы, цитры, барабаны, — во всю мощь. И к этому еще вдобавок цоканье языком и гнусавое пение. Скверные песни, похабный припев — мужскими голосами, это рыцари поют, прихвативши головы в шлемах под мышку, а затем вдруг, тонко так, жалостливо, благочестивый женский хор, будто в церкви. А потом снова безголовые монахини, головы они держат перед собой, и головы эти на разные голоса поют сами, а песни блудливые, непристойные, а пляски под них все с притопом да с прихлопом, с визгом да с кружением до одури. И тут же, снова выстроившись в благочестивую процессию, две дюжины безголовых фигур в освещенных окнах гостиницы отбрасывают на мостовую свои смиренные тени, покуда снова не загрохочут барабаны, не взвоют трубы, не взвизгнут смычки и весь дом не затрясется от пола до самой крыши. Наконец, под утро, перед петухами, к воротам сами, без кучеров, подъезжают четыре экипажа, две упряжки белых, две вороных. И двенадцать рыцарей, дребезжа железом и осыпаясь ржой, покидают постоялый двор в Тигенхофе, и на плечах у них дамские вуали, сквозь которые мертвенно-бледными ангельскими чертами мерцают профили монахинь. И двенадцать монахинь, в рыцарских шлемах с опущенным забралом поверх орденского платья, тоже покидают постоялый двор. Они садятся в четыре экипажа, упряжка белая, упряжка вороная, садятся по шестеро, но не вперемешку — зачем, когда головами они уже и так обменялись? — и уезжают из притихшего городка, однако мостовая под ними снова грохочет.
— Еще и сейчас, — так говаривала старуха Матерн, прежде чем направить зловещие кареты в другие места, где те и по сей день останавливаются перед часовнями и замками, — еще и сейчас в заброшенном трактире, где никто жить не хочет, по ночам из камина раздается благочестивое пение вперемежку с богохульными молитвами на восемь кошачьих голосов.
Выслушав все это, оба закадычных друга больше всего на свете хотели сразу же отправиться в Тигенхоф. Но сколько ни пытались они осуществить эту затею, им удавалось добраться только до Штегена, в крайнем случае — до Ладекоппа. Зато следующей зимой, которая, разумеется, для строителя птичьих пугал и должна быть самым творческим временем года, Эдуард Амзель все же нашел возможность побывать на заколдованном месте и снять с безголовых привидений все нужные мерки: так он создал свои первые механические пугала, хотя на это и ушла изрядная доля его состояния из заветного денежного мешочка.
ДВАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Эта оттепель продолбит у Браукселя дырку в башке. Капель стучит и стучит по оцинкованному оконному карнизу. Поскольку в конторе у Браукселя есть и помещения вовсе без окон, он мог бы от этой весенней терапии отказаться. Но Брауксель остается, он явно хочет заиметь в башке дырку: цел-лу-лойд, цел-лу-лойд, — коли уж кукла, то обязательно с дырочкой в аккуратном целлулойдовом лобике. Ибо Брауксель однажды уже пережил оттепель и превращался в невесть что под талой водицей с худеющего снеговика; но еще раньше, за много-много оттепелей до того, Висла текла под толстым, изрезанным санными следами ледяным покрывалом. А юношество всех окрестных рыбацких деревень вовсю забавлялось катанием под парусом на закругленных коньках, называемых попросту «снегурками». Катались по двое, брали в руки сколоченную из досок раму с натянутой на нее простыней — это и был парус — и, поймав ветер, неслись вперед, аж дух захватывало. У всех изо рта пар. Снег, конечно, мешал, его сперва разгребали лопатами. Там, за дюнами, все земли без разбору, что плодородные, что нет, укрыты сугробами. Сугробы на обеих дамбах. Прибрежный снег незаметно переходит в снег на льду, который укрыл под собою бескрайнее море со всеми его рыбами. В скособоченной снежной шапке, наметенной с востока, на округлом белом холме стоит на своих скрещенных козлах матерновская ветряная мельница, стоит посреди белых полей, которые не убегают с глаз долой лишь благодаря прочным заборам, и мелет, мелет. Засахаренные наполеоновские тополя. Прибрежный лес почти не виден, словно художник-любитель густо замазал его белилами прямо из тюбика. Когда снег начал сереть, мельница сказала себе «Кончай работу!» и отвернулась из-под ветра. Мельник и его работник отправились домой. Кривобокий мельник по пятам за своим работником. Черная псина Сента, нервная с тех пор, как у нее отняли и продали всех щенков, рыщет по своим же следам и кусает снег. А прямо напротив мельницы, на заборе, с которого они предварительно ногами оббили снег, сидят в своих теплых зимних одежках и варежках Вальтер Матерн и Эдуард Амзель.
Сперва они попросту молчат. Потом начинается разговор, — темный, невнятный, одним словом — технический. Про мельницы с одним мельничным поставом, про голландские мельницы, хоть и без козел и без седла, но зато с тремя поставами да еще с повортным ветряком, о хитроумном устройстве мельничных крыльев, со всеми их иглицами, рычагами и щитиками, позволяющими регулировать скорость вращения в зависимости от силы ветра. Поминаются мельничные веретена и мельничная параплица, мельничные балки и мельничные валы. Сложные взаимоотношения между седлом и тормозным приспособлением. Это только мелюзге лишь бы горланить: «Крутится мельница, вертится мельница…» А Вальтер Матерн и Амзель не горланят бог весть что, они знают, почему и когда мельница крутится то быстрее, то медленнее, это зависит от того, насколько выпущены тормозные башмаки. И даже когда падает снег, если ветер дает свои восемь метров в секунду, мельница мелет равномерно, невзирая на беспорядочную снежную круговерть. Ничто в мире не способно сравниться с мельницей, которая мелет в метель, — даже пожарная команда, которая под проливным дождем тушит загоревшуюся водонапорную башню.
Но когда мельница сказала себе «Кончай работу!» и ее крылья, будто выпиленные лобзиком, замерли в снежной круговерти, Амзелю вдруг показалось, может, оттого, что он на секундочку то ли прищурил, то ли смежил веки, что мельница вовсе не остановилась. Бесшумно мела метель, надувая с Большой дюны мельтешащую бело-черно-серую рябь. Терялись вдали тополя у шоссе. В корчме Люрмана яичным желтком зажегся свет. Не слышно пыхтения поезда из-за поворота узкоколейки. Ветер вдруг сделался колючим. Взметнулись и застонали кусты. Амзелю жарко, как в печке. Его друг клюет носом. Амзель видит нечто. А его друг ничего не видит. Пальчики Амзеля трутся друг о дружку в рукавицах, потом выскальзывают наружу, рыщут и нашаривают в левом кармане тулупчика правую лаковую туфельку с пряжкой — и сразу как электричеством! На руках и на лице у Амзеля ни снежинки — сразу же тают. Губы сами приоткрылись, а слегка прищуренные глазки видят сразу столько всего, что словами и не расскажешь. Они подъезжают друг за дружкой. Без кучеров. И мельница как мертвая. Четыре кареты на полозьях, две упряжки белых — на снегу почти скрадываются, две вороных — эти, наоборот, как нарисованные, а из них вылезают, и помогают друг другу, двенадцать и двенадцать, все безголовые. И вот уже безголовый рыцарь ведет безголовую монашенку на мельницу. А всего их было двенадцать пар — каждый рыцарь вел свою монахиню, и каждый нес свою голову, рыцари под мышкой, монахини перед собой, и все они зашли в мельницу. Однако в расстановке процессии возникли явные сложности, ибо — несмотря на одинаковые вуали и одинаковые доспехи — старые распри, еще со времен рагнитского лагеря[76], навязли у них в зубах. Первая монахиня не разговаривает с четвертым рыцарем. Что не мешает обоим весело болтать с рыцарем Фицватером, который знает литовские земли как дыры в своей кольчуге. Девятая монахиня в мае должна была разродиться, но не разродилась, потому что восьмой рыцарь — его зовут Энгельгард-Ворон — ей и шестой монахине (той, что каждое лето объедалась вишнями), схвативши меч толстого, десятого рыцаря, того, что уселся на балке с закрытым забралом и, со смаком отдирая мясо от костей, уплетал курицу, снес головы вместе с шестой и девятой вуалью. И все это только из-за того, что хоругвь Святого Георгия еще не была соткана, а река Шяшупа меж тем уже замерзла и годилась для переправы. И покуда оставшиеся монахини тем поспешнее ткали хоругвь — последнее багряное поле уже почти было закончено — третья монахиня, та, что с восковым лицом всегда тенью следовала за одиннадцатым рыцарем, сходила и принесла лохань, дабы было что подставить под кровавые струи. И тогда седьмая, вторая, четвертая и пятая монахини облегченно рассмеялись, отбросили в сторону свое рукоделье и склонили перед восьмым рыцарем, чернокудрым Энгельгардом-Вороном, свои головы вместе с вуалями. Тот, не будь лентяй, сперва снес голову десятому рыцарю, который, расположившись на балке, уплетал курицу, — снес вместе с курицей, шлемом и забралом, после чего вернул ему меч, а уж этот толстый, безголовый, но тем не менее жующий десятый помог восьмому Чернокудрому, помог второй, третьей — восковолицей, что всегда держалась в тени, а уж заодно и четвертой и пятой монахиням избавиться от своих голов и вуалей, а Энгельгарду-Ворону — от головы и шлема. Со смехом подставили лохань. Теперь ткачих-монахинь осталось совсем немного, а хоругвь все еще не была закончена, хотя Шяшупа все еще была подо льдом и годилась для переправы, хотя англичане со своим Ланкастером уже встали лагерем, хотя лазутчики уже разведали дороги и вернулись, хотя князь Витовд[77] решил не вмешиваться, а Валленрод уже позвал всех к столу. Но лохань уже была полна и даже переплескивалась. И тогда настал черед десятой, толстой монахини — ибо, раз был толстый рыцарь, должна быть и толстая монахиня, — подойти вразвалку и трижды поднять лохань, в третий раз уже тогда, когда Шяшупа освободилась ото льда, а Урсуле, восьмой монахине, которую все и всюду ласково кликали Туллой, пришлось опуститься на колени и подставить свою нежную, покрытую пушком шею под меч. А она только в марте приняла обет и уже двенадцать раз успела его нарушить. И не помнила точно, когда с которым по счету, потому как все с закрытым забралом; а тут еще англичане с Генрихом Дерби во главе — не успели лагерь разбить, а уже туда же, и всем невтерпеж. Был среди них и Перси, но не Генри, а Томас Перси. Для него Тулла тонким шелком соткала особую маленькую хоругвь, хотя Валленрод и запретил все особые флаги. А вслед за Перси захотели и Джекоб Доутремер и Пиг Пигуд. В конце концов сам Валленрод вышел супротив Ланкастера. И вырвал из рук у Томаса Перси его маленькую карманную хоругвь, и повелел фон Хаттенштайну поднять только что изготовленную хоругвь Святого Георгия и переправить ее через освободившуюся ото льда реку, а восьмой монахине, которую все кликали Туллой, приказал опуститься на колени, покуда сколачивается мост, во время коей работы утонуло четыре лошади и один смерд. И она пела куда прекрасней, чем пели до нее одиннадцатая и двенадцатая монахини. Умела и рулады выводить, и трелью рассыпаться, так что нежно-розовый язычок легкой пташкой порхал под темно-багряными сводами неба. Грозный Ланкастер плакал, пряча слезы под забралом, так ему не хотелось ни в какой крестовый поход, но у него были нелады с семьей, хоть потом он и стал королем. И тут вдруг, поскольку никто не хотел переправляться через Шяшупу, а всем, наоборот, до слез захотелось домой, из пышной кроны дерева, где он до этого спал, выпрыгивает самый младший из рыцарей и пружинистым шагом крадучись устремляется прямо к склоненной шее с нежным девичьим пушком. Он вообще-то из Мерса был, очень ему хотелось бартов в истинную веру обратить. Но барты к тому времени были уже все обращены и основали Бартенштайн. Вот ему и остались только литовские земли, а сперва пушок на шее у Туллы. По нему он и хрястнул, аккурат возле первого позвонка, а после на радостях подбросил свой меч в воздух и, пригнувшись, поймал его на загривок. Такой он был ловкий парень, этот шестой, самый молодой из двенадцати. Четвертому этот трюк так понравился, что он решил его повторить, но неудачно — с первой попытки смахнул голову десятой, толстой, а со второй — первой, строгой монахине, обе головы, одна строгая, другая с двойным подбородком, так и покатились. Вот и пришлось третьему рыцарю, который никогда не снимал кольчугу и считался среди них мудрым, самому тащить лохань, поскольку живых монахинь у них больше не осталось.
Недолгий поход по литовскому бездорожью оставшиеся рыцари проделали с головами на плечах, в сопровождении англичан без хоругви, дружины из Ханнау с хоругвью и ополченцев из Рагнита. Князь Кестутис бухал в непролазных топях. В дебрях гигантских папоротников кикиморой завывала его дочка. От гулкого зловещего уханья шарахались кони. А в итоге Потримпс так и остался не похороненным, Перкунас ни в какую не желал гореть, а неослепленный Пеколс по-прежнему угрюмо глядел исподлобья. Ах, почему они не додумались снять фильм! Статистов сколько угодно, натуры для съемок непочатый край, реквизита завались! Шестьсот пар ножных лат, арбалеты, металлические нагрудники, размокшие сапоги, жеваные уздечки, семьдесят штук льняного полотна, двенадцать чернильниц, двадцать тысяч факелов, сальные свечи, скребницы для лошадей, пряжа в мотках, солодовые палочки, — эта жевательная резинка четырнадцатого столетия, — чумазые оруженосцы, своры псов, господа за доской, арфисты, шуты, погонщики, галлоны ячменного пива, пучки штандартов, стрел, вертелов и копий для Симона Бахе, Эрика Крузе, Клауса Шоне, Рихарда Вестралля, Шпаннерле, Тильмана и Роберта Венделла, без которых не сколотился бы мост, не было бы шальной переправы, засады в грозу, под затяжным дождем: пучки молний, дубы в щепки, кони на дыбы, совы таращатся, лисы петляют, стрелы свищут, славному немецкому рыцарству делается не по себе, а тут еще в кустах ольшаника слепая провидица завывает: «Вела! Вела!» — «Назад! Назад!», — но лишь в июле им суждено снова узреть ту речушку, которую и сегодня еще поэт Бобровский[78] воспевает в загадочных, темных виршах. Шяшупа текла как прежде, мирно журча и пенясь о прибрежные валуны. И гляди-ка, целая толпа старых знакомых: на бережку рядком сидят двенадцать безголовых монахинь, у каждой в левой руке собственная голова в собственной вуали, а правой рукой они черпают водичку из прозрачной Шяшупы и освежают ею свои разгоряченные лица. А чуть поодаль угрюмо стоят безголовые рыцари и охлаждаться не желают. И тогда оставшиеся рыцари, те, что еще с головами, решают, что отныне они будут заодно с безголовыми. Неподалеку от Рагнита взаимно и в одночасье они снесли друг другу буйные головушки, впрягли верных своих коней в простые повозки и отправились в белых и вороных упряжках колесить по обращенным и необращенным землям. Они возвысили Потримпса, низринули Христа, в который раз тщетно попытались ослепить Пеколса и снова вознесли крест. Они останавливались в трактирах и на постоялых дворах, в часовнях и на мельницах, и так, с музыкой да потехой, прошли через столетия: стращали поляков, гусситов и шведов, побывали и при Цорндорфе, когда Зейдлиц[79] решил исход битвы своими кавалерийскими эскадронами, подобрали на дороге, по которой без оглядки отступал корсиканец[80], четыре брошенных экипажа, радостно пересели в них из своих грубых крестоносных повозок и так, уже на рессорах, стали свидетелями второй битвы при Танненберге[81], которая, впрочем, точно так же, как и первая, вовсе не при Танненберге имела место. В рядах дикой буденновской конницы они едва-едва унесли ноги от Пилсудского[82], когда тот, не иначе как с помощью Пресвятой девы Марии, разгромил их в излучине Вислы, а в те годы, когда Амзель создавал и продавал свои птичьи пугала, все еще не угомонились и колобродили где-то между Тапиау и Нойтайхом. И все они, двенадцать и двенадцать, не намерены были прекращать свои непотребства, покуда не будет ниспослано им избавление и каждый не сможет снова носить на плечах свою голову или хотя бы то, что от нее осталось.
Под конец они собирались сперва в Шарпау, потом в Фишер-Бабке. Первая монахиня уже иногда носила голову четвертого рыцаря, хотя по-прежнему с ним не разговаривала. И вот однажды они направились в Штуттхоф, но не по дороге, а прямиком через поле, между шоссе и дюнами, остановились — только Амзель один их и видел — перед матерновской мельницей и вылезли: было как раз второе февраля, Сретенье, что они и намеревались отпраздновать. Помогли друг дружке выйти из экипажей, взобраться на горку, войти в мельницу. И сразу же после этого — один Амзель это слышал — мельница вся, от козел до чердака, пошла ходить ходуном, содрогаясь от стуков и вскриков, воя и клацанья, ведьмовских заклинаний и молитв. Тут и зацокало что-то, и с металлическим звоном присвистнуло, а снег между тем все мело и мело откуда-то с дюн, надо полагать, все же с неба. Амзель весь горит и крепче сжимает в глубине своего кармана лаковую туфельку с пряжкой, между тем как друг его спит и знай себе посапывает. Короткий антракт, ибо они там внутри тем временем валяются в муке, скачут верхом на балках, засовывают пальцы между веретеном и тормозом, и поворотным брусом устанавливают, раз уж сегодня Сретенье, мельницу против ветра: она раскручивается медленно, поначалу с неохотой; и тут двенадцать голов благостными голосами затягивают: «Мать стояла в смертной боли»[83] — О, Пеколс, как хладны наши косточки, семерых из двенадцати холод сковал — juxta crucem lacrimosa — О, Перкун, мы горим все двенадцать, вот уж пеплом один из нас стал — Dum pendebat filius — О, Потримпс, в муке катаясь, кровь Христа мы пьем, покаясь… И вот наконец, покуда в помольном ковше, перекатываясь, подпрыгивает, гремя шлемом, голова восьмого, черного рыцаря вместе с добродушной толстомясой головой десятой монахини, матерновская мельница раскручивается все быстрей и быстрей — и это при полном безветрии. И вот уже младший из рыцарей, тот, что с нижнего Рейна, лихо швыряет свою поющую голову с широко раззявленным забралом восьмой монахине. А та как будто ни при чем, даже узнавать не хочет, и вообще ее зовут Урсула, а не Тулла, и ей вполне достаточно собственного общества, вон как скачет на штыре, что крепит мельничную балку. Он, понятное дело, трясется, — крутится мельница, вертится мельница, — головы в помольном ковше уже горланят вовсю, и деревянный штырь уже скрипит от натуги, вороны в муке, обвязка крыши уже потрескивает, засовы уже выпрыгивают из скоб, черепушки вверх-вниз по лестнице скок-поскок, паломничество с чердака в закром и обратно, старая матерновская мельница молодеет на глазах от такого зуда-блуда и молельного восторга, она превращается — один Амзель со своей лаковой туфелькой это видит — в рыцаря, что, сидя гузном на козле, разит направо и налево, врубаясь в снегопад, превращается — один Амзель со своей туфелькой это понимает — в монашку в широком орденском платье, что, раздувшись от бобов и экстаза, машет рукавами, ветряной рыцарь, ветряная монахиня, бедность, бедность, бедность. Но уже выхлебано свернувшееся молоко кобылицы. Уже забродила брага из посевного куколя. И острые резцы уже обгладывают лисьи косточки, пока черепушки все еще мыкают горе: бедность, солодовый рай. Потом все-таки переметнулись, перевертыши, головы припрятали — и из великого попрания поднимается, возликовав, чистейший голос аскезы, отрешение, сладостная песнь песней богоугодного бичевания — ветряной рыцарь взмахивает ветряным бичом, ветряной бич настигает ветряную монахиню — аминь — или нет, еще не аминь, ибо пока с небес, бесшумный и бесстрастный, падает белый снег, а Амзель, прищурив глазенки, прирос к забору, нашаривая в глубинах левого кармана своего тулупчика правую лаковую туфельку с пряжкой, что принадлежала когда-то Хедвиг Лау, и уже вынашивает свой очередной замысел, — где-то на чердаке проснулся огонек, который дремлет в закутке всякой мельницы.
И тогда все скопом — едва их головы шустро и без разбору повскакивали на обрубки шей — они покинули мельницу, крылья которой крутились все медленнее, пока почти вовсе не остановились. Зато сама мельница — покуда они расселись по экипажам и на быстрых полозьях умчались в сторону дюн — занявшись изнутри, начала разгораться все сильней. Тут только Амзель кубарем свалился с забора, увлекая за собой товарища. «Пожар! Пожар!» — вопили оба во все горло, повернувшись в сторону деревни, но уже поздно было что-либо спасать.
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Наконец-то рисунки доставлены. Брауксель немедленно распорядился их окантовать, застеклить и развесить. Средний формат: «Скопление монахинь между кельнским собором и кельнским главным вокзалом». «Евхаристический конгресс. Мюнхен». «Монахини и вороны, вороны и монахини». Потом большие листы, формат А-1, черная тушь, местами с прорисовкой: «Разоблачение послушницы», «Большая аббатиса», «Аббатиса на корточках» — это особенно удачная работа. Автор просит пятьсот марок. Что ж, это по-божески, вполне по-божески. Этот рисунок сразу в конструкторское бюро. Мы встроим почти бесшумные электромоторчики: ветряная монахиня взмахивает ветряным бичом…
Ибо покуда полиция обследовала пепелище, поскольку подозревали поджог, Эдуард Амзель построил свое первое, а по весне, когда всякий снег утратил всякий смысл и выяснилось, что католическую мельницу из религиозных побуждений подпалил меннонит Симон Байстер, — и свое второе механическое птичье пугало. Много денег, много монет из заветного кожаного мешочка ушло на эту затею. Судя по чертежам в дневнике, он изготовил ветряного рыцаря и ветряную монахиню, облачил их в соответствующий наряд с лоскутными рукавами-крыльями и, усадив на козлы, отдал на произвол ветрам; однако ни ветряной рыцарь, ни ветряная монахиня, хотя обе эти работы мгновенно нашли покупателей, не воплотили в себе то, что запечатлелось в душе Эдуарда Амзеля снежной ночью на Сретенье; словом, художник в нем остался не удовлетворен; вот и фирма «Брауксель и Ко» вряд ли закончит разработку мобильных птичьих пугал раньше середины октября и только тогда запустит их в серийное производство.
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
После пожара сперва паром, потом поезд узкоколейки доставили бескарманного и беспуговичного, то бишь грубого меннонита, мелкого землепашца и рыбака Симона Байстера, который из религиозных побуждений учинил поджог, в город, а точнее — в городскую тюрьму Шисштанге, что находилась в районе Новосад, у подножья Ячменной горы и на несколько лет стала его постоянным местом жительства.
Сента, из рода Перкуна, ощенившаяся шестью кутятами, Сента, чей черный окрас так замечательно выделялся на фоне белого мельника, начала, после того, как всех щенков ее продали, проявлять признаки собачьей нервозности, а после пожара и вовсе впала в столь опасное умопомешательство — аки волк зарезала в деревне овцу, а потом напала на представителя противопожарной страховой компании, — что мельник Матерн вынужден был послать своего сына Вальтера к Эриху Лау, учителю сельской школы в Шивенхорсте: у отца Хедвиг Лау имелось охотничье ружье.
В жизнь друзей пожар на мельнице тоже внес кое-какие перемены. Судьба, — а точнее сельский учитель, вдова Амзель и мельник Матерн вкупе с директором департамента учебных заведений доктором Баттке, — сделала из десятилетнего Вальтера Матерна и десятилетнего Эдуарда Амзеля двух гимназистов, которым даже удалось сесть за одну парту. И покуда на пепелище матерновская мельница отстраивалась заново — от проекта голландской, кирпичной мельницы с поворачивающимся чепцом пришлось отказаться ради сохранения исторического образа исконно-немецкой мельницы на козлах, ибо здесь как-никак переночевала императрица Луиза — разразился праздник Пасхи, сопровождаемый умеренным паводком, традиционным нашествием мышей и бурным лопаньем вербных почек; а вскоре после Пасхи Вальтер Матерн и Эдуард Амзель уже щеголяли в зеленых бархатных шапочках реальной гимназии Святого Иоанна. У обоих был одинаковый размер головы, но в остальном Амзель был много, много толще. Кроме того, у Амзеля на макушке был только один вихор, а у Вальтера Матерна целых два, что, по некоторым суеверным утверждениям, является предвестьем ранней кончины.
Необходимость добираться от устья Вислы до гимназии Святого Иоанна превратила наших друзей из обычных учеников в учеников приезжих. А приезжие ученики много видят по дороге и еще больше врут. Приезжие ученики умеют спать сидя. Приезжие ученики делают домашние задания в поезде, благодаря чему у них вырабатывается неровный, тряский почерк. И даже в зрелые годы, когда домашние задания делать уже не надо, эта своеобычность почерка сохраняется, разве что тряскость исчезает. Вот почему господин артист вынужден печатать свою рукопись прямо на машинке — бывший приезжий ученик, он пишет совершенно неразборчивыми каракулями, все еще сотрясаемый толчками воображаемых поездов своего детства.
Поезд узкоколейки отправлялся с Прибрежного вокзала, который городские жители называли Нижним, проезжал через Кнюппелькруг и Готтсвальде, под Шустеркругом переправлялся на канатной переправе через старицу — Мертвую Вислу, а под Шивенхорстом, уже на паровом пароме, через так называемый Стежок попадал в Никельсвальде. Затем, втащив на дамбу Вислы каждый из четырех вагончиков по отдельности и оставив Эдуарда Амзеля в Шивенхорсте, а Вальтера Матерна в Никельсвальде, трудяга-паровозик устремлялся дальше через Пазеварк, Юнкеракер и Штеген к Штуттхофу, конечной станции узкоколейки.
Все приезжие ученики всегда садились в первый вагончик, сразу за паровозом. Из Айнлаге приезжали Петер Иллинг и Арнольд Матрай. В Шустеркруге подсаживались Грегор Кнессин и Иоахим Бертулек. В Шивенхорсте, неизменно сопровождаемая матерью, к поезду соизволяла прибыть Хедвиг Лау. Впрочем, нежное дитя часто страдало от воспаления миндалин и тогда не появлялось. Совершенно непонятно, как это узкогрудый трудяга-паровозик осмеливался трогаться в путь, так и не дождавшись Хедвиг Лау. Дочь сельского учителя была, как и Вальтер Матерн с Эдуардом Амзелем, в шестом младшем классе. Позже, начиная с четвертого среднего, она погрубела, перестала болеть воспалением миндалин и, поскольку никто больше не трясся за ее драгоценное здоровье и даже жизнь, превратилась в столь скучную особу, что вскоре Брауксель вообще прекратит упоминать ее имя на этих страницах. Но пока что Амзель все еще питает некоторую слабость к этой тихой, почти заспанной, хотя и хорошенькой — пусть только в масштабах побережья — девчушке. Вот она, чуть-чуть слишком белокурая, чуть-чуть слишком голубоглазая, с чересчур свежим личиком и раскрытым учебником английского на коленях, сидит прямо напротив Амзеля.
Хедвиг Лау носит косички с бантиками. Даже когда поезд начинает приближаться к городу, от нее все равно пахнет маслом и молоком. Амзель, прищурив глаза, ловит золотисто-белокурые отблески прибрежной девичьей красы. А за окном после Кляйн-Пленендорфа вместе с первыми пилорамами начинается лесопогрузочный порт: чайки сменяют ласточек на проводах, телеграфные столбы остаются. Амзель раскрывает свой рабочий дневник. Косички Хедвиг Лау кокетливо и легко покачиваются над учебником английского. Амзель быстрыми штрихами набрасывает рисунок: мило, очень даже мило! Висячие косы он по художественным соображениям решительно отвергает и вместо этого свивает из них два бублика, чтобы закрыть ее слишком розовые, почти красные ушки. Но не то, чтобы он сказал — мол, сделай так, так гораздо лучше, косы у тебя дурацкие, надо носить бублики, нет, — дождавшись, когда за окном показывается предместье Кнайаб, он молча кладет свой дневник на ее раскрытый учебник, и Хедвиг Лау, изучив рисунок, мановением ресниц выражает согласие, почти покорность, хотя внешне Амзель вовсе не похож на тех мальчишек, которых привыкли слушаться одноклассницы.
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Брауксель питает неистребимое отвращение к неиспользованным бритвенным лезвиям. Его верный друг и правая рука, в свое время, еще в пору акционерного общества Бурбах-калий АО, освоивший в качестве забойщика весьма обильные соляные залежи, «освящает» лезвия Браукселя и приносит их ему после своего первого бритья, благодаря чему Браукселю не приходится преодолевать того отвращения, какое — с той же силой, хотя и не к бритвенным лезвиям — от рождения мучило Амзеля. А именно: Амзель не мог выносить и, следовательно, носить новую, пахнущую обновкой одежду. Равно как и запах свежего белья вынуждал его с трудом подавлять в себе приступы подкатывающей дурноты. Покуда он пребывал в лоне сельской школы, этой его аллергии были положены естественные пределы, поскольку что шивенхорстская, что никельсвальденская поросль просиживала школьные парты в перешитом и перелатанном, перелицованном и перештопанном, протертом почти до дыр тряпье. Но реальная гимназия Святого Иоанна требовала иного облачения. И вот мать одела Амзеля во все новехонькое, с иголочки: зеленая бархатная шапочка уже упоминалась выше, к ней присовокупились рубашки спортивного покроя, песочно-серые бриджи дорогого сукна, синяя куртка из чертовой кожи с перламутровыми пуговицами и — не исключено, что по заявке самого Амзеля — лаковые башмаки с пряжками; ибо Амзель не имел ничего против пряжек и лака, перламутровых пуговиц и чертовой кожи, и лишь мысль о том, что все эти новые одежки будут соприкасаться с его живой кожей, с его шкурой простого крестьянина, который сам сродни своим птичьим пугалам, — эта мысль приводила его в содрогание, больше того — свежее белье и неношенная одежда вызывали у него мучительный зуд и экзему; точно так же и Брауксель после бритья новыми лезвиями вынужден опасаться появления отвратительных лишаев вокруг подбородка.
К счастью, тут Вальтер Матерн мог выручить своего друга. Его школьный костюм был пошит из перелицованного сукна, его ботинки на шнурках уже дважды побывали у сапожника, гимназическую шапочку бережливая мать Вальтера Матерна тоже купила ношеную, поэтому первые две, если не три недели поездки друзей в школу по узкоколейке начинались с одной и той же неизменной церемонии: где-нибудь в товарном вагоне, среди бессловесной убойной скотины, друзья обменивались школьной одеждой; в том, что касается обуви и шапочек, это было проще простого, зато куртка, бриджи и рубашка Вальтера Матерна — отнюдь, кстати, не замухрышки — были его другу явно узки, тесны и неудобны, и тем не менее они ласкали его тело и дух, поскольку были ношеными, перелицованными и пахли старьем, а не обновкой. Надо ли объяснять, что новая одежда Амзеля висела на его друге мешком, к тому же лак и пряжки, перламутровые пуговицы и смешная курточка из грубой замши были ему не слишком к лицу. Амзель, однако, с наслаждением пряча свои ноги чучельного крестьянина в грубые, сморщенные, залатанные башмаки, искренне восторгался лаковыми ботинками на ногах у Вальтера Матерна. Тому пришлось их разнашивать до тех пор, покуда Амзель не признал их ношенными и не счел такими же растрескавшимися, как та лаковая туфелька с пряжкой, что хранилась у него в ранце и так много для него значила.
Забегая вперед, надо сказать, что это традиционное переодевание долгие годы оставалось если не главным связующим звеном, то по крайней мере важным компонентом дружбы Вальтера Матерна и Эдуарда Амзеля. Даже носовые платки, свежевыстиранные и складочка к складочке отутюженные, которые Амзелю заботливо подкладывала в карман его матушка, приходилось обновлять его другу, равно как и гетры, и носки. Впрочем, дело не ограничивалось одной одеждой — ту же болезненную чувствительность Амзель выказывал по отношению к новым карандашам и ручкам: карандаши Вальтеру Матерну приходилось затачивать, снимать парадный глянец с нового ластика, расписывать новые зуттерлиновские перья — разумеется, он, точно так же, как верный друг Браукселя и его правая рука, неминуемо должен был бы опробовать и новые бритвенные лезвия, если бы в ту пору на веснушчатом мальчишеском лице Амзеля уже созрел первый рыжеватый пушок.
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Кто это там стоит, облегчившись после завтрака и изучая собственное дерьмо? Кто этот человек, задумчивый и озабоченный, вечно в погоне за прошлым? И почему это принято глазеть именно на иссохший и лысый череп? Театральщина, гамлетовская болтовня, актерство! Брауксель, чьим пером пишутся эти строки, поднимает взгляд и спускает воду — созерцание помогло ему припомнить одну историю, которая дала обоим друзьям возможность — Амзелю скорее трезво, а Вальтеру Матерну по-актерски — и впрямь пережить приключение, от которого веет театральщиной.
Гимназия, расположенная в Мясницком переулке, разместилась там весьма таинственно и путано в зданиях бывшего монастыря францисканцев, то есть имела свою предысторию и, значит, была для обоих друзей гимназией не только реальной, но и идеальной, так как в древних стенах бывшего монастыря обнаружилось великое множество укромных уголков и потаенных мест, о которых ни учителя, ни даже гимназический сторож ведать не ведали.
Брауксель, руководящий сейчас шахтой, в которой не добывается ни калийная соль, ни руда, ни уголь и которая тем не менее работает вовсю, углубившись своим стволом уже на восемьсот пятьдесят метров в недра, сразу распознает все маленькие радости этого запутанного подземного царства: ведь под всеми классными комнатами, под гимнастическим залом и под писсуаром, под актовым залом и даже под учительской комнатой тянулись потайные ходы, ведшие в таинственные подземелья и темницы, либо по кругу и даже в опасные тупиковые лабиринты. Когда после пасхи начались уроки, Амзель первым вошел в классную комнату на первом этаже. Коротконогий увалень в башмаках Вальтера Матерна, он, едва ступив на натертые половицы и поведя своим розовым хомячковым носом, мигом учуял: сырость! подвал! приключение! — тут же остановился, сплел в задумчивости свои толстые пальчики, слегка попружинил на мысках тут и там, после чего носком правого ботинка отметил на одной из половиц крест. Поскольку же условный знак не повлек за собой ответного условного свиста, голова Амзеля на пухлой подушечке шеи недоуменно обернулась — там, за спиной, в лаковых ботинках Амзеля стоял Вальтер Матерн и явно не соображал, что к чему, только таращился, как бычок, пока, наконец, свет понимания не озарил — от носа ко лбу — всю его физиономию и он не издал короткий ответный условный свист через зубы. Поскольку пустота под половицами отзывается гулко и загадочно, оба сразу почувствовали себя в классной комнате шестого начального[84] почти уютно, чуть ли не как дома, пусть за окнами класса и не текла красавица Висла, раздвигая прибрежные дамбы своими могучими плечами.
Так что после первой же гимназической недели оба они, столь небезразличные к рекам, нашли доступ к небольшой речушке и тем самым как бы возместили себе отсутствие Вислы. В помещении раздевалки возле гимнастического зала, который во времена францисканцев служил библиотекой, надо было открыть крышку люка. Врезанный в половицы квадрат, пазы которого были забиты отходами многолетней чистоплотности, но все же не настолько, чтобы укрыться от всевидящего ока Амзеля, поддался, наконец, усилиям Вальтера Матерна и из черного отверстия дохнуло все тем же: сырость! подвал! приключение! Так они обнаружили начало затхлого подземного лаза, который отличался от других ходов под классными комнатами тем, что выходил в шахту городской канализации и по ее тоннелям вел прямиком в Радауну. Маленькая эта речушка, обязанная своим таинственным именем, а также изобилием раков и рыбы Радаунским озерам, текла из этих озер по округу Берент и, миновав Петерсхаген, втекала в город со стороны Нового рынка. Попетляв — где под открытым небом, а где и в трубах под землей — по старому городу, ныряя под многочисленные мосты, облагороженная лебедями и плакучими ивами, она, наконец, между Карповым омутом и Брабанком сливалась с Мотлавой незадолго до впадения той в Мертвую Вислу.
Таким образом Амзель и его друг могли, когда в раздевалке не было посторонних, подняв квадратную крышку заветного люка, — что они и делали, — заползти в подземный ход, — оба заползали, — где-то на уровне писсуара спуститься в шахту, — по вмурованным в кирпичную кладку железным скобам первым спускался Вальтер Матерн, — на дне шахты без труда открыть заржавленную железную дверь, — Вальтер Матерн открывал, — и пройти по сухому, но зловонному и изобилующему крысами тоннелю в своих обменянных друг у друга ботинках до самого конца. А если точнее: пройдя под Куриным валом и Тележным валом, под зданием городского управления Главной страховой компании, под Городским парком, под железнодорожными путями между Петерсхагеном и главным вокзалом, тоннель выводил к Радауне. Прямо напротив кладбища Святого Сальвадора, что уютно расположилось на подошве Епископской горы между Гренадерским переулком и меннонитской церковью, тоннель под сводами мощной арки выбегал к реке. Тут же, чуть поодаль от проема, в отвесную каменную стену набережной снова были вмурованы железные скобы, по которым можно было взобраться до замызганных перил парапета. А уж отсюда открывался вид, хорошо знакомый Браукселю по многочисленным гравюрам: из свежей майской зелени парка во всем своем красно-кирпичном великолепии вздымается панорама города — от Оливских ворот до Легенских, от Святой Катарины до Святого Петра на Поггенпфуле многочисленные башни и шпили своей разновеликой высотой и неодинаковой статью доказывают, что они друг другу не ровня и далеко не одногодки.
Прогулку по тоннелю друзья совершали уже два или три раза. При этом Вальтер Матерн прикончил добрую дюжину крыс. Когда во второй раз они вышли на свет божий у берегов Радауны, их заметили старички, коротающие досуг в парке за пенсионерскими посиделками, но в полицию заявлять не стали. Да им и самим уже поднадоело — ведь Радауна все же не Висла, но тут, опять-таки под гимнастическим залом, но еще до шахты, ведшей в городскую канализацию, они наткнулись на боковой ход, кое-как заложенный кирпичами и потому поначалу ими не замеченный. Фонарь Амзеля выхватил его из темноты. Неизученное ответвление подземного хода нельзя оставлять без внимания. Тем более, что ход был наклонный и вел куда-то вниз. Вскоре они оказались в довольно просторном, в человеческий рост, каменном тоннеле, который явно не относился к городской канализации, но вел по ветхим, гулким и шуршащим средневековым плитам не куда-нибудь, а под церковь, и не простую, а готическую церковь Святой Троицы. Знаменитая эта церковь стояла около музея в какой-нибудь сотне метров от реальной гимназии. В одну из суббот, когда было только четыре урока, а до ближайшего поезда оставалось еще два часа, друзья и совершили то открытие, о котором здесь и будет рассказано — и не потому только, что средневековые подземные ходы так увлекательно описывать, но потому, что открытие это дало шестикласснику начальной школы Эдуарду Амзелю пищу для созерцания, а его однокласснику Вальтеру Матерну — повод для актерства и скрежета зубовного. Не считая того, что Брауксель, руководящий, как известно, целой шахтой, обо всем, что касается подземных миров, умеет и любит изъясняться с особым шиком.
Скрипун — прозвище придумал Амзель, и оно в школе прижилось — идет впереди. В левой руке у него карманный фонарь, в правой — увесистая палка, чтобы отпугивать, а при случае и приканчивать огромных подземных крыс. Но крыс немного. Каменная кладка стен на ощупь крошковата, грубая, но сухая. Воздух прохладный, но не замогильно-холодный, как в склепе, к тому же в нем чувствуется легкий сквознячок, хотя и не очень понятно, откуда тянет. И эхо шагов не отдается, как в городских тоннелях. Так же, как в первом ответвлении и в связующем проходе, здесь довольно крутой уклон. На Вальтере Матерне наконец-то его собственные башмаки, ибо лаковые ботинки с пряжками от лазаний по подземельям достаточно натерпелись, так что теперь их обладатель может спокойно разгуливать в ношеной обувке. Так вот откуда сквознячок и хорошая рудничная вентиляция — из этой вот дырки! Так и прошли бы мимо, кабы не Амзель. Вон там, слева. Через этот лаз — семь кирпичей в высоту, пять в ширину — Амзель Скрипуна довольно быстро проталкивает. С ним-то самим посложнее. Зажав фонарик в зубах, Матерн изо всех сил тянет Амзеля сквозь проем, в немалой мере способствуя превращению почти новенького костюма друга в обычную школьную рванину. Наконец, оба стоят по ту сторону, удовлетворенно пыхтя. Оказывается, они очутились на довольно просторной площадке — это дно круглого шахтного колодца. Взоры обоих немедленно устремляются вверх, ибо оттуда сочится слабый, размытый свет: там виднеется проломанная, но с большим искусством выкованная решетка, что вмурована в пол церкви Святой Троицы — они позже сами в этом удостоверятся. Вместе со слабеющим светом взгляды их сползают вниз, и там, внизу, фонарь совершенно отчетливо выхватывает из темноты прямо чуть ли не у них под ногами — да-да, скелет.
Он лежит скрюченный, явно какой-то неполный, с перепутанными или въехавшими друг в дружку костями. Правая лопатка продавила четыре ребра. Грудину с отростком проткнули правые ребра. Левой ключицы вообще нет. Позвоночный столб в области первого поясничного позвонка переломился, как тростинка. Кости рук и ног почти все кучей — в общем, кто-то явно гробанулся.
Скрипун стоит столбом, даже позволяет забрать у себя фонарь. Амзель принимается скелет высвечивать. При этом, вовсе не по его злому умыслу, а просто сама по себе возникает игра света и тени. Мыском своего лакового ботинка — впрочем, качественное определение «лаковый» Браукселю вскоре уже не понадобится — он проводит в мучнистой, лишь поверху заскорузлой корке шахтного дна борозду вокруг этих бренных останков рухнувшего тела, отходит в сторону, пускает вдоль этой борозды шустрого электрического зайчика из своего фонаря, прищуривает глазки, как всегда, когда он видит прототип или модель, склоняет набок голову, облизывает кончиком языка губы, прикрывает один глаз ладонью, поворачивается кругом, оглядывается через плечо, извлекает Бог весть откуда маленькое карманное зеркальце, принимается жонглировать светом, скелетом и отражением, затем, закинув руку с фонарем высоко за голову и наклонив зеркальце под углом, пускает луч света, то приподнимаясь на цыпочки и перебегая с места на место, дабы увеличить радиус, то для сравнения становясь на колени, разглядывает скелет в зеркальце, потом без зеркальца, повернувшись к нему лицом, исправляет прорисованную борозду то тут, то там, рисующим мыском своего ботинка придает контуру упавшего человека почти карикатурные очертания, уточняет их, стирая и прорисовывая заново все тем же мыском, гармонизирует, снова заостряет, стремится передать экстаз через статику, всецело подчинен лишь одной задаче — сейчас же сделать набросок с этого скелета, удержать его в памяти и после, уже дома, увековечить в своем дневнике. Что же удивительного в том, что Амзель, после того, как все предварительные этюды закончены, испытывает вполне понятное желание поднять с земли череп, что завалялся у скелета где-то между частично недостающими ключицами, и деловито засунуть его в свой школьный ранец, к тетрадям и книжкам, к хрупкой и ломкой туфельке Хедвиг Лау. Он хочет отвезти этот череп на Вислу и увенчать им одно из пугал, что стоят у него на стапелях, а лучше всего — то новое пугало, которое он только что набросал, так сказать, во прахе. И вот уже его рука с толстыми, растопыренными пальцами-сардельками распростерлась над бренными останками ключиц, уже изготовилась подцепить череп за глазницы, дабы выудить его в целости и сохранности, — но в этот миг Скрипун, простоявший все это время столбом без сколько-нибудь заметных признаков жизни, начинает скрипеть всеми своими зубами. Он скрипит и скрежещет как обычно — слева направо. Но гулкая акустика шахты превращает этот звук в столь зловещий скрежет зубовный и разносит его так далеко и громко, что рука Амзеля невольно замирает на полпути, а сам он, оглянувшись через пухлое плечо, испуганно направляет луч фонарика на своего друга.
Скрипун ничего не говорит. Пусть за него все скажет скрежет зубовный. А скажет он вот что: Амзель не смеет тянуть свои лапы, куда не след. Амзель ничего с собой не возьмет. Череп брать нельзя. Не нарушай его покой. Не прикасайся к нему. Лобное место. Голгофа. Могильный курган. Скрежет зубовный.
Но Амзель, постоянно испытывающий нужду в костюмировке и реквизите, то бишь в самом наинасущном, уже снова тянет руку к черепу, и рука эта — ибо не каждый день случается найти череп — вторично появляется в световом круге, выхваченном из пыльной тьмы лучом фонаря. Но тут его в первый, а затем и во второй раз настигает удар палки, которая прежде разила только крыс. И гулкая акустика шахты усиливает и разносит во все стороны обидное слово, выкрикнутое между первым и вторым ударом:
— Абрашка!
Да, Вальтер Матерн обзывает своего друга «абрашкой» и лупит его палкой. Амзель валится на бок подле скелета. Клубы пыли вздымаются в воздух и медленно оседают. Амзель снова встает. Ну кто еще способен плакать такими крупными, такими отдельными слезами? Но кроме того Амзель исхитряется, роняя из обоих глаз свои тяжелые слезы, превращающиеся на полу шахтного колодца в серые пыльные жемчужины, еще и изобразить то ли добродушную, то ли издевательскую улыбку.
— Walter is a very silly boy[85].
Снова и снова повторяет он на разные лады эту фразу из английского учебника для шестого класса, передразнивая их учителя. Ибо он не может иначе, он должен, даже сквозь слезы, кого-то изображать, в крайнем случае самого себя.
— Walter is a very silly boy. — И тотчас же перейдя на родное деревенское наречие, добавляет: — Это мой жмурик! Это моя черепушка! Это я нашел! Только примерить хотел. Потом бы обратно принес.
Но взывать к Скрипуну бесполезно. Вид костей, разбросанных смертным жребием, заставляет его нахмурить брови и вообще повергает в раздумья. Скрестив руки и опершись на свой дрын, он всецело погружается в созерцание. Всегда, когда он видит смерть — утопшую кошку, крыс, которых он только что собственноручно прикончил, чаек, пропоротых его неотвратимым ножом, раздувшуюся дохлую рыбину, которую перекатывают по прибрежному песку мелкие волны, или вот сейчас, когда он видит скелет, у которого Амзель хочет отнять череп, — он делает зубами слева направо и не может иначе. Вечное недоумение молодого буйволенка сменяется на мальчишеском лице мучительной гримасой. Взгляд, обычно сонный, чтобы не сказать туповатый, становится пронзительным, нехорошим и выдает беспредметный гнев: да, в подземельях, склепах и шахтах под церковью Святой Троицы и вправду повеяло театральщиной. Тем более, что Скрипун вдобавок начинает молотить себя кулаком по лбу, потом наклоняется, хватает череп, поднимает его на уровень глаз и собственных мрачных мыслей, погружается в созерцание — между тем, как Амзель, отойдя в сторонку, присаживается по нужде.
Кто это там присел, дабы облегчиться? И кто стоит неподалеку и держит перед собой чужой череп? Кто это с любопытством обернулся, изучая собственное дерьмо? Кто уставился на голый череп в потугах самопознания? У кого нет червячков, а еще недавно были, наверно, от салата? Кто держит легкий череп и видит червячков, которые когда-нибудь и его вот так же? Кто? Кто? Два человека, каждый озабочен и задумался о своем. У каждого свои причины. Причем оба они друзья. Вальтер Матерн кладет череп на место, откуда взял. Амзель уже снова царапает в пыли мыском туфли и ищет, ищет, ищет. Вальтер Матерн громко произносит куда-то в пустоту торжественные слова:
— Пойдем лучше отсюда. Здесь царство мертвых. Может, это сам Ян Бобровский или Матерна, от которого весь наш род.
Амзелю нет дела до этих громких прорицаний. Он не верит, что легендарный разбойник Бобровский или разбойник, поджигатель и далекий предок Матерна могли когда-то облекать данный скелет своей плотью. Он уже откопал некий металлический предмет, поскреб его, потом плюнул, обтер и теперь предъявляет металлическую пуговицу, в которой он, не колеблясь, распознает принадлежность мундира наполеоновского драгуна. Вторая осада Данцига — уверенно датирует он свою находку и упрятывает ее в карман. Скрипун не возражает, он и не слушает почти, в мыслях он все еще где-то с разбойником Бобровским или своим предком Матерной. Остывающее дерьмо вынуждает обоих друзей ретироваться через дырку в стене. Вальтер Матерн лезет первым. Амзель протискивается задом, напоследок еще раз направив луч фонаря на мертвецкие кости.
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Пересменок в конторе Брауксель и Ко: друзья заторопились возвращаться. Игрушечный поезд прибрежной узкоколейки на Нижнем вокзале дольше десяти минут никого не ждал.
Пересменок в конторе Брауксель и Ко: сегодня празднуется двухсотпятидесятилетие Фридриха Великого[86]. По такому случаю надо бы Браукселю один из забоев целиком заполнить продуктами той славной эпохи — да здравствует прусское подземное царство!
Пересменок в конторе Брауксель и Ко: в раздевалке около гимнастического зала реальной гимназии Святого Иоанна Вальтер Матерн аккуратно укладывает квадратную крышку люка в пазы деревянного пола. Ребята обивают друг с друга пыль.
Пересменок в конторе Брауксель и Ко: что принесет нам Великое Противостояние в ночь с четвертого на пятое февраля? В знаке Водолея Уран занимает неявную оппозицию, тогда как Нептун образует к ней квадратуру. Два более чем опасных симптома! Выйдем ли мы, выйдет ли Брауксель из этих звездных коллизий без ущерба? Суждено ли вообще завершиться этому опусу, повествующему о Вальтере Матерне, суке по кличке Сента, реке по имени Висла, об Эдуарде Амзеле и его птичьих пугалах? Брауксель, чье перо выводит эти строки, хотел бы, невзирая на крайне тревожные симптомы, все же избежать апокалипсических интонаций и поведать о последующем эпизоде спокойно и взвешенно, пусть даже аутодафе и сродни маленькому апокалипсису.
Пересменок в конторе Брауксель и Ко: после того, как Вальтер Матерн и Эдуард Амзель стряхнули друг с друга средневековую пыль, они тронулись в обратную дорогу. Вниз по Кошачьему переулку, вверх по Ластадии. Вот они выходят на Якорный. За зданием почтамта стоит новый лодочный павильон школьного союза гребцов — там как раз поднимают из воды лодки. Дождавшись, когда снова сведут Коровий мост, они переходят Мотлаву, по пути не один раз плюнув с моста в воду. Гвалт чаек. Подводы на мощных балках моста. Катят пивные бочки, пьяный грузчик висит на трезвом грузчике и обещает селедку целиком, от головы до хвоста, «спорим, что съем! спорим, что съем!». Теперь через Амбарный остров: «Эрих Каркатуш — мука, посевы, бобовые культуры»; «Фишер & Никель — приводные ремни, асбестовые изделия»; через рельсы по путям, капустные листья, хлопья упаковочного волокна. Около витрины Ойгена Флаковского, «Шорные и набивные материалы», они останавливаются: тюки сухих водорослей, индийской фибры, джутовой пряжи, конского волоса, рулоны маркизетного шнура, фарфоровые кольца, тяжелые кисти и позументы, позументы! Теперь прямиком через ручейки конской мочи по Мюнхенскому переулку, потом через Новую Мотлаву. Они поднимаются вверх по Плетневой набережной, вскакивают в прицепной вагон трамвая в сторону Соломенной слободы, но доезжают только до Долгосадских ворот и своевременно прибывают на вокзал к поезду той узкоколейки, что пахнет маслом и молоком, что медленно поспешает, но вовсю пыхтит на повороте и тянет, тянет свои вагончики вдоль побережья. Эдуард Амзель по-прежнему сжимает в кармане горячую пуговицу наполеоновского драгуна.
Друзья — а оба, конечно же, остаются неразлучными кровными братьями невзирая на черепушку жмурика и словечко «абрашка» — больше о скелете под церковью Святой Троицы не говорили. Лишь однажды, в Подойниковом переулке, между спортивными товарами Дойчендорфа и молочным заводом Вальтинат, перед витриной магазина, где были выставлены чучела белок, куниц, сов, токующих глухарей и орла, который, распахнув свои огромные чучельные крылья, когтил чучельного ягненка, перед витриной, что, низвергаясь широкой лестницей из оконных глубин до самого стекла, являла взору мышеловки, лисьи капканы, пачки ядовитого порошка от насекомых, пакетики нафталина, «комариной смерти», «грозы тараканов», крысиный яд и вообще весь арсенал крысоловов, птичий корм, собачьи галеты, пустые аквариумы, баночки с сушеными мухами и водяными блохами, заспиртованных лягушек, саламандр и змей в склянках, рогатых жуков, волосатых пауков и обыкновенных морских коньков, человеческий скелет — по правую сторону витрины, скелет шимпанзе — по левую, скелет бегущей кошки в ногах у маленького шимпанзе на предпоследней полке витрины, тогда как на самой верхней во всей поучительной наглядности были по порядку разложены черепа мужчины, женщины, старика, ребенка, младенца-недоноска и младенца-уродца, — перед этой всеохватной витриной-энциклопедией — в самом магазине можно было купить породистого щенка и доверить официально зарегистрированному специалисту утопление котят — перед витриной, стекло которой два раза в неделю до блеска мыли, Вальтер Матерн без обиняков предложил другу, если надо, купить на оставшиеся в кожаном мешочке деньги пару-тройку черепов, дабы использовать их в пугалостроении. Амзель отмахнулся, ответив с подчеркнутой лаконичностью, в которой, однако, не было никакой обиды, скорее легкая снисходительность, что тема скелета хотя и не устарела и не закрыта, но все же не настолько жгучая, чтобы тратить на нее последние деньги; если уж входить в расходы, то лучше по дешевке, на вес купить у окрестных крестьян и птичников гусиных, утиных и куриных перьев; ибо он, Амзель, задумал нечто совсем неожиданное — создать птичье пугало в виде огромной птицы; витрина в Подойниковом переулке со всем ее чучельным зверинцем навела его на эту мысль, особенно орел, закогтивший ягненка.
О, святой и уморительный миг вдохновения: ангел стучит себя пальцем по лбу. Музы с истерзанными от поцелуев устами. Планеты в Водолее. Кирпич с крыши. Яйцо о двух желтках. Пепельница доверху. Капель за окном: цел-лу-лойд. Короткое замыкание. Шляпные картонки. Что там сворачивает за угол? Лаковая туфелька с пряжкой. Кто входит без стука? Да это же сама Барбарина, Снежная королева, а вот и снеговики. Все, что поддается набивке: Бог, угри, птицы. Что добывается в шахтах? Уголь, руда, соль, птичьи пугала, минувшее…
Это пугало возникнет чуть позже. Ему на годы суждено стать последним творением Амзеля. Под названием — вероятно, все же ироническим — «Большая птица Долбоклюй» (имя, которое, как явствует из примечания, предложил не Амзель, а паромщик Криве) в виде эскиза конструкции и цветного рисунка оно дошло до нас как заключительная работа того дневника, что и сегодня более или менее надежно у хранится Браукселя в сейфе.
Тряпки — так примерно сказано в дневнике — надо обмазать дегтем или варом. После чего эти обмазанные варом или дегтем тряпки надо с внешней стороны, а если перьев достаточно, то и с внутренней, обклеить крупным и мелким пером. Но не как в жизни, а чтобы было почуднее.
У обмазанной и обклеенной на такой манер Большой птицы Долбоклюй, когда она, размером несколько выше человеческого роста, появилась на дамбе, вызывая всеобщую оторопь, перья и впрямь стояли дыбом. Вид у нее был, однако, совсем не чудной, а попросту жуткий. Даже самые прожженные рыбачки разражались проклятьями, уверяя, что от этакой твари враз родимчик хватит, можно окосеть, схлопотать бельмо, а то и выкидыш. Мужики, правда, внешне сохраняли каменную невозмутимость, но трубки у них остывали. Иоганн Ликфетт сказал:
— Нет, братцы, этого мне даже даром в подарок не надо…
Покупатель нашелся с трудом. И это при том, что цена, невзирая на деготь и перья, была небольшая. С утра Долбоклюй вообще простаивал на дамбе в полном одиночестве, мрачно вырисовываясь на фоне пустынного неба. Только когда из города возвращались школьники, некоторые из них как бы невзначай захаживали на дамбу, однако останавливались на почтительном отдалении, присматривались, обменивались суждениями, зубоскалили, но покупать не желали. Ни одной чайки в безоблачном небе. Не шуршат в дамбе мыши — ушли. Висла и рада бы сделать крюк, да не может. Во всей округе уже майские жуки — только не в Никельсвальде. Когда наконец учитель Ольшевский, — он всегда был немного со странностями, — больше ради полноты удовольствия, нежели для того, чтобы оградить от потравы каких-то две сотки своего палисадника, смеясь громче обычного, выказал некоторый интерес, — он называл себя человеком просвещенным. — Большая птица Долбоклюй была немедленно сбагрена по цене намного ниже начальной.
Две недели простояло чудище в палисаднике, отбрасывая черную тень на беленые стены скромной учительской хижины. Ни одна птаха пикнуть не смела. Ветер с моря топорщил вороные дегтярные перья. Кошек охватывал психоз, и они стали исчезать из деревни. Младшие школьники обходили птицу стороной, по ночам мочились в постель, просыпались с криком и белыми от ужаса ногтями. В Шивенхорсте у Хедвиг Лау воспалились миндалины, а вдобавок пошла кровь из носа. Старику Фольхерту, когда он колол дрова, в глаз попала щепка. Глаз долго не заживал. Когда, наконец, бабку Матерн посреди курятника хватил удар, многие прямо заявили, что это все из-за проклятой Большой птицы; и это при том, что куры и даже петух во дворе Матернов уже неделями перетаскивали в клювах солому, что испокон веков считается предвестьем смерти. И все в доме Матернов — первой бедная Лорхен — слышали древесного червячка, эти покойницкие ходики. Старуха Матерн отнеслась к предзнаменованиям серьезно и заказала последнее причастие. Которое и приняла в свой смертный час среди перетаскивающих солому кур. В гробу она выглядела, пожалуй, почти умиротворенно. На ней были белые перчатки, а в скрюченных пальцах она держала благоухающий лавандой кружевной платок. В цветочек, как и положено. Правда, перед тем, как закрыть гроб и опустить его в освященную по католическому обряду землю, ей, к сожалению, забыли вынуть из волос булавки. Этим упущением объясняются, должно быть, те свирепые мигрени, которые сразу же после похорон напали на мельничиху Матерн, урожденную Штанге, и с тех пор мучили ее до конца дней.
Когда тело положили в верхней горнице, а односельчане, шурша накрахмаленными сорочками и платьями, толпились на кухне и на лестнице, чтобы, прощаясь с покойницей, произнести свое: «Ну вот ее и нет больше с нами», «Ну вот ей и не нужно больше хлопотать», «Ну вот и отмучилась, теперь будет ей вечный покой», — паромщик Криве попросил разрешения приложить правый указательный палец покойницы к одному из немногих оставшихся своих зубов, который вот уже несколько дней как нагноился и мучительно нарывал. Мельник, стоя между окном и деревянным креслом, весь какой-то чужой в парадном черном костюме, без мешка и мучного червяка на плече, без привычной ряби света и тени, поскольку новая мельница еще не работала, задумчиво кивнул. Тут же с правой руки старухи Матерн осторожно стянули перчатку, и Криве прикоснулся своим гнилым зубом к кончику ее скрюченного указательного пальца. О, святой и упоительный миг чудесного исцеления: ангел стучит пальцем по лбу, налагает десницу, гладит против шерсти и скрещивает пальцы. Жабья кровь, вороний глаз, молоко кобылицы. На двенадцатую ночь[87], три раза через левое плечо, семь раз на восток. Булавки из головы. Волосы со срамного места. Пушок с темечка. Выкопать, по ветру развеять, ссаками пропитать, за порог вылить, ночью одному, еще до петухов, на Матфея[88]. Яд из куколя. Сало новорожденного. Пот мертвеца. Простыни умершего. Палец покойника — ибо гнойник под зубом Криве после прикосновения скрюченного указательного пальца правой руки покойной бабки Матерн и вправду, похоже, рассосался, да и боль, в строгом соответствии с приметой — палец мертвеца врачует больные зубы — сперва поутихла, а потом и вовсе прошла.
Когда гроб уже вынесли излома и он, покачиваясь, поплыл сперва мимо усадьбы Фольхерта, потом мимо хибарки и палисадника учителя, один из несущих гроб мужиков вдруг споткнулся, поскольку Большая птица Долбоклюй все еще жуткой пернатой тенью нависала над учительским кровом. Споткнуться нельзя просто так. Это всегда что-то значит. А уж на похоронах, с гробом, и подавно — это переполнило чашу. Крестьяне и рыбаки сразу нескольких окрестных деревень призвали учителя Ольшевского к порядку, пообещав, если не подействует, сделать это по всей форме через департамент учебных заведений.
В следующий понедельник, когда Амзель и Вальтер Матерн возвращались из школы, учитель Ольшевский уже поджидал их в Шивенхорсте на паромном причале. Он стоял в своих брюках-гольф и спортивном жакете в крупную клетку, в парусиновых туфлях и при соломенной шляпе. Покуда вагончики поезда загонялись на паром, он при молчаливой поддержке паромщика Криве произнес, обращаясь к друзьям, небольшую речь. Он сказал, что больше так не может, некоторые родители уже жалуются, даже грозились написать директору департамента учебных заведений, в Тигенхофе уже тоже что-то прослышали, разумеется, тут не обходится без самых примитивных суеверий, тем более, что ими пытаются объяснить смерть бабушки Матерн — «этой превосходной женщины!» — и все это в нашем просвещенном двадцатом столетии, но никому, особенно здесь, на Висле, не дано плыть против течения, поэтому он, наверно, скажет так: сколь ни прекрасно это пугало, но сельские жители, особенно в здешних местах, до такой красоты еще не доросли.
А еще учитель Ольшевский сказал своему бывшему ученику Эдуарду Амзелю дословно вот что:
— Мой мальчик, ты теперь ходишь в гимназию, ты сделал важный шаг в большую жизнь. В деревне тебе отныне будет тесно. Так что пусть твое усердие, твое художество, твой, как говорится, божий дар ищет себе нового выхода там, в большом мире. Но здесь, у нас, тебе пора остепениться. Ты же знаешь, я желаю тебе только добра.
На следующий день слегка повеяло апокалипсисом: Амзель разобрал свой склад в сарае у Фольхерта. Выглядело это так: Матерн отомкнул навесной замок, и на удивление много добровольных помощников принялись выносить барахло «старьевщика» — так прозвали Амзеля в окрестных деревнях — из сарая на улицу. Четыре начатых пугала, связки досок, реек, штакетин. Разлеталось по ветру выщипанное набивочное волокно. Матрасы изрыгали сухие водоросли. Конский волос рвался из диванных подушек. Пожарная каска, изумительный длинноволосый мужской парик из Крампитца, кивер, широкополые панамы, плюмажи, колпаки от сачков для бабочек, шляпы велюровые и фетровые, шляпа калабрийская и веллингтоновская, которые были получены в подарок от семейства Тиде из Грос-Цюндера, — словом, все, что способно прикрыть макушку, кочевало теперь с одной головы на другую, извлеченные из затхлой дровяной тьмы на медовый солнечный свет: «Старье берем! Старье берем!» Сундук Амзеля, содержимое которого могло бы свести с ума сотню профессиональных бутафоров и костюмеров, изливался потоками рюшей и мишуры, ручейками кисеи и стекляруса, струйками кружев, багетного шнура и благоухающих гвоздикой шелковых кистей. Все, у кого руки-ноги есть, все, кто пришел помочь старьевщику, теперь впали в примерочный раж, надевали, снимали, снова бросали в кучу — свитера и пиджаки, панталоны и даже лиственно-зеленые лягушачьи литовки. Заезжий молочник-оптовик подарил Амзелю зуавский китель и сливово-сизый жилет. Эх-ма, а корсет-то, корсет! Двое уже укутались в необъятные блюхеровские крылатки. Одержимые танцевальным демоном невесты, обдавая всех ароматом лаванды, кружились в подвенечных платьях. Бег в шароварах как в мешках — по двое. Истошный зеленый вопль рабочего халата. Колобок муфты. Дети в накидках, как мышата. Бильярдное сукно с дырками для луз. Сорочки без воротника. Брыжи и наусники, матерчатые фиалки, восковые тюльпаны и бумажные розы, наградные бляхи стрелковых праздников и собачьи жетоны, анютины глазки в волосы, наклейки-мушки и фальшивые серебряные кружева. «Старье берем! Старье берем!» Обувь, впору или нет, тоже пошла в ход — кто натягивал галоши, кто шаркал в шлепанцах, мелькали сапожки, сапоги на шнуровке и с отворотами, остроносые гнутые штиблеты топтали табачно-бурые гардины, кто-то босиком, но в гамашах отплясывал на фамильных шторах с графским, княжеским, а может, и королевским гербом. Прусское, куявское, вольное данцигское, все летело в одну кучу — какой праздник в крапиве за фольхертовским сараем! А на самом верху, над всем этим нафталиновым раем, гордо реяла, подпираемая жердями, Большая птица Долбоклюй — главный виновник всеобщего возмущения, страх и ужас окрестной детворы, Ваал здешних мест, весь в дегте и перьях.
Солнце светит почти отвесно. Разведенный опытной рукой и штормовой зажигалкой Криве, огонь разгорается уверенно и жадно. Все отходят на шаг-другой назад, но остаются, желая быть свидетелями великого сожжения. И пока Вальтер Матерн, как всегда во время официальных церемоний, производит довольно много шума, пытаясь скрежетом зубовным переспорить треск пламени, Эдуард Амзель, прозываемый «старьевщиком», а иногда — быть может, даже и сейчас, во время этого веселого аутодафе — «абрашкой», стоит как ни в чем не бывало на своих веснушчатых ногах-коротышках, радостно потирает друг о друга подушечки ладоней, щурит свои глазенки и что-то видит. И это не желто-зеленый едкий дым, не сморщенная паленая кожа, не обжигающий полет искристой моли заставляет его сощурить свои круглые глаза в узенькие щелочки; скорее уж это гигантская птица, охваченная многоязыким пламенем, дым которого тяжело оседает и низко стелется по крапиве, дарит его животворными идеями и прочими изюминками вдохновения. Ибо видя, как эта воспалившаяся тварь, рожденная из тряпья, дегтя и перьев, брызжа огнем, треща и оживая до неправдоподобия, совершает свою последнюю попытку взлететь, а потом, взметнувшись огненным фонтаном, вдруг разом обрушивается, Амзель решает (и записывает это в своем дневнике) позднее, когда он вырастет, еще раз вернуться к идее Большой птицы Долбоклюй: он построит гигантскую птицу, которая беспрерывно горит, но никогда не сгорает, — нет, она вечно, по самой природе своей, апокалипсической и декоративной одновременно, горит, полыхает и стреляет искрами.
ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
За несколько дней до четвертого февраля, прежде чем критический звездный час поставит под вопрос само существование нашего мира, Брауксель решает обогатить на одну позицию свой ассортимент, или, как он еще выражается, демониарий: он распорядился начать конструкторские разработки задуманного Амзелем горящего Perpetuum mobile[89]. Не настолько богат идеями этот мир, чтобы — пусть даже и в канун рокового звездного часа, что сулит нам конец света — отказаться, понуря голову, от одного из самых прекрасных человеческих озарений; тем более, что и сам Амзель после знаменательного аутодафе за фольхертовским сараем явил нам пример стоической выдержки, когда принял участие в тушении огня, охватившего вышеупомянутый сарай в результате залета искр и последующего воспламенения.
Спустя несколько недель после публичного сожжения амзелевских запасов и последних птицеустрашающих моделей, после пожара, который, как увидим, зажег в смышленой головке Амзеля не один запальный шнур, породив в ней крохотное, но неугасимое пламя, вдова Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, и господин Антон Матерн, мельник из Никельсвальде, получили по почте в одинаковых казенных голубых конвертах письма, из которых явствовало, что в такой-то день к такому-то часу каждого из них в кабинете директора реальной гимназии Святого Иоанна ожидает для беседы директор департамента учебных заведений господин доктор Баттке.
По все той же узкоколейке вдова Амзель и мельник Матерн — они сидели друг против друга, причем места им достались у окна — отправились в город. У Долгосадских ворот они сели в трамвай и доехали до Подойникова моста. Поскольку прибыли они в город заблаговременно, оба успели уладить кое-какие дела. Ей нужно было зайти к «Хану и Лехелю», потом к «Хаубольду и Ланзеру»; ему, в связи с новой мельницей, надо было навестить строительную фирму Прохнов в Адебарском переулке. На Длинном рынке они снова встретились, выпили у Шпрингера по стаканчику, потом взяли — хотя вполне могли бы добраться и пешком — такси и прибыли на Мясницкий переулок слишком рано.
Несколько округляя время, скажем так: минут десять им пришлось посидеть в приемной доктора Размуса Баттке, прежде чем сам он, в светло-серых ботинках и вообще одетый по-спортивному, весьма важный, хотя и без очков, показался на пороге. Вальяжным движением коротенькой холеной ручки он пригласил обоих в свой кабинет, а когда скромные сельские жители оробели при виде кожаных кресел, бодро воскликнул:
— Только без церемоний, прошу вас! Я искренне рад познакомиться с родителями двух столь многообещающих наших учеников.
Три стены книг, во всю четвертую окно. Трубочный табак директора издавал английское благоухание. Шопенгауэр ярился между стеллажами, потому что Шопенгауэр…[90] Графин с водой, стакан, чистилка для трубки на массивном, красного дерева, столе под зеленым сукном. Четыре руки на кожаных подлокотниках не знают, куда себя деть. Мельник Матерн повернулся к директору своим оттопыренным, а не плоским червячнослышащим ухом. Вдова Амзель, внимая уверенным разглагольствованиям директора, после каждого придаточного предложения кивает. В разговоре были затронуты, во-первых: экономическое положение на селе, то есть необходимость ожидаемого ввиду новых польских таможенных законов урегулирования рынка, а также проблемы сыроварен во всей Большой пойме Вислы. Во-вторых, Большая пойма вообще и как таковая, в особенности ее колышущиеся, повсюду колышущиеся, куда ни глянь, колышущиеся на ветру пшеничные нивы; преимущества эппского и зимнестойкого сибирского сортов; борьба с посевным куколем — «но в целом благодатнейший край, да-да, житница…» И, наконец, в-третьих, заключил доктор Размус Баттке, два таких славных, таких способных, хотя и с совершенно разными наклонностями ученика — маленькому Амзелю вообще все дается играючи, — два ученика, связанных столь тесной и столь положительной дружбой, — надо видеть, как трогательно защищает маленький Матерн своего товарища от подтруниваний, разумеется, вполне беззлобных подтруниваний, некоторых одноклассников, — словом, два столь достойных всяческого поощрения ученика из-за каждодневных и длительных поездок по этой ужасной, допотопной, хотя в чем-то, быть может, даже весьма забавной узкоколейке, совершенно лишены возможности проявить себя в полную силу; поэтому он, директор заведения и, уж поверьте, стреляный гимназический воробей, перевидавший на своем веку множество самых разных приезжих учеников, предлагает еще до наступления каникул, а еще лучше — прямо со следующего понедельника перевести обоих мальчуганов в другую школу. В Конрадинуме, это гимназия в Лангфуре, директор которой, его старый друг, уже в курсе дела и согласен, имеется интернат, проще говоря — общежитие для учеников, в котором значительной части питомцев, то есть, проще говоря, воспитанников, за умеренную плату — гимназия пользуется финансовой поддержкой весьма богатого благотворительного фонда — обеспечивается питание и жилье; одним словом, оба будут там в надежных руках и прекрасно устроены, так что он, как директор заведения, всячески советует такую возможность не упускать.
Вот так уже в следующий понедельник Эдуард Амзель и Вальтер Матерн сменили зеленые бархатные шапочки гимназии Святого Иоанна на красные шапочки Конрадинума. Вместе со своими чемоданами при посредстве все той же узкоколейки они покинули устье Вислы, большое побережье, дамбы от горизонта до горизонта, наполеоновские тополя, рыбачьи коптильни, паром сыромятного Криве, новую мельницу на новых козлах, угрей между коровами и ивами, отца и мать, бедную Лорхен, грубых и тонких меннонитов, Фольхерта, Кабруна, Ликфетта, Момбера, Люрмана, Карвайзе, учителя Ольшевского, а также призрак старухи Матерн, который начал бродить по дому, потому что трупную воду после обмывания позабыли выплеснуть за порог крест-накрест.
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Сыновья богатеев-крестьян и сыновья помещиков, сыновья слегка обнищавшей мелкопоместной знати из Западной Пруссии и сыновья кашубских кирпичных заводчиков, сын аптекаря из Нойтайха и сын священника из Хоенштайна, сын окружного советника из Штюблау и Хайни Кадлубек из Отрошкена, малыш Пробст из Шенварлинга и братья Дик из Ладекоппа, Боббе Элерс из Кватшина и Руди Кизау из Страшина, Вальдемар Бурау из Прангшина и Дирк Генрих фон Пельц-Штиловски из Кладау на реке Кладау; итак, сыновья нищего и дворянина, крестьянина и пастора, не совсем в одно время, но по большей части вскоре после Пасхи стали питомцами интерната, что находился подле Конрадинума. Реальная гимназия, носившая такое название, в течение многих десятилетий при поддержке фонда имени Конрада оставалась частным учебным заведением, однако во времена, когда Эдуард Амзель и Вальтер Матерн стали конрадианцами, город уже помогал школе крупными денежными дотациями. Поэтому и назывался Конрадинум теперь городской гимназией. И только интернат все еще оставался не городским учреждением, а был предметом частных забот и финансовых попечений конрадийского фонда.
Спальный зал для шести-, пяти- и четвероклассников, называемый еще малым спальным залом, располагался на первом этаже и выглядывал окнами в школьный сад, туда, где рос крыжовник. Хотя бы один писун находился всегда. Им и воняло, а еще сушеными матрасными водорослями. Наши друзья спали рядом, кровать к кровати, под олеографией, изображавшей Крановые ворота, башню обсерватории и Длинный мост во время зимнего ледохода. Оба никогда, или почти никогда не мочились в постель. Крещение для новичков — попытку намазать Амзелю зад сапожной ваксой — Вальтер Матерн пресек в два счета. На прогулочном дворе оба неизменно стояли под одним и тем же каштаном и держались особняком. Правда, малышу Пробсту и Хайни Кадлубеку, чей отец торговал углем, дозволялось присутствовать и слушать, как Вальтер Матерн с мрачным и глубокомысленным видом отмалчивался, а Эдуард Амзель тем временем изобретал новый, таинственный язык и осваивал с его помощью новый окружающий мир.
— Ыцитп гурков ен оннебосо. Птицы вокруг не особенно.
— Йеборов в едорог отэ ондо, йеборов в енверед месвос еогурд. Воробей в городе это одно, воробей в деревне совсем другое.
— Драудэ Лезма тировог торобоан.
Без устали и без труда составлял он длинные и короткие предложения, слово за словом выворачивая их задом наперед, и даже научился довольно бегло говорить на этом новом языке, так сказать, с обратным местным акцентом, щедро пересыпая свою таинственную речь перевернутыми местными словечками. Вместо «мертвяк» он говорил «кявтрем», вместо «черепушка» — «акшупереч». Непроизносимый мягкий знак он попросту убирал, трудно выговариваемые сочетания согласных, все эти «встр», «дпр» и «льщ», о которые, если произносить их наоборот, язык сломаешь, он упрощал и сглаживал, говорил «сез» вместо «здесь», «етсащен» вместо «несчастье». Вальтер Матерн в общем и целом его понимал, даже давал иногда короткие, тоже перевернутые и в большинстве случаев безошибочные ответы типа: «Заметано — Онатемаз!» Был неизменно склонен к решительности и лаконизму: «Ад или тен?» Малыш Пробст столбенел от изумления, а Хайни Кадлубек, которого, конечно же, звали «Кебулдак», уже делал первые успехи в новом наречии.
Множество изобретений и открытий, сродни амзелеву языкотворчеству, свершилось вот так же, на школьных дворах нашей планеты, чтобы потом кануть в забвение и возродиться под конец на скамеечках городских парков, задуманных в пандан к школьным дворам, в детском бормотании старцев, которые подхватят и разовьют самые смелые дерзания отрочества. Когда Господь Бог еще ходил в школу, на небесном школьном дворе ему и его школьному другу, смышленому пострелу Черту, пришло в голову сотворить мир; четвертого февраля сего года, как уверяют Браукселя научно-популярные разделы многих газет, этот мир может пойти прахом — тоже, наверно, на каком-нибудь школьном дворе кого-то осенило.
Кроме того, кое-что роднит школьные дворы с вольером курятника: гордая поступь находящегося при исполнении своего служебного долга петуха весьма напоминает гордую поступь надзирающего за учениками учителя. Петухи точно так же вышагивают, сложа руки за спиной, поворачиваются резко и вид имеют многозначительный.
Старший преподаватель Освальд Брунис — авторский коллектив вознамерился поставить ему памятник — делает сейчас, когда он несет дежурство на школьном дворе, прямо-таки образцово-показательную любезность автору сравнения оного двора с вольером курятника: а именно — через каждые девять шагов он принимается мыском левого ботинка разгребать гравий школьного двора; больше того, он даже сгибает в колене свою учительскую ногу и так на некоторое время замирает — привычка не совсем бессмысленная, поскольку старший преподаватель Освальд Брунис постоянно кое-что ищет: не золото и не чье-то сердце, не счастье, не Бога и не славу — он ищет редкие камешки. Школьный двор, искрясь на солнце слюдой и кварцем, усыпан гравием сплошь.
Что же удивительного, если ученики по очереди, иногда, впрочем, и сразу по двое, то и дело подходят к своему наставнику, дабы предъявить, кто всерьез, а кто и подстрекаемый бесом всеобщей школьной потехи, самые заурядные камешки, нарытые ими в гравиевых кущах. Однако каждый камешек, даже самый распоследний серый голыш, старший преподаватель Освальд Брунис зажимает между большим и указательным пальцами левой руки, держит сперва против света, потом на свету, правой рукой извлекает из нагрудного кармашка своего торфяно-бурого, местами даже безупречно чистого сюртука привязанную на резинке лупу, привычным и точным движением определяет лупу на послушно оттягивающейся резинке между камешком и глазом, после чего, всецело полагаясь на надежность резинки и элегантно уронив лупу, как бы разрешая ей самой шмыгнуть обратно в нагрудный карман, взвешивает камешек на Левой ладони и, раскрутив его сперва маленькими, а потом и рискованно-большими, до самого края ладони досягающими кругами, резким ударом свободной правой руки по тыльной стороне левой ладони зашвыривает его прочь.
— Красивый камешек, но ни к чему, — подытоживает Освальд Брунис результаты своих наблюдений, и той же рукой, что только что катала никчемный камешек на ладони, лезет в коричневый растрепанный кулек, который вообще всегда и в частности всякий раз, когда старший преподаватель Освальд Брунис появляется на этих страницах, торчит у него из кармана. Петляя магическими кругами, словно жрец, творящий молитву в храме, рука подносит извлеченный из коричневой бумаги мятный леденец ко рту, где он сперва взвешивается на языке, потом смакуется, сосется, уменьшается в размерах, растекается сладким соком между коричневыми от табака зубами, перекладывается из-за щеки за щеку, постепенно превращаясь — покуда время перемены стремительно тает, а смятенные души школяров все больше съеживаются от страха, покуда воробьи ждут-не дождутся, когда же эта перемена кончится, а сам учитель гордо расхаживает по школьному двору, шарит ногой в гравии и отбрасывает ненужные камешки, — из полновесного мятного леденца в маленький прозрачный обсосок.
Маленькая перемена, большая перемена. Короткие игры, торопливые шепотки. Драки и победы, беды и обеды — а прежде всего, как помнится Браукселю, страх: вот сейчас звонок…
Пустые школьные дворы — воробьиное раздолье. Тысячу раз видано, в жизни и в кино: ветер гонит по меланхолическому гравию пустынного, такого гуманистического, такого прусского школьного двора промасленные обертки школьных бутербродов.
Школьный двор гимназии Конрадинум состоял из Малого, квадратного дворика, укрытого сенью старых, растущих как попало каштанов, а по сути — небольшой и светлой каштановой рощи, и продолговатого, примыкающего к нему без всякого забора Большого двора, окаймленного юными, опирающимися на штакетины ограждения, педантично рассаженными липами. Новоготический спортивный зал, новоготический писсуар и новоготическое, четырехэтажное, увенчанное зачем-то колокольней без колоколов, темно-бордовое, старого кирпича, утопающее в зарослях плюща здание школы окаймляли Малый двор с трех сторон, укрывая его от ветров, что нещадно гоняли по Большому двору из восточного угла в западный столбы пыли; ибо здесь ветрам противостояли лишь низкорослый школьный сад, огороженный мелкоячеистой сеткой забора, и двухэтажное, но тоже, впрочем, новоготическое здание интерната. В ту пору, покуда еще не была разбита за южным фасадом спортивного зала современная, с гаревой дорожкой и газоном спортплощадка, Большой двор служил во время уроков гимнастики игровым полем. Упоминания заслуживает еще разве что солидный, метров пятнадцать в длину, навес, возвышавшийся на просмоленных деревянных столбах между молоденькими липами и школьным садом. Сюда, водруженные «на попа», передним колесом вверх, ставились велосипеды. Маленькая школьная забава: стоило раскрутить переднее колесо, как мелкие камешки, застрявшие в шинах даже после недолгого проезда по гравию Большого двора, со свистом летели во все стороны, барабаня по листьям крыжовника за сетчатым забором школьного сада.
Кому хоть раз в жизни приходилось играть в футбол, ручной мяч или волейбол, бейсбол или даже просто лапту на усыпанной гравием площадке, тот потом долго еще, едва ступив на шуршащий гравий, будет вспоминать разодранные в кровь колени и все остальные ссадины, которые так плохо заживают под мелкими мокрыми струпьями, превращая все гравиевые спортплощадки в места массового кровопролития. Мало что еще на этом свете врезается в нашу память и нашу кожу столь же неизгладимо, как гравий.
Однако ему, гордому петуху на школьном дворе, вечно сосущему и причмокивающему Освальду Брунису — не забудем, ему будет воздвигнут здесь памятник — ему, с лупой на резинке, с клейким кульком в клейком кармане, ему, тому, кто собирал камни и камешки, выискивая редкие, преимущественно искрящиеся и сверкающие экземпляры, — кварц, полевой шпат, роговую обманку, — подбирал их с земли, разглядывал, выбрасывал или заботливо прятал, — ему Большой школьный двор Конрадинума был вовсе не полем кровавых мучений, а неиссякаемым поприщем неутомимых исканий правой ногой через каждые девять шагов. Ибо Освальд Брунис, преподававший все или почти все предметы — географию и историю, немецкий и латынь, если очень надо, то и закон божий, — был кем угодно, но только не тем типичным учителем гимнастики, каким его видит в самых страшных снах все школьное юношество: с черной мохнатой грудью, с черными волосатыми конечностями, с пронзительным свистком и ключами от кладовки на шее. Брунис никогда и никого не заставлял дрожать под турником, мучиться на параллельных брусьях, плакать, повиснув на гимнастическом канате. Ни разу не потребовал он от Амзеля совершить прыжок махом с переворотом или прогнувшись через нескончаемо длинного коня. Ни разу по его наущению ни сам Амзель, ни его пухлые коленки не обдирались о кусачий гравий.
Мужчина лет пятидесяти, со сладкими — буквально каждый волосок липнет к волоску — от бесконечных мятных леденцов и опаленными сигарой усиками. На круглой макушке бобрик седых волос, в котором нередко — иной раз до самого обеда — торчат репьи, подброшенные чьей-то шкодливой рукой. Лицо, испещренное морщинками ухмылок, хихиканья и смеха. Вьющиеся кусты волос из обоих ушей. В мохнатых, растрепанных бровях притаился Эйхендорф[91]. Водяная мельница, веселые подмастерья и фантастическая ночь где-то вокруг трепетных крыльев носа. И только в уголках губ и еще, пожалуй, чуть-чуть над крыльями носа, угадываются черты других сладкоежек: Гейне, «Зимняя сказка»[92], и Раабе, «Балбес»[93]. При этом всеми любим и никем не принимаем всерьез. Холостяк в бисмарковской шляпе, классный наставник шестого начального, где учатся Вальтер Матерн и Эдуард Амзель, два друга с устья Вислы. Оба уже почти не пахнут коровником, скисшим молоком и копченой рыбой, да и гарь от пожара, въевшаяся в их волосы и одежду после знаменательного публичного сожжения за фольхертовским сараем, уже вся выветрилась.
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Минута в минуту прошел пересменок, и это несмотря на деловые неурядицы, — брюссельские аграрные соглашения[94] доставят фирме Брауксель и Ко немалые трудности со сбытом, — так что пора обратно на усыпанный гравием школьный двор. Похоже, новая школа сулила нашим друзьям немало радостей. Едва их перевели из гимназии Святого Иоанна в Конрадинум, едва они обжились в затхлом, провонявшем скверными мальчишками интернате — кто не слыхал на своем веку интернатских историй? — едва успел гравий школьного двора врезаться в их память и кожу, как вдруг объявили: через неделю шестой начальный отправляется на полмесяца в Заскошин. Под надзором старшего преподавателя Бруниса и учителя гимнастики, старшего преподавателя Малленбрандта.
Заскошин! Какое ласковое слово!
Лесная школа находилась в Заскошинском Бору. Ближайшая деревня называлась Майстерсвальде. Туда — через Шюдделькау, Страшин-Прангшин и Грос-Салау — класс в сопровождении обоих педагогов и был доставлен автобусом. Деревня застраивалась давно, и не вдоль улицы, а как придется. Песчаная рыночная площадь, достаточно просторная для ярмарки скота. О ней же напоминали деревянные колья с проржавленными железными кольцами для привязи. Сверкающие лужи при малейшем порыве ветра подергивались рябью: незадолго до прибытия автобуса прошел ливень. Но никаких коровьих лепешек, конских яблок, зато множество воробьиных сходок, постоянно меняющих месторасположение и состав участников, чей щебет стократ усилился, едва Амзель вышел из автобуса. Приземистые деревенские лачуги, частично под соломенными крышами, силились разглядеть рыночную площадь своими подслеповатыми оконцами. Была тут и двухэтажная неоштукатуренная новостройка, торговый дом Хирша. Новенькие, прямо с завода, плуги, бороны, сеноворошилки мечтали о покупателе. Дышла, уткнувшиеся в небо. Напротив, чуть наискосок, красно-кирпичное здание фабрики, вымершее, с забитыми окнами по всему растянувшемуся фасаду. Лишь в конце октября урожай сахарной свеклы вернет в этот заколоченный гроб жизнь, вонь и заработки. Неизбежный филиал сберкассы города Данциг, две церкви, закупочный молочный пункт, цветовое пятно — почтовый ящик. А перед витриной парикмахера, чтобы не сказать цирюльника, еще одно цветовое пятно — медово-желтый, кренящийся на ветру медный диск играл переливами света при малейшей перемене облачности. Сирая, холодная деревушка, почти вовсе без деревьев.
Майстерсвальде, как и все поселения к югу от города, относилось к округу Верхний Данциг. Скудная, унылая земля по сравнению с тучными, илистыми почвами долины Вислы. Свекла, картофель, польские неостистые овсы, простая стекловидная рожь. И на каждом шагу камень. Крестьяне, бродившие по полям, то и дело нагибались, чтобы подобрать с земли один из несметного полчища многих, и в слепой ярости зашвырнуть куда подальше — то бишь на поле соседа. Та же картина и по воскресеньям: крестьяне в черных картузах с поблескивающими лаковыми козырьками бредут через свекольное поле, в левой руке зонт, а правой, наклонившись, подбирают и швыряют куда попало — и камни падают, падают дождем; каменные воробьи, супротив которых никто, даже Эдуард Амзель, еще не придумал пугала.
Итак, Майстерсвальде: согбенные черные сюртуки, гневные острия зонтов торчком в небо, подбор — швырок, подбор — швырок, и даже объяснение, откуда эта каменная напасть: дескать, это черт в наказание за неисполненную клятву отомстил крестьянам тем, что всю ночь летал над землей, изрыгая души проклятых, что комом лежат у него в желудке, на окрестные луга и пашни. А поутру оказалось, что души превратились в камни, а поскольку они проклятые, то крестьянам теперь никуда от них не деться — будут швырять и гнуться до скончания своего горбатого века.
Отсюда классу предстояло вольным строем, со старшим преподавателем Брунисом во главе, со старшим преподавателем Малленбрандтом в арьергарде, пройти пешком три километра сперва холмистым полем, на котором по обе стороны шоссе среди обильных каменных посевов робко проглядывала малорослая рожь, потом через начинающийся Заскошинский Бор, покуда между стволами буков не забрезжили беленые кирпичные стены лесной школы.
Жидковато, что и говорить! Брауксель, чье перо выводит эти строки, органически не способен описывать безлюдные ландшафты. Не то, чтобы ему недоставало вдохновения, нет, но едва он начинает прорисовывать чуть волнистый склон холма, то есть его сочную зелень, и многочисленные штифтеровские оттенки холмов[95] за ним — вплоть до зыбкой серо-голубой дымки у самого горизонта, а затем помещает на еще не оформленный передний план неизбежные камни, усеявшие поля в окрестностях Майстерсвальдена, и пресловутого черта, а также укрепляющие передний план кустарники, то есть перечисляет их, говорит: бузина, орешник, дрок гладколистный, сосна горная, — словом, кусты, мелкие и крупные, тощие и круглые, по склону вверх и по склону вниз, кусты сухие и с колючками, кусты-шатуны и кусты-шептуны — ибо в этих местах всегда ветрено — едва он за это принимается, как его тут же подмывает вдохнуть во всю эту штифтеровскую глухомань немножко жизни. И Брауксель говорит: а за третьим кустом, если считать слева, на три пальца выше вон того лоскута кормовой свеклы, да нет, не под лещиной, — ох уж эта лещина, все заполонит! — вон там, там, да вон же, чуть пониже того красивого, большого, неподъемного, мшистого валуна, словом, за третьим кустом слева посреди этого безлюдного ландшафта притаился человек.
Нет, не сеятель. И не столь излюбленный в масляной живописи землепашец. Мужчина лет сорока пяти. Бледный смуглый черный отчаянный прячется в кустах. Нос крючком, уши торчком, зубов нет. Глянь-ка, да у этого человека ангустри[96], перстень на мизинце, и в последующих утренних сменах, покуда школьники будут играть в лапту, а Брунис сосать свои мятные леденцы, ему будет уделено немало внимания, поскольку он носит при себе узелок. А в узелке что? И кто этот человек?
Это цыган Биданденгеро[97], и узелок у него не простой, а говорящий.
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Излюбленным видом спорта в те школьные годы была лапта. Уже на усеянном гравием школьном дворе Конрадинума свеча, запущенная столь мастерским ударом, что, покуда мяч сперва зло вгрызался в небо, а потом как бы нехотя пикировал вниз, игроки бьющей команды, рассыпаясь веером, успевали без помех добежать до своих «меток» и вернуться, набрав очки, — такая свеча считалась геройством, по сравнению с которым пятьдесят пять «солнышек» или семнадцать отжимов на турнике были так, ерундой. Ну, а уж в заскошинской лесной школе в лапту играли с утра до вечера, для проформы перемежая это занятие двумя-тремя уроками в день. На игру эту Вальтер Матерн, его друг Эдуард Амзель и старший преподаватель Малленбрандт смотрели с трех совершенно разных точек зрения.
Для Малленбрандта лапта была мировоззрением. Вальтер Матерн был мастером свечи. Он запускал в небо свечи и ловил их играючи, успевая тотчас же выбросить мяч из ловушки своему партнеру, что приносило команде дополнительные очки.
Что до Эдуарда Амзеля, то он колобком мчался по игорному полю как сквозь чистилище. Толстенький коротконожка, он являл собою идеальную мишень для ответных бросков противника. Он был самым уязвимым местом в своей команде. За ним устраивали настоящую охоту. Его загоняли в квадрат по четверо и совершали над ним разнузданные, почти людоедские пляски с мячом. На нем опробовались самые изощренные финты, покуда он с визгом не валился в траву, всем телом предощущая шмякающий удар мяча задолго до самого удара.
Мяч приносил Амзелю спасение лишь тогда, когда друг Вальтер Матерн запускал его свечкой; Вальтер Матерн, собственно, и старался бить одни только свечи, чтобы дать Амзелю возможность под прикрытием взлетевшего в небо мяча успеть пересечь игровое поле. Однако, увы, далеко не каждая его свеча столь надолго зависала в воздухе, так что уже после нескольких дней такого, в буквальном смысле слова игривого мировосприятия на веснушчатом теле Амзеля замерцали многочисленные синие «фонари», которые потом долго не хотели гаснуть.
Уже и в ту пору — пересменок: после относительно мягкого детства, проведенного на обоих берегах Вислы, начались, теперь уже вдали от Вислы, страдания Амзеля. И они еще долго не кончатся. Ибо старший преподаватель Малленбрандт считался крупным специалистом и даже написал то ли книгу, то ли главу в книге о спортивно-состязательных играх немецких школьников. В ней он кратко и исчерпывающе высказал свое понимание лапты. Во введении отметил, что национальное своеобразие лапты как истинно народной игры особенно наглядно выявляется в сопоставлении с безликим, вненациональным футболом. Затем, параграф за параграфом, изложил правила. Одинарный свисток означает: мяч вне игры. Засчитанное попадание — когда атакующих «запятнали» — фиксируется двойным свистком арбитра. Бежать с мячом запрещается. Вообще мячи: мячи бывают отвесные, так называемые «свечи», дальние, плассированные с угла, ложные свечи, катыши, ползуны, рикошеты, отскоки, «пятнающие» попадания и в три передачи. Подача мячей осуществляется ударом биты и бывает, в зависимости от типа производимого удара, для отвесных и дальних мячей — снизу или боковая, для плассированных мячей — от локтя, а также двумя руками, когда мяч подбрасывается на высоту плеча. Отвесные мячи, или так называемые «свечи», поучал Малленбрандт, ловятся игроком так, чтобы рука с ловушкой и пойманный мяч образовывали одну линию с уровнем глаз ловящего. Кроме того, — и это новшество прославило старшего преподавателя по всем городам и весям, — по его предложению расстояние, которое игрокам следует пробегать до «меток», было с пяти метров увеличено до пятидесяти пяти. Это ужесточение правил игры — Амзелю довелось в буквальном смысле прочувствовать его на собственной шкуре — было воспринято почти всеми гимназиями на севере и востоке Германии. Малленбрандт был ярым врагом футбола, и многие считали его истовым католиком. На шее, а точнее, на волосатой груди у него болтался металлический свисток. Одинарный свисток означал: мяч вне игры. Двойной свисток означал: только что ученика Эдуарда Амзеля «запятнали» мячом, попадание засчитывается. А вот свечи, которые Вальтер Матерн запускал, стараясь спасти своего друга, Малленбрандт частенько не засчитывал: «Заступ!»
Но зато следующая свеча в порядке. И за ней еще одна — тоже. А вот следующая сорвалась — подающий чуть накренил корпус, и мяч, отклонившись от игрового поля, со свистом и треском ныряет в чащу леса. По свистку Малленбрандта — мяч вне игры! — Вальтер Матерн мчится к забору, перемахивает его одним прыжком, ищет во мху и под кустами на опушке, как вдруг мяч сам выпрыгивает к нему из орешника.
Мяч пойман, быстрый взгляд: из ветвей и листвы торчат голова и плечи мужчины. На ухе, на левом, покачивается медная серьга, потому что мужчина смеется, беззвучно. Смуглый бледный загорелый. Ни одного зуба во рту. Биданденгеро — это и означает «беззубый». А под мышкой — говорящий узелок. Вальтер Матерн, держа мяч обеими руками и пятясь, выбирается из леса. Никому, даже Амзелю, он не расскажет об этом бесшумно смеющемся незнакомце в кустах. Уже следующим утром, и после обеда тоже, Вальтер Матерн нарочно смазывает по одной подаче, запуская мяч в лес. И не дожидаясь свистка Малленбрандта, мчится через все поле и перемахивает через забор. Но ни один куст, ни одно деревце не выбрасывает ему мяч обратно. Один мяч он после долгих поисков нашел под папоротником, а второй так и запропастился — не иначе, лесные муравьи в муравейник затащили.
ТРИДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Усердные штрихи карандаша и воробьи; штриховать и оставлять «воздух»; плодиться и взрываться.
Усердие пчел, муравьев, усердие леггорнских кур; усердные саксонцы и усердные прачки.
Утренние смены, любовные письма, матерниады: Брауксель и его соавторы тоже брали уроки — у кое-кого, кто всю жизнь не покладал рук, барабаня по лакированной жести[98].
А что же восемь планет? Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, Уран, к которым, как зловеще намекают астрологические календари, может присоединиться незримая луна Лилит[99]? Неужто они двадцать тысяч лет усердно двигались по своим орбитам лишь затем, чтобы послезавтра войти в роковое неблагоприятное противостояние в знаке Водолея?
Не все свечи получались как надо. Поэтому подачи, в том числе и якобы «срезавшиеся», а на самом деле запущенные «в молоко» нарочно, надо было усердно тренировать.
Открытая деревянная веранда, так называемый «зал отдыха», замыкала лужайку с севера. Сорок пять деревянных кушеток, сорок пять аккуратно сложенных в изножьях кушеток грубошерстных, кисло пахнущих одеял поджидали шестиклассников для полуторачасового послеобеденного отдыха. А уж после «мертвого часа», неподалеку от веранды, на восточной стороне лужайки, Вальтер Матерн тренировал подачу.
Здание лесной школы, зал отдыха, игровое поле и обегающую их от угла к углу сетчатую изгородь со всех сторон обступал густой, недвижный или шумный, Заскошинский Бор — смешанный лес, где водились кабаны, барсуки, гадюки и где — прямо через лес — проходила государственная граница. Ибо лесной массив начинался на польской земле, первыми кустами и соснами прорастая на песчаных почвах Тухлерской пустоши, уже слегка перемежаясь на волнистых холмах Кошнадерии березой и буком, упрямо тянулся на север, к более мягкому приморскому климату: на валунных мергелях произрастал смешанным лесом, а заканчивался на побережье светлыми лиственными рощами.
Иногда через границу переходили цыгане, которых здесь считали безобидными. Они кормились дикими кроликами, ежами и случайными приработками. Лесную школу они снабжали белыми грибами, лисичками и рыжиками. Лесник прибегал к их помощи, когда неподалеку от лесных дорог высоко на стволах надо было уничтожить осиные гнезда — по дорогам шли обозы с лесом, и осы пугали лошадей. Цыгане называли себя «гакко», обращаясь друг к другу, говорили «мора!», а местные, разумеется, кликали их «цыганами» или еще «смугляками».
И вот однажды некий гакко бросил шестикласснику мяч, залетевший в чащу леса после сорвавшейся подачи. Этот мора беззвучно смеялся.
Теперь шестиклассник, прежде тренировавший лишь правильные отвесные подачи, с тем же усердием тренировал подачи неправильные.
Шестикласснику даже удалось дважды так сорвать подачу, что мяч летел в то же самое место, но никто больше не выбросил ему мяч обратно.
Так где же Вальтер Матерн тренировал свои подачи — правильные и неправильные? За верандой для отдыха, к востоку, был расположен плавательный бассейн, примерно семь на семь, в котором давно никто не купался — бассейн засорился, протекал, словом, никуда не годился; правда, лужи дождевой воды застаивались и испарялась в его растрескавшемся бетонном ложе. И хотя школьники в бассейне не купались, посетители, и в избытке, здесь были: лягушки, прохладные и шустрые, величиной с мятный леденец, усердно прыгали повсюду, словно у них тут тренировка; большие одышливые жабы попадались редко, зато лягушек было хоть пруд пруди — целые конгрессы и школьные дворы лягушек, лягушачьи балетные ансамбли и лягушачьи ассамблеи; лягушки, чтобы надувать их через соломинку, лягушки, чтобы совать их за воротник, чтобы давить и чтобы в ботинки подкладывать; лягушки, чтобы подбрасывать их в почему-то всегда слегка подгорелый горох с салом и в чужие кровати, в чернильницу и в конверт под видом письма, — и наконец, лягушки, чтобы тренировать на них подачу.
Каждый день Вальтер Матерн тренировался в сухом бассейне. Тем паче, что запас аккуратных, гладких, одна к одной, лягушек был неисчерпаем. Тридцать подач — и тридцать серо-голубых красавиц прощались со своими молодыми земноводными жизнями. Черно-коричневых бывало обычно только двадцать семь, ими Вальтер Матерн завершал неутомимую череду своих упражнений. Он, впрочем, вовсе не стремился к тому, чтобы запустить, скажем, серо-голубую лягушку как можно выше — выше вершин шумного или безмолвного Заскошинского Бора. Но и не к тому, чтобы любым местом биты по лягушке болотной обыкновенной просто попасть. Он ведь жаждал усовершенствоваться не в дальних и не в коварных плассированных мячах, — в дальних, к тому же, Хайни Кадлубек все равно был вне конкуренции, — нет, Вальтер Матерн тренировал на разноцветных лягушках только такие удары, когда бита в строгом соответствии с рекомендациями виртуозов описывает дугу снизу вверх, что и сулит образцовую, едва ли не строго вертикальную и почти не подверженную порывам ветра свечу. Если бы вместо переливчатых лягушек бита на конце этой дуги встречала упругий, шершаво-коричневый, лишь по линиям швов гладкий и блестящий кожаный мяч, Вальтеру Матерну за каких-нибудь полчаса удавались бы дюжина превосходных и штук пятнадцать-шестнадцать вполне приличных свечей. Справедливости ради следует также сказать, что невзирая на усердное и успешное освоение удара свечой число лягушек в обезвоженном бассейне нисколько не убавлялось: они продолжали бодро, хотя и с неодинаковой резвостью, тренировать прыжки в высоту и длину прямо под ногами Вальтера Матерна, который стоял среди них, словно лягушачья смерть. То ли они и вправду этого не понимали, то ли были до такой степени преисполнены сознания собственной многочисленности, — в этом смысле они отчасти сродни воробьям, — что никакой лягушачьей паники в бассейне не наблюдалось.
В сырую погоду на дне смертоносного бассейна появлялись также тритоны, пятнистые саламандры и банальные ящерицы. Но этим юрким созданиям бита не угрожала, ибо к тому времени у шестиклассников завелась игра, стоившая тритонам и саламандрам не жизней, а только хвостов.
Итак, испытание мужества: дергающиеся, извивающиеся во все стороны кончики хвостов, которые тритоны, саламандры и ящерицы отбрасывают, когда их хватаешь, — впрочем, хвосты можно и отрубать коротким ударом пальца, — вот эти живые, трепещущие отростки нужно проглотить, и именно в подвижном состоянии. Лучше, конечно, проглотить не один, а несколько прыгающих по бетону хвостов. Кто отважится на такое, тот герой. При этом полагается заглотить от трех до пяти хвостов, не запивая их водой и не заедая хлебом. Но и это еще не все: тому, кто уже удерживает в своем нутре три, а то и пять неутомимо бьющихся хвостов ящериц, тритонов или саламандр, запрещено меняться в лице. Оказывается, Амзель может! Загнанный, замордованный лаптой Амзель распознает в заглатывании тритоньих хвостов спасительную возможность и спешит за нее ухватиться: он не только внедряет в свое пухлое, коротконогое тело сразу семь вертких хвостиков, он, оказывается, в состоянии, — если только ему пообещают освободить его от лапты после обеда и отправить вместо этого с кухонным нарядом чистить картошку, — пройти дополнительное испытание: проглотив семь хвостов и продержав их в себе минуту, он может, не засовывая пальцев в горло, одною только силой воли, а главным образом от безумного страха перед беспощадным кожаным мячом, изрыгнуть все семь хвостов обратно — и гляди-ка, они все еще дергаются, уже, правда, не так сильно, потому что в слизи им трудно, но дергаются на бетонном дне бассейна среди прыгающих лягушек, которых не стало меньше, хотя незадолго до амзелевого испытания мужества и последующего дополнительного испытания отрыжкой Вальтер Матерн усердно тренировал здесь удары свечой.
Одноклассники под сильным впечатлением. Снова и снова пересчитывают они семь воскресших хвостов, хлопают Амзеля по округлой веснушчатой спине и обещают, если Малленбрандт согласится, отказаться сегодня от своей традиционной мишени. Если же Малленбрандт почему либо станет возражать против его кухонного дежурства, они все равно больно бить не будут, только сделают вид…
Множество лягушек слушают этот странный торг. Семь проглоченных и снова выплюнутых хвостов потихоньку замирают. Вальтер Матерн, опершись на свою биту, стоит у сетчатого забора и долго смотрит в кущи возвышающегося кругом Заскошинского Бора. Что он там потерял?
ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Так что нам светит? Завтра ввиду множества звезд, усеявших небо над нами мерцающим месивом, Брауксель вместе с утренней сменой уйдет под землю и там, в архиве, на глубине восьмисот пятидесяти метров, — когда-то в этой штольне хранились заряды взрывников, — завершит свой труд: ибо главное в работе летописца — не терять голову.
Первая неделя каникул в заскошинской лесной школе — с яростными сражениями в лапту, прогулками строем и весьма снисходительными уроками — в воспоминаниях Браукселя уже подходит к концу. Планомерный расход лягушек и нерегулярное, ибо зависимое от погоды, заглатывание тритоньих хвостов — с одной стороны; вечерние сборы с пением у костра — спина мерзнет, лицо горит — с другой. Кто-то разодрал коленку. У двоих горло заболело. Сперва у малыша Пробста вскочил ячмень на глазу, потом ячмень вскочил у Йохена Витульски. Пропала авторучка, то ли украли, то ли Хорст Белау сам ее потерял — долгое разбирательство. Боббе Элерсу, отличному «метчику» в лапте, приходится раньше срока уезжать домой в Кватшин, у него серьезно заболела мама. В то время, как один из братьев Дик, тот, что в интернате постоянно мочился в постель, здесь, в Заскошине, торжественно предъявляет сухие простыни, его брат, прежде из сухих, начинает регулярно орошать не только кровать ночью, но и кушетку на веранде в мертвый час. Чуткий, вполглаза послеобеденный сон. Сквозь полудрему, непривычно тихое без игроков, зеленеет поле для лапты. У Амзеля во сне выступили на лбу крупные жемчужины пота. Медленным взглядом буйволенка ощупывает Вальтер Матерн далекую сетчатую изгородь и лес, стоящий за нею стеной. Ничего. У кого терпения хватит, тот увидит, как вырастают холмы на игровом поле: кроты ведь работают без обеда. На обед был горох с салом — почему-то всегда слегка подгорелый. На ужин вроде бы обещали жареные лисички, а потом манный пудинг с черничным соусом, но дадут совсем другое. А после ужина все сядут писать домой открытки.
Никакого костра сегодня. Кто-то играет в «братец не сердись», кто-то в «орел или решку». В столовой сухой деловитый перестук настольного тенниса тщетно пытается заглушить рокот ночного черного леса. В своем кабинете старший преподаватель Брунис, досасывая мятный леденец, разбирает коллекционную добычу сегодняшнего дня: здешние места богаты биотитом и мусковитом — они замечательно друг о дружку трутся. Слюда искрится, а гнейсы[100] хрустят. Когда Вальтер Матерн скрежещет зубами, никакая слюда не искрится.
Он сидит на краю черного ночного поля, на бетонном валике бедного водой, но богатого живностью лягушатника. Рядом с ним Амзель.
— Нов в усел немет яакак.
Вальтер Матерн уставился в близкую, все ближе подступающую стену Заскошинского Бора. Амзель потирает места, по которым сегодня прошелся мяч. Так за каким точно кустом? А смеется совсем неслышно? Правда, что ли, узелок? Правда, что ли, Биданденгеро?
Нет, это не слюда; это зубы Вальтера Матерна слева направо. Ему отвечают одышливые жабы. Кряхтит и постанывает лес со всеми своими птицами. И не течет, не впадает в море Висла.
ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Перо Браукселя выводит эти строки под землей. Ух, и темень же в немецком лесу! Призраки слоняются. Лешие колобродят. Ух, и темень же в польском лесу! Цыгане-барахольщики шастают. Злодей-Асмодей! Или Бенг Дирах Беельзебуб, Вельзевул[101] по-нашему, а для крестьян так и просто Чертяка. Пальцы горничной, которая была когда-то слишком любопытна, теперь вот превратились в мертвецкие свечи, в блуждающие болотные огоньки — кому свет, тому и смерть. Братишка Бальдур[102] тяжело ступает по мху: одиннадцать на одиннадцать считай сорок девять[103]. Ух, а уж в немецко-польском лесу и вообще темень тьмущая: Нечистый гуляет, Бальдур летает, болотные огни сплошняком, муравьев жуть сколько, деревья сцепились насмерть, цыгане-бродяги шастают: Леопольдова цыпка и цыпка-мама, и цыпка-сестра, и сестренкина цыпка, а еще цыпка Гиты и цыпка Гашпара, и у всех у всех огоньки в руках, спичками чирк-чирк, покуда не нашлась, вот она: чистенькая Машари показывает плотницкому сыну, где ей из гусино-белой посуды молоко… Молоко густое и почти зеленое, потому что смолистое, а вокруг уже сползаются змеи, одиннадцать раз по одиннадцать, считай сорок девять.
Через папоротники граница проходит на воздусях. Тут и там красно-белые мухоморы сражаются с черно-красно-белыми муравьями. Сестренка! Сестренка! Это кто там потерял сестру? Желуди плюхаются в мох. Кеттерле кричит, потому что углядела искорку: но это гнейс лежит рядом с гранитом и об него трется. Слюда крошится. Сланец хрустит. Да кто их услышит?
Услышит Ромно, человек за кустом. Биданденгеро, беззубый, но слышит отлично: желуди сыплются, сланец шуршит, шнурованный ботинок его поддел, узелок цыц, ботинок все ближе, грибы клякнут, змея, скользя, уползает в следующее столетие, черничины лопаются, папоротники дрожат — перед кем? Наконец свет, как в замочную скважину, проникает в лес, спускаясь сверху вниз, словно по ступенькам. «Кеттерле» — это сорока, а вот и «пор», ее перо, падает. Шнурованные башмаки топчут лес как хотят. Да он еще и хихикает, учило-мучило-зубрило — Брунис! Освальд Брунис! — хихикает, потому что они трутся, пока совсем не искрошатся: искристо-сланцево-зернистые, прожильчато-чешуйчатые — двуслюдяные гнейсы, кварц и полевой шпат. Редкость, большая редкость, бормочет он себе под нос, выставляет вперед шнурованный ботинок, вытаскивает лупу на резинке и тихо хихикает из-под своей бисмарковской шляпы.
А еще он подбирает прекрасный, изумительный осколок искристого розового гранита, вертит его перед глазами под густыми кронами леса, подставляя под редкие лучи по ступенькам спустившегося солнца, покуда все блестки-зеркальца не скажут ему: пи-и-и! Этот камень он не выбрасывает, держит на свету, шепчет свои заклинания и не оборачивается. Потом куда-то уходит, все еще что-то бормоча. Подставляет свой искристый гранит под следующий, и еще один, и еще вот этот солнечный зайчик, чтобы тысячи крохотных зеркалец снова и снова пискнули ему свое «пи-и-и!» — каждое зеркальце по очереди и лишь немногие хором. Вот его ботинок ступает совсем рядом с кустом. За кустом сидит беззубый, Биданденгеро, сидит тихо, как мышка. И в узелке — цыц! — тихо. Ромно больше не сорока. И «пор», ее перо, больше не падает. Потому что кричало-долбило-зубрило, учило, Освальд Брунис, совсем рядом.
Где-то в глухой чаще он радостно смеется под своей шляпой, ибо он нашел в немецко-польском Заскошинском Бору, в самых его дебрях, чрезвычайно редкий камень — красно-розовый искристый гранит. Но поскольку тысячи маленьких зеркал никак не хотят прекратить свое многоголосое «пи-и-и!», у старшего преподавателя Освальда Бруниса делается сухо и горько во рту. Надо набрать хвороста и еловых шишек. А из трех больших камней, которые, кстати, и искрятся неважно, надо соорудить очаг. Чиркалки-спички из шведской коробки пусть покажут свои пламенные язычки, именно здесь, в самой глухой глуши дремучего леса, чтобы тотчас же снова крикнула кеттерле[104] и — пор — потеряла свое перо.
А у старшего преподавателя в котомке отыскивается сковорода. Черная, промасленная, усеянная искристыми крошками, потому что в котомке он носит не только сковороду, но и искристые слюдяки, и искристый гранит, и даже редкостные двуслойные гнейсы. Но кроме сковороды и искристых камешков котомка учителя таит в себе, оказывается, множество коричневых и голубых бумажных пакетов и кульков разного объема и веса. А вдобавок бутылку без этикетки и круглую жестянку с завинчивающейся крышкой. Сухо потрескивают язычки пламени. Шипит и булькает смола. Прыгают на сковороде искристые крошки. Сковорода пугается, когда ее поливают из бутылки. Пламя вскидывается между тремя камнями очага. Шесть кофейных ложечек с верхом из жестянки. На глаз сыпануть из большого голубого пакета и из маленького коричневого кулька. Теперь один черенок ложки, но с верхом, из маленького голубого, одна щепотка из маленького коричневого. Потом мерно помешивать слева направо, а левой рукой в это же время посыпать кое-чем из маленькой баночки с дырочками. Теперь справа налево, а сорока тем временем снова, а по ту сторону границы все еще ищут сестренку, хотя ветер не разносит.
А Брунис становится на свои учительские колени и дует, пока костер не разгорится повеселее. И мешать надо, пока каша не начнет закипать и медленно, сонно густеть. Своим учительским носом с пышными волосяными метелками из каждой ноздри он водит над дымящейся, булькающей посудиной: пар капельками оседает на его подпаленных усах, а капельки, покуда он помешивает свое варево, медленно застывают, превращаясь в твердые прозрачные бусины. Со всех сторон сползаются муравьи. Густой чад нехотя стелется по мху, застревает в папоротнике. Под косыми лучами переменчивого лесного солнца большая куча искристых камней — кто бы это мог их навалить? — наперебой вопит на разные голоса: пи-и-и! пи-и-и! пи-и-и! Каша над пламенем уже подгорает, но по рецепту она и должна подгорать. Немножко загара ей не повредит. Теперь раскладывается и слегка намазывается маслом пергаментная бумага. Наконец, руки берут сковороду: вязкое, ленивое тесто, коричневое и пузырчатое, растекается, словно лава, по пергаментной бумаге, тотчас же покрываясь стеклянистой корочкой, даже бороздками от внезапного холода, и темнеет. Торопливо, пока не застыла, нож в руке старшего преподавателя разделяет лепешку на квадратики со среднюю карамельку величиной; ибо снадобье, над которым старший преподаватель Освальд Брунис колдовал в самых глухих дебрях Заскошинского Бора где-то между криками «сестренка!» и стрекотом сороки, есть не что иное, как мятные леденцы.
А потому что ему захотелось сладенького! Потому что его запас сладостей исчерпался. Потому что его котомка всегда полным-полна пакетиками, кульками и коробочками. Потому что в пакетиках и кульках, коробочках и в бутылке у него всегда наготове мята и сахар, имбирь, анис и кислый аммоний, пиво и мед, перец и баранье сало. Потому что он из крохотной коробочки — это его фирменный секрет! — посыпает остывающую леденцовую массу толченой гвоздикой: теперь благоухают лес и грибы, черника, мох и пышная многолетняя хвоя; папоротники и смолы силятся заглушить этот аромат — да где там, сдаются. Муравьи сбегаются как безумные. Змеи во мху покрываются карамелевой глазурью. Сорока кричит иначе: пор — ее перья — склеились. Как теперь искать сестренку? На сладкой или на кислой тропинке? И кто там плачет в кустах и хлюпает носом, потому что весь подгорелый чад шел прямо на него? А узелок не иначе маку объелся, коли был тише воды, ниже травы, когда учитель, — видать, у него вместо ушей жернова — черенком ложки с жутким скрежетом принялся соскабливать со сковороды прилипшие остатки карамели.
Те из леденцовых крошек, что не упали в мох и не запрыгнули в расщелины между камнями, старший преподаватель Освальд Брунис, собрав в пригоршню, отправляет под свои и без того сладкие усики: рассасывает, причмокивает, смакует. Сидя возле сникшего, устало долизывающего золу костерка, он липкими пальцами, то и дело давя по пути отовсюду лезущих муравьев, ломает теперь уже твердую, стеклянно-коричневую лепешку, что лежит на промасленной пергаментной бумаге, примерно на пятьдесят заранее намеченных квадратиков. Этот леденцовый лом вместе с застывшими в нем, как в янтаре, муравьями он ссыпает в большой голубой пакет, где до варки карамели у него был сахар. Теперь все — сковорода, смятые пакеты и кульки, пакет с пополненным запасом сладостей, жестянка с крышкой, пустая бутылка, а также крошечная коробочка с толченой гвоздикой, отправляется обратно в котомку, туда, где уже сложены искристые камушки. А хозяин котомки уже на ногах и держит покрытую коричневой карамелевой корочкой ложку в своем учительском рту. Вот он уже шагает по мху в своих шнурованных башмаках и бисмарковской шляпе. После себя он оставляет только промасленную бумагу и мелкие крошки Леденцов. А вон уже и ученики — галдя и мелькая между разрозненными стволами рощи, идут напролом по черничнику. Малыш Пробст плачет — он напоролся на гнездо лесных ос. Шесть его ужалили. Теперь четверо одноклассников его несут. Освальд Брунис приветствует своего коллегу, старшего преподавателя Малленбрандта.
Когда класс ушел, удалился, оставив после себя только эхо, дальние крики, смех, строгие голоса учителей-мучителей, три раза прокричала сорока. Пор — снова упало ее перо. Тогда Биданденгеро вылез из своего куста. И остальные гакко — Гашпари, Гита и Леопольд — выбрались из кустов, соскользнули с деревьев. Около промасленной бумаги, служившей прокладкой для карамелевой лепешки, они встретились. Бумага была вся черная от муравьев и двигалась по направлению к Польше. И цыгане решили последовать примеру муравьев: бесшумно ступая по мху, стремительно раздвигая папоротники, они поспешили в южную сторону. Последним, мелькая меж стволов и уменьшаясь в размерах, шел Биданденгеро. И тихое хныканье, — словно узелок у него за спиной, этот кулек с младенцем, эта голодная беззубая кроха, сестренка, словно она плакала — он тоже унес с собой.
Но граница была недалеко и охранялась не слишком строго. А два дня спустя после таинственной варки леденцов случилось вот что: Вальтер Матерн на поле подачи расставил ноги пошире и против обыкновения — да и то только потому, что Хайни Кадлубек сказал, что он, Вальтер, одни свечи и бьет, а вот дальние мячи ему слабо — запустил дальний мяч, да такой, что он перелетел через обе «метки», через весь ромб поля и через бедный водой, но богатый лягушками плавательный бассейн. Словом, Вальтер Матерн запустил мяч в лес. И пришлось ему, покуда Малленбрандт не пришел и не начал пересчитывать мячи, перемахнуть через сетчатый забор и отправляться на поиски.
Но мяч не находился, сколько Вальтер его ни искал — будто сгинул. Он уже смотрел под каждым папоротником. Возле старой лисьей норы — он знал, что нора пустая — он опустился на колени. Засунул в нору сук и давай шуровать в темной, жуткой дыре. Он уже собрался улечься на живот, чтобы засунуть руку в нору по самое плечо, как вдруг крикнула сорока, полетело сорочье перо и мяч стукнул его по спине: который же это куст мячом кидается?
Куст оказался человеком. Узелок вел себя тихо. Медная серьга в ухе покачивалась, потому что человек беззвучно смеялся. Розовый кончик языка трепетал в беззубом рту. Потертый шнур тяжело вдавился в ткань рубахи на левом плече. На шнуре спереди были нанизаны три ежа. Кровь капала с их острых носиков. Когда мужчина слегка повернулся, Вальтер увидел, что сзади на том же шнуре у него, будто для противовеса, привязан мешочек. Длинные, маслянисто-черные волосы на висках мужчина заплел в толстые, упругие косички. Так делали еще цитенские гусары.
— Вы гусар?
— Немножко гусар, немножко старьевщик.
— А как вас зовут?
— Би-дан-ден-геро. Ни одного зуба не осталось.
— А ежи зачем?
— Запекать в глине.
— А вот этот узелок?
— Сестренка, маленькая сестренка.
— А вон тот мешочек сзади? А что вы тут ищете? А ежей вы чем ловите? А где вы живете? А у вас правда такое чудное имя? А если лесник вас поймает? А правда, что цыгане?… А перстень на мизинце? А узелок спереди?…
Пор — и снова прокричала сорока из чащи леса. Биданденгеро заторопился. Сказал, что ему срочно надо на фабрику без окон. Там господин учитель. Ждет дикого меду для своих леденцов. У него для учителя блестящие камешки и еще есть один подарочек.
Вальтер Матерн остался один с мячом, не зная, как быть, на что решиться и куда направиться. Наконец он уже собрался было двигать обратно к сетчатому забору, на поле, — игра ведь не кончилась, — как вдруг из кустов колобком выкатился Амзель, вопросов не задавал, и так все слышал, рвался только в одну сторону: за Биданденгеро, И друга тянул за собой. Они пошли следом за человеком с ежами, и когда теряли его из вида, им помогали алые капли крови на папоротниковых метелках. По этому следу они и шли. А когда ежики на шнурке у Биданденгеро перестали окликать их своей кровью, им стала верещать сорока: пор — и где-то впереди мелькало сорочье перо. А лес становился все гуще, смыкался все плотней. Ветки хлестали Амзеля по лицу. Вальтер Матерн наступил на красно-белый мухомор, поскользнулся, упал в мох и зубами уткнулся в кочку. Окаменелая лиса. Деревья корчат рожи. Паутина прямо в лицо. Пальцы в смоле. У коры кисловатый привкус. Наконец, лес чуть расступился. Солнечный свет, словно по ступенькам, спустился и упал на сложенные учителем камни. Послеполуденный концерт: гнейсы, прореженные авгитом[105], обманка роговая[106], сланцы, слюда, Моцарт, гермафродиты-кастраты от «Господи, помилуй!» до поочередного «Dona nobis»[107] [108]— многоголосое «пи-и-и!», но учителя в бисмарковской шляпе здесь нет.
Только холодное костровище. Промасленной бумаги и след простыл. И лишь когда буки за опушкой снова сомкнулись и закрыли небо, они ее обогнали: черная от муравьев, она тоже куда-то двигалась. Муравьи торопились переправить ее через границу, как Биданденгеро своих ежей. Но безнадежно отставали — что муравьи, если даже наши друзья отставали тоже, тщетно пытаясь нагнать сорочье перо, которое и звало, и дразнило, и посмеивалось: сюда! вот оно я! сюда! Вброд через папоротники, по пояс. Мимо аккуратных, чистеньких буковых стволов. Сквозь лучи зеленых лампад под куполом леса. Пропал, мелькнул, снова исчез — Биданденгеро, вон он. Но уже не один. Сорока созвала других смугляков. Здесь Гашпари и Гита, Леопольд и цыпка Гиты, цыпка тетя и Леопольдова цыпка, словом, все они здесь, гакко, старьевщики-барахольщики и лесные гусары, собрались под буками в тихом папоротнике вокруг Биданденгеро. А цыпка Гашпари притащила за собой Бороду — так звали козу.
И когда лес снова расступился, восемь или девять гакко, включая Бороду, то есть козу, вышли из леса. От последних деревьев они сразу нырнули в высоченную, в человеческий рост, траву ровной, без единого деревца, к югу протянувшейся лощины: а посреди лощины, в волнах зноя, как мираж, стоит фабрика.
Длинное, выгоревшее, одноэтажное здание. Неоштукатуренная кирпичная постройка, воротники черной гари вокруг зияющих проемов окон. Наполовину разрушенная труба выставила в небо свою выщербленную челюсть. Но все же стоит, не падает, и высотой, похоже, поспорит с буками, что сплошной стеной обступили лощину. При этом труба не кирпичная, хотя в этих местах полно кирпичных заводов. Испускала прежде пары перегонки спирта, а теперь, когда фабрика приказала долго жить, а труба остыла, на ней свили свое нескладное, расхристанное гнездо аисты. Но, видно, и гнездо тоже брошено. Растрескавшееся жерло трубы укрыто гнилой, черной, лоснящейся на солнце соломой.
Рассыпавшись веером, они приближаются к фабрике. Сорока больше не кричит. По шею в траве, цыгане плывут через поле. Бабочки порхают над полевыми цветами. Амзель и Вальтер Матерн наконец выбрались на опушку леса и залегают в траву: сквозь дрожащие былинки они видят, как все гакко через разные оконные проемы, но одновременно проникают в заброшенную фабрику. Дочка Гашпари привязывает козу Бороду к крюку в стене.
Белая долгорунная коза. Не только фабрика, кляклая черная солома на треснувшей трубе, не только поле дрожит в зыбком мареве, но и коза-Борода, кажется, вот-вот испарится на солнце. Нет, сейчас не время следить за порханием бабочек. В нем если и есть смысл, то не слишком серьезный.
Амзель не уверен: может, они вообще уже в Польше. Вальтер Матерн вроде бы видел в одной из оконных дырок голову Биданденгеро: промасленные косички на гусарский манер, медная побрякушка в ухе, мелькнул — и нет.
А Амзелю показалось, что сперва в одном, потом в другом окне он видел бисмарковскую шляпу.
Зато вот границу никто не видит. Разве что беззаботные летуньи капустницы. А со стороны фабрики, на разные лады меняя громкость и окраску, наплывает по небу какой-то странный, булькающий звук. Не то чтобы пение, ругань или там крик, нет. Скорее усиливающееся верещание и гуканье. Коза-Борода дважды блеет в небо свое сухое приветствие.
И тут из четвертой оконной дырки выпрыгивает первый гакко: это Гита, и он тащит с собой свою цыпку. Та отвязывает Бороду. А из окна уже еще один, и потом еще двое в пестрых нищих лохмотьях: это Гашпари и Леопольд, а с ними леопольдова дочурка в своих бесчисленных юбках. И ни один не выходит в дверь, все смугляки выскакивают через оконные дырки, последним, головой вперед, Биданденгеро.
Ибо все цыгане поклялись своей царице Машари: через дверь никогда, только в окно.
Веером, как пришли, гакко плывут по полю к лесу, который поглощает их без следа. Напоследок еще раз белая коза. Сорока не кричит. Пор, ее перо, не падает. Тишина, покуда не оживает снова притихший было лесной луг. Бабочки порхают. Шмели урчат, словно двухэтажные автобусы, зудят свою молитву стрекозы, а им вторят модницы мухи, осы и вся прочая насекомая братия.
Но кто посмел захлопнуть такую красивую книжку с такими прекрасными картинками? Кто выжал лимон на свежеиспеченные безе июньских облаков? Из-за кого вдруг молоко скисло? Отчего это кожа у Амзеля и Вальтера Матерна разом покрывается пупырышками, словно мурашки по ней ползут?
Узелок. Кулечек с младенцем. Беззубая кроха. Это она, сестренка, орет благим матом, и крик ее разносится из окон заброшенной фабрики над неугомонным летним лугом. И не черные провалы окон, а темная дверь выплевывает из своей пасти бисмарковскую шляпу: кричало-орало, учило-мучило, — старший преподаватель Освальд Брунис стоит с орущим узелком на руках под всевидящим солнцем, не знает, как кулек держать и зовет: «Биданденгеро! Биданденгеро!» — да только лес ему не отвечает. Но ни Амзель с Вальтером Матерном, которых этот пронзительный крик поднял на ноги и медленно, шаг за шагом по шуршащей траве притянул к фабрике, ни учитель Брунис с надрывающимся узелком на руках, ни вся пестрая, как из детской книжки, вселенная летнего лесного луга не выказали не малейшего удивления, когда случилось еще одно чудо: с юга, с польской стороны, размеренно помахивая крылами, над лугом пролетели аисты. Они же буселы, черногузы, батяны, бачаны… В здешних краях про аиста говорят — адебар. Два аиста заложили торжественный вираж и по очереди плавно опустились в почерневшее расхристанное гнездо на треснувшую верхушку трубы.
И тут же начали трещать клювами. Все взгляды — учителя из-под бисмарковской шляпы и учеников — устремились вверх по трубе. Детский кулечек вдруг разом затих. «Адебар-адебар» — выстукивали аисты погремушками своих клювов. Освальд Брунис неожиданно обнаружил у себя в кармане искристый камешек — может, это был даже двуслюдяной гнейс? Видимо, он предназначался для малышки как игрушка. «Адебар-адебар». Вальтер Матерн хотел подарить узелку тот кожаный мячик, который проделал с ними столь долгий путь и с которого, по сути, все и началось. «Адебар-адебар». Но полугодовалая малышка, оказывается, уже держала в своих пальчиках игрушку — ангустри, серебряный перстенек Биданденгеро.
Этот перстенек Йенни Брунис, должно быть, и по сей день не снимает с руки.
ПОСЛЕДНЯЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА
Похоже, так ничего и не состоялось. Конец света не ощущается. Браукселю снова можно писать при свете дня. Но по крайней мере одно знаменательное событие на дату четвертое февраля все же пришлось: все три рукописи закончены и представлены в срок; так что Брауксель может с удовлетворением положить любовные письма молодого Харри Либенау на свою стопку утренних смен; а на «Утренние смены» и «Любовные письма» он водрузит признания господина артиста. Если понадобится послесловие, его напишет сам Брауксель, в конце концов это он руководит шахтой и авторским коллективом, он выплачивает авансы, устанавливает и согласовывает сроки, он будет держать корректуры.
Как все происходило, когда к нам заявился молодой Либенау и предложил себя в качестве автора второй книги? Брауксель его проэкзаменовал. Он прежде писал лирику, да, и публиковал. Все его радиопьесы передавались по радио. Предъявил лестные и ободряющие рецензии. Его стиль характеризовали как свежий, динамичный и несбалансированный. Брауксель для начала поспрашивал его о Данциге:
— А назовите-ка мне, мой юный друг, переулки между Хмельной улицей и Новой Мотлавой.
Харри Либенау выпалил их назубок:
— Чибисный, Опорный, Линьковый, Погорелый, Адебарский, Монаший, Еврейский, Подойниковый, Точильный, Башенный и Лестничный.
— А как, молодой человек, — не унимался Брауксель, — вы изволите нам объяснить, откуда у Портшезного переулка такое красивое название?
Харри Либенау чуть обстоятельней, чем нужно, объяснил, что в этом переулке в восемнадцатом столетии стояли паланкины местных патрициев и знатных дам, это были как бы такси той эпохи, на которых без ущерба для богатого одеяния оную знать транспортировали через грязь и нечистоты городских улиц.
На вопрос Браукселя, кто ввел в тысяча девятьсот тридцать шестом году в экипировку данцигской полиции современные итальянские резиновые дубинки, Харри Либенау ответил с радостной готовностью новобранца:
— Дубинки ввел начальник полиции Фрибосс!
Но мне все еще было мало:
— А кто, мой юный друг, — уж это вы вряд ли припомните, — был последним председателем данцигской партии центра? Как звали этого достопочтенного господина?
Но Харри Либенау действительно хорошо подготовился, даже Брауксель из его ответа почерпнул для себя кое-что новое:
— Священник и старший преподаватель, доктор теологии Рихард Стахник[109] в тысяча девятьсот тридцать третьем году был избран председателем партии центра и депутатом данцигского фолькстага[110]. В тысяча девятьсот тридцать седьмом году, после роспуска партии центра, арестован и полгода провел в заключении; в тысяча девятьсот сорок четвертом году депортирован в концентрационный лагерь Штуттхоф, но спустя некоторое время освобожден. В течение всей своей жизни доктор Стахник занимался вопросом канонизации блаженной Доротеи фон Мовтау, которая в тысяча триста девяносто втором году повелела замуровать себя живьем подле данцигского кафедрального собора.
Мне пришло в голову еще множество каверзных вопросов, Я хотел выяснить, как пролегало русло речушки Штрисбах, названия всех шоколадных фабрик в Лангфуре, высоту Гороховой горы в Йешкентальском лесу — и я получил вполне удовлетворительные ответы. Когда, наконец, Харри Либенау в ответ на вопрос: какие известные актеры начинали свою карьеру в данцигском городском театре? — мгновенно назвал безвременно умершую Ренату Мюллер и кумира экрана Ганса Зенкера, я дал понять моему креслу, что экзамен окончен и выдержан успешно.
Так что после трех рабочих заседаний мы сошлись на том, что между «Утренними сменами» Браукселя и «Любовными письмами» вышеозначенного Харри Либенау нужен лишь небольшой связующий переход. Вот он:
Тулла Покрифке родилась одиннадцатого июня тысяча девятьсот двадцать седьмого года.
В день, когда родилась Тулла, погода была неустойчивая, с преобладанием облачности, а позже и незначительных осадков. Ветер, слабый до умеренного, шевелил ветви каштанов в Малокузнечном парке.
В день, когда родилась Тулла, недавний канцлер доктор Лютер[111] по пути из Кенигсберга в Берлин приземлился в аэропорту Данциг-Лангфур. В Кенигсберге он произнес речь в Колониальной ассамблее; в Лангфуре в ресторане аэропорта он соизволил перекусить.
В день, когда родилась Тулла, оркестр данцигской полиции под руководством главного капельмейстера Эрнста Штиберица давал концерт в Сопотском курортном парке.
В день, когда родилась Тулла, пилот Линдберг[112], совершивший перелет через океан, взошел на борт крейсера «Мемфис».
В день, когда родилась Тулла, полицией, согласно полицейскому отчету от одиннадцатого числа июня месяца, было задержано семнадцать человек.
В день, когда родилась Тулла, делегация Вольного города Данциг прибыла в Женеву на сорок пятую сессию Ассамблеи Лиги наций[113].
В день, когда родилась Тулла, на Берлинской бирже были отмечены крупные экспортные закупки акций на искусственный шелк и электричество. Зарегистрировано повышение курса акций на эссенский каменный уголь — четыре и пять десятых процента; на цинк заводов «Ильзе и Штольберг» — плюс три процента. Кроме того, поднялись в цене некоторые виды внутриотраслевых товаров. Так, за ацетатный шелк давали на четыре, за бембергский искусственный шелк — на два процента больше, чем накануне.
В день, когда родилась Тулла, в кинотеатре «Одеон» шел фильм «Его самый большой блеф», где Гарри Пиль[114] сыграл одну из самых блистательных своих ролей, к тому же двойную.
В день, когда родилась Тулла, данцигское окружное отделение Национал-социалистской рабочей партии Германии созывало всех на большой митинг в зале Святого Иосифа, в Хмельном переулке, с пяти до восьми. С докладом на тему: «Немецкие пролетарии ручного и умственного труда — соединяйтесь!» должен был выступить ответственный партийный работник, товарищ Хайнц Хаке[115] из Кельна на Рейне. В день, когда родилась Тулла, в Красном зале Сопотского курортного театра повторно должно было состояться мероприятие под лозунгом: «Народ бедствует! Кто спасет народ?» «Явка — массовая!» — призывал своих сограждан некий господин Хоенфельд, член данцигского народного собрания — фолькстага.
В день, когда родилась Тулла, учетная ставка банка Вольного города Данциг осталась неизменной и составила пять и пять десятых процента. Данцигские ржаные облигации котировались по девять гульденов шестьдесят за центнер ржи — вполне приличные деньги.
В день, когда родилась Тулла, книга «Бытие и время»[116] еще не вышла, но уже была напечатана и объявлена.
В день, когда родилась Тулла, доктор Ситрон еще имел частную практику в Лангфуре; позже ему пришлось бежать в Швецию.
В день, когда родилась Тулла, колокольня на данцигской ратуше каждый четный час выбивала «Лишь Господь в небесной выси», а каждый нечетный — «Ангелов всех вожатый небесный». А колокольня церкви Святой Катарины каждые полчаса играла «Иисус Христос, яви нам очи».
В день, когда родилась Тулла, шведский пароход «Оддевулд» порожняком входил в данцигскую гавань рейсом из Оксельсунда.
В день, когда родилась Тулла, датский пароход «Софи» выходил из данцигской гавани с грузом леса рейсом на Гримсбю.
В день, когда родилась Тулла, в торговом доме «Штернфельд», в Лангфуре, детское платьице из репса стоило два гульдена пятьдесят. Юбка «Принцесса» для девочки — два шестьдесят пять. Игрушечные ведерки шли по восемьдесят пять гульден-пфеннигов. Лейки по гульдену двадцать пять. А жестяные барабаны, лакированные, с палочками, предлагались по гульдену семьдесят пять.
В день, когда родилась Тулла, была суббота.
В день, когда родилась Тулла, солнце взошло в три часа одиннадцать минут.
В день, когда родилась Тулла, солнце зашло в двадцать часов восемнадцать минут.
В день, когда родилась Тулла, ее кузену Харри Либенау был один год и четыре дня.
В день, когда родилась Тулла, старший преподаватель Освальд Брунис удочерил полугодовалую девочку-найденыша, у которой уже резались молочные зубки.
В день, когда родилась Тулла, Харрасу, сторожевому псу ее дяди, был один год и два месяца от роду.
КНИГА ВТОРАЯ ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА
Дорогая кузина Тулла!
Мне советуют хотя бы в самом начале поставить во главу угла тебя и твое полное имя: обращаясь к тебе, которая повсюду была, есть и будет сутью, именовать тебя расплывчато и бесформенно, будто я и впрямь начинаю самое обычное письмо. Тогда как я рассказываю себе, исключительно и неизлечимо себе одному; или есть какой-то смысл сообщать тебе, что я рассказываю все это для себя? Ваши семьи, семья Покрифке и семья Даммов, были родом из Кошнадерии.
Дорогая кузина!
Поскольку каждое мое слово к тебе заведомо тщетно, поскольку все мои слова, даже когда я рассказываю себе, несгибаемо и твердо только себе, имеют в виду тебя, не лучше ли нам заключить наконец бумажный мир и подвести под мое времяпрепровождение и под мой скудный заработок скромный ленточный фундамент: так и быть, я рассказываю тебе. А ты не слушаешь. Ну, а обращение — словно мне все равно, написать тебе одно письмо или сотню — пусть будет формальной прогулочной тросточкой, которую я давно хотел бы выбросить, которую я частенько и в сердцах еще буду выбрасывать — в Штрисбах, в море, в Акционерный пруд, но пес, черный и о четырех лапах, умный дрессированный пес принесет мне ее обратно.
Дорогая Тулла!
Моя мать, урожденная Покрифке и сестра твоего отца Августа Покрифке, была родом, как и все Покрифке, из Кошнадерии. Седьмого мая, когда Йенни Брунис было примерно полгода, я чин-чином родился. Семнадцать лет спустя кто-то двумя пальцами взял меня за шкирку и усадил в большой, довольно натурального вида танк, назначив заряжающим. И все это в Силезии, то есть в местах, не знакомых мне в той же мере, в какой родная Кошнадерия южнее Коница знакома до слез, — так вот, посреди Силезии наш танк двигался в укрытие и в целях маскировки въехал задом в деревянный сарай, который силезские стеклодувы до крыши уставили изделиями своего тонкого ремесла. И если до того я без устали и передышки искал, о Тулла, рифму к твоему имени, то в этот миг ползущий в укрытие танк вкупе с пронзительным звоном и дребезгом лопающихся бокалов произвели эффект, в результате которого твой кузен Харри обратился к нерифмованному языку: отныне я стал писать простыми предложениями и пишу сейчас, поскольку некий господин Брауксель посоветовал мне попробовать силы в романе, настоящий нерифмованный роман.
Дорогая кузина Тулла!
О красотах Боденского озера и тамошних девушках я не знаю ничего; зато о тебе и Кошнадерии я знаю все. Ты родилась одиннадцатого июня. Координаты Кошнадерии: тридцать пять и три десятых градуса северной широты и семнадцать с половиной градусов восточной долготы. При рождении твой вес составлял два килограмма и триста граммов. К Кошнадерии как таковой относятся семь деревень: Франкенхаген, Пецтин, Дойч-Цекцин, Гранау, Лихтнау, Шлангентин и Остервик. Оба твоих старших брата — Зигесмунд и Александр — родились еще в Кошнадерии; Тулле же и ее брату Конраду метрики выписаны в Лангфуре[117]. Фамилия Покрифке встречается в приходской книге Остервика еще до тысяча семьсот семьдесят второго года. Что касается Даммов, семьи твоей матери, то она упоминается уже несколько лет спустя после разделов Польши сперва во Франкенхагене, а затем в Шлангентине; вероятно, они перебрались сюда из прусской Померании, потому что происхождение фамилии от епископского угодья Дамерау представляется мне крайне сомнительным, тем более что Дамерау вместе с Обкассом и Грос-Цирквицем уже в 1275 году было пожаловано архиепископу фон Гнезену. Дамерау называлось тогда Луиссева Дамброва, иногда и попросту Дубрава, непосредственно к Кошнадерии это село никогда не относилось, так что Даммы в любом случае пришлые.
Дорогая кузина!
Ты появилась на свет на Эльзенской улице. Мы жили в одном доме. Сдавал дом мой отец, столярных дел мастер Либенау. Чуть наискосок напротив, в так называемом акционерном доме, жил мой будущий учитель, старший преподаватель Освальд Брунис. Он удочерил девочку и назвал ее Йенни, хотя в наших краях девчонок отродясь так не называли. Черного пса, овчарку, во дворе нашей столярной мастерской, звали Харрас. Тебя крестили под именем Урсула, но с самого начала стали именовать Туллой. Вероятно, это имя как-то связано с кошнадерским водяным духом[118], который обитал в Остервикском озере и именовался в письменных источниках по-разному: Туля, Дуля, Тюля или Тюляш, а то и просто Тул. Когда Покрифке еще жили в Остервике, надел, который они арендовали, был на Мшистой горе, неподалеку от озера, прямо на коницком проселке. Наименование Остервик начиная от середины четырнадцатого века и до дня рождения Туллы в 1927 году писалось так: Остирвиг, Остирвих, Остервигх, Остервиг, Остервык, Островит, Островите, Остервик, Островитте, Остров. А в произношении кошнадерцев оно вообще звучит как Устевитч. Польский корень названия деревни Остервик, слово ostrow, означает остров в реке или в озере; дело в том, что изначально, то есть в четырнадцатом столетии, деревня располагалась на острове в Остервикском озере. Березовые и ольховые кроны смотрелись в омуты, богатые карпами. Но помимо карпов и карасей, плотвы и всенепременной щуки, в озере обретались также: рыжая корова с белой звездочкой на лбу, способная говорить человеческим голосом на Иванов день, сказочный кожаный мост, два мешка желтого золота со времен гуситских нашествий, и вздорный водяной дух — Туля, Дулечка, Тюляш.
Дорогая Тулла!
Мой отец, столярных дел мастер, частенько любил повторять:
— Нет, Покрифке никогда тут по-людски не заживут. Оставались бы, откуда пришли, на своей капусте.
Намеки на кошнадерскую белокочанную капусту явно предназначались моей матери, урожденной Покрифке, ибо это она сманила своего брата с женой и двумя детьми с родных кошнадерских песков в городское предместье. Это по ее настоянию столярных дел мастер Либенау нанял к себе подсобным рабочим бывшего испольщика и батрака Августа Покрифке. И это моей матери удалось уговорить отца по дешевке сдать четверым своим родичам — Эрна Покрифке уже была беременна Туллой — освободившуюся трехкомнатную квартиру прямо над нами.
За все эти добродеяния твоя мать не слишком-то моего отца благодарила. Даже больше того — при каждом семейном скандале норовила обвинить его и его столярную мастерскую в глухоте ее глухонемого сына Конрада. Наша с утра до ночи надрывающаяся, почти не знающая передышек дисковая пила, заставлявшая подвывать и до хрипоты лаять всех собак в округе, включая Харраса, якобы привела к тому, что ушки маленького Конрада еще в материнской утробе увяли и перестали слышать.
Столярных дел мастер слушал Эрну Покрифке вполуха, потому что ругалась она по-кошнадерски. Разве это можно понять? Разве это можно выговорить? Жители Кошнадерии вместо «церковь» говорили «серхва». «Гора» у них называлась «хра», «дорога» — «троха». «Тятуфкин лух» — это был на самом деле «тятушкин», то есть батюшкин луг — надел остервикского священника, примерно два моргена кочковатой, худосочной земли. Когда Август Покрифке рассказывал о своих странствиях по Кошнадерии, то бишь про свои коробейницкие зимние походы в Цекцин, Абрау, Герсдорф, Дамерау и Шлангентин, это звучало примерно так: «Йду уф Сехсыну. Йду уф Оброх. Йду уф Херсдоф. Йду уф Домеру. Йду уф Шлахтыну». Если он описывал поездку по железной дороге до Коница, то это называлось «по железяфке уф Куних». Когда остряки, желая посмеяться, спрашивали, сколько же у него в Остервике было земли, он отвечал — дескать, сто двенадцать моргенов, но потом, подмигнув, неизменно поправлялся, намекая на пресловутые кошнадерские летучие пески:
— Тольки сотню бесперечь гдей-то ветер носит.
Признайся, Тулла,
подсобный рабочий из твоего отца был неважный. Даже к дисковой пиле мастер не мог его приставить. Мало того, что у него постоянно приводной ремень соскакивал, так он еще и портил самые дорогие пильные полотна, нарезая себе лучину для растопки из бросовой, напичканной гвоздями тарной доски. Лишь с одной задачей он справлялся в срок и к полному удовольствию всех подмастерьев: кастрюля с клеем на железной плите в комнате над машинным цехом всегда стояла наготове, полная и горячая, для пяти подмастерьев, трудившихся за пятью верстаками. Клей пускал пузыри, сварливо что-то бурчал, мог отдавать медовой желтизной или серостью глины, мог растекаться как гороховый суп и растягиваться пленкой не хуже слоновой шкуры. Местами застывая, местами прорываясь горячей жижей, клей то и дело убегал из кастрюли, пускал все новые и новые «языки», не оставляя ни клочка эмали на кастрюльной поверхности и не позволяя распознать в этой страшной посудине обыкновенную суповую кастрюлю. Кипящий клей помешивали обрезком обрешеточной рейки. Но клей слой за слоем налипал и на дерево, образовывал бугры и набухшие морщинистые складки, все больше оттягивая руку Августа Покрифке, покуда не превращал обрезок доски в роговистое страшилище, которое подмастерья называли слоновьим окороком и выбрасывали, заменяя его новым обрезком все той же, казалось, нескончаемой обрешеточной рейки.
О, костный клей, столярный клей! На кривом, покрытом слоем пыли в палец толщиной стеллаже штабелем лежали темно-коричневые, одна к одной, фабричные плитки клея. Начиная с моего третьего и до семнадцатого года жизни я преданно носил с собой в кармане штанов кусочек клея — такой он был для меня святыней; твоего отца я называл богом клея, ибо у этого божества были не только сплошь заляпанные костным клеем пальцы, которые при малейшем движении вкусно похрустывали, от него еще исходил и запах, который повсюду ему сопутствовал. Ваша трехкомнатная квартира, твоя мать и твои братья пахли клеем. Но щедрее всего он наделял этим дурманом свою дочурку. Клейкими пальцами он трепал ее по щеке. Частичками клея он обсыпал свою девчушку, когда показывал ей нехитрые — ловкость рук, и никакого мошенства — фокусы. Словом, бог костного клея превратил Туллу в девочку из столярного клея; ведь где бы Тулла ни шла, стояла, бежала, где бы она ни остановилась вчера, где бы ни прошла утром, где бы ни пробежала неделю назад, что бы Тулла ни схватила, выбросила, долго или мельком трогала, чем бы она ни играла — стружками, гвоздями, шарнирами — во всяком месте и на всяком предмете, которые попадались Тулле на пути, оставался либо едва слышный, либо почти адский, но в любом случае ничем не заглушимый запах костного клея. Вот и твой кузен Харри тоже к тебе приклеился: сколько лет нас было не разлить, и пахли мы сродственно.
Дорогая Тулла!
Когда нам было по четыре года, вдруг выяснилось, что у тебя не хватает извести. Примерно то же самое говорили о мергельных почвах Кошнадерии. Валунный мергель четвертичных времен, когда образовывались основные морены, содержит, как известно, углекислую известь. Однако выветренные и размытые дождями мергельные пласты на полях кошнадеров были бедны известью. И тут уж не помогали никакие удобрения, никакие государственные дотации. Никакие молитвы и полевые процессии — кошнадеры все как один были католики — не могли вернуть полям известь. Зато тебе доктор Холлац прописал известковые таблетки, и уже вскоре, в пять лет, извести у тебя оказалась достаточно. Ни один из твоих молочных зубов больше не шатался. Резцы у тебя слегка выступали вперед, и для Йенни Брунис, девчонки-подкидыша из дома напротив, эти резцы скоро станут неотступным кошмаром.
Тулла и я, мы оба никогда не верили,
что цыгане и аисты якобы были заодно в тот день, когда была найдена Йенни. Типичная сказочка папаши Бруниса: у этого никогда и ничто не происходило просто так, повсюду ему мерещились скрытые силы, и он исхитрялся неизменно пребывать в рассеянном ореоле чудаковатости: и когда подкармливал свою манию собирательства слюдяных гнейсов новыми, нередко и вправду превосходными экземплярами — в шизанутой Германии хватало таких же шизиков, с которыми он вел переписку, — и когда на улице на школьном дворе или в классе изображал из себя то ли древнекельтского друида, то ли прусское дубовое божество, то ли Заратустру, — у нас его считали масоном, — он всегда и всюду давал волю тем своим качествам, за которые наш мир так любит и ценит чудаков, называя их «оригиналами». Но лишь Йенни, его обращение с этой кукольной малюткой, превратило старшего преподавателя Освальда Бруниса в окончательного оригинала, прославившегося в этом качестве не только в окрестностях гимназии и на Эльзенской улице, но и во всех параллельных и поперечных улицах и переулках и во всем — таком большом и таком маленьком — предместье Данцига под названием Лангфур.
Йенни была упитанным ребенком. Даже когда вокруг Бруниса и Йенни слонялся Эдди Амзель, девочка не казалась грациозней. Поговаривали тогда, что этот Эдди и его друг Вальтер Матерн будто бы были свидетелями того, каким чудесным образом Брунис нашел Йенни. Как бы там ни было, но Амзель и Матерн оказались двумя четвертинками того кленового листка, над которым тихо подтрунивала вся наша Эльзенская улица да и вообще весь Лангфур.
Для Туллы пишу я этот ранний портрет:
я изображу тебе потешного, нос картошкой, господина, чье лицо испещрено тысячами морщинок, — на коротком седом бобрике господин носит широкополую мягкую шляпу. Вот он вышагивает в зеленой грубошерстной крылатке. Справа и слева его эскортируют, стараясь не отставать, двое учеников. Эдди Амзель — это, как принято говорить, толстый увалень. Все одежки на нем вот-вот лопнут. Пухлые подушки колен оторочены складочками жирка. Всюду, где его тело вырывается наружу, всходит густой посев веснушек. В целом он производит впечатление существа бескостного. Совсем не то, что его друг — этот широк в кости и держится независимо, словно желая показать, что учитель, Эдди Амзель и пышка-малютка находятся под его защитой. Девочке уже пять с половиной, но она все еще возлежит в большой детской коляске, потому что ходить как следует пока не может. Коляску везет Брунис. Иногда ее везет Амзель и уж совсем редко — Скрипун. А в изножье коляски скомкан приоткрытый коричневый кулек. Детвора чуть ли не со всего квартала по пятам следует за коляской — каждый надеется получить конфету, которые они называют «сосачками».
Но лишь перед акционерным домом, что стоит напротив нашего, Тулла, я и другие ребята получали, как только старший преподаватель Брунис останавливал непривычно высокую коляску, пригоршню леденцов из коричневого пакетика, причем он никогда не забывал сунуть один и себе, даже если его полустарческий рот еще не управился с предыдущим и продолжал мусолить на языке прозрачный стеклянистый обсосок. Иногда и Амзель посасывал конфетку за компанию. Но вот чтобы Вальтер Матерн взял леденец — такого я не припомню. Зато пальчики Йенни также склеивались от квадратных мятных подушечек, как пальцы Туллы склеивались от костного клея, из которого она делала катыши — она ими играла.
Дорогая кузина!
Подобно тому, как я стремлюсь выяснить все про тебя и твой столярный клей, точно так же нужно установить ясность и в вопросе с кошнадерами или, как их еще называли, кошнаверами. Чистым вздором представляются мне попытки обосновать происхождение слов «кошнавер» или «кошнадер» якобы историческими, но ничем не подкрепленными толкованиями. Согласно им, кошнадеры во время польских восстаний[119] якобы чрезвычайно активно и деятельно вовлеклись в немецкие погромы, поэтому собирательное обозначение кошнадеры или кошнаверы каким-то образом связано с немецким и тоже собирательным понятием «копфшнайдеры», или, проще говоря, головорезы. И хотя у меня лично есть все основания принять эти гипотезы на веру — ты, неисправимая кошнадерка, выказывала все наклонности к этому кровавому ремеслу — я все же склонен придерживаться куда более прозаического, но и более вразумительного объяснения, согласно которому служилый человек из управы в Тухеле, по фамилии Кошневский, в 1484 году подписал грамоту, в которой излагались все права и обязанности подчиненных управе деревень, кои деревни впоследствии и стали по имени подписавшего грамоту называться «кошневскими». Конечно, полной уверенности все равно нет. Названия городов и весей таким образом, вероятно, еще как-то можно раскусить, но Туллу, не столько девочку, сколько загадочное Нечто, разгадать с помощью историй о добросовестном служилом местной управы по фамилии Кошневский никак невозможно.
Тулла,
чье тугое белокожее тело не знало устали, могла полчаса провисеть головой вниз на перекладине для отбивки ковров и при этом еще петь через нос. Косточки под голубыми прожилками, мускулы без единой складочки жира — все это превращало Туллу в неугомонное, бегающее-прыгающее-лазающее, а в целом, казалось, — летучее создание. Поскольку глаза у Туллы были от матери — миниатюрного разреза, близко и глубоко посаженные — самыми приметными в ее лице были ноздри. Когда Тулла злилась, — а она по многу раз на дню делалась вдруг злющей, надменной и будто застывшей, — она закатывала глаза, и в разрезах век мерцали только голубоватые, в прожилках, белки глазных яблок. Эти ее мерцающие злые белки напоминали об увечьях, о пустых, выколотых глазницах, о бродягах и побирушках, которые выдают себя за нищих слепцов. Мы, когда она делалась такой вот ледышкой и начинала мелко дрожать, говорили:
— Тулла опять закрытые занавески показывает.
Сколько помню себя, я всегда бегал за своей кузиной — точнее говоря, таскался хвостом за тобой и твоим запахом костного клея, стараясь не отставать больше чем на два шага. Твои братья Зигесмунд и Александр уже ходили в школу, у них была своя жизнь. С нами оставался только глухонемой кудряш Конрад. Ты да он, меня допускали из милости. Мы забирались в деревянный сарай под толевой крышей. Пахло досками и смолой, а меня превращали в глухонемого: ведь вы, ты и он, могли разговаривать руками. Убранные или скрещенные пальцы что-то означали, и меня эти знаки настораживали. Ты и он, вы рассказывали друг другу какие-то истории, от которых ты начинала хихикать, а он сотрясаться в беззвучном смехе. Ты и он, вы оба вынашивали коварные замыслы, жертвой которых по большей части оказывался опять же я. Если ты вообще кого-то в жизни любила, то только его, кудряша; а меня вы унижали до того, что заставляли засовывать руку тебе под платьице. Под толевой крышей деревянной халупы было душно. Кисловатый запах дерева. Солоноватый вкус ладони. И я не мог, не мог уйти, приклеился — твой костный клей. Во дворе заходилась дисковая пила, сыто рычал строгальный станок, гудел выпрямитель. Во дворе поскуливал Харрас, наш сторожевой пес.
Слушай внимательно, Тулла!
Вот каким он был: черный кобель со слегка вытянутым корпусом, стоячими ушами и длинным хвостом. Не длинношерстный бельгийский грюнендаль, а жесткошерстная немецкая овчарка. Мой отец, столярных дел мастер, незадолго до нашего рождения купил его в Никельсвальде, деревушке в устье Вислы, еще щенком. Тридцать гульденов запросил за него хозяин, владелец никельсвальденской мельницы, известной тем, что на ней переночевала императрица Луиза. У Харраса были мощные челюсти и сухие, плотно смыкающиеся губы. Его темно-карие, чуть косо поставленные глаза следили за каждым нашим шагом. Шея сильная, крепкая, без подвеса и подглоточного мешка. Длина хвоста на шесть сантиметров превосходила высоту лопаток: я сам промерял. С какой бы стороны ни смотреть на Харраса — постав лап по отношению к туловищу всегда был правильный. Пясти и плюсны крепкие, пальцы плотно сжатые. Подушечки лап в меру упругие, без трещин. Длинный, плавно ниспадающий круп. Плечи, предплечья, скакательные суставы — сильные, хорошо омускуленные. Псовина — волосок к волоску, остевые волокна прямые, жесткие, плотно прилегают к телу и сплошь черные. И подшерсток черный. Не темный волчий окрас на сером или желтом основании. Нет, повсюду, вплоть до стоячих, высоко посаженных, с легким наклоном вперед ушей и глубокой, мощной груди, на бедрах с умеренно длинными штанами — его шерсть повсюду отливала и поблескивала глубокой чернотой: чернотой зонтика и священника, чернотой вдовы и мундиров, чернотой школьной доски и фалангистов, чернотой дроздов, Отелло и Рура, чернотой фиалок и томатов, лимонов и муки, молока и снега.
Харрас умел искать, находить, приносить поноску, подавать голос; по следу шел с низко опущенным носом. Однако на розыскных испытаниях на Бургерском лугу он оплошал. Харрас был кроющим кобелем и состоял в племенной книге. Правда, хождение на поводке у него немного не ладилось: тянул. В облаивании был хорош, но по следу работал посредственно. Столярных дел мастер Либенау отдал его на дрессировку в полицейскую школу в Верхнем Штрисе. Там его отучили от поедания собственного кала — беды многих молодых собак. На его жетоне были выбиты цифры 517, что в сумме давало число 13.
Повсюду в Лангфуре — на Быстрой мельнице и в Колонии Шихау, от Саспе до Брезена, по Йешкентальскому проезду и к Святому колодцу вниз, вокруг стадиона имени Генриха Элерса, за крематорием, перед торговым домом Штернфельда, у акционерного пруда, в канаве у ограды полицейского участка, на определенных деревьях Упхагенского парка, на определенных липах аллеи Гинденбурга, на цоколях пестрящих событиями афишных тумб, на основании флагштока перед ждущим новых митингов спортзалом, на столбах не затемненных пока что уличных фонарей предместья Лангфур оставлял Харрас свои пахучие метки; и хранил им верность все свои собачьи годы.
В холке рост Харраса составлял шестьдесят четыре сантиметра. В пятилетней Тулле росту было один метр пять сантиметров. Ее кузен был на четыре сантиметра повыше. Его отец, рослый и статный столярных дел мастер, утром имел рост метр восемьдесят три, а после работы на два сантиметра меньше. Август и Эрна Покрифке, так же, как и Йоханна Либенау, в девичестве Покрифке, все были ростом не выше метра шестидесяти двух: кошнадеры, никудышняя порода, что с них взять!
Дорогая кузина Тулла!
Какое бы дело мне было до Кошнадерии, если бы вы, Покрифке, не вышли оттуда. А так я знаю: деревни Кошнадерии с 1237 по 1308 принадлежали герцогам Поммерельским. После того, как этот род вымер, кошнадеры до 1466 года платили подати Тевтонскому ордену. До 1772 их приняло в свой состав Польское королевство. Во время европейского аукциона[120] Кошнадерия перепала пруссакам. Те поддерживали порядок до 1920. С февраля двадцатого деревни Кошнадерии стали деревнями Республики Польша, покуда осенью 1939 они не вошли — в составе округа Данциг-Западная Пруссия — в Великий Германский Рейх: насилие. Погнутые булавки. Пляшущие флажки. Постои и расквартирования: шведы, гусситы, отряды СС. «Если-ты-не, тогда…» «Огнем-и-мечом…»[121] «Сегодня с четырех сорока пяти утра…»[122] Циркульный перепляс на штабных картах. В контратаке овладев Шлангентином… Танковый дозор неприятеля по дороге на Дамерау… Наши войска отбивают массированное наступление к северо-западу от Остервика. Отвлекающие атаки двенадцатой полевой дивизии люфтваффе к югу от Коница приостановлены. В ходе выравнивания линии фронта нашими войсками оставлена так называемая Кошнадерия. Отступившие подразделения занимают позиции к югу от Данцига… И так без конца: сильные дяди, мастера стращать, они и сегодня уже снова грозно вздымают кулаки, зажав в них штабные пресс-папье…
О, Тулла!
Как поведать тебе о Кошнадерии, о Харрасе и его пахучих метках, о костном клее, мятных леденцах и детской коляске, когда созерцание кулака становится чуть ли не манией! — А ведь коляска должна еще и катиться… Итак, в один прекрасный день катилась коляска. Много-много лет назад катилась коляска на четырех высоких колесах. На четырех высоких старомодных колесах катилась черная, лакированная, вся в трещинах от старости. Спицы, пружины, ручка, чтобы толкать коляску перед собой, — все эти некогда блестящие хромированные детали выказывали тут и там обшарпанные, серые, незрячие залысины. Залысины изо дня в день росли, незаметно: прошлое… Итак, в один прекрасный день, когда летом тридцать второго… Тогда, тогда, тогда, когда я был пятилетним мальчуганом, во время Олимпиады в Лос-Анджелесе, уже тогда были кулаки, умевшие разить быстро, деловито и вполне увесисто; и все же, будто и не замечая, куда ветер дует, миллионы людей в одно и то же время катили коляски на высоких и низких колесах, катили на солнце, катили в тень.
На четырех высоких старомодных колесах летом тридцать второго катилась черная, лакированная, изрядно потрепанная уже коляска, которую гимназист Эдди Амзель, знавший все лавки старьевщиков в округе, выторговал в Поденном переулке. Толкали ее попеременно он, старший преподаватель Освальд Брунис и Вальтер Матерн. Просмоленные, выкрашенные масляной краской и тем не менее сухие доски, по которым ехала коляска, были досками брезенского морского пирса. Брезен — это приветливое местечко, морской курорт с 1823 года, с зачуханной рыбачьей деревушкой и курортным залом под величественным куполом, с пансионами «Германия», «Евгения» и «Элиза», с малорослыми дюнами и жидкой прибрежной рощицей, с рыбацкими лодками и купальней на три отсека, со спасательной вышкой «Немецкого общества спасения на водах» и аж сорокавосьмиметровым морским пирсом расположилось аккурат посередке между Новой Гаванью и Глетткау на берегу данцигской бухты. Пирс в Брезене был двухъярусный и имел по правую руку выдвинутый в море коротким ответвлением волнорез, защищавший его на случай шторма. На двенадцати своих флагштоках брезенский пирс каждое воскресенье поднимал двенадцать гордо реющих стягов: поначалу — только флаги балтийских городов, потом, один за другим, флаги со свастикой.
Под флагами городов катится по доскам коляска. Старший преподаватель Брунис, непривычно чужой во всем черном, толкает ее перед собой, но вскоре позволит себя сменить либо толстяку Амзелю, либо угрюмому Матерну. В коляске сидит Йенни, которой скоро будет шесть лет, а ходить ей все еще нельзя.
— Давайте спустим Йенни побегать! Ну пожалуйста, господин Брунис. Только попробуем. Мы ее с двух сторон поддержим.
Нет, Йенни Брунис ходить не разрешается.
— Нет-нет, еще потеряется. Еще затолкают в этой воскресной давке.
Давка не давка, но народу полно: люди гуляют, слоняются, встречаются, расстаются, кланяются, не глядя проходят мимо. Машут, берут под руку, указывают на мол, на скалу Орлиное гнездо, приветствуют, припоминают, злятся. И все так нарядно одеты — с ниточки-с иголочки, все новенькое и в цветочек. Без рукавов и по сезону. Тенниски и новенькие матроски. Галстуки на ветру. Ненасытные фотоаппараты. Соломенные шляпы с обновленной прокладкой. Выбеленные зубной пастой парусиновые туфли. Высокие каблуки боязливо избегают щелей в настиле пирса. Мнимые капитаны прильнули к биноклям. Или просто, прикрыв глаза ладонью, мужественно смотрят вдаль. Матросских костюмчиков не меньше, чем детишек: носятся, играют, прячутся, пугаются. Я тебя вижу, ты меня нет. Эники-беники-ели-вареники. Вышел-месяц-из тумана. Вон там, да вон он, господин Англикер с Нового рынка со своими двойняшками. У двойняшек одинаковые большие банты, и они с одинаковой неспешностью бледными языками лижут мороженое. А вон господин Кошник с Гертовой улицы вместе с женой и гостем из Рейха. Господин Зелльке дает своим сыновьям по очереди посмотреть в бинокль: шлейф дыма, палубные надстройки — это на подходе паром «Кайзер». У супругов Берендтов кончились все гостинцы для чаек. Госпожа Грунау, у которой прачечная-гладильня возле Большой Коптильни, с тремя молоденькими ученицами. Булочник Шеффлер с Малокузнечного переулка со своей хохотушкой-женой. Хайни Пиленц и Оттен Зоннтаг без родителей. А вон и господин Покрифке с пальцами в клею. На нем виснет его костлявая грымза-жена, которой то и дело приходится с крысиным проворством вертеть головой во все стороны:
— Тулла! — приходится ей кричать. И тотчас же: — Александр! — И еще: — Зигесмунд, следи за Конрадом!
Ибо здесь, на пирсе, кошнадерцы на своем жутком наречии говорить стесняются, хоть столярных дел мастера Либенау и его жены поблизости и нет. Мастеру этим воскресным утром пришлось остаться в мастерской и чертить, чтобы в понедельник машинист-пильщик знал, что и как распиливать. А жена его без мужа гулять не выходит. Но зато сын его здесь, потому что Тулла здесь. Оба младше Йенни, тем не менее обоим можно не только ходить, но и бегать. Можно на одной ножке за старшим преподавателем Брунисом и его немного застенчивыми учениками прыгать крест-накрест, как в «классики». Можно вдоль по пирсу до самого конца, где он завершается остроносым, опасным треугольником. Можно по лестницам справа и слева вниз, на нижний ярус, где всегда рыбаки и ловится мокрель. Можно в быстрых сандалиях носиться по узким нижним мосткам и тайком от взрослых прятаться между балками пирса под самым настилом, под шарканьем сотен выходных туфель, под легким перестуком прогулочных тростей и зонтиков. В прохладной зеленоватой тени. Там, под верхним ярусом, не бывает дней недели. Вода пахнет строгостью и прозрачна до самых ракушек и бутылок, что перекатываются по дну. На опорах, что держат на себе пирс и народ на пирсе, нехотя покачиваются бороды водорослей: вокруг них, тут и там, стайки колюшки — серебристые, шустрые, привычные. С верхнего яруса падают окурки, распуская вокруг себя коричневатую мантию, приманивая, а потом отталкивая небольших, в палец длиной, рыбешек. Стайки мальков движутся стремительными рывками — кидаются вперед, замирают, поворачивают, распадаются, собираются снова уже чуть глубже и уплывают — туда, где развеваются новые бороды водорослей. Покачивается пробка. Бутербродная бумага набухает и вяло кружится. Между просмоленными балками Тулла Покрифке одергивает свое выходное платьишко, уже все в пятнах. Ее кузену приказано сунуть под платье руку. Но он не хочет и глядит в сторону. Тогда и она, значит, не-хочет-не-может-не-будет, — и уже спрыгнула с перекрестья балок вниз на мостки, уже мчится, хлопая сандалиями по доскам, потряхивая косичками, вспугивая клюющих носами рыбаков, уже взбираясь по лестнице, туда, где простор пирса, где двенадцать флагов, где воскресное утро; а ее кузен Харри идет следом, идет за ее дурманящим запахом костного клея, который легко и громко заглушает запах водорослевых бород, запах просмоленных и все же гниющих балок, запах высушенных ветрами мостков и даже запах моря.
И ты, Тулла,
как-то воскресным утром сказала:
— Да спустите вы ее. Хочу поглядеть, как она ходит.
Как ни удивительно, старший преподаватель Брунис кивает, и Йенни разрешено пройтись по дощатому настилу брезенского морского пирса. Кто-то смеется, многие улыбаются, потому что Йенни такая толстушка и так неловко передвигается по дощатому настилу причала на своих ножках-сардельках, перехваченных резинками гетр и втиснутых в лаковые туфельки с пряжками.
— Амзель, — интересуется Брунис из-под черной фетровой шляпы, — а тебе, когда ты был, допустим, шестилетним ребенком, сильно досаждала твоя, прямо скажем, тучность?
— Да не особенно, господин учитель. Вальтер всегда присматривал. Только за партой сидеть было неудобно, скамейка слишком узкая была.
Брунис угощает конфетами. Пустая коляска стоит поодаль. Матерн с неуклюжей осторожностью ведет Йенни. Флаги вытянулись в одну сторону и трепещут. Теперь Тулла хочет вести Йенни. Коляска, надо надеяться, никуда не укатится. Брунис посасывает мятный леденец. Йенни идти с Туллой не хочет, она вот-вот разревется, но Матерн рядом, да и Эдди Амзель тут как тут — мигом и очень похоже изображает курятник. Тулла поворачивается на каблучках. На носу пирса столпился народ — там вроде кто-то собирается петь. Лицо Туллы превратилось в треугольник, такой маленький, что ярость в нем неимоверна. На конце пирса уже поют. Тулла закатывает глаза: закрытые занавески. Группа подростков — «юнгфольк»[123], «юность народа» — встала у самых поручней полукругом. Иссушенная ярость кошнадеров: Тул-Дул-Тулла. Не все мальчики в форме, но все поют, а из слушателей многие подтягивают и одобрительно кивают. «Мы любим бури…»[124] поют все, а единственный непоющий на неестественно прямых руках держит треугольный черный вымпел с вышитой на нем руной. Коляска стоит в стороне, брошенная и пустая. Теперь они поют: «В ранний час, когда светает, наступает наша эра»[125]. Потом кое-что повеселее: «Чудак по имени Колумб…» Кудрявый юнец лет пятнадцати, правая рука которого, возможно, и вправду пораненная, висит на перевязи, жестами смущенными, но приказующими призывает слушателей подхватывать если не всю песню о Колумбе, то хотя бы припев. Молоденькие девушки, взявшись под руки, и солидные мужи, среди которых господин Покрифке, господин Берендт и торговец колониальными товарами Мацерат, начинают подпевать. Упругий норд-ост натягивает флаги и скрадывает фальшивые нотки веселого хора. Если вслушаться внимательно, можно расслышать то забегающий вперед, то отстающий от ритма песни перестук детского жестяного барабана. Это, должно быть, сын Мацерата[126], торговца колониальными товарами. Мальчик немного со странностями. Бессмысленный припев прямо-таки нескончаемой песни звучит так: «Глория-виктория, виде-виде-вит юххай-расса» — и пение между тем мало-помалу становится обязательным. Оглядки: «А этот почему не поет?» Прищур искоса: ага, супруги Ропинские тоже поют. И даже старик Завацкий, прожженный социалист, рот раскрывает. Ну же, дружно! Смелей! Вон, даже господин Цурек и почтовый секретарь Бронски тоже поют, хотя оба работают на площади Хевелиуса, на польской почте[127]. «Виде-виде-вит-бум-бум». А что же господин старший преподаватель? Неужто не может по крайней мере заложить за щеку свой мятный леденец и хотя бы для вида? «Глория-виктория!» В стороне, брошенная и пустая, на четырех высоких колесах стоит коляска. Поблескивая черным, в трещинах, лаком. «Виде-виде-виде-вит-юххай-расса!» Папаша Брунис хочет взять Йенни на руки и освободить ее ножки-сардельки от лакированной обувки с тугими пряжками. Но его ученики — «Глория-виктория!» — особенно Вальтер Матерн, его отговаривают. Эдди Амзель тоже поет: «Виде-виде-виде-вит-юххай-расса!» У него, наверно, из-за комплекции, чудный голос — бархатно-мягкое мальчишеское сопрано, на некоторых строчках припева, особенно на «…юххай-расса-а-а-а», будто рассыпающееся серебром. Это называется верхним голосом. Многие уже оглядываются, желая знать, где это звенит такой прозрачный родничок.
Теперь они поют — поскольку, ко всеобщему изумлению, у песни о Колумбе все же сыскался заключительный куплет — песню об урожае: «Я нагрузил тележку с верхом…»[128] А теперь — хотя это, конечно, куда лучше поется вечером: «Страны прекрасней в наше время…»[129] Тут уж Эдди Амзель дает своему сопрано развернуться вовсю. Брунис сосет леденец почти демонстративно и прячет в глазах усмешливые огоньки. Матерн на фоне безоблачного неба все больше мрачнеет. Коляска отбрасывает одинокую тень…
Где же Тулла?
Ее кузен честно отпел шесть куплетов песни о Колумбе. Во время седьмого он смылся. Только запах моря — дурмана костного клея совсем не слышно; просто Август Покрифке со своей женой и глухонемым Конрадом стоят у западных поручней пирса, а ветер с северо-восточного переменился на восточный. Все Покрифке повернулись к морю спиной. Они поют. Конрад тоже своевременно, хотя и беззвучно, открывает рот и вытягивает трубочкой губы, и даже когда, без особого успеха, предпринимается попытка исполнить канон «Мастер Якоб, мастер Якоб»[130], он вступает вовремя.
Где же Тулла?
Ее братья Зигесмунд и Александр давно улизнули. Ее кузен Харри видит обоих на волнорезе. Они, смельчаки, ныряют с волнореза головой вниз. Зигесмунд разучивает прыжок с переворотом и из стойки на руках. Одежда братьев, придавленная ботинками, лежит тут же, на этом узеньком и ненадежном отростке пирса. Туллы там нет. От причала Глетткау — а при желании можно угадать вдали даже большой Сопотский причал — точно по расписанию отходит прогулочный пароходик. Пароходик весь белый и оставляет за собой длинный шлейф черного дыма — точь-в-точь как корабли на детских рисунках. Те, кто намерен отправиться на пароходике из Брезена в Новую Гавань, столпились на носу пирса с левой стороны, где причал. Где же Тулла? «Юность народа» все еще поет, но их никто уже не слушает, поскольку пароходик все увеличивается в размерах. И Эдди Амзель тоже уже отключил свой верхний голос. Детский барабан, забросив песенные ритмы, подлаживается теперь к тарахтенью корабельной машины: это прогулочный пароход «Щука». Но и прогулочный пароход «Лебедь» выглядит точно так же. Только колесный пароход «Пауль Бенеке» выглядит совсем иначе. Во-первых, у него колеса с лопастями; во-вторых, он больше, гораздо больше; а в-третьих, он курсирует между Данцигом-Лангбрюке, Сопотом, Гдингеном и Хелой, а в Глетткау и в Брезен вообще не заходит. Где же Тулла? Сперва кажется, будто прогулочный пароходик «Щука» вовсе даже и не намерен приставать к брезенскому причалу, но потом он ложится в дрейф и уже вскоре, быстрее, чем думалось, подваливает к пирсу правым бортом. Вода бурлит не только вокруг кормы и носа. Потом, словно в нерешительности, пароходик вдруг останавливается и вспенивает море. Выбрасываются швартовые, скрипят причальные тумбы. Табачно-бурые привальные подушки по правому борту смягчают последний толчок. Всем детям, а также некоторым женщинам очень страшно, потому что «Щука» сейчас загудит. Дети позатыкали уши, пооткрывали рты, трепещут заранее: и тут пароход издает низкий, под конец хрипло захлебывающийся гудок и замирает, принайтованный накрепко. Детвора уже снова лижет вафли с мороженым, но некоторые малыши на пароходе и на пирсе по-прежнему хнычут и затыкают уши, не сводя глаз с трубы, потому что знают: «Щука», прежде чем отчалить, прогудит еще раз и выпустит струю белого пара, который воняет тухлыми яйцами.
Где же Тулла?
Прекрасен белый пароход, когда на нем нет пятен ржавчины. На «Щуке» нет ни единого, только флаг вольного города и вымпел пароходства «Висла» выгорели и пообтрепались. Одни с борта — другие на борт. Тулла? Ее кузен оглядывается назад: там, на правой стороне пирса, отныне и вовеки стоит детская коляска на четырех высоких колесах. Она отбрасывает скошенную одиннадцатичасовую тень, которая без швов и стыков срастается с тенью перил пирсового ограждения. И к этому путаному теневому узору приближается еще одна тень, тощая и однозначная: это Тулла идет снизу. Она побывала у развевающихся водорослевых бород, заколдованных рыбаков, тренирующихся мальков. Костлявая, в коротком платьице, она поднимается по лестнице. Острые коленки подкидывают надвязанную кружевную оборку. От лестницы она прямиком устремляется к коляске. Последние пассажиры всходят на борт прогулочного парохода «Щука». Несколько детей все еще — или уже снова — плачут. Тулла сплела руки за спиной. Хотя зимой кожа у нее белая с голубоватым оттенком, загорает она быстро. Сухой желто-бронзовый, в цвет столярного клея загар резко оттеняет оспинки прививок: один, два, три островка на левом предплечье, каждый величиной с вишенку, мерцают столь мертвенной белизной, что их невозможно не заметить. Каждый пароход привозит чаек и увозит чаек. Правый борт пароходика обменивается с левой стороной причала прощальными словами: «Приезжайте в следующий раз. И не забудьте пленку проявить, нам интересно. И всем передайте от нас привет, слышишь?» Тулла стоит подле пустой детской коляски. Пароход гудит снова — высоко, низко, потом захлебывается. Тулла и не думает затыкать уши. Ее кузен с удовольствием бы заткнул, но не решается. Глухонемой Конрад, стоя между Эрной и Августом Покрифке, смотрит на пенящиеся буруны за кормой парохода, крепко зажав ладонями оба уха. Смятый коричневый бумажный кулек лежит в изножье. Тулла леденцы не трогает. На волнорезе двое мальчишек затеяли схватку с третьим: двое плюхаются в море, сразу же выныривают, все трое хохочут. Старший преподаватель Брунис все-таки взял Йенни на руки. Йенни не знает, заплакать ей или нет, раз уж пароход прогудел. Старший преподаватель и его ученики советуют ей не плакать. Эдди Амзель завязал по углам своего носового платка четыре узла и натянул сооруженную таким способом шапочку на свою лисью шевелюру. Поскольку он вообще выглядит смешно, в носовом платке с узелками он смешно не выглядит. Вальтер Матерн не сводит мрачного взгляда с белого парохода, который, трясясь, отваливает от причала. Мужчины, женщины, дети, ватага из «юности народа» с черным вымпелом на борту — все машут, кричат, смеются. Чайки кружат, падают, взлетают и, вывернув шеи в полете, глазеют своими черными пуговицами. Тулла Покрифке слегка пинает ногой правое заднее колесо — тень коляски остается почти неподвижной. Мужчины, женщины, дети постепенно отходят от причала, разбредаются. Прогулочный пароход «Щука», нарисовав на небе клубы черного дыма и пыхтя, ложится в дрейф и берет курс на вход в Новую Гавань, сразу начиная уменьшаться в размерах. В ровной глади моря он торит пенную, быстро исчезающую борозду. Не все чайки улетают за ним вслед. Тулла решает действовать: откинув головку с косичками назад, она затем резко выбрасывает ее вперед и плюет. Ее кузен краснеет — отныне и вовеки. Он оглядывается, пытаясь понять, видел ли кто-нибудь еще, как Тулла плюнула в детскую коляску. С левой стороны возле перил пирса торчит трехлетний шкет в матросском костюмчике. Шелковая лента с тисненой золотой надписью обхватила его матросскую фуражку: «Зайдлиц». Кончики ленты бьются на северо-восточном ветру. На груди у него висит детский жестяной барабан. Из его кулачков вырастают деревянные, сильно обшарпанные барабанные палочки. Но он не барабанит, у него голубые глаза, и он наблюдает ими, как Тулла во второй раз плюет в пустую детскую коляску. Сотни летних ботинок, парусиновых туфель, сандалий, прогулочных тросточек и солнечных зонтов приближаются к ней с оконечности пирса, когда Тулла прицеливается плюнуть в третий раз.
Не знаю, был ли кто-нибудь кроме меня и сына торговца колониальными товарами свидетелем того, как моя кузина трижды подряд плюнула в пустую детскую коляску Йенни, а затем, худая и злющая, нарочито медленно поплелась в сторону курортного зала.
Дорогая кузина!
Пока что не могу снова не поставить тебя на поблескивающий масляной краской дощатый настил Брезенского морского пирса: в одно из воскресений следующего года, но того же месяца, то есть ветреного и богатого медузами месяца августа, когда мужчины, женщины и дети с пляжными сумками и надувными резиновыми зверями в который раз покидали пыльное предместье Лангфур и направлялись в Брезен, чтобы во множестве расположиться в купальнях и на пляже, чтобы в несколько меньшем количестве прогуливаться по морскому пирсу, в день, когда восемь флагов балтийских городов и четыре флага со свастикой обвисали на двенадцати флагштоках понурыми безжизненными тряпками, потому что над Оксхефтом бушевала морская гроза, когда огненные медузы нещадно жалили, а «некусачие» медузы распускали в теплой морской воде свои сиреневато-белые зонтики, — в такой вот августовский день Йенни потерялась.
Старший преподаватель Брунис кивнул. Вальтер Матерн вынул Йенни из коляски, а Эдди Амзель не доглядел, когда и как Йенни затерялась в пестрой воскресной толпе. Гроза над Оксхефтом все ширилась. Вальтер Матерн Йенни не нашел. И Эдди Амзель не нашел. Ее нашел я, потому что искал свою кузину Туллу — я всегда искал ее, а находил по большей части Йенни Брунис.
Но в тот день, когда грозовая туча с запада разбухала на глазах, я нашел их обеих, а Тулла к тому же держала за ошейник Харраса, которого я с отцовского дозволения взял с собой.
На одном из мостков, что были проложены под пирсом вдоль и поперек, а точнее, в торце одного из мостков, который заканчивался тупиком, я нашел обеих. Заслоненная балками и подкосами, в своем белом платьице, в неверных зеленоватых отсветах, в полутени — над ней шарканье легких летних туфель, под ней — хлюпанье и буханье жадных лижущих волн — заплаканная, затравленная, пухлощекая, забилась в угол Йенни Брунис. Потому что Тулла ее пугала. Тулла приказывала нашему Харрасу лизать Йенни в лицо. А Харрас Туллу слушался.
— Скажи «говно», — приказала Тулла, и Йенни покорно повторила.
— Скажи: «Мой отец всегда пердит», — приказала Тулла, и Йенни пришлось признать то, что старший преподаватель иногда действительно совершал.
— Скажи: «Мой брат повсюду все ворует», — не унималась Тулла.
Но тут Йенни неожиданно возразила:
— Но у меня нет никакого брата, правда же нет.
Тогда Тулла своей длиной тощей рукой выудила из-под мостков и подняла наверх тряскую некусачую медузу. Ей пришлось обеими пригоршнями держать этот слизистый белесый студень, к центру которого сходились от краев бугристые подушчатые наросты и голубовато-фиолетовые, в узелках, прожилки.
— Ты сейчас же это съешь, и чтобы ничего не осталось, — распорядилась Тулла. — Она совсем безвкусная, ешь давай.
Йенни не шелохнулась, и тогда Тулла показала ей, как надо есть медузу. Она со смаком втянула в себя примерно две столовых ложки студенистого желе, почавкала им во рту и потом выпустила из щели между двумя верхними резцами струйку медузной кашицы чуть ли не Йенни в лицо. Высоко над пирсом грозовая туча уже надкусила солнце.
— Теперь ты видала, как это делается. Делай сама.
Личико Йенни стало растягиваться в плаксивую гримасу. Тулла пригрозила:
— Или я собаку…
Но прежде чем Тулла смогла натравить нашего Харраса на Йенни, — он бы, конечно, ничего страшного с ней не сделал, — я свистнул Харраса к ноге. Он подчинился не сразу, но затем все же подставил мне загривок с ошейником. Теперь я его держал. В небе, пока еще далекий, прокатился гром. Тулла, совсем рядом, плюхнула остатки медузы мне на рубашку, протиснулась мимо и была такова. Харрас рванулся за ней. Два раза мне пришлось крикнуть «Стоять!». Левой рукой я придерживал собаку, правой взял Йенни за ручку и повел ее на предгрозовой пирс, где старший преподаватель Брунис и его ученики уже метались между вспугнутыми грядущим ненастьем воскресными гостями, искали Йенни, кричали «Йенни!» и уже подозревали самое худшее.
Еще до первого порыва ветра администрация курорта успела спустить все двенадцать флагов — восемь разных и четыре одинаковых. Папаша Брунис держал коляску за ручку: коляска подрагивала. Первые капли уже отделились от туч. Вальтер Матерн усадил Йенни в коляску — дрожь не унялась. И даже когда мы уже укрылись в сухом месте и старший преподаватель Брунис дрожащими пальцами выдал мне три мятных леденца, коляска все еще продолжала мелко трястись. Гроза, этот передвижной театр, с помпой унеслась дальше.
Моей кузине Тулле,
однажды на том же пирсе пришлось пронзительно кричать. Тогда мы уже умели писать наши имена. Йенни уже не возили в детской коляске, она, как и все мы, ножками-ножками топала в школу имени Песталоцци. В свой срок наступили каникулы с детскими проездными билетами, купальным сезоном и вечно новым Брезенским морским пирсом. На двенадцати флагштоках в ветреную погоду теперь трепетали шесть флагов вольного города Данциг и шесть флагов со свастикой, эти последние принадлежали уже не курортной администрации, а Брезенскому комитету партии. И прежде, чем каникулы кончились, однажды утром, в одиннадцать с чем-то, утонул Конрад Покрифке.
Твой брат, твой кудряш. Тот, что смеялся беззвучно. Пел со всеми. Все понимал сразу. Не будет больше разговоров руками: локоть, лоб, нижнее веко, два скрещенных пальца возле уха, два пальца прижавшись, щека к щеке: Тулла и Конрад. Теперь только один выставленный палец, потому что под волнорезом…
Всему виной зима. От ее льдов, оттепелей, плавучих торосов и февральских штормов брезенскому пирсу крепко досталось. И хотя курортная администрация более или менее его подновила — выкрашенный в белую краску, щеголяя новенькими флагштоками, пирс и впрямь сиял как на параде — но часть старых опор, обломанных глубоко под водой паковым льдом и тяжелыми штормовыми валами, осталась коварно торчать на дне, что и обрекло Туллиного младшего брата на погибель.
Хотя купаться с волнореза в тот год было запрещено, мальчишек, которые приплывали сюда с пляжа и использовали волнорез как вышку для прыжков, хватало с лихвой. Зигесмунд и Александр Покрифке младшего брата с собой не взяли; но он поплыл за ними сам, по-собачьи, вовсю бултыхая руками и ногами — правильно плавать он еще не умел, но на воде держался уверенно. Втроем, все вместе, они прыгнули с волнореза, наверно, раз пятьдесят и столько же раз благополучно вынырнули. Потом они вместе прыгнули еще семнадцать раз, а вот вынырнули все втроем лишь шестнадцать. Никто бы, возможно, так сразу и не заметил, что Конрад не выплывает, если бы наш Харрас не поднял тревогу. С пирса он следил за прыжками, и теперь, одного из братьев недосчитываясь, начал носиться по волнорезу взад-вперед, неуверенно тявкая в разные стороны, пока вдруг не сел и не завыл, задрав морду к небу.
В это время к причалу как раз приставал прогулочный пароходик «Лебедь»; однако весь народ сгрудился на правой стороне пирса. И только мороженщик, до которого всегда доходило после всех, продолжал монотонно выкрикивать свое: «Ванильное, лимонное, клубничное, крюшон, ванильное, лимонное…»
Только ботинки успел скинуть Вальтер Матерн и тут же, головой вниз, сиганул прямо с перил пирса. И точно против того места, которое наш Харрас указывал сперва воем, потом скребя по краю волнореза лапами, он нырнул. Эдди Амзель держал ботинки своего товарища. Тот показался на миг из воды и тут же нырнул снова. К счастью, Йенни ничего этого не видела: господин старший преподаватель отдыхал с ней в тени деревьев в курортном парке. Лишь когда Зигесмунд Покрифке и еще один мужчина, но не из спасательной команды, поочередно стали помогать Матерну, им удалось вытащить глухонемого Конрада, чью голову заклинило между двумя короткими, как пеньки, обрубками сломанных свай.
Только его уложили на мостки, откуда ни возьмись объявился спасатель с кислородной маской. Пароходик «Лебедь» во второй раз подал голос и продолжил свой маршрут по пляжам и купальням бухты. Никто не догадывался заткнуть мороженщика: «Ванильное, лимонное, клубничное…» Лицо у Конрада посинело. Ладони и ступни были желтые, как у всех утопленников. Правое ухо, застрявшее между сваями, порвалось возле мочки: из него сочилась на доски светлая, алая кровь. Глаза его не хотели закрываться. Его кудри так и остались кудрями. Вокруг него, который теперь, утопленником, казался еще меньше, чем был при жизни, расползалась лужа воды. Покуда предпринимались попытки оживления — они еще долго, согласно инструкции, прикладывали ему к лицу кислородную маску — я зажимал Тулле рот. Когда маску, наконец, убрали, она впилась зубами в мою ладонь, а потом, перекрывая позывные мороженщика, зашлась долгим, пронзительным, до самого неба досягающим криком, потому что ей уже не приведется больше часами беззвучно беседовать с Конрадом — знаком двух пальцев, щека к щеке, пальцами ко лбу и особым знаком любви, не приведется ни в укромном деревянном сарае, ни в прохладной тени пирса, ни тишком-тайком в крепостном валу на окраине, ни у всех на виду и все же ото всех по секрету — на людной Эльзенской улице.
Дорогая Тулла!
У твоего крика, видимо, долгое дыхание: он и сегодня гнездится в моем слухе, сохраняя все тот же, один-единственный, пронзительный и высокий, до неба досягающий тон.
Ни в следующее, ни через одно лето нашего Харраса никакими силами на волнорез было не затащить. Он оставался при Тулле, которая даже на пирс не заходила. Это их единодушие, впрочем, имело свою предысторию.
Летом того же года, только немного до того, как глухонемой Конрад Покрифке утонул во время купания, Харрасу пришла повестка на вязку. В полиции родословная пса была известна, поэтому раз, а когда и два раза в год оттуда по почте приходило извещение, подписанное лейтенантом полиции по фамилии Мирхау. Отец никогда не отказывал этим посланиям, неизменно составленным в почти приказном тоне; во-первых, он и вообще, и как столярных дел мастер в особенности, не хотел никаких неприятностей с полицией; во-вторых, вязка, если в ней задействован такой кобель, как Харрас, каждый раз приносила довольно кругленькую сумму; а в-третьих, для отца эти приглашения были предметом нескрываемой гордости за его собаку; когда оба они торжественно отправлялись на «оплачиваемую владельцем одной из сторон случку», можно было подумать, что это отца, а не Харраса пригласили на столь ответственное мероприятие.
На сей раз и мне, хотя и не просвещенному, но и не совсем несведущему, впервые было дозволено их сопровождать. Отец, невзирая на жару, в костюме, который он еще надевал разве что по случаю собрания столярной ремесленной гильдии. Темно-серая жилетка солидно облегала его живот. Из-под велюровой шляпы он извлек светло-кофейную сигару «Фельфарбе» по пятнадцать пфеннигов за штуку. Едва Харраса отцепили от будки и надели на него намордник, — как-никак, в полицию шли, — он жадно рванул с места, очередной раз выказывая свой давний порок; неважное хождение на поводке. Поэтому на Верхнештрисской улице мы были гораздо раньше, чем об этом можно было бы заключить по солидному остатку отцовской сигары.
Верхнештрисская улица — это та, что от Главной Лангфурской идет на юг. По левую руку двухэтажные, на две семьи, коттеджи, в которых жили полицейские со своими семьями; по правую мрачные кирпичные казармы, построенные еще для макензенских гусаров[131], а теперь приютившие в себе полицейские службы. В начале Пелонкерского прохода, почти не хоженой, даже без таблички, аллеи, — зато, правда, со шлагбаумом и караульной будкой — мой отец, даже не потрудившись снять шляпу, показал письмо лейтенанта полиции. И хотя отец прекрасно знал дорогу, вахмистр повел нас через усыпанные гравием казарменные дворы, где полицейские в светло-серых тиковых гимнастерках либо упражнялись, либо стояли полукругом перед начальником. В соответствии с уставом все рекруты руки держали за спиной, и со стороны казалось, будто они слушают доклад. Береговой ветер выдувал из закута между полицейским гаражом и полицейским спортзалом островерхие блуждающие бурунчики пыли. Вдоль нескончаемых конюшен конной полиции полицейские рекруты преодолевали полосу препятствий, торопясь перемахнуть через стенки и рвы с водой, проползти под бревнами и проволочными заграждениями. Все казарменные дворы были обсажены молоденькими, в детскую руку толщиной, липами, что боязливо жались к подпоркам-штакетинам. Далее нам порекомендовали взять Харраса на короткий поводок. На небольшом каре — справа и слева слепые стены складов, напротив еще какое-то приземистое здание — дрессировали десяток или, может, дюжину овчарок: приучали их подходить к ноге, делать стойку, приносить поноску, подавать голос, преодолевать, подобно рекрутам, стенку и под конец, после основательной, с низким носом, работы по следу, нападать на полицейского, который, будучи переодетым в арестанта, но во всем ватном, изображал классическую попытку к бегству. Вполне приличные собаки, но с Харрасом ни одну не сравнить. Все металлически- или пепельно-серой масти с белыми отметинами, либо палево-желтые с черным крупом, либо темно-дымчатые со светло-коричневым подшерстком. На площадке воздух звенел от команд и дрессированного, раздельного собачьего лая.
В приемной канцелярии полицейского питомника служебных собак нам пришлось подождать. Лейтенант Мирхау носил прямой, как по шнурку, пробор слева. Харраса увели. Лейтенант Мирхау обменялся с отцом парой слов из разряда тех, которыми только и могут обменяться столярных дел мастер и лейтенант полиции, ненадолго оказавшись в одном помещении. Затем голова Мирхау склонилась над работой. Его пробор — видимо, лейтенант просматривал рапорты — бегал за строчками. В кабинете, по обе стороны двери, было два окна. Через них можно было бы посмотреть на дрессировку полицейских собак во дворе, не будь окна до верхней трети закрашены. На беленой стене, той, что напротив окон, висели две дюжины фотографий в узкой черной окантовке. Все были одного формата и обрамляли двумя пирамидальными группами — в нижнем ряду шесть фотографий, в среднем четыре, в верхнем две — еще одну, центральную, более крупную и вертикального формата, тоже окантованную черной рамкой, но пошире. На всех двадцати четырех пирамидально размещенных фотографиях были изображены овчарки, идущие подле полицейского по команде «рядом». С большой фотографии в центре смотрело лицо престарелого человека в островерхой каске. Во взгляде из-под набрякших век сквозила усталость. Я, видимо, слишком громко спросил, кто это такой. Не поднимая головы и пробора, лейтенант ответил, что это Президент Рейха, и чернильную надпись на фотографии этот пожилой господин сделал собственноручно. Но и фотографии собак с полицейскими тоже пестрели понизу убористыми чернильными надписями: вероятно, там были зафиксированы клички собак, сведения об их родословной, имена, фамилии и звания полицейских, а еще, наверно, поскольку это были явно полицейские собаки, и отличия этих собак и приставленных к ним полицейских за годы службы, равно как и фамилии и клички взломщиков, контрабандистов, бандитов, взятых с помощью той или иной овчарки…
Позади письменного стола, за спиной у лейтенанта Мирхау стену украшали, тоже в симметричном порядке, шесть с моего стула неудобочитаемых документов, каждый в рамке и под стеклом. Судя по шрифту и разновеликости отдельных строчек это могли быть только грамоты — выписанные витиеватыми готическими буквами, с золотым тиснением, с величественными «шапками» вверху и печатями внизу. Вероятно, собаки, проходившие службу в полиции и выдрессированные в этом питомнике, занимали на каких-то важных соревнованиях полицейских собак — или правильней сказать собак полиции? — первые, вторые, ну, может и третьи места. На письменном столе, справа от склоненного, медленно поспевающего за продвижением работы пробора, стояла в ненатуральной позе, ростом со среднюю таксу, бронзовая, а может, крашеная гипсовая овчарка, у которой, как с первого взгляда мог определить любой собачник, стойка была коровья, а круп слишком резко ниспадал к корню хвоста.
Несмотря на всю кинологию, пахло в приемной канцелярии полицейского питомника служебных собак вовсе не собаками, а скорее известкой; канцелярию недавно побелили, к тому же и от шести или семи гераней, что красовались на подоконниках, исходил кисловатый, нежилой дух; отец из-за этого громко расчихался, и мне было за него неудобно.
Добрых полчаса спустя привели Харраса. По нему ничего не было видно. Отец получил двадцать пять «вязочных» гульденов и нежно-голубое свидетельство о вязке, текст которого отмечал важные подробности случки, такие, как «немедленную и радостную готовность кобеля к покрытию», а также сообщал номера двух записей в племенную книгу. Лейтенант Мирхау сплюнул в белую эмалированную плевательницу, красовавшуюся возле задней левой ножки его письменного стола, чтобы навсегда врезаться в мою память, затем вяло откинулся на спинку стула и сказал, что об окончательных результатах нас известят. Остаток вознаграждения за вязку, если и как только успешность таковой обозначится, он, как обычно, распорядится перевести по почте.
На Харрасе уже снова был намордник, отец уже получил в руки свидетельство о вязке и пять бумажек по пять гульденов, мы уже были в дверях, когда Мирхау еще раз оторвал пробор от своих рапортов:
— Вам надо лучше следить за животным. Хождение на поводке безобразное. В родословной, по-моему, достаточно ясно сказано, что животное в третьем поколении происходит из Литвы. Того и гляди, не сегодня завтра, мутация начнется. У нас тут уже всякое бывало. И вообще: собаководу Матерну следовало лично проследить за случкой суки Сенты с мельницы Луизы и кобеля Плутона из Нойтайха и выписать официальное подтверждение. — Внезапно его палец уткнулся в меня. — И не слишком доверяйте животное детям! У животного заметны первые признаки одичания. Нам-то все равно, но у вас потом могут быть неприятности.
Это не тебя,
это меня имел в виду лейтенантский палец. Хотя именно ты портила Харрасу выучку.
Тулла, тощая, костлявая. В любую дырку в любом заборе. Комочком под лестницей, кубарем с лестницы, волчком по лестничным перилам.
Лицо Туллы, в котором большие, к тому же обычно с засохшим ободком, ноздри — она и говорила через нос — были важнее всего и превосходили выразительностью даже близко посаженные глаза.
Туллины содранные, потом в струпьях, заживающие, снова рассаженные колени.
Туллин дурман, дурман костного клея, ее куколки из плиток столярного клея, ее парики из стружек, которые один из подмастерьев специально строгал для нее из длинного бруса.
Тулла могла делать с нашим Харрасом все, что хотела; и она делала с ним все, что ей вздумается. Наш пес и ее глухонемой брат долгое время были, по сути, ее свитой, тогда как мне, сгоравшему от желания в свите состоять, дозволялось лишь ходить следом и лишь издалека вдыхать дурман костного клея, даже когда я нагонял ее на речушке Штрисбах, у Акционерного пруда, на Фребельском лугу, на кокосовом складе маргаринной фабрики «Амада» или в крепостном рву; ибо если моя кузина достаточно долго подлизывалась к моему отцу, — а подлизываться Тулла умела, — ей разрешалось брать Харраса с собой. В Оливский лес, к реке Саспе и за Родниковые поля, напрямик через лесные склады за Новым Городком и на брезенский морской пирс — повсюду Тулла водила нашего Харраса, пока глухонемой Конрад не утонул во время купанья.
Тулла кричала пять часов кряду,
а потом будто сама стала глухонемой. Два дня подряд, покуда Конрада не предали земле на Объединенном кладбище, в аллее Гинденбурга, она неподвижно провалялась на кровати, возле кровати, под кроватью, хотела совсем сжаться в комочек, а на четвертый день после смерти Конрада вдруг переселилась в собачью конуру, что стояла у нас возле торцевой стены дровяного сарая и вообще-то предназначалась только для Харраса.
Но, как выяснилось, места в конуре хватило обоим. Они лежали рядышком. Или Тулла лежала в конуре одна, а Харрас ее сторожил, улегшись поперек входа, впрочем, подолгу это не продолжалось, так что вскоре оба уже снова лежали вместе, бок о бок, в конуре. Харрас покидал будку лишь для того, чтобы обрычать и наспех облаять очередного поставщика, принесшего обивку для дверей или пильные диски; и когда ему приспичивало поднять лапу или выдавить из себя свою колбаску, когда его тянуло к миске с едой или плошке с водой — только тогда Харрас ненадолго покидал Туллу, чтобы потом спешно и задом — повернуться в конуре он теперь мог лишь с трудом — втиснуться в свое теплое логово. Он спускал с порога конуры свои скрещенные лапы, она свои тоненькие, шпагатом перехваченные косички. Солнце нагревало над ними рубероид крыши собачьей будки, или они слушали, как по этому рубероиду стучит дождь; а когда они не слышали дождя, тогда, возможно, слышали говорок фрезы, гул выпрямителя, воркотню строгального станка и истеричный, лишь ненадолго опадающий, чтобы потом взвиться с удвоенным накалом, вой дисковой пилы, которая, впрочем, не прекращала эти свои взлеты и падения даже в дождь, когда капли барабанили по стеклу и во дворе столярной мастерской всегда на одних и тех же местах натекали лужи.
Лежали они на опилках. В первый день к конуре подходили мой отец и мастер по машинам Дрезен, с которым отец в нерабочее время был на «ты». В своих деревянных башмаках приходил Август Покрифке. Эрна Покрифке пришла в шлёпанцах. Моя мать не приходила. Все говорили примерно одно и то же: «Ну хватит, выходи, вставай и брось дурить». Но Тулла не выходила, не вставала и дурить не бросила. У всякого же, кто пытался переступить незримую черту вокруг собачьей будки, эта охота пропадала на первом же шагу: из конуры — хотя Харрас даже не менял положение скрещенных передних лап — раздавался нарастающий рык, и ничего хорошего он не сулил. Урожденные кошнаверы и уже почти коренные лангфурцы, съемщики трехкомнатных квартир в нашем доме, обменивались с этажа на этаж следующим соображением: «Сама вылезет, когда надоест и когда поймет, что через такую дурь никакого Конрада ни в жисть не воскресить».
Но Тулла не понимала,
не вылезала, и на исходе первого дня ей в собачьей конуре ничуть не надоело. Вдвоем они лежали на опилках. Опилки каждый день меняли. Менял их вот уже много лет Август Покрифке, и Харрас эту услугу ценил. Таким образом из всех, кто в эти дни суетился вокруг Туллы, папаша Покрифке оказался единственным, кому было дозволено с корзиной ядреных, крупных опилок в руках приблизиться к будке. Совок и метлу он зажал под мышкой. Как только Август Покрифке со всем этим добром направился к конуре, Харрас сам, без просьб и понуканий, из нее вылез, и зубами, сперва легонько, потом сильней потянул Туллу за платье, пока и та не выползла на свет божий и не уселась возле конуры на корточках. Так же, на корточках, но никого не видя, с глазами, закатанными так, что мерцали одни белки, — «с задернутыми занавесками» — она помочилась. Не переча, скорее безучастно, она дожидалась, когда Август Покрифке поменяет опилки и выложит ту порцию своих доводов, на которую он как отец оказался способен:
— Ну давай, поднимайся. Тебе скоро в школу, хоть сейчас покамест каникулы. Ишь, чего учудила. Думаешь, мы нашего мальчика не любили? И хватит чуркой-то прикидываться. А то заберут тебя вон в сумасшедший дом, будут там мытарить с утра до ночи. Решат еще, что ты совсем дурочка. Ну, поднимайся! Вон, темнеет уже. Мама оладьи поставила. Пойдем, а то заберут…
Первый день Туллы в собачьей конуре завершился так: она в конуре осталась. Август Покрифке спустил Харраса с цепи. Разными ключами он запер дровяной сарай и сарай для хлама, машинный цех и контору, где хранились фанера и дверная обивка, пильные диски и плитки костного клея, затем вышел со двора мастерской и калитку во двор тоже запер; и едва он ее запер, как тут же стало темнеть, и темнеть быстро. И сделалось так темно, что в щель между гардинами кухонного окна уже нельзя было различить крышу конуры, хотя вообще-то на фоне светлой стены дровяного сарая ее было хорошо видно…
Во второй день в собачьей конуре, это было во вторник, Харрасу уже не пришлось тянуть Туллу за подол, когда Август Покрифке пришел менять опилки. Тулла даже начала принимать пищу, то есть стала кормиться с Харрасом из одной миски после того, как Харрас отволок ей в конуру большой, совсем без костей, кусок несортового мяса и пробудил аппетит своей прохладной, подталкивающей мясо мордой.
Впрочем, это несортовое мясо было вовсе не таким уж плохим. Чаще всего это были ошметки говядины, которые большими порциями варились на плите у нас на кухне всегда в одной и той же эмалированной кастрюле ржаво-коричневого цвета. Мы все, Тулла и ее братья, и я тоже, голой рукой и без всякого хлеба «для сытости», это мясо не однажды ели. Холодное и тяжелое, оно было очень вкусное. Перочинными ножами мы нарезали его на кубики. Варилось мясо два раза в неделю, было плотное, серо-коричневое, продернутое бледно-голубыми хрящами, прожилками и сочными, пускающими воду полосками жира. Вкус у мяса был сладковатый, немножко мыльный, запретный. После этих мраморных кубиков — играя, мы порой набивали ими оба кармана — во рту еще долго оставался сытный, жирный привкус. И говорили мы после них иначе: из глубины глотки, четырехлапо, по-звериному, — мы даже рычали и лаяли друг на друга. Это блюдо мы предпочитали многим из тех, что подавались на стол у нас дома. Мы называли это мясо «собачьим мясом». Даже если это была не говядина, то уж в любом случае или конина, или баранина от срочного убоя. Целую горсть соли, не обычной, а грубого помола, бросала моя мать в эмалированную кастрюлю, один за другим опускала в кипящую соленую воду продолговатые, в две ладони длиной, ошметья мяса, давала ему как следует вскипеть, добавляла майоран, потому что он вроде бы полезен для собачьего чутья, затем убавляла газ, накрывала кастрюлю крышкой и в течение часа больше к ней не притрагивалась; ибо именно столько надо было готовиться говяжьему-лошадиному-бараньему мясу, чтобы превратиться в собачье мясо, которое ел Харрас и ели мы, которое всем нам, и нам, и Харрасу позволяло с помощью майорана развивать в себе тонкое чутье. Это был старый кошнадерский рецепт. Повсюду между Остервиком и Шлангентином говорили так: «Майоран дает красоту.» «Майоран деньги приращивает.» «Чтоб черта не видать в лицо, сыпь майорану на крыльцо.» Своим замечательным, на майоране вскормленным чутьем славились длинношерстные и низкорослые кошнадерские пастушьи собаки.
В редкие дни, когда в лавке не было несортового мяса, кастрюлю заполняла требуха: обросшие узлами жира бычьи сердца, вонючие, потому что не вымоченные, свиные почки, и маленькие бараньи, которые моей матери приходилось извлекать из плотной, в палец толщиной, оболочки сала с подкладкой из хрустящей пергаментной кожицы; это сало топили на чугунной сковородке, и потом оно шло в стряпню, на жарку, потому что сало с бараньих почек будто бы хорошо предохраняет от туберкулезной напасти. Иногда в кастрюле переваливался и кусок темной, с багровыми и фиолетовыми переливами, селезенки или жилистый обрезок говяжьей печени. А вот легкое, на варку которого требовалось больше времени, больших размеров кастрюля и уваривалось оно очень сильно, в эмалевую кастрюлю не попадало почти никогда, разве что несколько раз летом, когда с мясом бывало неважно из-за того, что в Кошубии и в Кошнадерии свирепствовал ящур. Вареную требуху мы никогда не ели. Только Тулла, тайком от взрослых, но у нас на глазах, — вытянув шеи, мы за ней подглядывали, — жадными большими глотками пила коричнево-серый отвар, в котором плавали свернувшиеся хлопьями пенки от почек, образуя вместе с черноватым майораном причудливые пушистые островки.
На четвертый день в собачьей конуре
— Туллу, поскольку школа еще не началась, по совету соседей и врача, которого вызывали в нашу мастерскую при несчастных случаях, решено было оставить в покое — я, когда все еще спали, — даже машинного мастера, который всегда приходил раньше всех, еще не было, — принес ей полную миску отвара из кастрюли с требухой: почками, сердцами, селезенкой и печенью. Отвар в миске был холодный, потому что Тулла любила пить отвар холодным. Затверделый слой жира — смесь говяжьего и бараньего сала — укрывал содержимое миски, как лед озеро. Только по краям проглядывало мутное варево, выплескиваясь на жирный панцирь аккуратными шариками. Еще в пижаме, я ступал осторожно, за шагом шаг. Ключ от калитки я снял со щитка тихо-тихо, чтобы другие ключи не звякнули. Почему-то рано утром и поздно вечером все лестницы скрипят. На плоской крыше дровяного сарая воробьи уже начали. В конуре никаких признаков. Но уже пестрые мухи на рубероиде в косой полосе утреннего солнца. Я отважился дойти до изрытого лапами полукруга, граница которого заметной канавкой и подобием насыпи обозначала пределы досягаемости собачьей цепи. В конуре покой, тьма и никаких мух. Потом, наконец, во тьме какое-то движение: волосы Туллы, все в опилках. Голова Харраса лежала на лапах. Губы сомкнуты. Уши почти не подрагивают, но только почти. Несколько раз я позвал, но голос мой, видно, со сна, был почти не слышен, я сглотнул и позвал громче:
— Тулла! — И назвал на всякий случай себя. — Это Харри, посмотри, что я тебе принес.
Я всячески старался привлечь внимание к миске с отваром, пробовал причмокивать, потом тихо свистел и цокал, будто я не Туллу, а Харраса хочу выманить из конуры.
Когда никто, кроме пестрых мух, щебечущих воробьев и низкого солнца, ни малейшего движения не обнаружил и даже ухом не повел — Харрас, впрочем, повел и даже один раз сладко зевнул, но глаз упорно не открывал — я поставил миску на край полукруга, точнее сказать, утвердил миску прямо в канавку, вырытую передними лапами собаки, и, не оглядываясь, пошел обратно в дом, оставляя за спиной воробьев, пестрых мух, выползающее солнце и конуру.
Тут как раз и машинный мастер просунул свой велосипед в калитку. Он спросил, но я не ответил. Наши окна были еще все занавешены. Сон у отца был спокойный и доверчивый — он доверял будильнику. Я пододвинул к кухонному окну табуретку, прихватил горбушку черствого хлеба, горшочек со сливовым муссом, раздвинул туда-сюда гардины, обмакнул горбушку в мусс, уже впился и начал откусывать — тут из конуры выползла Тулла. Даже за порогом конуры она осталась на четвереньках, неуклюже встряхнулась, сбрасывая с себя опилки, поползла, спотыкаясь и тыркаясь, к границе собачьего полукруга, наткнулась, не доходя до двери сарая, на канавку и насыпь, как-то боком, от бедра, повернулась, еще раз стряхнула с себя опилки — теперь на ее бело-голубом байковом платьице лаже можно было угадать узор в клеточку — зевнула в сторону двора — там стоял в тени, только по краешку шляпы задетый косым утренним солнцем, машинный мастер подле своего велосипеда, скручивал сигарету и смотрел в сторону конуры, в то время, как я, с горбушкой и при муссе, сверху смотрел на Туллу, конуру опуская, только с Туллы не сводя глаз, с нее и ее спины. Тулла меж тем вяло и сонно, свесив голову и космы, поползла вдоль канавки и остановилась, все еще не поднимая головы, на уровне коричневой глазурованной фаянсовой миски, содержимое которой покрывал аккуратный, целенький кружок жира.
Все то время, что я наверху замер, не жуя, все то время, что мастер, чья шляпа все больше и больше выползала из тени на свет, обеими руками пытался закурить свою кульком свернутую цыгарку, — три раза у него отказала зажигалка, — Тулла стояла, уткнувшись лицом в песок, потом медленно и опять как-то от бедра повернулась, не поднимая головы со спутавшимися, в опилках, волосами. Когда ее лицо оказалось над кружком жира, кружок этот, будь он зеркальцем и отразись в нем это лицо, обмер бы от ужаса. Да и я, сидя наверху, все еще не решался жевать. Едва заметно Тулла переместила вес своего тела с обеих рук на одну левую, покуда левая ее кисть, опирающаяся на землю, совсем не исчезла из моего поля зрения, скрывшись за ее туловищем. И в тот же миг, откуда ни возьмись, ее правая рука уже потянулась к миске — только тогда я снова окунул свою горбушку в сливовый мусс.
Машинный мастер размеренно курил, прислюнив цыгарку к нижней губе и пуская дым вверх, где его выхватывало из тени лучами низкого солнца. Туллина напрягшаяся левая лопатка выпирала под бело-голубой клетчатой байкой. Харрас, не поднимая головы с передних лап, медленно приоткрыл сперва правый, потом левый глаз и посмотрел на Туллу; она выставила правый мизинец — он медленно, одно за другим, прикрыл оба века. Теперь, когда солнце тронуло оба его уха, в темном нутре конуры были видны промельки вспыхивающих и исчезающих мух.
Покуда солнце взбиралось по небу, а где-то по соседству горланил петух, — кур в округе держали, — Тулла приставила правый мизинец точнехонько к середке жирного крута и с неспешной осторожностью принялась буравить в нем дырку. Я отложил горбушку. Машинный мастер сменил опорную ногу, снова упрятав лицо в тень. Это я хотел видеть — как Туллин мизинец пробуравит застывшую корку и провалится в отвар, отчего корка сразу пойдет трещинами; но я не увидел, как Туллин мизинец проваливается в отвар, и кружок жира не пошел прихотливыми трещинами, а в целости и сохранности, желтоватым кругляшом, прилепился к Туллиному мизинцу и так извлекся из миски. Она высоко подняла этот целехонький, с крышку пивного бочонка величиной, диск, замахнулась от плеча, тряхнув в семичасовом утреннем небе волосами и опилками, присовокупив к замаху жутковатый прищур сморщенного недетского лица, и запустила его во двор, в направлении машинного мастера; там, в песке, он разлетелся на куски сразу и безвозвратно, распался в пыли ломтями, а некоторые осколки, превратившись в жирные песочные шарики, вырастая по пути, точно маленькие снежные комья, докатились до самых ног молча дымящего машинного мастера и до колес его велосипеда с новым велосипедным звонком.
Когда мой взгляд от разбитого кружка жира возвращается обратно к Тулле, она, костлявая и прямая, но по-прежнему как ледышка, стоит на коленях в лучах солнца. Все пять пальцев левой, затекшей руки она сжимает и разжимает во всех их трех суставах. На раскрытой правой ладони она держит донышко миски и медленно подносит край миски ко рту. Она не пригубливает, не пробует, не рассусоливает. Не отрываясь, в один присест Тулла пьет отвар из сердца, селезенки, почек, печени со всеми его косматыми пенками и прочими маленькими радостями, с крошечными хрящиками с самого дна, с кошнадерским майораном и свернувшимися сгустками почечной крови. Тулла пьет до дна; подбородок толкает вверх миску. Миска тянет за собой руку, прилепившуюся ко дну, втаскивая ее в косые лучи солнца. Открывается и все больше вытягивается запрокинутая шея. Голова с копной волос и опилками в волосах плавно ложится на загривок и замирает. Близко посаженные глаза остаются закрытыми. Туллин бледный, тощий, хрящеватый детский кадык работает до тех пор, пока миска не ложится на ее лицо, а рука, отпустив донышко, не перестает затенять миску от солнца. Перевернутая миска закрывает собой прищуренные глаза, отороченные коростой ноздри, наконец-то утоленный рот.
По-моему, я был счастлив тогда, сидя в пижаме у нашего кухонного окна. От сливового мусса зубы у меня заиндевели. В спальне родителей настырный будильник приканчивал отцовский сон. Внизу машинному мастеру пришлось прикурить еще раз. Харрас приподнял веки. Тулла позволила миске скатиться с лица. Миска упала на песок. Она не разбилась. Тулла медленно опустилась на обе руки. Несколько крупных опилок, выплюнутых сварливой фрезой, лежали перед ней желтыми крошками. Как и прежде, от бедра, она повернулась примерно на девяносто градусов и вползла — грузно, тягуче, сыто — в косую солнечную полосу, дотащила солнце на спине до конуры, на пятачке перед лазом в конуру развернулась и задним ходом, свесив голову и волосы, вместе с плоским, золотящим волосы и опилки солнцем, протиснулась внутрь.
Только тут Харрас снова закрыл глаза. Вернулись пестрые мухи. Мои заиндевелые зубы. Его черный, встопорщенный вокруг ошейника воротник, который никаким светом не высветлить. Утренняя возня моего встающего отца. Воробьи вразброс вокруг пустой миски. Клочок ткани, бело-голубой, в клеточку. Пряди волос золотистое мерцание опилки лапы мухи уши сон утреннее солнце: рубероид нагревался и начинал пахнуть.
Машинный мастер Дрезен тронул, наконец, велосипед и повез его к полузастекленной двери машинного цеха. На ходу он медленно качал головой — слева направо и справа налево. В машинном цехе его ждали дисковая пила, ленточная пила, фреза, выпрямитель и строгальный станок — остывшие и изголодавшиеся. Отец в туалете сосредоточенно кашлял. Я Тихонько сполз с кухонной табуретки.
К вечеру пятого дня Туллы в собачьей конуре,
в пятницу, столярных дел мастер попытался стронуть Туллу с места. Его пятнадцатипфенниговая сигара, «Фельфарбе», торчала по отношению к его добропорядочному лицу под прямым углом и каким-то образом скрадывала — отец стоял в профиль — выпуклость его пуза. Этот статный человек сперва уговаривал Туллу по-хорошему. Доброта лучшая приманка. Потом он заговорил требовательней, раньше времени уронил столбик пепла с дрогнувшей сигары, отчего выпуклость пуза сразу обозначилась резче. Он пригрозил наказанием. Когда он переступил полукруг, радиус которого был отмерян собачьей цепью, и вынул из карманов свои сильные мастеровые руки, Харрас в брызгах опилок вылетел из конуры, натянул цепь и передними лапами бросил всю свою смоляную черноту прямо столярных дел мастеру на грудь. Мой отец покачнулся назад и побагровел с лица, на котором все еще, но уже не слишком отчетливо, различался остаток сигары. Он схватил обрешеточную рейку из тех, что стояли возле пильных козел, но Харраса, который без всякого лая упруго испытывал цепь на разрыв, бить не стал, предпочел опустить свою мастеровую руку с рейкой, а отлупил лишь полчаса спустя, и не рейкой, а голой рукой, ученика Хоттена Шервинского, потому что Хоттен Шервинский, согласно рапорту машинного мастера, своевременно не чистит и не смазывает фрезу; кроме того, утверждалось, что вышепоименованный ученик присвоил дверные петли и килограмм дюймовых гвоздей.
Следующий день Туллы в собачьей конуре,
уже шестой, был субботним. Август Покрифке в своих деревянных башмаках составил вместе пильные козлы, убрал Харрасовы какашки и принялся подметать и разрыхлять граблями двор, оставляя на песке не то чтобы безобразные, а просто глубокие и незамысловатые узоры. С ожесточением он снова и снова водил граблями возле опасного полукруга, отчего взрыхленный песок в этом месте становился все темней. Тулла не показывалась. Писала она, когда ей приспичивало — а она привыкла мочиться примерно раз в час — прямо в опилки, которые Август Покрифке каждый вечер так и так менял. Однако вечером шестого Туллиного дня в собачьей конуре он не рискнул обновить опилочное ложе. Как только он в своих стоеросовых деревянных башмаках, с совком и березовым веником, с корзиной, полной мельчайших опилок из-под фрезы и шлифовального станка, сделал первый мужественный шаг через разрытый лапами полукруг, обозначив свое присутствие и намерение привычной, ежевечерне повторяемой присказкой «умница, умница, будь умницей» — из конуры донеслось не то чтобы злобное, а скорее предупредительное рычание.
В ту субботу опилки в собачьей конуре поменять не удалось; не удалось Августу Покрифке и спустить сторожевого пса Харраса с цепи. Со злой собакой на привязи да при тощей луне столярная мастерская осталась на всю ночь считай что без охраны; но воры к нам не залезли.
В воскресенье,
в Туллин седьмой день в собачьей конуре, у Эрны Покрифке созрела одна задумка. Эрна появилась после завтрака, левой рукой волоча за собой стул, четвертая ножка которого, пересекая вчерашние грабельные узоры эрниного мужа, прорезала в них глубокую, решительную борозду. В правой руке она несла собачью миску, до верху наполненную бугристыми говяжьими почками и надвое разрезанными бараньими сердцами: сердечные желудочки выворачивали напоказ все свои аорты, связки, жилы и гладкие внутренние стенки. В почтительном шаге от полукруга, прямо против входа в конуру, она долго и тщательно устанавливала стул, потом, наконец, уселась и съежилась, вся скособоченная, кривая, с зыркающими крысиными глазками и маленькой, скорее обкарнанной, чем постриженной головкой, в черном воскресном платье. Из пристегнутой спереди матерчатой сумочки она извлекла вязанье и принялась вязать, наставляя острые спицы на собачью конуру, на Харраса и на свою дочь Туллу.
Мы, то есть столярных дел мастер, моя мать, Август Покрифке вместе с сыновьями Александром и Зигесмундом, полдня простояли у кухонного окна, глазея во двор то все скопом, то поодиночке. Да и в других квартирах в окнах, что выходят во двор, торчали сидя и стоя жильцы и дети жильцов — а в окне первого этажа одна, потому что одинокая, сидела старушка мамзель Добслаф и тоже глазела во двор.
Я сменить себя не давал и стоял безотлучно. Ни игрой в «братец не сердись», ни воскресным пирогом с корицей меня от окна было не оттащить. Стоял ласковый августовский день, а назавтра начиналась школа. Нижние створки наших двойных окон мы по настоянию Эрны Покрифке закрыли. Квадратные же верхние были слегка приотворены и впускали в нашу кухню-столовую свежий воздух вперемешку с мухами и гарканьем соседского петуха. Все шумы на улице, включая звуки трубы с Лабского проезда, где каждое божье воскресенье какой-то чудак разучивал на чердаке одного из домов свои пассажи, то и дело менялись. Неизменным оставалось только тихое неживое шуршание, перестук, бормот, причмокивание и сюсюканье — какое-то въедливо-гнусавое, с присвистом, словно ветер гуляет в ветвях кошнадерского ольшаника, и перепляс бесчисленных спиц, жемчужные четки, скомканный лист разглаживается сам собой, мышка-норушка точит зубки, соломинка к соломинке жмется: мамаша Покрифке не просто вязала, наставив на конуру спицы, она ворожила, пришепетывала, шушукала, прищелкивала языком, стрекотала и присвистывала в ту же сторону. Я видел в профиль ее тонкие губы, ее скачущий, пилящий и вдалбливающий, то грозно выставленный, то кротко спрятанный подбородок, ее семнадцать пальцев и четыре неугомонных попрыгуньи-спицы, из-под которых в ее тафтяном черном подоле вырастало что-то голубенькое, предназначенное безусловно для Туллы — Тулла потом это и носила.
Собачья конура со своими обитателями не подавала признаков жизни. В самом начале, когда вязание и причитания только набирали силу и явно не думали прекращаться, Харрас вяло и не поднимая глаз вышел из будки. Зевнув до хруста и сладко потянувшись, он направился к миске с мясом, по пути, судорожно присев, выдавил из себя свою тугую колбаску, потом и лапу не забыл поднять. Миску он зубами подтащил к конуре, заглотил там, нетерпеливо пританцовывая задними лапами, говяжьи почки и бараньи сердца со всеми их вывернутыми изнанками, но при этом так искусно заслонял вход в конуру, что понять, отведала ли Тулла вместе с ним от сердец и почек, было невозможно.
К вечеру Эрна Покрифке вернулась в дом с почти готовой голубой вязаной кофточкой. Мы боялись спрашивать. «Братец не сердись» был срочно убран со стола. Пирог с корицей остался недоеденным. После ужина отец строго встал, сурово посмотрел на пейзаж маслом с кужской ольхой посередине и сказал, что пора, наконец, что-то с этим делать.
На следующий день,
утром в понедельник, столярных дел мастер собрался идти в полицию; Эрна Покрифке, расставив для упора ноги и надрывая горло, костерила его на чем свет стоит, назвав, среди прочего, сраной жабой-вонючкой; один я, уже с ранцем за плечами, стоял на своем наблюдательном посту у кухонного окна. И тут я увидел, как Тулла, вся тощая, качаясь от слабости, в сопровождении понурившего голову Харраса, покидает собачью конуру. Сперва она ползла на четвереньках, потом распрямилась совсем как человек и неверным шагом — Харрас не решился стать ей поперек дороги — перешагнула разрытый его лапами полукруг. На двух ногах, чумазая, серая, но местами добела вылизанная длинным собачьим языком, она почти на ощупь добрела до калитки.
Харрас лишь один раз взвыл ей вслед, но его вой легко заглушил истерический крик дисковой пилы.
Покуда для меня и Туллы,
для Йенни и всех других школьников возобновились занятия, Харрас потихоньку снова вжился в свою судьбу сторожевого пса, в унылые будни, монотонный ход которых не нарушило даже известие, пришедшее недели три спустя и означавшее, что племенной кобель Харрас в очередной раз заработал для моего отца, столярных дел мастера Либенау, еще двадцать пять гульденов. Тот визит в питомник служебных собак полицейского отделения Верхний Штрис, несмотря на всю его краткосрочность, принес свои результаты. А еще спустя некоторое время из специального, «строго для служебного пользования в полицейских питомниках служебного собаководства» изготовленного формуляра, присланного нам по почте, нам стало известно, что сука Текла, порода немецкая овчарка, из Шюдделькау, владелец — собаковод Альбрехт Лееб, регистр. номер 4356, принесла пять щенков. А потом, еще несколько месяцев спустя, после Рождества, нового года, снега, оттепели, снова снега, еще одного, долгого снега, после первых весенних ручейков, после раздачи в школе пасхальных выпускных свидетельств, — всех перевели, — после еще какого-то времени, когда вообще ничего интересного не происходило, — ну, разве что стоит упомянуть о несчастном случае в нашем машинном цехе, когда ученик Хоттен Шервинский, работая на дисковой пиле, лишился среднего и указательного пальцев левой руки, — вдруг пришло то самое заказное письмо, в котором за подписью гауляйтера Форстера[132] — то бишь самого главного партийного начальника всего округа Данциг — сообщалось, что Управлением округа из питомника служебных собак полицейского отделения Верхний Штрис приобретен молодой кобель-овчарка по кличке Принц из выводка Фалько, Кастор, Бодо, Мира, Принц от суки Теклы из Шюдделькау, владелец — собаковод А. Лееб, Данциг-Ора, и кобеля Харраса из Никельсвальде, мельница Луизы, владелец — собаковод Фридрих Либенау, столярных дел мастер из Данциг-Лангфура, во исполнение решения, принятого от имени Партии и всего немецкого населения немецкого города Данциг: Вождю и Канцлеру Рейха по случаю сорок шестой годовщины со дня его рождения[133] подарить кобеля-овчарку по кличке Принц, сформировав для вручения подарка официальную делегацию. Вождь и Канцлер Рейха к предложению отнесся доброжелательно, согласен принять подарок округа Данциг и будет держать овчарку по кличке Принц вместе с другими своими собаками.
К заказному письму было приложено небольшое, формата открытки, фото Вождя с его собственноручной подписью. На фото он был запечатлен в национальной одежде верхнебаварских крестьян, только деревенский сюртук был немного улучшенного, городского покроя. В ногах у него улеглась дымчато-серая на фото овчарка со светлыми, вероятно желтыми разводами на груди и холке. На заднем плане громоздились горные массивы. Вождь весело улыбался кому-то, кого на фотографии видно не было.
Письмо и фотография Вождя — и то, и другое было немедленно окантовано и застеклено в нашей мастерской — долго ходили по рукам в соседних домах и возымели то действие, что сперва мой отец, потом Август Покрифке, а после и некоторое число соседей вступили в партию, а помощник столяра Густав Милявске — проработал у нас больше пятнадцати лет, спокойный умеренный социал-демократ — уволился и лишь два месяца спустя, после долгих уговоров моего отца, снова согласился встать к нашему строгальному станку.
Тулла получила от моего отца новый ранец. Мне подарили в полном комплекте форму «юнгфолька». А Харрас получил новый ошейник, но содержать его лучше не стали, потому что его и так содержали лучше некуда.
Дорогая Тулла,
возымела ли внезапная карьера нашего сторожевого пса для нас какие-нибудь последствия? Мне Харрас принес школьную славу. Меня вызвали к доске и попросили рассказать. Конечно, нельзя было говорить о случке, покрытии, свидетельстве о вязке и вознаграждении за вязку, про отмеченную в племенной книге «радостную готовность» нашего Харраса к покрытию и про «ответный пыл» суки Теклы. Как послушный и наивный пай-мальчик я должен был что-то сюсюкать — и с удовольствием сюсюкал — о папе Харрасе и маме Текле, о собачьих детках Фалько, Касторе, Бодо, Мире и Принце. Барышня Шполленхауэр хотела знать буквально все:
— А почему господин Руководитель края подарил нашему Вождю маленького щенка Принца?
— Потому что у Вождя был день рожденья и он давно хотел, чтобы ему подарили собаку из нашего города.
— А почему маленькому щенку Харрасу в Оберзальцберге[134] так хорошо живется, что он уже совсем не скучает по своей собачьей маме?
— Потому что наш Вождь любит собак и всегда хорошо с ними обращается.
— А почему все мы радуемся тому, что маленький щенок Принц теперь у Вождя?
— Потому что Харри Либенау учится в нашем классе!
— Потому что овчарка Харрас — это собака его папы!
— Потому что Харрас — папа маленького щенка Принца!
— И еще потому, что для нашего класса, для всей нашей школы и для нашего прекрасного города это большая честь.
Ты видела, Тулла,
как весь наш класс вместе со мной и во главе с барышней Шполленхауэр явился на наш столярный двор с экскурсией? Нет, ты была в школе и не видела.
Полукругом стоял наш класс вдоль того полукруга, которым Харрас очертил свои владения. Мне еще раз нужно было повторить весь мой отчет, после чего барышня? Шполленхауэр попросила отца в свою очередь тоже что-нибудь рассказать детям. Столярных дел мастер, высказав предположение, что о политической карьере пса класс осведомлен, поведал кое-что о родословной нашего Харраса. Он говорил о суке Сенте и кобеле Плутоне. Оба такой же черной масти, как Харрас, а теперь вот и маленький Принц, и оба были родителями Харраса. Сука Сента принадлежит мельнику из Никельсвальде, это в устье Вислы.
— Никому, детки, в Никельсвальде бывать не доводилось? Я туда по узкоколейке добирался, а мельница там не простая, а историческая, потому что на ней переночевала королева Пруссии Луиза, когда ей пришлось от французов бежать. — Под мельничными козлами, — так сказал столярных дел мастер, — он и нашел шесть кутят. — Так, дети, называют маленьких собачьих детенышей, — и одного маленького щенка он там у мельника Матерна купил. — Это и был наш Харрас, который всегда, а в последнее время особенно, дарил нам столько радости.
Где ты была, Тулла,
когда мне, под присмотром машинного мастера, было позволено провести наш класс по машинному цеху? Ты была в школе и не могла видеть и слышать, как я перечислял одноклассникам и барышне Шполленхауэр названия всех машин. Это фреза. А это шлифовальный станок. Ленточная пила. Строгальный станок. Дисковая пила.
Вслед за тем мастер Дрезен рассказал детям про сорта древесины. Он говорил о разнице между древесиной торцовой и продольной, стучал по несортице, сосне, груше, дубу, клену, буку и мягкой липе, Долго распинался о ценных породах и о годичных кольцах на древесных стволах.
Потом нам пришлось еще спеть на столярном дворе песню, которую Харрас слушать не пожелал.
Где была Тулла,
когда главный руководитель сектора Гепферт вместе с руководителем подсектора[135] Вендтом и несколькими руководителями рангом пониже посетили наш столярный двор? Мы оба были в школе и не присутствовали при этом визите, во время которого было решено присвоить одному из вновь создаваемых отрядов «юнгфолька» имя Харраса.
Тулла и Харри не присутствовали и тогда,
когда после ремовского путча[136] и кончины престарелого господина в Нойдеке[137], в Оберзальцберге, в приземистой, искусно подделанной под крестьянскую избе за задернутыми пестрыми баварскими занавесками из набивного ситца состоялась знаменательная встреча; зато присутствовали госпожа Раубаль[138], Рудольф Гесс[139], господин Ханфштенгель[140], данцигский руководитель штурмовых отрядов Линсмайер, Раушнинг[141], Форстер, Август Вильгельм Прусский[142], для краткости именуемый просто «Авви», длинный Брюкнер[143] и предводитель всех крестьян Рейха Даре[144] — и слушали Вождя, и Принц там был тоже. Принц от нашего Харраса, которого родила Сента, а Сенту зачал Перкун.
Ели яблочный пирог, который испекла госпожа Раубаль, и говорили о путче, об «огнем и мечом», о Штрассере, Шляйхере[145], Реме, да-да, мечом и огнем. Потом поговорили о Шпенглере[146], Гобино[147] и о протоколах сионских мудрецов[148]. Потом Герман Раушнинг совершенно ошибочно назвал Принца «великолепным черным волкопсом». Потом эту ерунду повторял за ним чуть ли не каждый историк. Между тем — и это подтвердит любой кинолог — есть только одна разновидность волкопса, ирландский волкопес, и от немецкой овчарки он отличается весьма существенно. Удлиненная и узкая форма черепа ясно указывает на его родство с дегенерирующими борзыми. Рост его в холке составляет восемьдесят два сантиметра, что на восемнадцать сантиметров больше, чем у нашего Харраса. У ирландского волкопса псовина длинношерстная. Маленькие складчатые уши не стоят торчком, а обвисают. Словом, это типично репрезентативная собака, скорее предмет роскоши, Вождь никогда не стал бы держать такую в своей псарне; чем раз и навсегда доказывается, что Раушнинг заблуждался — не ирландский волкопес нервно терся о ноги уплетающих пирог гостей, а Принц, наш Принц слушал их беседы и, верный как собака, тревожился за своего хозяина; ибо Вождь имел основания опасаться за свою жизнь. Подлое покушение может таиться в любом куске пирога. Он боязливо пригублял свой лимонад и его часто, без видимой причины, подташнивало.
Но Тулла была тут как тут,
когда к нам приходили журналисты и фотографы. Не только «Форпост» и «Последние новости» прислали своих корреспондентов. Из Эльбинга и Кенигсберга, Шнайдемюля и Штеттина, даже из столицы Рейха объявлялись бойкие господа и по-спортивному одетые дамы. Один лишь Брост, редактор запрещенного вскоре «Голоса народа», отказался брать интервью у нашего Харраса. Зато во множестве приезжали сотрудники религиозных печатных органов и специальных журналов. Газетенка Объединения друзей немецкой овчарки прислала кинолога, которого мой отец, столярных дел мастер, вынужден был попросту выставить со двора. Потому что этот собачий дока сразу начал придираться к родословной нашего Харраса: дескать, и клички-то давались безобразно, против всех правил собаководства, и нет, мол, никаких сведений о суке, от которой родилась Сента; и хотя само по себе животное совсем неплохое, придется в полемическом духе написать о таком варварском способе его содержания, как раз потому, что речь идет об исторической собаке и тут, мол, требуется большое чувство ответственности.
Одним словом: в полемическом ли, в безудержно-восторженном стиле — о Харрасе писали, печатали, его фотографировали. Не обошли молчанием и столярную мастерскую с машинным мастером, подмастерьями, подсобными рабочими и учениками. Высказывания моего отца, такие к примеру: «Мы простые ремесленники, делаем свое дело, и конечно нас радует, что наш Харрас…» — эти скромные речи рядового мастера-столяра приводились дословно, нередко прямо под фотографиями.
По моим прикидкам, сольное фото нашего Харраса печаталось в газетах раз восемь. Еще раза три он запечатлен с моим отцом, один раз, на групповом снимке, вместе со всей столярной мастерской; но ровно двенадцать раз вместе с Харрасом в немецкие и зарубежные газеты попала Тулла — худенькая, на тонюсеньких ножках-спичках, она стояла рядом с Харрасом и не шевелилась.
Дорогая кузина,
и при этом ты ведь сама ему помогала, когда он к нам переезжал. Ты сама перенесла стопки нот и фарфоровую танцовщицу. Ибо если четырнадцать квартир в нашем доме остались при своих жильцах, то старая мамзель Добслаф освободила левую квартиру в первом этаже, окна которой выходили, а иногда и открывались во двор. Она съехала со всеми своими отрезами и пронумерованными фотоальбомами, с мебелями, из которых сыпалась древесная труха, — перебралась в Шенварлинг к сестре; а учитель музыки Фельзнер-Имбс с черным пианино и горами пожелтевших нот, с золотой рыбкой и песочными часами, с бесчисленными фото знаменитых артистов и музыкантов, с фарфоровой статуэткой в фарфоровой балетной пачке, что застыла на мысочке фарфоровой балетной туфельки в одной из классических балетных поз, въехал в освободившуюся квартиру, даже не поменяв поблекшие обои в гостиной и аляповатые с цветами в спальне. К тому же эти бывшие добслафские комнаты были сами по себе темные, так как шагах в семи от их окон громоздилась и отбрасывала тень торцевая стена столярной мастерской с лепившейся к ней наружной лестницей на верхний этаж. Кроме того, между домом и мастерской росли два куста сирени, которые из весны в весну процветали. С разрешения отца мамзель Добслаф огородила оба куста садовым заборчиком, что ничуть не мешало Харрасу оставлять свои пахучие метки и в ее палисаднике. Однако съехала старушка-мамзель не из-за собачьего самоуправства и не из-за темноты в квартире, а потому что родом была из Шенварлинга и там же хотела умереть.
Даже если ученики приходили к нему утром или сразу после обеда, когда на улице еще вовсю справлял оргии солнечный свет, Фельзнер-Имбсу приходилось зажигать электричество в зеленоватом бисерном абажуре. Слева у парадной двери он распорядился на деревянных пробках прибить эмалированную табличку; «Феликс Фельзнер-Имбс, концертирующий пианист и дипломированный учитель музыки». Не прошло и двух недель с тех пор, как этот неопрятный человек поселился в нашем доме, а к нему уже стали ходить первые ученики, несли с собой деньги за урок и даммовскую «Школу игры на фортепьяно», понуро бренчали при свете лампы — правой-левой-теперь двумя руками-и еще раз — свои гаммы и этюды, пока в верхней колбе больших песочных часов на пианино не оставалось больше ни песчинки и они на средневековый манер оповещали, что урок окончен.
Богемного бархатного берета у Фельзнер-Имбса не было. Зато белая, как лунь, к тому же припудренная, пышная и развевающаяся шевелюра волнами ниспадала ему на шею и воротник. В промежутках между уроками он эту свою артистическую гриву причесывал. И когда на лысой, совсем без деревьев площади Нового рынка озорной порыв ветра трогал его шевелюру, он тут же выхватывал из просторного пиджачного кармана щеточку и во время процедуры ухода за своими удивительными волосами даже собирал вокруг себя зрителей: домохозяек, школьников, нас. Когда он причесывал волосы, взгляд его голубовато-белесых, совсем без ресниц глаз подергивался дымкой чистейшего высокомерия и витал под сводами воображаемых концертных залов, где воображаемая публика все не могла уняться, аплодируя его, концертирующего пианиста Фельзнер-Имбса, виртуозному мастерству. Зеленоватый свет из-под бисерного абажура падал на его шевелюру — ни дать ни взять Оберон, умевший, кстати, интерпретировать отрывки из одноименной оперы[149], он ворожил на своей прочной вертящейся табуреточке, превращая учениц и учеников в водяных и русалок.
При том, что слух у этих юных дарований, восседавших перед раскрытой «Школой игры на фортепьяно», был, надо полагать, поистине тончайший, ибо только очень изощренное ухо способно было из неумолчных и неустанных арий фрезы и дисковой пилы, из переменчивых рулад шлифовального и строгального станков, из наивного одноголосья ленточной пилы выхватывать в их девственной чистоте ноты гамм и вбивать их под строгим безресничным взглядом Фельзнер-Имбса в клавиатуру. Поскольку этот машинный концерт, если стоять во дворе, играючи подминал под себя даже безудержное фортиссимо ученических рук, метавшихся по клавишам, зеленый салон за сиреневыми кустами весьма напоминал аквариум — там царила бурная, но совершенно бесшумная жизнь. Золотая рыбка учителя в круглом стеклянном шаре на лакированной подставке усилить впечатление аквариума уже не могла и была в этом смысле деталью, пожалуй, даже излишней.
Особое значение Фельзнер-Имбс придавал правильной постановке рук. Фальшивые ноты при известной доле удачливости могли утонуть в сытом, но по-прежнему всепоглощающем сопрано дисковой пилы, однако если ученик при исполнении этюда, при тоскливом повторении гамм ненароком прикасался подушечками ладоней к черным клавишам и без того черного инструмента, не соблюдя требуемую, сугубо горизонтальную постановку кисти, — никакой столярный шум эту очевидную формальную оплошность от зоркого учителя укрыть не мог. К тому же Фельзнер-Имбс разработал особый педагогический метод: ученику, которому предстояло отработать повинность в гаммах, поперек каждой кисти клался сверху карандаш. Всякий огрех, малейшее прикосновение утомленной руки к дереву — и карандаш падал, неопровержимо доказывая, что испытание не выдержано.
Такой же контрольный карандаш приходилось держать на обеих пухлых, блуждающих по тропкам гамм ручках и Йенни Брунис, приемной дочке старшего преподавателя из дома, что наискосок напротив нашего; ибо через месяц после того, как учитель музыки к нам въехал, она стала его ученицей.
Ты и я,
мы смотрели на Йенни из сиреневого палисадника. Мы приплющивали лица к оконным стеклам тинисто-зеленого аквариума и смотрели, как она там сидит: толстая, пухленькая, в коричневой фланели на вертящейся табуреточке. Пышный бант, как огромная лимонница, — на самом деле бант был белый, — уселся на ее светло-каштановые, гладко ниспадающие до плеч волосы. И если другие ученики достаточно часто получали весьма чувствительный удар по руке только что свалившимся карандашом, Йенни, чей карандаш тоже иногда падает на белую медвежью шкуру под пианино, может не опасаться даже укоризненного взгляда, — в крайнем случае Фельзнер-Имбс посмотрит на нее озабоченно.
Возможно, Йенни и вправду была очень музыкальна — ведь мы, Тулла и я, по ту сторону оконного стекла, с фрезой и дисковой пилой за затылком, редко слышали разве что одну-две нотки; к тому же мы и по складу натуры не слишком, наверно, были способны отличить вдохновенно преодоленные музыкальные гаммы от понуро-вымученных; как бы там ни было, но пухленькому созданию из дома напротив гораздо раньше, чем другим ученикам Фельзнер-Имбса, было дозволено прикасаться к клавишам обеими руками сразу; да и карандаш летел вниз все реже и реже, покуда не был во всей своей дамокловой красе и строгости окончательно отложен в сторону. При желании уже можно было сквозь вопли и рев ежедневной, фрезой и пилой наяривающей, фистулой и фальцетом завывающей столярной оперы скорее угадать, нежели расслышать нежные мелодии даммовского учебника: «Зима пришла», «Охотник из Пфальца», «Иду я на Неккар, иду я на Рейн»[150]…
Тулла и я,
мы хорошо помним, что Йенни была любимицей. Если занятия всех других учеников зачастую обрывались прямо на полуаккорде какой-нибудь «Стрелы в моем луке»[151], потому что последняя песчинка средневековых песочных часов говорила свое «аминь», то когда кукольно-пухленькая Йенни овладевала на вертящейся табуреточке музыкальными знаниями, ни учитель, ни ученица песочных часов не наблюдали. А когда еще и толстый Амзель завел привычку сопровождать толстую Йенни на уроки музыки, — Амзель ведь был любимым учеником старшего преподавателя и в дом напротив ходил запросто, — случалось, что следующему ученику приходилось целую четверть песочного часа дожидаться в сумрачной глубине музыкальной гостиной на одутловатой софе, прежде чем наступала его очередь; ибо Эдди Амзель, который в интернате Конрадинума брал когда-то уроки музыки, любил бок о бок с зеленогривым Фельзнер-Имбсом в четыре руки лихо отбацать какую-нибудь «Прусскую славу», «Финский кавалерийский» или «Боевые товарищи»[152].
А кроме того, Амзель еще и пел. Не только в гимназическом хоре победоносно звенел его верхний голос, но и в досточтимой церкви Святой Марии, чей средний неф раз в месяц полнозвучно и радостно принимал под свои своды кантаты Баха, он пел в церковном хоре. Замечательный верхний голос Амзеля открыли, когда решено было исполнить ранний шедевр Моцарта, «Мисса Бревис». Мальчишеское сопрано искали по всем школьным хорам. Мальчишеский альт у них уже был. Всеми уважаемый руководитель хора, когда он отыскал Амзеля, пришел в восторг:
— Воистину, сын мой, ты затмишь знаменитого кастрата Антонио Чезарелли, который в свое время, при первом исполнении мессы, давал ей свой голос. Я слышу, как ты воспаряешь на «Бенедиктусе», как ликуешь на «Dona nobis»[153], да так, что любой поймет: такому голосу даже под сводами Святой Марии тесно!
Хотя в ту пору мистер Лестер[154] еще представлял в Вольном городе Лигу наций, из-за чего все расовые законы на границах карликового государства[155] в беспомощности и недоумении останавливались. Эдди Амзель, по рассказам, уже тогда на это ответил:
— Но господин профессор, говорят, я наполовину еврей.
Профессор на это:
— Да что ты, мой мальчик, какой ты еврей, ты сопрано и будешь у меня запевать «Господи помилуй».
Лапидарный этот ответ вошел в историю и еще долгие годы с почтением цитировался в кругах, близких к консервативному Сопротивлению.
Как бы там ни было, а мальчишеское сопрано репетировало трудные места из «Мисса Бревис» в зеленой музыкальной гостиной учителя музыки Фельзнер-Имбса. Мы оба, Тулла и я, как-то раз, когда пила и фреза вдруг на пару взяли передышку, слышали этот голос — он добывал из своих недр чистое серебро. Тонкие, как дыхание, острые ножички кололи и резали воздух. Гвозди плавились. Воробьи — и те устыдились. Даже в наших доходных домах повеяло набожностью, потому что толстый ангел все тянул и тянул «Dona nobis».
Дорогая кузина Тулла,
только потому, что Эдди Амзель стал ходить в наш дом, понадобилось это, нудное, как гаммы, введение. Поначалу он приходил только с Йенни, потом стал водить с собой своего насупленного дружка. Вообще-то Вальтера Матерна можно было считать нашим дальним родственником, потому что овчарка его отца Сента приходилась матерью нашему Харрасу. Мой отец, завидя юношу, тут же начинал расспрашивать о самочувствии и успехах мельника и об экономическом положении Большой поймы вообще. Отвечал ему, как правило, Эдди Амзель, который и в экономике был подкован, рассуждал обстоятельно, приводя примеры и факты, в свете которых план Партии и Сената по расширению занятости выглядел несбыточным. Он рекомендовал смычку со стерлинговым блоком, иначе не избежать чувствительной девальвации гульдена. Эдди Амзель даже цифры называл: дескать, придется считаться с падением гульдена на сорок два с чем-то процента, а польский импорт подорожает процентов на семьдесят; даже дату девальвации можно, мол, уже сейчас предположить где-то в первых числах мая; а все эти даты и цифры он, якобы, позаимствовал у отца Матерна, мельника, тот всегда все наперед знает. Излишне говорить, что все предсказания мельника второго мая тридцать пятого года полностью сбылись.
Амзель и его товарищ были тогда уже в выпускном классе и потихоньку приближались к экзаменам. Оба уже ходили во взрослых костюмах с настоящими длинными брюками, пили возле спортзала или в пивнушке на Цинглерской горке дешевое пиво, а про Вальтера Матерна, который к тому же курил дешевые сигареты «Регата» и «Артур», вообще ходили слухи, что он в прошлом году соблазнил в Оливском лесу ученицу предпоследнего класса из школы имени Елены [156]. Никому бы и в голову не пришло приписывать такие подвиги увесистому Эдди Амзелю. Одноклассники и приглашаемые иногда в компанию барышни считали его, уже из-за одного только нездешнего, в горних высях витающего голоса, тем, что они, не обинуясь, называли словом «евнух». Другие высказывались поделикатней, Эдди, мол, еще слишком инфантилен, в известном смысле он еще существо бесполое. Сколько мне об этом понаслышке известно, Вальтер Матерн, слыша такие разговорчики, долго отмалчивался, пока однажды в присутствии многих однокашников и случившихся с ними барышень не произнес длинную речь, представившую его друга в истинном свете. Амзель, дал он понять, по части девушек и женщин всех ребят за пояс заткнет. Он довольно регулярно ходит к девкам в Столярный переулок, в дом против пивоварни Адлера. И занимается он там этим не как другие, по пять минут, а считается в заведении дорогим гостем, а все потому, что девушки видят и ценят в нем художественную натуру. Амзель, кстати, выполнил там тушью, кисточкой и пером, а сначала и в карандаше, изрядную стопку портретов и актов, причем не каких-нибудь свинских, а таких, что и выставить не стыдно. Потому что с папкой этих рисунков Эдди Амзель без всякого приглашения нанес визит знаменитому профессору живописи, мастеру писать лошадей, Августу Пфуле[157], который в высшей технической школе преподает архитекторам рисунок, и показал ему эти работы; и Пфуле, известный своей суровостью, сразу же признал в Амзеле большое дарование и обещал всяческое содействие.
После такой речи, содержание которой я могу воспроизвести лишь по смыслу, подтрунивания над Амзелем почти вовсе прекратились. На него теперь поглядывали даже с особым уважением. Многие однокашники приставали к нему с требованиями взять их с собой в Столярный переулок, но он эти поползновения дружелюбно, а иногда и с помощью Матерна пресекал. Однако когда Эдди Амзель как-то раз — так во всяком случае мне донесли — предложил своему другу вместе пойти в Столярный переулок, тот, к его изумлению, отмахнулся. Он, мол, не хочет разочаровывать бедных девушек, — так, с не по годам уверенной рассудительностью, он заявил. Дескать, профессионализм в этом деле его отталкивает. У него, мол, ничего не воспрянет. А он от этого только хуже ожесточится, что в конечном счете для обеих сторон будет неприятно. Словом, без любви или на худой конец без страсти тут никак нельзя.
Все эти сильные доводы друга Амзель вроде бы выслушал молча, слегка покачивая головой, после чего, прихватив папку для рисования и изящно упакованную коробку шоколадного ассорти, направился к девушкам в заведение напротив пивоварни Адлера в одиночку. Тем не менее — и если я верно осведомлен — вскоре, в один из унылых декабрьских дней он все же уговорил друга отпраздновать вместе с ним и девушками второй или третий сочельник. Но только на четвертый сочельник Матерн действительно явился. При этом выяснилось вскоре, что профессионализм в девушках отталкивает его так притягательно, что у него, вопреки всем его прогнозам, все воспрянуло, а потом, по школьным ценам и с умелой помощью немногословной девушки по имени Элизабет, успокоилось и улеглось. Воспоминания об этом ее благом деле ничуть, впрочем, не помешали ему по пути домой — сперва по Староградскому рву вверх, потом по Перечному граду вниз — злобно скрежетать зубами и предаваться мрачным размышлениям о продажности баб вообще и в частности.
Дорогая кузина!
Точно с такой же тигровой, шоколадно-коричневой в яично-желтую полоску рисовальной папкой, которая облагораживала его визиты в непотребный Столярный переулок, превращая их в легальные художественные экскурсии, Эдди Амзель в сопровождении Вальтера Матерна приходил и в наш доходный дом. Мы оба видели его в музыкальной гостиной учителя музыки Фельзнер-Имбса, где он, поставив перед собой статуэтку фарфоровой балерины, бросал на бумагу ажурные, как дыхание, эскизы. А в один из умытых, солнечных майских дней я увидел, как он подходит к моему отцу, столярных дел мастеру, указывает на свою тигровую папку и тут же ее раскрывает, предоставляя рисункам говорить самим за себя. И отец сходу дал ему разрешение рисовать нашего сторожевого пса Харраса. Только втолковал ему, чтобы он со всеми своими причиндалами располагался за чертой того полукруга, который канавкой и насыпью достаточно ясно обозначал пределы досягаемости собачьей цепи.
— Собака злая, и художников наверняка не жалует, — так мой отец, столярных дел мастер, сказал.
Однако с первого дня наш Харрас слушался Эдди Амзеля с самого тихого полуслова. Амзель сделал Харраса своей собачьей моделью. Амзель не говорил, к примеру, «Харрас, сидеть!», как это делала Тулла, которая говорила «Сидеть, Харрас!», если нужно было, чтобы Харрас неподвижно сел. С первого дня Амзель игнорировал его собачью кличку Харрас и обращался к нашему сторожевому псу, когда хотел, чтобы тот поменял позу, примерно так:
— Ах, Плутон, не соблаговолите ли вы сперва встать на все четыре лапы, а потом правую переднюю поднять и слегка согнуть, но непринужденно, еще свободнее, пожалуйста. А теперь не будете ли вы так добры повернуть вашу благородную голову овчарки вполоборота налево, вот так, именно так, прошу вас, Плутон, так и оставайтесь.
И Харрас отзывался на кличку Плутон, словно он и вправду весь свой век был адским псом преисподней. Казалось, серый в клеточку, спортивного покроя костюм Амзеля вот-вот лопнет по всем швам под напором его необъятных телес. Макушку его укрывала белая льняная шапочка, придававшая ему невнятное сходство с английским репортером. Но одежка была не новая: все, что носил Амзель, вид имело подержанный да и было подержанное, потому что он, — так рассказывали, — хотя деньги на карманные расходы имел сказочные, покупал только ношеные вещи либо в ломбарде, либо в лавках старьевщиков в Поденном переулке. А ботинки так и вовсе вроде были от почтальона. Он водружался своим широченным задом на маленький, но, судя по всему, невероятно прочный складной стульчик. Но покуда он, оперев на упругую левую ляжку свою папку с прижатым к ней чистым Листом, расслабленной правой рукой как бы от запястья водил по нему своей неизменной густо-черной кисточкой, которая постепенно покрывала лист из левого верхнего угла в правый нижний стремительными, летящими, иногда, впрочем, неудачными, но чаще очень точными и какими-то удивительно свежими зарисовками нашего сторожевого пса Харраса или, как он считал, адского пса Плутона, — вокруг, день ото дня все больше — а Эдди Амзель рисовал у нас во дворе примерно неделю, каждый день после обеда — нагнетались самые разные страсти и осложнения.
Во-первых, поодаль всегда стоял Вальтер Матерн. Одетый в живописные лохмотья — этакий костюмированный пролетарий в злободневной критической пьесе, который заучил наизусть свои обличительные тирады и в третьем акте становится предводителем мятежа, — он у нас во дворе становился, напротив, жертвой дисковой пилы. Подобно нашему Харрасу, который то и дело, особенно в плохую погоду, подхватывал ее напев — только пилы, фрезы никогда — руладами истошного воя, задирая морду к небу, — так и этот молодой человек голос нашей пилы спокойно переносить не мог. Он, правда, голову не задирал и выть не порывался, не произносил и пылких бунтарских монологов, а перемалывал рабочий шум инструмента своим старым излюбленным способом — сухим скрежетом зубовным.
Этот скрежет, однако, действовал на Харраса. Губы его раскрывались, обнажая нехороший оскал. Углы губ подрагивали. Ноздри расширялись. Спинка носа сморщивалась от кончика до самого корня. Знаменитые стоячие, с легким наклоном вперед овчарочьи уши теряли свою уверенную стать и опадали. Харрас поджимал хвост, выгибал спину от холки до крупа трусливым горбом, словом, выглядел просто как побитая собака. И вот в этой позорной позе Эдди Амзель запечатлевал его снова и снова, причем с самой прискорбной достоверностью — то юркой густо-черной кисточкой, то царапающим врастопырку пером, то вдохновенно-брызгучим рапидографом. Наша дисковая пила, скрежещущие зубы Вальтера Матерна и наш Харрас, которого эта пила и этот скрежет превращали в выродка, — все они работали художнику Эдди Амзелю на руку. А все вместе — дисковая пила, Матерн, пес и Амзель — они образовывали примерно столь же слаженную рабочую команду, как авторский коллектив господина Браукселя, где он, я и еще некий соавтор пишут одновременно и должны управиться к четвертому февраля, когда начнется вся эта свистопляска и прочая дребедень со звездами.
Но моя кузина Тулла,
которая, день ото дня разъяряясь все больше, стояла тут же поодаль, больше в стороне оставаться не хотела. Всевластие Амзеля над адским псом Плутоном лишало ее прежней власти над сторожевым псом Харрасом. Не то чтобы пес совсем перестал ее слушаться — он, как и прежде, садился неподвижно, когда она приказывала «Сидеть, Харрас!», — только исполнял эти все более сурово выкрикиваемые команды до того рассеянно и бездумно, что и Тулла сама себе, и я сам себе и Тулле вынуждены были признаться: этот Амзель портит нам собаку.
Тулла,
вне себя от ярости, сперва просто бросалась камушками, не однажды весьма метко попадая Амзелю то в круглую спину, то в мясистый загривок. Он, однако, легким пожатием плеч и вялым поворотом головы всякий раз давал понять, что, хотя камушек его и задел, чувствовать себя задетым он не намерен.
Тулла,
с перекошенным белым лицом, опрокинула его пузырек с тушью. Черная, отсверкивающая металлом лужица долго поблескивала на песке нашего двора и не хотела рассасываться. Амзель достал новый пузырек из кармана и как бы между прочим показал, что у него и третий в запасе.
Когда Тулла,
подкравшись сзади, швырнула горсть мельчайших опилок, из тех, что аппетитной горкой скапливаются в ящичке под кожухом дисковой пилы, на почти законченный, еще влажный и поблескивающий рисунок, Эдди Амзель сперва удивился, потом рассмеялся, раздосадованно и добродушно одновременно, по-отечески погрозил Тулле, которая с отдаления наблюдала за произведенным эффектом, своим толстым пальцем-сарделькой, после чего, все более и более вдохновляясь открывшейся новой техникой, начал обрабатывать прилипшие к бумаге опилки, придавая рисунку то, что в наши дни называют структурой; он мгновенно оценил возможности этой, хотя и забавной, но недолговечной художественной манеры, извлекающей выгоду из случайности, тут же прихватил мелких опилок из ящичка под дисковой пилой, завернул их в носовой платок, добавил туда же мохнатые стружки от фрезы, игривые локоны от строгального станка, остренькие опилки от пилы ленточной и собственноручно, не дожидаясь Туллиных набегов из-за спины, сообщил своему рисунку кисточкой точечно-бугристый рельеф, прелесть которого состояла еще и в том, что некоторая часть прилипших к рисунку древесных крупиц через какое-то время отпадала, обнажая таинственно мерцающие крохотные островки чистой бумаги. Однажды — видимо, он был недоволен своими, слишком нарочитыми стружечно-опилковыми загрунтовками — он попросил Туллу подкрасться сзади и как бы непроизвольно швырнуть на только что законченный лист пригоршню опилок, стружек, можно даже песка. Он многого ожидал от Туллиного соавторства; но та отказалась и изобразила «задернутые занавески».
Моей кузине Тулле никак не удавалось,
ущучить живописца и укротителя собак Эдди Амзеля. И только Август Покрифке сумел нащупать его слабину. С пильными козлами на плече, он не раз останавливался за спиной у художника и, хрустя своими клейкими пальцами, высказывал критические соображения и похвалы, обстоятельно вспоминал другого художника, который в свое время каждое лето приезжал в Кошнадерию и писал маслом Остервикское озеро, «церкву» в Шлангентине и разных кошнадерских обитателей — таких, как Йозеф Бутт из Аннафельда, портной Мусольф из Дамерау и вдова Ванда Йентак. И его тоже за резкой торфа нарисовали, а потом под названием «Резчик торфа» даже в Конице на выставке показывали. Эдди Амзель интерес к собрату по живописи выказал, однако наносить быстрые штрихи на бумагу не бросил. Тогда Август Покрифке оставил Кошнадерию и завел разговор о политической карьере нашего сторожевого пса. Со всеми подробностями он поведал о том, каким образом Вождь у себя в Оберзальцберге оказался владельцем овчарки по кличке Принц. Рассказал и про фотографию с подписью, что висит у нас в красной горнице над горкой грушевого дерева, выпускной работой одного из отцовских подмастерьев, рассказывал, загибая пальцы, сколько раз его дочку Туллу, сфотографированную вместе с Харрасом, а то и посреди большой статьи о Харрасе, в газетах пропечатали. Амзель вместе с ним порадовался ранним успехам Туллы и принялся за новый рисунок сидящего Харраса или Плутона. Август Покрифке выразил уверенность, что уж Вождь-то все сделает, как надо, уж в нем-то можно не сомневаться, ума у него больше, чем у всех прочих вместе взятых, и рисовать он, кстати, тоже умеет. А кроме того, Вождь не из этих, которые только и знают, что важных господ из себя разыгрывать.
— Вождь, он когда в машине-то едет, всегда спереди с нашим братом шофером сидит, а не сзади, как какой-нибудь жидюга.
Амзель счел народную простоту Вождя весьма похвальной и перенес на бумагу уши адского пса с карикатурным преувеличением — они встали совсем уж торчком. Тогда Август Покрифке поинтересовался, состоит ли Амзель пока только в молодежном союзе «Гитлерюгенд» или уже в Партию вступил; потому как где-нибудь, либо тут, либо там Амзель, — так ведь, кажись, его звать — конечно же, состоит наверняка.
Тут Амзель медленно опустил кисточку, проглядел, склонив голову чуть набок, еще раз рисунок сидящего Харраса или Плутона, а затем, повернувшись всем своим круглым, взмокшим, забрызганным веснушками лицом, к вопрошающему, с готовностью ответил, что нет, к сожалению, он нигде никакой не член и о человеке этом — ну-ка, еще раз, как там его зовут? — слышит впервые, но теперь обязательно наведет справки, кто этот господин, откуда родом и какие у него планы на будущее.
Тулла
на следующий день сполна отплатила Амзелю за его неосведомленность. Едва он уселся на своем прочном походном стульчике, едва опер на упругую левую ляжку свою папку с листом бумаги, едва Харрас, он же Плутон, принял свою новую модельную позу — лежа с вытянутыми передними лапами и бдительно-гордо вскинутой головой, — едва кисточка Амзеля обмакнулась в пузырек с тушью и напилась досыта, едва Вальтер Матерн, правым ухом к дисковой пиле, занял свой наблюдательный пост, — как дверь столярный мастерской распахнулась и выплюнула сперва Августа Покрифке, клеевара, а вслед за ним клееварову дочь.
Вместе с Туллой он стоит под дверью, шушукает что-то, косо поглядывая на прогибающийся складной стульчик, учит дитятко, дает ей наставления — и вот она уже подходит, сперва как бы нехотя, вихлявыми вензелями, скрестив тонкие ручки за спиной своего национального баварского платьица, бесцельно загребая босыми ногами песок, а потом вдруг начинает описывать вокруг рисующего Эдди Амзеля быстрые, стремительно сужающиеся петли, подскакивая то слева, то справа.
— Эй, вы! — и уже снова слева: — Эй, как вас там? — И тут же опять слева: — Чего вам здесь вообще надо? — И слева опять: — Чего Вам надо-то здесь? — А теперь справа: — Вам тут вообще не место! — И снова справа: — Ведь вы же… — И справа, совсем близко: — Знаете, вы кто? — И слева, почти в ухо: — Сказать, кто вы такой? — И в правое ухо, как иглу: — Вы же абрашка! А-бра-шка. Да-да, абрашка! Или, может, вы не абрашка, вот тогда и можете рисовать нашу собаку, раз вы не абрашка.
Кисточка Амзеля замерла в неподвижности. А Тулла, уже отбежав в сторонку, снова:
— Абрашка!
Слово. Слово брошено, летает, скачет по двору, сперва тихо, вблизи от Амзеля, потом достаточно громко, чтобы и Матерн отвлекся от своих взаимоотношений с запевающей дисковой пилой. Он пытается схватить эту мелкую тварь, что выкрикивает слово «абрашка». Амзель встает. Матерн Туллу не поймал.
— Абрашка!
Папка с первыми, еще влажными штрихами туши падает на песок, рисунком вниз.
— Абрашка!
Вверху, на третьем, четвертом этажах, а потом и на первом, втором, распахиваются окна: домохозяйки решили проветрить. А с Туллиного язычка снова:
Абрашка!
Пронзительней, чем дисковая пила. Матерн хвать — и снова мимо. Туллин язык. Вострые ножонки. Амзель стоит возле своего складного стульчика. Слово. Матерн поднимает с земли папку и рисунок. Тулла пружинит на доске, что лежит на козлах.
— Абрашка! Абрашка!
Матерн завинчивает крышечку на пузырьке с тушью. Тулла взлетела на доске и спрыгнула:
— Абрашка! — катится по песку. — Абрашка!
Во всех окнах дома уже зрители, из окон мастерской тоже выглядывают подмастерья. Слово, три раза подряд, слово. Лицо Амзеля, которое во время рисования пылало, теперь остывает. Он не может согнать с лица улыбку. Пот, только уже липкий и холодный, течет по веснушкам и складкам жира. Матерн кладет ему руку на плечи. Веснушки теперь серые. Слово. Одно и то же слово. У Матерна рука тяжелая. Теперь с наружной лестницы. Вездесущая Тулла:
— Абрашка-абрашка-абрашка!!!
Матерн уже ведет Амзеля под руку. Эдди Амзель дрожит. Левой рукой, в которой у него уже папка, Матерн подхватывает складной стульчик. Только тут Харрас, освобожденный от приказа, меняет предписанную ему позу. Он принюхивается, понимает. И вот уже натянулась, напряглась цепь — голос собаки. Голос Туллы. Дисковая пила вгрызается в пятиметровую доску. Пока молчит шлифовальный. А вот и он. Так, а теперь фреза. Долгие двадцать семь шагов до калитки. Харрас рвется и готов сдвинуть сарай, к которому прикована цепь. Тулла, приплясывая и беснуясь, все еще слово. А неподалеку от калитки, что ведет со двора, там, где стоит, похрустывая клейкими пальцами и в деревянных сапогах, Август Покрифке, запах клея не на шутку схватился с ароматом из палисадника перед окнами учителя музыки. Сирень атакует и побеждает. Май как-никак. Слова не слышно, но оно висит в воздухе. Август Покрифке хочет сплюнуть то, что он уже несколько минут копил во рту, но не осмеливается — Вальтер Матерн смотрит в упор, показывая ему свои громкие зубы.
Дорогая кузина Тулла!
Теперь я перескакиваю. Эдди Амзель и Вальтер Матерн были с нашего двора изгнаны. Тебе ничего за это не сделали. Поскольку Амзель нашего Харраса испортил, Харраса пришлось по два раза в неделю водить на передрессировку. А тебе, как и мне, приходилось учиться читать, писать и считать. Амзель и Матерн сдали свои экзамены, письменные и устные. Харраса подтянули в облаивании незнакомых лиц и в отказе от корма из чужих рук — но все равно Амзель его уже слишком сильно успел испортить. Тебе трудно давалось чистописание, мне арифметика. Но оба мы с удовольствием ходили в школу. Амзель и его друг получили аттестаты зрелости, Амзель — с отличием, Матерн — как говорится, с грехом пополам. Вроде снова началась жизнь или должна была начаться: после девальвации гульдена экономические трудности быстро и легко рассосались. Пошли заказы. Отец смог снова нанять подмастерья, которого он за месяц до девальвации вынужден был уволить. А Эдди Амзель и Вальтер Матерн после аттестата зрелости начали играть в кулачный мяч.
Дорогая Тулла,
кулачный мяч — это коллективная игра, осуществляемая двумя командами по пять игроков в каждой на двух прилегающих друг к другу площадках перебрасываемым с одной площадки на другую мячом величиной примерно с футбольный, но легче футбольного. Как и лапта, это исконно немецкая игра, пусть даже Плавт еще в третьем столетии до нашей эры[158] и упоминает некий follus pugilatorius — «мяч избиваемый». Дабы усугубить истинно немецкий характер кулачного мяча, — ибо у Плавта, вне сомнений, речь идет о германских рабах, играющих в эту игру, — следует сообщить: во время Первой мировой войны в лагере военнопленных под Владивостоком пятьдесят команд играли в кулачный мяч; а в лагере военнопленных Оувестри, в Англии, свыше семидесяти команд проводили турниры по кулачному мячу, терпя в них бескровные поражения или одерживая столь же бескровные победы.
Игра не сопряжена с чрезмерными физическими нагрузками, как то с необходимостью много бегать, поэтому в нее можно играть и в шестидесятилетнем возрасте, как мужчинам, так и женщинам, причем даже чрезмерно тучной комплекции. Словом, Амзель начал играть в кулачный мяч. Кто бы мог подумать! Этим маленьким пухлым кулачком, этим кулачишкой, в который только посмеиваться хорошо, кулачком, который ни разу в жизни по столу не стукнул! Таким кулачком разве что письма придерживать, чтоб на сквозняке не улетели. Да какие это кулаки — так, тефтельки, клецки, две розовых примочки на коротеньких ручонках болтаются. Не то, чтобы там рабочий кулак, пролетарский кулак, который «Рот Фронт!» — эти кулачки были мягче воздуха. Кулачки для угадайки: угадай, в какой руке лежит. В кулачном праве он всегда и заведомо был неправ; в любом кулачном бою мгновенно превратился бы в «мяч избиваемый» — и только в кулачном мяче кулачок Амзеля был триумфатором; вот почему здесь и будет по порядку рассказано, как Эдди Амзель стал мастером кулачного мяча, то есть спортсменом, который сжатым кулаком — выставлять большой палец запрещено правилами — наносил по кулачному мячу удары снизу, сверху и сбоку.
Туллу и меня перевели в следующий класс,
каникулы — вполне ими заслуженные — привели Амзеля и его друга в устье Вислы. Рыбаки молча наблюдали, как Амзель штрихует рыбацкие лодки и сети. Паромщик заглядывал Эдди Амзелю через плечо, когда тот набрасывал контуры парового парома. У Матернов, на том берегу, он тоже побывал, многозначительно посудачил с мельником Матерном насчет будущего и зарисовал матерновскую мельницу на козлах со всех сторон. И с сельским учителем Эдди Амзель хотел было словечком перекинуться, но тот вроде бы своего бывшего ученика дальше порога не пустил. С чего бы это вдруг? Еще более решительно, к тому же с насмешками, отшила Эдди Амзеля ветреная шивенхорстская красавица, которую он хотел запечатлеть на ветреном берегу с ветром в волосах и в развевающемся на ветру платье. Но все равно папку свою он набил дополна и с полной рисовальной папкой уехал обратно в город. Он, правда, пообещал своей матушке поступить в какой-нибудь приличный институт, — хотя бы в Высшую техническую школу на инженера, — но для начала стал завсегдатаем в доме у лошадиного живописца и профессора Пфуле, и так же, как Вальтер Матерн, которому предстояло стать экономистом, но который с гораздо большим удовольствием декламировал против ветра монологи что Франца, что Карла Мора[159], никак не решался приступить к занятиям.
И тут пришла телеграмма: матушка призывала его в Шивенхорст к своему смертному одру. Причиной смерти вроде бы оказалась сахарная болезнь. Эдди Амзель сперва запечатлел мертвое лицо своей матери на рисунке пером, а потом сангиной. Говорят, на похоронах в Бонзаке он плакал. Очень мало людей собралось у гроба. С чего бы это вдруг? После похорон Амзель начал сводить на нет вдовье хозяйство. Он распродавал все: дом, мастерскую с рыбацкими кутерами, подвесными моторами, траловыми сетями, коптильными принадлежностями, полиспаст, ящики с инструментом и все вразнобой пахнущие товары из лавки. К концу распродажи Эдди Амзель уже считался, да и был, завидным женихом. И если некоторую часть своего состояния он поместил в Сельскохозяйственный банк Вольного города Данциг, то другую, большую часть ему удалось весьма выгодно вложить где-то в Швейцарии — там эти деньги много лет тихо работали на проценты и, ясное дело, не убывали.
Из осязаемых предметов Амзель лишь очень немногое взял с собой из Шивенхорста. Два фотоальбома, почти никаких писем, военные награды отца, — лейтенант запаса, он погиб в Первую мировую, — семейная Библия, его дневник первых школьных лет со множеством рисунков, некоторое число замызганных фолиантов о Фридрихе Великом и его генералах, а также бессмертный труд Отто Вайнингера «Пол и характер» — вот и все, что укатило вместе с Амзелем по рельсам узкоколейки.
Хрестоматийный этот опус высоко ценил его отец. Вайнингер пытался на протяжении двенадцати весьма протяженных глав доказать отсутствие души у женщин, чтобы затем в тринадцатой, под заголовком «Еврейство», пуститься в рассуждения о том, что евреи — раса женская, следовательно, бездушная, и лишь когда еврей преодолеет в себе свое еврейство, от еврейства можно ожидать искупления. Особенно значительные мысли отец Эдди Амзеля подчеркивал красным карандашом, нередко снабжая их к тому же на полях пометкой «Очень верно!». Так, на странице 408 лейтенант запаса нашел очень верным, что «евреи, как и женщины, любят бывать вместе, но друг с другом не сношаются…» На странице 413 он поставил три восклицательных знака против фразы: «Сводничающие мужчины всегда имеют в себе еврейство…» Хвостик предложения на странице 434 он подчеркнул многократно и сопроводил возгласом «Храни нас Боже!» на полях: «…что истинному еврею во веки вечные недоступно, так это бытие непосредственное, благодать божья, тевтонский дуб, трубный глас, порыв Зигфрида, сотворение самого себя, слова <Я есьм>…»
Еще два места, подкрепленные отцовским красным карандашом, обрели значимость и для сына. Поскольку в хрестоматийном труде было сказано, что еврей не поет и не занимается спортом, Альбрехт Амзель, стараясь хотя бы эти тезисы как-то ослабить, основал в Бонзаке атлетический кружок и украсил церковный хор своим баритоном. В том, что касается музыки, Эдди Амзель, как известно, упражнялся в лихой и задорной игре на пианино, а также изливал мальчишеское сопрано, которое и после окончания гимназии не желало покидать свои горние выси, в моцартовских мессах и небольших ариях; что же до занятий спортом, то Эдди с головой окунулся в кулачный мяч.
Он, который годами был жертвой всенепременной школьной лапты, сам, добровольно, влез в хромово-зеленые спортивные брюки атлетического кружка «Младопруссия» и даже сподвиг своего друга, который дотоле с удовольствием играл в хоккей на траве за Данцигский хоккейный клуб, примкнуть вместе с ним к младопруссакам. С разрешения тренеров, дав обещание по меньшей мере дважды в неделю отстаивать на травяной арене Нидерштадт хоккейную честь своего клуба, Вальтер Матерн записался еще и в секции легкой атлетики и ручного мяча; ибо одного кулачного мяча с его неспешными, уютными передвижениями крепкому телу молодого человека было явно недостаточно.
Тулла и я,
мы прекрасно знали стадион имени Генриха Элерса — спортивно-тренировочный комплекс между Главной городской больницей и интернатом для слепых «Святой колодец». Приличный газон, но старые деревянные трибуны и раздевалки, в щелях которых гулял ветер. Главное поле и два небольших тренировочных с утра до вечера были заняты любителями лапты, ручного и кулачного мяча. Иногда, правда, заявлялись футболисты и легкоатлеты, покуда неподалеку от крематория не отгрохали шикарный стадион имени Альберта Форстера, после чего скромная арена имени Генриха Элерса осталась, в основном, для соревнований школьников.
Поскольку за год до того Вальтер Матерн на городском чемпионате школьников победил в толкании ядра и в беге на три тысячи метров и с тех пор имел репутацию перспективного юниора, ему удалось выбить для Эдди Амзеля допуск и сделать своего друга «младопруссаком». Они его сперва только судьей на линии соглашались брать. А смотритель арены сунул Амзелю веник: и чтобы в раздевалках чистота была! Ему приходилось также смазывать мячи и на гандбольном поле обновлять мелом разметку штрафных площадок. И лишь когда Вальтер Матерн возвысил голос протеста, Эдди Амзель был взят разводящим в команду по кулачному мячу. На задней линии играли Хорст Плетц и Зигги Леванд. Левым нападающим был Вилли Доббек. Ну а уж справа под самым тросом роль главного забойщика в команде, которая вскоре стала грозой всех соперников и безусловным лидером в турнирной таблице, играл Вальтер Матерн. А все потому, что Эдди Амзель был дирижером, он был сердцем и мозгом команды, прирожденным диспетчером-разводящим. Все, что Хорсту Плетцу и Зигги Леванду удавалось сзади принять и переправить в центр площадки, Эдди Амзель легкими движениями запястья артистически и точно накидывал к тросу — а уж там стоял Матерн, центровой и бомбардир. Он словно выхватывал мячи из воздуха и редко «гасил» прямыми ударами, все больше подрезая. И если Амзель прекрасно умел, принимая даже коварно поданные мячи, сервировать их партнерам как на блюдечке, Вальтер Матерн даже внешне совершенно безобидные удары превращал в верные очки, поскольку если неподрезанный, прямой мяч отскакивает точно под углом удара, то есть предсказуемо, то мячи Вальтера Матерна, после удара по нижней трети мяча, на лету приобретали вращение и отскакивали куда им вздумается. Что до Амзеля, то его фирменным номером был внешне простоватый, но редко чисто исполняемый удар снизу. Низко летящие мячи он подбирал превосходно. Мощные удары сверху вытаскивал, ныряя под них «рыбкой» и подставляя кулаки «бобышками». Подкрученные мячи он распознавал мгновенно и либо отражал их легким ударом снизу, либо бил сильно с плеча. Он то и дело подчищал промахи и неточности собственных защитников и был, несмотря на все усмешки, впрочем, усмешки уважительные, отличным неарийским игроком, спортсменом и младопруссаком.
Тулла и я были свидетелями,
как Амзелю даже удалось похудеть на пару кило. Эту его «усушку» заметила кроме нас только еще Йенни Брунис, в ту пору уже десятилетняя пышечка. Ей, как и нам, бросилось в глаза, что двойной трясущийся подбородок Амзеля вдруг окреп, превратившись как бы в плотный округлый цоколь. Да и его рыхлая грудь с вечно подрагивающими сосками расправилась и обнаружила более плоский рельеф. Не исключено, впрочем, что Эдди Амзель ни фунта и не сбросил, просто распределил свой жир более равномерно по всему телу и дал, благодаря спортивно развитой мускулатуре, этой прежде бесформенной жировой оболочке атлетический мышечный каркас. Его торс, ранее напоминавший пуховую подушку, теперь округлился в подобие бочонка. Он стал похож на фигурку китайского божка, этакого божка-покровителя всех игроков в кулачный мяч. Нет, вряд ли Эдди Амзель сбросил хотя бы полкило веса, скорее он в амплуа разводящего даже килограмма два прибавил, однако этот привесок он сумел сублимировать в спортивность — вот насколько относительным может казаться в человеке даже его вес.
В любом случае это, видимо, Амзель, который при своих набранных ста двух килограммах казался много легче, чем при прежних девяноста девяти, навел старшего преподавателя Бруниса на мысль прописать и пухленькому созданию Йенни побольше движения и физических нагрузок. Старший преподаватель вместе с учителем музыки Фельзнер-Имбсом решили, что Йенни три раза в неделю будет ходить в балетную школу. В предместье Олива имелся Шиповниковый переулок, что начинался у рынка и наискось выходил к Оливскому лесу. В Шиповниковом переулке стояла скромная вилла в стиле бидермайер, к песочно-желтой штукатурке которой, наполовину укрытой боярышником, лепилась эмалированная вывеска балетной школы. Поступление Йенни в балетную школу, так же, как и вступление Амзеля в атлетический клуб младопруссаков, потребовало посреднических усилий — в данном случае Феликса Фельзнер-Имбса, который много лет был в этой школе аккомпаниатором. Никто не умел, как он, сопровождать упражнения у станка: все дми-плие[160], от первой до пятой позиции, с трепетом ждали его адажио. Он окроплял своими аккордами пор-де-бра[161]. А его образцовый ритм при батманах дегаже[162] и невероятный темп при пти батман сюр ле ку-де-пье[163]! Кроме того, это был просто кладезь историй. Можно было подумать, что он лично и в одну эпоху видел на сцене Мариуса Петипа[164] и Преображенскую[165], трагического Нижинского[166] и непревзойденного Мясина[167], Фанни Эльслер[168] и Барбарину. Никто не сомневался, что он был очевидцем того легендарного, исторического спектакля, когда, как он рассказывал, еще в бидермайеровские времена знаменитые Тальони[169], Гризи[170], Фанни Черрито и Люсиль Гран[171] танцевали большой «Па-де-катр»[172], и восторженная публика забросала их розами. С превеликим трудом он достал билет на галерку — тогда говорили «на Олимп» — на премьеру балета «Коппелия»[173]. Само собой разумеется, балетный пианист Фельзнер-Имбс мог воспроизвести на пианино по клавирам весь балетный репертуар от скорбной Жизели до воздушной Сильфиды[174]; и именно по его рекомендации мадам Лара взялась делать из Йенни Брунис вторую Уланову[175].
Понятно, что уже вскоре Эдди Амзель стал терпеливым зрителем этих занятий. Стоя за пианино, вооруженный эскизным блокнотом, оснащенный мягким свинцом, он шустрым взглядом следил за упражнениями у станка и вскоре уже умел лучше запечатлевать нужные позиции на бумаге, чем мальчики и девочки, частично из детской балетной труппы Данцигского театра, способны были воспроизвести их наяву. Мадам Лара нередко прибегала к услугам его рисовального искусства и объясняла своим ученикам с рисунком в руках нужные плие[176].
Йенни являла собою в танцклассе зрелище одновременно и грустное, и умилительное. Ибо, хотя ребенок прилежно воспроизводил все фигуры — ах, как старательно она семенила ножками в па-де-бурре[177], как трогательно отличался ее сдобный пти шанжман де пье[178] от скучного шанжмана тренированных балетных цапель, как светился, когда мадам Лара разучивала с классом «Танец маленьких лебедей», ее вдохновенный, столетия и клубы пыли проницающий взор, который даже суровая мадам Лара называла «лебединым» — и все же, при несомненном балетном очаровании, Йенни, увы, производила впечатление хорошенькой розовой свинки, которая хочет превратиться в воздушную Сильфиду.
Почему же тогда Амзель снова и снова запечатлевал ее плачевные арабески[179], ее надрывающие душу тур а ля згонд[180] в своих слегка размытых рисунках? Потому что его свинцовый карандаш, нисколько не затушевывая полноту Йенни, умел обнаруживать дремлющую в ее теле танцевальную линию и доказывал мадам Ларе, что в этом мешочке жира скрыта и готова засиять маленькая, с орешек величиной, балетная звездочка; надо только суметь распустить на огне все это сало, наружное и нутряк, покуда в шипящем пламени знаменитых тридцати двух фуэте[181] на сковородке сцены не останется, подпрыгивая и вертясь, одна только тощенькая и упругая балетная шкварка.
Дорогая Тулла!
Как Эдди Амзель становился в балетной школе зрителем Йенни, точно так же и Йенни Брунис ближе к вечеру, устроившись на пригорке газона, смотрела, как Амзель дирижирует своей командой, ведя ее к очередной победе. И когда Амзель тренировался, то есть когда он с упорством монахини, по три раза перебирающей четки, жонглировал легким кулачным мячом, Йенни не отводила от него глаз и не закрывала свой круглый ротик-пуговичку. Оба они, тянувшие вместе килограммов эдак на сто шестьдесят, составляли парочку, знаменитую если не в масштабах города, то уж точно в масштабах нашего предместья; ибо все жители предместья Лангфур знали Йенни и Эдди ничуть не хуже, чем им был известен некий шкет-недомерок со своим неразлучным детским жестяным барабаном. Правда, тот гном — все кликали его просто Оскаром — слыл законченным нелюдимом и ни с кем не водился.
Мы все,
Тулла, я и Туллины братья встречали Амзеля, пышечку Йенни и грозного «забойщика» Вальтера Матерна на спортплощадке. Да и другие девятилетки — Гансик Матулл, Хорст Канут, Георг Цим, Хельмут Левандовский, Хайни Пиленц и братья Реннвальд — там виделись. Мы все были из одного отряда «юнгфолька», и наш вожатый Хайни Вазмут, несмотря на протесты почти всех спортивных секций, сумел добиться, чтобы нам разрешили тренироваться в эстафетном беге на гаревой дорожке и, главное, маршировать на игорном поле в форме и в уличной обуви. Но Вальтер Матерн это увидел и призвал нашего вожатого к порядку. Они оба друг на друга орали. Хайни Вазмут тряс своими инструкциями и письменным разрешением администрации стадиона, но Вальтер Матерн, неприкрыто угрожая мордобоем, все же настоял на своем, и больше мы ни на гаревые дорожки, ни на игорное поле в форме и уличной обуви ступать не смели. Маршировали мы с тех пор на Иоганновом лугу, а на стадион имени Генриха Элерса ходили уже только сами по себе и всегда со спортивными тапочками. Солнце всегда светило косо, потому что день клонился к вечеру. На всех площадках бурная жизнь. Судейские трели на разные голоса оповещали соперничающие команды о начале или конце игры. Забивались и забрасывались голы, стороны менялись площадками, гасились «свечи», с треском подавались подачи. Игроки пасовали, сбрасывали, прикрывали, финтили, блокировали, принимали, обыгрывали, заигрывались, проигрывали и выигрывали. Гаревые крошки в кедах и полукедах. Сонное ожидание игры «на победителя». Шлейф из трубы крематория указывал направление ветра. Натирались биты, отмерялись «метки», заполнялись таблицы, чествовались победители. Смеялись много, кричали беспрерывно, плакали иногда и кошку смотрителя арены гоняли часто. И все слушались мою кузину Туллу. Все боялись Вальтера Матерна. Некоторые исподтишка бросались камешками в Эдди Амзеля. Многие обходили стороной нашего Харраса. Кто-то, самый последний, должен был запереть раздевалку и ключ отдать смотрителю арены; Тулла этого не делала никогда, а мне иной раз приходилось.
А однажды,
Тулла и я, мы видели, как плакала Йенни Брунис, потому что кто-то увеличительным стеклом прожег ей дырочку в новом, весенне-зеленом платье.
А годы спустя — меня и Туллы при этом не было — несколько гимназистов, проводивших здесь турнир в лапту, бросили на шею задремавшему однокласснику кошку смотрителя арены[182].
А в другой раз — Йенни, Амзеля и Матерна тогда не было, потому что у Йенни были занятия в балетной школе — Тулла утащила для нас два мячика, а в краже заподозрили мальчишку из спортклуба «Атлет».
А как-то раз — Вальтер Матерн, Эдди Амзель и Йенни Брунис после очередной партии в кулачный мяч лежали на травянистом склоне возле малой площадки — произошло действительно нечто необычное, и выглядело все и правда очень красиво.
Мы тоже расположились неподалеку, в нескольких шагах. Тулла, Харрас и я не могли оторвать глаза от этой группы. Заходящее солнце из-за Йешкентальского леса все еще шарит косыми лучами по спортплощадкам. Нескошенная трава у самой беговой дорожки отбрасывает длинные тени. И о дыме, что отвесным столбом поднимается из трубы крематория, мы совсем не думаем. Изредка до нас доносится светлый, мальчишеский смех Эдди Амзеля. Харрас в ответ негромко тявкает, и мне приходится хватать его за ошейник. Тулла обеими руками выдирает траву. Меня она не слушает. А Вальтер Матерн там изображает какие-то роли. Говорят, он учится на актера. Йенни в своем белом платьице, на котором, должно быть, останутся пятна от травы, машет нам ручкой. Я осторожно машу в ответ, пока Тулла не поворачивает ко мне свое лицо с ноздрями и передними резцами. Бабочки заняты своим делом, шмели гудят… Нет, это не шмели. То, что мы, сидя на арене имени Генриха Элерса на закате одного из летних дней тридцать шестого года, сидя порознь и группами ранним вечером, когда в последних играх уже прозвучал финальный свисток и граблями разравнивается прыжковая яма, сперва слышим, а потом и видим, — это не шмели, а воздушный корабль «Граф Цеппелин»[183].
Мы знаем, что он должен пролететь. В газетах писали. Сперва проявляет беспокойство Харрас, потом и мы — Тулла первая — слышим этот гул. Он нарастает — хотя «Цеппелин» вроде бы должен лететь с запада — сразу со всех сторон одновременно. И вдруг, внезапно и сразу, он уже висит над Оливским лесом. Разумеется, солнце как раз заходит. Поэтому дирижабль не серебристый, а розовый. Но затем, поскольку солнце прячется за гору Карлсберг, а дирижабль берет курс в сторону открытого моря, розовый цвет сменяется серебром. Все встали и смотрят, прикрыв глаза козырьками ладоней. Из ремесленно-хозяйственного училища доносится дружный хор. Школьницы славят «Цеппелин» на все свои мелодичные девичьи голоса. Духовой оркестр с Цинглеровской горки пытается сделать то же самое аккордами Хоэнфриденбергского марша. Матерн напряженно смотрит куда-то совсем в другую сторону. Чем-то ему «Цеппелин» не по нутру. Зато Эдди Амзель, вскинув коротенькие ручки, радостно хлопает в ладоши. И Йенни Брунис восторженно выкрикивает «Цеппелин! Цеппелин!» и подскакивает на месте, как мячик. Даже Тулла раздула ноздри и, кажется, прямо так бы к дирижаблю и присосалась. У Харраса все тревоги в хвосте. А дирижабль такой серебряный, что вот-вот сорока унесет. В то время, как на Цинглеровской горке Хоэнфриденбергский марш сменился Баденвейльским, покуда девочки-школьницы все тянут и тянут свою нескончаемую «Святую отчизну»[184], пока «Граф Цеппелин», становясь все меньше и отливая серебром все ярче, удаляется в направлении Хелы, из печей городского крематория — я помню отчетливо — неуклонный и прямой, вздымается столб черного дыма. Матерн, который в сказки про «Цеппелин» не верит, пристально вглядывается в этот жирный евангелический чад[185].
Моя кузина Тулла,
обычно виновная или совиновная во всем, к скандалу, который разразился потом на стадионе имени Генриха Элерса, была непричастна. Причастен был Вальтер Матерн. О его деянии рассказывали в трех разных версиях: то ли он раздавал листовки в раздевалке; то ли с клейстером в руках расклеивал их на деревянных трибунах незадолго до гандбольного матча «Шелльмюль-98» — «Атлет»; то ли, покуда на всех площадках шли игры и тренировки, он рассовывал листовки по карманам висящих в раздевалке пиджаков и брюк взрослых спортсменов и юниоров, за коим занятием его смотритель арены и застукал. Впрочем, какую из версий следует признать самой достоверной, сейчас уже более или менее все равно, поскольку листовки, раздавал ли их Вальтер открыто, расклеивал ли при помощи клейстера или рассовывал тайком по карманам, оставались одинаково красными независимо от способа распространения.
А так как сенат Вольного города Данциг сперва под началом Раушнинга, потом при Грайзере[186], распустил своим указом коммунистическую партию в тридцать четвертом, социал-демократическую в тридцать шестом году — возглавляемая доктором Стахником партия центра распустилась в тридцать седьмом году самостоятельно — листовочную акцию студента Вальтера Матерна — он, правда, все еще толком не учился, а больше актерствовал — следовало квалифицировать как противозаконную.
Но поднимать шум никому особо не хотелось. После непродолжительных переговоров на квартире у смотрителя, среди кубков, фотографий спортивных звезд и дипломов в рамках, — смотритель арены Кошник был в начале двадцатых годов известным легкоатлетом, — Вальтер Матерн был вычеркнут из членских списков клуба «Младопруссия». Эдди Амзелю, который на протяжении всех переговоров пристально и критично изучал бронзовую статуэтку копьеметателя, было, без объяснения причин, предложено незамедлительно выйти из клуба. После того, как обоим недавним младопруссакам на прощанье были выданы от руки написанные грамоты, увековечившие победу их команды на последнем турнире по кулачному мячу, их напутствовали чисто спортивным рукопожатием. Все младопруссаки, а вместе с ними и смотритель арены отпустили Эдди Амзеля и Вальтера Матерна со словами осторожного сожаления, пообещав напоследок ни о чем руководству клуба не сообщать.
Так что Вальтер Матерн по-прежнему оставался весьма ценным игроком своей хоккейной команды и даже смог записаться в клуб планеристов. Под Кальбергом на Свежей косе он вроде бы даже совершил двенадцатиминутный полет и сфотографировал сверху всю данцигскую бухту. И только Эдди Амзель решил, что спорта с него достаточно; он снова обратился к изящным искусствам, и моя кузина ему в этом помогла.
Слушай внимательно, Тулла,
иногда, даже когда на улице не особенно тихо, я слышу, как растут мои волосы. Нет, не ногти на руках и ногах, — только волосы. И все только потому, что ты однажды меня за волосы схватила, потому что на одну секунду и на целую вечность ты запустила руку мне в волосы — мы сидели в дровяном сарае посреди твоей коллекции самых длинных стружек, таких же волнистых, как мои волосы, — и потому что потом, но все еще в нашем сарайном укрытии, ты сказала:
— Вот это, одно только это в тебе и есть.
И с тех пор, поскольку ты единственно их только и признала, мои волосы обособились, они и не мои почти, они стали твоими. Наш Харрас был твоим. Дровяной сарай был твоим. Твоими были все кастрюли с клеем и все красиво завивающиеся стружки. И строчки эти, даже если я пишу их для Браукселя, тоже твои.
Но едва Тулла убрала свою руку из моих волос и что-то про них сказала, ее уже рядом не было — через сырые доски, между листами окантованной фанеры, она уже прошмыгнула наружу, на столярный двор, а я, все еще с электричеством в волосах, был слишком нерасторопен и не успел предотвратить ее покушение на учителя музыки и балетного пианиста.
Фельзнер-Имбс вышел во двор. Кренясь вперед, он заковылял к машинному цеху, желая узнать у машинного мастера, когда у фрезы и дисковой пилы намечается сколько-нибудь длительный перерыв, ибо он, бывший концертирующий пианист и все еще пианист балетный, намерен разучивать — очень тихо — нечто весьма сложное, а именно адажио. Раз или два раза в неделю Фельзнер-Имбс просил нашего машинного мастера о такой любезности, которая ему всякий раз, хотя и не всегда тотчас же, оказывалась. Едва машинный мастер кивнул и, тыча большим пальцем в сторону дисковой пилы, сообщил, что ему только надо еще две доски пропустить, едва Фельзнер-Имбс, после обстоятельных поклонов, которые в непосредственной близости от дисковой пилы выглядели довольно рискованно, покинул машинный цех и уже почти наполовину преодолел расстояние до калитки, — я только-только вылезал из сарая, — в этот миг моя кузина Тулла спустила с цепи нашего сторожевого пса Харраса.
В первую секунду Харрас не знал, что ему делать со своей внезапной свободой, потому что обычно его спускали с цепи лишь для того, чтобы тут же взять на поводок; но затем, после краткого и недоверчивого замешательства с чуть склоненной набок головой, его всеми четырьмя лапами подбросило в воздух, снова кинуло вниз, он по диагонали пулей промчался через двор, крутанулся перед сиренью, перемахнул, напрягая шею, пильные козлы и принялся добродушно прыгать вокруг столбом застывшего пианиста: игривый лай, беззлобно приоткрытая пасть, пританцовывающие задние лапы; и лишь когда Фельзнер-Имбс решил искать спасения в бегстве, а Тулла от конуры — она все еще сидела там с карабином от цепи в руках — своим шипящим, науськивающим «хысь! хысь! хысь!» — нашего Харраса раззадорила, он бросился за пианистом вдогонку и схватил его за развевающиеся фалды; ибо Фельзнер-Имбс, встречавший своих учеников в бархатной артистической тужурке, надевал, как только ему предстояло исполнить трудный концертный номер перед воображаемыми или взаправдашними слушателями, свой парадный концертный фрак.
Фрак, конечно, был безнадежно разодран, и моему отцу пришлось эту потерю возмещать. В остальном же ничего страшного с пианистом не произошло, благо машинный мастер вместе с отцом смогли нашего черного, азартно дерущего парадный фрак и по сути все еще играющего зверя с грехом пополам оттащить.
Туллу ждала взбучка. Но Тулла растворилась в воздухе, и наказать ее было невозможно. Поэтому наказали меня — я Туллу не остановил, только смотрел и ничего не сделал. Отец охаживал меня куском обрешеточной рейки, пока Фельзнер-Имбс, уже снова поставленный машинным мастером Дрезеном на ноги, за меня не вступился. Покуда он щеточкой для волос, чудом уцелевшей после натиска нашего Харраса в одном из карманов фрака, сперва взъерошил свою художественную шевелюру против шерсти, — зрелище, которое Харрас без рычания переносить не мог, — и только потом зачесал, как обычно, львиной гривой, он успел высказаться в том смысле, что наказания заслуживаю все-таки не я, а Тулла или собака. Но там, где стояла Тулла, теперь зияла дыра, а нашего Харраса отец не бил никогда.
Слушай внимательно, Тулла!
Полчаса спустя смолкла, как и было уговорено, дисковая пила, замолчали фреза со шлифовальным станком, беззвучно замерла пила ленточная, Харрас, снова на цепи, уныло возлежал около будки, прекратился и мерный гул строгального станка, а из музыкальной гостиной Фельзнер-Имбса доносились отчетливые, нежные, раздельно-тягучие, то торжественные, то скорбные аккорды. Хрупкие, ломкие, они пересекали столярный двор, карабкались по фасаду дома, но на уровне третьего этажа срывались, падали, снова собирались вместе и рассыпались окончательно: Имбс разучивал сложную пьесу, так называемое адажио, на время троекратного исполнения которого машинный мастер поворотом рубильника на черном приборном щитке отключил все станки и машины разом.
Тулла, как я подозревал, затаилась в дровяном сарае, среди своих длинных волнистых стружек, в самом дальнем углу почти под толевой крышей. Она, должно быть, слышала мелодию, но не слушала ее. Меня же концертный номер пианиста увлек. Я перелез через заборчик сиреневого палисадника и приплющил лицо к окну. Зеленоватый сноп света в полумраке музыкальной гостиной. Две колдующих руки и белая, как лунь, хотя и облитая зеленым сиянием, голова внутри этого светового снопа: это Фельзнер-Имбс склонился над заколдованной клавиатурой и над нотами. Большие песочные часы, беззвучные и деловитые. Фарфоровая балерина, грациозно вытянув свою фарфоровую ножку в безупречном арабеске, тоже попала в световой сноп. В глубине комнаты, в смутном полумраке, угадываются на софе призрачные силуэты Эдди Амзеля и Йенни Брунис. Йенни в своем лимонном платье. Амзель не рисует. Лица обоих, обычно налитые и румяные, как яблочко, покрывает болезненная бледность. Йенни сплела свои толстенькие пальчики, напоминающие в этом подводном освещении мясистые щупальца водорослей. Амзель, поставив руки «домиком», водрузил на них подбородок. Несколько раз и с явным наслаждением Фельзнер-Имбс повторяет один и тот же пассаж: зов, прощанье, утрата — плеск волн, гряда облаков, полет птиц — любовный пыл, лесная услада, ранняя смерть, — после чего снова, заставив золотую рыбку в глубине комнаты на лакированной подставке вздрогнуть в ее стеклянном шаре, он исполняет мягкую и тихую пьесу еще раз от начала до конца — смертельная усталость, переход, светлая радость — и долго-долго, замерев в зеленом воздухе всеми десятью пальцами, вслушивается в последний аккорд, пока фреза, шлифовальный и строгальный станок, дисковая и ленточная пила все вместе и разом не возвещают об окончании условленного получасового антракта.
Застывшее общество в музыкальном салоне приходит в движение. Пальчики Йенни расплелись, «домик» Амзеля распадается сам собой, Фельзнер-Имбс, убрав из зеленого абажурного нимба свои замершие руки, теперь только показывает гостям свой сзади и по боками разодранный фрак. Предмет одежды переходит из рук в руки, пока не остается у Амзеля.
Амзель его поднимает, пересчитывает обтянутые материей пуговицы, тщательно проверяет на растопыренной ладошке следы ущерба, показывает, что способна натворить пасть натравленной на человека овчарки, а затем, посчитав дидактическую часть законченной, переходит к священнодействию: он подносит дырки к глазам, таращится сквозь прорехи, подмигивает в щели, просовывает шустрые пальцы в лопнувшие швы, раздергивает их, теперь он ветер под фалдами, наконец, он ныряет в сукно с головой, полностью исчезает под парадными лохмотьями, тут же выныривает, преобразившись сам и преобразив черную рванину, и дает перед завороженной публикой целое представление на пару с фраком-инвалидом. Это был Амзель-страшилище и Амзель-убожество; Амзель-хромоножка и Амзель-трясун; Амзель в бурю, под дождем, на скользком льду; портняжка из Ульма[187] на ковре-самолете; крылатый сюртук и Халиф-аист[188]; ворона, сова и дятел; воробей за утренним купаньем, воробей, сопровождающий лошадь, воробей на пушке; встреча воробьев, совещание воробьев, воробьи разлетаются и благодарят за аплодисменты. Далее последовали отдельные жанровые сценки все в том же фраке; расколдованная бабушка, у паромщика болят зубы, священник на ветру, дурачок Лео у ворот кладбища, старшие преподаватели на школьных дворах. Причем отнюдь не все персонажи были толстыми, как бочка, совсем нет. Погрузившись в материал, Амзель с легкостью изображал тощие жердины и ветряные мельницы, был Бальдуром и Асмадеем, придорожным распятием и нехорошим числом одиннадцать. Некий пляшущий, до жути костлявый призрак хватал фарфоровую балерину, похищал ее с пианино, обнимал ее своими огромными, как у летучей мыши, крылами, завладевал ею безраздельно и безбожно, упрятывал ее в черных, как Харрас, и все более длинных складках сукна, где она исчезала, казалось, на веки вечные, но затем, слава тебе Господи, появлялась вновь и, целой и невредимой, возвращалась на родное пианино. Он показывал, что называется, до упаду, снова и снова вызываемый на бис, показывал и то, и это, не дожидаясь аплодисментов, опережая их, благодарный нашему Харрасу, поскольку это его пасть, славил нашу Туллу, поскольку это она Харраса, а Харрас Фельзнер-Имбса, чей порванный фрак сорвал в Амзеле все запоры, распечатал родник, раскрыл подвалы и оживил всходы идей, которые, посеянные еще в детстве, сулили теперь небывалый, сказочный урожай.
Как только Эдди Амзель выбрался из черной суконной требухи, как только он снова оказался знакомым, милым и уютным толстяком-Амзелем в привычном зеленоватом свете музыкальной гостиной, он аккуратно сложил свой реквизит, взял слегка перепуганную, но и развеселившуюся Йенни за ручку и, не забыв прихватить хозяйский фрак, распрощался с пианистом и его золотой рыбкой.
Тулла и я,
мы-то конечно решили, что Амзель взял безнадежно порванный фрак, дабы отнести его к портному. Но ни один портняжка не сподобился заказа залатывать то, что растерзал наш Харрас. Мне наполовину сократили карманные деньги, поскольку отцу пришлось возмещать ущерб новым, с иголочки пошитым фраком. Разумеется, взамен столярных дел мастер мог потребовать лоскуты и лохмотья, хотя бы для машинного цеха, — там «концы» всегда были нужны, — но отец выложил деньги, ничего взамен не потребовал, а даже извинился, как может извиниться столярных дел мастер — застенчиво откашливаясь и косясь сверху вниз, — в результате чего Амзель стал счастливым обладателем хотя и фрагментарного, но способного к невероятным превращениям фрака. Отныне он отдавал свой талант не только рисованию карандашом и тушью, отныне Эдди Амзель, вовсе не имея в намерении пугать птиц, начал создавать птичьи пугала в их натуральную величину.
Автор этих строк берет на себя смелость утверждать, что никакими особыми познаниями относительно птиц Амзель не располагал. Как кузен Туллы никогда не был кинологом, точно так же и Амзеля из-за одних только птичьих пугал нельзя назвать орнитологом. Воробьев от ласточек, сову от дятла любой отличит без особого труда. Так и Эдди Амзель понимал, что сороки и скворцы воруют по-разному; однако зарянка и снегирь, синица и зяблик, щегол и соловей — все они без разбора были для него просто певчими птицами. Детское лото-угадайка «А это что за птица?» было ему не по зубам. Никто не видел, чтобы он хоть раз листал Брема[189]. Когда я его однажды спросил: «Кто больше, орел или крапивник?» — он, подмигнув, ловко ушел от ответа: «Господь Бог, конечно». Зато, правда, на воробьев у него был удивительно наметанный глаз. То, что ни одному знатоку птиц недоступно, Амзелю давалось с легкостью: он мог в бесчисленном воробьином племени, в этой шумной ассамблее, в беспорядочном скопище воробьев, которые для прочего человечества все на одно лицо и в одну масть, различать индивидуумов. Все, что купалось в канавах и лужах, устраивало скандалы возле лошадиных повозок, заполоняло школьные дворы после последнего звонка — он статистически оценивал как сборище одиночек, которые только прикидываются безликой массой. Да и черные дрозды, которым он обязан своей фамилией, никогда, даже в заснеженных садах, не были для него одинаково черными и желтоклювыми.
Так что Амзель не строил пугала ни против столь близких ему воробьев, ни против кумушек-сорок, — он вообще ни против кого их не строил, по формальным соображениям. Он имел совсем другое намерение: на опасную продуктивность мира ответить своей продуктивностью…
Тулла и я,
мы знали, где Эдди Амзель проектировал и создавал свои пугала, которые он, правда, называл не пугалами, а фигурами. В проезде Стеффенса он снял внушительных размеров виллу. Амзель ведь был богатым наследником, так что нижний этаж виллы, по рассказам, вообще был отделан дубом. Проезд Стеффенса протянулся по юго-западной окраине предместья Лангфур. Чуть ниже Йешкентальского леса он ответвлялся от Йешкентальского проезда, шел к сиротскому дому вдоль территории лангфурской пожарной охраны. Кругом сплошные виллы. Несколько консульств — литовское, аргентинское… По линеечке разбитые сады за чугунными, отнюдь не бесхитростными оградами. Буки, тис, боярышник. Дорогие английские газоны, которые летом надо поливать, зато зимой они лежат под снегом задаром. Плакучие ивы и голубые ели окаймляли, окружали виллы и укрывали их своей сенью. С декоративным виноградом одни хлопоты. Фонтаны то и дело выходят из строя. Садовники увольняются. От краж со взломом страховало агентство «Твой засов и сторож». Два консула и супруга шоколадного фабриканта запросили и вскоре получили разрешение установить противопожарные устройства, хотя пожарная команда находилась тут же поблизости, сразу за сиротским домом, а пожарная каланча торчала выше всех голубых елей: две огнегасящих струи за двадцать семь секунд сулило устройство плющу белоснежных фасадов, всем их карнизам и порталам, понаслышке знавшим о Шинкеле[190]. Редко какие окна светились здесь ночью — разве что хозяин шоколадной фабрики «Англас» устраивал прием. Шаги от фонаря к фонарю слышались издалека и затихали долго. Одним словом, спокойный, фешенебельный квартал, в котором за десять лет случилось лишь два убийства и одно покушение на убийство — по официальным сводкам.
Вскоре на виллу к Амзелю перебрался и Вальтер Матерн, снимавший до того меблированную комнату в старом городе, у Сазаньего омута, и занял два дубовых зала. Иногда у него по неделям жили актрисы, поскольку до изучения экономики у него все еще не доходили руки; зато его приняли статистом в городской театр на Угольном рынке. Там — человеком из толпы, оруженосцем в свите рыцарей, одним из шести лакеев с канделябрами, напившимся наемником среди пьяных наемников, ворчуном среди ворчащих крестьян, венецианцем в маске, солдатом-мародером, а также одним из шести кавалеров, которые вместе с шестью дамами, участвуя в первом акте в вечеринке, во втором — в пикнике на природе, в третьем — в похоронах, а в четвертом — в сцене оглашения завещания, создавали соответственно праздничный, фривольный, скорбный и радостно-возбужденный фон событиям пьесы, — там, не имея возможности произнести со сцены и двух связных слов, он приобретал свои первые сценические навыки. Кроме того, поскольку он хотел существенно расширить базу своего актерского дарования — а именно, жуткий скрежет зубовный, — он дважды в неделю брал теперь уроки комедийного актерского мастерства у известного в городе комедианта Густава Норда; ибо Матерн считал, что трагическое ему дано от природы, а вот по части комического он пока хромает.
Покуда отделанные дубовыми панелями стены двух залов амзелевской виллы должны были выслушивать монологи Матерна в роли Флориана Гейера[191], третий, самый большой и отделанный дубом точно так же, как и залы начинающего властителя сцены, стал свидетелем становления амзелевского творческого метода. Почти никакой мебели. Грубые мясницкие крючья под добротными дубовыми панелями. Высоко под потолком, они свисали оттуда во всей своей натуральной непритязательности. По такому же примерно принципу идет работа в шахтерских забоях и в сушильнях: на полу простор и воздух, наверху толкотня. Из мебели — прежде всего ораторский пульт, подлинный шедевр времен Ренессанса. На пульте, в раскрытом виде, непревзойденный, шестисотстраничный, бесподобный, дьявольский труд Вайнингера — непризнанный, переоцененный, отлично продававшийся, непонятый, слишком хорошо понятый, с пометками отцовской руки, со сносками, запечатлевшими озорные искорки вайнингеровского гения — «Пол и характер», глава тринадцатая, страница 415: «…и возможно, скажем пока так, всемирно-историческое значение и непреходящая заслуга еврейства состоит ни в чем ином, как только в том, чтобы непрестанно побуждать арийца к осознанию самого себя, напоминать ему о его сути („сути“ выделено жирным шрифтом). Это и есть то, чем ариец обязан еврею; благодаря еврею он знает, чего ему следует опасаться: еврейства как возможности в самом себе».
Эту и подобные, иногда и противоположные сентенции Амзель с пафосом проповедника декламировал уже законченным, под дубовым потолком болтающимся фигурам, а также всем тем проволочным и деревянным каркасам, что, расположившись на сверкающем паркете, заполняли дубовый зал хотя и бестелесным, но весьма оживленно беседующим светским обществом: да, здесь непринужденно болтают, а между делом выслушивают Амзеля — искушенного, сыплющего софизмами, остроумного, всегда оригинального, объективного, впрочем, если нужно, то и субъективного, обязательного, вездесущего, ни в коем случае не обидчивого, парящего над всеми и вся хозяина, который растолковывает своим гостям, как обстоит дело с женщинами и евреями и действительно ли, по Вайнингеру, следует отказать женщинам и евреям в наличии у них души, или достаточно только женщинам или только евреям, и действительно ли еврейство, с антропологической точки зрения, ибо с эмпирической этому противится всякая твердая вера, является «избранным народом, чтобы не сказать сильней. Однако же, сугубо в порядке дискуссии, да будет замечено, что в крайнем антисемитизме недостаточно часто замечают присущие ему еврейские черты — возьмите Вагнера, хотя Парцифаль истинному еврею вовек недоступен, точно также можно отличать социализм арийский от социализма типично еврейского, ибо Маркс, как известно… Поэтому и кантовский разум ни женщине, ни еврею никогда, и даже сионизм никогда… Сами видите, евреи предпочитают движимое имущество. Но и англичане тоже. Именно, именно, об этом мы и говорим: еврею недостает, он по сути своей, нет-нет, не только чужд государству, но и… Но откуда же им, если от средних веков и вплоть до прошлого столетия, а сейчас опять — и все это из-за христиан, чтобы не сказать… Как раз наоборот, любезнейшая, как раз наоборот: судите сами, вы же Библию знаете, верно ведь, ну вот, так как поступил Иаков со своим умирающим отцом[192]? Он ведь надул Исаака, ха-ха-ха, и Исава тоже обвел вокруг пальца, как вам это, да и с Лаваном обошелся не лучше[193]. Но это же всюду, сплошь и рядом. Да, но если посмотреть статистику особо тяжких преступлений, то лидируют арийцы, а не… Что, кстати, только лишний раз доказывает, что еврею ни добро, ни зло в равной мере, по этой же причине ему неведома концепция ангела, не говоря уж о черте. Но как же тогда Ваал и сады Эдема? Тем не менее, тем не менее вы не станете отрицать, что ему ни высшие нравственные взлеты, ни глубочайшие моральные пропасти — отсюда малое число тяжких, насильственных преступлений, как и у женщин, что опять-таки доказывает нехватку величия во всех смыслах, или вы можете сходу назвать мне хотя бы одного святого, который бы… Даже и не пытайтесь! Поэтому я и говорю: только вид имеет значение, а не индивид, и даже их хваленое чувство семьи имеет в себе лишь одну цель, размножаться, отсюда сводничество, еврейский сводник как полная противоположность аристократическому. Но разве сам Вайнингер со всей отчетливостью не заявляет, что он ни то, ни другое, и что он ни в коем случае не хочет дать в руки черни, что он ни бойкот, ни изгнание не… ведь в конце концов он и сам был, разве нет. Однако и за сионизм он тоже не… И даже если он ссылается на Чемберлена…[194] В конце концов он же сам говорит, что параллели с женщиной не во всех случаях… Но в наличии души отказывает и тем, и другим. Ну да, но скорее, быть может, в платоновом смысле. Вы забываете… Я ничего не забываю, милейший. Он факты приводит, к примеру… Ах, оставьте, примерами можно что угодно… уж не цитата ли из Ленина, часом? Так я и думал! Понимаете ли, дарвинизм в свое время обрел большинство своих сторонников, потому что теория происхождения от обезьяны… не случайно поэтому химия, например, до сих пор в руках, как прежде у арабов, которые, кстати, одного с ними корня, отсюда же и сугубо химическое направление в медицине, тогда как природная медицина, в конце концов мы тут имеем дело с органическим и неорганическим принципом вообще: ведь все опыты с гомункулусом Гете[195] не без причин вверил не Фаусту, а его помощнику, ассистенту Вагнеру, поскольку Вагнер, уж это-то смело можно заключить, безусловно и ярко выраженный еврейский элемент, тогда как Фауст… ибо гениальность им не дана и не доступна. А как же Спиноза?.. Как раз его-то мы и имеем в виду. В противном случае разве бы Гете им так зачитывался, если бы… А уж о Гейне и говорить нечего. Аналогично и англичане, которые ведь тоже, поскольку Свифт и Стерн были, если не ошибаюсь… Да и о Шекспире нам мало, очень мало что известно. Они, конечно, прилежные эмпирики, реальные политики, но уж никак не психологи. Хотя, безусловно, есть, — нет, нет, любезнейшая, уж дайте мне договорить, — я имею в виду английский юмор, которого у еврея никогда, одни только шуточки-прибауточки, остроумие-острословие, совершенно как у женщин, но юмор? Никогда! И я скажу вам, почему, потому что они ни во что не верят, потому что они сами ничто и поэтому могут стать всем, потому что при их склонности к понятийному, отсюда юриспруденция, и потому что для них нет ничего, ну абсолютно ничего неприкосновенного и святого, потому что они все в грязь, потому что они ни богу свечка, ни черту кочерга, поскольку им всякая набожность, любое истинное воодушевление, потому что им шиллеровский поцелуй всему миру[196], потому что они не умеют ни искать, ни сомневаться по-настоящему, потому что они внерелигиозны, им ни солнечное, ни демоническое, потому что они не имеют ни мужества, ни страха, не знают героики, одну только иронию, потому что они как Гейне, потому что у них нет опоры, только разлагать, это они мастера, и никогда не будет, потому что они даже отчаяться, потому что они нетворческие натуры, потому что им пение, потому что они ни одним делом, ни одной идеей, потому что им простота, потому что им стыд, достоинство, трепет, потому что никогда не удивляются, никаких духовных потрясений, только материальное, потому что им неведома честь, неведома истинно глубокая эротика, потому что милосердие и любовь, юмор, как уже сказано, да-да, юмор и милосердие, пение и честь, и опять-таки вера, тевтонский дуб и порыв Зигфрида, трубный глас и непосредственное бытие, говорю же вам, у них отсутствуют, да-да, отсутствуют, нет-нет, дайте уж мне договорить, отсутствуют, отсутствуют, отсутствуют начисто!»
Тут легконогий Эдди Амзель покидает свое ораторское место, но непреходящий труд Вайнингера, покуда общество за коктейлем среди дубовых стен обсуждает иные темы, как то Олимпиаду и сопутствовавшие ей проявления, остается на пульте раскрытым. Амзель же отходит в сторонку и изучающе разглядывает представленные здесь только в каркасах, но тем не менее оживленно болтающие, обменивающиеся суждениями фигуры. Он лезет в ящик, что у него за спиной, что-то достает, но не без разбора, что-то отбрасывает, вынимает снова и начинает драпировать оживленное светское общество, собравшееся на паркете, в том же духе, в каком наряжены фигуры, что висят на цепях и мясницких крючьях под дубовым потолком. Эдди Амзель обклеивает их газетной макулатурой и остатками обоев, которые он добывает в квартирах, где затеивается ремонт. Списанные на берег обтрепанные флажки и вымпелы курортно-прогулочного флота, рулоны туалетной бумаги, пустые консервные банки, велосипедные спицы, абажуры, позументы и новогодние елочные украшения — вот что нынче задает тон в моде. Вооружившись внушительной кастрюлей холодного клейстера, он колдует над всем этим раздобытым, разысканным, по дешевке скупленным барахлом. Правдивости ради следует, однако, заметить, что эти пугала или, как Амзель их называл, фигуры, при всей их эстетической выдержанности, при всей изощренности деталей и болезненной элегантности внешних линий, производили менее сильное впечатление, чем птичьи пугала, которые ученик сельской школы Эдди Амзель годами строил в родном Шивенхорсте, выставлял на дамбах Вислы и, говорят, даже с выгодой продавал.
Амзель сам первым заметил этот спад художественной силы. Позднее и Вальтер Матерн, когда он покидал свои дубовые покои и отрывался от дешевых книжонок издательства «Реклам»[197], тоже не раз указывал на эту странность: обескураживающая виртуозность мастерства не могла скрыть нехватки былой творческой ярости, свойственной ранним произведениям Амзеля.
Амзель не соглашался с другом и даже выставил одну из своих драпированных фигур на веранду, что примыкала к дубовому залу и вкушала тень первых буков Йешкентальского леса. Хотя модель и имела некоторый успех, — воробьи, верные ребята, не стали вникать в художественные тонкости и по привычке немножко испугались, — однако никто бы не осмелился утверждать, будто целое облако пернатых, впав от вида фигуры в дикую панику, с криком снялось с деревьев и металось над лесом, напоминая о славных временах амзелевского деревенского отрочества. Налицо был явный художественный застой. Текст Вайнингера оставался просто бумагой. Изощренность утомляла. Воробьи больше не подыгрывали. Вороны зевали. Лесные голуби не желали верить. Зяблики и воробьи, вороны и голуби по очереди садились передохнуть на эту художественную фигуру — парадоксальное зрелище, которое Амзель, правда, созерцал с улыбкой; но мы-то, за забором в кустах, слышали, как он вздыхает.
Ни Тулла, ни я не могли ему помочь,
но на помощь пришла сама природа. В октябре Вальтер Матерн подрался с вожатым одного из отрядов «юнгфолька», которые проводили в близлежащем лесу так называемую «военную игру». В связи с чем взвод шкетов в форме и с вымпелом, из-за которого и затевалась вся буча, оккупировал сад за виллой Амзеля. Завидев такое, разъяренный Матерн прямо с открытой веранды сиганул в мокрую листву; думаю, что и мне, как и нашему вожатому, крепко бы досталось, попытайся я тогда вступиться за командира нашего взвода Хайни Вазмута.
Нам был дан приказ следующей же ночью, укрывшись в лесу, забросать виллу камнями — мы много раз слышали звон разбитого стекла. На этом, видимо, все дело и закончилось бы, если бы Амзель, который во время драки в саду невозмутимо оставался на веранде, удовлетворился чистым созерцанием, но он зарисовал увиденное на дешевой бумаге, а потом создал и небольшие, с коробку для сигар, модели: группа дерущихся фигур, куча-мала, заваруха, форменно-бесформенная, вернее, все-таки форменная, потому что в формах, свалка — месиво из штанов, колен, гетр, наплечных ремней, нашивок и рун, коричневые клочки по закоулочкам, вымпел вперед, портупея назад, вожатый орет, бьется отряд, — словом, очень натурально изобразил, как наш взвод в амзелевском саду дрался за честь своего вымпела. Амзелю удалось вернуться к реальности: с тех пор он мастерил не по шаблонам моды, не по комнатно-тепличным светским образцам, а вышел на улицу, любопытный и изголодавшийся.
Казалось, он просто помешался на мундирах, особенно на черных и коричневых, которые все больше и больше определяли облик наших улиц. Старую, еще из времен борьбы, форму штурмовика ему удалось по случаю раздобыть у какого-то старьевщика в Поденном переулке, но этим его запросы, конечно же, далеко не ограничились. С большим трудом ему удалось поместить за своей подписью объявление в «Форпосте»: «Куплю подержанное обмундирование штурмовых отрядов». В специализированных магазинах, где продавалась вся партийная одежка, ее можно было получить только по партийному билету. Поскольку же Эдди Амзелю вступить в партию или одну из ее организаций было никак невозможно, он начал самым подлым образом обхаживать своего друга, — который хоть и не распространял больше коммунистические листовки, но приколол-таки к дубовым стенам своих апартаментов фотографию Розы Люксембург, — убеждая его льстивыми, гнусными, потешными, но неизменно ловкими речами сделать то, что он, Амзель, ради обладания вожделенными униформами очень бы хотел сделать, но никакими силами сделать не может.
По дружбе — как-никак, они были все-таки кровными братьями — отчасти потехи ради и из любопытства, но первым делом для того, чтобы обеспечить Амзелю доступ к тем совершенно особого оттенка коричневым мундирам, которых так ждал он сам и так жаждали каркасы будущих пугал, Вальтер Матерн потихоньку, мало-помалу другу уступал: он отложил в сторонку дешевые прогрессивные книжонки и заполнил формуляр-заявление, в графах которого он, впрочем, не умолчал о том, что состоял в «Красном Соколе»[198], а потом и в КП.
Посмеиваясь и тряся головой, не столько вслух, сколько про себя скрипя зубами, он вступил в лангфурский штурмовой отряд, чьей постоянной пивнушкой, равно как и местом собраний был трактир «Малокузнечный парк» — весьма поместительное заведение в одноименном парке с танцзалом, кегельбаном и добротной немецкой кухней, разместившееся между пивоварней и лангфурским вокзалом.
Студенты высшей технической школы задавали тон в этом отряде, основную массу которого составляли рядовые обыватели. Во время демонстраций на Майском лугу, что за спортзалом, отряд стоял в ограждении. Кроме того, в течение вот уже нескольких лет одной из главных задач отряда было затевать на Казарменной площади, неподалеку от польского студенческого общежития, драки с членами студенческого объединения «Братня помоц» и громить польское кафе, где это объединение собиралось. В начале у Вальтера Матерна были кое-какие трудности, потому что тут знали о его красном прошлом и даже о его листовочной акции. Но поскольку в отряде «Штурм-34, Лангфур-Север» он был не единственным недавним коммунистом и бывшие члены компартии под хмельком нередко встречали здесь друг друга приветствием «Рот Фронт!», он вскоре почувствовал себя как дома, тем более что и шеф всей этой ватаги ему явно покровительствовал: начальник отряда Йохен Завацкий до тридцать третьего был бойцом «Рот Фронта», произносил зажигательные речи, зачитывал перед рабочими верфи в Шихау призывы к забастовке. Завацкий своего прошлого не скрывал и во время своих коротких речей в «Малокузнечном парке», которые все любили послушать, говорил примерно так:
— А я вам скажу, ребятки, что Вождь, как я его понимаю, гораздо больше рад одному-единственному коммунисту, который в штурмовые отряды пришел, чем десяти индюкам из центра, которые в партию вступили, лишь бы шкуры свои спасти, а не потому, что настало новое время — а оно, точно вам говорю, настало, и одни индюки, которые только и знают, что носом клевать, этого еще не заметили.
Когда в начале ноября делегацию от славного, испытанного отряда собирали на Годовщину Движения в Мюнхен[199] и по такому случаю обмундировали с иголочки, Вальтеру Матерну удалось старое тряпье, побывавшее не в одной пивной заварухе, своевременно умыкнуть и переправить в проезд Стеффенса. Вообще-то Матерн, которого начальник отряда Завацкий по-быстрому произвел в командиры отделения, должен был отвезти и сдать весь этот хлам, включая сапоги и все ремни с прибамбасами, в Тигенхоф, где как раз формировался новый штурмовой отряд, у которого было худо с деньгами. Но Эдди Амзель выписал другу чек, в котором было достаточно нулей, чтобы обрядить двадцать арийцев в новехонькую, пахнущую текстилем и кожей, форменную одежку. На вилле же у Амзеля, на дубовом паркете в дубовых стенах, коричневой грудой громоздилось замызганное тряпье — пятна пива и жира, крови и дегтя, равно как и разводы пота придавали этим обноскам особую ценность. Амзель тут же начал снимать мерки. Он сортировал, пересчитывал, складывал, отходил в сторонку, грезил о марширующих колоннах, они шли парадным шагом, приветствовали, снова шли, снова приветствовали, прищуренным мысленным взором он видел пивные битвы, переполох, сумятицу, люди и нелюди, кости и ребристые столики, глаза и пальцы, бутылки и зубы, крики, обрушивающийся рояль, цветы и горшки, люстры и над всем этим — двести пятьдесят заточенных ножичков, — и это притом, что кроме кучи хлама в дубовых стенах виллы был еще только Вальтер Матерн. Он потягивал из бутылки сельтерскую и не видел того, что видел Эдди Амзель.
Моя кузина Тулла,
о которой я пишу, которой я пишу, хотя я, если послушать Браукселя, должен писать исключительно и только об Эдди Амзеле, — моя кузина Тулла устроила так, чтобы наш сторожевой пес Харрас второй раз напал на учителя музыки и балетного пианиста Фельзнер-Имбса. Прямо на улице, в Каштановом проезде, она спустила собаку с поводка. Имбс и Йенни — она в желтоватом пушистом пальто типа «медвежонок» — шли, очевидно, из балетной школы, поскольку из спортивной сумочки Йенни болтались, поблескивая розовым шелком, тесемки ее балетных туфелек. Тулла отпустила Харраса, а косой дождь сыпал, казалось, со всех сторон, потому что ветер то и дело менялся. Через пузыристую рябь луж Харрас, спущенный Туллой, помчался огромными прыжками. Фельзнер-Имбс нес над собой и над Йенни зонт. Харрас мчался напрямик, он знал, кого Тулла имела в виду, когда она его отпускала. На сей раз моему отцу пришлось возмещать пианисту зонт, поскольку Имбс, когда наш черный и гладкий зверь мокрой длинной молнией метнулся на него и его ученицу, успел пренебречь зонтом как защитой от дождя и выставить его как черный, к тому же шипом вооруженный щит прямо перед собакой. Разумеется, зонт не устоял. Но остались звездообразно сходящиеся к древку металлические спицы. Они, правда, сразу во многих местах погнулись и переломились, прорвав к тому же материю, но нашему Харрасу они оказали весьма упорное и болезненное сопротивление. Он запутался передними лапами в этой металлической паутине, благодаря чему нескольким прохожим и мяснику, который выскочил из своей лавки с кровавым фартуком в руках, удалось его усмирить. Зонтика считай что не стало. Харрас чесался. Убегать Тулла мне запретила. Харраса взяли на поводок. Артистическая шевелюра пианиста свисала мокрыми, облезлыми космами, пудра белесыми потеками капала с них на черное сукно. А пышечка Йенни лежала в придорожной канаве, где по-ноябрьски оживленно перекатывалась, шумела, булькала и пускала пузыри серая сточная вода.
Мясник не стал возвращаться к своим кровяным колбасам, a в чем был, как выскочил из лавки, лысый, свинский и колбасно-багровый, доставил меня и Харраса к моему отцу, столярных дел мастеру. Он изложил происшедшее весьма неблагоприятным для меня образом, назвал Туллу боязливой крошкой, которая в ужасе убежала, как только я не смог удержать псину на поводке — на самом деле Тулла стояла и смотрела до самого конца, но как только я забрал у нее поводок, тут же смылась.
Мясник подал отцу на прощанье свою огромную волосатую лапу. Я на сей раз получил взбучку не четырехгранной обрешеточной рейкой, а хотя и безоружной, но тяжелой отцовской дланью. Фельзнер-Имбсу был куплен новый зонт. Старшему преподавателю Брунису отец предложил возместить расходы за чистку желтоватого пушистого пальто «а-ля медвежонок». К счастью, спортивная сумочка Йенни с розовыми шелковыми балетными туфельками в канаву не свалилась, иначе ее бы унесло водой, а канава впадает в Штрисбах, а Штрисбах течет в Акционерный пруд и потом из Акционерного пруда вытекает и течет через весь Лангфур, проскакивает под Эльзенской улицей, под улицами Луизы и Герты, мимо Новой Шотландии, вдоль Легштриса, впадает около Брошкешского проезда, напротив устья Вислы, в Мертвую Вислу, а уж оттуда, перемешавшись с водами Вислы и Мотлавы, по Портовому каналу, между Новой Гаванью и Вестерплатте, изливается в Балтийское море.
Тулла и я, мы там были,
когда в первую неделю сочельника, на Мариинской улице, 13, в самом большом и красивом лангфурском кафе «Малокузнечный парк» — директор Август Кошинский, телефон 41–049, каждый четверг свежие вафли — случилось побоище, которое полиции, неизменно дежурившей во время партийных собраний в Охотничьем зале, удалось остановить лишь через полтора часа: вахмистр Бурау вынужден был вызывать по телефону — 118, если кому интересно — подкрепление, после чего примчались шестнадцать полицейских и своими резиновыми «скалками» навели порядок.
На собрании, проходившем под лозунгом: «Позорные договоры долой — хотим в Рейх домой!» явка была хорошая. Двести пятьдесят человек заполнили Зеленый зал. В соответствии с повесткой дня между ветвями декоративной зелени позади пульта исправно сменяли друг друга ораторы. Сперва — коротко, хрипло, молодцевато — выступил командир штурмового отряда Завацкий. После него своими впечатлениями о Всегерманском партийном съезде в Нюрнберге поделился районный партруководитель Зельке. Его особенно вдохновили лопаты «рабочего призыва»[200], тысячи и несметные тысячи, и как они блестели, когда солнце целовало их сверкающие штыки:
— Это, я вам скажу, дорогие земляки-лангфурцы, и я рад, что вас сегодня так много пришло, это было незабываемо и неповторимо, да, неповторимо и незабываемо. Такое, дорогие земляки, запоминается на всю жизнь, как они сверкали, тысячи и несметные тысячи, и этот крик, как будто из тысяч и несметных тысяч глоток — прямо сердце дрогнуло, и даже у иных закаленных ветеранов слезы навернулись на глаза. Но по такому случаю можно и не стыдиться слез, вот. И вот тогда я подумал, дорогие земляки-лангфурцы, что как вернусь домой, всем вам, кому не посчастливилось там побывать, обязательно расскажу, как все это было, как тысячи и несметные тысячи лопат рабочего призыва нашего Рейха…
Потом еще говорил окружной партрук Кампе, он рассказал о празднике урожая в Бюкебурге и о планируемых новостройках в проектируемом новом жилом районе имени Альберта Форстера. После чего командир штурмового отряда Йохен Завацкий, поддержанный двумястами пятьюдесятью лангфурскими глотками, провозгласил троекратное «Зиг-хайль!» в честь Вождя и Канцлера Рейха. Оба гимна[201] — один слишком медленно, второй слишком быстро, — были исполнены мужчинами слишком громко, женщинами слишком высоко, а детишками фальшиво и не в такт. На чем торжественная часть мероприятия завершилась, и районный партрук Зельке объявил землякам-лангфурцам о начале неофициальной части, непринужденного дружеского застолья с розыгрышем праздничной лотереи сувениров и кондитерских изделий в пользу «зимней помощи». Дарителями призов выступили: молочный комбинат «Вальтинат», маргариновая фабрика «Амада», шоколадная фабрика «Англас», кондитерская фабрика «Канольд», оптовая винная торговля «Кизау», оптовая торговля «Хаубольд и Ланзер», фирма «Кюне-Зенф», данцигский стекольный завод и лангфурская пивоварня, которая помимо двух ящиков пива на розыгрыш выставила вдобавок еще и бочку пива — «для нашего доблестного отряда Штурм-84, Лангфур-Север, для наших парней, наших отважных лангфурских защитников, для их командиров, которыми мы гордимся! Нашим ребятам из Штурма-84 наше троекратное гип-гип — урра! урра! урра-а-а!!!»
А после этого вскоре и началась свистопляска, которую с грехом пополам удалось угомонить лишь после вызова полиции — телефон 118 — да и то только с помощью резиновых «скалок». И не то чтобы там коммунисты или «соци» встряли. Этих в ту пору считай что и не было уже. Скорее это был просто хмель, ударивший всем в головы, застивший глаза голубоватым сивушным угаром — он-то и придал всему побоищу в «Малокузнечном парке» свою неповторимую окраску. Ибо как это обычно бывает после длинных речей, которые надо произносить и слушать: все кинулись смачивать глотки, пропускать, осушать, опрокидывать, принимать и «вздрагивать»; кто сидя, кто стоя — все испытывали зуд тяпнуть по одной и немедленно добавить еще. Иные уже перебегали от стола к столу и от стола к столу становились все хорошее; счастливчики, отвоевавшие место у стойки, торопливо накачивались с обеих рук; те немногие, кто еще держался прямо, тоже издавали характерное бульканье, но расхаживали как бы без голов — в зале, и без того низком, сгущались сизые тучи дыма, закрывая особо стойких до самых плеч. Те, кто уже был прилично на взводе, не прекращая пить, начинали петь, сколачивая вокруг себя импровизированные хоровые коллективы: «Ты-помнишь-лес-снарядами-разбитый», «На-дне-лежит-глубоком», «Голова-моя-кровью-и-ранами»[202].
Ну просто семейный праздник: все-все тут были, и все сто лет знакомы — вон Альфонс Бублиц с Лоттой и Франциком Волльшлегером:
— Помнишь, как мы все вместе гулять ходили в этот, ну, парк этот, имени Хене. По Радауне, к Оре, словом, в сторону Гуттенберга, и кого мы там встретили? Дуллека с братом, сидят под кустом и все уже в усмерть…
А рядом со штурмовиком Бруно Дуллеком — пивные зады штурмовиков Вилли Эггерса, Пауля Хоппе, Вальтера Матерна и Отто Варнке, как один стали у стойки:
— А еще в кафе «Дерра»…
— Да где в «Дерре», брось болтать, на Цинглеровской горке, там они этого Брилля и отметелили[203]. А недавно снова…
— Где снова-то?
— Да у запруды, в Сташин-Прашине. Прямо туда в пруд и сбросили. Но он выкарабкался. Не то, что Вихман с Малой Кошки, того вообще в шахту… Эх, ма, была не была!.
— Погоди, а разве он не в Испании?
— Да откуда, какая Испания, ты что! Укокошили они его, и в мешок, только сперва порубили на мелкие части. Я его еще по клубу граждан знал, до того, как они его вместе с Бростом и Круппке в фолькстаг выбрали. Эти-то смылись, через границу ушли под Гольдкругом. Глянь-ка на Дау, у него вон гроши из кармана катятся. Тут как-то в Мюггенвинкеле он мне и говорит…
Густав Дау подошел рука об руку с Лотаром Будзинским. Все угощали всех по кругу и по очереди. Тулла и я сидели за столом у Покрифке. Мой отец сразу после речей ушел. Детей оставалось уже немного. Тулла смотрела на дверь туалета: «М». Она ничего не пила, ни слова не говорила, только смотрела. Август Покрифке был уже изрядно под мухой. Он объяснял некоему господину Микотайту все тонкости железнодорожного сообщения в Кошнадерии. Казалось, Тулла хочет силой взгляда заколотить дверь клозета раз и навсегда — но она под напором полных и опорожненных мочевых пузырей, понятное дело, ходила ходуном. Скорый поезд Берлин-Шнайдермюль-Диршау идет через Кошнадерию. Идет, но не останавливается. На дверь женского туалета Тулла не смотрела — она следила, как Вальтер Матерн исчезает в мужском. При этом Микотайт, как выяснилось, служил в управлении Польской железной дороги, что нисколько не мешало Августу Покрифке обстоятельно перечислять ему остановки пассажирского поезда Кониц-Лашковиц. Эрна Покрифке через каждые пять минут повторяла:
— Ну все, детки, марш по домам, давно пора.
Но Тулла не спускала глаз с порхающей двери уборной — каждый заход туда и каждый выход оттуда ее маленькие глазки-дырочки, казалось, фиксируют на пленку. Август Покрифке приступил к станциям третьей железнодорожной ветки, проходящей через Кошнадерию — линия Накель-Кониц: Герсдорф, Обкас, Шлангентин. Началась продажа билетов кондитерско-сувенирной лотереи в пользу «зимней помощи». Главный выигрыш: десертный сервиз на двенадцать персон включая винные бокалы, все хрусталь, чистый хрусталь! Тулле разрешили вытянуть три билетика, потому что однажды, в прошлом году, она уже выиграла целого гуся на пять с половиной кило. Из почти полной билетиками форменной фуражки, не отрывая взгляда от клозетной двери, она вытягивает в первый раз: плитку шоколада «Англас». Вот она второй раз запускает в бумажный ворох свою маленькую, исцарапанную ручонку: пусто! Но главный выигрыш — мы же помним — хрусталь, поэтому дверь уборной в тот же миг с грохотом захлопывается, потом отскакивает. Там, внутри, где подтягивают и спускают штаны, уже началось. Там скоры на руку, а в руках уже ножи. Уже схватились и начищают друг другу физиономии, потому что Тулла вытянула билетик. Уже пошли в ход приемы — Китай против Японии, была не была, где наша не пропадала! Стойка, подсечка, переворот, через бедро, от плеча и за спину. «А ну-ка врежь ему! Ах ты, гнида, сучий потрох! Справа зайди! Ах ты, выблядок! Врежь, врежь ему!» И все молодцы возле стойки — Вилли Эггерс, Пауль Хоппе, Альфонс Бублиц, младший Дуллек и Отто Варнке — пулей туда же со своими ножичками-перышками. «Эх, е-мое, была не была!» Пьяный, но дружный хор, раззявя хмельные морды, уже разбирает десертные тарелки, обивает головки у бокалов, сметает подчистую все со столов и мечет все это в дверь туалета. Раз уж Тулле досталось «пусто», они теперь пометелят друг дружку от души, хрясть — прием, хрясть — контрприем! Ножка и стул, здесь и сейчас, свобода для, ах ты, бля, тля, треск и крах, удаль и страх, Вилли пока стоит на ногах, ногой в живот, потом апперкот, пусть отдохнет, пиво с прицепом, на руку скор, ну а вот это уже перебор. Потому что все ребята ушлые, таким передышка не нужна. Уже каждый каждого ищет. Кто там внизу копошится? У кого кровянка пошла? Что там тявкают эти сосунки? Туалетную дверь с петель долой! Кто вытащил билетик? Пусто! Бей под ложечку, наотмашь и в кровушку! В челюсть брызг! Мозг враздрызг! Телефон — 118! Полиция — эх-ма, была не была! Ни за что и никогда. Вот эт-то жизнь, братва! Бытие и время. Зеленый зал. Люстра блямс. Пробки долой. Свет погас. Темнота, чернота — в черном зале черные резиновые скалки ищут черные садовые головушки, покуда черная кровянка с черными мозгами, черный воронок тут как тут, черные женщины визжат и орут: «Свет! Дайте свет! Полиция!» Эх-ма, была не была!
И лишь когда Тулла в темноте вытащила из фуражки, что так и осталась у нас, вернее, у нее на коленках, лишь когда моя кузина вытащила третий билетик и развернула — на сей раз ей выпало ведерко маринованных огурцов фирмы «Кюне-Зенф» — лишь тогда снова зажегся свет. Четверо дежурных полицейских под командой вахмистра Бурау и шестнадцать человек подкрепления, ведомые лейтенантом полиции Заузином, наши зеленые заступнички, родные и устрашающие, заходили с двух сторон — от стойки и от двустворчатой двери гардероба. У всех двадцати двух были в зубах полицейские свистки, и свистели они пронзительно. Они работали новыми, лишь недавно при начальнике полиции Фробосе введенными, из Италии завезенными полицейскими резиновыми дубинками — там их называли «манганелло», а у нас попросту «скалками». Новые дубинки имели перед старыми то преимущество, что кожу не рассекали, поэтому удар получался бескровный и к тому же почти бесшумный. Всякого, кому доставалось его отведать, сначала два с половиной раза разворачивало вокруг собственной оси, после чего он с выражением крайнего изумления на челе, но по-прежнему сохраняя динамику штопора, валился на землю. Так и Августу Покрифке неподалеку от двери злосчастного туалета довелось испытать на себе действие замечательной импортной новинки из муссолиниевской Италии. Без единого синяка он восемь дней не мог работать. Кроме него насчитывалось трое с тяжкими и семнадцать человек с легкими телесными повреждениями, из них четверо полицейских. Штурмовики Вилли Эггерс и Францик Волленшлегер, бригадир каменщиков Густав Дау и торговец углем Лотар Будзинский были доставлены в отделение, но наутро следующего дня отпущены. Директор кафе «Малокузнечный парк» господин Кошинский подал в страховую компанию декларацию на возмещение ущерба в размере тысячи двухсот гульденов: посуда, стулья и столы, люстра, сломанная дверь и разбитое зеркало в мужской туалетной комнате, декоративная зелень за ораторским пультом, а также главный приз лотереи — хрусталь! чистый хрусталь! — и так далее. Произведенным следствием было установлено, что свет погас не в результате короткого замыкания, а из-за того, что кто-то — я знаю, кто! — выкрутил пробки.
Но ни одна душа не догадывается, что это моя кузина, когда она вытащила билетик, — пусто! — подала сигнал к началу ресторанного побоища.
Дорогая Тулла,
ты это все могла запросто. Своим глазом-сглазом, своей маленькой, но нелегкой ручкой. Но важно для этой истории не твое ресторанное побоище, — хоть ты и приложила к нему ручонку, оно было вполне заурядным и от других таких же ничем не отличалось, — а то, что Эдди Амзель, владелец виллы в проезде Стеффенса, получил в итоге прокисшую от пива груду рваных, с пятнами запекшейся крови форменных штанов и гимнастерок: дарителем выступил отделавшийся легкими телесными повреждениями Вальтер Матерн.
На сей раз это были не только мундиры штурмовиков. Нашлось и несколько френчей с заштатного партийного плеча. Но все было коричневого цвета — не цвета коричневых летних полуботинок, не орех и не боровик, не коричневая Африка, не тертая кора, не мебель и не старческая кожа; не средне-коричневый и не песочный, не свежий бурый уголь и не перезрелый торф, порезанный торфяной лопатой; не чашка утреннего шоколада и не утренний кофе, закрашенный сливками; табак, сколько бы ни было сортов, но такого коричневого нет; не сливающийся с палой листвой окрас осенней косули и не курортный загар двухнедельного отпуска; ни одна осень не выхаркнет на палитру такого коричневого — не хаки и не глина любых оттенков, жидкая и клейкая, — как этот, неповторимый, партийно-коричневый, штурмовиковый, цвет всех коричневых книжек, коричневый цвет Браунау и цвет Коричневой Эвы, Эвы Браун[204], этот униформенный, однако далеко не хаки, коричневый из тысяч и тысяч прыщавых задниц, высранный на белые тарелочки, коричневый из гороха с сосисками; нет-нет, вас, утонченные шатены всех боровиково-ореховых оттенков, там и близко не стояло, когда этот коричневый заваривался, густел и набирал окраску, когда этот фекально-кишечно-коричневый — и это я еще мягко изъясняюсь — взгромоздился перед Эдди Амзелем вонючей кучей.
Амзель эту кучу рассортировал, взял большие ножницы золингеновской стали, для пробы почикал ими в воздухе. Словом, он начал этот неописуемый коричневый цвет кроить и кромсать вдоль и поперек. Ибо возле подлинного ренессансного ораторского пульта с раскрытым на нем в любое время дня и ночи несравненным трудом Вайнингера теперь появился новый рабочий инструмент: портновский конь, закройщицкая шарманка, портняжкина библия — зингеровская швейная машинка. О, как урчало ее колесико, когда Эдди Амзель из шершавой дерюги, из луково-картофельной мешковины и прочей грубой материи шил свои балахонистые хламиды. А раздувшийся Амзель за крохотной на его фоне швейной машинкой — разве не составляли они единое целое? Разве не казалось, что он и машинка нерасторжимы, что они вместе родились, крестились, получали свои детские прививки, сидели за партой и вообще развивались как одна целостная личность? А на эти дерюжные рубахи он нашивал — когда длинным наружным, а когда и мелким потайным стежком — декоративные заплаты из мерзких коричневых лоскутов. Он искрамсывал, впрочем, и багрянец нарукавных повязок, и ослепительную, как рези в желудке, солнечную символику свастики. Он набивал все это паклей и опилками. Он рыскал по журналам и ежегодникам и находил лица — крупнозернистое фото большого художника слова Герхарда Гауптманна[205] и гладко-глянцевый портрет кого-нибудь из популярных актеров той поры — Биргеля[206] или Яннингса[207]. Он помещал физиономии Шмелинга[208] и Пачелли[209], буйвола и аскета, под козырьки коричневых форменных фуражек. Генерального секретаря Ассамблеи Лиги наций Бранда он превращал в штурмовика Бранда. Он не боялся кромсать репродукции старых гравюр и самовластно, словно сам Господь Бог, орудовать золингеновскими ножницами над дерзновенным профилем Шиллера или гордым челом молодого Гете, дабы подарить их благородные лики кому-нибудь из павших героев движения — Герберту Норкусу или Хорсту Бесселю. Амзель разбирал по косточкам, мудрил и сводничал, давая векам и эпохам возможность слиться в отнюдь не братском поцелуе под одной фуражкой.
Из красивого, в полный рост фотоснимка Отто Вайнингера, стройного, по-мальчишески субтильного, безвременно покончившего с собой автора непреходящего труда, на четвертой странице коего снимок и был воспроизведен, Амзель вырезал голову, отдал эту вырезку в фотомастерскую Зенкера с просьбой сделать увеличение до натуральных размеров и потом долго, все никак не довольствуясь достигнутыми результатами, работал над фигурой «Штурмовик Вайнингер».
Гораздо удачней выглядел автопортрет самого Эдди Амзеля. Помимо ренессансного пульта и зингеровской швейной машинки интерьер его зала дополняло высокое и узкое зеркало до самого дубового потолка, какие часто можно встретить в пошивочных ателье и в балетных школах. Перед этим отнюдь не безмолвным зеркалом он и позировал в самодельной партийной униформе, — среди мундиров штурмовиков не нашлось одежки, в которую он смог бы влезть, — постепенно перенося свое изображение на голый каркас, что стоял в центре зала в виде пустотелого шара и таил в себе заводное устройство. Под конец настоящий Амзель сидел, словно Будда, за швейной машинкой и придирчиво изучал сконструированного и, пожалуй, внешне еще более достоверного Амзеля-партийца. Тот стоял, весь раздувшийся, в дерюге и в партийном коричневом сукне. Наплечный ремень портупеи обегал его телеса как тропик. Лычки на воротнике делали его простым партийным руководителем местного уровня. Свиной пузырь, удивительно смелый в своей натуральности, лишь намеком воспроизводящий черной тушью черты лица, был увенчан партийной фуражкой. Тут внутри шара начинала работать партийная механика: бриджи рывком сдвигались в позицию «смирно», правая надутая резиновая перчатка отделялась от пряжки ремня и судорожно вскидывалась сперва на высоту груди, потом над плечом, демонстрируя два вида партийного приветствия, затем с трудом, поскольку завод кончался, едва-едва успевала вернуться к пряжке, еще несколько секунд старчески подрагивала и, наконец, замирала. Эдди Амзель просто влюбился в свое новое творение. Он имитировал приветствия своей собственной, в человеческий рост, имитации перед узким высоким зеркалом: получался некий Амзель-квартет. Вальтер Матерн, которому Амзель показал себя и фигуру на паркете плюс себя и фигуру в зеркале, рассмеялся сперва слишком громким, а потом смущенным смехом. В некоторой растерянности он переводил глаза с пугала на Амзеля, с Амзеля на зеркало. Выходило, что он, Матерн, стоит в штатском между четырьмя функционерами в форме. Зрелище это вызвало у него врожденный скрежет зубовный. И, продолжая скрежетать, он дал Амзелю понять, что у всякой шутки есть свои границы; не стоит Амзелю зацикливаться на одной и той же теме; в конце концов и в штурмовых отрядах, и в партии достаточно людей, которые служат серьезным целям — там есть настоящие парни, а не одни только подонки.
На это Амзель совершенно серьезно ответил, что как раз в этом он и видит свою художественную задачу: меньше всего он хочет критиковать, а хочет именно творить, художественными средствами сотворять настоящих парней и подонков, вместе и поврозь, в тех пропорциях, в каких их тасует жизнь.
Вслед за чем он соорудил на заранее заготовленном каркасе настоящего парня и немножко буйвола — бойца штурмовых отрядов Вальтера Матерна. Тулла и я, сидя в черных кустах ночного сада и заглядывая в освещенные электричеством большие окна дубового ателье, круглыми от ужаса глазами смотрели, как обмундированный идол Вальтера Матерна — пятна спекшейся крови напоминали о недавнем побоище в «Малокузнечном парке» — с помощью хитроумно встроенной механики обнажал зубы своего сфотографированного лица и этими механически движущимися зубами скрежетал; мы, правда, это только видели — но тот, кто однажды видел зубы Вальтера Матерна, очень хорошо знал, каковы они на слух.
Тулла и я, мы видели,
как Вальтер Матерн, который во время большой демонстрации вместе со своим штурмовым отрядом стоял в оцеплении на заснеженном Майском лугу, углядел в толпе Эдди Амзеля в форме. Лебзак[210] выступил. Потом Грайзер и Форстер выступили. Снег падал большими хлопьями, и толпа так единодушно орала «хайль!», что хлопья залетали орущим прямо в рот. И партиец Эдди Амзель выискивал и хватал ртом особо крупные хлопья, пока боец штурмового отряда Вальтер Матерн не выудил его из толпы и не потащил со слякотного луга в аллею Гинденбурга. Там он сильно на него ругался, мы даже подумали: вот-вот ударит.
Тулла и я, мы видели,
как Эдди Амзель в форме собирал на лангфурском рынке пожертвования в пользу «зимней помощи». Он громыхал кружкой, веселил народ прибауточками и загребал монет побольше, чем иной настоящий партиец. И мы подумали — случись сейчас здесь Матерн и увидь он это, тогда…
Тулла и я,
мы однажды застигли Эдди Амзеля и сына торговца колониальными товарами на Фребельском лугу в метель. Мы прятались за балаганным фургоном, который на Фребельском лугу зимовал. Амзель и гном отчетливо, как в театре теней, выделялись на фоне снежной круговерти. Более разных теней, чем эти, свет не видывал. Тень гнома держала в падающей белизне тень барабана. Тень Амзеля к ней склонялась. Обе тени приблизили ухо к барабану, словно слушали какой-то тихий звук — шелест снежинок, падающих на лакированную барабанную жесть. Поскольку мы никогда ничего столь бесшумного не видели, мы тоже сидели тихо, с красными от мороза ушами — но мы слышали только снег, а жесть не слышали.
Тулла и я,
мы искали Эдди Амзеля глазами, когда между Рождеством и Новым годом обе наши семьи отправились на прогулку по Оливскому лесу; но он был где-то еще и в Долине Радости в тот день не показался. А мы под оленьими рогами пили кофе с молоком и ели картофельные оладьи. В зверинце было не особенно интересно, потому что обезьян из-за морозной погоды перевели в подвал леснического дома. Не надо нам было брать с собой Харраса. Но мой отец, столярных дел мастер, сказал:
— Собаке надо побегать.
Долина Радости была излюбленным местом прогулок. Вторым трамваем мы доехали до Мирослома и, держась красных меток на деревьях, пошли через лес, покуда перед нами не открылась долина и расположившееся на ней здание лесничества с вольерами зверинца. Мой отец, столярных дел мастер, не может спокойно пройти мимо любого мало-мальски высокого дерева, неважно, бук это или сосна, чтобы не оценить на глаз полезный объем содержащейся в нем древесины в кубометрах. Вот почему моя мать, которая в природе, а значит, и в деревьях видела скорее украшение мира, была в плохом настроении, которое развеялось только после кофе с молоком и картофельных оладьев. Господин Камин, арендатор леснического дома и хозяин кафе, уселся между Августом Покрифке и моей матерью. Всем своим посетителям он рассказывал историю возникновения зверинца. Так что Тулла и я уже в десятый раз выслушали, как господин Пикувриц из Сопота подарил зубра. Но началось все не с зубра, а с парочки благородных оленей, которых любезно предоставил директор вагоностроительной фабрики. Потом добавились кабаны и лани. Кто-то выдарил одну обезьяну, еще кто-то двух. Старший лесничий Николай обеспечил лисиц и бобров. Канадский консул привез двух енотов. А волков? Волков кто? Тех самых, что позже убегут из зверинца, растерзают в малиннике ребенка и потом, подстрелянные, появятся на фотографии в газете? Волков кто?
Прежде чем господин Камин успевает сообщить, что обоих волков, волка и волчицу, зверинцу Долина Радости подарил Бреславльский зоопарк, мы с Харрасом выбегаем на улицу. Вот зубр Джек — но нам дальше. Вокруг замерзшего пруда. Каштаны и желуди для кабанов. Короткое облаивание лис. А вот и волки за решеткой. Харрас окаменел. Волки за стальными прутьями в беспокойстве. Шаг шире, чем у Харраса. Зато грудь не так развита, глаза посажены косо, меньше и глубже, более защищены. Голова в целом более приплюснутая, туловище округлое, в холке ниже, чем Харрас, шерсть густая и жесткая, светло-серая с черными подпалинами, желтый подшерсток. Харрас хрипло поскуливает. Волки без устали рыскают по клетке. Однажды сторож позабудет закрыть… Снег лепешками падает с еловых веток. На миг волки за прутьями замирают — три пары глаз, скулы подрагивают. Три носа подергиваются волнистыми складками. Из трех пастей валит пар. Серые волки — черный Харрас. Черный вследствие упорной селекции. Перенасыщение пигментных клеток от Перкуна через Сенту и Плутона вплоть до нашего Харраса с мельницы Луизы подарило нашему псу столь густую, без малейших разводов и подпалин, вкраплений и отметин, черную масть. Но вон уже мой отец свистнул, и Август Покрифке хлопает в ладоши. Семья Туллы и мои родители, все в зимних пальто, стоят перед лесническим домом. Беспокойные волки остаются где-то позади. Но для нас и для Харраса воскресная прогулка на этом еще не закончена. Вкус картофельных оладьев долго тает во рту.
Отец повел всех нас в Оливу. Там мы садимся на трамвай и едем до Глетткау. Море, покрытое льдом до самой дымки на горизонте. Пирс в Глетткау сверкал на солнце причудливой искристой наледью. Поэтому отцу, конечно же, приспичило доставать из кожаного футляра фотоаппарат, а нам пришлось группироваться вокруг Харраса на фоне этой фантастической карамели. Отец долго наводил фокус. Шесть раз нам велено было замереть, что только Харрасу давалось без труда — он привык позировать еще с тех пор, когда его осаждали газетные фоторепортеры. Потом выяснилось, что из шести фотоснимков, которые сделал отец, четыре передержаны — лед слишком ярко сверкал на солнце.
Из Глетткау по хрустящему насту двинулись в Брезен. Черные точки до самых кораблей, вмерзших в лед на рейде. Много народу вышло проветриться. Лафа чайкам. Два дня спустя четверо школьников, решивших пройтись по льду до Хелы, заблудились в тумане — их искали с самолетами, но так и не нашли.
Неподалеку от брезенского пирса, столь же немыслимо замерзшего — мы уже хотели поворачивать к рыбацкой деревушке, потому что все Покрифке, особенно Тулла, избегали брезенского причала, так как несколько лет назад там младший Конрад, глухонемой… — словом, после того, как отец своей сильной рукой мастерового указал нам новое направление, примерно в четыре часа пополудни, двадцать восьмого декабря, незадолго до встречи нового, тридцать седьмого года, Харрас, которого отец из-за обилия собак вокруг вел на поводке, вырвался вместе с поводком, перерезал белое пространство десятью огромными, стелющимися прыжками, ринулся в визжащую толпу и, когда мы туда подоспели, уже катался, взметывая клубы снега, в одном клубке с черным, трепещущим как пойманная птица пальто.
Так, хотя Тулла не произнесла ни слова, пианист и учитель музыки Фельзнер-Имбс, вышедший в тот день, как и мы, на воскресную прогулку вместе со старшим преподавателем Брунисом и десятилетней Йенни Брунис, подвергся нападению Харраса в третий раз. И на сей раз дело не обошлось возмещением фрака или зонтика. Теперь уже у отца были все основания сказать, что эта дурацкая история дорого ему обходится. Правая ляжка Фельзнер-Имбса была порвана в клочья. Ему пришлось на три недели лечь в больницу, а сверх того он потребовал возместить ущерб за телесные повреждения.
Тулла!
Идет снег. Тогда и сейчас — шел и идет. Мело и метет. Падало и падает. Роилось и роится. Клубилось и клубится. Хлопьями тогда и хлопьями сейчас. Сыпало и сыплет снег центнерами на Йешкентальский лес и на Груневальд[211]; на аллею Гинденбурга и на аллею Клая; на лангфурский рынок и на Беркский рынок в Шмаргендорфе; на Балтийское море и Хафельские озера; на Оливу и на Шпандау; на Данциг-Шидлиц и на Берлин-Лихтенберг, на Эмаус и на Моабит, на Новую Гавань и Пренцлауэрберг; на Саспе и Брезен, на Бабельсберг и Штайнштюкен; на кирпичную стену вокруг Вестерплатте и на новенькую, наскоро поставленную стену между Берлином и Берлином валит снег и наметает сугробы, снег валил и наметало сугробы.
Для Туллы и для меня,
поскольку мы дождаться не могли снега, снег валил двое суток подряд и ложился сугробами. То крупяной, косой и колючий — у дворников он считался «тяжелым», то бесцельный, большими хлопьями — на свету они, пушистые, с рваными краями, белей зубной пасты, а против света серые, а то и черные, — влажный, плюшевый снег, на который затем снова сыпал косой и колючий снег с востока. И при этом умеренный мороз, по ночам опять и опять застилавший все вокруг влажной мглистой пеленой, так что к утру все заборы стояли белые, а ветки деревьев трещали от снега. Требовались неимоверные усилия всех дворников, колонн безработных, аварийных служб и всего грузового автопарка города, чтобы снова худо-бедно обозначить улицы, тротуары и трамвайные рельсы. Горы снега, комковатые, затверделые, тянулись суровыми кряжами вдоль всей Эльзенской улицы, закрывая Харраса с головой, а моего отца — по его мощную рабочую грудь. Туллина шерстяная шапочка мелькала синей макушкой только во впадинах этой горной цепи. Дороги посыпали песком, золой и рыжей кормовой солью. Хозяева длинными жердями стряхивали снег с ветвей фруктовых деревьев на садовых участках за Аббатской мельницей. Но пока они махали лопатами, разбрасывали песок, золу и соль, отряхивали ветки, снег все падал и падал. Дети изумлялись. Старожилы пытались упомнить: это когда же такое было? Дворники ругались и жаловались друг другу:
— А платить кто будет? Где взять столько песка, золы и соли? А если он вообще не перестанет, что тогда? А потом таять начнет — а уж таять начнет как пить дать, нам ли, дворникам, не знать, — и все в подвал потечет, и у детей грипп начнется, да и у взрослых тоже, точь-в-точь как в семнадцатом.
Когда снег, можно глазеть в окно и пытаться считать снежинки. Этим сейчас и занят твой кузен Харри, хотя вообще-то ему не снежинки считать надо, а писать тебе. Можно, когда снег идет большими хлопьями, выбежать на улицу и подставлять хлопьям рот. Мне бы очень хотелось так и сделать, но нельзя, Брауксель не велит — говорит, надо писать тебе. Можно, если ты черный пес-овчарка, выскочить из своей конуры под пышной белой шапкой и грызть снег. Можно, если тебя зовут Эдди Амзель и ты с младых ногтей строил птичьи пугала, в дни, когда снег идет без продыху, понастроить для птиц скворечников и благодетельно сыпать по кормушкам птичий корм. Можно, когда белый снег падает на твою коричневую форменную фуражку штурмовика, скрежетать зубами. Можно, если тебя зовут Тулла и ты почти ничего не весишь, бегать прямо по сугробам, не оставляя следов. Можно, пока длятся каникулы и не перестает разверзаться небо, сидеть в своем теплом кабинете, разбирать свои слюдяные гнейсы, двуслюдяные гнейсы, слюдяной гранит и слюдяной сланец, быть при этом старшим преподавателем и сосать леденец. Можно, если ты подсобный рабочий в столярной мастерской и платят тебе гроши, во времена, когда вдруг нападало столько снега, малость подработать, сколачивая из хозяйского материала деревянные лопаты. Можно, когда хочется помочиться, писать прямо в снег, гравируя желтоватой дымящейся струйкой свое имя на сугробах; правда, имя желательно иметь короткое — я таким манером вывел на снегу «Харри»; Тулла, которой стало завидно, затоптала мои вензеля своими зашнурованными ботиночками. Можно, если у тебя длинные ресницы, ловить этими ресницами падающий снег; правда, ресницы должны быть не только длинными, но и густыми — именно такие были у Йенни на ее кукольном личике; когда она застывала в тихом изумлении, ее серо-голубые глаза вскоре начинали смотреть на мир из-под пушистых белых шторок. Можно, если в снегопад стоять тихо и не двигаться, услышать, как падает снег — я часто так стоял и много слышал. Можно при желании сравнить снег и с саваном — но это нам совсем ни к чему. Можно, будучи пухлым ребенком-найденышем, которому подарили на Рождество санки, очень захотеть покататься с горки — но найденыша никто в компанию брать не хочет. Можно горько плакать, когда падает снег, а никому до этого и дела не будет, кроме Туллы, которая своими большими ноздрями все замечает и спросит у Йенни:
— Кататься с нами пойдешь?
Мы все пошли кататься с горки и взяли с собой Йенни, в конце концов снег для всех детей выпал. А прошлые дела, когда дождь хлестал и Йенни в канаве мокла, вроде как снегом замело, и уже не один раз. Йенни так радовалась, что Тулла ее позвала — аж страшно становилось. Ее круглая мордашка сияла, тогда как лицо Туллы оставалось непроницаемым. Возможно, Тулла потому только Йенни и позвала, что у той санки новые были. В доме у Покрифке были только старые полозья, да и те ее братья утащили, а со мной она на одни санки садиться не хотела, потому что я ее тискал, не мог не тискать, и из-за этого мы падали. Харраса нам взять не разрешили, он от снега совсем шальной делался — и притом ведь немолодой уже: десять лет кобелю — все равно что человеку семьдесят.
Через Лангфур до самого Иоанновского луга мы тащили наши санки порожняком. Только Тулла иногда разрешала себя прокатить — то мне, то Йенни. Йенни Туллу везла с удовольствием и то и дело предлагала прокатить ее еще. Но Тулла позволяла себя прокатить не тогда, когда ей предлагали, а только когда ей самой нравилось. Катались мы с Цинглеровской горки, с Альбрехтской горки и еще с большого спуска на Иоанновой горе — там была настоящая ледяная дорожка, ее заливали городские власти. Спуск этот считался довольно опасным и я, мальчик скорее боязливый, предпочитал скатываться с пологого склона Ионновского луга, которым у подножья горы дорожка заканчивалась. Часто, если на дорожке было много народа, мы катались в той части леса, что начиналась по правую руку сразу за Йешкентальским проездом и за Верхним Штрисом переходила в Оливский лес. Гора, с которой мы там катались, называлась Гороховой. Санная дорожка веда с ее вершины прямо к задам амзелевской виллы в проезде Стеффенса. Прижавшись животом к саням, мы мчались вниз мимо заснеженных орешников, через низкий дрок, который и зимой издавал какой-то особый, строгий запах.
Амзель часто работал в саду. На нем был красный, как светофор, свитер. Вязаные и тоже красные рейтузы ныряли в резиновые сапоги. Белый шерстяной шарф, пересекавший грудь свитера крест-накрест, держала на спине невероятно крупная английская булавка. Третьим красным пятном в его туалете была вязаная красная шапочка с белым помпоном: нам очень хотелось прыснуть, но было нельзя, иначе бы снег с кустов посыпался. Он колдовал над пятью фигурами, которые были похожи на детей из сиротского приюта. Иногда, когда мы прятались в кустах дрока — заснеженные ветки, черные, высохшие стручки, — мы видели, как в сад к Амзелю приходят сироты из приюта в сопровождении воспитательницы. В серо-голубых спецовках и серо-голубых шапочках с мышиными серыми наушниками, закутанные в черные шерстяные шарфы, они, сирые и замерзшие, позировали Амзелю, покуда он, дав каждому по пакетику конфет, их не отпускал.
Тулла и я знали,
что Амзель тогда выполнял заказ. Главный режиссер городского театра, которому Вальтер Матерн представил своего друга, согласился просмотреть папку работ Эдди Амзеля с эскизами декораций и костюмов. Театральные работы Амзеля режиссеру понравились, и он поручил ему разработку декораций и костюмов для ставившейся в театре пьесы из истории родного края. А поскольку в последнем акте — действие пьесы разыгрывалось во время наполеоновских войн, город был осажден прусскими и русскими войсками — по ходу пьесы дети-сироты должны были выйти к линии фронта и петь перед герцогом Вюртембергским[212], Амзелю пришла в голову чисто амзелевская идея не выпускать на сцену настоящих, посконных сиротских детей, а поставить на подмостки, так сказать, сирот механических, потому что, так он утверждал, нет на свете зрелища более трогательного, чем заводная механическая дрожь — достаточно вспомнить трогательные музыкальные табакерки стародавних времен. И вот — за весьма скромные дары — Амзель приглашал к себе в сад детишек из сиротского приюта. Он заставлял их позировать и одновременно петь. «Господь велик, тебя мы славим» — пели евангелические сироты, а мы, в кустах, хихикали в кулачок и скопом радовались, что у нас-то папы и мамы есть.
Когда Эдди Амзель работал в своем ателье, мы не могли разобрать, что он там сооружает: окна в глубине веранды с птичьими кормушками, вокруг которых не затихала жизнь, отражали только Йешкентальский лес. Другие дети думали, что он там тоже всяких чудных сирот мастерит или невест из ваты и туалетной бумаги, и только мы с Туллой знали: он там строит штурмовиков, которые умеют маршировать и вскидывать руку, потому что у них в животах встроенная механика. Иногда нам даже казалось, что мы ее слышим. Мы и друг у дружки щупали животы, искали в себе механику — у Туллы даже нашлась.
Тулла и я,
мы никогда особенно долго в кустах не сидели. Во-первых, холодно; во-вторых, все время надо сдерживаться, чтобы не прыснуть; а в-третьих, нам хотелось с горки кататься.
Если одна дорожка улетала вниз по Философскому переулку, а другая мчала наши сани прямо к ограде амзелевского сада, то третья выносила напрямик к статуе Гутенберга. На опушке этой дети показывались редко, потому что все они, кроме Туллы, Гутенберга боялись. И я тоже не слишком любил к нему приближаться. Одному Богу известно, каким образом этот памятник очутился в лесу: возможно, его создатели просто не нашли для него в городе подходящего места, или, может, они выбрали Йешкентальский лес, потому что он буковый, а Гутенберг, прежде чем додумался отливать свои буквицы для книгопечатания, сперва вырезал их как раз из бука. Тулла заставляла нас съезжать с Гороховой горы прямо к этому памятнику, потому что ей хотелось нас пугать.
И было чем: посреди белой опушки стоял черный, как сажа, чугунного литья храм. Семь чугунных колонн поддерживали его круглую и выпуклую, как шляпка гриба, рифленую чугунную крышу. От колонны к колонне перекинулись тяжелые, холодные чугунные цепи, удерживаемые в чугунных зубах литыми львиными мордами. Ступени синего гранита, числом пять, обегали памятник по кругу, образуя под ним постамент. А в центре чугунного храма, среди семи колонн, стоял чугунный истукан: окладистая, в завитушках чугунная борода волнами ниспадала на его чугунный фартук первопечатника. В левой руке он держал черную литую книгу, уперев ее в бороду и фартук. Чугунным указательным пальцем чугунной правой руки он тыкал в буквы чугунной книги. Надпись в книге можно было прочесть, взойдя по пяти ступеням до самой чугунной цепи. Но сделать эти несколько шагов никто из нас не отваживался. Одна только Тулла, легкое, как пушинка, исключение, покуда мы поодаль обмирали от страха, вприпрыжку взлетала вверх по ступеням, останавливалась перед храмом крохотной худышкой, поначалу к цепи не притрагиваясь, потом садилась на чугунную гирлянду между двух колонн и раскачивалась сперва что есть мочи, затем потише, соскальзывала с покачивающейся цепи и, уже там, в храме, поплясав вокруг сумрачного Гутенберга, вскарабкивалась ему на левое колено. На колене можно было сидеть, потому что левая чугунная нога гиганта чугунной сандалиевой подошвой попирала верхний край чугунной же мемориальной доски, надпись на которой возвещала: «Здесь стоит Иоганн Гутенберг». Чтобы понять, насколько черен был этот идол в черном, харрасовой масти храме, надо вообразить себе еще и снег, падающий вокруг то крупными, то мелкими хлопьями; чугунную грибовидную крышу храма укрывала пушистая снежная папаха. И пока вокруг мельтешился снег, пока тихо качалась растревоженная Туллой чугунная цепь, пока сама Тулла гарцевала на левом колене чугунного исполина, Туллин белый указательный пальчик — перчаток и варежек она отродясь не носила — ползал по тем же самым литым буквам, в которые тыкал Гутенберг своим чугунным перстом.
Когда Тулла вернулась, — мы стояли не шевелясь, уже заметенные снегом, — она спросила, хотим ли мы узнать, что написано в железной книге. Мы не хотели, мы трясли головами истово и молча. По Туллиным утверждениям надписи в книге ежедневно менялись, так что каждый день можно было прочесть новые, но непременно жуткие слова. На сей раз слова были особенно страшные.
— Так хотите узнать или нет?
Мы не хотели. Потом один из братьев Эшев все-таки захотел. Гансик Матулл и Руди Циглер тоже захотели. Хайни Пиленц и Георг Цим долго не хотели, но потом захотели и они. В конце концов даже Йенни Брунис захотела узнать, что написано сегодня в железной книге Иоганна Гутенберга.
Легкой, пританцовывающей походкой Тулла двигалась вокруг нас, приросших к месту. Лес вокруг памятника Гутенбергу в ужасе расступался, открывая прорехи неба, из которых сыпал и сыпал снег. Туллин голый палец уткнулся в Гансика Матулла:
— Ты! — Губы у Гансика дрогнули. — Нет ты! — Теперь ее палец указывал на меня. Я бы точно разревелся, если бы она тут же не ткнула в маленького Эша, а потом не вцепилась в пушистое пальтишко Йенни:
— Ты! Ты-ты! Там написано: ты! Ты должна подойти, иначе он сам спустится и тебя заберет!
От ужаса даже снег начал таять на наших шапках.
— Гутенгрех, — так Тулла окрестила Гутенберга, — Гутенгрех сказал: ты! Ты, он сказал. Только Йенни мне нужна, а больше никто.
Слова, точно заклинания, сыпались из нее все чаще, сплетаясь все тесней. И покуда она выписывала вокруг Йенни свои ведьмовские вензеля в снегу, черный Гутенгрех сумрачно взирал из чугунного храма куда-то поверх наших голов.
Мы затеяли переговоры, мы хотели сперва узнать, а что, собственно, Гутенгрех хочет с Йенни сделать. Он ее хочет съесть или превратить в железную цепь? Засунуть под железный фартук или вплющить в железную книгу? Тулла знала, что Гутенгрех намеревается с Йенни сделать:
— Станцевать она ему должна, вот и все, раз уж она ходит на балет со своим Имбсом.
Ни жива ни мертва, круглый шарик в пушистом пальто, Йенни судорожно держалась за веревку от своих санок. Вдруг две белоснежных шторки разом спали с ее длинных и густых ресниц:
— Нет-нет-нет-не-хочу-не-хочу-не-хочу! — шептала она и, наверно, хотела закричать. Но, видно, ротик у нее на ширину крика не раскрывался, и она просто убежала вместе со своими санками: косолапо спотыкаясь, падая, поднимаясь снова, добралась до леса и скрылась за буковыми стволами в сторону Иоанновского луга.
Тулла и я не стали Йенни догонять,
пусть бежит, мы-то знали, что от Гутенгреха все равно не уйдешь. Раз у него в железной книге написано: «Теперь черед Йенни», — значит, так тому и быть и надо ей перед ним станцевать, как ее учат в балетной школе.
На следующий день, когда мы после обеда собрались вместе с санками на утоптанном снегу Эльзенской улицы, Йенни не вышла, как мы под окнами учительской квартиры ей ни свистели, с пальцами и без. Долго мы ждать ее не стали — когда-нибудь все равно придет.
Йенни Брунис пришла через день. Без слов присоединилась к нам, все такая же пухленькая в своем желтоватом, пушистом, медвежоночьем пальтишке.
Тулла и я не могли знать,
что примерно в это же время Эдди Амзель вышел в сад. Как обычно, на нем были сигнально-красные, грубой вязки рейтузы. Того же цвета был его заношенный свитер. Белый потрепанный шерстяной шарф скрепляла за спиной английская булавка. Все шерстяные вещи ему вязали на заказ из распущенной шерсти: новой одежды он никогда не носил. Свинцово-серый день пополудни; снег перестал, но пахнет снегом, который пойдет. Взвалив на плечо, Амзель выносит в сад фигуру. Ставит большое, в человеческий рост пугало в сугроб. Сложив губы трубочкой и насвистывая, уходит через веранду в дом и возвращается, нагруженный второй фигурой. Водружает ее в сугроб рядом с первой. Насвистывая марш «Мы все гвардейцы…», снова устремляется в ателье, и, роняя крупные жемчужины пота, тащит на горбу третью фигуру в компанию к двум предыдущим. Но ему придется исполнить марш еще и еще раз и проложить в глубоком, по колено, снегу вполне утоптанную тропинку, прежде чем девять фигур не вытянутся в саду сомкнутым строем по стойке смирно, ожидая его приказаний. Дерюга с униформенными коричневыми аппликациями. Подбородные ремни под свиными пузырями. Наващены и надраены, поскрипывая кожей, всегда готовые к бою и жратве из одной миски: девять спартанцев, девятеро против Фив[213], под Лейденом, в Тевтобургском лесу, девять несгибаемых и верных, девять швабов, девять коричневых лебедей, последний резерв, отряд обреченных, передовой дозор, рота прикрытия, шеренга гордых Бургундов, нос в нос, как по линеечке: «И вот он, Нибелунгов рок»[214] в заснеженном саду у Этцеля.
Тулла, я и остальные,
мы тем временем миновали Йешкентальский проезд. Единым строем, след в след, колея в колею. Добротный, хрупающий снег. Отпечатки на снегу: много резиновых сапог самых разных рисунков и подошвы подкованных ботинок, как правило, с частично оторванными скобочками — когда две, когда пять, редко чтобы все были целы. Йенни идет по следам Туллы; я по следам Йенни; Гансик Матулл по моим следам; далее маленький Эш и все остальные, послушно, след в след. Безмолвно, не переговариваясь, мы идем гуськом за Туллой. Только колокольчики на санках беззаботно позвякивают. Нет, к выезду большой ледяной дорожки на Иоанновском лугу мы сегодня не пойдем — неподалеку от леснического дома Тулла круто сворачивает. Мы такие маленькие под огромными буками. Сперва нам еще попадаются навстречу другие дети с санями или на самодельных полозьях. Потом мы остаемся одни и знаем — чугунный памятник близко. Робким шагом вступаем мы в царство Гутенгреха.
Тем временем, пока мы крадучись приближаемся,
Эдди Амзель все еще весело и не таясь насвистывает. От одного доблестного воина он переходит к другому. Каждому бойцу штурмового отряда он лезет в левый карман галифе и по очереди приводит в действие запрятанный внутри каждого заводной механизм. И хотя каждый прочно насажен на свою ось, — металлический стержень с круглой подставкой вроде тех, на каких крепят пляжные зонтики-грибки, — однако теперь, не отвоевывая, впрочем, ни пяди пространства, восемнадцать сумрачнобогих сапог, ать-два, начинают приподниматься над снегом. Девять обмундированных скелетов — «дряхлые кости мира дрожат»[215] — учатся маршировать в ногу. Этому, впрочем, Эдди Амзель обучит их мигом, уверенным движением подправив что-то в левом брючном кармане у двух марширующих фигурантов: все, теперь пошло-поехало, в ногу и вперед, ради и вопреки, дальше и мимо, через и невзирая, сперва походным, потом строевым, как на параде — все девять. И почти одновременно девять свиных пузырей над подбородными ремнями как по команде поворачиваются направо — равнение напра-во! — и все смотрят на него. Ибо Эдди Амзель на все свиные пузыри наклеил лица. Репродукции с картин живописца Шнорра фон Карлсфельда[216], — который, если не все еще знают, запечатлел на своих полотнах горький удел Нибелунгов, — подарили марширующей братве свои физиономии: вот шагает угрюмый штурмовик-рядовой Хаген фон Тронье; рядовые отец и сын Хильдебранд и Хадубранд; светленький командир отряда Зигфрид фон Ксантен; утонченный полковник Гунтер; неунывающий весельчак Фолькер Бауман; и — замыкающими — три витязя, что сумели выколотить из рока Нибелунгов неплохие барыши — благородный Геббель фон Вессельбурен, Рихард дер Вагнер[217] и тот вышеупомянутый живописец, что своей мягкой назарейской кистью[218] увековечил страдания Нибелунгов. И вот, пока они, все девять, держат равнение направо, их руки-палки, только что колыхавшиеся в марше, судорожно, но на удивление равномерно начинают вздергиваться вверх: вяло, но молодецки ползут вверх правые руки на предписанную уставом высоту Немецкого приветствия, а левые тем временем заламывают локоть углом, покуда зачерненные и надутые резиновые перчатки не доберутся до ременной пряжки. Но кого же они приветствуют? На кого держат равнение? Как зовут того вождя, чей взгляд они так жадно ловят? И кто дарит их взглядом и ответным приветствием, кто принимает у них парад?
В позе Канцлера Рейха — правая рука открытым семафором — Эдди Амзель принимает почести марширующего почетного караула штурмовиков. Самому себе и девятерым своим механическим ребятам он насвистывал марш, на сей раз «Баденвайльский».
Чего Тулла не знала:
пока Эдди Амзель продолжал насвистывать, Гутенберг бросал свой жуткий чугунный взгляд поверх горстки детворы, что, с санками разных форм и размеров, сгрудилась в поле его зрения, правда, на почтительном расстоянии, и, наконец, вытолкнула из себя крошечное существо — пухленькое, пушистое, обреченное. Медленными шагами Йенни двинулась в направлении чугунного идола. Свежевыпавший снег налипал на ее резиновые подошвы — Йенни почти сразу подросла на добрых три сантиметра. И тут, нет, в самом деле, с белых буков Йешкетальского леса снялись вороны. Комья снега ухнули с ветвей. В тихом ужасе Йенни вскинула свои ручки-оладушки. Она подросла еще на сантиметр, потому что снова медленным шагом двинулась к чугунному храму, а тем временем вороны вверху, вспоров воздух своим скрипучим гарканьем, пробуравили в небе над Гороховой горой девять черных прорех и упали на другую сторону, в кроны буков, что ограждали лес возле амзелевского сада.
Чего Тулла не могла знать:
когда вороны перебрались на новое место, в саду Амзеля находился не только сам Амзель со своими девятью марширующими молодчиками; там же топтали снег пять, шесть, а то и больше фигур, механику в которые встроил отнюдь не Амзель, а сам Господь Бог. Их изрыгнула не амзелевская мастерская. Они пришли с улицы, в масках, закутанные, жутковатые, и перелезли через забор. В кепках, надвинутых на лбы, в широких утепленных плащах и черных, с прорезями для глаз повязках они кажутся самодельными пугалами, но это не пугала, это люди из плоти и крови, и они лезут через забор как раз тогда, когда механика в фигурах Амзеля начинает действовать вспять: девять вскинутых палочных рук натужно опускаются вниз, резиновые перчатки соскальзывают с ременных пряжек, строевой шаг сменяется походным, траурный марш, последние судороги сапог, смирно; с тихим лязгом кончается завод; тут и Эдди прячет сложенные трубочкой губы — его пятачок больше не свистит; склонив набок массивную голову в шапочке с болтающимся помпоном, он с интересом посматривает на своих непрошенных гостей. И пока девять его самодельных болванчиков, как по команде, стоят смирно, а механика в них, только что еще живая и теплая, тихо остывает, девять закутанных в черное фигур движутся планомерно и неуклонно — они образуют полукруг, в январском воздухе из-под черных масок валит пар, полукруг охватывает Эдди Амзеля все глубже, пока не превращается в круг, они медленно, шаг за шагом, приближаются. Вскоре Эдди уже слышит их запах.
И тут Тулла позвала ворон обратно:
из-за Гороховой горы она кликнула неблагозвучных птиц, велев им вернуться в кроны буков вокруг Гутенберга. Вороны увидели, как Йенни сперва застыла перед гранитными ступенями, что ведут в чугунный храм Гутентреха, потом всем своим круглым личиком оглянулась: Йенни увидела Туллу, увидела меня, маленького Эша, Гансика Матулла, Руди Циглер — всех нас она увидела там, вдали. Может, она нас пересчитала? Или нас пересчитали вороны — семь, восемь, девять детишек там, на взгорке, и еще одна девчушка отдельно? Было не холодно. Пахло мокрым снегом и чугуном.
— Ну давай же, танцуй вокруг него! Вокруг! — крикнула Тулла.
Лес отозвался эхом. И мы стали кричать, тоже стали вторить, чтобы она начинала, наконец, свои танцы, потому что тем скорее они тогда кончатся. Все вороны на деревьях, Гутенгрех под своим железным грибом и мы — все мы видели, как Йенни выдернула из сугроба правый ботиночек, в который уходила штрипка ее рейтуз, и попыталась изобразить правой ножкой нечто вроде батман девлоппе[219] — пасе ля жамбе[220]. При этом ломоть липкого снега отвалился от подошвы, прежде чем она снова погрузила правый ботинок в сугроб и извлекла левый. Она повторила это беспомощное па, теперь стояла на правой, подняла левую и осторожно попробовала пируэт с поворотом ноги в воздухе, перешла в пятую позицию, раскинула ручки в пор-де-бра, начала аттитюд круазе деван, покачалась в аттитюд эфассе и упала в первый раз, когда ей не удалась аттитюд круазе дерьер[221]. Уже не в желтоватом, уже в заснеженно-белом медвежоночьем пальтишке она поднялась. В сбившейся шерстяной шапочке танец в честь Гутенгреха был продолжен: из пятой позиции — в дми-плие, затем пти шанжман де пье. Следующее движение, очевидно, должно было изобразить сложное па ассамбле[222], но тут Йенни упала вторично; а когда при попытке блеснуть рискованным па де ша[223] Йенни упала в третий раз, не взлетела в воздух, а свалилась, не порадовала чугунного Гутенгреха невесомым воспарением, а мешком плюхнулась в снег, возмущенные вороны одернулись с буковых ветвей и устроили скандал.
Тулла ворон отпустила,
и они, перелетев на северный склон Гороховой горы, увидели, что там закутанные фигуры не только сомкнули вокруг Эдди Амзеля кольцо, но и неумолимо его сжимают. Девять черных утепленных плащей соскучились по чувству локтя. Амзель судорожно поворачивает взмокшее лицо то к одному, то к другому. Он топчется на месте. Шерсть на рейтузах и свитере вся замахрилась и в петелках. Гладкий лоб весь в поту. Он как-то натужно смеется и в лихорадочном раздумье проводит кончиком языка по губам.
— Что господам угодно? — Жалкие идеи приходят ему в голову. — Может, сварить господам кофейку? Кажется, в доме есть пирожные. Или лучше сказочку? Знаете сказочку про угрей, сосущих молоко? Или про мельника и говорящих мучных червей? Или про двенадцать безголовых рыцарей и двенадцать безголовых монахинь?
Но девять черных повязок с восемнадцатью прорезями для глаз, видно, дали кому-то обет молчания. Однако, когда он, — быть может, чтобы поставить кофе, — пытается упругим мячиком прорвать кольцо плащей и низко надвинутых кепок, — ему отвечает кулак, ничем не укутанный, сухой и голый: свалявшийся красный свитер опрокидывается навзничь, порывается вскочить, отряхнуть с себя снег, но в этот миг Амзеля достает второй кулак, и вороны взлетают с ветвей.
Тулла ей кричала,
но Йенни было уже все равно. После второго и третьего падений она, поскуливая, снежным комом поползла в нашу сторону. Но Тулле этого было мало. И если мы словно приросли к месту, то она, стремительно и не оставляя следов, шмыгнула по снегу навстречу Йенни — снежному кому. И когда Йенни попыталась подняться, Тулла пихнула ее обратно в снег. Йенни не успевала встать — и тут же падала снова. Кто бы сейчас мог подумать, что под этой снежной шубой есть еще пушистое медвежоночье пальтишко? Мы отступили к опушке леса и оттуда смотрели, как трудится Тулла. Вороны над нашими головами заходились от восторга. Чернота Гутенберга могла теперь сравниться с белоснежностью Йенни. Блеющий смех Туллы эхом разносился над всей опушкой — она нам махала. Но мы остались под буками, пока Тулла закатывала Йенни в снег. Ее теперь было совсем не слышно, она только делалась все толще. Когда ботинки Йенни скрылись в снежном коме и ей уже не на что было встать, вороны, посчитав, что нагляделись вдоволь, переметнулись на другую сторону горы.
Тулле-то справиться с Йенни было проще простого,
а вот Эдди Амзель, вороны подтвердят, задавал слишком много вопросов, и на каждый ему приходилось отвечать кулаком. Все кулаки, что ему отвечали, хранили безмолвие, все, кроме одного. Этот кулак бил и скрежетал зубами из-под черной маски. И у Амзеля изо рта вместе с кровавой пеной пузырится вопрос:
— Это ты? Отэ ыт?
Но скрежещущий кулак не разговаривает, он бьет. Другие кулаки уже отдыхают. И только скрежещущий продолжает работать, склонившись над лежачим Амзелем, потому что Амзель уже не может подняться. А кулак все молотит и молотит, сверху вниз, по кроваво-пузыристым губам. Может, эти губы по-прежнему стараются выговорить вопрос «Отэ ыт?», но вместо слов выплевывают только мелкие, аккуратные, жемчужно-белые зубы: теплая кровь на прохладном снегу, детский барабан, Польша, черешни со сливками — кровь на снегу. Теперь они закатывают его в снег, как Тулла закатывала девочку Йенни.
Но Тулла со своим снеговиком первой управилась.
Плоскими ладошками она его со всех сторон утрамбовала, поставила на попа, спорыми движениями шустрых рук прилепила нос, нашла, пошарив вокруг глазами, шерстяную шапочку Йенни, натянула ее снеговику на его круглую, как тыква, снежную голову, разрыла башмаками снег, покуда не добралась до прошлогодней листвы, буковых орешков и сухих сучьев, воткнула снеговику два сучка в боки, вставила ему два глаза-орешка и отошла на несколько шагов назад — оценить свое произведение.
Тулла могла бы его и сопоставить,
поскольку за Гороховой горой, в саду Амзеля, тоже стоит снеговик. Тулла не сравнивала, а вот вороны сравнили. Он воцарился прямо посреди сада, тогда как девять пугал в дерюге с коричневыми заплатами мирно подремывают в глубине. У снеговика в амзелевом саду носа нет. И глаза из буковых орешков ему тоже не догадались вставить. И шерстяную шапочку на голову натянуть позабыли. И нет у него хворостяных рук, чтобы махать ими от радости или от отчаяния. Зато у него есть алый рот, и рот этот сам собой увеличивается.
В отличие от Туллы, девять незнакомцев в утепленных плащах торопятся. Они перелезают через забор и уходят лесом, в то время как мы, вместе с Туллой, все еще стоим с санками на опушке и любуемся на снеговика в Йенниной шапочке. Снова пикируют вороны с вершины горы на опушку, но на сей раз не оседают в буковых кронах, а с истошно-скрипучим граем кружат сперва над чугунным гутенберговым храмом, потом над снеговиком. Гутенгрех обдает нас своим стылым дыханием. Вороны на снегу как черные дыры. По обе стороны Гороховой горы уже смеркается. Мы убегаем, прихватив наши санки. Нам жарко под нашей зимней одежкой.
Дорогая кузина Тулла,
одного ты не учла: вместе с сумерками пришла оттепель. Впрочем, про оттепель почему-то говорят неприязненное слово «наступила». Так вот, наступила оттепель. Воздух сделался густым и мягким. Взопрели буки в буковом лесу, то бишь, по-немецки говоря, в бухенвальде. Ветви стали сбрасывать с себя снежные лапы. Они ухали по всему лесу. Конечно, и теплый ветер подсоблял маленько. Капель пробивала первые дырки в сугробах. А мне готова была пробить дырку в голове, потому что я остался под буками. Впрочем, уйди я вместе со всеми и с санками домой, капель и там бы мое темечко достала. Потому что никому, ушел он домой или остался, от оттепели все равно не спрятаться.
Пока что снеговики — один в царстве Гутенгреха, второй в саду Амзеля — стояли незыблемо. Сумерки сочились матовой мертвенной белизной. Вороны улетели куда-то еще и там рассказывали, что они где-то еще видели. Снежная шапка с чугунного гриба над Гутенбергом вдруг поползла и разом обвалилась. Не только буки, я тоже взопрел. Иоганн Гутенберг, обычно такой непререкаемо чугунный, тоже взмок и поблескивал испариной между лоснистыми колоннами. И над опушкой, и там, где кончался лес и начинались виллы, над всем Лангфуром небо разом поднялось на несколько этажей выше. Торопливые облака неряшливым атакующим строем неслись к морю. В рваные прорехи звездило ночное небо. И наконец, не сразу, с промежутками, выкатилась набухшая оттепельная луна. И стала показывать мне, когда через большую дырку, когда полумесяцем, когда только обгрызанным ломтем, а когда и сквозь облачное марево, что творит на опушке в царстве Гутенгреха разгулявшаяся оттепель.
Гутенберг потел, как живой, но оставался в своем храме. Сперва казалось, будто лес хочет подступить ближе, но потом, при ясной луне, он вдруг подался назад; снова подошел сомкнутым строем, едва месяц скрылся, снова отступил, не знал, как ему быть и что делать, и растерял в этой бесцельной топотне весь снег, какой успел захапать сучьями в эти метельные дни. И теперь, без ноши под теплым ветром, он начал шуметь. Колышащийся на ветру Йешкентальский лес, чугунный Гутенберг вкупе с жутковатой луной вогнали меня, одинокого Харри в ночном лесу, в липкий и влажный страх. Я кинулся бежать — прочь отсюда! Я взбирался на Гороховую гору. Восемьдесят четыре метра над уровнем моря. Вместе с пластами снега покатился с горы вниз, лишь бы прочь, прочь, прочь отсюда, но оказался перед амзелевым садом. Сквозь сочащиеся ветки орешника и строго пахнущий дрок я туда заглянул — а луна нет. Потом, когда луна смилостивилась, я издали, на глазок, большим и указательным пальцами, снял со снеговика в саду у Амзеля мерку: он малость подтаял, но держался молодцом.
И тут мне, конечно, приспичило и с другого снеговика, что на той стороне горы, тоже снять мерку. То и дело оступаясь и поскальзываясь, я кое-как влез наверх, а уж спускался как придется, боясь только, как бы меня не подхватила какая-нибудь шальная снежная лавина и не вынесла прямо Гутенгреху под ноги. Выручил меня скачок в сторону: я обхватил в обнимку вспотевший буковый ствол. Влага потекла между горячими пальцами. Лупая глазами из-за бука то справа, то слева, я смотрел на опушку и, едва луна начинала мерить ее своими лучами, я тут же приноравливался к ее свету, издали замеряя пальцами снеговика перед гутенберговым храмом. И хотя Туллин снеговик подтаивал не быстрее, чем снеговик на амзелевой стороне Гороховой горки, однако изменения тут были отчетливей: его хворостяные руки опустились; нос отпал. Харри в лесу даже показалось, что глазки из буковых орешков сдвинулись чуть ближе и злобно на него посматривают.
И снова, чтобы ничего не упустить, мне пришлось буксовать по ватной Гороховой горе вверх, потом по ней же, но оползающей, тормозить вниз, прямо в дрок — черные стручки зашуршали. Дух от дрока шел усыпляющий, но стручки не давали мне заснуть, напоминая о моем измерительном долге перед оседающими снеговиками. Теперь, после многократной беготни туда-сюда, оба они стали заметно сдавать, а точнее говоря — поверху тощали на глазах, а ниже пояса расхлябывались кашеообразным месивом, из-под которого появлялись и начинали расти человеческие ноги.
А однажды, на амзелевском склоне, снеговик накренился вправо, словно правая нога у него короче левой. А другой снеговик, из царства Гутенберга, вдруг выпятил живот и стал обнаруживать в профиль рахитичное прогибание.
А в другой раз — я проверял, что делается в амзелевском саду — у снеговика правая нога отросла и он уже не кособочился инвалидом, как раньше.
А еще как-то — я возвращался из амзелевского сада, приник, упрев-ужарев, цеплячей шерстью к моему мокрому буку — и вдруг в лунном свете увидал, что чугунный храм Гутенберга пуст: вот ужас-то! Луна выглянула ненадолго — храм пуст! Луна скрылась — и я вижу: храм — только пустой силуэт, а Гутенгрех, потный, влажный и чугунный, с чугунной бородой, куда-то направляется. С раскрытой железной книгой, в которой ребристые выпуклые буквы, он ищет меня под буками, хочет меня схватить, книгой прихлопнуть, в железную книгу вплющить, меня, одинокого Харри в темном лесу. И что это там трещит — то ли ветер гнет ветви, то ли это Гутенберг слоняется меж стволов, оглаживая кусты своей чугунной бородой? А если он как раз там, где Харри притаился, раскроет свою книгу, аки голодную пасть? Вот сейчас он его схватит. А что Харри среди ночи в лесу понадобилось? Разве не ждут его дома к ужину? Наказание. Poena. «Кара» по латыни. Чугунная кара. И снова, доказательством того, сколь велики глаза у страха при обманчивом лунном свете — когда обманщик-месяц улучает в облаках прореху, чугунный истукан, как ни в чем не бывало, стоит опять под своим балдахином и лоснится оттепельной влагой.
Как же был я рад, что не попал в гутенберговский альбом! Ноги у меня подкосились, и я осел, где стоял, под своим буком. Я заставлял свои усталые, выпученные от всех этих ужасов глаза не спать и не упускать снеговика из виду. Но они уже закрывались и открывались сами собой, как незапертые ставни от порывов ветра. Может, даже и хлопали. Но я, все еще одержимый измерительным бесом, то и дело напоминал себе: не смей спать, Харри! Надо не спать, а в горку и с горки. По Гороховой горе. Восемьдесят четыре метра над уровнем моря. Тебе надо в дрок, между черных стручков. Посмотреть да замерить, какие еще коленца удумал выкинуть снеговик у Амзеля в саду. Поднимайся, Харри! Вставай, и вперед!
Но я словно приклеился к мокрому стволу и наверняка упустил бы тот миг, когда снеговик в царстве Гутенберга развалился, если бы не горластые вороны. Как давеча в сумерки, так и сейчас, с наступлением тьмы, они вели себя чудно, то и дело снимаясь с места и оглашая округу своим скрипучим карканьем. Туловище снеговика разом обваливается внутрь. Вороны метнулись, словно другого направления и на свете нет, на другую, амзелевскую сторону Гороховой горы: значит, и там снеговик обвалился внутрь самого себя.
Кто при виде таких снежных чудес не начнет протирать глаза, ни глазам своим, ни чудесам этим не веря? И кто велел звонить в колокола, когда снеговики обваливаются? Сперва в церкви Сердца Христова, потом в церкви Лютера на Германсхофском пути. Семь ударов. Дома ужин стоит на столе. И родители, стоя среди тяжеловесных полированных мебелей, — сервант, буфет, трюмо, все выпускные работы отцовских подмастерьев, — взирают на мой пустующий, тоже чей-то выпускной стул. Харри, где ты? Чем ты занят? Куда ты уставился? Смотри, не расчеши глаза! — Там, в рыхлом, сером, ноздреватом снегу стояла не Йенни Брунис, не замерзшая пышечка, не ледяной колобок, не трясучий пудинг на ножках — там стояла ломкая хрупкая спичечка, на которой болталось желтоватое Йеннио пальтишко, облезлое и севшее, как после неправильной стирки. И у спичечки была крохотная кукольная мордашка, такая же кукольная, как личико Йенни. Но куколка там стояла совсем другая, тоненькая, такая тоненькая, что и не углядишь, стояла и не двигалась с места.
А вороны, галдя, уже вернулись обратно и упали в черный лес. Наверняка и там, за горой, им тоже пришлось протирать глаза. И там, наверняка, тоже шерсть села. И меня потянуло вверх по склону. Какая-то вдруг уверенность на меня нашла — я хоть и качался, но не оскользнулся ни разу. И откуда вдруг сухой канат, по которому так легко взбираться? И чей канат страхует меня на спуске, чтобы я не грохнулся?
Скрестив руки на груди, непринужденно расположив ноги на ширину плеч — опорная чуть ближе, свободная чуть дальше, — в блеклых сугробах стоял молодой человек. Стройную фигуру плотно облегало шерстяное розовое трико — когда-то, много-много стирок назад оно, очевидно, было ярко-красным. Длинный шарф, белый, грубой домашней вязки, точно такой, как был у Эдди Амзеля, он небрежно перебросил через левое плечо, а не носил крест-накрест, сцепив концы за спиной нелепой английской булавкой. Красавцы из модных журналов любят носить шарф с таким вот асимметричным шиком. Словом, это был Гамлет и Дориан Грей — в одном лице. Аромат мимозы и гвоздики наперебой. Но особую возвышенность, ломкое изящество и аристократизм придавала всей его позе болезненная складка возле рта. И первое же движение молодого человека адресовалось этому болезненному рту. Подрагивая, словно плохо смазанный механизм, его правая рука подобралась к лицу и ощупала губы; за ней последовала и левая — с той же целью. Может, у молодого человека мясо в зубах застряло?
А что он делает теперь, закончив ковыряться в зубах и ловко, не сгибая колен, наклонившись? Что ищет он в снегу своими длинными, тонкими пальцами? Уж не буковые ли орешки? Или ключ от дома? Круглую монету в пять гульденов? Или другие, не столь осязаемые ценности? Прошлое в снегу? Счастье в снегу? Смысл бытия, ад победы, жало смерти[224] в снегу? Может, в эту оттепель он бога искал в саду у Эдди Амзеля?
Но тут молодой человек с болезненным ртом нашел что-то, потом еще, подобрал четыре раза, нет, семь, перед собой, сбоку, сзади. А подобрав находку двумя длинными пальцами, всякий раз поднимал ее на свет, навстречу лунным лучам — и она мерцала жемчужной, пенно-морской белизной.
Но меня уже влекло на другую сторону. Так что пока он там искал, находил и на лунном свету рассматривал, я, уже наловчившись, уверенно скатился под гору, нашел свой бук и уставился на лужайку в надежде увидеть там наконец знакомую сдобную фигурку пышечки Йенни. Но там все еще была эта спичка в скукоженном Йеннином пальтишке и отбрасывала тонюсенькую тень, когда лунный свет на ней преломлялся. Но спичечка тем временем успела раскинуть ручки в стороны, а ножки прижать пятка к пятке, носками врозь. Иными словами: спичечка встала в первую балетную позицию и тут же начала, хотя станка поблизости было не видать, со строгих станковых упражнений: гран плие[225] — дми пуант — эквилибр, браз ан куронн, по два раза из первой, второй и пятой позиции. Потом восемь дегаже врастяжку и восемь дегаже в воздухе с завершающим плие. Шестнадцать батманов дегаже[226], похоже, спичечку раззадорили. В рон де жамб[227] а ля згонд, соединенном через эквилибр с аттитюд ферме[228], в большом пор-де-бра, сперва вперед, потом назад, спичечка обнаружила в себе гибкость. Она становилась все мягче и мягче. Марионеточные движения рук сменились плавными, слитными мановениями — и вот уже медвежоночье пальтишко Йенни соскользнуло с ее узеньких плеч. Теперь несколько фигур в боковом лунном освещении: восемь гран-батманов по кругу подряд, — полет высокий, может, подъем ступни не так оттянут, но линия, что за линия! — словно эту спичку и ее линию сам Виктор Гзовский[229] во сне увидел: и завершение в арабеск круазе[230]!
Когда меня снова потянуло на другую сторону горы, спичечка уже усердно нанизывала один за другим маленькие батманы сюр ле ку-де-пье: красивый, широкий размах рук, которые как бы раз за разом расставляли строгие классические акценты в размякшем оттепельном воздухе.
А что же за другим склоном Гороховой? В проглядах луны я теперь узрел, что у молодого человека в амзелевском саду не только белый шарф Эдди Амзеля, но и его лисья шевелюра, правда, не всклокоченная, а аккуратно приглаженная. Он теперь стоял около рыхлых останков снеговика. К пугалам, что дерюжно-лоскутным строем замерли в тени леса, он повернулся спиной: широк в плечах, узок в поясе. Кто одарил его столь идеальным сложением? На раскрытой ладони правой, согнутой в локте руки он держал нечто, по-видимому, достойное рассмотрения. Опорная нога как струна, зато другая непринужденно отставлена. Легкий наклон шеи, безупречная линия затылка, пунктирная линия между глазом и раскрытой ладонью — зачарованное, отрешенное созерцание, хоть фотографируй: Нарцисс! Я уж было совсем собрался на свою горку, поглядеть на низкие плие старательной спичечки, поскольку нечто достойное рассмотрения на раскрытой ладони мне все равно не показывали, как вдруг молодой человек что-то бросил за спину — и это что-то, перевернувшись и сверкнув в лунном сиянии может двадцать, а может тридцать два раза, чиркнув по веткам орешника, россыпью юркнуло ко мне в дрок. Я пощупал вокруг себя — тем паче, что и меня эти камушки вроде задели. И нашел два зуба: небольших, чистых, с гладкими красивыми корнями — надо припрятать. Подумать только — так, одним махом, человеческие зубы разбрасывать. А он даже не оглянулся — пружинистой походкой пошел через сад к дому. В один прыжок перемахнул лестницу на веранду — и, одновременно с луной, скрылся. Но тотчас же его выхватил из темноты дома уже другой, слабый, очевидно, чем-то наспех завешенный электрический свет. В его бликах молодой человек мелькнул в одном, потом в другом окне амзелевской виллы. Метнулся туда, обратно. Что-то принес, потом еще. Молодой человек паковал чемодан Эдди Амзеля и явно торопился.
Заторопился и я — в последний раз вверх на Гороховую горку. О, эти незабываемые восемьдесят четыре метра над уровнем моря! И поныне, стоит мне только переесть на ночь, в каждом третьем сне меня преследует это многократное покорение Гороховой горы — вплоть до самого пробуждения изнурительный подъем, потом безудержный спуск, и снова в гору, и так без конца…
От своего бука я увидел: спичечка танцует. Уже не упражнения у станка, а беззвучное адажио: торжественно и плавно парят в воздухе руки. Четкие, твердые шажки по нетвердой почве. На одной ножке так, будто вторая и не нужна вовсе. Словно весы — стрелка отклонилась, потом снова замерла, невесомо, легко. Повороты — но не боязливо-быстрые, а с затяжкой, хоть рисуй. Это не опушка вертится — это спичечка исполнила два чистейших пируэта. Нет, не прежние мячиковые подскоки и плюханья — кажется, Гутенберг вот-вот выйдет из-под своего чугунного гриба, чтобы изобразить партнера. Но он, как и я, всего лишь публика, в то время как спичечка легкими прыжками прочерчивает опушку. Онемели вороны. Плачут буки. Па-де-бурре, па-де-бурре. На пуантах, но величественно, как сама Висла. А теперь аллегро, потому что вслед за адажио должно быть аллегро. Быстрый перебор ножками. Эшаппе, эшаппе[231]. И из дми-плие: несколько паз-ассамбле подряд. А теперь то, что Йенни никак не давалось: озорные па де ша — спичечка им не нарадуется, прыгает снова и снова, взмывает в воздух и там, словно бы зависнув, паря в бестелесности, игриво сводит вместе мысочки согнутых ножек. Не сам ли это Гутенберг решил теперь, после веселого аллегро, для концовки насвистеть ей снова адажио? Ах, какая нежная Спичечка! По собственной прихоти она то короче, то длинней. Спичечка-тире, спичечка-прочерк, спичечка-пожар. Спичечка грациозно переламывается в поклоне. Бурные овации — вороны, буки, теплый ветер.
А после последнего занавеса — его дала луна — Спичечка мелкими шажками пошла по растанцованной лужайке, явно что-то разыскивая. Но искала она не потерянные зубы, как молодой человек по амзелевскую сторону горы, и не с болью вокруг рта, а скорее с чуть заметной и как бы замерзшей улыбкой на устах, улыбкой, которая не посветлела и не стала теплей даже тогда, когда Спичечка нашла, что искала: с новыми Йенниыми санками Спичечка, уже не танцующей, а скорее оробелой походкой пугливого ребенка пересекла лужайку, подобрала сброшенное Йеннио пальтишко, накинула его себе на плечи и, не удерживаемая даже Гутенбергом, скрылась в лесу в направлении Йешкентальского проезда.
И тут же, при виде опустевшей лужайки, прежней чугунной жутью и лесными шумами навалился страх. Я кинулся от этой зловеще пустой лужайки наутек, только стволы мелькали, и даже когда лес кончился и меня принял под свои фонари Йешкентальский проезд, я все еще бежал без оглядки. Только на главной улице, перед торговым домом Штернфельда, я перевел дух.
На той стороне площади часы над витриной оптика показывали начало девятого. На улице было людно. Любители кино торопились насладиться бегущими картинками. Шел, если не ошибаюсь, фильм с Луисом Тренкером[232]. А потом, когда фильм уже начался, шагом беззаботным и вместе с тем упругим показался молодой человек с чемоданом. Много в такой чемодан не положишь. Да и многое ли могло пригодиться этому стройному молодому человеку из необъятных амзелевских одеяний? Подъехал трамвай из Оливы, торопясь к главному вокзалу. Молодой человек вскочил в задний вагон и остался на площадке. Когда трамвай тронулся, он закурил. Болезненные, провалившиеся губы сжали сигарету. Эдди Амзеля я с сигаретой в жизни не видел.
Только трамвай укатил, тут как тут, аккуратными шажками, появилась та Спичечка с Йенниыми санками. Я пошел следом за ней по Баумбахской аллее. Получалось, что мне с ней по пути. Когда мы миновали церковь Сердца Христова, я прибавил шагу, покуда не нагнал Спичечку, и сказал что-то вроде:
— Привет, Йенни!
Спичечка ничуть не удивилась:
— Добрый вечер, Харри.
Я, чтобы поддержать разговор:
— Кататься ходила?
Спичечка кивнула:
— Если хочешь, можешь повезти мои санки.
— Что-то поздно ты возвращаешься.
— Да, и устала сильно.
— А Туллу видела?
— Тулла и все остальные ушли, когда семи еще не было.
У новой Йенни были точно такие же длинные ресницы, как и у прежней.
— Я тоже до семи ушел. Но тебя там не видел.
Новая Йенни вежливо мне объяснила:
— Это очень даже понятно, ты и не мог меня видеть. Дело в том, что я сидела в снеговике.
Эльзенская улица становилась все короче.
— Ну и как там внутри было?
На мосту над Штрисбахом новая Йенни мне ответила:
— Там внутри было ужасно жарко.
Моя тревога, по-моему, была непритворной:
— Надеюсь, ты там внутри не простыла?
Перед Акционерным домом, где старший преподаватель Брунис жил с прежней Йенни, новая Йенни сказала:
— Я перед сном горячего цитрона выпью[233], на всякий случай.
У меня еще много вопросов в голове крутилось.
— А как же ты выбралась из снеговика?
У подъезда Йенни со мной попрощалась:
— Так таять начало. Но сейчас я правда устала. Я там потанцевала немножко. И у меня в первый раз два пируэта получились, честное слово. Спокойной ночи, Харри.
Дверь клацнула замком. Очень хотелось есть. Хоть бы на кухне что-нибудь осталось. Кстати, кто-то видел, как молодой человек садился в десятичасовой поезд. И сам он, и чемодан Амзеля испарились без следа. Оба, надо понимать, благополучно миновали обе границы[234].
Дорогая Тулла!
Йенни простудилась, конечно же, не внутри снеговика, а по пути домой: должно быть, танцы на опушке очень ее разгорячили. Пришлось ей неделю в постели проваляться.
Дорогая Тулла!
Теперь ты знаешь, что из толстяка Амзеля выскользнул стройный молодой человек. Легким шагом, с чемоданчиком Амзеля в руке, он прошествовал через здание вокзала и сел в поезд на Берлин. Чего ты не знаешь: в чемоданчике у легконогого молодого человека лежит паспорт, причем фальшивый. Некий господин, рояльный мастер по профессии и «Штемпель» по кличке, еще за несколько недель до двойного снежного чуда ему этот паспорт выправил. Рука умельца все предусмотрела, ибо в паспорте невероятным образом красовалось фото, запечатлевшее строгие, чуть скованные черты молодого человека с болезненным ртом. К тому же господин Штемб выписал паспорт не на имя Эдуарда Амзеля, он окрестил владельца документа господином Германом Зайцингером, родившимся в городе Риге 24 февраля 1917 года.
Дорогая Тулла!
Когда Йенни снова выздоровела, я показал ей два зуба, которые молодой человек зашвырнул в мой дрок.
— Ой! — обрадовалась Йенни. — Это же зубы господина Амзеля. Подаришь мне один?
Второй зуб я оставил себе и берегу до сих пор, ибо господин Брауксель, который мог бы на этот зуб притязать, передоверил его сохранность моему портмоне.
Дорогая Тулла!
Чем занялся господин Зайцингер по прибытии в Берлин на Штеттинский вокзал? Он снял номер в гостинице, на следующий же день отправился в зубоврачебную клинику и за большие деньги, когда-то амзелевские, а теперь его личные, распорядился заполнить свой старчески проваленный рот чистым золотом. Пришлось господину Штембу, по кличке «Штемпель», вносить в новый паспорт в графу «Особые приметы» дополнение задним числом: «Зубы искусственные, коронки желтого металла». Отныне, когда господин Зайцингер смеется, можно увидеть у него во рту тридцать два золотых зуба; но смеется господин Зайцингер редко.
Дорогая Тулла!
Эти золотые зубы стали — да и по сей день остаются — притчей во языцех. Когда вчера с несколькими приятелями мы сидели в «Закутке у Пауля», я, чтобы доказать, что золотые зубы господина Зайцингера отнюдь не плод моей фантазии, устроил проверку. Этот маленький бар на Аугсбургской улице посещают главным образом сомнительные дельцы, мелкие предприниматели и одинокие дамы. Овальный диванчик вокруг столика для завсегдатаев позволяет вести жесткие дискуссии на мягкой основе. Говорили, как всегда в Берлине, о том о сем. Стену за нашими спинами в беспорядке украшали фотографии знаменитых боксеров, автогонщиков и звезд близлежащего дворца спорта. Многие были с автографами и любопытными надписями, но мы их не читали, а, как обычно между одиннадцатью и двенадцатью ночи, когда заведение закрывается, судили-рядили, куда бы отправиться еще. Потом потешались над слухами о приближающемся 4 февраля. Болтовня о конце света под пивко и водочку. Я рассказал о моем привередливом работодателе господине Браукселе, и разговор тотчас же перескочил на Зайцингера и его золотые зубы: я уверял, что они и вправду все золотые, а приятели мои были убеждены, что это так, болтовня и враки. Тогда я крикнул, обернувшись к стойке:
— Ханночка! Господин Зайцингер к вам, часом, не заходил?
На что та, ополаскивая кружки, ответила:
— Не-a. Золоторотик теперь, когда в наших краях бывает, в другое место ходит — к Динеру.
Дорогая Тулла!
Так что с искусственными зубами все правда. Зайцингера называли и называют Золоторотиком; а что до Йенни, то она, когда выздоровела, получила в подарок пару новых балетных туфелек, шелковая ткань которых отливала мерцающим серебром. Старший преподаватель Брунис хотел, чтобы она в этих серебряных туфельках взошла на ослепительные высоты. И вот она уже танцует в балетном зале мадам Лары: танец маленьких лебедей. Потом Фельзнер-Имбс, чьи покусы уже зажили, играет Шопена. И я, по воле господина Браукселя, засим отпускаю до поры Золоторотика и прислушиваюсь к легким шорохам серебряных балетных туфелек: Йенни стоит у станка и начинает свою карьеру.
Дорогая Тулла!
Нас тогда всех из нашей первой школы перевели: меня — в Конрадинум, а вы, ты и Йенни, стали ученицами школы имени Хелены Ланге, которую вскоре переименовали, и она называлась уже Школой Гудрун[235]. Это мой отец, столярных дел мастер, предложил отправить тебя в лицей:
— Девчонка очень способная, но необузданная. Надо попробовать, глядишь, чего и выйдет.
Итак, с шестого класса наши дневники подписывал теперь старший преподаватель Освальд Брунис. Он вел у нас немецкий и историю. Я с самого начала был прилежен, но не выскочка, оставался первым учеником и всем давал списывать. Старший преподаватель Брунис был добрым учителем. Нам ничего не стоило отвлечь его от неукоснительного следования предмету: достаточно было кому-то принести на урок слюдяной гнейс и попросить его что-нибудь про этот камень или вообще про гнейсы, а еще лучше про его коллекцию гнейсов рассказать — Брунис в тот же миг забывал про кимвров и тевтонов[236] и с радостью отдавался любимой науке. При этом он гарцевал отнюдь не только на своем сокровенном коньке — слюдяных гнейсах и слюдяном граните, он шпарил все минералы подряд — плутониты и вулканиты, аморфные и кристаллические каменистые образования; словечки «многоплоский», «толстослойный» и «стеблистый» у меня от него; обозначения цветов — луково-зеленый, воздушно-голубой, горохово-желтый, серебристо-белый, гвоздично-коричневый, дымчато-серый, чугунно-черный и закатно-алый — это из его палитры; от него я впервые услышал таинственно-нежные слова вроде «розовый кварц», «лунный камень», «лазурит»; от него позаимствовал ласковые ругательства типа «голова туфовая», «роговой обманщик», «ах ты, конгломерат[237] ты этакий», хотя и сегодня не мог бы различить агат и опал, малахит и лабрадор, биотит и московит.
А если не удавалось сбить его с учебного плана минералами, тогда в дело шла его приемная дочь Йенни. Дежурный по классу вежливо так, чин-чином поднимал руку и просил старшего преподавателя Бруниса рассказать об успехах Йенни на балетном поприще. Весь класс просит, говорил он скромно. Каждый хочет знать, что за истекшие два дня было нового в балетной школе. И точно так же, как словечки «слюдяной гнейс», имя «Йенни» заставляло старшего преподавателя Бруниса позабыть все на свете: он прерывал великое переселение народов[238], бросал восточных и западных готов[239] зимовать у Черного моря, а сам, преображаясь, окунался в новую тему — он уже не горбился за кафедрой, а, по-медвежьи пританцовывая, метался от доски к классному шкафу и обратно, хватал губку, стирал только что начертанные схемы готских переселений. По еще влажному черному полю скрипел стремительный мелок — лишь добрую минуту спустя, когда он еще чиркал в левом нижнем углу доски, правый верхний потихоньку начинал просыхать.
«Первая позиция, вторая позиция, третья позиция, четвертая и пятая позиция», — было начертано на черной школьной доске, и Освальд Брунис начинал теоретический балетный урок следующими словами:
— Как делается всегда и во всем мире, мы начнем с основных позиций, а затем приступим к упражнениям у станка.
Старший преподаватель опирался на Арбо[240], первого теоретика танца. По Арбо и Брунису выходило, что есть пять основных позиций и все они базируются на принципе разведенных в стороны ступней. В первые мои гимназические годы жуткое словечко «выворотность»[241] значило для меня несравненно больше, чем, допустим, «правописание». Еще и сегодня я по ногам балерины мгновенно распознаю, хорошая у нее выворотность или нет, зато правописание — два «н» или одно, «е» или «и» — во многом остается для меня великой загадкой.
Не шибкие грамотеи, мы зато, группами по пять-шесть балетоманов, сиживали на галерке городского театра и со знанием дела глядели на сцену, когда балетмейстер театра совместно с мадам Ларой решался провести балетный вечер. Как-то раз в программе значились «Половецкие пляски», «Спящая красавица» по несравненным хореографическим образцам Петипа и «Грустный вальс», который должна была исполнить сама мадам Лара.
Я рассуждал:
— У Петрих, конечно, в адажио было настроение, но выворотность у нее слабовата.
Маленький Пиох злобствовал:
— Нет, ты погляди, погляди на эту Райнерль: что ни пируэт — все враскачку, а выворотность у нее такая, что смотреть тошно!
Герберт Пенцольд качал головой:
— Если эта Ирма Лойвайт не наработает себе приличный подъем, помяни мое слово, долго она в примах не проходит, хотя выворотность у нее шикарная.
Наряду со словечками «подъем» и «выворотность» очень много значило слово «душа». Кто-то «при всей технике» не имел «никакой души», зато про ведущего, уже в возрасте, солиста, который отваживался на гран жете — правда, все равно изумительными, плавными махами — уже только из кулисы, на галерке великодушно говорилось:
— При такой душе Браке все себе может позволить: у него вращения только в три оборота, но зато каких!
Четвертым модным словечком моих первых гимназических лет было словечко «баллон». Танцоры и танцовщики, исполняя сис де воле, гран жете[242], словом, любой прыжок, делали его либо «с баллоном», либо без. То есть либо они умели при прыжке, как с парашютом, зависать и парить в воздухе, либо им не удавалось заставить зрителя усомниться в законе всемирного тяготения. Тогда, уже пятиклассником, мне запомнилась чья-то фраза: «У этого нового первого солиста такой затянутый прыжок, хоть записывай». С тех пор я все подобные, искусно затянутые прыжки так и называю: прыжок, хоть записывай. Если бы я это умел: записывать прыжки!
Дорогая кузина!
Наш классный руководитель, старший преподаватель Брунис не ограничивался тем, что вместо семнадцатистрочной монотонно побрякивающей баллады разучивал с нами азы балета; он растолковывал нам и более сложные вещи — например, сколько всего буквально поставлено на кон, когда балерине удается на протяжении всего лишь одного-единственного пируэта действительно безупречно устоять на самых кончиках пальцев.
А как-то раз — не помню, то ли мы все еще топтались вокруг восточных готов, то ли варвары уже двинулись в поход на Рим? — он принес в нашу классную комнату Йенниы серебряные балетные туфельки. Сперва он напустил на себя таинственность: стоя за кафедрой, низко пригнул свою кудлатую голову, спрятав все свои многочисленные морщины за этой серебристой парочкой. Потом, не показывая рук, он поставил обе туфельки на мыски. Старческим голосом напевая фрагмент сюиты из «Щелкунчика», он на крохотном пятачке между чернильницей и жестянкой со своими бутербродами заставил эти туфельки продемонстрировать нам все па и фигуры на мысках: маленькие батманы сюр ле ку-де-пье.
Когда представление было окончено, он с таинственной миной в обрамлении все тех же серебряных туфелек сообщил нам, что, с одной стороны, туфельки эти и по сей день остаются изощреннейшим орудием пытки, с другой же, — это единственный вид обуви, в которой девушка еще при жизни способна подняться на небо.
После чего он в сопровождении старосты класса пустил туфельки Йенни по партам — ибо эти туфельки много для нас значили. Не то чтобы мы их целовали, нет. Мы их даже и не гладили почти, только смотрели на их выстраданный серебристый блеск, трогали их стертые, бессеребряные мысочки, рассеянно играли серебряными тесемками и приписывали туфелькам чудодейственную силу: это они захотели и смогли превратить нескладную толстушку в эфемерное невесомое создание, которое теперь, благодаря их волшебству, в любой день того и гляди взойдет на небо. Эти туфельки виделись нам в томительных снах. Тому, кто слишком сильно любил маму, грезилось ночами, как она в балетной тунике на мысочках вплывает в его спальню. Кто был влюблен в красавицу с киноафиши, мечтал увидеть наконец фильм с Лиль Даговер[243], танцующей на пуантах. Католики из нашего класса простаивали перед алтарями Марии в тайной надежде, не соблаговолит ли Пресвятая Дева сменить свои традиционные сандалии на Йенниы балетные туфельки.
И только я один знал, что преобразили Йенни вовсе не туфельки. Я же был очевидцем: Йеннио, как и Эдди Амзеля, чудесное похудание свершилось при помощи обыкновенного снеговика. Они просто скукожились, сели, как одежда при стирке, вот и все!
Дорогая кузина!
Наши семьи, да и все соседи, хоть и дивились столь внезапному и очевидному преображению такой маленькой — еще и одиннадцати нет — девчушки, однако дивились как-то удовлетворенно, кивая в знак согласия головами, будто бы весь свет только того и ждал, только о том и молился, чтобы свершилось Йеннио снежное превращение, а они теперь его могли одобрить. Ровно в четверть пятого пополудни Йенни каждый день выходила из Акционерного дома, что стоял наискосок против нашего, и ладной походкой, высоко держа маленькую головку на стебельке шеи, направлялась вверх по Эльзенской улице. Казалось, ноги ее идут сами, отдельно от точеного туловища. Многие соседки об эту пору прилипали к окнам с видом на улицу. Завидев Йенни из-за своих гераней и кактусов, они умиротворенно изрекали:
— Ну вот, Йенни на балет пошла.
Когда моя мать, по каким-нибудь домохозяйственным причинам или просто заболтавшись на площадке с соседками, на минуту-другую к Йенниому выходу опаздывала, я слышал, как она бурчит:
— Опять я эту Йенни, брунисову дочку, упустила. Ну ничего, завтра будильник на четверть пятого поставлю, нет, даже чуток пораньше.
Вид Йенни трогал мою мать почти до слез:
— Какая она стала былиночка, какая лапушка, просто чудо.
При этом Тулла была такая же тоненькая, впрочем, нет, совсем не такая. В сорняковой Туллиной худобе было нечто устрашающее. Йенниа же фигурка скорее настраивала на задумчивый лад.
Дорогая кузина!
Наши походы в школу постепенно сформировались в весьма необычную процессию. Дело в том, что до самой Новой Шотландии мне и ученицам школы имени Хелены Ланге было по пути. На площади Макса Хальбе[244] я сворачивал направо, а девочки отправлялись дальше по Медвежьему переулку. Поскольку Тулла специально ждала в парадном и меня заставляла ждать, покуда Йенни не выйдет из своего подъезда, Йенни получала фору: она шла в пятнадцати, иногда даже в десяти шагах перед нами. Причем мы, все трое, старались держать эту дистанцию. Если у Йенни развязывался шнурок на ботинке, Тулле тоже приходилось завязывать шнурок заново. Прежде чем свернуть вправо, я останавливался на площади Макса Хальбе за афишной тумбой и провожал обеих глазами: Тулла по-прежнему шла следом за Йенни. Но это никогда не выглядело упорным преследованием, охотой, травлей. Скорее было отчетливо видно другое: Тулла хоть и не отстает от этой ладной, аккуратно вышагивающей девчушки, однако и нагонять ее не хочет. Иногда по утрам, в лучах низкого еще солнца, когда силуэт Йенни отбрасывал на дорогу длинную стреловидную тень, Тулла, стараясь своей тенью врасти в тень Йенни, каждый новый свой шаг впечатывала в тенистый контур Йенниой головы.
Тулла поставила себе задачу следовать за Йенни по пятам не только по пути в школу. И в четверть пятого, когда соседи удовлетворенно говорили: «Ну вот, Йенни на балет пошла», — она крадучись выскальзывала из подъезда и не отставала.
Поначалу Тулла провожала Йенни только до трамвайной остановки, а когда трамвай со звоном трогался в сторону Оливы, поворачивалась и уходила домой. Потом она начала тратить деньги на трамвай, забирая у меня мои карманные гроши. Тулла никогда не брала в долг, просто забирала и все. И в кухонный шкаф мамаши Покрифке дочка лазила без всякого спросу. Так же, как и Йенни, она ездила во втором вагоне, только Тулла стояла на задней, а Йенни на передней площадке. Вдоль ограды Оливского замкового парка они шли связкой на привычной дистанции, которая только в узком Шиповниковом переулке чуть сокращалась. А потом Тулла целый час стояла под эмалированной вывеской «Балетмейстер Лара Бок-Федорова» и ни одна прошмыгнувшая мимо кошка не могла сдвинуть ее с места. По окончании балетного урока она, с замкнутым лицом, пропускала мимо себя стайку щебечущих балетных цапель с болтающимися через плечо спортивными сумками. Все девочки при ходьбе ставили ступни слегка навыворот и несли свои миниатюрные, такие маленькие головки на стебельках шеи — казалось, им нужны подпорки. На один вдох, хотя был май, Шиповниковый переулок переставал благоухать шиповником, а пах мелом и кислым потом. И лишь когда из садовой калитки в сопровождении пианиста Фельзнер-Имбса появлялась Йенни, Тулла, отпустив обоих на положенное расстояние, трогалась с места.
Что за трио: согнутый крючком Имбс в гамашевых ботинках и девочка с русой косой, закрученной узлом на затылке — всегда впереди; Тулла, в некотором отдалении, позади. Фельзнер-Имбс нет-нет да и оглянется. Йенни не оглядывается никогда. А взгляд пианиста Тулла выдерживает.
Имбс замедляет шаг и на ходу срывает цветущую веточку боярышника. Он вставляет ветку Йенни в волосы. Тогда Тулла тоже обламывает веточку боярышника, но в волосы не вставляет, а, ускорив шаги и сократив дистанцию, выбрасывает ветку в чей-то сад, где боярышник не растет.
Но вот Фельзнер-Имбс останавливается — останавливается Йенни, останавливается и Тулла. Йенни и Тулла не трогаются с места, а пианист, с устрашающей решимостью повернувшись, проходит десять шагов назад, вскидывает, подойдя, правую руку, встряхивает своей артистической гривой и, указуя своим тонким музыкальным перстом в направлении замкового парка, возвещает:
— Ты когда-нибудь оставишь нас в покое? Тебе что, уроков не задают? Марш отсюда! Мы не желаем тебя больше видеть!
После чего, в сердцах развернувшись, ибо Тулла ничего ему не отвечает и персту, указующему на отрады замкового парка, тоже не подчиняется, снова подходит к Йенни. Но пока что в путь не трогается, поскольку волосы пианиста во время этой краткой проповеди слегка растрепались и требуют щетки. Вот теперь они уложены правильно. Фельзнер-Имбс делает шаг. Балетной поступью голубки трогается с места Йенни. За ними, на отдалении, Тулла. Все трое приближаются к трамвайной остановке напротив главного входа в замковый парк.
Дорогая кузина!
Вид вашей пары сеял вокруг легкое смятение. Прохожие старались не встревать в промежуток между Йенни и Туллой. На оживленных улицах две идущих гуськом девочки смотрелись странно. Благодаря этой неукоснительной, хотя и незримой сцепке вам даже в толчее главной торговой улицы удавалось пробивать бродячую брешь.
Отправляясь следом за Йенни, Тулла никогда не брала с собой нашего Харраса. Но я, конечно же, старался примкнуть к обеим, выходил, как и по дороге в школу, вместе с Туллой из дому и рядом с ней шел вверх по Эльзенской улице, вслед за моцартовской косичкой узлом. В июне солнце особенно красиво освещает улицу между старыми доходными домами. На мосту через Штрисбах я отделяюсь от Туллы и, быстрым шагом нагнав Йенни, пристраиваюсь с левой стороны. То был год майских жуков. Они возбужденно барражировали в воздухе и, как безумные, барахтались брюшком вверх на тротуарах. Каких-то давили мы, каких-то раздавили до нас. К подошвам наших школьных ботинок то и дело липли бренные останки зазевавшихся майских жуков. Шагая рядом с Йенни, — она старается на жуков не наступать, — я прошу дать мне понести ее сумку. Она отдает: под легкой, воздушно-голубой материей явственно выделяются мысочки балетных туфель. За Малокузнечным парком — голуби в каштанах обжираются майскими жуками — я замедляю шаги, покуда не оказываюсь, с Йенниой сумкой на плече, рядом с Туллой. За подземным переходом под железной дорогой, среди пустых прилавков воскресного рынка, на мокрой мостовой, под дружное шкрябанье дворницких метел Тулла просит меня дать ей понести Йенниу сумку. Поскольку Йенни никогда не оборачивается, я разрешаю Тулле нести Йенниу сумку до Главной улицы. Перед кинотеатром Йенни останавливается перед витриной с кадрами из фильма, на которых в белом халате врача запечатлена киноактриса с необычным широкоскулым лицом. Мы рассматриваем фотографии в соседней витрине: «Скоро на экране» — маленький человечек, шесть разных ухмылок. Незадолго до трамвайной остановки я снова беру Йенниу сумку, вскидываю на плечо и вместе с Йенни влезаю в задний вагон трамвая на Оливу. Пока мы едем, майские жуки с треском шмякаются в лобовое стекло на нашей передней площадке. После остановки «Белый агнец» я вместе с сумкой временно покидаю Йенни и иду на заднюю площадку проведать Туллу, но сумку ей уже не отдаю. Я покупаю ей билет — в ту пору я наловчился зарабатывать на карманные расходы, продавая лучину на растопку из отцовской мастерской. После остановки «Мирослом», когда я снова наведываюсь к Йенни, я готов заплатить и за нее, но она показывает мне месячный проездной билет.
Дорогая кузина!
Еще во время летних каникул стало известно, что господин Штернэк, балетмейстер городского театра, принял Йенни в детскую балетную труппу. Она будет танцевать в рождественском представлении-сказке, репетиции уже начались. Пьеса называется «Снежная королева», и Йенни, как можно было прочесть в «Форпосте» да и в «Последних новостях», будет исполнять партию Снежной королевы, поскольку роль эта не драматическая, а танцевальная.
Так что Йенни теперь ездила не двойкой до Оливы, а садилась на пятерку и ехала до Угольного рынка, где и находился городской театр, вид коего с каланчи замечательно описал в своей книге господин Мацерат[245].
Мне теперь приходилось тайком нарезать и продавать гораздо больше растопочной лучины, чтобы наскрести для нас с Туллой денег на трамвай. Отец мне эту коммерцию строго-настрого запретил, но машинный мастер меня не выдавал. Как-то раз я опоздал и, торопливо стуча каблуками по брусчатке Лабского проезда, нагнал обеих девочек уже только неподалеку от площади Макса Хальбе. И тут выяснилось, что меня уже опередили: сын торговца колониальными товарами, маленький и коренастый шкет, вышагивал то рядом с Туллой, то рядом с Йенни. А иногда делал то, на что обычно почти никто не отваживался: смело втискивался в безлюдный промежуток между ними обеими. Но рядом ли с Туллой, рядом ли с Йенни или между ними, — он неизменно выставлял вперед висевший у него на пузе детский жестяной барабан. И гремел на нем гораздо громче, чем это нужно для маршевого сопровождения двух худеньких девочек. Поговаривали, что у него вроде бы недавно мать умерла. Рыбой отравилась. Красивая была женщина.
Дорогая кузина!
Лишь к концу лета я услышал, как ты с Йенни разговариваешь. Всю весну и почти все лето разговоры тебе заменял Йенни мешочек с балетными принадлежностями, переходивший из рук в руки. Или майские жуки, на которых Йенни старалась не наступать и которых ты давила с остервенением. Ну, еще я или Фельзнер-Имбс, передававшие или бросавшие иногда через плечо одно-два словечка.
Но однажды, когда Йенни вышла из дома, Тулла преградила ей дорогу и сказала, обращаясь скорее к кому-то у Йенни за плечом, чем к самой Йенни:
— Можно мне понести твой мешочек, где у тебя туфли серебряные?
Йенни без слов и тоже глядя куда-то мимо Туллы, вручила ей мешочек. Тулла мешочек понесла. Но отнюдь не в том смысле, что она пошла с Йенни рядом, неся ее мешочек, нет, она по-прежнему держалась на расстоянии и, когда мы на двойке поехали в Оливу, стояла с Йенниым мешочком на задней площадке. Мне было дозволено заплатить за билет, но во мне не нуждались. Лишь перед самым подъездом балетной школы в Шиповниковом переулке Тулла вернула Йенни мешочек, вымолвив «спасибо».
Так продолжалось до самой осени. Ни разу я не видел, чтобы Тулла несла Йенни школьный ранец, только балетный мешочек. От меня она узнавала, когда у Йенни занятия, когда репетиции. Становилась перед Акционерным домом, разрешения уже не спрашивала, молча протягивала руку, просовывала ее в петлю тесемки, несла мешочек и сохраняла неизменную дистанцию.
У Йенни было много балетных сумок: луково-зеленая, закатно-алая, воздушно-голубая, гвоздично-коричневая и даже горохово-желтая. Она все эти цвета меняла как вздумается. Когда в один из октябрьских дней Йенни вышла из балетной школы, Тулла сказала, уже не глядя мимо Йенни:
— Хочу на туфли посмотреть, правда ли они серебряные.
Фельзнер-Имбс был против, но Йенни кивнула и, мягко взглянув на пианиста, так же мягко отвела его руку. Тулла вытащила из горохово-желтого мешочка балетные туфли, сложенные вместе и аккуратно перевязанные собственными тесемками. Тулла не стала их развязывать, подняла, держа на раскрытых ладонях, на уровень глаз, ощупала их своим раскосым взглядом от задников пятки до жестких мысков, проверила, так сказать, содержимость в туфлях серебра и сочла, хотя туфельки были станцованные и невзрачные, что они серебряные достаточно. Йенни подставила раскрытый мешочек, и Тулла опустила туфельки в его желтое нутро.
За три дня до премьеры, в конце ноября, Йенни впервые заговорила с Туллой. В изящном драповом пальтишке она вышла из служебного подъезда городского театра, и на сей раз Имбс ее не сопровождал. Она подошла к Тулле почти вплотную и, протягивая ей свой луково-зеленый мешочек, сказала, даже не слишком отводя глаза в сторону:
— А я теперь знаю, как зовут того железного человека в Йешкентальском лесу.
— У него в книге и еще кое-что написано, я тебе не все сказала.
Йенни не терпится обнаружить свои познания.
— И зовут его вовсе не Гутенгрех, его имя Иоганн Гутенберг.
— В книге написано, что ты здоровски будешь танцевать и все на тебя смотреть будут.
Йенни кивает.
— Может, так и будет, но вообще-то Иоганн Гутенберг в городе Майнце изобрел книгопечатание.
— Ну вот, я же говорю. Он все знает.
Однако Йенни знает еще больше:
— И уже в тысяча четыреста шестьдесят восьмом году он умер.
Но Туллу уже интересует другое:
— А сколько ты весишь?
Йенни отвечает очень точно:
— Два дня назад я весила шестьдесят семь фунтов двести тридцать граммов. А сколько весишь ты?
Тулла в фунтах разбирается плохо[246], но врет без запинки:
— Шестьдесят шесть фунтов девятьсот девяносто грамм.
Йенни:
— В туфлях?
Тулла:
— В спортивных тапочках.
Йенни:
— А я без туфель, только в трико.
Тулла:
— Значит, мы весим одинаково.
Йенни радуется:
— Да, примерно одинаково. А Гутенберга я уже не боюсь и никогда бояться не буду. Вот два билета на премьеру, для тебя и для Харри, если, конечно, вам захочется.
Тулла берет билеты. Подъезжает трамвай. Теперь и Тулла входит в переднюю дверь. Я-то само собой. На площади Макса Хальбе первой выходит Йенни, за ней Тулла, следом я. По Лабскому проезду обе девочки впервые идут не гуськом, а рядом, и выглядят как подружки. Мне дозволено тащить за ними зеленый балетный мешочек.
Дорогая кузина!
Согласись, для Йенни премьера была просто триумфом. Она чисто исполнила два пируэта и отважилась на па де баск[247], перед которым даже опытные балерины трясутся. Выворотность у нее была замечательная. Она танцевала с такой душой, что казалось, сцена ей мала. А когда прыгала, прыжки были «хоть записывай», то есть «с баллоном». И даже небезупречный подъем почти не бросался в глаза.
Она появилась Снежной королевой, в серебристом трико, ледово-серебристой короне и в прозрачной серебристой мантии, которая символизировала мороз: все, к чему бы Йенни ни прикоснулась, мгновенно обращалось в лед. С ее появлением на сцене воцарялась зима. Каждый ее выход предварялся музыкальным перезвоном сосулек. Кордебалет, состоявший из снежинок и трех потешных снеговиков, беспрекословно подчинялся ее звонко-леденящим приказам.
Сюжет мне запомнился смутно. Но во всех трех действиях появлялся говорящий Благородный Олень. Ему надлежало волочить зеркальный возок, в котором на снежных подушках восседала Снежная королева. Благородный Олень говорил стихами, мог мчаться быстрее ветра и возвещал приближение Снежной королевы звоном своих серебряных бубенчиков из-за кулис.
Благородного Оленя, как явствовало из программки, играл Вальтер Матерн. Это была его первая серьезная роль. Поговаривали, что вскоре после этой премьеры ему был предложен ангажемент в Шверине, в тамошнем городском театре. Благородного Оленя он играл очень неплохо и на следующий день одобрительно упоминался в рецензиях. Но как главную героиню и истинное открытие обе газеты расхваливали Йенни. Один из критиков даже написал, что Снежная королева в исполнении Йенни, будь ее воля, могла бы погрузить в вечную мерзлоту партер, амфитеатр и ложи.
Я хлопал так, что все ладоши отбил. Тулла по окончании спектакля не хлопала. Программку она сложила малюсеньким конвертиком и во время последнего действия съела. Старший преподаватель Брунис, сидевший рядом со мной среди прочих балетоманов нашего класса, на протяжении трех действий и одного антракта высосал целый кулек мятных леденцов.
После того, как семнадцать раз дали занавес, Фельзнер-Имбс, старший преподаватель Брунис и я остались ждать Йенни у дверей ее артистической уборной. Тулла к этому времени уже ушла.
Дорогая Тулла!
Тот актер, что сыграл благородного оленя и умел бить свечи в лапту и коварные резаные удары кулачным мячом, тот актер и спортсмен, что играл в хоккей на траве и двенадцать минут продержался в воздухе на планере, тот актер и планерист, что чуть не каждый вечер появлялся об руку с разными дамами, причем у всех дам вид был одинаково потрепанный и несчастный, тот актер и любовник, что раздавал красные листовки, методично и без разбора читал дешевые книжонки, детективы и введение в метафизику[248] вперемешку, тот, чей отец был мельником и умел пророчить, чьи средневековые предки носили фамилию Матерна и были все отчаянные смутьяны, тот рослый и без толку умствующий, крепко сбитый и трагический, коротко стриженый и немузыкальный, любящий лирику, одинокий и практически здоровый актер и боец штурмового отряда, тот командир отделения, которого после успешной январской операции произвели в командиры взвода, тот актер, спортсмен, любовник, метафизик и командир взвода, который при всяком удобном и неудобном случае скрипел и скрежетал зубами, то есть недвусмысленно и с максимально возможной внятностью задавал последние вопросы бытию, тот Скрыпун, что мечтал сыграть Отелло, а вынужден был играть Благородного Оленя в спектакле, где Йенни танцевала заглавную партию, — этот штурмовик, Скрыпун и актер, прежде чем он был взят на амплуа героя-любовника в шверинский городской театр, по многим и разным причинам стал припадать к бутылке.
А вот Эдди Амзель, вошедший в снеговика, чтобы выйти оттуда Германом Зайцингером, пьяницей не стал; зато он начал курить.
А знаешь, почему Амзель-дрозд назвался Зайцингером, а не Сойкелем, Зябелем или, допустим, Скворцнером? Меня эти толкования имен давно занимали — весь тот год, что вы порознь в связке ходили, я с этим вопросом, можно сказать, засыпал. Пока не почувствовал: Эдди Амзель сменил имя; и тогда я нанес отсутствующему хозяину пустующей — быть может, ввиду долгосрочности договора и по сей день Амзеля ждущей — виллы в проезде Стеффенса, возможно, взаправдашний, а если нет, то уж вне всяких сомнений воображаемый визит. Вероятно, Вальтер Матерн, все еще, надо надеяться, привязанный к своей квартире жилец, только-только вышел из дома, — будем считать, что у него в тот вечер был спектакль, — как я проник, допустим, из сада через веранду, в бывшую мастерскую Амзеля. Больше двух стекол мне выдавить не пришлось. По всей вероятности, у меня был с собой карманный фонарик. То, что я искал, можно было найти только в ренессансном пульте, где я это и нашел, или мог бы найти: важные бумаги. Надо мной по-прежнему висели амзелевские пугала — прошлогодние его изделия. Насколько я себя знаю, я не испугался их причудливых теней, а если испугался, то не слишком. Бумаги оказались черновыми записями, сделанными наспех, крупным и небрежным почерком, и словно специально меня ждали: тут были заметки и много-много имен. На одной странице Амзель, отталкиваясь, вероятно, от степной куропатки, попытался соорудить себе имя от слова «степь»: Степун, Степпун, Степутат, Степиус, Степпат, Степотайт, Степановский, Стоппка, Стеффен. Когда он отбросил «степь», ибо блуждания по ней подозрительно близко подвели его к созвучиям с проездом Стеффенса, откуда ему столь скоропалительно пришлось удирать, мысли его, по ассоциации с «дроздом», обратились, похоже, к другим пернатым: от степной дрофы — Дроф, Дрофер, Дроферман, Дрофский — к горным куропаткам — Кеклик, Кеклицер, Кеглицер, Кекель и Кегельман — а от них к водоплавающим: Крякнер, Кряклер, потом вдруг Селезнер, Селезневский и даже Селезман. За этой, в целом не слишком удачной серией последовала необычная разработка дня недели: Суботица, Суботитц, Суботтау, Соботинский, Сабат, Сабаттер, Шобот, Слобод, потом вдруг Хлобод и Хлопотт. Это ему тоже не показалось. Вариацию Розин, Роззен, Розенат он развивать не стал. Вероятно, затем он решил искать по контрасту к первой букве алфавита в фамилии Амзель, и открыл ряд Янгером, Яхелем, Якобсом, нанизал на него Яхмана и Яхнера, прицепил к ним Ямзнера, Яцнера, Якельшписа и Якельштока, но на красивой фамилии Якленский эту затею тоже оставил. Попутные восклицания типа: «Новое имя и новые зубы дороже золота!», «Будет новое имя — будут и новые зубы!» — ясно показали мне, маловероятному, но все же чаемому соглядатаю, как тяжело ему было найти себе другое, и тем не менее правильное, подходящее имя. Наконец, между двумя незавершенными попытками оттолкнуться от Кризун-Кризин и Крупат-Крупкат, я нашел, отдельной строчкой и подчеркнутую, одиноко стоящую фамилию. Никакие разработки ей не предшествовали. Она словно из воздуха на бумагу выпрыгнула. Она подкупала своей игривой и бессмысленной естественностью. Необычная, но есть в любом телефонном справочнике. Напоминает, конечно, петляющего зайца и уж никак не падающего камнем коршуна. В то же время славянский корень наводит на мысль о возможном русском или прибалтийском происхождении. Артистическая фамилия. Фамилия для агента. Фамилия-кличка. Не бывает случайных фамилий, как и имен. Они прилипчивы. Их носят. Они значимы.
Вот так, с фамилией Зайцингер в сердце, я покинул дубовую мастерскую Эдди Амзеля. Готов поклясться: никто про это не разнюхал, пока я не пришел и не выдавил пару стекол. А пугала под потолком пусть и дальше хранят в своих карманах нафталиновые шарики. Неужто это Вальтер Матерн решил уподобиться образцовой домохозяйке и уберечь наследие Амзеля от распада и тлена?
Надо было мне эти бумаги с собой забрать, пригодились бы потом как доказательство.
Дорогая Тулла!
Тот актер, которого иногда еще в школе, а уж в штурмовом отряде сплошь и рядом называли Скрыпуном — «Скрыпун уже тут? Скрыпун еще с тремя людьми пусть прикроет остановку, пока мы Мирхауэрский проезд от синагоги прочешем. Скрыпун пусть три раза громко проскрипит, как только из жидовской общины выйдет» — вот этот многогранный, нарасхват всем нужный Скрыпун весьма продвинулся в своем зубоскрежещущем искусстве благодаря тому, что стал не время от времени, как прежде, а то и дело и систематически прикладываться к бутылке: он, что называется, не просыхал, пил даже без рюмки и завтрак начинал с хорошего глотка можжевеловки.
Тут-то его из штурмовиков и турнули. Но выперли его, понятное дело, не за то, что пил, — там все закладывали дай бог, — а за то, что по пьянке стал поворовывать. Сперва командир отряда Йохен Завацкий как-то его прикрывал, все-таки они были друзьями, не раз плечом к плечу насмерть стояли у стойки и одной бодягой накачивались. И только когда в лангфурском отряде Штурм-84 стало нарастать возмущение, Завацкий устроил суд чести. Семь человек, все надежные люди, младший офицерский состав, уличили Матерна в растрате из кассы взвода. Свидетели показали, что он сам в подпитии этим подвигом похвалялся. Называли и сумму — триста пятьдесят гульденов. Именно столько Матерн растратил, ублажая себя и товарищей можжевеловкой. Тут Завацкий встрял и заявил, мол, под мухой всякое на себя наговорить можно, это еще ничего не доказывает. Но Матерн взвился, дескать, им ли его попрекать, — «Да если б не я, вам бы этого Брилля на Лысой горе ни в жисть не словить!» — и вообще стыдиться ему нечего:
— Да к тому же ведь все вы, все поголовно, со мной вместе и надирались. Так что ничего я не крал, просто настроение поддерживал.
Пришлось Йохену Завацкому произнести одну из своих кратких и выразительных речей. Он, говорят, даже слезу пустил, пока Вальтера Матерна доканывал. То и дело про дружбу поминал:
— Но такого паскудства я в своем отряде не потерплю! Когда твой лучший товарищ протратился — это, конечно, всем нам тяжело видеть. Но у своих же ребят тырить — это распоследнее дело. Такое не смыть ни стиральным порошком, ни ядровым мылом.
После чего, обняв Вальтера Матерна за плечи и со слезой в голосе, посоветовал ему без лишнего шума испариться. Пусть, мол, едет в Рейх и вступает там в СС.
— Из моего отряда ты отчислен, но отсюдова, — говорил он, указывая на сердце, — отсюдова никогда.
После чего они — все те же девять человек в штатском — нанесли визит в «Малокузнечный парк». Без масок и без утепленных плащей оккупировали стойку. Опрокидывали в себя пиво и водку, закусывали нерезаной кровяной колбасой. Затянули «Был у меня товарищ…»[249] Матерн бормотал загадочные вирши и что-то каркал о сущностях бездны. Почти всегда кто-то один из девятерых был в туалете. Но не сидела на высоком табурете у стойки, тощая, словно отрывной календарь в конце года, Тулла. Не смотрела угрюмым, прилипшим взглядом на дверь туалета — так что и ресторанного побоища в тот раз не случилось.
Дорогая Тулла!
Вальтер Матерн не уехал в Рейх: сезон продолжался, «Снежная королева» до конца февраля оставалась в репертуаре, а вместе со Снежной королевой должен был появляться на сцене и Благородный Олень. Так что и членом СС Вальтер Матерн не стал, а стал зато тем, о чем напрочь забыл, но кем был по крещению, то есть католиком. И помогло ему в этом пьянство. В мае тридцать восьмого, — шла уже пьеса Биллингера «Гигант»[250], на Матерна, который играл сына Донаты Опферкух, то и дело налагали денежные штрафы за явку на репетицию в нетрезвом виде, — дожидаясь конца сезона, он околачивался на острове, в портовом предместье и на Соломенной дамбе. Кто его видел, не мог его и не слышать. На набережных и между портовыми складами он не только выдавал свой коронный зубовный скрежет, он еще и цитировал во весь голос. Лишь сейчас, основательно покопавшись в книгах, я худо-бедно разобрался, из каких кладезей он черпал: литургические тексты, феноменологию в лыжной шапочке[251], а также ершистые светские стихи[252] он перемешивал в немыслимый салат, сдабривая все это самой дешевой можжевеловкой. В особенности стихи — я иной раз бродил за ним по пятам — легкими шариками звука западали в мой слух и запоминались: то лемуры сидели на плоту[253], то говорилось что-то о хламе и вакханалиях. А как мучила меня, любознательного отрока, загадочная левкоевая волна! Матерн читал с нажимом. Портовые рабочие, люди вполне добродушные, когда не надо при боковом ветре грузить фанеру, с интересом слушали: «…уже так поздно». Грузчики кивали. «О ты, душа, прогнившая дотла…» Они сочувственно хлопали его по плечу, за что он благодарил их новыми строками: «О, братское счастье, где Каин и Авель, которых вел Бог, во облацех паря, каузально-генетическое, выше всех правил — позднее Я».
В ту пору я разве что про Каина и Авеля смутно понимал. Я трусил за ним по пятам, а он болтался, — во рту сплошь морги, брошенность[254], «Dies irae, dies illa» [255][255], — под кранами Соломенной дамбы. И вот там-то, на фоне Клавиттерской верфи, в туманном дыхании Мотлавы, ему явилась Дева Мария.
Он сидит на причальной тумбе и уже несколько раз посылал меня домой. Но я не хочу идти ужинать. К его тумбе, как и к другим, на которых никто не сидит, пришвартован шведский сухогруз среднего водоизмещения. Ночь неуютная, под торопливыми облаками, поэтому сон у сухогруза беспокойный, Мотлава его все время тянет и дергает. Все тросы, которыми швед привязан к тумбам, скрипят и скрежещут. Но Матерн хочет, чтобы громче. Позднее Я, все брошенности и поминальные песнопения выплюнуты и позабыты, он теперь тягается с тросами. В штормовке и бриджах, он сидит, как пришитый, на причальной тумбе, скрежещет, поднося бутылку ко рту, продолжает скрежетать, как только горлышко бутылки освободится, и зубы его немеют от скрежета все больше.
Он сидит в самом дальнем конце Соломенной дамбы, на Польском мыске, где Мотлава сливается с Мертвой Вислой. Паром из Молочного Петера, от Шуитских мостков, переправил сюда его, меня и рабочих-корабелов с верфи. На пароме, да нет, уже по пути, на Лисьем и Якобовом валу, мимо газозаправки, он начал зубами, но только тут, на причале, он напивается и скрежещет до состояния «Tuba minim spargens sonum» — «Труб божественных звучанья». Низко осевший швед помогает, как может. Мотлава тянет, дергает и смешивается с вялым истоком Мертвой Вислы. Верфи тоже подтягивают, у них ночная смена — прямо за спиной у него Клавиттерская верфь, за ней Молочный Петер, чуть дальше верфь Шихау, а за ней вагоностроительный завод. Помогают и облака — тем, что вгрызаются друг в дружку. Помогаю и я, потому что ему нужны слушатели.
А уж по этой части — ходить хвостом, любопытствовать, слушать — я всегда был дока.
Сейчас, когда заклепочные молотки смолкли, разом на всех верфях взяв короткую передышку, слышно только матерновские зубы и сварливого шведа, пока изменившийся ветер не доносит от Заложного рва другие звуки: там по Английской дамбе гонят убойную и племенную скотину. Хлебопекарная фабрика «Германия» ведет себя тихо, но сияет окнами всех трех своих этажей. Матерн управился с бутылкой. Швед покачивается. У меня, притаившегося на площадке товарного вагона, сна ни в одном глазу. Соломенная дамба со всеми своими складами и амбарами, пристанями и грузовыми кранами взбегает прямо к бастиону Буланый. Он, похоже, скрежещет уже напоследок и к тросам больше не прислушивается. Что же тогда он слышит, если даже заклепочных молотков не слышно? Осипших коров, интеллигентных свиней? А может, ангелов? «Liber scriptus proferetur» — чтение по писаному. Что он прочтет — топовые огни, бортовые огни, строчку за строчкой? Пустится в «Нетие»[256] или начнет напирать на концевые рифмы: «Послерозие», «Плот лемуров», «Восточные осыпи», «Баркароллы», «Аид прибывает», «Морг», «Плато инков», «Замок луны»[257]? Без нее, конечно, тоже не обошлось, вон сияет, все еще остренькая, как после второго бритья. Скользит по свинцовоплавильне и насосной станции, лижет городские соляные склады, брызгает сбоку на вырезные картинки Старого города, Перечного города, Нового города — на церкви Святой Катарины, Святого Варфоломея, Святой Марии, — покуда вдруг, в подсвеченной луной плащанице, не появляется Она. Ясное дело, она переправилась паромом из Брабанка. От фонаря к фонарю плывет она вверх по Соломенной дамбе, то и дело исчезая за журавлиными кранами на набережной, парит над рельсами сортировочной горки, снова обозначается под фонарем — и он все ближе приманивает ее скрежетом зубовным к своей тумбе:
— Приветствую Тебя!
Но когда она повисает прямо перед ним, источая свет из-под покрова, он и не думает вставать, а по-прежнему сидит на тумбе и бормочет:
— Послушай, скажи-ка мне. Ну что тут поделаешь? Устала небось меня искать, понимаю… Поэтому, Мария, слушай меня: Ты знаешь, куда он делся? Я Тебя приветствую, но ты мне скажи, как тут быть, потому что это все его цинизм, который я терпеть не мог: ничего святого для него не было, в этом все дело. Мы же только проучить его хотели: «Confutatis maledictis»…[258] А теперь вот его нет, оставил мне все свои тряпки. Я их нафталином переложил, я, представляешь? — я своими руками всю эту проклятую рвань перебрал и занафталинил! Да ты присядь, Мария. Насчет денег из кассы, тут все правильно, но он-то куда делся? Может, в Швецию? Или в Швейцарию, где у него монеты лежат? Или в Париж, самое для него место? А может, в Голландию? За океан? Да сядь же Ты, наконец: царства слез настанет время… Еще пацаном — Господи, какой же он был толстый! — вечно эти крайности: однажды хотел череп забрать из-под церкви Святой Троицы. И над всем хотел потешаться, и все время этот Вайнингер, вот мы его и это… Где он? Я должен! Скажи мне, где? Приветствую Тебя. Но только если Ты… Гляди, на хлебопекарне «Германия» ночная смена. Ты видишь? А кто, спрашивается, будет есть все эти хлеба? Скажи мне. Да нет, это не заклепочные молотки, это так. Садись. Где?
Но светящийся покров садиться не желает. Стоя, вернее, паря на вершок над мостовой, молвит Дева таковы слова:
— Donna eis requiem[259]: скоро тебе станет легче. В истинной вере преобразишься и будешь играть в Шверине в театре. Но прежде, чем ты в Шверин наладишься, встанет у тебя на пути пес. Не убойся.
Он, сидя на тумбе, все хочет знать в точности:
— Черный пес?
Она, в плащанице, зависая, как «с баллоном»:
— Адский пес.
Он, все еще пригвожденный к тумбе:
— Пес столярных дел мастера?
Она, поучающим тоном:
— Как может принадлежать столярных дел мастеру пес, вверенный аду и самим Сатаной натасканный?
Он, припоминая:
— Эдди вообще-то называл его Плутоном, но в шутку.
Она, воздевая перст:
— Он встанет у тебя на пути.
Он, пытаясь увильнуть:
— Нашли на него чумку.
Она, наставительно:
— Яд можно достать в любой аптеке.
Он, вступая на путь шантажа:
— Но сперва Ты мне скажешь, куда Эдди…
Но ее последнее слово гласит:
— Аминь.
Я, притаившись на площадке товарного вагона, знаю больше, чем оба они вместе взятые: Эдди Амзель теперь курит сигареты и отзывается на совсем другое имя.
Дорогая Тулла!
По всей вероятности, Дева Мария, отправляясь домой, села на паром в сторону к Молочному Петеру, на причале возле газозаправки; а Вальтер Матерн вместе со мной переправлялся у Брабанка. Одно ясно: он стал еще большим католиком, чем раньше — даже дешевый вермут начал пить, потому как ни обычная водка, ни можжевеловка его уже не забирала. Скрежеща липкими от сладкого пойла зубами, он еще несколько раз приманил Пресвятую деву на разговорную дистанцию — на острове, потом среди деревянных сараев, что тянутся по обе стороны Брайтенбахского моста, или, как обычно, на Соломенной дамбе. Только вряд ли они что-то новое обсуждали. Он, конечно, хотел разузнать, куда кое-кто подевался, а она натравливала его на псину.
— Раньше-то вороний глаз для этого брали, а сейчас взять вот хоть аптекаря Гренке на Новом рынке — у него в аптеке яды на любой вкус: подкормочные, наркотические, септические. К примеру, Ас-два О-три, белый, кристаллический порошок, добывается из сульфидных руд, одноосновная арсениевая кислота, короче — мышьяк, крысиный яд, но если подсыпать не скупясь, то прикончит и собаку.
Вот так и получилось, что Вальтер Матерн снова, после длительного перерыва, появился в нашем доме. Не то, чтобы он сразу и прямиком, хотя и пошатываясь, направился во двор столярной мастерской и начал там неистовствовать, закатывая глаза к водосточным трубам, нет, он постучался к Фельзнер-Имбсу и сразу плюхнулся на его хиленькую софу. Пианист налил ему чаю и сохранял выдержку, когда Матерн принялся его допрашивать:
— Где он, я спрашиваю? Дружище, сделайте же хоть что-нибудь! Уж вы-то должны знать, где он скрывается. Не мог же он просто так испариться. Если кто-то и знает, то только вы. Выкладывайте!
Я, стоя под прикрытыми окнами, был не совсем уверен, что пианисту известно больше, чем мне. Матерн грозил. Барахтаясь и помогая себе скрежетом зубовным, поднялся с тахты, ввиду чего Имбс ухватился за стопку нот. Матерн поторкался туда-сюда в зеленом электрическом сумраке музыкальной гостиной. Попытался цапнуть золотую рыбку из аквариума, выплеснул пригоршню воды на цветочные обои и не заметил, что рыбка по-прежнему плавает в аквариуме, жива и невредима. Зато он задел фарфоровую балерину, когда замахнулся своей английской трубкой на песочные часы. Стройная горизонтальная ножка балерины аккуратно обломилась и мягко упала на ноты. Матерн извинился и пообещал возместить ущерб и все исправить, но Имбс его опередил, собственноручно склеив фигурку универсальным клеем. Вальтер Матерн порывался ему помочь, но пианист решительно и умело загораживал статуэтку спиной. Налил ему еще чаю и дал посмотреть фотографии: Йенни в накрахмаленной балетной пачке и в той же примерно позе, что фарфоровая балерина, но нога цела. Матерн, похоже, увидел не только фото, потому что продолжал выпытывать вещи, никак с серебряными башмачками и пуантами не связанные. Все те же вопросы:
— Ну где? Не мог же просто… Эдак вот слинять и ни словечка не оставить. Отчалить, и даже не… Уж я повсюду спрашивал, и в Столярном переулке, и в Шивенхорсте. Она тем временем замуж вышла, ну, Хедвиг Лау, и всякое общение с ним оборвала, так и сказала: оборвала.
Прикрытое окно музыкальной гостиной внезапно распахнулось, и Вальтер Матерн перекинул ноги через подоконник, заставив меня нырнуть в сирень. Когда я поднялся на ноги, он уже приближался к тому разрытому полукругу, границы которого ясно обозначали пределы досягаемости цепи, приковавшей нашего Харраса к дровяному сараю.
Харрас по-прежнему был злой и черной овчаркой. Только над глазами появились два островка седины. И углы губ смыкались уже не так плотно. Но едва Вальтер Матерн покинул сиреневый палисадник, Харрас выскочил из конуры и натянул цепь до самой границы полукруга. Матерн отважился приблизиться к нему на расстояние метра. Харрас дышал и почесывался, Матерн искал слова. Но его упредила то ли дисковая пила, то ли фреза. И тогда, вклинившись в крохотную паузу между дисковой пилой и фрезой, Вальтер Матерн сказал, выплюнул из себя слово, которое отрыгнулось и не разжевалось, которое блевотным сгустком вязло в зубах:
— Наци! — сказал он нашему Харрасу. — Наци!
Дорогая Тулла!
Эти визиты продолжались неделю или чуть больше. Матерн приносил с собой слово, а Харрас уже стоял, натянув цепь, ибо на нем висел дровяной сарай, где обитали мы: ты, я и иногда Йенни, для которой много места не требовалось. На коленях, прищурив глаза, мы подсматривали в щелку. Там, во дворе, Матерн тоже становился на колени, а затем принимал собачью позу. Голова к голове, к носу нос, человечий череп и собачье чело, и с детскую голову промежуток. Тут нарастающий и спадающий, но сдержанный рык, там скрежет, скорее морского песка, чем гравия, а потом, яростной скороговоркой, слово:
— Наци! Наци! Наци! Наци!
Хорошо еще, что кроме нас, в сарае, никто этого сдавленного слова не слышит. Но все окна во двор забиты публикой.
— Опять этот актер заявился, — из окна в окно сообщали друг другу соседи, когда Вальтер Матерн приходил навестить нашего Харраса. Август Покрифке должен бы погнать его со двора, но даже машинный мастер заявил, что его это не касается.
Приходилось моему отцу, столярных дел мастеру, пересекать двор. Одна рука у него как бы невзначай лежала в кармане, и я уверен, что там была заточенная стамеска. Он вставал у Матерна за спиной и другую, свободную руку тяжело клал ему на плечо. Громко, так, чтобы все усыпанные соседями окна дома и все подмастерья в окнах мастерской слышали, он отчеканивал:
— Немедленно оставьте пса в покое. И убирайтесь отсюда. Вы к тому же и пьяны. Постыдились бы!
Матерн, которого отец жесткой столярной хваткой ставил на ноги, разумеется, не мог обойтись без грозных взглядов самого дешевого актерского пошиба. Но у моего отца глаза были очень светлые, чуть выпуклые и твердо очерченные, взгляды Матерна от них отскакивали, как от стенки горох.
— Смотрите-смотрите, меня не убудет. А калитка вон там!
Но Матерн предпочитал уходить через сиреневый палисадник в окно музыкальной гостиной пианиста Фельзнер-Имбса. А однажды, когда он покидал наш столярный двор не через квартиру пианиста, а обычным путем, он сказал отцу, уже от калитки:
— У вашего пса чумка, разве вы не видите?
На что мой отец, со стамеской в кармане, ему ответил:
— А это уж предоставьте мне судить. И не у пса чумка, а у вас запой, и лучше бы вам больше здесь не показываться.
За спиной у него горланили подмастерья, грозя кто дрелью, кто ватерпасом. Отец тем не менее вызвал ветеринара: никакой чумки у Харраса не было. Ни слизи в мочке носа и в глазах, ни мутного взгляда, ни рвоты после кормежки, но на всякий случай в него впихнули ложку дрожжевого лекарства: «Мало ли что!»
Дорогая Тулла!
Тут, наверно, сезон тридцать седьмого — тридцать восьмого года уже закончился, и Йенни нам сказала: «Он в Шверине в театре». Однако в Шверине он прожил недолго, а перебрался, — и об этом мы от Йенни знали, — в Дюссельдорф на Рейне. Но поскольку в Шверине его уволили досрочно, он и на Дюсселе[260] и вообще нигде в театр устроиться не мог. «У дурной славы длинные ноги», — так нам Йенни объяснила. Впрочем, в следующем письме сообщалось, что он подрабатывает на радио диктором в редакции детского вещания; что он помолвлен, но вряд ли это надолго; он все еще не знает, где искать Эдди Амзеля, но убежден, что где-то здесь; и пьет он теперь не так сильно, а, наоборот, снова занялся спортом — хоккей на траве и даже кулачный мяч, как когда-то в мае; у него много приятелей, из бывших, которым, как и ему, все обрыдло; но католицизм тоже дерьмо редкостное, — так в письме говорилось, — он тут познакомился с некоторыми попами, в Нойсе и в аббатстве Мария Лаах[261], его от них просто тошнит; по-видимому, все идет к войне; под конец Вальтер Матерн хотел знать, жива ли еще та черная псина, но Фельзнер-Имбс ему не ответил.
Дорогая Тулла!
И тогда Вальтер Матерн поездом прибыл в Лангфур, дабы лично удостовериться, жив ли еще наш Харрас. Внезапно и как ни в чем не бывало, словно с его последнего визита минуло несколько дней, а не месяцев, он появился в столярном дворе, одетый с иголочки — английский бостон, красная гвоздика в петлице, короткая стрижка — и пьяный в дым. Всякую осторожность он оставил либо в поезде, либо еще где, на колени перед Харрасом не становился, словечко не шипел и не скрежетал, а начал орать его на весь двор. При этом он имел в виду не только нашего Харраса — всем соседям в окнах, нашим подмастерьям, машинному мастеру и моему отцу оно теперь надолго запомнилось, словечко это. Вот почему все мигом в своих трехкомнатных квартирах попрятались. Подмастерья все шпингалеты на окнах позадвигали. Машинный мастер дисковую пилу запустил. Отец к фрезе встал. Никому это словечко слышать не хотелось. Август Покрифке мешал столярный клей.
А нашему Харрасу, который во дворе остался, Вальтер Матерн сказал:
— Ах ты черная католическая свинья! — Уж он в тот день выблевал все, что у него наболело. — Ах ты нацистская католическая свинья! Да я из тебя собачьи котлеты сделаю! Доминиканец[262]! Христианин собачий! Я уже двадцать два года собакой живу[263], а для бессмертья ничего…[264] ну, погоди!
Фельзнер-Имбс подошел к буйному молодому человеку, который, надрываясь, силился переорать фрезу и пилу, взял его за рукав и отвел к себе в музыкальную гостиную, где налил ему чаю.
Во многих квартирах, в мастерской и в машинном цехе взвешивались формулировки заявлений в полицию; но никто так на него и не донес.
Дорогая Тулла!
С мая тридцать девятого по седьмое июня тридцать девятого Вальтер Матерн просидел в подвалах полицейского президиума в Дюссельдорфе в камере предварительного заключения.
Это не театральные сплетни, которые Йенни нам нашептала; я сам, по документам, до этого докопался.
Две недели он провалялся в дюссельдорфском Госпитале Марии, поскольку в подвалах полицейского президиума ему сломали несколько ребер. Ему долго еще пришлось носить повязку и нельзя было смеяться, что давалось ему без труда. Правда зубы, все до единого, у него остались целы.
До этих подробностей мне даже докапываться не пришлось, все это черным по белому — правда, без упоминания полицейских застенков — было написано в открытке, на лицевой стороне которой запечатлена дюссельдорфская церковь Святого Ламберта. Получателем открытки был, однако, не пианист Фельзнер-Имбс, а старший преподаватель Освальд Брунис.
Так кто же спровадил Вальтера Матерна в полицейские подвалы? Заведующий репертуаром шверинского городского театра донесений на него не писал. И вовсе не политическая неблагонадежность была причиной его увольнения: оставаться актером в Шверине ему помешало беспробудное пьянство. Эти сведения не свалились ко мне с неба, до них пришлось долго и упорно докапываться.
Но почему, в таком случае, Вальтер Матерн провел в предварительном заключении всего пять недель, почему только несколько ребер и ни одного зуба? Он бы никогда не вышел из полицейских подвалов, если бы не записался добровольцем в армию: его спас данцигский паспорт гражданина вольного города. В штатском, но уже с мобилизационным предписанием на груди, как раз над ноющими ребрами, его отправили на родину. Там он явился в полицейские казармы Лангфур, Верхний Штрис. Прежде, чем получить обмундирование, ему вместе с еще несколькими сотнями штатских добровольцев из Рейха пришлось добрых два месяца хлебать из общего солдатского котла: война еще не поспела.
Дорогая Тулла!
В августе тридцать девятого, — оба линкора уже встали на якорь против Вестерплатте[265], в нашей мастерской уже вовсю сколачивались сборные детали военных бараков и солдатских нар, — двадцать седьмого августа нашему Харрасу пришел конец.
Кто-то его отравил; ибо чумки у Харраса не было. Вальтер Матерн, который сказал: «У пса чумка!» — подсыпал ему Ас-два О-три: мышьяк.
Дорогая Тулла!
Ты и я, мы оба могли бы против него свидетельствовать. Была ночь с субботы на воскресенье: мы сидим в сарае, в твоем логове. И как это ты исхитрялась устроить, что при беспрерывной погрузке-разгрузке досок, панелей и фанерных листов твое гнездо оставалось нетронутым?
Вероятно, Август Покрифке знает убежище своей дочери. Когда привозят дерево, только он один забирается в сарай, командует оттуда разгрузкой длинной древесины и следит, чтобы Туллино логово ненароком не заложили штабелем досок. Никто, и сам он тоже, не осмеливается даже прикоснуться к предметам ее сарайного обихода. Никому и в голову не придет напялить шутки ради ее стружечный парик, лечь на ее стружечную постель и укрыться ее сплетенным из стружек одеялом.
После ужина мы занимаем сарай. Вообще-то мы и Йенни хотели позвать, но Йенни в тот вечер устала; и мы хорошо ее понимаем: после занятий в школе и репетиций в театре ей надо пораньше ложиться, потому что даже по воскресеньям у нее репетиции; они сейчас готовят «Проданную невесту»[266], там много чешских танцев.
Итак, мы вдвоем сидим в темноте и играем в молчанку. Тулла четыре раза выигрывает. Во дворе Август Покрифке спускает Харраса с цепи. Пес долго царапается о стены сарая, тихо скулит и просится к нам, — но мы хотим остаться вдвоем. Тулла зажигает огонь и надевает один из своих стружечных париков. Ее руки вокруг язычка пламени как из пергамента. Она сидит, скрестив ноги, над свечой и все ниже склоняет голову со свисающими стружками-локонами над пламенем. Я уже который раз прошу: «Хватит, Тулла, перестань!», — и от этого зажигательная забава только прибавляет ей удовольствия. Один раз хрустящий локон уже начинает потрескивать, но все обходится: никакого пожара до небес, никаких сенсаций в местной прессе: «Столярная мастерская в Лангфуре сгорела дотла».
Наконец, Тулла двумя руками снимает парик, и мне велено ложиться в кровать из стружек. Она укрывает меня плетеным одеялом — из особо длинных стружек, которые подмастерье Вишневский специально для нее настругивает из длинного бруса. Я теперь пациент и должен заболеть. Вообще-то я уже не маленький, чтобы в такие игры играть. Но Тулла любит быть врачом, да и мне быть больным иногда приятно. Я говорю хриплым голосом:
— Госпожа доктор, я заболел.
— Я так не думаю.
— Нет-нет, доктор, у меня всюду болит.
— Где всюду?
— Всюду, госпожа доктор, просто всюду.
— Может, на сей раз это селезенка?
— Селезенка, сердце и почки.
Тулла, залезая рукой под стружечное одеяло:
— Тогда, значит, у вас сахарная болезнь.
Тут мне полагается сказать:
— И высоченная температура.
А она уже вцепляется мне в самое чувствительное место:
— Вот здесь? Здесь болит?
По условиям игры и потому, что в самом деле больно, я вскрикиваю. Затем мы ту же игру повторяем другим манером. Теперь уже Тулла больна и забирается под одеяло, а мне предстоит мизинцем мерить температуру у нее в дырочке. Но вот и эта игра закончилась. Мы два раза играем в гляделки — смотреть друг на друга и не моргать. Опять Тулла выигрывает. После чего, поскольку других игр в голову не приходит, мы снова играем в молчанку: один раз выигрывает Тулла, а на следующий выигрываю я, потому что в самый разгар молчанки Тулла вдруг будто лопается и, каменея подсвеченным снизу лицом, растопырив все десять прозрачно-розовых пергаментных пальцев, шипит:
— Там кто-то по крыше ползет, слышишь?
И задувает свечу. Я слышу, как похрустывает рубероид на крыше сарая. Прямо у нас над головой кто-то, похоже, в резиновых сапогах, делает шаг, потом другой. Харрас уже рычит. Резиновые подошвы топают по кровле до самого края крыши. Мы, Тулла впереди, ползем в том же направлении по доскам. Он стоит точно над собачьей конурой. А мы, прямо под ним, едва умещаемся между штабелем досок и потолком сарая. Он сидит и болтает ногами, перебросив их через водосточный желоб. Харрас рычит по-прежнему, не громче и не тише. Мы приникли к вентиляционной отдушине между крышей и стеной сарая. Тулла могла бы просунуть в щель свою тонюсенькую ручку-щепку и ущипнуть ночного гостя хоть за правую, хоть за левую ногу. А он уже приговаривает:
— Умница, Харрас, умница.
А мы того, кто приговаривает «умница-Харрас-умница!» и «лежать, Харрас, лежать!», самого не видим, только штаны; но тень, которую он — при половинной-то луне за спиной — отбрасывает во двор, это, на что хошь спорю, тень Вальтера Матерна.
А во двор он бросает не что-нибудь, а кусок мяса. Я дышу Тулле в ухо:
— Точно отравленное!
Но Тулла не шелохнется. А Харрас тем временем уже поддел мясо мордой, и мы слышим, как Матерн с крыши его подбадривает:
— Ну жри же, давай, жри!
Харрас трясет мясной шмат, слегка подбрасывает. Есть он не хочет, хочет играть, а ведь старый уже пес: ему уже тринадцать собачьих годков стукнуло и несколько месяцев.
И тогда Тулла, даже не шепотом, скорее обычным своим голосом, вдруг говорит в щель между крышей и стеной сарая:
— Харрас! Есть, Харрас, есть!
И наш Харрас, сперва чуть склонив голову набок, начинает заглатывать мясо, кусок за куском.
Резиновые подошвы над нами торопливо удаляются в направлении прилегающих дворов. Спорю на что хошь: это он. Сегодня я точно знаю: это он и был.
Дорогая Тулла!
Твоим ключом мы открыли дверь и зашли в дом. Харрас все еще управлялся с мясом и не скакал вокруг нас, как обычно. На лестнице я стряхнул с одежды опилки и стружку и припер тебя к стене:
— Зачем ты велела Харрасу это жрать, зачем?
Ты первой стала подниматься по лестнице:
— Так ведь его бы он небось не послушался?
Я, десятью ступеньками ниже:
— А если там все-таки отрава?
Ты, уже площадкой выше:
— Значит, пусть подыхает.
Я, сквозь частокол перил:
— Но зачем?
— А затем! — хихикнула Тулла через ноздри и была такова.
Дорогая Тулла!
На следующее утро — спал я как убитый, вроде даже без снов — меня разбудил отец. Он плакал, слезами, и сказал мне:
— Нашего доброго Харраса больше нет.
Мне тоже удалось расплакаться и быстро одеться. Пришел ветеринар, выписал свидетельство.
— Года три еще мог бы прожить, это уж точно. Жалко псину.
Моя мать первой об этом заговорила:
— Не иначе, как это тот актер, фигляр, коммунист поганый, даром что ли он у нас во дворе околачивался.
Разумеется, она тоже плакала. Кто-то заподозрил даже Фельзнер-Имбса.
На полицейском кладбище служебных собак между Пелонкен и Брентау наш Харрас обрел свою ухоженную, исправно посещаемую могилу. Мой отец подал заявление в полицию. Назвал Вальтера Матерна и пианиста. Имбса допросили, но он в интересующее полицию время был у старшего преподавателя Бруниса, играл в шахматы, осматривал коллекцию минералов и распил с хозяином две бутылки мозельского. Расследование же в отношении Вальтера Матерна, у которого, впрочем, тоже имелось алиби, сошло на нет само собой: два дня спустя в Данциге, Лангфуре и других местах начались бои. Вальтер Матерн вступил в Польшу.
Тебе, Тулла, нет,
зато мне чуть было не довелось лицезреть Вождя. Надо сказать, что прибыл он в наш город с большой помпой. Первого сентября у нас шла пальба на славу — из всех стволов и во все стороны. Два подмастерья из отцовской мастерской взяли меня с собой на крышу нашего дома. У оптика Земрау они одолжили полевой бинокль: в окуляры война выглядела потешно и, пожалуй, разочаровывала. Все время я видел одни только выстрелы — Оливский лес попыхивал ватными облачками — и ни одного попадания. Только когда закружились в небе пикирующие бомбардировщики и разбухающая туча дыма показала мне в бинокль, где находится Вестерплатте, я поверил, что все это не понарошку. Но стоило скользнуть линзами поближе, на нашу Эльзенскую улицу, где не перечесть было домохозяек с кошелками, резвящихся на солнце детей и кошек, — и я начинал сомневаться: может, это все-таки только игра, и завтра опять в школу?
Но шума было много. Пикирующие бомбардировщики, двенадцать ревущих бомбовозов в яично-желтых разводах, наверняка довели бы нашего Харраса до хрипоты; но Харраса уже не было. И не от чумки пал наш верный пес-овчарка; кто-то подкормил его отравленным мясом. Мой отец плакал мужскими слезами, и сигара «Фельфарбе» остывшим пеньком-огрызком болталась на губе. Со своим никчемным столярным карандашом он, как потерянный, стоял у разметочного стола, и даже вступающие в город доблестные войска Рейха были ему не в радость. И сообщения по радио — Диршау, Кониц, Тухель, а значит, и вся Кошнадерия, уже в немецких руках — не могли его утешить, хотя его жена и чета Покрифке, то бишь все урожденные кошнадерцы, ликовали на весь наш столярный двор:
— Они уже и Петцин взяли, и в Шлангентин вошли, и в Лихтнау, и в Гранау! Слышь, Фридрих, а два часа назад вступили в Остервик!
Настоящее утешение пришло к столярных дел мастеру лишь третьего сентября в образе курьера-мотоциклиста в военном мундире. В письме, которое он доставил, сообщалось, что Вождь и Канцлер Рейха, находясь в настоящее время в освобожденном городе Данциге, желает познакомиться с заслуженными гражданами города, в том числе и со столярных дел мастером Либенау, чей кобель Харрас, порода — немецкая овчарка, зачал принадлежащего Вождю кобеля Принца той же немецкой породы. Кобель Принц в настоящее время тоже находится в Данциге. Столярных дел мастера Либенау просят в такое-то время прибыть в Курортный дворец в Сопоте и обратиться к дежурному адъютанту, штурмбанфюреру СС такому-то. Нет необходимости приводить с собой кобеля Харраса, но один из членов семьи, желательно ребенок, может столярных дел мастера сопровождать. С собой иметь: удостоверение личности. Форма одежды: мундир или опрятный штатский костюм.
Отец по такому случаю надел выходной костюм. Я, желательный на приеме член семьи, и без того уже три дня не вылезал из формы «юнгфолька», потому что все время случалось что-то торжественное. Мать причесывала мне волосы до зуда в затылке. Отец и сын были отутюжены и вычищены до последней пуговицы. Когда мы выходили из квартиры, все соседи высыпали на лестницу нас провожать. И только Туллы не было — она собирала гранатные осколки в Новой Гавани. Но и на улице все окна были распахнуты дружным порывом восторга и любопытства. Наискосок напротив, в Акционером доме, одно из окон брунисовской квартиры тоже стояло настежь, и худенькая Йенни взволнованно махала мне ручкой, правда, сам старший преподаватель не показывался. Я еще долго оборачивался в надежде увидеть его неказистое лицо — и когда мы позади строгого шофера в мундире усаживались в длинный казенный лимузин с открытым верхом, и когда Эльзенская улица кончилась, и когда мы уже миновали улицу Марии, Малокузнечный парк и Каштановый проезд, и когда выехали на Главную улицу, а потом по Сопотскому шоссе помчались в сторону Сопота — мне все еще недоставало этого лица с тысячей морщинок и складочек.
Если не считать автобуса, это была моя первая в жизни поездка на настоящем автомобиле. Еще в машине отец наклонился ко мне и прокричал прямо в ухо:
— Это большой день в твоей жизни, сынок! Раскрой глаза пошире, чтобы все как следует запомнить, будешь потом рассказывать.
Я распялил глаза так, что от встречного ветра они тут же заслезились; да и сегодня, когда я — в полном соответствии с отцовским наказом и пожеланием господина Браукселя, пытаюсь рассказать о том, что тогда вбирал в себя широко раскрытыми глазами и укладывал по полочкам памяти, взгляд мой напрягается и подергивается влагой. Тогда я боялся, что взгляд мой увидит Вождя размытым от слез; сегодня я до слез прищуриваю мысленный взор, чтобы не увидеть размытым то, что тогда предстало передо мной во всей чеканной угловатости мундиров и флагов, солнечного света и всемирно-исторического значения, пропитанное служилым потом и непреложностью факта.
Выбираясь из машины перед Сопотским Курортным дворцом и Гранд-отелем, мы сами показались себе очень маленькими. Курортный парк оцеплен; за оцеплением стояли они — население! — и уже охрипли от крика. Величественный подъезд к главному порталу тоже охранялся сдвоенными постами. Водителю трижды пришлось останавливаться, помахивая через дверцу своей бумагой. Забыл сказать о флагах: еще у нас, на Эльзенской улице, повсюду висели флаги со свастикой, большие и поменьше. Бедные или просто бережливые люди, которые не могли или не хотели позволить себе настоящий флаг, понатыкали бумажных флажков в цветочные ящики. И только один рожок для флага был пуст, ставя все остальные флаги под сомнение — на окне у старшего преподавателя Бруниса. Зато в Сопоте, по-моему, все вывесили флаги, по крайней мере на первый взгляд. Из большого круглого окна на фронтоне Гранд-отеля под прямым углом к фасаду торчал флагшток. С него вдоль всех четырех этажей струилось вниз почти до самого козырька парадного входа гигантское полотнище со свастикой. Оно выглядело совсем как новое и было почти неподвижно, потому что стена фасада заботливо укрывала его от ветра. Если бы на плече у меня была обезьянка, она бы запросто смогла вскарабкаться по знамени до самого четвертого этажа и даже еще выше, пока полотнище не кончится.
Огромный детина в мундире и крохотной, лихо заломленной фуражке с козырьком встретил нас в вестибюле отеля. По ковру, от одного вида которого у меня затряслись коленки, он повел нас напрямик через огромный зал, сквозь немыслимую суету и толкучку, где все спешили, приходили, уходили, сменялись, докладывали, передавали и принимали — все сплошь победные реляции и сводки о пленных с большим количеством нулей. По лестнице, что вела в подвальный этаж, мы спустились вниз. По правую руку открылась стальная дверь — в бомбоубежище Гранд-отеля уже собрались во множестве заслуженные граждане города. Нас обыскали на предмет оружия. Мне, после специального запроса по телефону, было разрешено оставить походный нож члена «юнгфолька». Отцу же пришлось сдать миниатюрный перочинный ножичек, которым он обрезал кончик своей сигары. Все заслуженные граждане, в том числе и господин Лееб из Оры, хозяин Теклы из Шюдделькау, тем временем также почившей, — Текла и Харрас родили Принца, — итак, мой отец, господин Лееб, несколько господ с золотыми партийными значками, четверо или пятеро мальчишек в форме, но постарше меня, все мы стояли молча и готовились. То и дело звонил телефон:
— В полном порядке. Так точно, командир, будет исполнено!
Минут через десять после того, как отец сдал свой перочинный ножичек, ему вручили его обратно. С возгласом: «Прошу всех внимания!» — здоровенный детина, он же дежурный адъютант, приступил к объяснениям. Вождь в данный момент никого принять не может. Решаются грандиозные исторические задачи. А это значит: всем надо почтительно отойти в сторону и стоять молча, потому что на всех фронтах за всех нас сейчас говорят пушки, за всех, то есть и за вас, за вас, и за вас тоже.
После этой торжественной речи он с неожиданной будничностью принялся раздавать фотографии вождя. Собственноручная подпись делала фото особенно ценным. У нас, впрочем, одна такая карточка уже имелась, но на этой, второй, которая так же, как и первая, была немедленно окантована и застеклена, Вождь был куда серьезней: на нем был серый военно-полевой френч, а не баварский сюртук.
Все уже толклись у выхода из бомбоубежища, отчасти с облегчением, отчасти разочарованные, когда мой отец обратился к дежурному адъютанту. Я подивился его мужеству — но он этим славился, не робел ни на собраниях своего столярного ремесленного цеха, ни даже в ремесленной палате. Он извлек на свет давнее, еще с тех времен, когда Харрас изъявлял «радостную готовность к покрытию», письмо окружного руководства, а затем коротко и ясно изложил адъютанту предысторию письма и его последствия, завершив все это экскурсом в родословную Харраса: Перкун, Сента, Харрас, Принц. Адъютант слушал с интересом. А отец в завершение сказал:
— Поскольку кобель Принц в настоящее время гостит в Сопоте, прошу разрешения на него взглянуть.
И нам разрешили! И господину Леебу, который все это время застенчиво стоял в сторонке, разрешили тоже. В вестибюле отеля дежурный адъютант взмахом руки подозвал другого ординарца, такого же верзилу в мундире, и дал ему указания. Этот второй, с лицом горновосходителя, сказал нам:
— Следуйте за мной.
Мы последовали. Господин Лееб в новеньких полуботинках ступал по ковру на цыпочках. Мы пересекли еще один зал, где тарахтели сразу двенадцать пишущих машинок и еще больше телефонов. Коридор, который все никак не кончался, двери без числа и ходуном. Мундиры навстречу. Папки под мышкой. Уступаем дорогу. Господин Лееб приветствует каждого. В одном из вестибюлей тяжелый дубовый стол в окружении старинных кресел с витыми спинками. Отец знающим взглядом столяра ощупал мебель. Фанеровка с инкрустациями. Три стены почти сплошь увешаны фруктами, охотничьими натюрмортами и пасторалями в тяжелых золоченых рамах, зато четвертая — стеклянная и пропускает небо. Перед нами зимний сад Гранд-отеля: невероятные, безумные, запретные растения, и ах, как, должно быть, благоухают, но нам за стеклом не слышно.
А посреди зимнего сада, вероятно, даже утомленный всем этим благоуханием, сидит человек, тоже в мундире, но по сравнению с нашим дылдой — коротышка. А в ногах у него взрослая крупная овчарка играет средних размеров цветочным горшком. Растение из горшка, что-то бледно-зеленое в прожилках, валяется тут же рядом, корнями и всей земельной начинкой наружу. Собака катает горшок. Нам даже кажется, что мы слышим, как она его катает. Верзила подле нас костяшками пальцев стучит по стеклу. Овчарка тотчас же вскакивает. Охранник, не двинув туловищем, поворачивает голову, ухмыляется, как старый знакомый, встает, вроде бы совсем собравшись к нам подойти, и тут же садится. Другая, внешняя стеклянная стена зимнего сада открывает вид, который дорогого стоит: террасы курортного парка, выключенный сейчас большой фонтан, широкий разбег, узкую стрелу и массивный наконечник морского пирса: множество флагов, все из той же оперы, но народу ни души, если не считать сдвоенных постов. Балтийское море никак не определится — то оно зеленое, то серое, тщетно старается блеснуть голубизной. Но овчарка черная. Стоит на всех четырех лапах, чуть склонив голову набок. Точь-в точь наш Харрас, только в молодости.
— Совсем как наш Харрас! — говорит отец.
— Точь-в-точь наш Харрас, — вторю я.
Господин Лееб замечает:
— Но длинный круп у него, по-моему, от моей Теклы.
Отец и я:
— Так и у нашего Харраса тоже: длинный, плавно ниспадающий круп.
Господин Лееб умиляется:
— А как плотно и сухо губы смыкаются, совсем как у моей Теклы.
Отец и сын:
— И у нашего Харраса смыкание было отличное. И пальцы плотно держит. А посадка ушей — вылитый Харрас!
Господину Леебу всюду мерещится только его Текла:
— Осмелюсь утверждать, хотя, конечно, могу и ошибиться, что у собаки нашего Вождя хвост точно такой же длины, как был у моей Теклы.
Я, представляя нашу сторону:
— А я готов спорить, что собака Вождя в холке точно того же роста, что и наш Харрас: шестьдесят четыре сантиметра.
Мой отец стучит в стекло. Собака Вождя коротко тявкает — точно так же и Харрас подавал голос. Мой отец пытается сквозь стекло выяснить:
— Прошу прощения! Можно полюбопытствовать, какой у Принца в холке рост? Сколько сантиметров? Да, в сантиметрах. Так точно, в холке.
Человек в зимнем саду имеет право нам сообщить рост собаки Вождя в холке: шесть раз показывает он нам по две полных пятерни, а потом только правую с четырьмя оттопыренными пальцами. Мой отец великодушно похлопывает господина Лееба по плечу:
— Он ведь тоже кобель, кобели все сантиметров на пять повыше.
Относительно псовины собаки Вождя мы все трое единодушны: короткошерстная, каждый волосок прямой, каждый прилегает плотно, и все как один жесткие и черные.
Отец и я:
— Совсем как наш Харрас!
Господин Лееб, неколебимо:
— Совсем как моя Текла.
Тут наш верзила в мундире замечает:
— Да ладно вам важничать. Все они, овчарки, более или менее на одно лицо. А у Вождя в Бергхофе их там целый питомник. Сейчас он эту взял. В другой раз другую, как когда.
Отец совсем уж было собрался прочесть ему небольшой доклад о нашем Харрасе и его предках, но верзила отмахивается и показывает на часы.
Собака Вождя уже снова играет с горшком, когда я, уходя, отваживаюсь стукнуть в стекло: но Принц и ухом не ведет. И охранник в зимнем саду тоже предпочитает любоваться видом на море.
Мы возвращаемся по мягким коврам, мимо фруктов, пасторалей, охотничьих натюрмортов: легавые лижут убитых зайцев и кабанов, овчарок никто не рисует. Отец поглаживает мебель. Снова зал с пишущими машинками и телефонами. В главном вестибюле не протолкнуться. Отец берет меня за руку. По делу ему бы и господина Лееба надо за руку взять — того все время оттирают. Мотоциклисты в серых от пыли шинелях топчутся среди безупречных штабных мундиров. Это вестовые, у них в планшетах победные реляции. Взяли наконец Модлин? Вестовые сдают свои планшеты и падают в широкие кресла. Штабисты дают им прикурить и мило с ними болтают. Наш дылда проталкивает нас к выходу под четырехэтажное полотнище. У меня все еще нет на плече обезьянки, которая смогла бы влезть. Нас проводят через все кордоны, потом отпускают с миром. Население за загородкой хочет знать, видели ли мы Вождя. Отец, столярных дел мастер, трясет головой:
— Нет, братцы, Вождя нет, но мы видели его пса, он черный, скажу я вам, такой же черный, как наш Харрас был.
Дорогая кузина Тулла!
Нас не отвезли обратно в Лангфур в открытом служебном автомобиле. Отец, господин Лееб и я добирались домой пригородным поездом. Мы сошли первыми. Господин Лееб поехал дальше, пообещав при случае нас навестить. Мне казалось страшным позором возвращаться домой по Эльзенской улице на своих двоих. Но все равно это был замечательный день; и сочинение, которое я по настоянию отца на следующий же день после поездки в Сопот должен был написать и показать старшему преподавателю Брунису, я так и озаглавил: «Мой самый замечательный день».
А старший преподаватель Брунис, возвращая мне поправленное сочинение, только и сказал с кафедры:
— Очень живые, а иногда и очень точные наблюдения. В Гранд-отеле действительно есть ряд превосходных натюрмортов с фруктами и охотничьими трофеями, а также терпкие пасторали, по большей части голландских мастеров семнадцатого столетия.
Прочитать сочинение вслух мне не предложили. Старший преподаватель Брунис увлекся охотничьими натюрмортами, пасторалями и с жаром принялся рассуждать о жанровой живописи и о своем любимом художнике Адриане Брауэре[267]. А затем, возвращаясь к Курортному дворцу, Гранд-отелю и казино, вдруг сообщил:
— А особенно красиво и торжественно выглядит Красный зал. И в этом Красном зале вскоре будет танцевать Йенни. — И таинственно, почти шепотом, добавил: — Как только она удалится и сгинет, властвующая ныне воинская каста, как только переберется на другие курорты, прихватив с собой победный гром и бряцание оружием, так сразу же директор дворца вместе с главным режиссером городского театра намерены организовать небольшой, но изысканный вечер балета.
— А нам можно будет сходить и посмотреть? — дружно вскричали все сорок учеников.
— Это будет благотворительное мероприятие. Вся выручка пойдет в пользу «зимней помощи». — Брунис вместе с нами был искренне удручен, что Йенни будет танцевать только перед избранной публикой. — У нее будет два выхода, причем один даже в знаменитом па-де-катре, правда, в облегченном, детском варианте, но все-таки…
Я со своей тетрадкой для сочинений вернулся на место. «Мой самый замечательный день» был далеко позади.
Ни Тулла, ни я
не видели, как танцевала Йенни. Но, наверно, с большим успехом, раз кто-то из Берлина сразу же захотел ее ангажировать. Вечер балета состоялся незадолго до Рождества. Среди зрителей, помимо традиционной партийной элиты, были и ученые, художники, старшие офицеры авиации и флота и даже дипломаты. Брунис рассказывал, что, как только стихли аплодисменты, появился некий элегантный господин, расцеловал Йенни в обе щеки и хотел тотчас же забрать ее с собой. Ему, Брунису, он предъявил свою визитную карточку и представился главным балетмейстером Немецкого балетного театра в Берлине, прежде именовавшегося балетным театром «Сила через радость»[268], сокращенно «Балетом СЧР».
Но старший преподаватель это предложение отклонил, утешив балетмейстера согласием принять его в будущем: Йенни еще слишком мала, ее характер еще не сформировался. Еще несколько лет ей следует провести в привычном окружении, в родительском доме и своей школе, в добром старом городском театре и у мадам Лары.
И вот как-то раз подхожу я к старшему преподавателю Брунису на школьном дворе. Он, как всегда, сосет свой леденец, перекладывая его то за одну, то за другую щеку. А я его спрашиваю:
— Господин учитель, а как звали того балетмейстера?
— Этого, сын мой, он мне не сказал.
— Но разве вы не говорили, что он показывал вам что-то вроде визитной карточки?
Старший преподаватель Брунис хлопает в ладоши:
— Верно, карточка! Только вот что на ней было написано? Забыл, сын мой, хоть убей не помню.
Тут я начинаю гадать:
— Может, его фамилия Степун, Степутат или Степановский?
Брунис с удовольствием посасывает свой леденец:
— Ничего похожего, сын мой.
Тогда я захожу с птицы:
— Может, его фамилия Дрофер, Дроферман или Дрофский?
Брунис хихикает:
— Мимо, сын мой, мимо!
Я набираю в грудь побольше воздуха:
— Тогда его фамилия Кекель. Или Субботиц. Или Янгер, Яхельшпис, Якленский. А если он ни то, ни другое и ни третье, и если он вдобавок не Кризун и не Крупкат, то тогда только одна фамилия еще остается.
Старший преподаватель от удовольствия даже слегка подпрыгивает с ноги на ногу и одновременно перекладывает леденец со щеки за щеку:
— И что же это за последняя фамилия?
Я шепчу ему на ушко, и он сразу перестает подпрыгивать. Я повторяю фамилию тихо-тихо, и он, сдвинув свои кустистые брови, делает удивленно-испуганные глаза. А я, чтобы его успокоить, говорю:
— Просто я у портье в Гранд-отеле спросил, а он мне и ответил.
Тут раздается звонок, и перемена кончается. Старший преподаватель Брунис хочет сосать свой леденец дальше, но почему-то его у себя за щекой не нащупывает. Тогда он выуживает из кармана сюртука новый леденец и говорит, угощая и меня конфеткой:
— Уж очень ты любознателен, сын мой, пожалуй, даже чересчур любознателен.
Дорогая кузина Тулла!
А потом мы праздновали тринадцатилетие Йенни. Поскольку она найденыш, день рождения ей установил сам старший преподаватель Брунис, и праздновали мы его восемнадцатого января, в день провозглашения прусского короля германским кайзером. Стояла зима, но Йенни все равно пожелала себе «бомбу» — торт из мороженого. Старший преподаватель Брунис, собственноручно варивший себе леденцы, заказал кондитеру Кошнику торт из мороженого по своему особому рецепту. Мороженое — это была всегдашняя страсть Йенни. Стоило ее спросить: «Хочешь перекусить что-нибудь? Что тебе принести? Что подарить тебе на Рождество, на день рожденья, по случаю премьеры?» — она всегда жаждала мороженого, этого ледяного лакомства, холодной услады.
Мы тоже с удовольствием лакомились мороженым, но заветные желания у нас были другие. Тулла, к примеру, хоть она и на добрых полгода моложе Йенни, начала хотеть ребенка. И это притом, что ко времени польской кампании у них обеих, у Йенни и у Туллы, груди еще почти не обозначились. Лишь следующим летом, уже во время французского похода, через пару недель после Дюнкерка[269] они вдруг как-то изменились. В сарае, на ощупь, казалось, что обеих покусали сперва осы, а потом и шершни. Эти припухлости у обеих остались — Тулла носила их вполне осознанно, а Йенни с недоумением.
Мало-помалу, однако, наступало время мне на что-то решаться. Вообще-то меня больше тянуло к Тулле, но теперь, едва мы оказывались наедине в сарае, она тут же начинала требовать от меня ребенка. Я предпочел остановить свой выбор на Йенни, требования которой ограничивались мороженым по десять пфеннигов и не простирались дальше вазочки за тридцать пять у Тоскани, в кафе-мороженом с весьма солидной репутацией. А самую большую радость ей можно было доставить, проводив ее до ледника; он находился за Малокузнечным рынком возле Акционерного пруда, принадлежал Акционерной пивоварне, но стоял за пределами кирпичной ограды, которая зубцами вмурованных поверху осколков стекла отрезала цеха пивоварни от остального мира.
Ледник был прямоугольный, Акционерный пруд — круглый. Ивы забирались в него с ногами. Штрисбах, добежав с Верхнего Штриса, впадал в него, протекал его насквозь и тек дальше, разрезая предместье Лангфур надвое, покидая его у Легштриса и впадая, наконец, возле Брошкешского проезда в Мертвую Вислу. В 1291 году Штрисбах, «Fluuium Strycze», впервые упоминается и определяется в официальных документах как пограничная речушка между владениями монастыря Олива и городскими землями. Ручей Штрисбах был собою не широк и не глубок, но зато богат пиявками. И в Акционерном пруду обитали пиявки, всякие жабы-лягушки и головастики. Водилась тут и рыба, но об этом речь впереди. Над его, как правило, безмятежной гладью пискляво зудели комары и замирали хрупкие, прозрачные стрекозы. Когда мы приходили с Туллой, она заставляла нас выуживать из Штисбаха пиявок и собирать в консервную банку. Был там бесхозный, покосившийся и гниющий в прибрежном иле лебединый домик. Лебеди прожили здесь лишь один сезон много лет назад, а потом сдохли, и только лебединый домик остался. Во все времена и при всех правительствах не было конца возмущенным читательским письмам и аршинным газетным статьям об этом Акционерном пруде: то из-за комаров, то из-за того, что лебеди сдохли, его требовали немедленно засыпать. Но всякий раз Акционерная пивоварня делала благотворительный взнос в городской приют для престарелых, и пруд не засыпали. А во время войны пруд вообще был вне опасности. У него появилось дополнительное название, он теперь именовался не только Акционерным, но еще и противопожарным прудом при Малокузнечном парке. Его обнаружили службисты ПВО и радостно нанесли на свои штабные карты. Но лебединый домик не принадлежал ни пивоварне, ни службе ПВО; лебединый домик, по размерам чуть больше конуры нашего Харраса, принадлежал Тулле. Она забиралась в него после школы, и сюда, в домик, мы подавали ей консервную банку с пиявками. Она разоблачалась и сажала их на себя: на живот и на ноги. Пиявки разбухали, становились иссиня-черными, как кровавые сгустки, слегка подрагивали и тихо замирали, а Тулла, с белым как мел лицом, бросала их, когда они, насытившись, легко отделялись от тела, в другую консервную банку.
Мы тоже должны были ставить себе пиявок: я — три штуки, Йенни одну, на руку сверху, но не на ноги, ей ведь танцевать. На маленьком костерке вместе с крапивой и водой из Акционерного пруда Тулла варила своих и наших пиявок, пока они не лопались в кипятке, окрашивая, несмотря на крапиву, весь бульон в коричнево-черный цвет. И мы должны были это илистое варево пить, ибо для Туллы суп из пиявок был делом священным. Если мы отказывались пить, она говорила:
— Абрашка и его друг тоже были кровными братьями, Абрашка сам мне говорил.
И мы пили, все до самого донышка, и ощущали в себе кровное сродство.
Но однажды Тулла чуть было не испортила нам всю игру. Вскипятив варево, она вдруг напугала Йенни:
— Если мы сейчас это выпьем, то обе-две родим по ребенку, и обе от него.
Но я вовсе не жаждал становиться отцом. Да и Йенни сказала, что ей пока рано, она сперва хочет танцевать, в Берлине и вообще.
А однажды — в ту пору между Туллой и мной уже были серьезные трения из-за ее материнских намерений — она заставила Йенни залезть в лебединый домик и нацепить себе целых девять пиявок.
— Если ты сейчас же, прямо сейчас, этого не сделаешь, мой старший брат во Франции на войне сейчас же истечет кровью!
Йенни налепила себе пиявок где только можно, все девять, тут же побелела как полотно и упала в обморок. Тулла мгновенно смылась, а я обеими руками срывал с Йенни пиявок. Они не отрывались, потому что еще не напились. Несколько штук лопнуло, и мне пришлось потом Йенни отмывать. От холодной воды она очнулась, но лица на ней по-прежнему не было. Но она тут же стала спрашивать, спасена ли теперь жизнь Зигесмунда Покрифке, Туллиного брата во Франции.
Я ответил:
— Сегодня-то уж наверняка.
Готовая к самопожертвованиям Йенни сказала:
— Но значит, нам через каждые несколько месяцев придется это повторять?
Пришлось мне ей объяснить:
— Я читал, у них там всюду полно консервированной крови.
— Ах вот что, — удивилась Йенни и, похоже, была слегка разочарована. Мы уселись возле лебединого домика на солнышке. В глади пруда отражался длинный прямоугольный фасад здания, где помещался ледник.
Тебе, Тулла,
я скажу то, что ты и так знаешь: ледник помещался в здании в форме ящика с плоской крышей. По всей поверхности, от угла до угла, они обили его черным рубероидом. И дверь в него тоже была обита рубероидом. Окон вообще не было. Верхушка черного куба без единого белого пятнышка. Мы то и дело на него поглядывали. Гутенгрех вроде совсем в другом месте, однако вполне мог этот черный ящик сюда поставить, хоть он и не из чугуна, а из рубероида, хоть Йенни больше Гутенгреха не боится и ее, наоборот, то и дело к этому леднику тянет. И если Тулла требовала: «Хочу ребенка, сейчас же!», то Йенни говорила: «Мне ужасно хочется взглянуть на ледник изнутри, ты пойдешь?» Я не хотел ни того, ни другого; да и сейчас не особенно рвусь.
От ледника пахло так же, как от пустой собачьей будки на нашем столярном дворе. Только у будки крыша не плоская, да и пахла она, несмотря на рубероид, совсем иначе, все еще напоминая о Харрасе. И хотя отец мой, столярных дел мастер, новую собаку заводить не хотел, собачью конуру, однако, на дрова разломать не разрешил, а наоборот, нередко, пока все подмастерья вкалывали у верстаков, а станки вгрызались в дерево, останавливался перед будкой и подолгу, минут по пять, молча на нее глядел.
Здание ледника отражалось в Акционерном пруду и чернило воду. Несмотря на это рыба в Акционерном пруду была. Старички с табачной жвачкой в проваленных ртах ловили здесь рыбу с берега Малокузнечного парка и ближе к вечеру выуживали плотвичек с ладонь величиной. Плотвичек они либо выбрасывали обратно в воду, либо отдавали нам. Потому как есть эту рыбу в общем-то все равно было нельзя. Она насквозь протухла еще при жизни, и никаким мытьем в самой свежей воде устранить эту ее прижизненную тухлость было невозможно. Дважды из Акционерного пруда вылавливали утопленников. Исток Штрисбаха был забран стальной решеткой, задерживавшей плавник. Сюда-то и приносило утопленников — в первый раз старика, во второй домохозяйку из Пелонкена. И всякий раз я приходил слишком поздно и утопленников не видел. А мне столь же страстно, как Йенни жаждала в ледник, а Тулла ребенка, хотелось увидеть настоящего покойника; но когда умирал кто-нибудь из кошнадерской родни, — у матери были там кузины и тетки, — гроб к нашему приезду уже всегда бывал заколочен. Тулла уверяла, что на дне Акционерного пруда лежат младенцы с камнями на шее. Насчет младенцев не знаю, а вот котят и щенков тут топили часто. Да и старые кошки, раздувшимся брюхом верх, нередко бесцельно дрейфовали в пруду, пока их в конце концов не прибивало к решетке, и тогда приставленный к этому делу городской смотритель — фамилия у него была такая же, как у рейхсминистра связи: Онезорге, то бишь беззаботный, — выуживал их железным крюком. Но не из-за этого Акционерный пруд распространял такое зловоние, а из-за того, что пивоварня спускала сюда все стоки. «Купаться запрещено» — уведомляла на берегу фанерная табличка. Мы-то нет, а вот ребята из Индейской деревни все равно купались, и потом даже зимой от них несло пивом.
Индейская деревня — так все называли садово-дачный поселок, что начинался сразу за прудом и тянулся почти до аэродрома. Жили в поселке рабочие-портовики, у кого многодетные семьи, а также одинокие бабушки и мастера-каменщики, ушедшие на покой. Для себя я толковал это название в политическом смысле: поскольку раньше, задолго до войны, там жило много социалистов и коммунистов, деревня считалась «красной» — вот ее и стали называть «индейской». Как бы там ни было, а одного рабочего, корабела с верфи Шихау, еще в то время, когда Вальтер Матерн был в штурмовиках, в Индейской деревне убили. В «Форпосте» был заголовок: «Убийство в Индейской деревне». Но убийц — быть может, это были те же самые девять мумий в утепленных плащах? — так и не нашли.
Однако ни Туллины,
ни мои истории вокруг Акционерного пруда — а у меня их полно, приходится сдерживаться — ни в какое сравнение не идут с ледниковыми историями. Про ледник всякое болтали: ходили, например, слухи, что убийцы рабочего из Шихау спрятались тогда в леднике, да так там и остались, восемь или девять замороженных мумий, в самом мерзлом месте. Да и исчезнувшего Эдди Амзеля многие, только не я, в леднике похоронили. Матерн пугали своих чад, когда те не желали доедать несколько ложек супа, черным ледниковым кубом без окон; поговаривали, что и коротышку Матзерата, который тоже есть не хотел, мамаша его на несколько часов в леднике заперла, а он с тех пор, в наказание, ни на вершок не вырос.
Словом, там, в леднике, хранились страшные тайны. Днем сюда подъезжали холодильные фургоны, и пока в них с глухим звоном загружались ледяные блоки, рубероидная дверь стояла настежь. И когда мы, чтобы храбрость показать, мимо этой раззявленной двери с гиканьем проскакивали, нас обдавало ледяным дыханием, после которого тут же хотелось постоять на солнце. Тулла, которая вообще-то ни одной приоткрытой двери пропустить не могла, боялась ледника больше всех и пряталась при виде здоровенных грузчиков в черных клеенчатых фартуках и с багрово-синюшными рожами. Когда эти ледяные люди железными крючьями выволакивали из подвала ледяные глыбы, Йенни нередко подходила к ним и просила дать ей потрогать лед. Ей иногда разрешали. И она тогда до тех пор держала ладошку на ледяной глыбе, покуда кто-нибудь из грузчиков не отрывал ее силой со словами: «Ну хватит, хватит. Примерзнуть, что ли, захотела!»
Позже среди ледовых грузчиков появились и французы[270]. Они взваливали ледяные блоки на плечи точно так же, как и наши грузчики, были такие же коренастые и синюшно-краснорожие. Их называли инорабочими, и неизвестно было, разрешается ли с ними разговаривать. Но Йенни, которая у себя в лицее учила французский, с одним из французов заговорила:
— Bonjour monsieur![271]
Француз оказался очень вежливый:
— Bonjour mademoiselle[272].
Йенни сделала книксен:
— Pardon, monsieur, vous permettez, monsieur, que jʼentre pour quelques minutes?[273]
Француз радушным жестом ее пригласил:
— Avec plaisir, mademoiselle[274].
Йенни еще раз сделала книксен:
— Merci, monsieur![275] — И ладошка ее исчезла в лапе ледового француза. Их обоих, рука об руку, поглотил ледник. Остальные грузчики смеялись и отпускали шуточки.
А нам было не до смеха, мы начали считать: …двадцать четыре, двадцать пять… Если до двухсот не вылезет, будем звать на помощь. Они вышли на счете сто девяносто два, все так же рука об руку. В левой руке она держала кусок льда, сделала своему ледовому спутнику еще один книксен на прощанье и пошла с нами на солнышко. Нас знобило. Йенни бледным язычком лизала лед и предложила Тулле полизать тоже. Тулла отказалась. А я лизнул: как железо на морозе.
Дорогая кузина Тулла!
Когда произошла вся эта катавасия с твоими пиявками и Йенниным обмороком, когда мы из-за этого, а также из-за того, что ты непрестанно требовала от меня ребенка, поругались, когда ты стала реже ходить вместе с нами к Акционерному пруду, когда нам, Йенни и мне, расхотелось забираться к тебе в сарай, когда кончилось лето и снова началась школа, мы, Йенни и я, часто сидели вместе либо в укропных зарослях под заборами Индейской деревни, либо у лебединого домика, и я помогал Йенни тем, что не сводил глаз со здания ледника, потому что Йенни ни на что, кроме этого черного, без окон, ящика смотреть не хотела. Вот почему, наверно, ледник запомнился мне гораздо отчетливей, чем остальные здания Акционерной пивоварни, прятавшиеся в тени каштанов. Должно быть, это был обычный, смахивающий на замок, комплекс строений за угрюмой кирпичной стеной. Высокие окна машинного цеха наверняка были оправлены бордовым облицовочным кирпичом. Труба, хотя и приземистая, все равно торчала над Лангфуром, видная со всех сторон. Готов присягнуть: трубу Акционерной пивоварни увенчивал громоздкий рыцарский шлем с забралом. Поворачиваясь вместе с ветром, он выпускал густые, тяжелые клубы черного дыма и дважды в год подвергался чистке. Чистой кладкой новенького, умытого кирпича припоминается мне, если прищурить глаза, здание дирекции за оскольчатым овершьем ограды. Со двора пивоварни выезжали, надо думать, регулярно, пароконные повозки на резиновом ходу. Мощные битюги с короткими, на бельгийский манер остриженными хвостами. В кожаных фартуках и таких же фуражках, с сонными багрово-синюшными рожами, возчики пива: кучер и напарник. Кнут в кожаной торбе. Накладная книга и денежный кошель под фартуком. Жевательный табак всю дорогу. Металлические заклепки на конской сбруе. Подпрыгивание и позвякивание пивных ящиков, когда сперва передние, потом задние резиновые колеса переваливаются через железный порожек въезда. Жестяные буквы на надвратной арке: Н.А.П. — «Немецкая Акционерная Пивоварня». Влажное шипение: бутылкомоечный цех. В половине первого гудит сирена. В час снова гудит сирена. Ксилофонный бутылкомоечный перезвон — партитура забыта, а вот запах остался.
Когда шлем на трубе пивоварни поворачивал восточный ветер и катил черные клубы по кронам каштанов, по глади пруда, по крыше ледника через Индейскую деревню в сторону аэродрома, воздух был пропитан кислым привкусом перебродивших дрожжей, отстоявшихся в разных медных чанах: из-под мартовского, пильзенского, солодового, ячменного и из-под своего родного лангфурского. Добавляли вони пивоварные стоки. Ибо хотя всегда и говорилось, что стоки эти сбрасываются куда-то еще, по меньшей мере частично они попадали в Акционерный пруд, отчего вода в нем была кислая и воняла. Так что мы, когда отведывали Туллиного варева из пиявок, на самом деле пили горьковатый пивной суп. Раздавить жабу было все равно что открыть бутылку мартовского пива. Когда как-то раз один из квелых, вечно мусолящих табачную жвачку рыбаков бросил мне плотвичку с ладонь величиной и я ее возле лебединого домика выпотрошил, внутри оказалась только печень, молока, а все остальное напоминало слипшиеся солодовые леденцы. И когда я эту рыбешку на маленьком трескучем костерке для Йенни зажарил, она вся разбухла, как на дрожжах, пустила пивную пену и на вкус — хоть я и набил ее свежим укропом — была как прогорклый огуречный рассол. Йенни только кусочек попробовала.
Зато когда ветер дул с аэродрома, прогоняя и вонь от пруда, и чадный дым из трубы пивоварни в сторону Малокузнечного парка и лангфурского вокзала, Йенни вставала, отлепляла, наконец, взгляд от набитой льдом огромной рубероидной чушки и, сама отсчитывая такт, танцевала для меня в юной укропной поросли. И так-то легенькая, она в танце была вдвое легче. Отточенным прыжком и нежным реверансом она заканчивала свое выступление, а я должен был хлопать как в театре. Иногда я преподносил ей букетик укропа, стебли которого я стягивал кольцом резиновой прокладки от пивной пробки. Эти вечнокрасные, в любое время года неувядающие резиновые кувшинки сотнями плавали на глади Акционерного пруда, образуя островки и привлекая мальчишек-коллекционеров: помню, между польским походом и взятием острова Крит[276] я накопил их больше двух тысяч и, пересчитывая, чувствовал себя богачом. Как-то раз я сплел из этих прокладок для Йенни бусы, и она носила их как настоящее украшение, а я за нее стыдился:
— Не надо тебе с этой дребеденью по улицам ходить, тут, на пруду, или дома еще куда ни шло…
Но для Йенни резиновые бусы были не какой-нибудь пустяк:
— Они же мне дороги, потому что ты их сделал. Понимаешь, это придает им такой личный оттенок…
Да и не сказать, чтобы бусы были уродливые. Вообще-то я их для Туллы мастерил. Но она бы их выбросила. А когда Йенни танцевала в укропе, бусы смотрелись очень даже неплохо. После танца она всегда говорила:
— А теперь я устала, — и смотрела куда-то поверх ледника. — И уроки еще не сделала. А завтра репетиция, и послезавтра тоже.
И тогда я, спиной к пруду, начинал осторожные расспросы:
— Скажи, а об этом балетмейстере из Берлина ничего больше не слышно?
Йенни отвечала с готовностью:
— Господин Зайцингер прислал недавно открытку из Парижа. Он пишет, мне надо больше работать над моим подъемом.
Я не отставал:
— А как он, собственно, выглядит, этот Зайцингер?
Йенни, с мягкой укоризной:
— Да ты же меня уже сто раз спрашивал. Он очень стройный и элегантно одевается. И все время курит длинные сигареты. И никогда не смеется, разве что глазами.
Я, в который раз повторяя одно и то же:
— А когда он смеется не только глазами, но и ртом, или когда разговаривает?
Йенни, как и положено, отвечает:
— Это выглядит странно, но и немножко жутковато, потому что, когда он говорит, у него весь рот полон золотых зубов.
Я:
— Настоящих?
Йенни:
— Не знаю.
Я:
— А ты спроси.
Йенни:
— Неудобно. Вдруг они у него фальшивые.
Я:
— Но у тебя вон тоже бусы из пивных резинок.
Йенни:
— Хорошо, тогда я ему напишу и спрошу.
Я:
— Сегодня же напишешь?
Йенни:
— Сегодня я слишком устала.
Я:
— Тогда завтра.
Йенни:
— Только как мне его об этом спросить?
Я диктую ей текст:
— Напиши просто: «Вот что я еще хотела спросить, господин Зайцингер: ваши золотые зубы — они настоящие? А другие зубы у вас раньше были? И если были, куда они все подевались?»
И Йенни такое письмо написала; а господин Зайцингер с обратной почтой ей ответил: золото самое настоящее; раньше у него были нормальные, небольшие белые зубы, числом тридцать два; он их выбросил, через плечо и в кусты, а себе завел новые, золотые, они дороже, чем тридцать две пары балетных туфелек.
И тогда я сказал Йенни:
— Пересчитай-ка, сколько резиновых колечек в твоих бусах.
Йенни пересчитала и ничего не поняла:
— Надо же, тоже тридцать два, вот чудеса!
Дорогая Тулла!
Дальнейшее, разумеется, без тебя не обошлось, ты не могла не приблизиться снова на своих исцарапанных ногах.
В конце сентября, укроп уже вымахал и пожелтел, а Акционерный пруд мелкой волной прибивал к берегу мыльный венчик, в конце сентября появилась Тулла.
Ее изрыгнула Индейская деревня, изрыгнула вместе с семью или восьмью парнями. Один из них курил трубку. Он стоял возле Туллы тенью и протягивал ей свою носогрейку. Тулла дымила молча. Неспешно, какой-то нацеленной петлей, они подошли ближе, стояли, смотрели куда-то вдаль, нас в упор не замечали, потом повернулись и сгинули, исчезли за оградами и белеными хибарами Индейской деревни.
А в другой раз — вечерело, солнце садилось у нас за спиной, кровавя шлем на трубе пивоварни, словно чело раненого рыцаря, — они вынырнули сбоку, из-за ледника и гуськом потянулись через крапиву вдоль черной рубероидной стены. В укропе они развернулись веером, Тулла отдала трубку налево и сказала, обращаясь к комарам:
— Они там запереть забыли. Не хочешь ли зайти, Йенни, и взглянуть, что там внутри?
Йенни всегда была так любезна и очень хорошо воспитана:
— Ах нет, поздно уже, и я немножко устала. А у нас завтра английский, да и на балете мне нужно быть в форме.
Тулла, уже снова с трубкой:
— Нет так нет. Мы тогда пойдем скажем сторожу, чтоб закрывал.
Но Йенни уже вскочила, мне тоже пришлось встать:
— Слушай, ты ни в коем случае не пойдешь. Кроме того, ты же сама говоришь, что устала.
Но Йенни уже не устала, а хотела только на минуточку взглянуть:
— Там так интересно, ну пожалуйста, Харри.
Я шагал рядом с ней и влез в крапиву. Тулла впереди, остальные позади нас. Туллин большой палец ткнул в рубероидную дверь: она была приотворена, и из щели почти не тянуло.
Пришлось мне сказать:
— Но одну я тебя не пущу.
И Йенни, такая тоненькая в черном проеме, вежливо ответила:
— Это очень мило с твоей стороны, Харри.
Кто же еще, как не Тулла,
протолкнул меня в ту же дверную щель. А я не сообразил обезвредить тебя и твоих парней, взяв с вас честное слово и скрепив уговор рукопожатием. И как только студеное дыхание ледника связало нас одной веревочкой, — а Йенни, укрепляя эту веревочку, сплела свой мизинчик с моим мизинцем, — как только нас стали засасывать эти ледяные легкие, я уже знал: вот сейчас Тулла, одна либо с ребятами, идет к сторожу и берет ключ либо ведет сторожа с ключами; и вся шайка радостно галдит во все свои девять глоток, чтобы сторож, пока запирает, нас не услышал.
То ли поэтому, то ли оттого, что Йенни держала меня за палец, я не отважился позвать на помощь. А она уверенно вела меня вглубь по черным хрустящим бронхам. Казалось, морозное дыхание охватывает нас со всех сторон, сверху и снизу тоже, и мы уже не чувствовали под собою ног. Но при этом мы продвигались вперед по коридорам и лестницам, высвеченным редкими красными точками ориентирных ламп. И Йенни совершенно нормальным голосом мне говорила:
— Харри, пожалуйста осторожно, тут лестница, двенадцать ступенек вниз.
Но как ни старался я аккуратно, ступенька за ступенькой, нащупывать опору, меня все равно тянуло и засасывало вниз этим бездонным холодом. И когда Йенни сказала:
— Ну вот, мы на первом подвальном этаже, теперь надо держаться левее, там спуск на нижний этаж, — я больше всего хотел на этом первом и остаться, хотя вся кожа у меня горела. Может, конечно, это от давешней крапивы, но скорее это было все то же ледяное дыхание, инеем оседавшее на коже. И со всех сторон хруст, нет, треск, а вернее, да, скрежет: ледяные блоки, штабелями, как челюсти, полные зубов, трутся друг о дружку, только изморось, как эмаль, крошится, и из ледовой пасти несет затхлостью и бродилом, блевотной кислятиной и перегаром, лохматой дремучестью и стужей. Рубероидом и не пахнет. Только дрожжи подходят. Уксус забродил. Плесень грибками поползла.
— Осторожно, ступенька! — предупреждает Йенни.
Куда? В какую солодовую слизь? Кто, на каком этаже какого ада оставил тухнуть открытую кадку огурцов? Какие черти поддают нам жару ниже нуля?
Я хотел закричать, но только прошептал:
— Они нас запрут, если мы не…
Но Йенни, как всегда, честна и доверчива:
— Сторож наверху запирает всегда ровно в семь.
— Где мы?
— Сейчас мы на нижнем подвальном этаже. Тут ледяные блоки, которым уже много лет.
Моя рука хочет все знать точно:
— Сколько лет? — и уже тянется влево, ищет твердое, нащупывает и не может оторваться от первобытных исполинских зубов. — Я приклеился, Йенни! Я примерз!
В тот же миг ладонь Йенни прикрывает мою прилипшую руку, и сразу же мои пальцы отдираются от исполинского зуба, но, ухватив Йеннино запястье, уже не отпускают ее жаркую руку, такую прекрасную в танце, умеющую так парить и замирать в воздухе, и вторую тоже. И обе прямо горят от студеного дыхания ледяных глыб. Под мышками — август. Йенни хихикает:
— Ой, не щекочи меня, Харри.
Но я-то хочу:
— …только погреться, Йенни.
Она позволяет и уже снова:
— …немножко устала, Харри.
Мне не верится:
— …чтобы тут скамейка была.
Но она не теряет присутствия духа:
— А почему бы тут не быть скамейке, Харри?
И как только она это говорит, тут же скамейка и появляется, вся ледяная. Но поскольку Йенни на нее садится, ледяная скамейка, чем дольше Йенни на ней сидит, превращается в уютную деревянную лавочку. И тут Йенни, глубоко в недрах ледника, говорит мне умудренно-взрослым и заботливым голосом:
— А теперь, Харри, тебе надо перестать мерзнуть. Знаешь, я ведь однажды сидела в снеговике. И когда я там сидела, я кое-чему научилась. Так что если ты не перестанешь мерзнуть, придется тебе ко мне прижаться, понимаешь? А если ты и тогда не перестанешь мерзнуть, потому что ты в снеговике не сидел, придется тебе меня поцеловать, понимаешь, это помогает. А если нужно, я могу тебе и платье свое отдать, мне оно ни к чему, правда ни к чему. И тебе нечего меня стесняться. Ведь кроме нас тут никого больше нет. А я тут все равно что дома. Так что можешь его повязать на шею вместо шарфа. А я потом только чуть-чуть вздремну, потому что мне завтра к мадам Ларе, а послезавтра у меня репетиция. Кроме того, знаешь, я правда немножко устала.
Так мы и просидели всю ночь на ледяной деревянной скамейке. Я прижимался к Йенни. Губы у нее были сухие и безвкусные. Ее хлопчатобумажное платьице — если б только вспомнить, в горошек, в полоску или в клеточку? — ее летнее платьишко с короткими рукавами я накинул себе на плечи и вокруг шеи. Без платья, но в бельишке она лежала у меня на руках, и руки не онемели, ведь Йенни была легенькая, как пушинка, даже когда спала. Я не спал, боялся ее уронить. Потому что сам я в снеговике никогда не был и без Йенниных сухих губ, без ее платьица, без этой легкой ноши на руках, без Йенни я бы точно пропал. Пропал среди всего этого морозного сопения, скрежета и хруста, заиндевел бы и заледенел в дыхании ледяных глыб да так и остался бы во льдах по сю пору.
А так мы все же дожили до следующего дня. Утро дало о себе знать возней наверху. Это появились ледовые грузчики в клеенчатых фартуках. Йенни, уже снова в платьице, поинтересовалась:
— А тебе удалось хоть немножко поспать?
— Нет конечно. Кто-то ведь должен был за тобой присматривать.
— А мне, представляешь, приснилось, что подъем у меня все лучше и лучше, так что под конец я смогла прокрутить целых тридцать два фуэте: а господин Зайцингер смеялся.
— Золотыми зубами?
— Ага, всеми сразу, а я крутилась и крутилась, без остановки.
Без всякого труда, шепчась и толкуя на ходу сны, мы добрались до верхнего этажа подвала, а оттуда нашли и лестницу к выходу. Ориентирные лампы указывали дорогу между штабелей льда к прямоугольнику света. Но Йенни меня остановила. Никто не должен нас увидеть, иначе:
— Если они нас застукают, нас никогда больше сюда не пустят.
Когда в ярком прямоугольнике перестали мелькать клеенчатые фартуки, когда упитанные бельгийские битюги дернули с места и бодро покатили фургон на резиновых колесах, мы опрометью, пока следующий фургон не подъехал, выскочили наружу. Солнце пропускало косые лучи сквозь кроны каштанов. Крадучись мы пробирались вдоль черных рубероидных стен. Все пахло совсем иначе, чем вчера. Я опять угодил ногами в крапиву. В Малокузнечном проезде, пока Йенни повторяла вслух неправильные английские глаголы, я уже со страхом начал предощущать на лице ожидающую меня дома тяжелую затрещину столярных дел мастера.
Ты знаешь,
что наша ночевка в леднике имела несколько последствий: меня выпороли; полиция, поставленная на ноги старшим преподавателем Брунисом, задавала вопросы; мы как-то вдруг повзрослели и уступили Акционерный пруд со всеми его запахами двенадцатилетним. Коллекцию пивных резинок я отдал, когда очередной старьевщик собирал утиль. Не знаю, выбросила Йенни резиновые бусы или нет. Мы теперь старательно избегали друг друга: Йенни краснела, когда мы не могли разминуться на Эльзенской улице; а меня всякий раз приподнимало, как танцовщицу на баллоне, когда я сталкивался с Туллой на лестнице или у нас на кухне, куда ее посылали одолжить то соли, то кастрюльку.
У тебя хорошая память?
По меньшей мере пять месяцев, включая Рождество, не могу связать воедино. В это время, в этой бреши между французским и балканским походами[277], все больше и больше подмастерьев из нашей столярной мастерской забирали на фронт, а позже, когда и на востоке пошло-поехало[278], заменили сперва подсобниками-украинцами, а потом и французским столяром-подмастерьем. Подмастерье Вишневский пал в Греции. Подмастерье Артур Куляйзе пал на востоке в самом начале, под Львовом; а потом пал и мой кузен, Туллин брат Александр Покрифке, — то есть вообще-то он не пал, а утонул в подводной лодке: началась битва за Атлантику. Все Покрифке, но и столярных дел мастер вместе с женой, надели траурные повязки. И я тоже носил повязку и очень этим гордился. Когда меня спрашивали, по кому траур, я отвечал:
— Мой кузен, он был мне очень дорог, не вернулся из боевого рейда в Карибском море.
И это притом, что Александра Покрифке я почти не знал, да и про Карибское море все было вранье.
Что еще происходило?
Отец мой получал солидные заказы. В его мастерской делались теперь только окна и двери для военно-морских казарм в Путцинге. Внезапно и без всякой видимой причины он начал пить и однажды воскресным утром избил мою мать только за то, что та стояла там, где хотелось стоять ему. Но работу не запускал никогда и по-прежнему курил свои сигары «Фельфарбе», выменивая их на черном рынке за дверные петли.
Что произошло кроме этого?
Твоего отца сделали руководителем партячейки. Август Покрифке с головой и потрохами ушел в партийную бодягу. У своего партийного врача он выправил себе свидетельство о болезни — обычная история с мениском — и вздумал в машинном цехе нашей мастерской проводить политзанятия. Но отец не разрешил. Тут же выплыли на свет старые семейные дрязги. На все лады склонялись два моргена пастбищной земли, принадлежавшие моему деду в Остервике. По пальцам подсчитывалось и разбиралось приданое моей матери. Мой отец в ответ козырял тем, что оплачивает школу для Туллы. Август Покрифке на это хрястнул кулаком по столу: раз так, деньги на школу он выплатит партийным кредитом, и баста! И уж он, Август Покрифке, проследит за тем, чтобы политзанятия проводились, пусть хотя бы и в нерабочее время!
А где была летом ты?
Не дома, а в Брезене со своим третьим классом. Кто искал, мог найти тебя на остове польского минного тральщика, что лежал на отмели неподалеку от входа в гавань. Третьеклассники ныряли внутрь затонувшей посудины и выныривали с разнообразной добычей. Я плавал плохо и не умел открывать под водой глаза. Поэтому я искал тебя в других местах, а на тральщике не показывался. Кроме того, у меня была Йенни, а ты хотела только одного: ребенка. Может, они и впрямь на том корыте тебе его сделали?
Но по тебе вроде ничего не было видно. Или ребята из Индейской деревни? Но и они никаких следов на тебе не оставляли. Или двое украинцев из нашей столярной, с их вечно запуганными картофельными лицами? Но вроде бы ни один из них в сарай тебя не таскал, тем не менее твой отец допросил обоих. А одного из них, по кличке Клеба, потому как он все время хлеба клянчил, Август Покрифке между шлифовальным станком и фрезой избил ватерпасом. И тогда мой отец выгнал твоего отца с работы. Твой отец грозил доносом; но мой отец, которого все-таки уважали в ремесленной палате да и в партии, сам написал заявление. Им устроили что-то вроде суда чести. И определили, что Августу Покрифке и столярных дел мастеру Либенау следует пойти на мировую; обоих украинцев сменили на двух новых, — пленных хватало, — а двух первых украинцев, как у нас поговаривали, отправили в Штуттхоф.
Хорошо, раз уж тебе так хочется: Штуттхоф!
Словечко это приобретало все более и более многозначительный смысл.
— Ты что, по Штуттхофу соскучился?
— Помалкивай лучше, а то еще в Штуттхоф загремишь.
Темное, смутное словечко бродило по нашим доходным домам с этажа на этаж, сиживало на кухнях за столом, даже отпускало шуточки, и многие смеялись:
— Они там в Штуттхофе нынче такое мыло варят — мыться не захочешь.
Мы оба в Штуттхофе никогда не были.
Тулла даже в Никельсвальде не ездила; меня же с палаточным лагерем «юнгфолька» дальше Штегена не заносило; зато господин Брауксель, который платит мне авансы и считает, что мои письма к Тулле весьма важны, знает те места между устьем Вислы и Новым Закосьем. Он помнит Штуттхоф богатым поселком, побольше Шивенхорста и Никельсвальде, но поменьше районного центра Нойтайха. Было в Штуттхофе в ту пору две тысячи шестьсот девяносто восемь жителей. И они стали неплохо зарабатывать, когда вскоре после начала войны неподалеку от поселка построили концентрационный лагерь, который затем постоянно расширялся. Даже железнодорожную ветку в лагерь протянули. Она ответвлялась от прибрежной узкоколейки Штуттхоф-Нижний Данциг. Это всем было известно, а кто запамятовал, пусть вспомнит: Штуттхоф, район Данцигская Низина, рейхс-округ Данциг, Западная Пруссия, окружной суд в Данциге, — тихое место, известное благодаря старинной фахверковой церкви и уютным пляжам, где издавна селились немцы: в четырнадцатом веке Тевтонский орден осушил здесь низину, в шестнадцатом сюда пришли трудяги-меннониты из Голландии; в семнадцатом эти места не раз грабили шведы; в 1813 году здесь проходил отступающий Наполеон; а между 1939 и 1945 здесь, в концентрационном лагере Штуттхоф, район Данцигская Низина, умирали люди, и я не знаю, сколько их было в точности.
Не тебя, но нас,
учеников Конрадинума, школа отправила летом в Никельсвальде, неподалеку от Штуттхофа. Прежний летний лагерь Заскошин прибрала к рукам партия, переоборудовав его в курсы для руководящих работников. А под Никельсвальде, между исторической мельницей Луизы и прибрежной рощей, был откуплен — наполовину у никельсвальдского мельника Матерна, наполовину у общины Никельсвальде — надел земли и застроен одноэтажным зданием под высокой черепичной крышей. Как и в Заскошине, ученики резались здесь в лапту. В каждом классе были свои асы, умевшие запускать свечи до самого неба, и свои козлы отпущения, толстые увальни, которых «пятнали» твердым, набитым волосом кожаным мячом. По утрам флаг торжественно поднимали, вечером спускали. Кормежка была плохая, тем не менее мы толстели — в пойме Вислы даже воздух сытный.
Частенько, в перерывах между играми, я наблюдал за мельником Матерном. Он стоял между мельницей и домом. На левом плече он держал мешок, прильнув к нему ухом. Он слушал мучных червей и провидел будущее.
Допустим, я бы вел иногда с кривобоким мельником всякие разговоры. Возможно, я громко — слышал-то он плохо — его бы спросил:
— Что новенького, господин Матерн?
А он наверняка ответил бы на это так:
— Зима в России будет ранняя.
Может, я захотел бы узнать чуток побольше:
— А до Москвы-то дойдем?
А он бы в ответ напророчил:
— Многие даже до Сибири дойдут.
Теперь мне бы вздумалось сменить тему:
— А знаете вы человека по имени Зайцингер, он теперь в основном в Берлине живет?
Он наверняка долго вслушивался бы в свой мешок:
— Мне только про одного слыхать, его раньше звали по-другому. Его птицы боялись.
У меня было достаточно поводов для дальнейшего любопытства:
— Это тот, у которого золото во рту и который никогда не смеется?
Но мучные черви мельника Матерна никогда не отвечали напрямик:
— Он курит сигареты одну за одной, хотя и так вечно сипит, потому как в свое время сильно простыл.
Я больше не сомневался:
— Тогда это он.
Мельник видел будущее ясно:
— Стало быть, он и будет.
Поскольку в Никельсвальде не было ни Туллы, ни Йенни,
рассказ о летних приключениях гимназистов в Никельсвальде не должен входить в мою задачу; к тому же и лето незаметно подошло к концу.
Осень внесла в нашу школьную жизнь немалые перемены. Школа Гудрун, бывшая имени Хелены Ланге, стала теперь казармой военно-воздушных сил. И все девичьи классы перебрались в наш провонявший мальчишками Конрадинум. Занятия теперь шли в две смены: утром девочки, после обеда мальчики, а через неделю наоборот. Некоторые из учителей, в том числе и старший преподаватель Освальд Брунис, преподавали теперь и девчоночьим классам. В классе, где учились Тулла и Йенни, Брунис вел историю.
Мы теперь вообще перестали видеться. Поскольку занимались мы в разные смены, не составляло труда друг друга избегать: Йенни не приходилось краснеть, меня не приподнимало баллоном. Но были исключения, и о них стоит поведать.
Ибо однажды между сменами — я вышел пораньше и нес свой ранец на правом плече — под орешниками Упхагенского проезда мне повстречалась Йенни Брунис. У нее было в Конрадинуме пять уроков, после которых она по неизвестным мне причинам, видимо, задержалась. Как бы там ни было, а она шла из школы и тоже несла ранец на правом плече. Зеленые, а порой даже и светло-коричневые орехи валялись под ногами, потому что накануне был ветер. Йенни в темно-синем шерстяном платье с белыми накладными манжетами, в темно-синей шапочке, но не в форменном, а скорее в модном берете, Йенни покраснела и перекинула ранец с правого плеча на левое, когда от нее до меня оставался еще добрый пяток ореховых кустов.
Виллы по обе стороны Упхагенского проезда казались вымершими. Повсюду благородные ели и плакучие ивы, кроваво-красные клены и березы, ронявшие листок за листком. Нам было по четырнадцать и мы шли друг другу навстречу. Йенни казалась еще более худенькой, чем я ее помнил.
Ее ножки с вывертом, от балета; и зачем только она носит синее, если знает, что покраснеет, когда меня встретит!
Поскольку шел я рано, а она залилась краской до самого берета, поскольку она перекинула ранец с плеча на плечо, я остановился, тоже перекинул ранец и протянул ей руку. Она испуганно подала мне ладошку и, не ответив на пожатие, быстро отняла. Мы стояли посреди россыпи незрелых орехов. Некоторые уже раздавлены, некоторые пустые. Когда очередная птица смолкла в ветвях клена, я заговорил:
— Привет, Йенни, что так поздно? Орехи уже пробовала? Хочешь, я тебе?… Вкуса совсем нет, зато первые. А как вообще дела? Старикан твой очень бодр, по-прежнему. Недавно опять притащил полный портфель своих слюдяков, килограммов пять, ну, может, четыре, самых разных. И в такие годы все время пешком, всюду пешком, ах да, вот еще что я хотел спросить: как твой балет? Сколько пируэтов ты уже накручиваешь? И как твой подъем, лучше? С удовольствием бы как-нибудь сходил в наш храм культуры, в нашу кофемолку. Как там ваша прима, которую вы из Вены выписали? Я слышал, ты в «Маскараде» участвуешь. К сожалению, не мог, потому что… Но ты, говорят, была очень хороша, я рад. А в ледник случайно больше не ходила? Ведь нет же, правда? Я и говорю, баловство. Но я хорошо все запомнил, потому что отец меня потом… А бусы у тебя еще целы, ну, те, из резинок? А что Берлин? Что-нибудь слышно оттуда?
Я болтал, не умолкал, повторялся. Каблуком ботинка колол орехи, ловкими пальцами вылущивал полураздавленные ядрышки из черепков скорлупок, давал ей, ел сам; и Йенни вежливо жевала мыльные орешки, от которых вязало рот. У меня были клейкие пальцы. Она стояла, как вкопанная, все еще вся в краске, и отвечала тихо, монотонно, послушно. Глаза беспокойно бегали. Испуганно цеплялись за березы, плакучие ивы, благородные ели:
— Да, спасибо, мой старикан чувствует себя совсем неплохо. Только занятий слишком много. Я иногда помогаю ему тетради проверять. И курит он слишком много. Конечно, я все еще у мадам Лары. Она действительно замечательно ставит стиль, славится этим. Из Дрездена и даже из Берлина к ней солисты приезжают, чтобы выправить дефекты. У нее же русская школа, с детства. Представляешь, она у самой Преображенской многое смогла перенять, и у Трефиловой[279] тоже. И как бы педантично она тебя ни школила — тут вот поджать, и тут немножко, и здесь капельку — все равно она передает душу танца, а не просто голую технику. А «Маскарад» тебе правда смотреть ни к чему. Знаешь, у нас тут все-таки нет масштабов. Да, Харри, конечно я помню. Но внутри больше ни разу не была. Где-то я читала, что некоторые вещи нельзя повторить, да и не нужно, иначе они теряются. Но бусы твои иногда ношу. А как же, господин Зайцингер прислал недавно письмо. Папе, конечно. Он и правда большой чудак, пишет о тысячах мелочей, которые другие не замечают. Но папа говорит, что в Берлине у него большой успех. Он много всего там делает, и декорации тоже. Говорят, репетиции у него очень трудные, но интересные. Выезжает на гастроли с Неродой, которая, собственно, и руководит театром: Париж, Белград, Салоники… И они не только перед солдатней выступают. Но папа говорит, мне еще рано.
На земле вокруг нас не осталось больше орехов. Да и несколько учеников уже мимо прошли. Один, я его знал, осклабился. Йенни опять как-то очень быстро подала мне руку. На секунду я задержал ее ладонь в своей: пять легких, гладких пальчиков. А на безымянном я обнаружил почернелый, примитивно выкованный серебряный перстенек. Я стянул его у нее с пальца, не спрашивая.
Йенни, без перстенька на руке:
— Это ангустри, так он называется.
Я тру перстенек:
— Что еще за ангустри?
— Это по-цыгански и означает «кольцо».
— Оно у тебя всегда было?
— Да, только ты никому не говори. Оно лежало у меня в колыбельке, когда меня нашли.
— А откуда ты знаешь, что оно так называется?
Краска то приливает к Йенниному лицу, то отливает:
— Тот, кто меня оставил, тогда, он так его называл.
Я:
— Он что, цыган?
Йенни:
— Его звали Биданденгеро.
Я:
— Тогда, значит, и ты, может быть, тоже…
Йенни:
— Вот уж нет, Харри. У них же у всех черные волосы.
Но я тут же нахожу свое доказательство:
— Зато как все танцуют!
Я все рассказал Тулле,
после чего она, я и много кто еще с ума посходили из-за перстня. Мы приписывали этой серебряной вещице волшебную силу и называли Йенни, когда о ней заходил разговор, не иначе как Ангустри. И одноклассницы Йенни, которые и раньше на этот перстенек зарились, теперь дружно им бредили. Один я сохранял по отношению к Ангустри и Йенни сдержанное, на грани безразличия, любопытство. Видно, мы и вправду слишком много всего с ней вместе пережили. К тому же я с самого начала был отравлен Туллой. Даже старшеклассницей, в более или менее приличных платьях, она продолжала источать костно-клеевой дурман, а я, хоть и понимал, что влип, почти не сопротивлялся.
Когда Тулла сказала мне:
— В следующий раз стащишь у нее перстень, — я только отмахнулся и, подкарауливая Йенни в Упхагенском проезде, вряд ли всерьез намеревался стянуть серебро у нее с пальца. Дважды в течение одной недели заливалась она краской, потому что я заступал ей дорогу. И оба раза у нее не было на пальце ангустри, зато шею обвивали дурацкие бусы из пивных резинок.
Но Тулла, носившая траур по своему брату Александру,
позаботилась о том, чтобы вскоре и Йенни надела траур. Поздней осенью сорок первого — экстренных сообщений о победах на востоке давно не было — гимназия Конрадинум уже могла гордиться двадцатью двумя погибшими выпускниками. Мраморная доска с их именами-фамилиями, датами жизни и воинскими званиями воцарилась в главном вестибюле между Шопенгауэром и Коперником. Среди погибших был один кавалер Рыцарского Креста. Двое других кавалеров Рыцарского Креста пока что были живы и регулярно, когда получали отпуск, навещали родную школу. И иногда выступали в актовом зале с короткими либо велеречивыми докладами. Мы сидели, как пригвожденные, а учителя согласно кивали. После докладов можно было задавать вопросы. Ученикам хотелось знать, сколько надо еще сбить вражеских «спитфайеров», сколько брутто-регистровых тонн неприятельского водоизмещения затопить. Нам ведь тоже всем ужас как хотелось когда-нибудь после заработать Рыцарский Крест. Учителя либо задавали деловые вопросы, — исправно ли поступает снабжение, — либо с упоением говорили красивые слова о выдержке любой ценой и войне до победного конца. Старший преподаватель Освальд Брунис спросил одного из кавалеров Рыцарского Креста, — по-моему, он был летчик, — что он испытал, когда впервые увидел на войне убитого, неважно, соратника или врага. Ответ того летчика-истребителя я не запомнил.
Тот же вопрос Брунис задал и фельдфебелю Вальтеру Матерну, который, поскольку у него не было Рыцарского Креста, выступил перед одним только нашим классом с докладом на тему: «Противовоздушная оборона в условиях восточного фронта». Ответ фельдфебеля, кавалера орденов Железного Креста первой и второй степени, мне тоже не запомнился. Но я как сейчас его вижу: в серой полевой шинели, тощий и буйволоподобный одновременно, он стиснул своими лапами учительский пульт и глядит поверх наших голов куда-то в стену, уперевшись взглядом, наверно, в шпинатно-зеленый пейзаж Ганса Тома[280]. И дышит так, будто воздух рассекает. Мы хотели услышать от него про бои на Кавказе, но он только бесконечно рассуждал о Ничто[281].
Через несколько дней после этого доклада Вальтер Матерн снова отбыл в Россию и вскоре получил ранение, которое сделало его непригодным к службе в частях противовоздушной обороны в условиях фронта; слегка прихрамывающего, его перевели в тыловые части противовоздушной обороны, сперва в Кенигсберг, потом в Данциг. На прибрежной зенитной батарее Брезен-Глетткау и на батарее Кайзерхафен он обучал теперь младший технический персонал.
Все, в том числе и я, его любили, боялись и хотели брать с него пример; один только старший преподаватель Брунис во время очередного визита фельдфебеля в наш класс поставил его авторитет под сомнение, когда, сверкнув озорными искорками, попросил Матерна вместо сообщения о боях под Орлом прочесть нам наизусть что-нибудь из Эйхендорфа, например «Темные своды, высокие окна…»
Не могу припомнить, учил ли нас старший преподаватель в ту пору чему-нибудь всерьез. Мне вспоминаются темы некоторых наших сочинений: «Свадебные приготовления у зулусов». Или: «Судьба консервной банки». Или: «Когда я еще был мятной карамелькой и становился все меньше и меньше во рту маленькой девочки». Видимо, старшему преподавателю очень хотелось пробудить нашу фантазию; а поскольку из сорока учеников фантазией обладают, как правило, два, остальным тридцати восьми разрешалось тихо клевать носом, покуда двое их одноклассников — я и еще кто-нибудь — распутывали сложную судьбу консервной банки, воспевали оригинальные свадебные обычаи зулусов и шпионили за мятной карамелькой, которая становилась все меньше и меньше во рту у маленькой девочки.
Эта последняя тема занимала меня, еще одного одноклассника и старшего преподавателя Бруниса недели две, если не более. Играя тысячью складочек и морщинок на бугристом лице, он восседал над нами за своим обшарпанным деревянным пультом и, стараясь нас вдохновить, имитировал рассасывание леденца и сопутствующее ему сюсюканье и заглатывание сока. Он перекладывал воображаемую мятную карамель из-за щеки за щеку, чуть было ее не проглатывал, с закрытыми глазами мусолил на кончике языка крохотный ее обсосок, потом предоставлял конфетке самой говорить и самой о себе рассказывать; короче, в ту пору — сладости были редкостью и распределялись по карточкам — старший преподаватель Брунис был вдвойне помешан на конфетах: если их не было у него в карманах, он их придумывал. А мы на эту же тему писали сочинения.
Начиная примерно с осени сорок первого всем ученикам раздавались витаминные таблетки. Назывались они «Гебион» и хранились в больших аптечных склянках коричневого стекла. В учительской, на полке, где прежде корешок к корешку красовалась майеровская энциклопедия, теперь шеренгой стояли аптечные склянки с приклеенными табличками классов — от шестого до первого — и ежедневно разносились классными руководителями по классным комнатам для витаминного подкрепления юных организмов, ослабленных на третьем году войны.
Разумеется, всем бросалось в глаза, что старший преподаватель Брунис, входя с аптечной склянкой в свой класс, что-то уже посасывал, даже не пряча складочек блаженства вокруг стариковского рта. Раздача гебионовских таблеток отнимала у него добрую половину урока, поскольку Брунис не пускал, скажем, склянку по рядам, а торжественно, в алфавитном порядке, строго по журналу, вызывал каждого ученика к столу, неспешно запускал руку в стеклянный сосуд, рылся там с таким видом, будто выуживает для каждого что-то особенное, затем извлекал, триумфально сияя всей тысячью своих морщинок, одну из, быть может, пятисот таблеток, предъявлял ее всем как результат невероятного и нелегкого волшебства, после чего вручал, наконец, воспитаннику.
Мы все, конечно, знали: у старшего преподавателя Бруниса оба кармана пиджака опять битком набиты гебионовскими таблетками. Вкус у них был кисло-сладкий, отдавал чуть-чуть лимоном, чуть-чуть глюкозой и еще чуть-чуть больницей. Поскольку все мы с удовольствием их сосали, у Бруниса, который по сладкому с ума сходил, были формальные основания набивать этими таблетками карманы. По пути из учительской в наш класс он ежедневно с коричневой аптечной склянкой в руках наведывался в учительский туалет, примерно через минуту снова появлялся в коридоре и, уже посасывая, двигался дальше: с лацканов карманов осыпалась белая таблеточная труха.
Я вот что хочу сказать: Брунис знал, что мы знаем. Во время урока он частенько исчезал за классной доской, подкреплялся там, а, появившись снова, говорил, указывая на свой набитый рот:
— Надеюсь, вы ничего не видели. А если вы что-то видели, то вам померещилось.
Как и все остальные старшие преподаватели, Освальд Брунис нередко и громко чихал. Как и остальные его коллеги, он по такому случаю доставал из кармана большой носовой платок; однако, в отличие от остальных коллег, из кармана Бруниса вместе с необъятным платком извлекались и сыпались на пол гебионовские таблетки — целиком и половинками. Мы радостно кидались спасать эти катящиеся по крашеным половицам колесики. Гроздь согбенных, истово рыщущих по полу учеников облепляла старшего преподавателя и вскоре возвращала ему оброненные половинки и четвертинки. При этом мы всегда говорили — присказка эта вошла у нас в поговорку:
— Господин учитель, вы только что рассыпали много слюдяных гнейсов.
Брунис ответствовал всегда очень серьезно:
— Если речь идет о простых слюдяных гнейсах, то можете оставить их себе; если же среди ваших находок имеется один или тем паче несколько двуслюдяных гнейсов, убедительно прошу оные мне вернуть.
Мы, по молчаливому уговору, находили только двуслюдяные гнейсы, которые тут же исчезали между коричневых пеньков во рту Бруниса, куда он отправлял их для проверки, чтобы, испытующе переложив их из-за щеки за щеку, окончательно увериться:
— И в самом деле удивительная находка: речь идет о многих чрезвычайно редких и ценных двуслюдяных гнейсах, какая удача, что мы их обнаружили.
А потом старший преподаватель Брунис отбросил все околичности на пути к «Гебиону», за доску больше не прятался и о пропаже двуслюдяных гнейсов ни слова не говорил. Направляясь с аптечной склянкой в руках из учительской в нашу классную комнату, он уже в туалет не наведывался, а жадно и в открытую лакомился нашими таблетками прямо во время занятий. Руки его при этом предательски дрожали. На полуслове, между двумя строфами Эйхендорфа, на него накатывало: и брал он не по одной таблетке, нет, — тремя скрюченными пальцами он выхватывал сразу пять штук, все пять тут же отправлял в свою ненасытную пасть и чавкал так, что нам приходилось отводить глаза.
Нет, Тулла,
мы на него не донесли. Вообще-то доносов потом было много, но из нашего класса ни одного. Правда, пришлось нескольким ученикам, и мне в том числе, давать свидетельские показания в учительской; но мы все как один проявили сдержанность, и хотя и признали, что да, господин старший преподаватель во время уроков ел сладости, но отнюдь не гебионовские таблетки, а мятные леденцы. Эта привычка у господина старшего преподавателя Бруниса всегда была, еще когда мы в шестом и в пятом классе учились и когда никаких гебионовских таблеток в помине не было.
Впрочем, от показаний наших проку было немного: когда Бруниса арестовали, в карманах у него обнаружили таблеточную труху.
Сперва считали, что заявление в полицию написал наш директор, главный преподаватель Клозе; некоторые, впрочем, грешили на Лингенберга, математика; а потом вдруг просочилось — ученицы школы Гудрун, девочки из класса, где Брунис вел историю, на него донесли. И прежде, чем я успел подумать, что это наверняка Туллиных рук дело, ее и назвали: Тулла Покрифке.
Это была ты!
Зачем? А затем! Две недели спустя — старший преподаватель Брунис вынужден был передать свой класс старшему преподавателю Хоффману, занятий больше не вел, хотя сидел еще не в тюрьме, а у себя дома на Эльзенской улице, разбирал свои камни, — итак, две недели спустя нам снова довелось увидеть нашего старого учителя. Меня и еще двоих учеников нашего класса вызвали в учительскую. Там уже ждали двое старшеклассников и пять девочек из школы Гудрун, среди них, ну конечно, Тулла. Мы натянуто и глупо ухмылялись, а солнце ласковыми лучами поглаживало шеренгу коричневых аптечных склянок на полке. Мы стояли на мягком ковре: сесть нам не разрешили. Классики на стенах: друг на друга ноль внимания. Над зеленым сукном стола заседаний в солнечной дорожке клубилась пыль. Дверь была хорошо смазана: старшего преподавателя Бруниса ввел господин в штатском, но не из учителей, а из криминальной полиции. Следом за ними шел директор, главный преподаватель Клозе. Брунис ласково и рассеянно нам кивнул, потирал свои смуглые, узловатые ладони, зажег в глазах издевательские искорки, словно намереваясь перейти к новой теме и обсудить с нами свадебные приготовления зулусов, судьбу консервной банки или конфетки во рту маленькой девочки. Но говорить начал не он, а господин в штатском. Он назвал сборище в учительской необходимой для следствия очной ставкой. В растяжку он задавал старшему преподавателю Брунису всем известные вопросы. Речь шла о таблетках «Гебион» и об изъятии оных таблеток из аптечных склянок. С сожалением и покачивая головой Брунис на все вопросы отвечал отрицательно. Затем допрашивали старшеклассников, потом нас. Обвинения, доводы, контрдоводы. Робкие, запинающиеся попытки возразить:
— Нет, сам я не видел, так говорили. Мы всегда думали. Он очень конфеты любил, только поэтому мы и предполагали. В моем присутствии нет. Но это правда, что он…
По-моему, это не я, а кто-то другой в самом конце сказал:
— Безусловно, старший преподаватель Брунис брал, может, три, от силы четыре раза эти таблетки попробовать. Но мы охотно позволяли ему эту маленькую радость. Мы же знали, как он любит сладкое, всегда любил…
Покуда шли все эти вопросы и ответы, мне бросилось в глаза, как настойчиво, беспомощно и упрямо старший преподаватель Брунис шарит у себя в карманах, то в правом, то в левом. И при этом то и дело облизывает губы. Господин в штатском, казалось, не обращает на это ни малейшего внимания. Сперва, стоя возле высокого окна, он переговорил о чем-то с директором Клозе, потом поманил к окну Туллу: на ней черная плиссированная юбка. Если бы у Бруниса хотя бы трубка с собой была, но трубку он в пальто оставил. Полицейский в штатском, забыв о всяких приличиях, что-то нашептывает Тулле на ушко. Мягкий ковер жжет мне подошвы. Неугомонные руки старшего преподавателя и его беспокойный язык, снова и снова. А теперь Тулла в черной плиссированной юбке куда-то направляется. Юбка шуршит по ногам, пока Тулла не останавливается. Двумя руками она аккуратно берет коричневую аптечную склянку, до половины наполненную гебионовскими таблетками. Она снимает ее с полки, и никто ей не препятствует. И вдоль всего длинного и пустого стола заседаний она идет, шурша своей плиссированной юбкой, за шагом шаг, сузив свои и без того узенькие глазенки. Все не спускают с нее глаз, и Брунис видит, как она к нему приближается. На расстоянии вытянутой руки она останавливается перед старшим преподавателем, прижимает склянку к груди, придерживает ее теперь только левой рукой, а правой снимает стеклянную крышку. Брунис обтирает о пиджак свои взмокшие руки. Тулла откладывает крышку в сторону: на зеленом войлоке стола заседаний ее радостно высвечивает солнечный луч. Язык старшего преподавателя больше не облизывает губы, он замирает, но остается снаружи. Тулла, снова перехватив склянку двумя руками, поднимает ее чуть повыше и, привстав в своей плиссированной юбке на цыпочки, говорит:
— Пожалуйста, господин учитель!
Брунис даже не сопротивлялся. Не стал прятать руки в карманы. Не отвернул голову и не закрыл рот, полный слюны и коричневых пеньков. Никто не услышал его возмущенного возгласа: «Что все это значит?!» Старший преподаватель Брунис схватил сразу, жадно и всей щепотью. Когда три его пальца вынырнули из склянки, в них было шесть или семь гебионовских таблеток: две обронились обратно в банку, одна упала на светло-коричневый велюровый ковер и закатилась под стол, а все остальное он мгновенно запихнул в рот. Но тут ему стало жалко той таблетки, что затерялась где-то под столом. Он опустился на колени. Перед нами, перед директором, перед полицейским в штатском и перед Туллой он опустился на оба колена, дрожащими руками стал шарить по полу возле стола и под столом и обязательно нашел бы эту свою таблетку и отправил бы ее в свой алчущий сладкого рот, если бы не подоспели они — директор и полицейский инспектор в штатском. С двух сторон они подхватили его под руки и поставили на ноги. Один из старшеклассников отворил смазанную дверь.
— Господин коллега, теперь уже без шуток, прошу вас, — сказал главный преподаватель Клозе.
Тулла под столом на корточках искала таблетку.
Несколько дней спустя нас допрашивали снова. По очереди, один за другим, заходили мы в учительскую. Одной истории с таблетками им явно было мало. Старшеклассники записывали за старшим преподавателем некоторые его изречения, в них усмотрели теперь разложение и нигилизм. Все вдруг разом вспомнили: он же был масон! При этом никто толком даже не знал, что это такое: масон. Я старался воздерживаться от высказываний, так мой отец, столярных дел мастер, мне посоветовал. Возможно, не стоило мне говорить про вечно пустой рожок для флага на окне старшего преподавателя, но ведь мы были соседи, и каждый знал, что он не вывешивает флаг, когда все вывешивают. Вот и инспектор в штатском тоже был об этом осведомлен и только нетерпеливо кивнул, когда я сказал:
— В день рожденья Вождя, к примеру, когда все вывешивают флаги, господин старший преподаватель никогда флаг не вывешивает, хотя флаг у него есть.
Словом, приемный отец и опекун Йенни был отправлен в предварительное заключение. Говорили, что спустя некоторое время его еще на несколько дней отпустили домой, чтобы потом забрать окончательно. Пианист Фельзнер-Имбс, который теперь ежедневно заходил в квартиру в доме напротив и присматривал за оставшейся Йенни, как-то раз сказал моему отцу:
— Подумать только, старого человека отправить в Штуттхоф. Он же этого не переживет…
Покрифке и Либенау,
твоя семья и моя семья, через год после гибели твоего брата Александра сложили с себя траур; и тут Йенни перекрасила все свои платья. Раз в неделю в дом напротив наведывалась попечительница несовершеннолетних. Йенни принимала ее в черном. Вначале вообще говорили: Йенни отправят в приют, квартиру старшего преподавателя будут заселять. Но Йенни, вся в черном, нашла заступников. Фельзнер-Имбс писал письма; директриса школы Гудрун подала ходатайство; главный режиссер городского театра лично ходил к окружному руководству; и у мадам Лары Бок-Федоровой нашлись связи. Вот так и получилось, что Йенни по-прежнему, но вся в черном, ходила на занятия и репетиции. Не то чтобы она, — в черном берете, в широком черном пальто, аккуратно вышагивая своими стройными ножками в черных хлопчатобумажных чулках, — появлялась на улице с заплаканным лицом, отнюдь нет; немного бледная — но это, возможно, только казалось на черном фоне — ладно неся свою точеную фигурку, ставя ножки с легким балетным выворотом, она шла, неся свой портфель — портфель был коричневый, искусственной кожи — в школу, неся свою бывшую луково-зеленую, закатно-красную или воздушно-голубую, а теперь перекрашенную в черный цвет балетную сумочку в Оливу или в театр и возвращалась точно в срок, все так же ладно и с легким выворотом, скорее бодрая, чем заносчивая, домой на Эльзенскую улицу.
Тем не менее раздавались голоса, склонные истолковывать каждодневную черноту Йенниных туалетов как цвет заносчивости, чтобы не сказать гордыни. Траур в те годы разрешалось носить лишь в том случае, если повод для него был официально удостоверен и скреплен печатью. Траур дозволялось носить по погибшим сыновьям и усопшим бабушкам; но сухая и коротенькая справка криминальной полиции района Данциг-Новосад, извещавшая о том, что старший преподаватель Освальд Брунис осужден за недостойное поведение и хищение общественного имущества, не являлась убедительным документом для хозяйственного управления магистрата: ибо только там, в отделе карточек на одежду, выдавались талоны на траурное платье в случае смерти или гибели родственников.
— Что с ней такое, он ведь жив еще. Не станут же они старого человека… И этим она нисколько ему не поможет, скорее наоборот. Кто-то должен ей сказать, что это совершенно бесполезно, только лишний раз привлекает внимание.
Соседи и попечительница говорили с Фельзнер-Имбсом. Пианист попытался убедить Йенни сложить траур. Уверял, что дело не во внешних проявлениях. Вполне достаточно, если она будет носить траур в сердце. Его траур не меньше, у него ведь отняли друга, единственного друга.
Но Йенни настаивала на внешних проявлениях траура и продолжала живым укором расхаживать по всему Лангфуру и по Эльзенской улице во всем черном. Как-то раз на остановке второго трамвая в сторону Оливы я с ней заговорил. Разумеется, она зарделась, красное и черное. Если бы мне пришлось рисовать ее по памяти, я бы изобразил серо-голубые глаза, тенистые ресницы, темно-каштановые волосы, разделенные пробором надвое и двумя усталыми дугами гладко и тяжело ниспадающие на уши и щеки, чтобы сзади на шее перелиться в туго заплетенную косу. Удлиненный овал лица я бы написал цвета слоновой кости, иной краской оно заливалось лишь в исключительных случаях. Словом, лик, прямо-таки созданный для траура: Жизель в сцене на кладбище. Ее неброские, робкие уста говорили только тогда, когда их спрашивали.
На трамвайной остановке я спросил:
— Йенни, так ли уж обязательно тебе все время носить траур? Ведь папаша Брунис со дня на день может вернуться.
— Для меня он уже умер, даже если они не пишут, что это так.
Я постарался сменить тему, поскольку трамвай все не шел:
— А что, вечерами ты так и сидишь дома одна?
— Господин Имбс часто заходит. Мы сортируем и надписываем камни. Понимаешь, после него многое осталось неразобранным.
Хотелось уйти, но ее трамвая все не было.
— И в кино никогда не ходишь, или все-таки?
— Когда папа был жив, мы по воскресеньям иногда ходили на утренний сеанс во Дворец УФА[282]. Он научно-популярные фильмы любил смотреть.
Я не дал себя сбить с художественных:
— Так как ты насчет того, чтобы со мной в кино сходить?
Соломенно-желтый, показался ее трамвай:
— Если тебе хочется, с удовольствием. — Пассажиры в зимних пальто начали выходить. — Не обязательно ведь на комедию, можно и на серьезный фильм сходить, правда?
Йенни уже садилась в вагон.
— В «Центральном» идут «Раскованные руки»[283]. Правда, до шестнадцати не пускают…
Если бы Тулла сказала:
— Последний ряд, два места, — кассирша наверняка захотела бы взглянуть на ее паспорт; нам же ничего предъявлять не понадобилось, потому что Йенни была в трауре. Мы сидели в пальто: в зале было почти не топлено. Знакомых вроде никого не было. Разговаривать было не обязательно, так как беспрерывно играла легкая музыка. Затем одновременно со знакомой позывной мелодией раздернулся занавес, погас свет и началось «Еженедельное обозрение». Только теперь я положил руку Йенни на плечи. Впрочем, долго она там не осталась, потому что по меньшей мере тридцать секунд наша тяжелая артиллерия обстреливала Ленинград. При виде подбитого нашими истребителями английского бомбардировщика Йенни закрыла глаза и уткнулась лбом мне в пальто. Моя рука разгуливала дальше, но глаза не отрывались от виражей наших истребителей, пересчитывали танки Роммеля на марше по Ливийской пустыне[284], проследили за пенистой траекторией запущенной торпеды, увидели в покачивающемся перекрестье прицела неприятельский танкер, я дернулся, когда прогремел взрыв, всем телом ощутил вспышку и содрогание раскалывающегося надвое танкера и перенес эту дрожь на Йенни. Когда вездесущая камера «Еженедельного обозрения» проникла в штаб-квартиру Вождя, я прошептал:
— Смотри, Йенни, сейчас Вождя покажут, а может, и его пса.
Мы оба были разочарованы, когда увидели лишь Кейтеля, Йодля[285] и всю прочую свиту, обступившую Вождя на гравиевых дорожках под деревьями.
Когда снова зажгли свет, Йенни сняла пальто, а я нет. Научно-популярный фильм был про оленей и косуль, которых зимой надо подкармливать, чтобы они не погибли. Без пальто Йенни была еще тоньше. Косули совсем не боялись. Ели в горах изнемогали от снега. На экране все были в черном, а не одна только Йенни в ее траурном свитере.
Вообще-то я еще во время фильма про косуль хотел это начать, но решил все-таки основного фильма дождаться. «Раскованные руки» оказались детективом со стрельбой и наручниками. Руки, как выяснилось, принадлежали молодой скульпторше, которая по уши втрескалась в своего профессора-скульптора, — играла ее Бригитта Хорнай. Примерно столько же раз, сколько она его на экране, столько же я Йенни в темном зале. Она закрывала глаза — я видел. Руки на экране то и дело разминали глину, превращая ее в обнаженные тела и резвых скачущих кобылиц. Кожа у Йенни была сухая и прохладная. Поскольку ноги у нее были плотно сжаты, я посчитал, что не худо бы ей их расслабить. Что она тут же и сделала, но продолжала сосредоточенно следить за событиями на экране. Дырочка у нее была еще меньше, чем у Туллы, в чем я и хотел убедиться. Когда я попытался подключить к делу второй палец, Йенни оторвала глаза от экрана:
— Пожалуйста, не надо, Харри. Ты делаешь мне больно.
Я тотчас же перестал, но из объятий ее не выпустил.
Манящий, с низкой хрипотцой голос Хорнай заполнял собою полупустой зал. Незадолго до конца фильма я понюхал свои пальцы: они пахли как недозрелые орехи по дороге в школу — пресной, какой-то мыльной горечью.
На обратном пути меня почему-то подбивало на серьезный, деловой разговор. Поначалу, пока мы шли по Вокзальной улице, я просто болтал: фильм был отличный, а вот в обозрении все время одно и то же; про косуль было скучновато; опять завтра эта дурацкая школа; а с папашей Брунисом все обязательно наладится.
— А что они там в Берлине обо всем этом думают? Ты Зайцингеру вообще писала про всю эту историю?
Йенни фильм тоже понравился, Хорнай все-таки большая актриса; она тоже надеется, что с папой Брунисом все кончится хорошо, хотя у нее почему-то твердое чувство, что он уже… А господин Зайцингер уже дважды писал с тех пор, как… Он скоро должен приехать и заберет ее с собой:
— Он считает, в Лангфуре мне сейчас не место. И господин Имбс тоже так думает. Будешь писать мне хоть изредка, если я в берлинский балет перейду?
Йеннины ответы настроили меня на беззаботный лад. Мысль о том, что скоро она вместе со всем своим трауром будет где-то далеко, пробудила во мне много теплых слов. Я великодушно обнял ее за плечи, повел ее в обход темными переулками, останавливался с ней той февральской или мартовской ночью под синими фонарями бомбоубежищ, потом тащил ее к следующему фонарю, притискивал ее к кованым оградам палисадников и всячески убеждал при этом уезжать с Зайцингером в Берлин. И снова и снова обещал ей писать, и не от случая к случаю, а регулярно. В конце концов я чуть ли не приказал ей уезжать из Лангфура, ибо Йенни переложила на меня всю ответственность:
— Если ты не захочешь, чтобы я тебя покидала, я останусь с тобой; но если и ты считаешь, что господин Зайцингер прав, я уеду.
И тогда я призвал на помощь кое-кого из узников Штуттхофа:
— Знаешь, готов спорить, если бы папаша Брунис был сейчас с нами, он бы сказал то же самое, что я: немедленно в Берлин! Ничего лучшего для тебя и придумать нельзя.
На Эльзенской улице Йенни поблагодарила меня за кино. Я поцеловал ее на прощанье быстро и сухо. Последняя ее фраза звучала как всегда:
— А теперь я правда немножко устала, к тому же мне еще делать английский.
Я был рад, что она не пригласила меня в пустую квартиру старшего преподавателя. Что бы я там стал с ней делать среди всех этих ящиков, битком набитых рассортированными слюдяками, среди остывших непрочищенных трубок и с помыслами в голове, которые ждали и жаждали от Туллы всего, а от Йенни — ничего, ровным счетом ничего.
Дорогая кузина!
А потом, незадолго перед Пасхой, выпал снег. И быстро стаял. Примерно в то же время ты начала крутить с фронтовиками, приезжавшими в отпуск, но ребенка они тебе не сделали. Потом, вскоре после Пасхи, была воздушная тревога, но ни одной бомбы у нас не упало. А в начале мая приехал Зайцингер и забрал Йенни.
Он прикатил на заднем сиденье черного мерседеса и вылез: стройный, легкий, чужой. Широченное, в нарочито броскую клетку пальто небрежно наброшено на плечи. Он потирал руки в белых перчатках, оглядел фасад Акционерного дома, ощупал взглядом и наш дом, внимательно, за этажом этаж: я, прятавшийся за гардиной, отступил к краю ковра. Мать подзывала меня к окну:
— Нет, ты только погляди, погляди на него!
Что глядеть, я его знаю. Я самый первый его увидел, когда он был еще новенький. Он бросил мне свой зуб в кусты дрока. А потом, вскоре после своего второго рождения, сел на поезд и был таков. Начал курить и до сих пор курит, в белых перчатках. А зуб его до сих пор у меня в бумажнике. Уехал с проваленным ртом. А вернулся — вон, вся пасть полна золота: ибо он смеется, пробежал по Эльзенской улице немножко в одну сторону, немножко в другую, и смеется, бежит и на все пристально так поглядывает. Дома с обеих сторон, номера на домах, четные и нечетные, палисадники, такие просторные, что переплюнуть можно, анютины глазки. Он просто наглядеться не может и смеется, неприкрыто смеется, всем нашим окнам выставляя напоказ золотые свои челюсти. Всеми тридцатью двумя золотыми зубами выхаркивает на нас свой беззвучный, сотрясающий его смех, будто на всем яйцеобразном белом свете более смешного повода скалить зубы, чем наша Эльзенская улица, и не сыщешь. Но тут из нашего дома выползает Фельзнер-Имбс — сама почтительность. И все золото, столь яркое на солнышке в майский день, вмиг исчезает, словно шторкой задернутое. Оба — я вижу только их обрезанные подоконником верхние половины — радостно здороваются всеми четырьмя руками: сто лет не виделись. Шофер подпирает свой мерседес и ни на кого не смотрит. Зато вокруг все окна — бесплатные ложи. Вечно подрастающая детвора образует кольцо зевак. И только я да еще воробьи на водосточных желобах, мы понимаем: это он вернулся, вот он берет пианиста под руку, легко прорывает кольцо подросшей детворы, мягко препровождает пианиста в Акционерный дом, почтительно придерживает перед ним дверь и входит вслед за ним, даже не оглянувшись.
У Йенни оба чемодана были уже собраны, потому что и получаса не прошло, как она вместе с Фельзнер-Имбсом и Зайцингером вышла из дома. И даже рассталась со своим черным траурным цветом. Она покидала нас с ангустри на пальце и без моих резиновых бус на шее — бусы лежали в белье в одном из чемоданов, которые Имбс и Зайцингер препоручили шоферу. Детишки рисовали человечков на пыльной дверце черного мерседеса. Йенни стояла в нерешительности. Шофер натянул кепку. Зайцингер хотел было мягко подтолкнуть Йенни в салон машины. Он уже поднял воротник пальто, не казал больше Эльзенской улице лица и вообще торопился. Зато Йенни садиться не спешила, она указала на наши гардины и, прежде чем Имбс и Зайцингер успели ее задержать, исчезла в нашем подъезде.
Я, по-прежнему из-за гардин, сказал матери, которая все делала, как я хочу:
— Не открывай, если позвонят. И что ей еще понадобилось?
Четыре раза звякнул звонок. Он у нас был не кнопочный, а с вертушкой. Вертушка эта не просто тренькнула, она четыре раза провернулась со шкрябающим звоном, но ни я, ни мать из-за гардин не вышли.
У меня всегда будет стоять в ушах то, что наш дверной звонок повторил мне четыре раза.
— Ну вот они и уехали, — сообщила мне мать; но я молча разглядывал выпускные работы отцовских подмастерьев в нашей столовой: орех, груша, дуб…
И рокот удаляющейся машины, стихающий сам по себе, тоже мне запомнился и, наверное, уже не забудется никогда.
Дорогая кузина Тулла!
Через неделю из Берлина пришло письмо; Йенни написала его своей авторучкой. Я радовался ему так, будто это Тулла мне написала, собственноручно. Но Тулла писала письма моряку, собственноручно. Я повсюду бегал с Йенниным письмом в руках и всем рассказывал: моя подружка из Берлина мне написала — Йенни Брунис или Йенни Ангустри, как она теперь себя называет; потому что господин Зайцингер, ее балетмейстер, и госпожа Нерода, государственная советница, которая руководит Немецким балетом, бывшим Балетом СЧР, посоветовали ей взять артистический псевдоним. Занятия уже начались, к тому же она репетирует контрдансы на старинную немецкую музыку, которую раскопала мадам Нерода, — она вообще-то англичанка. И вообще эта Нерода в высшей степени удивительная, чтобы не сказать странная особа: например, «когда она куда-нибудь выезжает, в город или даже на торжественный прием, она надевает роскошное меховое манто, но под ним никакого платья, только тренировочное балетное трико. Но она может себе это позволить. И у нее собака, шотландской породы, с такими же прекрасными глазами, как у хозяйки. Некоторые считают ее шпионкой. Только я не верю и моя подружка тоже».
С промежутками в несколько дней я написал Йенни череду любовных писем, изобиловавших повторами и самыми неприкрытыми желаниями. Каждое письмо мне приходилось переписывать заново, поскольку первоначальные редакции пестрели погрешностями. Слишком часто я писал: «Поверь мне, Тулла!», рука то и дело сама выводила: «Почему, Тулла? Сегодня утром, Тулла… Если тебе угодно, Тулла. Я хочу тебя, Тулла. Я грежу тобой, Тулла. Поглотить Туллу, держать в объятиях, ласкать, любить Туллу, сделать Тулле ребенка».
Йенни исправно мне отвечала своим мелким чистым почерком. Строчка к строчке, аккуратно соблюдая поля, она испещряла два листа голубой почтовой бумаги с двух сторон ответами на мои домогательства и описаниями своего нового окружения. На все, чего я вожделел от Туллы, Йенни говорила «да»; вот только ребенка ей — да и мне тоже — пока заводить рановато, сперва каждый должен чего-то достичь в своей профессии, она на сцене, а я как историк; я вроде как хотел стать историком.
Она снова рассказывала о госпоже Нероде: у этой необычайной женщины крупнейшее в мире собрание книг по балету, есть даже в оригинале рукопись великого Новера[286]. Господина Зайцингера она называла немного мрачноватым, хотя временами и очень милым чудаком, который, когда заканчивает свои очень строгие, но фантастически интересно построенные занятия, удаляется в свою подвальную мастерскую, где сооружает диковинные человекообразные машины. Йенни писала: «Вообще он не слишком высокого мнения о классическом балете, потому что во время занятий, когда не все идет так, как ему хочется, он довольно зло над нами издевается и нередко приговаривает: „Завтра же разгоню всех этих марионеток. Пусть посылают вас на оружейные заводы. Будете там гранаты крутить, если не в состоянии с безупречностью машины прокрутить здесь один единственный пируэт!“ Как он утверждает, его фигуры в подвале показывают такую выучку, что любо-дорого посмотреть; и выворотность у них у всех замечательная; так что скоро он одну из них в первый ряд к станку поставит: „Вот тогда вы позеленеете от зависти и поймете, наконец, что такое настоящий классический балет, эх вы, пестики-нолики“».
Пестиками и ноликами господин Зайцингер называл танцоров и танцовщиц. В одном из следующих писем, присланных мне Йенни на Эльзенскую улицу, в постскриптуме я нашел описание и даже штриховую зарисовку одной из этих фигур. Она стояла у станка и показывала пестикам-ноликам предписанное порт-де-бра.
Йенни писала: «Даже поверить трудно, скольким вещам я научилась у этой механической фигуры, которая, кстати, и не пестик и не нолик. Прежде всего, у меня теперь правильная балетная спина, и точечные акценты в движениях рук — мадам Лара за этим не очень следила — мне теперь совершенно понятны. Что бы я ни делала, где бы ни стояла — чищу ли обувь, поднимаю ли стакан молока — в воздухе повсюду должны быть эти акцентные точечки. И даже когда я зеваю, — а мы все к вечеру ужасно устаем, — я слежу за тем, чтобы, прикрывая рот рукой, не забыть о точечках. А теперь мне пора заканчивать и на прощанье обнять тебя покрепче, чтобы с этим чувством заснуть и завтра утром проснуться. И, пожалуйста, не читай столько, а то испортишь себе глаза. Всегда твоя Йенни».
Дорогая Тулла!
С помощью таких вот Йенниных писем я пробовал навести мосты — от себя к тебе. На лестнице нашего доходного дома нам двоим трудно было разминуться, и я даже не пытался скрыть привычную краску волнения:
— Смотри-ка, опять Йенни мне написала. Тебе это интересно? Она так чудно пишет, вечно про любовь и все такое. Так что если хочешь посмеяться, возьми, почитай, сколько всего она тут насочиняла. Ее теперь зовут Ангустри, как ее перстень, и скоро она отправляется с театром на гастроли.
Как нечто совершенно мне безразличное, хотя и не лишенное любопытства, я протянул ей вскрытый конверт.
Пренебрежительно постукивая по бумаге пальцем, Тулла процедила:
— Придумай, наконец, что-нибудь получше, чем без конца подсовывать мне все эти сладкие сопли и балетную лабуду!
Свои волосы, горчичного цвета, Тулла теперь носила свободно, и они разрозненными прядями ниспадали до плеч. В них еще слабо угадывались следы шестимесячной завивки — подарок морячка из Путцига. Одна из прядей закрывала левый глаз. Механическим движением, автоматизму которого позавидовала бы любая из механических фигур Зайцингера, с одновременным и презрительным поддувом Тулла отбрасывала эту прядку назад, чтобы коротким передергом костлявых плеч тут же вернуть ее на исходные рубежи. Но она пока что еще не красилась. Это позже, когда ночной патруль гитлерюгенда застукал ее сперва после полуночи на главном вокзале, потом на скамейке Упхагенского парка с курсантом школы прапорщиков, что в Новой Шотландии, — вот тогда Тулла уже была подкрашена всюду, где только можно.
Из школы ее вытурили. Мой отец сетовал на выброшенные деньги. А директрисе школы Гудрун, которая, невзирая на рапорт ночного патруля, хотела дать ученице самый последний шанс, Тулла вроде бы сказала:
— Гоните меня в шею, госпожа директорша! Вот у меня где вся ваша школа сидит! Больше всего я хочу ребенка, все равно от кого, лишь бы хоть что-то случилось, тут, в Лангфуре, и вообще.
Зачем тебе так хотелось ребенка? — А затем! Словом, из школы Тулла вылетела, но ребенка не заимела. Целыми днями торчала дома, слушала радио, а после ужина исчезала. Как-то раз притащила себе и матери шесть метров адмиральского сукна. Потом заявилась в лисьем воротнике из Заполярья. Следующим ее трофеем была штука парашютного шелка. И она, и мать щеголяли в дамском белье чуть ли не со всей Европы. Когда пришли из службы занятости и попытались запихнуть ее на завод электрооборудования, она отправилась к доктору Холлатцу и выписала себе больничное свидетельство: малокровие и затемнения в легких. Получила больничные продуктовые карточки и даже больничное пособие, правда, скромное.
Когда Фельзнер-Имбс, прихватив свои большие песочные часы, фарфоровую балерину, золотую рыбку и горы нот, переехал в Берлин, — Зайцингер позвал его к себе в балет пианистом, — Тулла дала ему с собой письмецо: для Йенни. Так я никогда и не дознался, что она такого своей авторучкой накарябала, — в следующем Йеннином письме говорилось только, что Фельзнер-Имбс благополучно прибыл, а от Туллы пришло очень милое письмо и что она, Йенни, передает Тулле самый сердечный привет.
Опять меня задвинули, опять у обеих появились от меня какие-то тайны. Теперь, сталкиваясь с Туллой, я уже не краснел, а становился белее мела. Ибо я, хотя все еще по тебе сох и не мог отклеиться, постепенно начинал тебя ненавидеть, тебя и твой клей; ненависть же — душевная болезнь, с которой можно и состариться — облегчала мне общение с Туллой; я теперь дружелюбно и снисходительно давал ей дельные советы. Ни разу моя ненависть не прорвалась рукоприкладством, потому что во-первых, я следил за собой с утра до полуночной дремы, во-вторых, я слишком много читал, в-третьих, был прилежным учеником, почти выскочкой, и времени на вымещение ненависти у меня не хватало, а в-четвертых, я построил себе алтарь и поставил на этот алтарь Йенни, в пачке, с балетным выворотом ног и парящими в воздухе руками; а проще говоря, я собирал письма Йенни в стопку и хотел, чтобы нас помолвили.
Тулла, любимая!
Сколь благовоспитанной и скучной могла быть Йенни, когда мы с ней сидели и разговаривали или просто шли рядом, столь же неожиданно остроумно и пикантно умела она писать письма. Ее внешне глуповатое, осененное тенью тоскливых ресниц око обладало даром внутренней проницательности, способностью видеть вещи с изнанки, трезво и без прикрас, даже если они в серебряных туфельках выступали на пуантах в свете рампы, пытаясь изобразить умирающего лебедя.
В такой манере описала она мне и балетный урок, который Зайцингер давал своим пестикам-ноликам. В тот день они разучивали балет, который назывался то ли «Птичьи пугала», то ли «Уж эти птичьи пугала», то ли «Садовник и птичьи пугала», как-то так.
Тренаж в тот день не спорился ни в танц-классе, ни на вольном воздухе. Фельзнер-Имбс неустанно горбился над мелодией Шопена, повторяя ее без конца и без всякого толку. В окнах класса мокли под дождем сосны, полные белок и прусского прошлого. Утром была воздушная тревога и занятия в теплом подвале. Теперь же нолики в черных трико увядали возле станка. Пестики сонно хлопали рыбьими глазами, покуда Зайцингер вдруг, одним прыжком и не разгибая колен, не вскочил на пианино — трюк, который пианиста ничуть не удивил, а пианино ничуть не повредил, поскольку Зайцингер, оказывается, умеет с места делать такие высокие, затянутые и плавные прыжки, что бережно опускается на коричневую крышку пианино, нисколько не потревожив его безупречно настроенную начинку. От такого антраша все пестики-нолики разом проснулись, поскольку некоторым из них хорошо известно, что этот гневный прыжок Зайцингера на пианино означает и какими последствиями может быть чреват.
Сверху вниз, но не прямо, а через посредство огромного балетного зеркала, занимавшего всю торцевую стену класса и превращавшего ее в соглядатая, Зайцингер обратился к своим пестикам-ноликам с грозным предупреждением:
— Что, кисточку позвать, чтобы вам станцевала? Задору недостает? Может, крыс подпустить нашим лебедям под хвосты? Прикажете Зайцингеру снова доставать свой волшебный кулечек?
Еще раз он перечислил последовательность своих, славившихся особой суровостью, упражнений у станка: гран-плие по два раза из первой, второй и пятой позиции; восемь дегаже растянутых и шестнадцать коротких, быстрых из второй позиции; восемь малых батманов дегаже, с акцентированным выворотом, легкой крапинкой. Но только нолики акцентировали в тот день выворот и легкой крапинкой метили прыжки; в пестиках же ни угроза пресловутого кулечка, ни Шопен в союзе с Фельзнер-Имбсом не могли пробудить жизненный задор и желание выполнить плие чисто — тесто на палочке, жидкий мед на ноже, лапша на поварешке; как вареные двигались мальчики, они же пестики — Вольфик, Марсель, Шмиттик, Серж, Готти, Эберхард и Бастиан, хлопали ресницами, помаленьку вздыхали между батманами фондю на полноска, выворачивали при рон де жамбе а ля згонд шеи, как лебеди перед кормежкой, и обреченно ждали, семеро сонных пестиков, второго прыжка Зайцингера, который, впрочем, после дружно запоротого большого батмана уже не заставил ждать себя долго.
И опять этот знаменитый прыжок Зайцингера был произведен с места: прямо с пианино через белую голову пианиста, в шпагате с удивительно широкой растяжкой, его выбросило в середину зала, поближе к зеркалу. И ничего не утаивая от просторного отражения, он извлек на свет уже поминавшийся чудодейственный кулечек. Остренький кулечек, почти колпачок, невзрачный на вид и знаменитый, любимый и ненавистный, кулечек «хорошо, но в меру», мягкий, как порошок и как порох, обычный пятидесятиграммовый кулечек он извлек из специально предназначенного для этой цели нагрудного кармашка и приказал всем девочкам, или ноликам, отойти от станка. Отослал их всех в угол к гудящей, раздувшей накаленные щеки круглой чугунной печке. Там они, попискивая, сгрудились и отвернулись к стене, прикрыв к тому же глаза бледными ладошками. И даже Фельзнер-Имбс набросил шелковый шарф на свое львиное чело.
Ибо, как только глаза были прикрыты, а львиное чело стыдливо спрятано, Зайцингер приказал:
— Face a la barre![287]
И семь мальчиков-пестиков, страшно волнуясь и помогая друг другу, стащили со своих мальчишеских бедер черные, розовые, яично-желтые и майски-зеленые шерстяные трико.
— И-и-и приготовились! — Зайцингер прищелкивает сухими пальцами, и мальчики, головами к стене, все так же моргая неутомимыми ресницами, выстраиваются у балетного станка, в четырнадцать рук обхватив его стертый деревянный брус. В натопленном танц-классе семь торсов под вслепую наигрываемого Шопена дружно наклоняются с вытянутыми руками, выпрямляют колени и выставляют аккуратную, как на подбор, шеренгу упругих и нежных мальчишеских попок.
И тогда Зайцингер, заняв исходную позицию возле крайней попки с кулечком в левой руке, правой вдруг словно из воздуха выхватывает и зажимает между пальцами кисточку, дорогую и очень сподручную, окунает ее барсучий кончик в остроконечный кулек, после чего, поддерживаемый аккомпанементом Фельзнер-Имбса, принимается бодро и как бы только для одного себя насвистывать неизменный в таких случаях полонез; и весьма энергично, не забывая о зеркале, начинает переходить от одной попки к другой.
И при этом — в чем и смысл всей затеи — он семь раз извлекает из кулечка с загадочным порошком обмокнутую в этот порошок барсучью кисточку и семь раз вводит ее в соответствующую дырочку в мальчишеской попке — хоп-ля!
Это была не присыпка для ног. И не снотворное. Не лекарство для похудания и не средство от львов, не разрыхлитель для теста и не ДДТ, не сухое молоко, не какао и не сахарная пудра, не мука, чтобы печь булочки, не толченый мел и не глазной порошок — это был перец, черный перец тончайшего помола, и именно его Зайцингер неустанной рукой семь раз загрузил кисточкой по назначению. Наконец, уже возле самого зеркала, он закончил свой педагогический выход плавным пируэтом, повернулся, сверкнув полным ртом золотых зубов, лицом к залу и ликующе провозгласил:
— Alors, mes enfants![288] Сперва пестики, потом нолики. Premiere position: grand plie, bras en couronne![289]
И едва только Имбс, уже не вслепую, бросил свои утомленные Шопеном пальцы на клавиши, семь разноцветных трико мигом и будто сами собой натянулись на семь мальчишеских попок, и сразу же занятия пошли гораздо бодрее: легче шаг, выше ноги, шире руки. Замерли ресницы, проснулись движения, взмокла красота, и Зайцингер неведомо куда спрятал свою дорогую кисточку.
Действие перца оказалось столь длительным и благотворным, что после удачного тренажа и ненаперченные нолики, и наперченные пестики смогли еще прорепетировать третий акт балета о пугалах: от сцены разорения сада скопищем пугал до па-де-де[290].
Поскольку в итоге вся массовая сцена, — тонко организованный хаос на пуантах, — сдобренная перцем и традиционной прусской военной музыкой, прекрасно удалась, Зайцингер, сверкнув всеми тридцатью двумя зубами, объявил занятия оконченными, взмахнул полотенцем, велел Фельзенр-Имбсу захлопнуть пианино, упрятать обратно в папку Шопена и прусские военные марши, после чего роздал всем сестрам, то бишь пестикам-ноликам, по серьгам:
— Браво, Вольфик, молодец Шмиттик, спасибо всем пестикам-ноликам! Особенное спасибо Марселю и Йенни. Вас я попрошу еще ненадолго остаться. Пройдем сцену дочки садовника и принца из первого акта, пока что без музыки, в полноска. Всем остальным вовремя лечь спать и не колобродить. Завтра утром занят весь кордебалет, похищение дочки садовника и главный финал.
Дорогая Тулла!
В том Йеннином письме, содержание которого я только что попытался воспроизвести, говорилось, как и во всех ее письмах, и о том, как крепко и неизменно она меня по-прежнему любит, хоть Зайцингер за ней и ухаживает, правда, сдержанно и ужасно иронично. Но мне из-за этого тревожиться нечего. Кстати, она собирается, правда, только на пару дней, наведаться в Лангфур. «Придется все-таки освобождать квартиру. Поэтому мы хотим перевезти мебель и коллекцию камней. Ты представить себе не можешь, сколько понадобилось писанины, чтобы получить разрешение на переезд. Но Зайцингер умеет располагать к себе людей. Впрочем, он считает, в Лангфуре мебель была бы целее, Берлин все чаще бомбят. Камни он в любом случае хочет схоронить в деревне, где-то в Нижней Саксонии».
Дорогая Тулла!
Сперва к дому, что наискосок напротив, подкатил мебельный фургон. Окна всех пятнадцати квартир нашего дома тут же облепились жильцами. Потом, бесшумно, к фургону сзади приткнулся мерседес, но так, чтобы оставить место для погрузки. Шофер, сдернув кепку, вовремя успел открыть дверцу: в черном меховом манто, — похоже, крот — с поднятым воротником вокруг стройной шеи, на тротуаре, мельком вскинув взгляд на наши окна, стояла Йенни — изящная дама, которой нельзя простудиться. Зайцингер, в черном ольстерском пальто с коричневым воротником из нутрии, взял ее под руку. Наставник и великий импресарио, на полголовы ниже Йенни, вот он, Герман Зайцингер, рот полон золота. Но он не смеялся и дом наш не изучал. Для него Эльзенской улицы просто на свете не было.
Мой отец сказал из-за газеты:
— Можешь спокойно пойти помочь перенести вещи, раз уж у вас такая переписка.
Я еле нашел Йеннину руку в широченном меховом рукаве. Она меня представила. Зайцингер удостоил меня осьмушки взгляда:
— Так-так, — заметил он и добавил: — Хорошенький пестик.
Потом он принялся дирижировать грузчиками, словно кордебалетом. Помогать мне не позволили, наверх в квартиру тоже не позвали. Погрузка мебели, тяжеленных, все больше дубовых темно-коричневых рыдванов, превратилась в захватывающее зрелище, так как под руководством Зайцингера даже неподъемный, на целую стену книжный шкаф становился невесомым, как пушинка. Когда дошла очередь до Йенниной комнаты, — светлая береза, бидермайер, — мебель на квадратных грузчицких спинах буквально поплыла из дома, и казалось, что у нее есть «баллон». В промежутке между гардеробом из прихожей и голландским трюмо Зайцингер как бы невзначай оказался со мной рядом. Ни на секунду не передоверяя дело одной только грубой физической силе грузчиков, он пригласил меня и Йенни на ужин в ресторан гостиницы «Эдем», что возле главного вокзала, — они в этой гостинице остановились. Тяжелые открытые ящики штабелем устанавливались на тротуаре среди последних кухонных стульев. Я ответил согласием.
— Значит, в полвосьмого.
И тут же, словно Зайцингер это подстроил нарочно, из-за облаков прорвалось солнце и осветило сверкающие камни в открытых ящиках. И даже запах отсутствующего старшего преподавателя вдруг снова ожил, распространяясь вокруг холодным трубочным дымом; однако часть слюдяных гнейсов приходилось оставлять. Восемь или девять ящиков полностью замуровали мебельный фургон, а два не влезали. Тут и я получил свой сольный выход в зайцингеровском мебельно-погрузочном балете, предложив освободить место для этих камней, слюдяных гнейсов и слюдяных гранитов, биотитов и московитов, в нашем подвале.
Отец, у которого я, найдя его в машинном цехе, попросил разрешения, удивил меня неожиданно быстрым и спокойным согласием:
— Конечно, сынок. Во втором подвале рядом с оконными рамами еще полно места. Вот туда ящики господина учителя и поставь. Уж какой-то в этом должен быть смысл, коли пожилой человек всю жизнь эти камни собирал.
Дорогая Тулла!
Ящики водворились в наш подвал, а вечером я уже сидел подле Йенни и напротив Зайцингера в малом ресторанном зале гостиницы «Эдем». Днем, после обеда, ты вроде бы встречалась с Йенни, без Зайцингера, в городе. Зачем? А затем! Мы почти не разговаривали, и Зайцингер смотрел куда-то в пустоту между мной и Йенни. А встречались вы, говорят, в кафе Вайтцке, что в Шерстобитном переулке. Что вам понадобилось друг с дружкой обсудить? Да всякое! Йеннин мизинец под столом сцепился с моим. Я уверен, от Зайцингера это не укрылось. Что вам там в кафе Вайтцке понадобилось? Кусок невкусного торта и водянистое мороженое для Йенни. В ресторане «Эдем» был подан черепаховый суп, шницель по-венски с консервированной спаржей, а потом, по Йенниной заявке, десерт с мороженым. Как знать, может, я даже ехал вслед за вами до Угольного рынка и потом видел, как вы в кафе Вайтцке сидели, разговаривали, смеялись, молчали, плакали — зачем? А затем! После еды я заметил на лице Зайцингера, то ли непроницаемом, то ли просто неподвижном, тысячу, если не больше, блеклых, сероватых веснушек. У Эдди Амзеля, когда он еще был Эдди Амзелем, на жирном лице веснушек было поменьше, зато они были крупнее и настоящего рыжевато-коричневого цвета. Часа два, никак не меньше, вы в кафе Вайтцке трепались. В полдесятого пришлось мне сказать:
— Знал я одного человека, похожего на вас, только звали его иначе.
Зайцингер подозвал официанта:
— Стакан цитрона, пожалуйста.
Но у меня текст приготовлен был:
— Фамилия его была Степун, потом он назвался Дрофером, потом Дрофским. Вы его, часом, не знаете?
Простуженному господину Зайцингеру принесли его цитрон:
— Благодарю. Пожалуйста счет.
Где-то у меня за спиной официант колдовал над счетом.
— Несколько минут этого человека, которого я знал, звали даже Янгером. Потом он стал Якленским. А потом нашел фамилию, которую носит и по сей день. Хотите знать, какую? А ты, Йенни, хочешь?
Зайцингер размешал чайной ложечкой две белых таблетки лимонного экстракта и расплатился наличными, вложив их в счет:
— Сдачи не надо.
Я уже совсем было собрался сказать, как того человека звали, но тут Зайцингер принялся сосредоточенно пить свой чай. Время было упущено. Да и Йенни вдруг устала. И только в вестибюле гостиницы, после того, как Йенни было разрешено поцеловать меня на прощанье, Зайцингер, показав часть своих золотых зубов, хрипло проговорил:
— Вы одаренный юноша. Много фамилий знаете. Надо вас поощрить — может, сейчас, может, позже. Пожалуй, я назову вам еще одну фамилию: Брауксель — произносится через «икс». Или Браухсель — тогда через «икс» пишется. Или даже Брайксель — как Вайксель, то бишь Висла по-немецки. Советую хорошенько запомнить эту фамилию и все три варианта ее написания.
А потом оба они, элегантно и как-то неестественно медленно, поднимались по лестнице. Йенни оборачивалась, оборачивалась, оборачивалась — даже когда меня, с тремя вариантами фамилии в голове, в вестибюле уже не было.
Дорогая Тулла!
Итак, он есть. Я нашел его, когда искал тебя. Это он посоветовал мне, как писать, если я намерен писать тебе. Это он переводит мне деньги, чтобы я мог писать тебе, ни о чем другом не беспокоясь. Он владеет то ли рудником, то ли шахтой между Хильдесхаймом и Зарштедтом. Или только управляет то ли рудником, то ли шахтой. Или имеет большой пакет акций. А может, все это блеф, туфта, пятая колонна, даже если у него и впрямь такая фамилия: Брауксель, Браухсель, Брайксель. На шахте у Браукселя добывается не руда, не соль и не уголь. Там кое-что другое добывается. Я знаю, что, но называть не имею права. Только тебя, Тулла, я волен и должен называть по имени. И срок, четвертое февраля, обязан соблюсти. И успеть нагромоздить гору костей. И начать, наконец, заключительную сказочку, потому что Брауксель торопит телеграммой: «СКЛОНЕНИЕ ВОДОЛЕЯ НАДВИГАЕТСЯ ТЧК ГОРУ КОСТЕЙ НАВАЛИТЬ ТЧК ВЫКИДЫШ ВВЕСТИ ТЧК ПСА ВЫПУСТИТЬ ЗПТ ЗАКОНЧИТЬ ВОВРЕМЯ ТЧК»
Была когда-то девочка, ее звали Тулла.
И у нее был чистый детский лобик. Но нет на свете ничего чистого. И снег не чист. Ни одна девственница не чиста. И даже свинья чиста небезупречно. И дьявола в чистом виде не бывает. И любой звук не возникает в чистоте. Каждой скрипке это известно. И каждая звезда, подрагивая, тихо об этом звенит. И каждый нож, когда чистит, знает: даже картошка не чиста, у нее есть глазки, а глазки надо выкалывать.
Но соль?! Соль чиста! Нет, и соль тоже не чиста. Это только на упаковках пишут: «Соль поваренная чистая». Но ее же где-то хранят. А что хранят рядом? Но ее же промывают. Промыть и отстирать можно добела, но не дочиста. И черного кобеля — ни добела, ни дочиста. Но химические элементы — уж они-то? Стерильны, но не чисты. Но идея, идея-то сохраняет чистоту? Не чиста даже в началах. Иисус Христос не чист. Маркс-Энгельс не чист. Пепел и прах — не чисты. И облатка причастия — не чиста. Чистота помыслов — не чиста. И искусство расцветает не в чистоте. И на солнце пятна. Все гении какают. На гребне боли вскипает смех. В недрах рева таится молчание. В углах прислонились циркули. — Но круг, вот круг чист!
Ни один круг не смыкается чисто. А если чист круг, то тогда чисты и снег, и девственница, и свиньи, Иисус Христос и Маркс-Энгельс, легкий пепел и тяжкие боли, смех и хохот, рев и плач, и молчание отдельно, помыслы чисты как снег, и в облатке ни кровинки, гении без выделений, и углы все безупречны, и наивно и беспечно козья ножка чертит круг; чисто все, добро и подлость, человечность и марксизмы, свинство, черти, христианство, соль и хохот, грех и святость, жвачка, слюни и отрыжка, круглота и угловатость, и, конечно, чистота. И чисты, конечно, кости, белоснежные их горы, что росли совсем недавно, в стройности пирамидальной, пока не было ворон. Но нечистые вороны черной тучей налетели, мерзким криком прокричали: не чисты ни круг, ни кости, не чисты земля и небо, не чисты ни ад, ни рай! И костей крутые горы, чистоты идей и расы возведенные во имя, мы теперь в кипящих чанах переварим все на мыло, чистое и по дешевке; но и мылом не отмыться до искомой чистоты.
Была когда-то девочка, ее звали Тулла,
и на ее детском лобике расцветали и увядали прыщи, большие и поменьше. Ее кузен Харри долго боролся с собственными прыщами. Тулла же не признавала ни примочек, ни снадобий. Ни миндальные отруби, ни вонючая сера, ни огуречное молочко, ни цинковая мазь не касались ее лба. Спокойно и уверенно, поскольку лоб был по-детски округлый, носила она перед собой свои прыщи, затаскивая унтеров и прапорщиков в ночные скверы и парки; ибо она хотела ребенка, а ее все никак не могли обрюхатить.
После того, как Тулла безрезультатно испробовала, можно сказать, все рода войск и все младшие воинские звания, Харри дал ей совет попытать счастья с гимназистами — они тоже нынче в форме. Сам он с недавних пор тоже щеголял в чем-то синем и военно-воздушном, а жил не на Эльзенской улице, а — и это в разгар купального сезона — в бараке прибрежной батареи Брезен-Глетткау, которая в качестве стратегической была укомплектована двенадцатью орудиями восемьдесят восьмого калибра и достаточно большим количеством четырехствольных зенитных установок.
С самого начала Харри был определен шестым номером к восемьдесят восьмому орудию, то есть на крестообразный лафет. Шестому номеру надлежало посредством двух рукояток обслуживать механизм прицела. Харри занимался этим до самого конца своей военно-учебной практики. Место было хорошее, потому что шестой номер единственный из орудийного расчета восседал на специальном сиденьице, закрепленном на лафете, не слезая, то есть даром катался, когда орудие надо было быстро развернуть, и не сбивал себе в кровь лодыжки о ребристую лафетную раму. Во время учебных стрельб Харри сидел спиной к жерлу ствола и, торопясь накрыть двумя индикаторными стрелками две стрелки наводки, все размышлял и выбирал между Туллой и Йенни. Получалось у него довольно ловко: индикаторная стрелка гналась за стрелкой наводки, Тулла гналась за Йенни, так что в итоге артиллерист Харри Либенау обслуживал механизм прицела к полному удовольствию обучающего их фельдфебеля.
Был когда-то фельдфебель,
он умел громко скрежетать зубами. Наряду с другими отличиями он носил и серебряный значок за ранение. Вот почему, расхаживая между бараками береговой батареи Брезен-Глетткау, он слегка припадал на одну ногу, и легкая эта хромота запоминалась. Его считали строгим, но справедливым, им восхищались и поверхностно ему подражали. Когда он уходил в дюны стрелять зайцев, он брал с собой сопровождающим курсанта, которого остальные называли Штёртебекером. Стреляя береговых зайцев, фельдфебель либо вообще ни слова не говорил, либо цитировал, с затяжными, утомительными паузами, всегда одного и того же философа. А Штёртебекер эти цитаты за ним повторял и постепенно изобрел своеобразный философско-гимназический жаргон, на котором вскоре с разной степенью ловкости и выразительности начали изъясняться многие.
Большинство своих рассуждений Штёртебекер предварял присловьем:
— Я как досократический мыслитель…[291]
Кто наблюдал его на посту, видел, как он чертит палкой на песке какие-то каракули. Пришествие несказуемой сущности во всей ее неброшенности, то бишь, по простому говоря, бытие, он набрасывал на песке неторопливыми, расчетливыми штрихами. Но стоило Харри произнести слово «бытие», как он тут же раздраженно его поправлял:
— Опять ты имеешь в виду бывание.
Даже в повседневном обиходе юные философствующие умы находили повод для досократической словесной эквилибристики, прикладывая потом и кровью добытые познания фельдфебеля к любой чепухе и житейской мелочи. Недоваренную картошку в мундирах — кухня плохо снабжалась и еще хуже готовила — именовалась здесь «бытийно-забытой бульбой». Если кто-то кому-то напоминал о чем-то несколько дней тому назад одолженном, обещанном или, тем паче, провозглашенном, тут же следовал незамедлительный и универсальный ответ:
— Кто еще в наши дни думает о мыслимом! — или, соответственно, об одолженном, обещанном, провозглашенном.
Будничные события, неизбежные и привычные в жизни всякой батареи ПВО, как-то штрафные учения с неполной боевой выкладкой, осточертевшие учебные тревоги и вонюче-масляная чистка оружия сопровождались неизменной, у фельдфебеля подслушанной присказкой:
— Ничего не поделаешь: сущность бытия заложена в его экзистенции.
Причем именно словечко «экзистенция» годилось почему-то на все случаи жизни:
— Экзистани-ка мне сигаретку.
— Я в кино, кто хочет соэкзистировать?
— Если ты сейчас же не заткнешься, схлопочешь по экзистенции.
Освобожденные по болезни обретали право на тюфячную экзистенцию. Побывка дома на выходные называлась экзистенциальной паузой. А если кому-то удавалось подцепить девчонку — как Штёртебекеру мою кузину Туллу — он после вечерней зори хвастался, сколько раз проник в девушку до самой ее экзистенции.
И именно ее, экзистенцию, старался запечатлеть Штёртебекер палкой на песке; и всякий раз она выглядела иначе.
Был когда-то курсант ВВС
по имени Штёртебекер, который вроде бы сделал Тулле ребенка или уж, во всяком случае, старался. По воскресеньям, когда батарея Брезен-Глетткау была открыта для посещения, сюда заявлялась на шпильках Тулла и начинала расхаживать между восемьдесят восьмыми орудиями, раздувая ноздри и выставив прыщавый лоб. Или цокала на своих шпильках-гвоздиках под руку с фельдфебелем и курсантом Штёртебекером по направлению к дюнам, чтобы кто-то из них двоих сделал ей ребенка; но фельдфебель и курсант предпочитали экзистенциальные доказательства иного рода: они стреляли в дюнах зайцев.
Был когда-то кузен,
его звали Харри Либенау, и годился он только на то, чтобы подглядывать и разбалтывать. И вот как-то раз он лежал плашмя с полуприкрытыми глазами в прибрежном песке среди вылизанной ветром прибрежной осоки и вжался в песок еще сильней, когда на гребне дюны возникли три фигуры. Громила-фельдфебель, вырисовываясь в закатном солнце, тяжело и заботливо обнимал Туллу за плечи. Тулла в правой руке несла свои туфли-шпильки, а в левой держала за задние лапы истекающего кровью зайца. Штёртебекер, справа от Туллы, но не прикасаясь к ней, стволом вниз нес карабин. Три фигуры не замечали Харри. Целую вечность простояли они, как вырезанные, потому что солнце все время было у них за спиной, на гребне дюны. Тулла едва доставала фельдфебелю до груди. Его рука покоилась на ее плечах как несущая балка. Штёртебекер чуть в сторонке от них и все же с ними, неподвижный и внемлющий бытию. Четкая и красивая картина, вдавившая Харри еще глубже в песок и болезненно врезавшаяся в память, потому что трем фигурам в лучах низкого солнца было до него куда меньше дела, чем до окровавленного зайца.
Была когда-то такая картина,
особенно болезненная в лучах закатного солнца. Но курсанту ВВС Харри Либенау не суждено было никогда больше ее увидеть, потому что со дня на день предстояло ему собирать манатки. Чьим-то неисповедимым промыслом его, Штёртебекера, тридцать других курсантов и фельдфебеля перевели на другую батарею. Никаких дюн с их мягкими округлостями. Никакого Балтийского моря с его стародевичьей зыбью. Никакой прибрежной осоки, льнущей и музыкальной на ветру. И уже не утыкаются в гаснущее после вечерней поверки небо двенадцать угрюмых восемьдесят восьмых стволов. Никогда больше не притулятся вдали брезенская деревянная церквуха, черно-белые коровы брезенских рыбаков, брезенские рыбачьи сети, развешанные на жердинах для просушки и как фон для фотографий. И никогда больше не сядет для них солнце за фигурками береговых зайцев, что, как маленькие человечки, неподвижно застывали на гребне дюны и, навострив уши, должно быть, молились покидающему их светилу.
На батарее Кайзерхафен таких набожных животных не водилось, только крысы, а крысы почитают лишь неподвижные звезды.
Дорога на батарею начиналась из Троила, портового предместья между Нижним Данцигом и верфями, и час без четверти тянулась по прибрежным пескам в сторону устья Вислы. Позади оставались небрежно разбросанные по пустырю ремонтные мастерские железнодорожного депо, древесные склады за Вояновской верфью; и здесь, на этом отрезке пространства от трамвайной остановки в Троиле до батареи Кайзерхафен, водяные крысы были бесспорными и полновластными хозяевами.
Но смрад, что висел над батареей и даже при сильном западном ветре не отступал ни на шаг, был не от крыс.
В первую же ночь на новой батарее спортивные тапочки Харри, обе-две сразу, были сожраны дочиста. Правилами служебного распорядка категорически воспрещалось хождение по полу босиком. Крысы были повсюду и жирели на глазах, с чего бы это? Их брезгливо именовали исконносущими, но они почему-то на это имя не отзывались. Для защиты от крысиной потравы весь личный состав батареи был экипирован стальными заточками. Убиение шло беспрерывно и беспланово. Проку от этого было чуть. Едва ли не ежедневно фельдфебель, стержень и копье всей батареи, каждое утро рапортовавший своему командиру, капитану Хуфнагелю, сколько обер-ефрейторов, унтер-офицеров, курсантов и украинских добровольцев приступили к несению службы, отдавал приказ по части, согласно которому количество водяных крыс надлежало существенно сократить; но смрад, повисший над батареей, от этого ничуть не убывал, ибо исходил он не от исконносущих.
Был когда-то отдан приказ по части,
которым устанавливалось премирование личного состава за уничтожение грызунов. Ефрейторам и обер-ефрейторам, всё сплошь уже пожилым отцам семейств, за трех убитых крыс выдавалось по сигарете. Украинским добровольцам по предъявлении восемнадцати тушек швыряли пачку махорки. Курсанты за пять крыс получали трубочку леденцов. Но были обер-ефрейторы, всегда готовые обменять три сигареты на две трубочки леденцов. Махорку мы не курили. Согласно приказу по части, весь личный состав батареи был разбит на боевые, вернее, охотничьи звенья. Харри попал в звено, которому в качестве боевого участка была выделена душевая — глухое помещение без окон и лишь с одной входной дверью. Сперва, гостеприимно эту дверь распахнув, в душевую снесли и разложили по сточному желобку остатки еды. Потом тщательно заткнули многочисленные стоки. После чего, укрывшись в стенах учебного барака и прильнув к окнам, мы дождались сумерек. Вскоре вдоль стен барака по направлению к двери душевой с однотонным посвистыванием потянулись продолговатые тени. Их не манили звуки флейты[292], только зев распахнутой двери. И это при весьма скудном меню: остатки холодной перловки да капустные кочерыжки. Говяжьи кости, вываренные раз десять, да пригоршня прогорклых овсяных хлопьев, — дар расщедрившейся кухни, — разложенные и рассыпанные на пороге, должны были крыс приманить. Они бы пришли и так, без всяких хлопьев.
Когда душевая уже сулила щедрую добычу, двери близлежащего барака изрыгнули пятерых молодцов в высоких рыбацких сапогах, вооруженных дубинками, на концах которых поблескивали вбитые в них альпинистские крючья. Душевая поглотила отважную пятерку. Последний закрыл за собой дверь. Снаружи остались: крысы, запоздалые и бытийнозабвенные; смрад, над батареей утвердившийся; луна, если она не отрицала бытие, радио, горланящее во всю глотку из связующего с миром унтер-офицерского барака; онтические голоса кораблей[293]. Ибо внизу уже нарастала своя музыка. Уже не однотонная, а скачками через октавы: перлово-пронзительная, кочерыжно-жесткая, костяно-железная, вздернуто-тревожная, нехарактерная. Тренированно-дружно, словно одним щелчком, вспыхнуло освещение — пять фонариков в пяти шуйцах разрезали кромешную тьму. Два вздоха полной тишины. И вот оно уже кишит свинцово-серым месивом в лучах света, ползет на брюхе по жестяным желобам, плюхается всею тушкой на плитку пола, теснится у стоков, застит дорогу друг другу, карабкается по бетонному цоколю к коричневому дереву стен и срывается вниз. Цепляется, кидается наутек. Не может оторваться от перловки и кочерыжек. Спасает говяжьи кости, а не свою шкурку — гладкую, лоснистую, водонепроницаемую, пока что целую, дорогую, бренную, столетиями чаемую шорниками, на которую теперь без разбора и суда обрушиваются стальные шипы крючьев. Нет, не зелена крысья кровь, а тоже. С сапога сбросим, и все. Нанизываем одну на другую, одним крюком. Быть со, избыть за. И на бегу, и в прыжке — музыка! И эта песенка еще с допотопных времен. Крысиные истории — где сказка, где быль? Жизнесвязь, выстоять, прорваться: выжранные дочиста корабли с зерном. Опустошенные амбары. Ничто во плоти. Фараоновы тощие годы[294]. И когда Париж был в осаде. И когда крыса сидела в дарохранительнице. И когда мышление рассталось с метафизикой[295]. И когда голод и нужда свирепствовали. И когда крысы покинули корабль. И когда они вернулись. И даже малых детей и стариков, прикованных к стульям. И когда у молодой матери младенца прямо от груди. И когда на кошек нападали, оставляя от самых свирепых крысодавов одни голые зубы, что и сегодня жемчужно-матовым рядком поблескивают в музее. И когда чуму разносили во все стороны и впивались свиньям в их розовые окорока. И пожирали Библию, тут же плодясь и размножаясь по ее заветам. И когда они схарчили часы, опровергнув ход времени. И когда их в Гамельне канонизировали. И когда специально для них изобрели яд, который пришелся им очень даже по вкусу. И когда сплели из своих крысиных хвостов канат, чтобы промерить глубину колодца. И когда помудрели настолько, что вошли в стихи и стали выступать на сцене. Когда канализировали трансцендентность и устремились к свету. И когда радугу подточили. Когда знаменовали собой начало начал и прогрызли первые дырки в преисполню. И взошли на небеса, чтобы подсластить орган святой Цецилии своим хором. Когда они посвистывали в эфире и переселились на звезды, прежде бескрысные. Когда крысы вели свое беззаботное существование, экзистенцию. И когда вдруг отдан был приказ по части, суливший за крыс, но за приконченных крыс, вознаграждение — какой-то дешевый табак, скрученные сигареты и кисло-сладкие малиновые леденцы. О, крысиные сказки и крысиные были, как полнятся ими сейчас все углы. Не по ним, так по бетону. Копошатся крысиные башни. Жгутики хвостов. Сморщенные мордочки. Назад к двери! Атака отчаяния. Рука руку моет, палка палке помогает. Падает фонарик, шмякается в мягкое, катится по полу или его катят; но все еще ярко поблескивают глазки, придавленные тушками собратьев, чтобы, когда их разгребут дубинкой, метнуться вверх, показывая, на что способна груда крыс, которых считали безоговорочно приконченными. Ибо каждая дубинка ведет свой счет: семнадцать, восемнадцать, тридцать одна; а вот тридцать вторая уходит, метнулась, скрылась, мелькнула снова, два крюка поздно, один рано, вот она, прыгает, зубы оскалены, прямо на Харри, Харри отшатывается, резиновые сапоги скользят по потным от страха плиткам пола. И он падает навзничь на что-то мягкое и орет благим матом, пока другие дубинки сотрясаются от хохота его товарищей. На осклизлых шкурках, на груде добычи, на ее подрагивающих пластах, на прожорливых поколениях нескончаемой и не желающей кончаться крысиной истории, на оприходованной перловке, на умятых кочерыжках лежит Харри и орет благим матом:
— Она меня укусила! Укусила! Укусила!
Но это не крыса. Это просто испуг, когда он упал, и не ушибся, а почувствовал под спиной что-то мягкое.
Тут наконец в стенах душевой воцарилась тишина. Еще имеющий уши да слышит связующее с миром радио из унтер-офицерского барака. Несколько дубинок по инерции прицеливаются и добивают последние вялые конвульсии. Наверно, дубинки не могли так сразу и внезапно, в наступившей тишине, прекратить свою экзистенцию. В них еще жил какой-то остаток, он рвался наружу и жаждал осуществиться до конца. Но даже когда в наступившей тишине понемногу угомонились и дубинки, это еще тоже был не конец, ибо возникшую экзистенциальную паузу заполнил Харри Либенау: поскольку он так мягко упал, ему пришлось долго блевать в опустошенный тазик из-под перловки. Опорожнить желудок прямо на крыс ему не позволили. Крыс надо было подсчитать, уложить рядком и привязать хвостами к проволоке. На утренней поверке их звено предъявило четыре таких проволоки, густо унизанных тушками, которые скрупулезный каптенармус добросовестно пересчитал: сто пятьдесят восемь крыс принесли им — с великодушным округлением до ста шестидесяти — тридцать две трубочки леденцов, половину из которых Харри и его боевые товарищи тут же выменяли на сигареты.
Сложенные рядком крысы — в то же утро они были захоронены за солдатской уборной — пахли землей и какой-то кисловатой сыростью, как только что отрытый бурт картошки; но смрад, что стоял над батареей, был совсем другой густоты, ни одна крыса такого не выдыхала.
Была когда-то батарея,
она была расположена неподалеку от Кайзерхафена и поэтому так и называлась: батарея Кайзерхафен. Батарее этой совместно со стратегической батареей Брезен-Глетткау и батареями Хойбуде, Пелонкен, Циганкенбург, Нарвик-Лагер и Старая Шотландия надлежало охранять воздушное пространство над городом Данцигом и данцигским портом.
За все время, что Харри прослужил на батарее Кайзерхафен, тревогу объявляли только два раза; зато крыс уничтожали каждый день. Когда над Оливским лесом был подбит четырехмоторный неприятельский бомбардировщик, эту удачу разделили между собой батареи Пелонкен и Старая Шотландия; батарея Кайзерхафен осталась ни с чем, но зато смогла отрапортовать наверх о нарастающих успехах в деле очистки территории батареи от водяных крыс.
О, как эта сопричастность бытийным основам приближала к прозрению наброска вселенной! А боевое звено Харри считалось одним из лучших. Но ни одно звено, включая УДВ — украинских добровольцев, что работали за уборной, не могло тягаться со Штёртебекером, который работал единолично, ни к какому звену не примыкая.
Он добывал крыс среди бела дня при неизменном скоплении зрителей. Обычно он укладывался на брюхо возле кухонного барака у открытого канализационного люка. Длинная рука его обосновывалась над самым стоком, который и обеспечивал ему его головокружительную добычу из канализационных артерий между Троилом и полями орошения.
О, эти неисчислимые зачем и почему? Зачем так и не иначе? Почему водяные крысы, а не иные сходно сущие? Почему вообще что-то, а не Ничто? Вопросы эти уже содержали в себе первый и последний Пра-ответ на любые вопрошания:
— Существо крысы — это трансцендентально возникающее троекратное саморастворение в мировом чертеже или в канализации.
Конечно, Штёртебекер был достоин восхищения, хотя его правую, выжидательно раскрытую в канализационном колодце ладонь и защищала тяжелая кожаная перчатка, какие надевают при работе сварщики. По правде сказать, все только и ждали, когда же крысы, штук пять или шесть, накинутся разом, растерзают перчатку и вопьются ему в голую руку. Но Штёртебекер лежал спокойно, с полузакрытыми глазами, мусолил свой малиновый леденец — он был некурящий — и через каждые две минуты, стремительно выбросив вверх руку в кожаной перчатке, заученным ударом шмякал крысиную голову о ребристый край люка. В промежутках между крысиными смертями он своим слюняво-малиновым языком на подслушанном у фельдфебеля наречии то и дело нашептывал крысиные откровения и крысиные онтологические истины, которые — так, по крайней мере, все думали — и заманивали добычу прямо в его хваткую перчатку, обеспечивая ему столь непринужденное изъятие крыс из колодца. Речь его, пока сам он внизу выуживал, а наверху штабелировал, текла непрестанно:
— Крыса сама себя изымает, отторгаясь от своей крысиности. И тогда, сбитая с толку и чуя это, крыса путает свою крысиность с неисповедимостью. Ибо крысиность ее уже пересбылась в неисповедимость и там, блуждая вокруг крысы, окончательно утверждает ее заблуждение. Которое и есть поле осуществления всей истории…
Иногда он еще не изъятых крыс ласково называл: последыши. Те же, что лежали у люка штабелями, именовались у него довременниками или сущими. Завершив работу и оглядывая аккуратно уложенную добычу рук своих, он говорил почти с нежностью и мягкой укоризной в голосе:
— Крыса еще может бытовать без крысиности, но крысиности без крысы не бывает никогда.
Он выдавал до двадцати пяти крыс в час, а мог бы, если б хотел, изымать и еще больше. Он нанизывал добычу на точно такую же проволоку, что и мы. И ежеутренний подсчет на поверке этой плотной, за хвосты увязанной снизки называл доказательством своей сущепричастности. Этим промыслом он зарабатывал себе прорву малиновых леденцов. Иногда дарил трубочку Тулле, кузине Харри. Частенько, словно пытаясь умилостивить крысиность, он с видом жреца бросал в канализационный люк возле кухни три леденцовых кружочка. Гимназисты затевали безнадежный терминологический спор. Мы все никак не могли решить, считать ли канализацию мировым чертежом или неисповедимостью…
Но смрад, что обосновался над батареей, не был присущ ни мировому чертежу, ни неисповедимости, как сам Штёртебекер именовал свой богатый философскими аллюзиями и крысами колодец.
Была когда-то батарея,
а над ней, от сумерек до сумерек, неустанно и деловито сновало воронье. Нет, не чайки, вороны. Чайки парили в небе над самим Кайзерхафеном, над древесными складами, но над батареей Кайзерхафен — никогда. Если и случалось бедолаге-чайке по глупости залететь в эти места, ее сей же миг накрывало свирепое облако — и дело с концом. Вороны чаек на дух не переносят.
Но смрад, лежавший над батареей, шел не от ворон и не от чаек, которых тем паче там и не было. Покуда ефрейторы, обер-ефрейторы, УДВ и курсанты, предвкушая премии, изничтожали крыс, средний офицерский состав от унтер-офицеров до капитана Хуфнагеля предавался иному развлечению: они стреляли — правда, не ради премий, а исключительно из спортивного интереса — отдельных ворон из несметного вороньего полчища, кружившего над батареей. Впрочем, вороны все равно не улетали, и число их не убывало.
Но смрад, что лежал над батареей, что стоял и даже не переминался с ноги на ногу между бараками и орудийными позициями, между щелевым укрытием и прибором управления огнем, смрад, про который все, в том числе и Харри, знали, что его источают не крысы и не вороны, что исходит он не из люка и, следовательно, не из неисповедимости, — этот смрад выдыхала, независимо от того, дул ли ветер из Путцинга или из Диршау, с косы или из открытого моря, белесая гора, что возвышалась за колючей проволокой к югу от батареи перед кирпично-красным зданием фабрики, чья приземистая и не слишком заметная труба изрыгала черный, тяжелыми клубами сворачивающийся дым, осаждавшийся жирной копотью где-то в Троиле или Нижнем Данциге. Между горой и фабрикой заканчивались железнодорожные рельсы, что тянулись сюда веткой от прибрежной одноколейки. Гора, чистенькая, аккуратная, насыпная, высотою слегка превосходила ржавый качающийся рештак, какие применяются на угольных складах и калийных рудниках для отсыпки отходов и вскрышной породы. У подножья горы на переводных рельсах неподвижно стояли саморазгружающиеся вагонетки. Когда ее освещало солнце, гора матово поблескивала. Когда низкое небо насупливалось и сочило мелкий дождь, ее четкий, резной контур ярко выделялся на свинцовом фоне. Если бы не вороны, на ней обитавшие, гора вообще казалась бы чистой. Но в самом начале этой заключительной сказочки уже было сказано: нет на свете ничего чистого. Вот и гора неподалеку от батареи Кайзерхафен при всей своей белизне была не чиста, а была все же горой костей, которые хоть и прошли надлежащую технологическую обработку, но все еще были покрыты некими остатками; и вороны, беспокойное черное месиво, не могли от этих остатков оторваться и жить где-то еще. Вот откуда и был тот смрад, что тяжелым, несдвигаемым колоколом накрыл батарею, осаждаясь во рту каждого, в том числе и во рту Харри, приторным привкусом, который даже после неумеренного потребления кисловатых малиновых леденцов ничуть не терял своей липкой тяжести.
Никто об этой костяной горе не говорил. Но все ее видели, все знали ее запах и вкус. Выходя из бараков, чьи двери открывались на юг, невозможно было не заметить ее белесый конус. А ежели кто, как Харри, шестым номером орудийного расчета сидел на лафете, обслуживая механизм прицела, и по командам прибора управления зенитным огнем вертелся на лафете вместе с пушкой, перед его глазами снова и снова, будто гора костей и прибор управления никак не могут досыта друг на дружку наглядеться, выплывала из кружения одна и та же картина с видом белесой горы, коптящей небо фабрики, замершего рештака, недвижных вагонеток и очень даже подвижного вороньего месива. Никто об этой картине не говорил. А если она кому снилась в беспокойных и красочных снах, то утром он говорил: чудное во сне видел — то ли по лестнице не мог взобраться, то ли что-то про школу. Впрочем, иные из подслушанных философских понятий, которые прежде употреблялись на батарее всуе и бездумно, начали теперь обретать некое туманное смысловое наполнение, вероятно, от этой безымянной горы исходившее. Харри припоминает кое-какие слова: «неданность» — «небытийность» — «нетие»[296]; ибо белым днем не видно было рабочих, что везли бы вагонетки и помаленьку уменьшали размеры «неданности», хотя фабрика продолжала дымить. Не подъезжали по рельсам товарные составы с прибрежной одноколейки. И сонный рештак среди бела дня никогда не подбрасывал «нетию» новой пищи. Зато когда случились ночные учения и в течение часа восемьдесят восьмым стволам надлежало держать под прицелом самолет-мишень, «пойманный» четырьмя прожекторами — вот тогда все, и Харри в том числе, впервые услышали некие рабочие шумы. Фабрика, правда, оставалась затемнена, но на железнодорожных путях перемигивались и покачивались красные и белые сигнальные огни. Позвякивали буферами товарные вагоны. Слышались равномерный шорох и дребезжание — заработал рештак. Ржавый скрежет и скрип опрокидывающихся вагонеток. Голоса, команды, смех — на небытийном пространстве на протяжении часа велись работы, покуда учебный юнкерс в который раз заходил с моря на город, то выскакивая из ловушки прожекторов, то попадая в нее снова и превращаясь в платоническую цель, а шестой номер обслуживал механизм наводки, опять и опять пытаясь накрыть двумя индикаторными стрелками две стрелки наводки и тем самым подвергая ускользающее сущее беспрерывному нетию.
На следующий день всем, кто избегал горы словами и помыслами, в том числе и Харри, показалось, что неданность немного подросла. Вороны принимали новых гостей. Смрад остался прежним. Но никто не спрашивал о его сущности, хотя сущность эта у всех, в том числе и у Харри, оседала привкусом во рту и буквально навязла в зубах.
Была когда-то гора костей,
которая стала так называться с тех пор, как Тулла, кузина Харри, изрыгнула в направлении горы это слово:
— Это же гора костей, — сказала она и для ясности помогла слову большим пальцем. Многие, в том числе и Харри, пытались возражать, затрудняясь, впрочем, точно назвать то, что огромной грудой громоздилось к югу от батареи.
— Спорим, что это кости? И не просто кости, а человеческие, на спор? Это же любой дурак знает.
Тулла предлагала пари скорее Штёртебекеру, нежели своему кузену. Они все трое да и многие еще поблизости посасывали леденцы.
Ответ Штёртебекера хоть и звучал свежо, но готов был уже несколько недель как:
— Следует рассматривать это нагромождение в смысле открытости бытия со всем неизбежным претерпеванием юдолей и стойким ожиданием смерти, то есть как полное выражение сущности экзистенции.
Тулла, однако, хотела ответа поточней:
— А я тебе говорю, что они прямо из Штуттхофа, спорим?
Штёртебекер не мог позволить вовлечь себя в презренную географическую конкретику. Он отмахнулся и раздраженно заметил:
— Что вы все лезете со своими устаревшими естественно-научными категориями. Хотя, конечно, можно сказать и так: здесь явлено бытие в его несокрытости.
Но поскольку Тулла продолжала упрямо твердить про Штуттхоф, называя несокрытость поименно, Штёртебекер уклонился от предлагаемого пари, отделавшись широким и глубокомысленным жестом, равно благословляющим и гору костей, и батарею.
— Это поле осуществления всей истории!
Как и прежде, в неслужебное время и даже в час чистки и шитья, охота на крыс продолжалась. Средний офицерский состав стрелял ворон. Смрад стоял над батареей и не желал сменяться. И тогда Тулла сказала уже не Штёртебекеру, который в сторонке чертил на песке свои фигуры, а фельдфебелю, который уже дважды успел разрядить свой карабин:
— Спорим, что там настоящие человеческие кости, и притом тьма-тьмущая?
Было воскресенье, день посещений. Но лишь немногие гости, в большинстве своем родители, стояли в непривычном штатском подле своих слишком быстро повзрослевших чад. Родители Харри не приехали. Тянулся ноябрь, и между низкими тучами и землей с ее низкими бараками висел дождь. Харри вместе с другими слушал разговор Туллы с фельдфебелем, который в третий раз заряжал свой карабин.
— Спорим, что… — сказала Тулла и протянула свою белую ладошку, предлагая ударить по рукам. Желающих не было. Ладошка повисла в пустоте. Палка Штёртебекера набрасывала на песке мировой чертеж. На Туллином лбу роились прыщи. Пальцы Харри в кармане брюк перебирали кусочки костного клея. И тогда фельдфебель сказал:
— Спорим, что нет. — И, не взглянув на Туллу, ударил по рукам.
Тотчас же, словно план действий у нее давно готов, Тулла повернулась и пошла к широкой полосе чертополоха между двумя орудийными позициями, избрав этот путь как кратчайший. Несмотря на сырость и холод, она была только в свитере и плиссированной юбке. Так и пошла на голых, ходульных своих ногах, заложив руки за спину и потряхивая патлами, уже не крашеными и без всяких следов шестимесячной завивки. Уменьшаясь в размерах, но не теряя отчетливости очертаний в пасмурном воздухе.
Сперва все, в том числе и Харри, думали, что она, раз уж она так прямехонько, будто по линеечке, чешет, и колючую проволоку насквозь прошьет, но перед самыми шипами она упала в траву, приподняла нижнюю проволоку колючей изгороди, что отделяла фабрику от батареи, играючи перекатилась на ту сторону, снова встала и, шагая по колено в коричневом, высохшем бурьяне, снова, все так же прямо, но уже как бы через силу, двинулась к той горе, которую обжили вороны.
Все, в том числе и Харри, смотрели ей вслед и даже про малиновые леденцы во рту позабыли. Палка Штёртебекера замерла в песке. И только скрежет слышался явственно, словно у кого-то мелкие камешки на зубах. И лишь когда крохотная Тулла перед горой остановилась, когда вороны, лениво и далеко не все, поднялись в воздух, когда Тулла наклонилась, переломившись пополам, а потом повернулась и пошла обратно — гораздо быстрей, чем все, в том числе и Харри, этого со страхом ждали, — лишь тогда скрежет зубовный во рту у фельдфебеля замер, и наступила тишина, такая, что хоть ложкой хлебай.
Она шла не без. То, что она держала в руках, благополучно перекатилось вместе с ней под нижней колючей проволокой забора на территорию батареи. В просвете между двумя восемьдесят восьмыми стволами, замершими согласно последней команде прибора управления огнем под тем же углом, что и два соседних, глядя на норд-норд-вест, Тулла неумолимо увеличивалась. Путь ее, туда и обратно, занял примерно столько же времени, сколько занимает малая школьная перемена. За эти пять минут она успела съежиться до игрушечных размеров и вырасти обратно до величины почти взрослой. Пока что на ее лбу еще не было видно прыщей, но то, что она несла перед собой, уже обретало смысл и значение. Штёртебекер принялся за новый набросок мирового чертежа. Снова заскрежетал на зубах у фельдфебеля гравий, но уже покрупнее. Тишина ради пущей отчетливости решила оттенить себя звуками.
Когда Тулла подошла и на глазах у всех встала со своим подарочком рядом с кузеном, она, даже без особого выражения, спросила:
— Ну, что я говорила? Кто выиграл?
В ответ широкая ладонь фельдфебеля со звоном накрыла всю левую половину ее лица от виска и уха до подбородка. Ухо не отвалилось. Голова тоже, и даже не уменьшилась вроде. Но череп, что она притащила, она, как стояла, так и выронила.
Желтыми, окоченевшими руками Тулла терла ушибленную щеку, скулу, ухо, но не убегала. И даже прыщей у нее на лбу не убавилось. Череп, что она держала в руках, был человеческий, и даже не раскололся, когда она его выронила, а, подпрыгнув два раза, укатился в бурьян. Фельдфебель, похоже, видел в черепе не просто череп, а нечто большее. Кое-кто глядел в пустоту поверх барачных крыш. А Харри не мог отвести глаза. У черепа недоставало куска нижней челюсти. Листер и малыш Дрешер начали отпускать шуточки. Многие смеялись — благодарно и впопад. Штёртебекер пытался запечатлеть на песке явленную всем несокрытость. Его узко посаженные глаза прозревали сущее, пытавшееся удержать самое себя в своей судьбинности, но тут внезапно и непредрекаемо разразилась бренность; ибо фельдфебель с заряженным, хоть и на предохранителе, карабином заорал:
— Молчать, пузыри свинячьи! А ну, марш все по баракам! Час чистки и шитья!
Все тут же разошлись, осторожно огибая фельдфебеля. Шуточки примерзли к зубам. Уже между бараками Харри повернул голову на плечах, которые поворачиваться не хотели: фельдфебель стоял, набычившийся и квадратный, с карабином наперевес, неподвижный и торжественный, как на сцене. А за ним, безмолвно сохраняя геометрическую правильность, высилась неданность, небытийность, нетие, поле осуществления всей истории, различие между бытием и сущим, словом — онтологическая разница.
Однако УДВ — украинские добровольцы — как ни в чем не бывало, продолжали болтать, чистя за кухней картошку. Радио в унтер-офицерском бараке передавало концерт по заявкам. Прощались вполголоса воскресные гости. Тулла, почти невесомая, стояла рядом с кузеном, все еще потирая ушибленную половину лица. Ее рот, смятый массирующей ладонью, промямлил куда-то мимо Харри:
— И как раз, когда я забеременела.
Разумеется, Харри не мог не спросить:
— От кого?
Но ей это было неважно.
— Спорим, что да?
Спорить Харри не хотел, Тулла всегда выигрывала. Проходя мимо душевой, он ткнул большим пальцем на приоткрытую дверь:
— Тогда хоть руки вымой, с мылом.
Тулла подчинилась. Но нет на свете ничего чистого.
Был когда-то город,
в котором, наряду с предместьями Ора, Шидлиц, Олива, Эмаус, Прауст, Санкт-Альбрехт, Шелльмюль и портовым предместьем Новая Гавань имелось и предместье Лангфур. Лангфур был столь велик и столь мал, чтобы все, что происходит и может произойти в нашем мире, происходило или могло бы произойти и в Лангфуре тоже.
В этом предместье с его палисадниками, учебными плацами и полями орошения, с пологими склонами кладбищ, судоверфями, спортплощадками и рядами казарм, в Лангфуре, где насчитывалось семьдесят две тысячи официально зарегистрированных жителей, где имелось три церкви и одна часовня, две гимназии, один лицей, средняя школа и ремесленно-хозяйственное училище, где всегда недоставало начальных школ, но была своя пивоварня с Акционерным прудом и ледником, в Лангфуре, чей облик определяли шоколадная фабрика «Балтика», данцигский городской аэродром, вокзал и знаменитая Высшая техническая школа, два разновеликих кинотеатра, трамвайное депо, всегда переполненный дворец спорта и сожженная синагога[297]; в известном предместье Лангфур, где в ведении местных властей находились данцигский городской благотворительный сиротский приют и живописно расположенная в районе Святого колодца клиника для слепых, в Лангфуре, что с 1854 года признан самостоятельной общиной и раскинулся в уютной и удобной для заселения холмистой луговине за Йешкентальским лесом, где установлен памятник Гутенбергу, в Лангфуре, что связан трамвайным сообщением с курортом Брезен, епископской резиденцией Оливой и городом Данцигом, короче, в Данциг-Лангфуре, прославившемся благодаря макенсеновским гусарам и последнему кронпринцу, в предместье, по всей ширине рассеченном надвое ручейком Штрисбах, жила девчушка, которую звали Тулла Покрифке, которая была беременна и не знала, от кого.
В том же предместье, даже на той же Эльзенской улице, которая, как и улицы Герты и Луизы, соединяла Лаабский проезд с улицей Марии, жил двоюродный брат Туллы; его звали Харри Либенау, он проходил военно-курсантскую практику на батарее ПВО Кайзерхафен и не принадлежал к числу тех, от кого Тулла могла забеременеть. Ибо Харри лишь в мыслях грезил тем, что другие проделывали с Туллой наяву. Это был шестнадцатилетний юноша, которого мучили его вечно стылые ноги и который ото всех держался немного особняком. Книгочей, глотавший исторические романы вперемешку с философскими трудами и ревниво следивший за своими красивыми светло-каштановыми волосами. Любопытный соглядатай, чьи серые, но не холодно-серые глаза фиксировали все и с сожалением рассматривали в зеркале его гладкое, но вовсе не слабое тело, находя его хилым и шершавым. Вечно осмотрительный Харри, не веривший в Бога, а только в Ничто, и тем не менее боявшийся вырезать себе гланды. Меланхолик, любивший сладости — миндальные пирожные, рулет с маком, кокосовые хлопья — и добровольцем, хотя почти не умел плавать, записавшийся во флот. Недотепа, пытавшийся посредством длинных виршей в школьных тетрадках изничтожить своего отца, столярных дел мастера Либенау, и обзывавший в тех же стихах свою мать кухаркой. Чувствительный юноша, которого, стоя и лежа, при одной мысли о его кузине бросало в пот и донимали непрестанные, хотя и вполне пристойные размышления о черной немецкой овчарке. Фетишист, носивший — были причины — в портмоне жемчужно-белый чужой зуб. Фантазер, который врал много, говорил тихо, краснел если, верил во всякую всячину, а длящуюся войну рассматривал как наглядное приложение к школьной программе. Отрок, юноша, гимназист в форме, почитавший Вождя, Ульриха фон Гуттена[298], генерала Роммеля, историка Генриха фон Трайчке[299], короткое время Наполеона и сопящего актера Генриха Георге[300], изредка Савонаролу[301], потом снова Лютера, а с некоторых пор философа Мартина Хайдеггера. С помощью этих кумиров ему удалось самую взаправдашнюю гору человеческих костей засыпать средневековыми аллегориями. В своем дневнике он упоминает эту гору, которая, взывая к небесам, действительно, не понарошку, возвышалась между Троилом и Кайзерхафеном, как жертвенник, возведенный для того, чтобы чистое преосуществилось в ясном и, осиянное ясностью, породило свет.
Наряду с дневником Харри Либенау вел еще то затухающую, то снова бодрую переписку с подружкой, которая под артистическим псевдонимом Ангустри имела ангажемент в Берлине в Немецком балете и выступала как в столице Рейха, так и в гастрольных турне по оккупированным территориям сперва в кордебалете, а потом солисткой.
Когда курсант Харри Либенау получал увольнительную, он шел в кино и брал с собой свою беременную кузину Туллу Покрифке. Когда Тулла еще не была беременна, Харри безуспешно, хотя и неоднократно пытался склонить ее к совместному походу в кино. Ну, а теперь, когда она сама радостно сообщала в Лангфуре всем и каждому: «Кто-то меня обрюхатил!» — и это притом, что по ней еще ничего не было заметно, теперь, конечно, она стала поуступчивей и сказала Харри:
— Коли ты платишь, почему бы и нет.
В обоих кинотеатрах Лангфура мерцающий экран подарил им немало фильмов. Сеанс начинался «Еженедельным обозрением», потом шел какой-нибудь короткометражный фильм, а уж затем художественный. Харри был в мундире; Тулла сидела в необъятно широком пальто из адмиральского сукна, сшитом специально по случаю беременности. Покуда на дождливом экране происходил сбор винограда и увешанные гроздьями, увенчанные лозами, втиснутые в национальные костюмы крестьянки напряженно улыбались в камеру, Харри полез тискать кузину. Но та с тихим укором его отстранила:
— Брось, Харри. Теперь-то что толку. Раньше надо было суетиться.
Отправляясь в кино, Харри всегда брал с собой запас кисленьких леденцов, которые выдавались у них на батарее всякому, кто прикончит определенное количество водяных крыс. Поэтому леденцы эти назывались на батарее крысиными. Когда погас свет и грянула бравурная заставка к «Еженедельному обозрению», Харри аккуратно освободил трубочку леденцов от бумажной и серебряной обертки, ногтем большого пальца отколупнул первый леденец и протянул трубочку Тулле. Тулла, не отрываясь от «Еженедельного обозрения», взяла леденец двумя пальцами, сунула в рот и, уже начав достаточно внятно его посасывать, прошептала, покуда на экране в полном блеске разворачивался «грязевой период»[302], приостановивший осеннее наступление:
— У вас там все, даже леденцы, этой дрянью из-за забора провоняло. На вашем месте я бы мечтала перевестись на другую батарею.
Но у Харри другие мечты, которые в кино счастливо осуществляются: «грязевой период» позади, кончились и рождественские приготовления на Полярном фронте. Подсчитаны все сожженные Т-34. Возвращается после успешного рейда в неприятельские тылы подводная лодка. Поднимаются в воздух истребители, чтобы дать отпор вражеским стервятникам. Но вот новая музыка. Меняется и оператор: мирные осенние пейзажи, послеполуденное солнце пробивается сквозь листву, похрустывает гравий дорожек: штаб-квартира Вождя.
— Нет, ты глянь, глянь! Вон, побежал, остановился, виляет! Между ним и летчиком. Ясное дело он, кто же еще! Наш пес. Ну, я имею в виду, пес нашего Харраса, как пить дать! Принц, он самый, Принц, которого наш Харрас…
Добрую минуту, пока Вождь и Канцлер Рейха в низко надвинутой фуражке, угнездив руки на причинном месте, беседует с офицером ВВС — может, это Рудель[303] был? — и прогуливается под деревьями ставки, вблизи его сапог, не покидая кадра, вертится овчарка, явно черная, трется о сапоги, дает потрепать себя по загривку — ибо один раз Вождь соизволяет убрать руки оттуда, где они находятся, чтобы сразу же после того, как «Еженедельное обозрение» запечатлеет трогательную близость хозяина и собаки, водворить их на прежнее место.
Прежде чем отправиться в Троил последним трамваем, — ему приходилось на главном вокзале пересаживаться в сторону Соломенной слободы, — Харри проводил Туллу домой. Оба говорили поочередно и не слушая друг друга — она о фильме, он о «Еженедельном обозрении». В Туллином фильме крестьянская девушка, отправившись в лес по грибы, претерпевала надругательство и поэтому — чего Тулла никак не могла уразуметь — шла топиться; Харри же пытался увиденное в «Еженедельном обозрении» облечь в свойственные языку Штёртебекера философские категории, дабы закрепить и одновременно утвердить для себя его значимость:
— Бытие собаки, то есть то, что она есть, означает для меня брошенность сущей собаки в ее данность; а именно в том смысле, что пребывание собаки в мире и есть данность собаки; неважно, где проистекает эта данность — на столярном ли дворе, в ставке ли Вождя либо по ту сторону всякого вульгарного времени: ибо будущее бытие собаки наступит не позже, чем ее бывшая данность, а она, в свою очередь, прекратится не раньше, чем укорененность собаки в ее собачьем сейчас.
Невзирая на все это, Тулла у дверей квартиры Покрифке ему сообщила:
— Через неделю я буду уже на втором месяце, а к Рождеству уже точно будет заметно.
Харри еще успел на четверть часика заглянуть домой к родителям. Ему надо было прихватить смену чистого белья и чего-нибудь съестного. У его отца, столярных дел мастера, отекали ноги, потому что ему теперь целыми днями приходилось бегать с одной стройки на другую. Поэтому вечерами на кухне он отмачивал их в воде. Его большие, натруженные ступни двигались в тазу вяло и грустно. По вздохам столярных дел мастера нельзя было понять, вызваны эти вздохи блаженством ножной ванны или воспоминаниями о тяготах дня. Мать Харри держала наготове полотенце. Она стояла на коленях, очки для чтения сняты. Харри сдернул со стола торчащий кверху ножками стул и, усаживаясь между отцом и матерью, спросил:
— Рассказать вам одну замечательную историю?
Поскольку отец как раз вынул из таза ногу, которую мать тут же очень умело подхватила в полотенце, Харри начал:
— Жил-был когда-то пес, его звали Перкун. Этот пес зачал суку Сенту. А Сента ощенилась Харрасом. А племенной кобель Харрас зачал Принца. И знаете, где я этого нашего Принца только что видел? В «Еженедельном обозрении», в штаб-квартире Вождя. Между Вождем и Руделем. Среди бела дня, на прогулке. А ведь и наш Харрас мог бы так же. Так что ты, пап, обязательно сходи посмотри. Сам-то фильм можно и не глядеть, если тебе неинтересно. Я точно еще раз пойду, а то, может, и два.
Столярных дел мастер, держа навесу уже сухую ногу, от которой, однако, все еще шел пар, рассеянно кивнул. И сказал, что он, конечно, очень рад и, если время найдется, обязательно «Еженедельное обозрение» посмотрит. Но он, видно, был слишком измотан, чтобы радоваться громко, хотя и старался, так что и после, когда обе ноги были вытерты досуха, все еще выражал свою радость вслух:
— Так-так, значит, Принц от нашего Харраса. И Вождь, говоришь, потрепал его по загривку прямо в «Еженедельном обозрении»? И Рудель был там же? Ну дела…
Было когда-то «Еженедельное обозрение»,
в нем показывали «грязевой период» в полном его блеске, рождественские приготовления на Полярном фронте, итоги танкового сражения, смеющихся рабочих на оборонном предприятии, диких гусей в Норвегии, детишек из «юнгфолька» за сбором утильсырья, часовых на Атлантическом валу и визит в штаб-квартиру Вождя. Все это и много чего еще можно было посмотреть не только в двух кинотеатрах предместья Лангфур, но и в Салониках. Ибо оттуда пришло письмо, которое написала Йенни Брунис, под артистическим псевдонимом Ангустри выступавшая перед немецкими и итальянскими солдатами, и которое она послала Харри Либенау.
«Представь себе, — писала Йенни, — до чего тесен мир: вчера вечером, был как раз тот редкий случай, когда у нас нет представления, я пошла с господином Зайцингером в кино. И кого я там вижу в „Еженедельном обозрении“? Я уверена, что не могла ошибиться. И господин Зайцингер тоже считает, что черная овчарка, которую не меньше минуты показывают в штаб-квартире, это никто иной, как Принц, Принц от вашего Харраса!
И это притом, что господин Зайцингер вашего Харраса, кроме как на фотографиях, которые я ему показывала, никогда не видел. Но у него очень большая сила воображения, и не только в искусстве. Кроме того, он всегда и обо всем хочет быть осведомлен до мелочей. Наверно, именно поэтому он через здешний отдел пропаганды отправил в Берлин заказ. Он хочет получить копию этого выпуска „Еженедельного обозрения“ как наглядный материал для работы. И наверно ему ее пришлют, потому что у господина Зайцингера всюду есть связи и он практически никогда и ни в чем не знает отказа. Представляешь, когда-нибудь потом, после войны, мы сможем смотреть это „Еженедельное обозрение“ вместе и сколько захотим. А если у нас будут дети, мы и им сможем на экране показать и объяснить, как все раньше было.
Тут тоска. Греции я совсем не вижу, одни дожди все время. Милого Фельзнер-Имбса нам пришлось оставить в Берлине. Занятия ведь продолжаются, даже когда у части из нас турне.
Но вообрази, — хотя ты наверняка уже и сам знаешь — Тулла ждет ребенка. И прямо в открытке, без конверта, мне об этом написала. Я очень за нее рада, хотя иногда думаю, что ей нелегко придется — без мужа, который бы о ней позаботился, и по сути без профессии…»
Йенни не могла закончить письмо, не упомянув о том, как утомляет ее здешний непривычный климат и как сильно она, даже из далеких Салоник, любит своего Харри. В постскриптуме она просила его как можно внимательней и чаще заботиться о своей двоюродной сестре. «Знаешь, в этом положении ей особенно нужна опора, тем более, что в семье у нее обстановка не совсем благополучная. Я пошлю ей отсюда греческого меду. Кроме того, я распустила два почти новых свитера, которые недавно сумела раздобыть в Амстердаме. Светло-голубой и нежно-розовый. Из них я смогу связать не меньше четырех ползунков и еще две кофточки. У нас ведь столько лишнего времени между репетициями и даже на представлениях…»
Был когда-то младенец,
которому, несмотря на уже связанные для него ползунки, не суждено было родиться на свет. Не то чтобы Тулла ребенка не хотела, наоборот. Хотя внешне по ней по-прежнему ничего не было заметно, но она уже с прямо-таки трогательным усердием выказывала кротость и умиротворение материнства. Не было и отца, который, воротя морду, бубнил бы: «Не хочу я никакого ребенка!» — ибо все кандидаты в отцы, каковые имелись на примете, с утра до поздней ночи были заняты только собой. Взять хотя бы фельдфебеля с батареи Кайзерхафен или Штёртебекера, курсанта с той же батареи: фельдфебель стрелял из карабина ворон и скрежетал зубами, когда попадал не в молоко, а в черное; а Штёртебекер беззвучно чертил на песке то, что нашептывал ему его язык: неисповедимость, онтологическую разницу, а также набросок мирового чертежа во всех возможных его вариантах. Откуда, при столь важных экзистенциальных занятиях, было им обоим найти время, чтобы подумать о ребенке, который уже сообщал Тулле Покрифке материнское умиротворение, но в остальном никак пока не округлялся под ее пальто, специально скроенном в расчете на эту округлость.
И только Харри, единственно он, получатель и писатель писем, то и дело беспокоился: «Как ты себя чувствуешь? Тебе по-прежнему делается нехорошо перед завтраком? А доктор Холлац что говорит? Не поднимай тяжести — надорвешься. Тебе правда пора перестать курить. Раздобыть тебе солодового пива? У Мацератов можно отоварить продовольственные карточки маринованными огурцами. И не беспокойся ни о чем. Я позабочусь о ребенке, когда вернусь».
А иногда, словно силясь заменить будущей матери сразу обоих подразумеваемых, но упорно отсутствующих отцов ее чада, он мрачно вперивался глазами в некую воображаемую точку и, скрежеща на манер фельдфебеля своими неумелыми зубами, вычерчивая тощей палкой на песке Штёртебекерские символы, рассуждал Штёртебекеровским философским языком, который, с легкими отклонениями, мог бы быть и языком фельдфебеля, рассуждал примерно так:
— Слушай внимательно, Тулла, я тебе объясню. А именно, бытие ребенка в его будничной повседневности может быть определено как брошенный набросок в-мире-детства-бытия, при котором миробытие ребенка сочетается с для-ребенка-бытием других, образуя предпосылки наисущностного ребенкобытия. Понятно? Нет? Еще раз…
Но не один только врожденный зуд подражательства вдохновлял Харри на эти замысловатые речи; при малейшей возможности он в своем ладном авиационно-курсантском мундире становился посреди кухни-столовой на квартире у Покрифке и произносил перед Туллиным отцом, распоследним кошнадерцем, выходцем из какой-то глухомани между Тухелем и Коницем, напыщенные монологи. Не признавая себя отцом, он все брал на себя, даже предлагал — «Я знаю, что делаю» — себя на роль будущего супруга своей беременной кузины, но втайне радовался, что Август Покрифке не ловит его на слове, а вместо этого находит повод излить свою тоску-печаль: ибо Августа Покрифке взяли в армию. Под Оксхефтом — он был годен только для местной воинской службы — ему надлежало охранять казарменные сооружения, и оное занятие давало ему теперь повод по выходным, во время своих неизменно затягивавшихся отпусков, в присутствии всех домочадцев — столярных дел мастер и его жена тоже должны были внимать — рассказывать бесконечные истории о партизанах; потому как зимой сорок третьего поляки начали расширять поле своей подрывной деятельности: если прежде партизаны пошаливали только в Тухлерской пустоши, то теперь уже сообщалось и о партизанских акциях в Кошнадерии, да и в лесистых окрестностях Данцигской бухты вплоть до подножья полуострова Хела партизаны совершали набеги и диверсии, угрожая жизни Августа Покрифке.
Но Тулла, прижимая плоские ладошки к своему все еще плоскому лону, никогда не могла сосредоточиться мыслью на подлых подзаборных снайперах, что бьют в спину и из-за угла. Зачастую в самый разгар ночного обстрела где-нибудь к западу от Хомячьего лога она вскакивала и покидала кухню столь осязаемо и бесповоротно, что Август Покрифке так и не успевал доставить куда надо своих двух пленных или спасти от разграбления охраняемый им грузовик.
Когда Тулла покидала таким образом кухню, она уходила к себе в сарай. Что еще оставалось делать ее кузену, как не следовать за ней, будто в далекие детские годы, когда он еще таскал на спине ранец? Там, между штабелями длинного бруса, у Туллы по-прежнему имелось свое логово. И по-прежнему доски в сарай загружались так, чтобы не нарушить это убежище, где для Туллы и Харри едва-едва хватало места.
Вот они сидят — будущая шестнадцатилетняя мать и военный курсант-доброволец, ждущий призыва — в своем детском укрытии. Харри должен класть Тулле руку на живот и говорить:
— Я уже его чувствую. Причем очень ясно. Вот, сейчас опять.
Тулла мастерит из стружек крохотные парики, плетет кукол из мягкой липовой стружки и, как всегда, распространяет вокруг себя свой костно-клеевой дурман. Разумеется, и ребеночек сразу же после рождения будет источать этот же, материнский, ничем неистребимый запах; но лишь месяцы спустя, когда у него будет уже достаточно молочных зубиков, или еще позже, в песочнице, окончательно выяснится, имеет ли дитя привычку то и дело многозначительно скрежетать зубами или предпочитает рисовать на песке человечков и наброски мировых чертежей.
Но мы вынуждены сказать «нет» костно-клеевому дурману, Скрыпуну-фельдфебелю, чертежнику по песку Штёртебекеру! Дитя не захотело; и, воспользовавшись прогулкой, — Тулла послушалась Харри, который, нацепив отцовскую мину, изрек, что будущей матери полезно как можно больше бывать на свежем воздухе, — то есть под открытым небом, дитя ясно дало понять, что оно вовсе не склонно на манер матери благоухать костным столярным клеем, а также перенимать и развивать отцовские привычки скрежетать зубами или переустраивать мир в чертеже.
У Харри была увольнительная на конец недели: экзистенциальная пауза. Кузен и кузина надумали, поскольку воздух был так по-декабрьски ясен и чист, прогуляться в Оливский лес, а оттуда, если Тулле будет не тяжело, дойти и до Шведского рва. Трамвай, второй номер, был битком, и Тулла ужасно злилась, что никто не уступает ей место. Она то и дело тыкала Харри локтем, но временами застенчивый курсант не решался громким голосом потребовать место для своей кузины. Прямо перед Туллой сидел, тихо поклевывая носом и подрагивая круглыми коленками, пехотинец-ефрейтор. На него-то Тулла и зашипела: неужели не видит, что она в положении. Ефрейтор мгновенно свои круглые колени выпрямил и превратил в складчатые. Тулла села, а вокруг незнакомые люди стали обмениваться понимающими, интимными взглядами. Харри стыдился, что не потребовал уступить Тулле место, и стыдился вдвойне оттого, что Тулла сделала это так громко.
Трамвай тем временем уже вписался в длинный поворот возле Тихогорского проезда и теперь трясся от остановки к остановке по прямому, как стрела, отрезку своего маршрута. Решено было, что они сойдут у «Белого агнца». Когда проехали Мирослом, Тулла поднялась и следом за Харри начала протискиваться сквозь толщу зимних пальто к задней площадке. Их прицепной вагон еще не достиг островка остановки «Белый агнец», — так назывался расположенный неподалеку пригородный ресторанчик, — а Тулла уже стояла на самой нижней подножке и щурила глаза навстречу ветру.
— Не вздумай дурить, — сказал Харри, наклоняясь над Туллой: Тулла очень любила прыгать с трамвая на ходу. — Подожди, пока остановится, — вынужден был повторить Харри сверху: вспрыгивать на подножку и соскакивать на ходу с давних пор было любимой Туллиной забавой. — Не надо, Тулла, осторожно! — Но Харри ее не держал.
Примерно с восьмого года своей жизни Тулла спрыгивала с трамваев на ходу. И ни разу не упала. Ни разу, не в пример иным недоумкам и просто пижонам, не прыгала против хода; к тому же с прицепного вагона трамвая номер два, который с конца прошлого столетия курсирует между главным вокзалом и предместьем Олива, она прыгала только с задней, а не с передней площадки. И сейчас спрыгнула по ходу, по-кошачьи легко, пружинисто и небрежно пробежав по хрусткому гравию на своих упругих подошвах.
И сказала Харри, который спрыгнул сразу же следом за ней:
— Вечно тебе надо каркать! Думаешь, я уж совсем дура?
Они пошли через поле по тропинке, что перпендикуляром оттолкнувшись от стрелы трамвайных путей сразу за рестораном «Белый агнец», устремлялась к темному, укрывшему холмы лесу. Солнце, как старая дева, светило робко и совсем не грело. Где-то, наверно, возле Саспе, шли учебные стрельбы, расставляя сухие и нерегулярные точки в послеполуденной тиши. Загородный ресторан «Белый агнец» был заперт, зашторен, заколочен. Поговаривали, что хозяина посадили за экономические преступления — спекулировал из-под полы рыбными консервами. Хилые бороздки снега прятались от ветра в бороздах пашни и разъезженных колеях. Прямо перед ними неотчетливые в туманной дымке вороны вяло перелетали с камня на камень. Тулла, такая маленькая под высоким голубым небом, держалась руками за живот сперва поверх, потом под пальто. При всей свежести декабрьского воздуха лицо ее никак не хотело приобретать здоровый оттенок: испуганные черные ноздри во все глаза смотрели со сморщенной, белой как мел мордочки. К счастью, на ней были лыжные брюки.
— Кажется, меня все-таки угораздило.
— Что? Что с тобой? Ни слова не пойму! Тебе плохо? Хочешь присесть? Или все-таки дойдем до леса? Да скажи толком, что стряслось?
Харри всполошился чрезвычайно, ничего не знал, ничего не понимал, чуял недоброе и боялся догадываться. Туллин нос морщился и покрывался у крыльев капельками пота, которые не хотели скатываться. Он кое-как дотащил ее до ближайшего камня в поле, — дымчатые вороны неохотно его освободили, — а потом и до трамбовочного катка, вздернутым дышлом протыкавшего декабрьский воздух. Но лишь на опушке леса, еще несколько раз вынудив ворон переселиться, Харри нашел гладкий буковый ствол, к которому и прислонил свою кузину. Ее дыхание улетало вверх легкими белыми облачками. И у Харри изо рта вырывались белые клубы. Дальняя стрельба по-прежнему расставляла где-то поблизости свои острые карандашные точечки. С рыхлой, к самому лесу подбирающейся пашни, склонив головы, глазели вороны.
— Хорошо, что я брюки надела, иначе бы и досюда не дошла. Из меня все выходит!
Дыхание обоих смешивалось и улетало ввысь над опушкой леса. Нерешительность.
— Мне помочь?
Сперва Тулла уронила с плеч свое пальто адмиральского сукна. Харри аккуратно его сложил. Пояс брюк она расстегнула сама, остальное, обмирая от ужаса и любопытства, доделал Харри: в трико у Туллы, величиной с палец, лежал двухмесячный зародыш. Открытый и выпростанный — он был здесь. Плавал в слизи — здесь. В кровавых и бесцветных соках — здесь. Через исток всех истоков — здесь. Несбереженной, досрочной, неполной горсточкой плоти — здесь. Съежившееся на стылом декабрьском ветру — здесь. Основа всех основ испускала пар и быстро остывала. Основа как первоутрата почвы и Туллин носовой платок впридачу. Выдворенное во что? Предопределенное кем? Ибо какое же пристрастие без разоблачения на миру? А потому — трико долой! Лыжные брюки подтянем, и уже не ребеночек, а… Вот она, сущность, вся напоказ! Лежит здесь, тепленькая, потом холодная: уклонение во плоти, пробившее, невзирая на упреки остающихся, черную дырку в земле на опушке Оливского леса.
— Не стой как пень! Работай! Яму рой! Да не здесь, вот здесь лучше.
Ах, это же мы сами, это же наше, а теперь в листву и в землю, благо промерзла неглубоко; ибо выше всякой данности — возможность, в особенности такая несамоочевидная, а наоборот, по сравнению с самоочевидностью, такая сокрытая, но в то же время и такая от самоочевидности неотъемлемая, что исчерпывает ее суть и смысл до дна, до самого грунта, который, к счастью, не промерз и легко поддается армейскому каблуку с армейского же вещевого склада, дабы ребеночек из бытия в нетие. Отсюда — туда. Только набросок — и уже туда. Обессущенный — и туда. Некое бесполое нечто, оно, — и его уже нет, как и его бытия уже нет, нет ни ради, ни во имя, ни дабы, все уложено без отвращения, голыми пальцами без перчаток: о, эта экстатическая горизонтальность! Оно здесь — только смерти ради, а потому: завалить и засыпать, и сверху немножко веток и буковых орешков, чтобы вороны не, и если лисы, или лесник, стервятники и кладоискатели, с лозой и без лозы, а еще ведьмы, если они и вправду есть, вроде бы собирают всяких изронышей и выкидышей, делают из них сальные свечки, а то и порошки, чтобы сыпать на порог, и всякие другие снадобья и мази. А потому — камень сверху! Назад в исконносущее. Место для неуместного. Плод и блуд. Мать и дитя. Бытие и время. Тулла и Харри. Спрыгивает с трамвая в свое здесь, спрыгивает даже не споткнувшись. Спрыгивает незадолго до Рождества, хотя и ловко, но резковато, и пожалуйста: две луны тому назад туда, теперь тем же путем обратно. Каюк! Нескончаемое ничто. Полная хана! Ускользнул в неисповедимость. Вы-лагалище! Даже не трансцендентально, а онтически-вульгарно — выронился, выскрежетался, перечеркнулся на песке! Баста. Породили недоразумение. Болтун-яйцо. Нет, не был досократическим мыслителем. Хлопотный приплод. Шиш с маслом! Оказался последышем. Испарился, смылся, сошел на нет.
— И не вздумай болтать. Вот свинство! Чтобы именно со мной и такое. Гадство! Хотела Конрадом назвать, как и его звали.
— Кого?
— Кого-кого? Его, кого же еще.
— Пойдем, Тулла, пора уже. Да пойдем же, говорю, пора!
И кузен с кузиной пошли, после того как хорошенько заложили место одним большим и многими не очень большими камнями, обезопасив его от ворон, лесников, лис, ведьм и кладоискателей.
Они пошли, сбросив с себя самую малость: и Харри поначалу было даже позволено поддержать Туллу под руку. Нерегулярный пунктир учебных выстрелов по-прежнему буравил уже сброшенный со счетов день. У обоих было сухо и мерзко во рту. Но у Харри в нагрудном кармашке нашлась, как всегда, трубочка кисленьких леденцов.
Когда они уже стояли на остановке «Белый агнец», и трамвай из Оливы уже показался, желтея и увеличиваясь на глазах, Тулла, все еще серая с лица, сказала своему разрумянившемуся кузену:
— Как станет подъезжать, ты вскакиваешь на переднюю площадку, а я на заднюю.
Был когда-то выкидыш-недоносок,
по имени Конрад, о котором никто не узнал, даже Йенни Брунис, что под артистическим псевдонимом Йенни Ангустри танцевала на пуантах перед здоровыми и выздоравливающими солдатами в Салониках, Афинах и Белграде и из распущенной шерсти, голубой и розовой, вязала детские одежонки для будущего младенца ее подружки, которого должны были наречь Конрадом, ибо так же звали младшего братика подружки, пока он не утонул во время купанья.
В каждом письме, что впархивало в дом Харри Либенау, — в январе их было четыре, в феврале только три, — Йенни непременно что-нибудь сообщала и об этом медленно продвигающемся вязанье: «Я тем временем опять усердно трудилась. Репетиции, как правило, ужасно затягиваются — вечные нелады с освещением, к тому же здешние рабочие сцены делают вид, будто по-немецки ни слова не понимают. Иногда, когда установка декораций длится целую вечность, впору и впрямь поверить в саботаж. Во всяком случае, благодаря здешнему трудовому энтузиазму, у меня остается много времени на вязанье. Одни ползунки у меня уже готовы, а в первой кофточке осталось только вывязать на груди остренький мышиный зубок. Ты даже представить себе не можешь, сколько радости доставляет мне эта работа. Но когда господин Зайцингер застал меня однажды в гримуборной с почти готовыми ползунками в руках, он страшно перепугался, тем паче, что я решила его разыграть и не сказала, для кого вяжу.
С тех пор он, конечно, думает, что это я жду малыша. На занятиях иногда смотрит на меня неотрывно по несколько минут, даже неприятно. Но вообще-то он очень мил и заботлив. На день рождения подарил мне перчатки на меху, хотя я даже в самый лютый мороз хожу с голыми руками. И в остальном старается сделать мне приятное, например, очень часто и уверенно говорит о папе Брунисе, так, словно его возвращения надо ожидать со дня на день. Хотя мы оба прекрасно знаем, что этого никогда не случится.»
Такой вот милой болтовни у Йенни набиралось по письму в неделю. А в середине февраля наряду с рапортом о завершении третьих ползунков и второй кофточки она передала весть о смерти старшего преподавателя Бруниса. Строго, деловито и даже не с новой строки она сообщила: «Вот и пришло, наконец, официальное уведомление. Он скончался 12 ноября 1943 года в исправительно-трудовом лагере Штуттхоф. В графе „Причина смерти“ указано: сердечная недостаточность.»
Вслед за ее неизменной подписью: «Всегда твоя, хотя и немножко усталая Йенни» — на сей раз в постскриптуме шла напоследок новость специально для Харри: «Кстати, нам прислали выпуск „Еженедельного обозрения“, тот самый, где штаб-квартира Вождя и пес от вашего Харраса. Господин Зайцингер прокрутил этот эпизод по меньшей мере раз десять, даже с замедленной скоростью, чтобы сделать наброски с собаки. Я-то сама больше двух раз не выдержала. Надеюсь, ты на меня за это не рассердишься, понимаешь, известие о папиной смерти — все было так ужасно по-казенному написано — основательно меня подкосило. Иногда мне хочется все время плакать, а я не могу».
Был когда-то пес,
его звали Перкун, и принадлежал он батраку-литовцу, что нашел себе работу в устье Вислы. Перкун пережил своего хозяина и зачал Сенту. Сука Сента, принадлежавшая мельнику из Никельсвальде, ощенилась Харрасом. Этот племенной кобель, хозяином которого стал столярных дел мастер из Данциг-Лангфура, покрыл суку Теклу, принадлежавшую некоему господину Леебу, который скончался в начале 1942 года вскоре после своей собаки. Зато кобелю Принцу, зачатому кобелем немецкой овчарки Харрасом и рожденному сукой Теклой той же породы, суждено было творить историю: он был подарен на день рождения Вождю и Канцлеру Рейха и, будучи любимой собакой Вождя, попал в «Еженедельное обозрение».
Когда умер собаковод Лееб, столярных дел мастер Либенау ездил к нему на похороны. Когда умер Перкун, в племенной книге была сделана запись с указанием какой-то обычной собачьей болезни. Сенту, когда та стала нервной и опасной для окружающих, пришлось пристрелить. Сука Текла, согласно записи в племенной книге, умерла от старческой немощи. А вот Харрас, который зачал Принца, любимую собаку Вождя, был по политическим мотивам отравлен ядовитым мясом и похоронен на собачьем кладбище. После него осталась пустая собачья конура.
Была когда-то собачья конура,
и жил в ней черный кобель породы немецкая овчарка по кличке Харрас, покуда его не отравили. С тех пор конура стояла заброшенная на столярном дворе, потому как столярных дел мастер Либенау новую собаку заводить не хотел, вот до чего дорог и незаменим был ему Харрас.
Нередко можно было видеть, как этот солидный господин, направляясь в машинный цех своей столярной мастерской, останавливался перед конурой и задумывался на несколько сигарных затяжек, а то и дольше. Земляной вал, который Харрас, натягивая цепь, нарыл вокруг своей конуры, давно уже сравняли с землей дожди и деревянные башмаки подсобных рабочих. Но отверстая конура все еще хранила псиный запах, ибо бывший ее хозяин с упоением оставлял на столярном дворе, как и повсюду в Лангфуре, свои душистые метки. Особенно под палящим августовским солнцем и в сырую весеннюю пору конура печально и строго пахла Харрасом и приманивала мух. В общем, отнюдь не лучшее украшение для отнюдь не заброшенной столярной мастерской. Рубероид на крыше будки пооблез и замахрился вокруг шляпок кровельных гвоздей, которым не терпелось наружу. Словом, грустное зрелище, нежилое и полное воспоминаний. Давным-давно, когда грозный Харрас еще лежал возле будки на цепи, маленькая племянница столярных дел мастера как-то раз целую неделю делила с псом кров и пищу. Потом валом валили репортеры и фотографы, снимали пса и посвящали ему статьи. Столярный двор из-за обитающей в нем собаки во многих газетах уже называли исторической достопримечательностью. Многие именитые люди, даже иностранцы, приходили сюда и иногда по пять минут простаивали на памятном месте. А потом некий толстяк по имени Амзель часами рисовал собаку пером и кистью. И называл Харраса не его кличкой, а совсем иначе — Плутоном; но и его самого маленькая племянница столярных дел мастера тоже называла не его настоящим именем, а дразнила «абрашкой». Так Амзель был изгнан со столярного двора. А еще как-то раз чуть не случилось несчастье. Но пострадал только в клочья разодранный фрак пианиста, что жил в правой нижней квартире, и пришлось возмещать ущерб. А как-то раз пришел и потом еще много раз приходил и шатался по двору некий в дымину пьяный тип и оскорблял Харраса в политическом смысле, так и орал во весь голос, громче, чем дисковая пила и фреза вместе взятые. А однажды кто-то, кто умел скрежетать зубами, бросил с крыши сарая прямо к конуре шмат отравленного мяса. И от мяса ничего не осталось.
Воспоминания. Но пусть никто даже не пытается проникнуть в мысли столярных дел мастера, что, проходя мимо пустой собачьей конуры, как бы на миг задумывается и замедляет шаг. Быть может, мысли его обращены в прошлое. А быть может, он думает о ценах на древесину. А может, вообще ни о чем определенном не думает, а просто, попыхивая свой сигарой «Фельфарбе», витает мыслями где-то между воспоминаниями и ценами на древесину. И простаивает так по полчаса, покуда его осторожно не окликнет машинный мастер: надо ведь нарезать заготовки для казарм моряков. А собачья конура, нежилая и полная воспоминаний, никуда не убежит.
Нет, он никогда не болел, верный пес, и был черный, как смоль, и шерстью, и подшерстком. Жесткошерстный, как и пятеро его братьев-сестер по выводку, которые все отличились на полицейской службе. Сухо и плотно смыкались губы. Шея упругая и без провиса. Длинный, плавно ниспадающий круп. Стоячие, слегка направленные вперед, заостряющиеся кверху уши. И еще раз, снова и снова: псовина — волосок к волоску, и каждый волосок прямой, плотно прилегает к телу, жесткий и черный.
На полу конуры в щелях между досками столярных дел мастер находит отдельные волоски, теперь уже тусклые и безжизненные. Иногда, после работы, он садится перед конурой и, не стесняясь своих свесившихся из окон жильцов, запускает руки в торфяно-теплый и черный лаз.
Но когда столярных дел мастер однажды потерял свой кошелек, где кроме мелочи и пучка безжизненных собачьих волос ничего не было; когда столярных дел мастер захотел в «Еженедельном обозрении» увидеть любимого пса Вождя, пса от его Харраса, а ему показали уже новый выпуск «Еженедельного обозрения», где никакого пса и в помине не было; когда пришла похоронка уже на четвертого бывшего подмастерья из его столярной мастерской; когда с верстаков и станков его мастерской окончательно исчезли тяжелые дубовые буфеты, ореховые трюмо, раздвижные обеденные столы на резных ножках, а остались одни только пронумерованные сосновые деревяшки, которые надо было сколачивать, изготовляя заготовки для военных бараков; когда сорок четвертый год отсчитывал свой четвертый месяц; когда стало известно, что «вот и старика Бруниса они доконали»; когда была оставлена Одесса, а взятый в клещи Тернополь[304] тоже не удалось удержать, ибо удар гонга уже возвестил последний раунд, когда по продуктовым карточкам стало нельзя получить то, что следует; когда столярных дел мастер узнал, что его единственный сын добровольцем записался во флот; когда все это вместе сложилось в некую сумму — потерянный кошелек и пустое «Еженедельное обозрение», павший столяр-подмастерье и убогие деревяшки для бараков, оставленная Одесса и липовые продуктовые карточки, старик Брунис и его собственный балбес-доброволец, — когда эта сумма округлилась и явно требовала списания, столярных дел мастер Фридрих Либенау вышел из своей конторы, выбрал себе топор по руке, новенький и еще в смазке, пересек 20 апреля 1944 года в два часа пополудни свой столярный двор, утвердился, как следует расставив ноги, перед пустой собачьей конурой своего отравленного пса Харраса и несколькими уверенными и размашистыми ударами без слов и в одиночку разнес будку в щепки.
Но поскольку 20 апреля праздновался пятидесятипятилетний юбилей того самого Вождя и Канцлера Рейха, которому за десять лет до того был подарен молодой пес Принц породы немецкая овчарка из рода Харраса, все, кто выглядывал из окон доходного дома или стоял за станками в столярной мастерской, сразу смекнули, что не только трухлявая древесина и дырявый рубероид пошли в тот день прахом.
Сам же столярных дел мастер после своего деяния на добрых две недели слег в постель. Перетрудился.
Был когда-то столярных дел мастер,
несколькими размашистыми и точными ударами он рассадил в щепки собачью конуру, вымещая злость за что-то другое.
Был когда-то бомбист[305], он на всякий случай — вдруг повезет — припрятал в портфеле бомбу.
Был когда-то юноша-курсант, он с нетерпением дожидался призыва во флот; он мечтал уходить под воду и топить вражеские корабли.
Была когда-то балерина, в Будапеште, Вене и Копенгагене она вязала ползунки и кофточки для ребеночка, который давно уже был закопан на опушке Оливского леса и придавлен камнем.
Была когда-то будущая мать, она любила прыгать на ходу с трамвая и потеряла при этом, хотя спрыгнула очень ловко и не против движения, двухмесячный плод — своего будущего ребенка. И тогда будущая мать, а теперь уже снова обыкновенная и плоская девушка, пошла работать: Тулла Покрифке стала, ну правильно, кондуктором трамвая.
Был когда-то начальник полиции, чьего сына все называли Штёртебекером, и сын этот хотел когда-нибудь потом стать философом, а пока что чуть не стал отцом и, перестав рисовать на песке набросок мирового чертежа, образовал молодежную банду, которая вскоре прославилась под названием банды «метельщиков». И рисовал он уже не символы на песке, а здание Управления экономики, церкви Сердца Христова, Главного управления связи — все сплошь солидные, как сундуки, домины, куда он потом в ночное время с преступными целями и приводил оную банду и где они выметали все подчистую. Какое-то время если не принадлежала, то имела отношение к банде и трамвайная кондукторша Тулла Покрифке. А ее кузен не принадлежал и не имел отношения. Но и ему приходилось стоять на стреме, когда банда собиралась на сходку в складских сараях шоколадной фабрики «Балтика». Поговаривали, что неотъемлемой собственностью и талисманом банды был трехлетний ребенок, называли его Иисусом, и банду он пережил.
Был когда-то фельдфебель, он обучал курсантов-гимназистов, готовя из них зенитчиков и псевдофилософов, слегка прихрамывал, умел скрежетать зубами, чуть не стал отцом, но вместо этого предстал сперва перед чрезвычайным судом, потом перед военным трибуналом, был без долгих разбирательств разжалован в рядовые и переведен в штрафной батальон, поскольку в состоянии опьянения, находясь в расположении части, между бараками батареи Кайзерхафен, пытался подорвать авторитет Вождя и Канцлера Рейха выражениями, в которых встречались слова «бытийнолишенный», «гора костей», «структура печали», «Штуттхоф», «Тодтнау»[306] и «концлагерь». Когда его уводили, — среди бела дня, — он выкрикивал совсем уж загадочные проклятья:
— Пес ты онтический! Кобель алеманский! Псина в вязаной шапочке и в туфелях с пряжками! Что ты с малышом Гуссерлем сделал[307]? Что ты с толстяком Амзелем учинил? Ах ты досократическая нацистская собака!
Нерифмованный этот гимн не остался без последствий: автора, невзирая на хромоту, отправили обезвреживать мины сперва на неумолимо приближающийся восточный фронт, а затем, после высадки неприятеля в Нормандии, с той же миссией на западный; тем не менее разжалованный фельдфебель на воздух не взлетел.
Был когда-то черный кобель немецкой овчарки по кличке Принц, его тоже перевели вместе со штаб-квартирой Вождя в Растенберг, в Восточную Пруссию; ему тоже повезло, он тоже не подорвался на мине; а вот дикий кролик, за которым он погнался, прямо на мину и угодил, одни клочки остались.
Как и прежняя ставка Вождя, «Волчье логово» к северо-востоку от Винницы, восточно-прусская штаб-квартира тоже была окружена заминированными лесами. Вождь и его любимый пес жили весьма уединенно в запретной зоне «А» так называемого «Волчьего редута». Чтобы обеспечить Принцу хороший выгул, главный псарь ставки, большой чин, обер-шарфюрер СС, владевший до войны знаменитым собачьим питомником, выводил собаку гулять в запретные зоны I и II, тогда как самому Вождю приходилось безотлучно находиться в тесной зоне «А», потому как то и дело надо было проводить заседания военного совета.
Скучная была жизнь в штаб-квартире Вождя. Вечно одни и те же бараки, в которых был расквартирован батальон сопровождения Вождя, штаб оперативного руководства и где размещались призванные к докладу на военном совете посетители. Некоторые развлечения сулили разве что въездные ворота в запретную зону II с их всегдашней толкучкой.
Вот там-то все и произошло: за внешним периметром ограждения неподалеку от часовых откуда ни возьмись появился кролик, те с хохотом принялись его гонять, что и заставило черную овчарку на миг забыть все премудрости дрессировки, освоенные в собачьем питомнике: Принц вырвал поводок, метнулся мимо все еще гогочущих часовых за ворота, перемахнул с волочащимся поводком шлагбаум въезда — кролики морщат носы, зрелище, которое не в силах вынести ни одна собака — и начал преследование своей сморщившей нос добычи, которая, к счастью, имела достаточный гандикап, ибо когда она достигла заминированного леса и разлетелась в клочья от взрыва мины, взрыв этот псу почти ничем не угрожал, хотя и сам он в это время уже на несколько прыжков удалился на минное поле. Осторожно, шаг за шагом, его вывел оттуда главный псарь.
После того, как составленный рапорт прошел по инстанциям, — сперва его просмотрел и снабдил своими пометками обер-группенфюрер СС Фегеляйн[308], а уж потом бумага легла пред очи Вождя, — главного псаря разжаловали и перевели в тот же самый штрафной батальон, где разжалованный фельдфебель обезвреживал мины.
Бывший главный псарь где-то к востоку от Могилева сделал один неудачный шаг; а вот фельдфебель, когда батальон перебросили на запад, на своей хотя и прихрамывающей, но, видно, счастливой ноге перебежал к союзникам. Его то и дело переводили из одного лагеря для военнопленных в другой, покуда он не осел, наконец, в английском лагере для военнопленных-антифашистов, ибо мог с гордостью предъявить свою солдатскую книжку, куда были занесены все его взыскания, равно как и причины оных. Вскоре после этого — пластинка с «Сумерками богов» уже давно ждала своего часа — он вместе с группой единомышленников основал в лагере театр. На импровизированной сцене он, актер по профессии и призванию, сыграл главные роли в немецких классических пьесах — слегка прихрамывающего Натана, зубоскрежещущего Геца[309].
А вот бомбисту, который уже несколько месяцев назад завершил репетиции с портфелем и бомбой, так и не удалось угодить в лагерь для антифашистов. Не удалось ему, впрочем, и само покушение, потому что он, недоучка, не был бомбистом по профессии и призванию, не шел ради успеха дела на все и до конца, а, надеясь после удачного исхода предприятия сберечь себя для будущих больших и славных дел, малодушно смылся прежде, чем бомба ясно и отчетливо скажет свое «да».
Вот он стоит между генералом Варлимонтом и морским капитаном Ассманом, покуда совещание у Вождя все длится и длится, — стоит и не знает, куда приткнуть свой портфель. Офицер связи частей тылового обеспечения завершает отчет о положении с горючим. Перечисление недостающих материалов — резина, никель, бокситы, марганец, вольфрам — затягивается. Везде нужны шарикоподшипники, и нигде их нет. Кто-то из министерства иностранных дел — уж не посланник ли Хевель? — поднимает вопрос о возможных последствиях для Японии ухода в отставку кабинета Тодзио[310]. А портфель все еще не подыскал себе укромного местечка. На повестке дня между тем уже новая дислокация десятой армии после отхода из Анконы и укрепление боевой мощи четырнадцатой армии после падения Ливорно. Генерал Шмунт просит слова, но говорит все время только Он. Куда же девать портфель? Свежее известие с фронта вносит оживление в группу офицеров у стола со штабными картами: американцы прорвались в Сен-Ло! Быстро, пока не дошла очередь до восточного фронта с обсуждением положения к юго-западу от Белостока, наш заговорщик абы как сует портфель под планшетный стол, на коем разложены разрисованные мудреными значками и отметками карты генерального штаба, вокруг коих спокойно расположились господа Йодль, Шерф, Шмунт, Варлимонт и переминаются с пятки на носок в своих хромовых сапогах, вокруг коих беспокойно крутится черная овчарка Вождя, потому что хозяин ее, тоже беспокойно, ходит туда-сюда, останавливается то тут, то там, это отклоняет, того с костяным пристуком по столу требует, и без умолку говорит о недостающих сейчас сто пятьдесят вторых гаубицах, а затем об отличной двадцать первой гаубице заводов «Шкода»:
— Имела систему кругового обстрела, и без хвостового лафета очень бы сгодилась для береговых укреплений, например, в Сен-Ло.
Вот ведь память! Имена, цифры, расстояния, и все это как попало и вперемешку, а, главное, все время на ходу, с неотлучной овчаркой у ног, повсюду, но только не возле портфеля, что стоит в ногах у генералов Шмунта и Варлимонта.
Одним словом: бомбист подкачал. А вот бомба не подкачала, взорвалась минута в минуту, завершила несколько высших офицерских карьер, но не устранила из мира ни Вождя, ни его любимую собаку. Ибо Принц, который, как и все собаки, пространство под столом считал своей вотчиной, давно уже обнюхал этот одинокий портфель, а возможно, даже услыхал в его нутре жутковатое тиканье — как бы там ни было, но даже беглое обнюхивание пробудило в нем нужду, которую хорошо воспитанные собаки справляют только на улице.
Внимательный адъютант, что стоял у двери барака, заметил беспокойство собаки, слегка — ровно настолько, чтобы Принц мог проскользнуть — приоткрыл дверь, затем аккуратно и так же бесшумно снова ее затворил, но за все эти предусмотрительные и тактичные манипуляции, увы, вознагражден не был; ибо когда бомба сказала «Пора!», когда она гаркнула «Баста! Амба! Хана!», когда она в портфеле сбежавшего тем временем бомбиста произнесла свое «Аминь!», ее осколки неоднократно поразили внимательного адъютанта, но ни один даже не задел ни Вождя, ни его любимого пса.
Курсант-доброволец Харри Либенау — из большого мира заговорщиков, генеральских штабных карт и неуязвимого облика Вождя мы снова возвращаемся в предместье Лангфур — узнал о неудавшемся покушении из включенного на всю мощь репродуктора. Репродуктор даже назвал имена главного злоумышленника и других заговорщиков. Но Харри очень обеспокоился судьбой собаки по кличке Принц из рода Харраса; ибо ни в специальном сообщении, ни в единой газетной строчке, ни даже в шепотках всеведающей молвы ни словом не говорилось о том, принадлежит ли собака к числу жертв или ее, как и ее хозяина, уберегло провидение.
Лишь в следующем выпуске «Еженедельного обозрения» — у Харри уже лежало в кармане мобилизационное предписание, он расстался с ладным курсантским мундиром, наносил прощальные визиты и, поскольку надо было убить еще неделю времени, часто ходил в кино — лишь в следующем выпуске «Еженедельное обозрение», хотя и мельком, но все же дало знать об овчарке по кличке Принц.
Панорамирующей камерой со средней дистанции показали штаб-квартиру Вождя с разрушенным бараком на заднем и живым и невредимым Вождем на переднем плане. А у сапог Вождя, чье лицо под низко надвинутой фуражкой казалось слегка опухшим, но оставалось похожим, терся черными боками, навострив черные уши, кобель немецкой овчарки, в котором Харри без труда узнал потомка пса столярных дел мастера.
А неудачливого заговорщика и бомбиста все равно казнили.
Была когда-то маленькая девочка,
лесные цыгане подкинули ее некоему старшему преподавателю по имени Освальд Брунис, когда тот сортировал в здании заброшенной фабрики слюдяные камни. Девочка, которую окрестили именем Йенни, росла и с возрастом становилась все толще и толще. Ее плюшечная полнота выглядела неестественно, Йенни пришлось из-за нее много выстрадать. Уже сызмала толстая девочка брала уроки игры на фортепьяно у учителя музыки по фамилии Фельзнер-Имбс. У Имбса была седая волнистая шевелюра, которая требовала щетки не меньше часа в день ежедневно. Чтобы избавиться от полноты, Йенни по совету учителя музыки брала уроки балета в настоящей балетной школе.
Однако Йенни все равно полнела как на дрожжах, обещая в будущем стать такой же толстой, как Эдди Амзель, любимый ученик старшего преподавателя Бруниса. Амзель вместе со своим другом часто приходил к старшему преподавателю посмотреть его коллекцию камней и, случалось, слышал, как Йенни бренчит на пианино свои гаммы. У Эдди Амзеля было полно веснушек, он весил сто один с половиной килограмм, говорил подчас очень странные вещи, быстро и очень похоже рисовал, а еще своим удивительным серебряным голосом он пел — иногда даже в церкви.
Как-то раз зимой, ближе к вечеру, когда все было завалено снегом, на который без устали падал новый снег, за Гороховой горой, неподалеку от страшного памятника Гутенберг, соседские дети играючи превратили Йенни в снеговика.
По случайному совпадению в тот же час по другую сторону Гороховой горы толстяка и увальня Амзеля тоже превратили в снеговика и тоже играючи, но, правда, совсем не дети.
Но тут внезапно и со всех сторон грянула оттепель. Оба снеговика растаяли и явили миру: тот, что возле памятника Гутенбергу — пританцовывающую спичечку; а тот, что под другим склоном Гороховой горы — изящного, стройного юношу, который искал и нашел в сугробе свои зубы. После чего забросил их в кусты.
Пританцовывающая спичечка отправилась домой, выдала там себя за Йенни Брунис, слегка заболела, но скоро поправилась и вполне успешно начала восхождение по трудной стезе балетной танцовщицы.
А вот стройный юноша упаковал чемодан Эдди Амзеля и под именем некоего господина Зайцингера уехал поездом из Данцига через Шнайдемюль в Берлин. Там он вставил себе полный рот новых зубов и попытался излечиться от сильнейшей простуды, которую подхватил, обретаясь в снеговике; однако от хронической хрипоты он так и не избавился.
Пританцовывающей же спичечке надо было по-прежнему исправно ходить в школу и прилежно трудиться на балетных занятиях. Когда детский балет городского театра участвовал в рождественской постановке «Снежной королевы», Йенни получила партию Снежной королевы и удостоилась похвал критиков.
Началась война. Но ничего не изменилось, по крайней мере в балетной публике: в Красном зале Сопотского курортного дворца Йенни как-то раз танцевала перед высшим офицерством, партийными руководителями, видными художниками и учеными. А тот самый страдающий хронической хрипотой господин Зайцингер, что некогда выскользнул из амзелевского снеговика, тем временем стал в Берлине балетмейстером, сидел поэтому в Красном зале среди избранных приглашенных гостей и под несмолкающие заключительные аплодисменты приговаривал про себя:
— Удивительное обаяние. А руки просто божественные. И эта линия в адажио. Немного холодноватая, но какая законченная классика. Чистая, хотя и еще слишком осознанная техника. Подъем, правда, низковат. Но безусловное дарование. С этой девочкой работать бы и работать, надо бы всю душу из нее вытрясти.
Но только когда старшего преподавателя Освальда Бруниса из-за весьма некрасивой истории — он лакомился витаминными таблетками, которые предназначались его ученикам — сперва допросила криминальная, а потом арестовала тайная государственная полиция и после недолгого разбирательства отправила в концентрационный лагерь Штуттхоф, — только после этого балетмейстер Зайцингер нашел возможным и своевременным залучить Йенни в Берлин.
Ей трудно было расстаться с предместьем Лангфур. Она носила траурный черный цвет и была влюблена в гимназиста, которого звали Харри Либенау. Она писала ему письма — много и часто. Своим ровным и чистым почерком она повествовала о таинственной мадам Нероде, что возглавляла их балетный театр, пианисте Фельзнер-Имбсе, переехавшим вместе с ней в Берлин, о маленьком Фенхеле, ее партнере по па-де-де, и о балетмейстере Зайцингере, который хронически хриплым голосом и в слегка жутковатой манере вел у них занятия и репетиции.
Йенни писала о своих успехах и маленьких неудачах. В целом она безусловно совершенствовалась, и только один элемент у нее хромал и не хотел выправляться. Ибо как ни хвалили ее антраша, подъем у нее оставался низким и невыразительным, огорчая и балетмейстера, и саму танцовщицу, потому что всякая настоящая балерина еще со времен Людовика Четырнадцатого должна иметь высокий и красивый подъем.
Они разучили множество балетов, включая старые немецкие контрдансы и классические номера из репертуара Петипа, и выступали с ними перед солдатами, которые оккупировали тем временем пол-Европы. Куда только ни заносили Йенни эти длительные гастрольные турне! И отовсюду она писала своему любимому другу Харри, который от случая к случаю ей отвечал. А между репетициями и во время спектаклей Йенни не сидела сложа руки, как дурочка, и не листала иллюстрированные журналы, а вязала детские вещи для своей школьной подруги, которая ожидала ребенка.
Когда летом сорок четвертого балетная труппа возвратилась из Франции, где из-за внезапного вторжения неприятеля были потеряны многие декорации и часть костюмов, господин Зайцингер начал разучивать с артистами трехактный балет, над которым он трудился чуть ли не с детства. Теперь же, после катастрофы во Франции, предстояло безотлагательно и срочно воплотить в явь и поставить на ноги эту его детскую мечту, чтобы не сказать сон, ибо уже в августе должна была состояться премьера балета под названием «Пугала» или «Восстание пугал»[311], а, может, «Дочь садовника и пугала».
Поскольку подходящего композитора так и не нашлось, он попросил Фельзнер-Имбса аранжировать ему некую смесь из Генделя и Скарлатти. Пострадавшая во Франции часть костюмов и реквизита легко вписалась в новый балет. С той же легкостью в него в качестве статистов-акробатов вошли остатки цирковой группы лилипутов, которая принадлежала к пропагандистской команде Зайцингера и понесла потери в начале неприятельского вторжения. По замыслу это должен был быть сюжетный балет с масками, щебечущими машинами и самодвижущимися автоматами на большой и волшебной сцене.
Йенни писала Харри: «В первом действии дивный и пестрый сад старого и злого садовника разоряют танцующие птицы. Дочь садовника — это я — отчасти заодно с птицами и дразнит злого старика. Тот, донимаемый птицами, танцует смешное и яростное соло, а затем прикрепляет к изгороди сада объявление, на котором написано: „Требуется пугало!“ И тотчас же, большим прыжком через изгородь, объявляется молодой человек в живописных лохмотьях и предлагает свои услуги в качестве пугала. После некоторых танцевальных раздумий — па баттю[312], антраша и бризе[313] вперед-назад — старый злой садовник соглашается и уходит в левую кулису, молодой же человек бодро распугивает — па шассе[314] и глиссады[315] во все стороны — всех птиц, а напоследок прогоняет — тур в воздухе — и самую наглую из них: черного дрозда. Разумеется, юная и хорошенькая дочка садовника — то есть я — тут же влюбляется в молодое, сильное и прыгучее птичье пугало: па-де-де среди ревеневых лопухов старого злого садовника, плавное адажио, красивые проводки: аттитюд эн променад. Притворный испуг, нерешительность, затем соблазнение и похищение садовниковой дочки через садовую ограду, опять-таки большим жете. Мы оба — кстати, молодого человека танцует малыш Фенхель — удаляемся вправо.
Во втором действии, как ты сейчас увидишь, раскрывается истинная натура молодого человека. Оказывается, он начальник всех птичьих пугал и правит в подземном царстве, где без устали и передышки крутятся-вертятся всевозможные птичьи пугала самых разных устройств и видов. Там у них скачущая процессия, тут они собрались на свое пугальное богослужение и приносят на заклание старую шляпу. Здесь же наши лилипуты, и первым среди них старый Бебра, образуют то длинное, то короткое, но постоянно связанное воедино лилипутское пугало. А вот пугала на глазах сменяют исторические эпохи: косматые германцы, надутые ландскнехты, кайзеровские вестовые, траченные молью нищенствующие монахи, механические рыцари без голов, разъевшиеся монахини, одержимые блудным зудом, цитенское воинство из кустов и развеянные гусары Лютцова… Тут огромными насекомыми бродят многочленистые вешалки. Платяные шкафы изрыгают целые правящие династии вместе с их придворными карликами и шутами. И вдруг все превращаются в ветряные мельницы: монахи и монахини, рыцари, вестовые и ландскнехты наемники, прусские гренадеры и натцмерские уланы, Меровинги и Каролинги[316], а между ними и наши шустрые лилипуты. Во множестве мелькают крылья мельниц, гонят воздух, но ничего не мелят. Тем не менее помольный закром наполняется — тряпичной требухой, облачками кружев, окрошкой знамен. Пирамиды шляп и месиво штанов образуют гигантский торт, которым со смаком и шумом лакомятся все птицы. И тут — треск, гвалт, завывания. Свист на ключах. Чей-то задушенный визг. Десять монахов дружно рыгают. Десять монахинь дружно пердят. Козы и лилипуты блеют. Дребезг и шкрябанье, чавканье и ржание. Шелк гудит. Бархат шуршит. Кто-то на одной ноге. Двое в одной юбке. В штанах, как в кандалах. Под парусом и в шляпе. Вываливаются из карманов. Размножаются в картофельных мешках. Арии, закутавшись в шторы. Желтый свет сочится сквозь швы. Головы без туловищ. Светящаяся голова-попрыгушка. Передвижные крестины младенца. Есть и боги: Потримпс, Пеколс, Перкунас — а между ними черный пес. И вот в самый центр этой самодвижущейся, гимнастической, сложно выдрессированной кутерьмы — неклассические вибрато сменяются богато варьируемыми па-де-бурре — начальник всех птичьих пугал, то есть малыш Фенхель, доставляет похищенную дочку садовника. А я, то есть дочка садовника, до смерти, то есть все время на испуганных пуантах, боюсь всех этих чудищ. При всей любви к молодому человеку и пугалоначальнику — только на сцене, разумеется, — я все равно ужасно их боюсь и танцую, после того, как эти гадкие пугала укутывают меня в изъеденный молью подвенечный наряд и увенчивают дребезжащей короной из ореховых скорлупок, танцую под тягучую придворную музыку — лилипуты несут за мной шлейф — робкое, но королевское соло, во время которого мне удается всех пугал друг за дружкой, группами и поодиночке, погрузить своим танцем в сон, последним — малыша Фенхеля, то есть пугалоначальника. И только эта лохматая черная псина, что состоит в ближайшей свите пугалоначальника, все никак не угомонится, все носится на своих двенадцати адских лапах между разбросанными тут и там неподвижными лилипутами. И тогда я — в роли дочки садовника — из самого изысканного арабеска склоняюсь над спящим пугалоначальником, дарю ему легкий, как дыхание, горький прощальный поцелуй — это притом, что в жизни я до малыша Фенхеля даже не дотрагиваюсь — и убегаю. Слишком поздно взвывает черная псина. Слишком поздно начинают хныкать лилипуты. Слишком поздно включается завод механических пугал. И слишком поздно просыпается пугалоначальник. Так что в конце второго действия разражается бурный финал: тут прыжки и акробатика. Музыка, до того воинственная, что, кажется, может прогнать даже бусурманские орды. Неистовствующие пугала в ярости бросаются в погоню, давая понять, что ничего хорошего в третьем действии нас не ждет.
Оно открывается, Как и первое, в саду старого злого садовника. Грустный, беззащитный перед птицами, старик тоскливо озирается по сторонам. И тут, пристыженная — я должна станцевать одновременно и раскаяние, и упрямство — возвращается дочка старого злого садовника, в изношенном подвенечном наряде, и опускается к ногам старика. Она обнимает его колени и ждет, когда он ее поднимет — па-де-де, отец и дочь. Танцевальный дуэт с поддержками и променадами. В конце его дает о себе знать злая натура старика: он отталкивает меня, свою родную дочь. Я не хочу больше жить, но и умереть не могу. И тут на сцену будто ураганом из-за кулис вдувает — пугал и птиц вместе, в странном союзе. Порхающим, чирикающим, переливчатым, шипящим, гремучим клубком, словно огромное перекати-поле, на сцену вываливается нечто совсем уж несообразное, тащит на себе, поддерживая клешнями бессчетных пугал, пустую птичью клетку неимоверных размеров, катком подминает под себя сад и с помощью шустрых лилипутов заглатывает в клетку дочку садовника. Взмывает в восторженном прыжке пугалоначальник, когда видит меня в клетке. Лохматая псина чертит вокруг меня свои черные, быстрые круги. Со мною на плечах, с ликованием во всех своих сочленениях, громыхая и вереща, удаляется тысячеголосое чудище. На сцене остается опустошенный сад. На сцене остается закутанная в тряпье прихрамывающая фигура — это злой старик-садовник. Еще раз, напоследок, возвращаются злорадные птицы и окружают старика — па де ша, па де баск. Он, пытаясь защититься, устало вздымает вверх руки в лохмотьях — и гляди-ка, первое же его движение ужасает, вспугивает птиц. Он превратился в птичье пугало, отныне он садовник и пугало в одном лице. Под его неистовое макабрическое птичьепугальное соло — господин Зайцингер не оставляет мысль самому выступить в этой партии — дается заключительный занавес этого последнего акта.»
Этот балет, столь вдохновенно описанный Йенни в письме к ее милому другу Харри, этот балет в трех действиях, столь безупречно и чисто разученный, этот удивительно оформленный балет, — Зайцингер собственноручно разрабатывал конструкции громкоголосых, изрыгающих пуговицы автоматов, — этот поистине пугалотворческий балет так никогда и не увидел свет рампы. Два господина из Государственного министерства пропаганды, пришедшие на генеральную репетицию, хотя и нашли первый акт прекрасным и многообещающим, во втором акте начали покашливать, а по окончании третьего дружно поднялись. Главная идея спектакля показалось им в целом двусмысленной и безысходно-мрачной. Они совершенно не ощутили необходимого жизнеутверждающего начала, ибо, как оба господина заметили почти что хором:
— Солдатам на фронтах хочется посмотреть что-нибудь веселенькое, а не эту жуткую загробную мистику.
Начались долгие переговоры. Мадам Нерода пустила в ход свои знакомства. В самых высших инстанциях уже изъявили склонность благожелательно ознакомиться с новым сценическим вариантом, но тут, прежде чем Зайцингер успел приштопать к балету веселый и вполне отвечающий положению на фронтах жизнеутверждающий финал, разрыв бомбы почти полностью уничтожил костюмы и декорации спектакля. Понес потери и творческий коллектив.
Хотя во время воздушной тревоги полагалось прерывать репетиции, на сей раз решили пройти сцену еще раз: дочка садовника своим танцем погружает в сон пугал, адскую псину, всех лилипутов и пугалоначальника — Йенни исполняла ее превосходно, только вот ее подъем все еще был недостаточно высок и бросался в глаза как маленький, но досадный изъян, особенно ощутимый на общем прекрасном фоне; только было Зайцингер собрался внести важные позитивные изменения в ход действия, — Йенни должна была заковать всех пугал и пугалоначальника, а затем передать их в распоряжение высших сил, то есть в руки теперь уже не злого, а насквозь положительного садовника, — но в тот самый миг, когда Йенни, сгибаясь под тяжестью нелепых наручников, одиноко и — из-за сложностей новой редакции — не вполне уверенно стояла на сцене, в выставочный зал, что около радиобашни, где проводились репетиции, угодила воздушная мина.
Склад, где хранились сложные механические приспособления, легкие балетные костюмы, переставные декорации, рухнул сразу, чтобы уже никогда не подняться. Пианиста Фельзнер-Имбса, который своими десятью пальцами сопровождал все репетиции, вдавило в клавиатуру, раз и навсегда. Четыре танцовщицы, два танцора, лилипутка Китти и трое рабочих сцены были ранены, к счастью, все легко. Сам балетмейстер Зайцингер остался цел и невредим, и, едва рассеялись дым и пыль, принялся хриплыми криками звать Йенни.
Он нашел ее лежащей на полу и сам высвобождал из-под обрушившейся балки ее ноги. Сперва вообще опасались самого худшего — гибели балерины. На самом деле балка только придавила ей правую и левую ступни. И вот тут-то, поскольку ее распухшим ногам стало тесно в узеньких балетных туфельках, и возникло впечатление, что у Йенни наконец-то отличный и высокий подъем, какой и должен быть у всякой настоящей балерины. — О, летите все сюда, воздушные сильфиды! Явитесь в ваших подвенечных нарядах, Жизель и Коппелия, и плачьте вашими хрустальными слезами. О, вы, несравненные Гризи и Тальони, Люсиль Гран и Фанни Черитто, сотките еще раз кружево вашего па-де-катра и рассыпьте розы на эти распухшие ступни. Пусть скажут свое «да» все светильники в Пале Гарнье[317], дабы в блеске парадного выхода легли в свои пазы все камушки и камни этой величественной пирамиды — первая кадриль и вторая кадриль, полные надежд звездочки кордебалета, маленькие партии и большие партии, первые танцовщики и уж после них, ожесточенные и недосягаемые, примы-балерины, этуали! Взлети, Гаэтано Вестрис[318]! И ты, воспетая Камарго[319], все еще неповторимая в твоем парящем антраша! Оставь своих бабочек и черных пауков, о ты, бог медленного прыжка и дух роз, Вацлав Нижинский. Неугомонный Новерр, прерви свое путешествие и сойди здесь. Запустите всю подвесную машинерию, чтобы, призрачный, холодный и воздушно-сильфидный, струился лунный свет. Злой Дягилев[320], наложи на нее свою волшебную руку. Забудь, хотя бы на миги этой боли забудь про свои миллионы, Анна Павлова[321]. И ты, Шопен, в мерцании свечей выхаркни еще раз свою кровь на клавиши[322]. Оторвитесь друг от друга, Белластрига и Архиспоза. Замри, еще раз замри, умирающий лебедь. Ляг, ляг же к ней, Петрушка[323]. Последняя позиция. Гран-плие.
Но сама Йенни продолжала жить — трудно и, увы, никогда больше не встав на пуанты. Пришлось ампутировать ей — как тяжело даже писать такое — пальцы обеих ног. Ей выдали обувь, неуклюжую, ортопедическую, для остатков ступней. А Харри Либенау, которого Йенни в прежней жизни любила, получил от нее сухое, на машинке напечатанное письмо, последнее. И он тоже, просила Йенни, пусть больше ей не пишет. Это окончательно и бесповоротно. Пусть попытается забыть — все, или почти все. «И я тоже постараюсь никогда больше о нас двоих не думать.»
А некоторое время спустя — Харри Либенау паковал чемодан, ему не терпелось в солдаты — пришла бандероль весьма грустного содержания. Там лежали, стопочкой, перевязанные шелковым шнурком — письма Харри, его почтовые полуправды. Вязаные детские кофточки и ползунки, законченные, розовые и голубые. И бусы он нашел, самодельные, из резинок от пивных бутылок. Харри подарил их Йенни, когда они были еще детьми, что играли на Акионерном пруду, на глади которого вместо водяных лилий плавали эти красные резинки.
Был когда-то трамвай,
он ходил от Казарменной площади в Лангфуре до Нижнего Данцига и назывался номер пять. Как и все трамваи, курсировавшие между Лангфуром и Данцигом, «пятерка» тоже останавливалась у Главного вокзала. Водителя этого, совершенно особого трамвая, про который еще скажут — «был когда-то трамвай» — звали Лемке; кондуктором в переднем, моторном вагоне был Эрих Вентцек; а кондукторшей в заднем, прицепном вагоне этого особенного трамвая была Тулла Покрифке. Она не работала больше на «двойке», что ходила до Оливы. Каждый божий день по девять часов кряду она ездила на «пятерке» — туда и обратно; пронырливая, будто рожденная для кондукторского ремесла, только немного рисковая; потому как в часы пик, когда трамвай был переполнен, она на умеренной скорости могла с передней площадки спрыгнуть, а на заднюю вскочить — в смену Туллы Покрифке безбилетников не было, даже ее двоюродному брату Харри и то приходилось раскошеливаться.
После того, как на конечной остановке «Казарменная площадь» в этом особом трамвае, про который еще скажут — «был когда-то трамвай», то бишь в трамвае двадцать два ноль пять, который в двадцать два семнадцать останавливался на Главном вокзале, Тулла Покрифке дала сигнал к отправлению, на площади Макса Хальбе, то бишь две минуты спустя, в ее вагон сел семнадцатилетний юноша, затолкнув на заднюю площадку картонный чемодан с укрепленными кожей углами и там же, на площадке, тотчас же закурив сигарету.
В вагоне было — да, в общем-то, и оставалось — почти пусто. На остановке «Немецкая Слобода» зашла пожилая супружеская пара, которая вскоре, уже у Спортзала, вышла. На Аллее Хальбе в прицепной вагон сели четыре сестры из Красного креста и взяли билеты с пересадкой до Соломенной Слободы. В моторном вагоне народу было побольше.
Покуда на задней площадке прицепного вагона кондукторша Тулла Покрифке чиркала что-то в свою путевую книгу, семнадцатилетний юноша неумело курил возле своего покачивающегося картонного чемодана. И только потому, что оба они — она со своей путевой книгой, он с непривычной сигаретой — друг друга знали и даже были родственниками, кузеном и кузиной, и потому лишь, что обоим предстояло сейчас прощанье навсегда, только поэтому трамвай пятого маршрута оказался особенным трамваем, а вообще-то он был трамвай как трамвай и шел по расписанию.
Когда Тулла дала звонок на остановке «Женская больница», она, захлопнув путевую книгу, произнесла:
— Что, уезжаешь?
Харри Либенау, с мобилизационным предписанием в нагрудном кармашке, ответил так, как того неукоснительно требует сцена разлуки:
— Да, и как можно дальше.
Туллина путевая книга, прозаический реквизит, торчала между замусоленными деревянными крышками.
— Выходит, тебе у нас разонравилось?
Поскольку Харри знал, что Тулла на «двойке» больше не работает, он решил, что поедет на вокзал трамваем пятого маршрута.
— Надо подсобить пруссакам. А то они без меня не справляются.
Тулла прихлопнула деревянными крышками.
— А мне казалось, ты вроде на флот хотел?
Харри предложил Тулле сигарету.
— У них там теперь делать нечего, во флоте.
Тулла запасливо сунула «юнону» в футляр своей путевой книги.
— Смотри, как бы тебя в пехоту не запихнули. У них там разговор короткий.
Харри разом обрубил этот диалог, пронизанный скорой разлукой.
— Вполне возможно. Только мне это совершенно безразлично. Главное, подальше отсюда, прочь из этой дыры.
Особый трамвай с прицепным вагоном трясся по длинной и прямой аллее. Пролетали мимо встречные трамваи. Но смотреть на улицу кузен и кузина не могли: синяя краска противовоздушного затемнения ослепила все окна. Так что пришлось им поневоле все время смотреть друг на друга; но никто и никогда не узнает, как смотрела Тулла на своего кузена Харри, когда тот старался наглядеться на нее впрок и про запас: Тулла, Тулла, Тулла! Прыщи на ее лбу почти засохли. Зато теперь она носила свежую шестимесячную завивку, на свои деньги. Коли нет красоты, надо брать чем можешь. Но все еще, по-прежнему и в последний раз, вместе с ней и вокруг нее ехал — от Казарменной площади до Ивового переулка — ее костный дурман, ее запах столярного клея. Сестры из Красного креста о чем-то болтали, наперебой и вполголоса. У Харри был полон рот вычурных, напыщенных слов, но ни одно словечко не могло прорваться, дабы проложить дорогу собратьям. За остановкой «Четыре времени года» он выдавил из себя:
— Ну, а как твой отец поживает?
Но Тулла ответила только передергом плеч и, в своей излюбленной манере, встречным вопросом:
— А твой?
На это и Харри только и оставалось, что пожать плечами, хотя отец его как раз поживал не слишком хорошо: из-за своих распухших ног столярных дел мастер не смог даже проводить сына на вокзал; а мать Харри никогда не выходила из дому без мужа.
Ну ничего, хоть один из родственников будет свидетелем расставания Харри с родными местами — кондукторская форма его кузине очень к лицу. Форменная шапочка задорным корабликом кренится в волнах шестимесячной завивки. На подъезде к Оливскому лесу она извлекает из билетной кассеты две израсходованных билетных книжки:
— Хочешь? Подарок на память!
Харри берет два картонных переплетика, в металлических зажимах которых стопками в палец толщиной торчат корешки оторванных трамвайных билетов. В тот же миг пальцы его снова становятся мальчишескими и оттягивают корешки, чтобы отпустить их с упругим треском. Тулла смеется своим резким и почти добродушным смехом. И только тут спохватывается: за всей этой прощальной трепотней она кое о чем забыла — ее кузен Харри не заплатил за проезд. Пустыми билетными книжками играется, а нормальный билет не берет. И, кивнув на книжки в озорных пальцах кузена, Тулла замечает:
— Можешь забрать, только за проезд все равно платить надо. Один взрослый и багаж.
Сунув кошелек обратно в задний карман, Харри нашел в боковом темно-синем стекле на задней площадке бесцветную прозрачную щелочку; кто-то процарапал ее ногтем в затемнении, чтобы Харри не таращился больше на кузину, а мог напоследок одним глазком посмотреть на панораму приближающегося города. И луна светит, как по заказу. Он пересчитал башни. Все на месте. И все вырастают ему навстречу. Какая картинка, хоть вырезай! Кирпичная готика так утомила его глаза, что они затуманились: неужто слезы? Одна слезинка. Потому что Тулла уже объявила его остановку — «Главный вокзал!» — и Харри уже опустил в карман две пустых билетных книжки.
Только он ухватился за ручку чемодана, Тулла протянула ему свою маленькую ладошку с резиновым напальчником на большом пальце — чтобы легче билеты отрывать и деньги отсчитывать. Вторая ее рука уже ждала на шнурке кондукторского звонка:
— Смотри там, чтобы тебе нос не отстрелили, слышишь!
И Туллин кузен послушно кивнул, и продолжал кивать, когда она уже дала сигнал к отправлению и оба они — он для нее, она для него, он на вокзальной площади, она на отъезжающей «пятерке» — стали уменьшаться в размерах.
Что же удивительного, что в ушах у Харри Либенау, пока он всю дорогу от Данцига до Берлина трясся в скором поезде на своем чемодане, в такт перестуку вагонных колес звучала одна и та же кошнадерская песенка на совсем простые слова: «Тулла-Тулла-Тулла-Тул. Тулла-Тул. Тулла-Тул».
Была когда-то песенка,
в ней говорилось о любви, она была коротенькая, легко запоминалась и до того ритмичная, что рядовой мотопехоты Харри Либенау, отправившийся из дому с двумя трескучими билетными книжками обучаться страху, всегда — на коленях и лежа, во сне и над миской горохового супа, чистя винтовку и елозя брюхом по-пластунски, задремывая и на бегу, в противогазе и дергая чеку настоящей ручной гранаты, во время развода караулов, в поту и в слезах, дрожа от холода и на водяных мозолях, орлом на толчке и принимая воинскую присягу в Богом забытом Фаллингбостеле, на карачках по стерне в поисках зерна, то бишь клянясь и кляня, отстреливаясь и обсираясь, а также надраивая сапоги и расхватывая последний кофе, — всегда и везде держал эту песенку в зубах, такая она была неотвязная и на все случаи жизни подходящая. Потому как когда он вбивал гвоздь в створку своего шкафчика, чтобы повесить туда фотографию в рамочке — Вождь с черной овчаркой — молоток и шляпка гвоздя в один голос подпевали: Тулла-Тул, Тулла-Тул. И когда примыкание штыка разучивали, три основных движения очень ритмично туда же вписывались: Тулла-Тулла-Тул! И когда за воинским складом Кнохенауэр-два ему пришлось стоять ночью на часах и сон железной хваткой стискивал ему кадык, он будил себя бодрой песенкой: Тул-Тул-Тулла! Любая маршевая песня, будь то про Эрику, Розмари, Аннушку или хоть про в огороде бузину, легко подлаживалась к этому универсальному Туллиному тексту. И когда он отлавливал на себе вшей и из вечера в вечер — покуда всю роту в Мунстере не запустили в санобработку — обследовал швы своих кальсон и сорочек хрусткими и беспощадными ногтями, он не придавливал тридцать две вши за раз, нет, он тридцать два раза обламывал Туллу. И даже когда увольнение до побудки предоставило ему возможность впервые и совсем по-быстрому утолить свой пыл с настоящей девчонкой, он выбрал для этой цели не медсестру и не зенитчицу, а трахнул в осеннем люнебургском парке люнебургскую же трамвайную кондукторшу, ее звали Ортруд, но он ритмично приговаривал свое «Тулла! Тулла! Тулла!» Чем даже доставил своей партнерше некоторое, впрочем, весьма умеренное удовольствие.
И все это — песенка о Тулле, воинская присяга, вши и Люнебург — исправно отображается в любовных письмах, по три штуки в неделю, письмах Тулле. История вершится в январе, феврале, марте; он же ищет для Туллы только вневременнные, вечные слова. Где до между Балатоном и Дунаем четвертая кавалерийская бригада отражает контратаки противника, а он живописует своей кузине ландшафтные красоты люнебургских окрестностей. Отвлекающий бросок, не достигнув Будапешта, иссякает где-то за Братиславой; а он, не ведая усталости, сравнивает Люнебургскую пустошь с Тухельской. В районе Бастони небольшие территориальные приобретения — а он шлет Тулле мешочек можжевеловых ягод вместе со своими фиолетовыми вересковыми приветами. Расположившаяся южнее Болоньи 362-я пехотная дивизия в состоянии сдерживать танковые атаки врага только при условии одновременного выравнивания линии фронта; а он тем временем сочиняет стихи, — для кого бы это? — в которых, и это в начале января, по прежнему фиолетово цветет вереск! День деньской тысячи американских бомбардировщиков заходят на цели в районе Падерборна, Билефельда, Мангейма, Кобленца — он же невозмутимо читает Лёнса[324], который так заметно влияет на стиль его писем и с первых строк окрашивает стихи к Тулле в фиолетовые тона. Под Барановым крупное наступление неприятеля — а он даже глаз не поднимет, выводит своей школьной авторучкой одно-единственное, не голубое и не красное, имя. Оставлен тарновский плацдарм, неприятельские прорывы до Инстера; а обученный рядовой мотопехоты Харри Либенау подыскивает слово-заклинание, рифмующееся с именем Тулла. Враг наносит удары в направлении Леслау через Кутно, прорывается под Хоэнзальцой — но наш мотопехотинец из маршевой роты Мунстер-Север все еще не подыскал подходящую рифму к своей кузине. Передовые отряды танковых частей неприятеля взяли Гумбинен и с ходу форсируют Ротминте; тут нашего мотопехотинца Харри Либенау с маршевым приказом и походным пайком, но без жизненно необходимого, все еще не найденного слова, посылают в Катовице, где ему надлежит сомкнуться с 18-й танковой дивизией, которую в срочном порядке перебрасывают с Дуная в Верхнюю Силезию. Но уже потеряны Гляйвиц и Оппельн, достигнуть Катовиц не удается, и новый приказ направляет мотопехотинца Харри Либенау с пополненным походным довольствием в Вену — тем самым ему предоставляется возможность отыскать оттянутую с юго-востока воздушно-десантную дивизию, а заодно, быть может, и заветную крышечку от горшочка по имени Тулла. Линия фронта уже в двадцати километрах к востоку от Кенигсберга, а в Вене мотопехотинец Харри Либенау взбирается на собор Святого Стефана и под полупасмурным небом высматривает — кого? Передовые отряды танковых частей неприятеля выходят к Одеру и закрепляются на плацдарме под Штайнау — а Харри шлет теперь уже нерифмованные открытки, но сборного пункта обещанной ему воздушно-десантной дивизии так и не находит. Закончено Арденнское сражение. Будапешт пока еще держится. Низкая активность боевых действий в Италии. Генерал-полковник Шернер принимает на себя командование[325] центральным участком фронта. Заградительный барьер под Летценом прорван. На подступах к Глогау успешные оборонительные бои. Передовые отряды неприятеля в Прусской Голландии. География! Билитц — Плесс — Ратибор. Кто слыхал, где расположен Циленциг? Ибо именно туда, к северо-востоку от Кюстрина, определяет мотопехотинца Харри Либенау с обновленным походным пайком обновленный походный приказ; но уже в Пирне его останавливают и придают некоему безымянному отделу комплектования, который в освобожденном по такому случаю от учеников и учителей здании начальной школы дожидается прибытия 21-й танковой дивизии, перебрасываемой из Кюстрина в район севернее Бреслау. Резерв пополнения. В школьном подвале Харри отыскивает энциклопедию, но отказывается от идеи рифмовать Туллу с именами вроде Суллы или Абдуллы ввиду отсутствия смысла. Обещанная танковая дивизия так и не приходит. Но Будапешт пал. Глогау отрезано. Резерв пополнения вместе с мотопехотинцем Харри Либенау направляется неведомо куда, но направляется. И каждый день минута в минуту личному составу выдается по ложке джема «Ассорти», треть буханки пайкового хлеба, одна шестнадцатая часть килограммовой банки тушенки и по три сигареты. Директивы Шернера: партийная «кузница героев» накрылась[326]. Весна в прорыве. Почки лопаются как выстрелы между Троппау и Леобшютцем. Под Шварцвассером расцветают четыре весенних стихотворения. В Сагане, перед тем, как форсировать Бобру, мотопехотинец Харри Либенау знакомится с силезской девушкой, которую зовут Улла и которая заштопает ему пару шерстяных носков. А в Лаубане его заглатывает оттянутая с запада и переброшенная в Силезию 25-я мотопехотная дивизия.
Теперь он хоть знает, куда относится. Не надо исполнять командировочные предписания, отсылающие его на поиск бесследно исчезнувших частей. В тяжких раздумьях и мучительных поисках рифмы он вместе с пятью другими мотопехотинцами сидит на броне самоходного орудия, которое то и дело перебрасывают с места на место между Лаубаном и Саганом, но не на передний край. Почты он не получает. Это, впрочем, ничуть не мешает ему и дальше писать письма своей кузине Тулле, которая вместе с группой армий «Висла» отрезана в Данциге и либо сидит дома в Лангфуре, либо разъезжает в трамвае кондукторшей; ибо трамвай ходил до самого конца.
Было когда-то самоходное орудие,
так называемый «Танк-4», старая модель, ее надлежало разместить на позиции за линией фронта в условиях гористой силезской местности. Ища укрытия от авиации противника, танк всей своей сорокатонной громадой на двух гусеницах задним ходом въехал в деревянный сарай, защищенный от взлома только одним подвесным замком.
Но поскольку сарай принадлежал силезскому стеклодуву, в нем, расставленные на полках и упакованные в солому, находились около пятисот, а то и больше, изделий из стекла.
Встреча между въезжающим задним ходом в сарай гусеничным самоходным орудием и силезским стеклом повлекла за собой два события. Во-первых, танк нанес силезскому стеклу значительный урон; во-вторых, производимые в разных тональностях звуки лопающегося, колющегося, рушащегося стекла оказали воздействие на мотопехотинца Харри Либенау, который, будучи придан самоходному орудию в качестве пехотного сопровождения, стоял рядом с вышеозначенным сараем, слышал его вопли, в результате чего обрел новый язык. Отныне никакого фиолетового томления! И никогда больше не станет он искать рифму к имени Тулла. Конец стихам, написанным кровью сердца и гимназической спермой. Отныне и впредь, с тех пор, как вопли стеклянного сарая хрустальными шариками закатились ему в уши, он записывает в свой дневник одни только простые предложения. Танк заезжает задом в сарай со стеклом. Война еще скучнее, чем школа. Все ждут секретного оружия. После войны я хотел бы часто ходить в кино. Вчера видел первого убитого. Мою противогазную коробку я наполнил клубничным джемом. Нас вроде бы переводят. Я пока не видел ни одного русского. Временами я уже больше не думаю о Тулле. Наша полевая кухня исчезла. Я читаю все время одно и то же. Беженцы запрудили все дороги и уже ни во что не верят. Ленс и Хайдеггер во многом ошибаются. В Бунцлау на семи деревьях висели пять солдат и два офицера. Сегодня утром мы обстреляли участок леса. Два дня я не мог ничего записать в дневник, потому что у нас было соприкосновение с противником. Многих наших уже нет в живых. После войны я напишу книгу. Нас хотят перебросить в Берлин. Там сражается Вождь. Я теперь отношусь к боевой группе Венка. Нам поручено отстоять столицу Рейха. Завтра у Вождя день рожденья. Интересно, с ним ли его собака?
Был когда-то Вождь и Канцлер Рейха,
20-го апреля 1945 года ему исполнилось пятьдесят шесть лет. Поскольку в тот день центр столицы, а вместе с ним, следовательно, и правительственный квартал вместе с Рейхс-Канцелярией время от времени подвергались артиллерийскому обстрелу, скромное торжество было проведено в бункере Вождя[327].
Известные имена, в том числе и тех, кто и так регулярно принимал участие в военных совещаниях у Вождя — вечерние заседания, дневные заседания — образовали поздравительный хор: генерал-фельдмаршал Кейтель, подполковник фон Йон, капитан третьего ранга Людде-Нойрат, адмиралы Фосс и Вагнер, генералы Кребс и Бургдорф, полковник фон Белоф, руководитель партийной канцелярии Рейха Борман, посланник Хевель из министерства иностранных дел, госпожа Браун, стенографист штаб-квартиры Вождя доктор Херргезелль, гауптштурмфюрер СС Гюнше, доктор Морелль,[328] обер-группенфюрер СС Фегеляйн и господин и госпожа Геббельс со всеми шестью детишками.
Когда гости закончили произносить поздравления, Вождь и Канцлер недоуменно обвел глазами присутствующих, словно последнего и крайне необходимого ему поздравления все еще недостает:
— А где пес?[329]
И тотчас же все гости Вождя принялись искать любимую собаку Вождя. Послышались восклицания: «Принц! Сюда, Принц!» Личный адъютант Вождя, гауптштурмфюрер СС Гюнше, уже прочесывал сад при Канцелярии Рейха, хотя эта территория уже неоднократно обстреливалась артиллерией противника. В бункере меж тем строились самые невероятные догадки. Высказывались предположения одно нелепей другого. Единственным, кто не растерялся и сразу овладел ситуацией, был обер-группенфюрер СС Фегеляйн. Он, тут же поддержанный полковником фон Белоф, немедленно сел за телефоны, которые соединяли бункер Вождя со всеми штабами, а также с батальоном сопровождения Вождя, что располагался вокруг Канцелярии. «Всем! Всем! Всем! Пропала собака Вождя! Отзывается на кличку Принц. Племенной кобель. Черная немецкая овчарка по кличке Принц. Свяжите меня с Цоссеном[330]. Вниманию всех! Собака Вождя пропала!»
В ходе последующего заседания военного совета — только что поступившие оперативные данные подтверждают: передовые отряды танковых частей неприятеля продвинулись южнее Коттбуса и ворвались в Калау — все мероприятия по обороне столицы координируются с немедленно задействованной операцией «Волчья яма»[331]. Поэтому 4-я танковая армия, временно отложив запланированное контрнаступление южнее Шпремберга, срочно перекрывает шоссе Шпремберг-Зенфтенберг, препятствуя возможному уходу собаки Вождя к неприятелю. С той же целью группа Штайнера превращает стратегический плацдарм намечаемого из района Эберсвальде отвлекающего удара на юг в глубоко эшелонированную зону перехвата. В рамках планомерного развития операции все имеющиеся в распоряжении машины 6-го воздушного флота начинают разведку с воздуха с целью выявления возможных путей бегства собаки Вождя по кличке Принц. Далее, строго в соответствии с планом «Волчья яма», линия фронта переносится за реку Хафель. Из резерва главного командования срочно формируются Поисковые команды собаки Вождя (ПКСВ), которые посредством радиотелефона поддерживают постоянную связь с частично моторизованными, частично отобранными из велосипедных рот Частями перехвата собаки Вождя (ЧПСВ). Корпус Хольсте окапывается. 12-я же армия Венка, напротив, с юго-запада срочно начинает отвлекающий маневр, перерезая пути возможного прохождения собаки Вождя, которая по имеющимся предположениям намерена перебежать именно к западному противнику. Во осуществление плана «Волчья яма» 7-й армии надлежит выйти из соприкосновения с 1-й американской армией и в районе между Эльбой и Мульде выстроить с запада заградительный заслон. На линии Ютербог-Торгау запланированные противотанковые рвы заменяются западнями на собаку Вождя типа «волчья яма». 12-я армия, армейская группа «Блюментритт» и 38-й танковый корпус переходят в непосредственное подчинение Верховного Главнокомандования. Последнее незамедлительно переводится из Цоссена в Ванзее и образует под началом генерала Бургдорфа Оперативный штаб операции «Волчья яма» — ОШОВЯ.
Однако, несмотря на все эти, оперативно произведенные передислокации, помимо самых заурядных фронтовых сообщений, — советские передовые части достигли линии Тройенбритцен — Кенигсвустрехаузен, — никаких иных сведений, проливающих свет на маршрут собаки Вождя, не поступило.
В девятнадцать сорок, во время вечернего совещания, фельдмаршал Кейтель дает телефонограмму начальнику штаба Штайнеру: «Согласно приказу Вождя вам предписывается силами 25-й мотопехотной дивизии закрыть брешь в районе Коттбуса и тем самым предотвратить возможный прорыв собаки».
На это из штаба армейской группы Штайнера поступает ответная телефонограмма: «В соответствии с указанием от семнадцатого четвертого 25-я мотопехотная дивизия выведена из района Баутцена и придана 12-й армии. Силами имеющихся резервов направления возможного прорыва собаки перекрыты.»
Наконец, ранним утром 21-го апреля, неподалеку от ожесточенно атакуемого противником участка фронта на линии Фюрстенвальде — Штраусберг — Бернау замечена и подстрелена черная немецкая овчарка, которая, однако, после доставки ее в штаб-квартиру и тщательного осмотра доктором Мореллем как собака Вождя не идентифицирована.
После этого случая, согласно указанию ОШОВЯ, во все задействованные в районе Большого Берлина части поступают данные об основных измерениях собаки Вождя.
Сформирование основного участка обороны между Люббеном и Барутом подхвачено аналогичным направлением главного удара советских танковых частей. Лесные пожары, распространяющиеся несмотря на моросящий дождь, образуют природные противособачьи заграждения.
22-го апреля неприятельские танковые части, преодолев рубеж Лихтенберг-Нидершенхаузен-Фронау, вторгаются во внешнее оборонительное кольцо столицы Рейха. Двукратные сообщения о поимке собаки в районе Кенигсвустерхаузен оказываются недостоверными, поскольку оба пойманных объекта не могут быть идентифицированы как кобели.
Оставлены Дессау и Биттерфельд. Американские танковые части предпринимают попытки форсировать Эльбу под Виттенбергом.
23-го апреля гауляйтер и комиссар по делам обороны доктор Геббельс распространяет следующее заявление: «Вождь находится в столице Рейха и принял на себя командование всеми вооруженными силами, прибывшими в район решающей битвы. Поисковые команды собаки Вождя и их резервные части подчиняются отныне только указаниям Вождя».
ОШОВЯ докладывает: «Временно занятый противником вокзал Кепеник в результате контратаки отбит. 10-я рота перехвата собаки Вождя (10-я РПСВ) и 21-я поисковая команда собаки Вождя (21-я ПКСВ), осуществляя контроль за Пренцлауэрской аллеей, остановили прорыв противника в этом районе. При этом были захвачены две советских собакоулавливающих установки. Тем самым установлено, что восточный противник об операции „Волчья яма“ осведомлен». Поскольку неприятельские радиостанции и продажная зарубежная пресса снова и снова распространяют заведомо искаженные, провокационные сообщения о пропаже собаки Вождя, ОШОВЯ с 24-го апреля передает указания Вождя, застенографированные доктором Херргезеллем, новым шифром в соответствии с принятым ранее «философским» языковым кодом: «Чем улавливается явность племенного кобеля Принца?»
«Изначальная явность собаки Вождя улавливается дальночувствием».
«Улавливаемая дальночувствием собака Вождя устанавливается как что?»
«Улавливаемая дальночувствием собака Вождя устанавливается как Ничто».
На это следует обращение ко всем: «Улавливаемое дальночувствием Ничто устанавливается как что?»
На это штаб группы Штайнера из командного пункта Либенверда отвечает: «Улавливаемое дальночувствием Ничто в оперативном районе группы Штайнера установлено как Ничто».
На это следует новое обращение Вождя ко всем: «Является ли улавливаемое дальночувствием Ничто предметом и вообще сущим?»
На это поступает незамедлительный ответ из оперативного штаба группы Венка: «Улавливаемое дальночувствием Ничто является дырой. Ничто — это дыра в 12-й армии. Ничто — это черная дыра, только что пробежавшая мимо. Ничто — это черная бегающая дыра в 12-й армии».
Новое обращение Вождя ко всем гласит: «Улавливаемое дальночувствием Ничто бегает. Ничто — это улавливаемая дальночувствием дыра. Оно установимо и подлежит обследованию. Черная, бегающая, улавливаемая дальночувствием дыра обнажает Ничто в его исконной явности».
Вслед за этим дополнительные указания ОШОВЯ: «Первейшим и главным образом надлежит обследовать все виды столкновений между улавливаемым дальночувствием Ничто и 12-й армией на предмет выявления характерных структур подобных столкновений. Отныне и впредь с особой тщательностью обследовать все районы имевших место столкновений в окрестностях Кенигсвустерхаузена на предмет их субстантивного содержания. Эксплуатационная готовность и профилактика контактоопосредующего прибора „Волчья яма-1“ и дополнительной установки „Волчий пеленг“ обеспечат своевременное укрытие улавливаемого дальночувствием Ничто в случае его прибытия. Отсутствие наличия искомого и пока не обретенного будет преодолеваться посредством наступления периода течки у собранных и готовых к подпусканию в порядке эксперимента сук, поскольку улавливаемое дальночувствием Ничто изначально и всегда изъявляло и по сей день должно изъявлять радостную готовность к покрытию».
На экстренное сообщение из района ожесточенных боев по линии Нойбабельсберг-Целендорф-Нойкельн: «Ничто визуально установлено между танками противника и нашим передним краем. Ничто бегает на четырех ногах», — следует ответ Вождя прямым текстом: «Ничто на бегу запечатлеть. Всякая и любая деятельность улавливаемого дальночувствием Ничто должна быть субстантивирована, имея в виду окончательную победу и последующее увековечение оного в мраморе или в ракушечнике».
Лишь 25-го апреля генерал Венк, 12-я армия, отвечает на это уже из района Науэн-Кетцин: «Ничто на бегу запечатлено и субстантивировано. Улавливаемое дальночувствием Ничто на всех участках передовой сеет страх. С нами страх. Страх лишает нас дара речи. Конец связи».
После того, как оперативные донесения боевых соединений Хольсте и Штайнера тоже не обходятся без упоминаний об аналогичном страхе, по прямому указанию Вождя ОШОВЯ 26 апреля адресует всем частям следующую директиву: «Поскольку страх препятствует восприятию Ничто, предписывается с сего часа преодолевать его посредством разговоров и пения. Улавливаемое дальночувствием Ничто и впредь не подлежит отрицанию. Ничто не может повергнуть в страх столицу Рейха во всей ее территориальной целокупности».
Поскольку, однако, оперативные донесения всех боевых соединений и далее обнаруживают готовность к страху, новая шифровка всем частям передает дополнение к указанию Вождя от 26 апреля: «12-я армия обязана создать противовес настроениям тлетворной апатии, распространившимся в столице Рейха. Бытийным проявлениям в Штеглице и на южной окраине Темпельхофского аэродрома надлежит продвинуть поприще самоосуществления в сторону неприятеля. Решающую битву немецкого народа следует вести в духе улавливаемого дальночувствием Ничто».
На экстренное указание генерала Бургдорфа, начальника ОШОВЯ, 6-му воздушному флоту: «Между Гегелем и Сименсштадтом впереди вражеских танковых дозоров замечено бегущее Ничто. Проведите разведку с воздуха», — 6-й воздушный флот через некоторое время прямым текстом отвечает: «Бегущее Ничто установлено визуальным наблюдением между Силезским и Герлицким вокзалами. Ничто не является предметом и вообще сущим, следовательно, не является и собакой».
В ответ на это по указанию Вождя вводится новый код и прямым текстом следует директива 6-му флоту за подписью полковника фон Белоф: «Врабатываясь в Ничто, собака уже вышла за пределы сущего и отныне будет именоваться Трансценденцией!»
27-го оставлен Бранденбург. 12-я армия достигает Белитца. В ответ на поступающие множественные сообщения об усиливающемся отрицании собаки Вождя по кличке Принц и ее конспиративных наименований «Ничто» и «Трансценденция», в четырнадцать-двенадцать следует приказ Вождя всем частям: «Любые проявления негативизма в отношении бегущей Трансценденции преследуются отныне военно-полевым судом».
Поскольку оперативных донесений нет, а панические тенденции установлены уже даже в правительственном квартале, принимаются и оглашаются самые решительные меры: «Ввиду особо негативистского отношения к улавливаемой дальночувствием Трансценденции окончательно и бесповоротно устанавливается бывшесть следующих офицеров» — далее идет перечень фамилий и званий. И лишь теперь, после неоднократных запросов Вождя: «Где передовые отряды Венка? Где отряды Венка? Где Венк?» — оперативный штаб Венка, 12-я армия, отвечает 28-го апреля: «Залегли южнее Швиловского озера. В результате взаимодействия с 6-м воздушным флотом установлено, что ввиду плохих погодных условий Трансценденцию разглядеть невозможно. Конец связи».
Отрицательные донесения поступают и от Халлейских ворот, от Силезского вокзала и с Темпельхофского аэродрома. Оперативное пространство разбилось на городские площади. Собакоулавливающий пост на Александерплац якобы установил визуальным наблюдением двенадцатиногую Трансценденцию, бегущую впереди танков противника. Этому противоречит донесение из района Пренцлау, где видели Трансценденцию о трех головах. Почти одновременно с этим в штаб-квартиру Вождя поступает донесение из 12-й армии: «Легко раненный мотопехотинец утверждает, что в саду одной из вилл на Швиловском озере видел собаку, нетрансцендентальную, покормил ее и называл кличкой Принц».
На это ответный запрос Вождя, прямым текстом: «Фамилия мотопехотинца как?»
Ответ 12-й армии: «Мотопехотинец Харри Либенау, легко ранен при раздаче еды».
На это Вождь прямым текстом: «Мотопехотинец Либенау сейчас именно где?»
12-я армия на это: «Мотопехотинец Либенау вследствие ранения отправлен в лазарет в западном направлении».
На это Вождь прямым текстом: «Отправку прервать. Мотопехотинца 6-м воздушным флотом на территорию сада при Канцелярии доставить и приземлить».
На это генерал Венк, 12-я армия, Вождю прямым текстом: «Ускользновение отпущенного на тонущую территориальную целокупность Большого Берлина вплоть до окончательного трансцендирующего пожертвования высвобождает конечную структуру».
Следующая директива Вождя: «Вопрос о собаке есть вопрос метафизический и оставляет немецкий народ во всей его целостности под большим вопросом», — заканчивается его известными, историческими словами: «Берлин останется немецким. Вена снова будет немецкой. И никто и никогда не сможет подвергнуть отрицанию собаку».
Вслед за этим поступает чрезвычайное сообщение: «Вражеские танки вторглись в Мальхин». И сразу же после этого незашифрованное сообщение в Канцелярию Рейха: «Вражеские радиостанции передают: собаку видели на восточном берегу Эльбы».
Между тем в районе уличных боев в Кройцберге и Шенеберге замечены советские листовки провокационного содержания, в которых утверждается, что беглая собака Вождя уже захвачена восточным противником.
Далее, в оперативной сводке от 29 апреля говорится: «В ходе ожесточенных уличных боев вдоль Потсдамской улицы и на площади Бель-Альянс происходит самовольный самороспуск Поисковых команд собаки Вождя. Акции советской радиоспецпропаганды, передающей усиленное воспроизведение натурального собачьего лая, оказывают деморализующее воздействие на личный состав. Белиц снова потерян. От 9-й армии больше никаких известий. 12-я армия по-прежнему пытается оказывать давление на Потсдам ввиду курсирующих слухов о смерти собаки на исторической территории[332]. Сообщения об английских собакоулавливающих постах вокруг плацдарма Лауэнбург на Эльбе и о поимке собаки американцами в Фихтельских горах пока остаются неподтвержденными». Поэтому последнее указание Вождя новым шифром и всем частям гласит: «Собака сама, как таковая, была здесь, остается здесь и пребудет здесь».
На это генерал Кребс генерал-полковнику Йодлю: «Прошу предварительной ориентировки о преемнике Вождя в случае его возможной гибели».
Засим, судя по оперативной сводке от 30 апреля, Оперативный штаб операции «Волчья яма» (ОШОВЯ) был распущен. Поскольку ловля собаки ни в трансценденции, ни на исторической территории результатов не принесла, Верховное Командование отводит 12-ю армию из района Потсдам-Белиц, вследствие чего танки неприятеля вторгаются в Шенеберг.
После чего гросс-адмиралу Деницу поступает радиограмма за подписью Бормана: «Вместо бывшего рейхсмаршала Геринга Вождь назначает Вас, господин гросс-адмирал, своим преемником. Письменная доверенность, а также родословная собаки уже высланы».
Вслед за чем намерение Вождя приводится в исполнение. А промелькнувшее в Швеции неофициальное сообщение, согласно которому собака Вождя подводной лодкой доставлена в Аргентину, не опровергается. Провокационному сообщению советских источников: «Разорванная шкура двенадцатилапой черной собаки найдена в развалинах здания балетного театра» противоречит информация Баварского освободительного комитета, распространенная радиопередатчиками из Эрдинга: «Труп черной собаки обнаружен перед Галереей Полководцев в Мюнхене». После чего почти одновременно поступают сообщения о трупах собаки Вождя, которые всплыли: первый — в Ботническом заливе, второй — на восточном побережье Ирландии, третий — на испанском побережье Атлантики. Последние предположения, высказанные Вождем в беседе с генералом Бургдорфом и затем внесенные в завещание Вождя, звучали так: «Пес Принц попытается достигнуть государства Ватикан. Буде Пачелли заявит на него притязания, немедленно оные отринуть, ссылаясь на данную приписку к завещанию».
Вслед за чем наступают сумерки бытия. По развалинам вещественного мира карабкается мировое время, оперативная сводка от 1 мая сообщает: «В центре столицы отдельные части, усиленные бойцами поисковых команд собаки Вождя, продолжают героическое сопротивление на суженных участках обороны».
Вслед за чем в скромном осознании собственной неприменимости откланивается всякая непреложность, руководитель партийной канцелярии Рейха Борман сообщает гросс-адмиралу Деницу: «Вчера пятнадцать тридцать Вождь скончался. Завещание в силе и в пути. Любимая собака Вождя, черный кобель жесткошерстной немецкой овчарки по кличке Принц, в соответствии с указанием от 29-го апреля, является подарком Вождя немецкому народу. Прием подтвердить».
Вслед за чем последние радиопередатчики запускают «Сумерки богов». Во имя Его. Вслед за чем уже не остается минутки времени на минуту молчания — во имя Его. Вслед за чем остатки группы армий «Висла», остатки 12-й и 9-й армий, остатки частей Хольсте и Штайнера пытаются западнее линии Демитц-Висмар просочиться в сферу действия англичан и американцев.
Вслед за чем в правительственном квартале столицы Рейха наступает радиотишина. Территориальная целокупность, нетие, в полной готовности к страху, разъятию и перемонтажу. В былом величии. В былой целостности. Берлин во всей своей изготовке и восстановимости. Окончательность. Конец.
Но небо над конечной структурой вслед за этим почему-то не померкло.
Был когда-то пес,
он принадлежал Вождю и был его любимым псом. И однажды этот пес от Вождя сбежал. С чего бы это?
Вообще-то собаки не говорят, но в этом случае, на заданный по большому счету вопрос «Почему?» — пес заговорит и ответит.
— А потому как надоело вечное туда-сюда. Потому как нет надежного «Пес, сюда!» и «Пес, место!», нет никакого здесь и сейчас. Потому как кости повсюду зарывал и нигде не успевал отрыть. Потому как никакого выпрыга. Потому как все время только взаперти. Потому как все эти собачьи годы вечно в разъездах от плана к плану, и у каждого своя секретная кличка: план «Белый» длится восемнадцать дней. А когда на севере начинаются везерские маневры, одновременно задействуется операция «Хартмут» — для защиты везерских маневров. Из плана «Желтый», направленного против нейтральных малых государств, развивается затем операция «Красный», протягивая стрелы аж до испанской границы. И уже осеннее путешествие готовит операцию «Морской лев», дабы поставить на колени вероломный Альбион; но потом трубят отбой. Зато уже накатывается на Балканы «Марита». Господи, какому поэту он платит? Кто для него сочиняет? Операция «Ель» против товарищей по присяге; но из этого ничего не выходит. «Барбаросса» и «Серебристая лиса» против недочеловеков; тут кое-какой толк есть. Вместе с «Зигфридом» это позволяет дойти от Харькова до Сталинграда. Зато уж там 6-й армии не поможет ни «Гром», ни «Зимняя гроза». Тогда пусть «Фридрих I» и «Фридрих II» еще раз попытаются. Стремительно отцветает «Осеннее безвременье». «Деревенский мост» в Данию рушится. «Смерч» должен выровнять линии фронтов. «Буйвол» торкается туда-сюда — запахло стойлом. Домой! Домой! Даже псу уже достаточно, но он, верный, как пес, ждет, волнуется: выстоит ли под Курском свежеспланированная «Цитадель» и что получится из «Прыжка конем» против вражеских караванов на Мурманск. Но увы и ах! Где счастливые времена, когда «Подсолнух» пересаживали в Африку, когда «Меркурий» поощрял торговлю на Крите, когда «Мышь» вгрызалась в Кавказские хребты. Остались только «Майская гроза», «Шаровая молния» и «Кекс» супротив партизан Тито. «Дуб» должен снова водрузить на коня Дуче. Но западные супостаты — «Густав», «Людвиг» и «Взломщик II» — высаживаются на сушу и учиняют при Неттуно «Утреннюю зарю». И уже распускается в Нормандии вражеский «Цветок». И в Арденнах ни «Гриф», ни «Осенний туман», ни «Страж» ничего не могут с ним поделать. Но еще до того в бескроличьем «Волчьем логове» бабахает бомба, не причинив, впрочем, псу никакого вреда, — и все же отбивает у него всякую охоту: баста! Довольно! Сколько можно таскать живую тварь туда-сюда?! Спецпоезда, спецобслуживание, спецкормежка, но никакого же выгула! И это когда вокруг такая природа!
О, пес-путешественник, пес-странник! Из Бергхофа в Фельзеннест — «Орлиное гнездо». Из Сопотского зимнего сада в Танненбург. Из Шварцвальда в «Волчье ущелье I». Во Франции Франции не видел, а в Бергхофе видел одни облака. К северо-востоку от Винницы, в рощице, где якобы полно лис, расположился лагерь «Вервольф» — «Оборотень» значит. Только и знал, что мотаться из Украины в Восточную Пруссию и обратно. Из «Волчьего логова» в «Волчье ущелье» номер два. Потом день, один только день под самым небом, в «Орлином гнезде», чтобы окончательно уползти в нору, под землю — вниз, в бункер Вождя. День за днем, день и ночь — бункер, только бункер! После Орла, Волка и еще раз Волка — бункер, день-деньской бункер! После облаков и Скалистого гнезда, после Танненбурга и шварцвальдского воздуха — только затхлая бункерная вонь!
Нет, этого никакой пес не выдержит. Вот почему после неудачного плана «Зубной врач» и после беспомощной операции «Опорная плита» пес твердо намерен принять участие в запланированном переселении западных готов. Псу требуется выпрыг. Псу нужно обретение себя в пространстве. И-чтобы-никогда-больше-верен-как-пес. И тогда пес, который вообще и как правило разговаривать не умеет, в порядке исключения все же говорит: «все, баста, я так больше не играю!»
Покуда в бункере Вождя полным ходом шли приготовления к дню рождения Вождя, пес как бы невзначай прокрался во внутренний двор Имперской канцелярии. Когда пожаловал рейхсмаршал, он, воспользовавшись суматохой, проскользнул мимо двойного поста на улицу и сразу же взял путь в юго-западном направлении, поскольку из оперативных сводок слышал, что там под Коттбусом образовался прорыв линии фронта. Но, хотя брешь в линии фронта простиралась широко и гостеприимно, при виде передовых отрядов советских танковых частей пес к востоку от Ютеборга предпочел повернуть, отказавшись тем самым от маршрута восточных готов, и помчался навстречу западному противнику — прямиком через развалины центра столицы, обогнув правительственный квартал, едва не погорел на Александерплац, увязавшись за двумя суками в течке, которые протащили его за собой через весь Зоопарк и чуть было не привели к Фланкебургскому зоологическому саду, где его уже ждали гигантские мышеловки, но он семь раз отмерял, а точнее, семь раз обежал вокруг Колонны победы, прежде чем прошмыгнуть через парадную эспланаду и, подчиняясь древнему и испытанному советчику, собачьему инстинкту, присоединился к группе штатских лиц, занимавшихся перевозкой театральных декораций с территории выставочного комплекса возле радиобашни в Николасзее. Но голоса из репродукторов, как отечественные, так и далеко разносившиеся увещевания восточного противника, сулившего ему много кроликов, не внушили ему доверия к богатым виллам шикарных берлинских предместий Ванзее и Николасзее, — недостаточно далеко на запад! — и он определил себе первой целью своего маршрута мост через Эльбу возле Магдебургского замка.
Без каких-либо осложнений он южнее Швиловского озера миновал передовые отряды 12-й армии, которые шли с юго-запада, намереваясь разорвать неприятельское кольцо вокруг столицы. После легкой передышки в запущенном саду пустующей виллы какой-то мотопехотинец покормил его еще теплым гороховым супом и даже назвал по имени, не вступая, однако, в служебные отношения. Сразу же после этого неприятель накрыл район вилл мощным заградительным огнем, ранил мотопехотинца, правда, легко, но пса пощадил; ибо черное существо, что на четырех стройных лапах стелющимся аллюром уверенно продолжает предписанный предками исторический маршрут западных готов, — это все еще черный кобель немецкой овчарки по кличке Принц, спасающий собственную шкуру.
Собачья одышка на фоне озерной ряби в майский ветреный день. Эфир переполнен важнейшими событиями. Вперед, на запад, по бранденбургским пескам, которые когтят своими корнями сосны. Хвост не выше спины, морда вытянута вперед, язык наружу, четыре собачьих ноги, каждая помножена на шестнадцать, пожирают пространство: прыжок немецкой овчарки в замедленной съемке. Все в шестнадцатикратном повторении: ландшафт и весна, воздух и свобода, кисточки деревьев и легкие облачка, первые бабочки и птичьи трели, промельк насекомых и брызнувшие первой зеленью палисадники, музыкальные, как ноты, штакетины заборов, поля, выбрасывающие кроликов, вышедшие просвежиться куропатки, природа без масштабов и замеров, не штабной ящик с песком для генеральских маневров, а горизонты во всю ширь и запахи, хоть на хлеб мажь, и медленно высыхающие закаты, студенистые бескостные сумерки, тут и там остов танка романтической руиной на фоне рассветного неба, луна и пес, пес и луна, пес жрет луну, вселенский пес, линяющий пес, пес-собака, пес-перебежчик, пес-отваливай, пес-без-меня и песья брошенность со всеми ее происходимостями: и Перкун зачал Сенту, а Сента ощенилась Харрасом, а Харрас зачал Принца… Его величество пес, онтический и вполне естественно-научный, пес-дезертир, которого подгоняет попутный ветер; ибо ветер, не дурак, тоже стремится на запад, как и все прочие: 12-я армия и остатки 9-й армии, все, что уцелело от групп Штайнера и Хольсте, равно как и от измочаленных групп Рена, Шернера, Рендулича, тщетно рвутся из портов Либау и Виндау армейские группы «Восточная Пруссия» и «Курляндия», гарнизон острова Рюген, а также всё, что способно отделиться от полуострова Хелы и дельты Вислы, то бишь остатки 2-й армии; всё, что имеет хоть какое-то чутье и предчувствие, драпает бегом, ползком и вплавь — от восточного неприятеля навстречу западному; и штатские, конные и пешие, и битком в бывших прогулочных пароходиках, ковыляя в чем выскочили или со всем скарбом на загривке, все пропив или обмотавшись бумажными деньгами, тщетно газуя на забитых дорогах при нехватке бензина и избытке багажа; гляньте-ка вон на мельника с десятикилограммовым мешочком муки на плече или на столярных дел мастера, что тащит с собой дверные петли и плитки костного клея, все они тут, родные и примаки, функционеры, исполнители и просто сочувствующие, детишки с куклами и бабушки с фотоальбомами, реальные и вымышленные, — для всех для них солнце теперь всходит на западе, все равняются на пса.
Позади остаются горы костей и массовые могилы, картотеки и рожки для флагов, партбилеты и любовные письма, собственные квартиры, именные стулья в церкви и не поддающиеся транспортировке пианино.
Остаются неоплаченными — налоги и взносы в строительную кассу, долги за жилье, просто долги, счета — и вина.
Все хотят начать новую жизнь — снова экономить и писать любовные письма, сидеть на церковных стульях и за пианино, числиться в картотеках и иметь жилье.
Все хотят поскорее забыть горы костей и массовые могилы, рожки для флагов и партбилеты, долги, счета — и вину.
Был когда-то пес,
он оставил своего хозяина и проделал дальний путь. Это только маловеры-кролики скептически морщат носы; всякий же, кто умеет читать, ни на секунду не усомнится: пес добрался, куда следует.
8 мая 1945 года, на рассвете, в четыре сорок пять[333], он, почти никем не замеченный, переплыл Эльбу выше Магдебурга и на западной стороне реки начал искать себе нового хозяина.
КНИГА ТРЕТЬЯ МАТЕРНИАДЫ
ПЕРВАЯ МАТЕРНИАДА
Пес стоит в центре. Между ним и псом от одного лагерного угла до другого пробегают два ряда колючей проволоки, старой и новой. И покуда пес стоит, Вальтер Матерн выскребает белую жесть из пустой консервной банки. Ложка у него есть, а вот памяти нету. Все хотят помочь ему в его деле, — пес, что стоит в центре, наполненная воздухом консервная банка, английский опросный лист, а теперь еще Брауксель шлет авансы и ставит сроки, зависящие от восходов и склонений каких-то там планет, — лишь бы он, Матерн, болтал о тогдашнем.
Начинать значит выбирать. Двойная колючая проволока между псом и консервной банкой, к примеру, сама напрашивается — как символ лагерного бешенства и лишения свободы. Заряженный графическим смыслом, но уже не электрическим током. Или иначе: держись пса и всегда будешь в центре. Плесни ему супа с лапшичкой имен — вот и выдавишь воздух из консервной банки. Ведь вокруг полно отбросов, самой что ни на есть собачьей жратвы — двадцать девять годков, простых, как картошка, и таких же бестолковых. Каша воспоминаний. Фирменные клецки «А ты помнишь?» Вранье без прикрас. Сцена и жизнь, роли и правда. Все сушеные овощи Матерна. И крупинками вины — соль.
Стряпать значит выбирать. Какой продукт варится дольше — перловка или колючая проволока? Перловку можно расхлебывать, а вот неразваренная колючая проволока между ним и псом скрежещет на зубах. Матерну никогда не нравилось это сочетание — зубы и проволока. Уже его предок, тот, которого еще Матерной звали, в башенной темнице без окон, куда его заперли, производил богомерзкий скрежет зубовный.
Вспоминать значит выбирать. Этого ли, того ли пса или любого другого? Всякий пес стоит в центре. И ничем его не прогнать. Стольких камней на свете нет, а мунстерский лагерь, — кто по прошлым временам его не помнит? — вообще на песке строился и с тех пор почти не изменился. Деревянные бараки сгорели, вместо них поставили бараки из гофрированного железа. Лагерное кино, кое-где поодиночке сосны, вечная лагерная косторубка, вокруг старая колючая проволока, заботливо подштопанная новой: Матерн, выплюнутый английским лагерем для пленных антифашистов, дохлебывает перловую баланду за проволочным заграждением особого лагеря для освобождающихся.
Дважды в день гремит он ложкой по жестянке, а потом пускается в путь вдоль двойного проволочного забора по собственным следам на песке. Не оборачивайтесь — там Скрыпун за прошлым по пятам. И дважды в день один и тот же проклятущий пес не желает жрать камни:
— Проваливай! Найди себе место! Откуда вышел, туда и убирайся!
Ибо завтра или послезавтра уже будут выправлены все бумаги для кое-кого, кто хотел бы остаться один, без собаки.
— Освобождается для отбытия куда?
— Поглядим, мистер Брукс, может в Кельн, может, в Нойс.
— Родился когда, где?
— В апреле семнадцатого. Погодите-ка: точно — девятнадцатого апреля, в Никельсвальде, округ Данцигская низина.
— Школа и образование?
— Ну, сперва как у всех: начальная школа в деревне, потом гимназия, аттестат зрелости, после в университет собирался, на экономиста, но вместо этого обучался актерскому мастерству у добрейшего старика Густава Норда, непревзойденного исполнителя шекспировских ролей, но и Шоу, «Святая Иоанна»…[334]
— Значит, профессия — актер?
— Так точно, мистер Брукс. Играл все, что подвернется: Карла и Франца Мора, «Мудрость черни! Трусость черни!»[335] А однажды в нашем храме культуры, в театре, который у нас «кофемолкой» звали, когда еще только учился на актера, даже говорящего оленя сыграл. Да, вот это, скажу я вам, было времечко, мистер…
— В коммунистической партии состояли? С какого по какой?
— Значит так: на аттестат зрелости я сдавал в тридцать пятом, а еще где-то со второго начального[336], то бишь лет с пятнадцати, я уже состоял в «Красном Соколе», а после этого вскоре и в КП записался, по-настоящему, с билетом, пока ее у нас не запретили. В конце тридцать четвертого. Но и потом нелегально еще участвовал, листовки, расклейка-разброска, только все без толку.
— Членство в НСДРП или в одной из ее организаций?
— Несколько месяцев в штурмовиках, так, скорее из озорства и вроде как шпионом, чтобы разузнать, что творится в этой их лавочке, и еще потому что один мой дружок…
— С какого по какой?
— Говорю же, мистер Брукс, несколько месяцев: с августа тридцать седьмого по февраль тридцать восьмого. А потом они меня выставили, с судом чести и все такое, за неповиновение.
— Номер отряда?
— Будто я помню! Состоял-то совсем недолго. И все только потому, что лучший мой друг был наполовину еврей, и я его от этой шайки… А кроме того, этот мой дружок считал… Хорошо, отряд номер 84, Лангфур-Северный. Относился к стандарту 128, шестая штурмовая бригада, Данциг.
— Как звали этого друга?
— Амзель, Эдуард Амзель. Художник был. Мы, что называется, вместе росли. Бывал, правда, со странностями. Декорации делал для спектаклей, механические. Или вот, к примеру, обувь и одежку только ношеные надевал. Ужасно толстый был, но пел замечательно, и вообще мировой парень, честно!
— Что стало с Амзелем?
— Понятия не имею! Мне же пришлось ноги уносить, раз уж меня из штурмовиков-то поперли. Потом повсюду узнавал и спрашивал, у Бруниса, нашего бывшего учителя словесности…
— Теперешнее местонахождение учителя?
— Бруниса-то? Погиб, наверно. Его в сорок четвертом в лагерь упекли.
— В какой лагерь?
— В Штуттхоф. Это под Данцигом было.
— Последнее и предпоследнее воинское подразделение?
— До ноября сорок четвертого: 22-й зенитный полк, батарея Кайзерхафен. Затем приговорен за оскорбление вождя и подрыв боевого духа войск. Разжалован из фельдфебелей в рядовые и переведен в штрафной батальон на разминирование. 23 января сорок пятого перешел линию фронта и сдался в Вогезах 28-й американской пехотной дивизии.
— Другие наказания и взыскания?
— Да полно, мистер Брукс. Значит, во-первых, эта история в штурмовиках, потом, примерно год спустя, я уже был в Шверине в театре, досрочное увольнение за оскорбление вождя и тому подобное; потом я перебрался в Дюссельдорф и там время от времени подрабатывал на радио в детском вещании, а попутно поигрывал в кулачный мяч в клубе «Унтерратские атлеты», вот двое из этих атлетов на меня и настучали: арест, следственный изолятор, полицейский президиум на Кавалерийской улице, ежели вам это о чем-нибудь говорит. Там они меня отделали по первое число, аккурат для больницы, и если бы война вовремя не подоспела… Ах да, еще историю с собакой чуть не забыл. Это было в августе тридцать девятого…
— В Дюссельдорфе?
— Да нет, мистер Брукс, уже снова в Данциге. Мне же пришлось добровольцем записаться, иначе бы они меня… Торчал в бывших полицейских казармах в Верхнем Штрисе, и тогда-то со зла и вообще потому что всегда был против, отравил пса, овчарку.
— Имя пса?
— Харрас его звали, это был пес столярных дел мастера.
— Особые обстоятельства, связанные с псом?
— Это был племенной кобель, так это называется. И в году тридцать пятом или в тридцать шестом этот Харрас зачал пса по кличке Принц, — все так и было, не сойти мне с этого места! — и этого пса подарили Гитлеру на день рожденья, и он вроде как стал — да и свидетели найдутся — его любимой собакой. А кроме того — и вот тут, мистер Брукс, дело приобретает сугубо личный оборот — Сента, ну, наша Сента, приходилась этому Харрасу матерью. В Никельсвальде — это в устье Вислы — она под козлами нашей ветряной мельницы ощенилась этим Харрасом и еще несколькими кутятами, когда мне только-только десять лет сравнялось. Потом сгорела. Мельница, я имею в виду. Но это была совсем особая мельница, наша ветряная мельница…
— Особые обстоятельства?
— Ну, в общем, ее еще называли исторической мельницей, потому как королева Пруссии Луиза, когда спасалась бегством от Наполеона, на нашей мельнице изволила переночевать. Красивая была немецкая ветряная мельница, на козлах. Построил ее мой прадедушка, Август Матерн. А он по прямой линии происходит от знаменитого героя-бунтовщика Симона Матерны, который в тыща пятьсот шестнадцатом был схвачен по приказу коменданта Ганса Нимпша и казнен в данцигской темнице; однако его брательник Грегор Матерн, простой подмастерье у цирюльника, уже в тыща пятьсот двадцать четвертом снова поднял народ на бунт, четырнадцатого августа это было, на доминиканскую ярмарку, за что его тоже того, потому как все мы Матерны такие, не умеем помалкивать, что в голове — то и на языке, даже мой отец, мельник Антон Матерн, который будущее умел предсказывать, потому что мучные черви ему…
— Благодарю, господин Матерн. Этих сведений достаточно. Завтра утром вам вручат документы об освобождении. Вот ваш обходной листок. Можете идти.
Сквозь эту дверь о двух петлях, чтобы там, на свету, сразу обомлеть от солнца: ибо на лагерном плацу все и вся — в/п Матерн, бараки деревянные и бараки гофрированные, уцелевшие сосны, доска объявлений, испещренная бумажками, два ряда колючей проволоки и терпеливый пес по ту сторону забора — все отбрасывают тени в одном направлении. Вспоминай! Сколько рек впадает в Вислу? Сколько зубов у человека? Как звали древних прусских богов? Сколько собак? Восемь или девять закутанных? Сколько имен еще живы? Скольких женщин ты? Сколько лет сиднем просидела бабка, прикованная к креслу? Что нашептали мучные черви твоему отцу, когда сын мельника спросил у мельника, как кое-кто поживает и если поживает, то чем занимается? Они нашептали, ты вспомни, вспомни, что он совсем осип, и тем не менее день-деньской садит сигареты одну за другой, без передышки. А когда мы играли биллингеровского «Гиганта» в городском театре? Кто исполнял роль Донаты Опферкух и кто играл ее сына? И что написал критик Штроменгер в «Форпосте»? Там было пропечатано, ты вспомни, вспомни: «Молодой и одаренный Матерн запомнился в роли сына Донаты Опферкух, которую, кстати, Мария Бергхеер сыграла с подкупающей грубоватой энергией; мать и сын, две незаурядные и неоднозначные фигуры…» Шьен — кане — дог — кион[337]! Я — отпущен. В кармане штормовки у меня бумаги, шестьсот марок денег, продуктовые карточки и даже дорожные карточки! В рюкзаке у меня две пары кальсон, три сорочки, четыре пары носков, пара американских армейских башмаков на резиновом ходу, две почти новые форменные американские рубашки, перекрашенные в черный цвет, офицерская шинель цвета хаки, неперекрашенная, настоящая штатская шляпа из Корнуэлла, фасон «джентльмен», два американских солдатских сухих пайка на дорогу, фунтовая коробка английского трубочного табака, четырнадцать пачек «Кэмела», около двух десятков дешевых брошюрок издательства «Реклам», все больше Шекспир, Граббе, Шиллер, полное издание книги «Бытие и время», еще с посвящением Гуссерлю, пять кусков превосходного мыла и три банки американской тушенки… Шьен, да я же богач! Канис, где твоя победа[338]? Гоу эхед, дог! Посторонись, кион!
Пешком, с рюкзаком за плечами, Матерн делает первые шаги по песку, который здесь, по внешнюю сторону лагерного забора, утоптан куда меньше, чем внутри. Все, что угодно, лишь бы не чувство локтя! Поэтому сперва к мельнику, но не поездом, пока что нет. Пес за спиной пятится и недоумевает. Камни, настоящие и воображаемые, летят в его сторону, отгоняя его либо на распаханное поле, либо обратно, вверх по дороге. Воображаемые камни его настораживают, настоящие он приносит: голыш!
Четыре километра по песку в направлении Фаллингбостеля Матерн проделывает в сопровождении неотвязного пса. Поскольку проселок петляет полями и не хочет, как надо бы, идти прямиком на юго-запад, Матерн гонит псину напрямик через поле. Кто согласится с тем, что на правую ногу Матерн ступает нормально, не сможет не признать, что на левую он припадает почти незаметно. Все это вокруг было когда-то районом войсковых учений, да так и останется во веки вечные: потрава полей. По сторонам начинается буроватый луг, постепенно сменяющийся лесочком. Встречная просека дарит ему хорошую палку:
— Проваливай, псина! Проваливай, безымянная тварь! Верный, как пес, убирайся! Проваливай, песье отродье!
Не брать же его с собой. Придется пожить без почитателей. Меня-то травили как могли. Да и что мне делать с этой тварью? Воспоминания освежать? Крысиный яд, часы с кукушкой, голуби мира и обделавшиеся стервятники, собаки христовы и еврейские свиньи, ничего себе домашние животные… Проваливай, пес!
И так до вечера и почти до хрипоты. От Остенхольца до Эсселя полон рот ругательств и проклятий, отнюдь не одной только собаке предназначаемых, но вообще всей этой собачьей жизни. На его родине, когда кого-то забрасывали каменьями, с земли поднимали не камни, а голыши. Вот они-то, равно как и комья земли вкупе с палкой, отгонят привязавшуюся животину и того, кто за ней стоит. Никогда еще пес, не желающий покидать того, кого он выбрал себе хозяином, не узнавал столько всего об отношении собак к мифологии; нет такого подземного царства, которое не стерегли бы его собратья; нет такой реки в царстве мертвых, из которой не лакала бы какая-нибудь псина; Лета, Лета, научи, как избавиться от воспоминаний? Не бывает ада без адового пса!
Никогда еще пса, не желающего покидать того, кого он выбрал себе хозяином, не посылали во столько мест разом: и к черту на рога, и в задницу, в Иерихон и Тодтнау. Это кому же и сколько всего он должен лизать? Имена, имена — но он не отправляется ни в ад, ни к черту на куличики, не лижет кого попало, а следует, верный, как пес, за тем, кого сам себе выбрал.
Не оборачивайся — там пес за тобою по пятам.
И вот Матерн предлагает одному мужичонке в Мандельсло, — напоследок они шли вдоль речки Ляйне, — советует, значит, одному нижнесаксонскому крестьянину, который за четыре сигареты «Кэмел» пустил его переночевать в настоящей, с простыней и пододеяльником, кровати, а Матерн над дымящейся жареной картошкой ему и говорит:
— Вам собака случайно не нужна? Вон, на улице бегает, с утра ко мне привязалась. Не знаю, как отделаться. Неплохой пес, только малость запаршивел.
Но и на следующий день, от Мандельсло до Ротенуффельна, ни шагу без псины, хотя крестьянин и полагает, что пес и впрямь неплох, только одичал, он за ночь это дело обмозгует и решит, брать или не брать. За завтраком крестьянин решает брать, но пес рассудил иначе и уже сделал свой выбор.
Так, в связке, их видит Штайнхудерское озеро; от Ротенуффельна до Бракведе послабление пешеходной участи: его подхватывает попутный мотоцикл с коляской, и псу приходится поднажать, чтобы не; и в Вестфалии, поскольку конечным пунктом их дневного марша определена деревушка Ринкроде, все остается по-прежнему — ни шагу без пса. А на переходе из Ринкроде до Эрмена минуя Отмарсбохольт он уже делит с псом свой пайковый хлеб и американскую тушенку. Однако не успевает псина заглотить последний кусок, как дорожный посох, облюбованный еще в Нижней Саксонии, гулко охаживает ее свалявшуюся шкуру.
Поэтому весь следующий день, покуда оба двигаются из Эрмена до Эверсума через Ольфен, пес, держась на почтительном отдалении, холит и вылизывает свою псовину, покуда она вся — и остевая шерсть, и подшерсток — не обретает свой исконный, лоснисто-черный окрас. За трубку английского табаку можно, оказывается, выменять собачий гребень.
— Собака-то породистая, — сообщают Матерну. Как будто он сам не знает и совсем уж в собаках ничего не смыслит.
— Знаю, приятель. Сам, считай, с собакой вырос. На одни ноги посмотреть, постав просто загляденье. А спина от холки до крупа: прямая, без западин. Вот только не молод уже. По губам видно, смыкаются неплотно. И вот тут, над глазами, два седых пятнышка. Но зубы еще хоть куда, надолго хватит.
Разговор знатоков, неторопливый, с поглядом на собаку сквозь клубы ароматного английского дымка.
— Это сколько ж ему? Я так думаю, годков десять будет.
Матерн уточняет:
— Если не все одиннадцать. Но эта порода и до семнадцати форму держит, при надлежащем уходе, конечно.
После еды немного о международном положении и атомной бомбе, потом вестфальские собачьи истории:
— В Бехтрупе вот был один кобель, тоже овчарка, но это еще задолго до войны, так он только в двадцать лет отошел, как говорится, в мир иной: по человеческим понятиям это, считай, сто сорок лет выходит. А дед мой об одной овчарке рассказывал, из Рехеде, но она из дюльмеровского питомника была, так она, правда, уже слепая, аккурат до двадцати двух дотянула, это уже сто пятьдесят четыре получается. Так что ваш в его одиннадцать собачьих годков, то бишь человеческих семьдесят семь, вообще еще юноша.
Его пес? Пес, которого он не отогнал ни камнями, ни криком до хрипоты, а теперь держит в строгости, как свою, хотя еще и безымянную, собственность.
— Как его зовут-то?
— Пока никак.
— Что, имя найти не можете?
Не ищи имя — обрящешь имена.
— По мне, так назовите его Рексом или Урсом, Фалько или Хассо, Кастором или Вотаном… Я знал когда-то овчарку, тоже кобеля, так его, не поверите, Язомиром звали.
Ах, дерьмо, дерьмо, кто тебя выдавил? Кто уселся в чистом поле, исторг из себя твердую колбаску, а теперь с интересом ее разглядывает? Кто пытается распознать себя в собственных испражнениях? Так это же Матерн, Вальтер Матерн, тот самый, который умеет скрежетать зубами — гравий в дерьме; который повсюду ищет Бога, а находит одни экскременты; который пинает свою собаку — дерьмо несчастное! Но пес, наискосок и скуля отползающий через борозды, все еще не имеет имени. Дерьмо, вот дерьмо! Может, Матерну так и назвать свою собаку: Дерьмо?
Все еще без имени они перебираются через Липпский канал в Хаард, умеренно холмистый бор. Вообще-то он хочет вместе с безымянной псиной — назвать его Куно? или Тор? — прямиком через лес добраться до Марля, однако вместе с тропинкой оба постепенно уклоняются влево — Аудифаксом? — и, уже выйдя из лесу, натыкаются на железнодорожную ветку Дюльмен-Хальтерн-Рек-лингхаузен. А здесь названия шахт, почти каждое может сгодиться как собачья кличка: Ганнибал, Регент, Проспер? В Шпекхорне хозяин и его безымянный пес находят ночлег.
Припоминай и перебирай. Высеченные в граните и мраморе. Имена, имена без счета. История состоит из имен. Можно, нужно, допустимо ли назвать пса Тотилой, Аттилой[339] или Каспаром Хаузером[340]? И как звали того первого? Перкун. А может, у других божков имечко позаимствовать — Потримп или Пиколл?
Кто это ворочается без сна, потому что имена, правда, на сей раз личные, такие, что ни одной собаке не подойдут, не дают ему покоя? Спозаранку, в рассветном тумане оба бредут по щебенке вдоль железнодорожной насыпи, провожая глазами переполненные утренние поезда. На фоне неба как ножницами вырезанные руины: это Реклингхаузен, а может, уже Херне, справа Ванне, слева Айккель. Понтонные мосты переброшены через Эмшер и через Рейнско-Хернский канал. Безымянные, они в утренней мгле собирают уголь. Канатные шкивы замерли или медленно вращаются на копрах безымянных шахт. Ни звука. Все словно в вате. Только щебенка и вороны, как обычно, безымянные. Покуда что-то не ответвляется направо и даже имеет указатель с названием. Рельсы, одноколейка, тянутся из Айккеля, а до Хюллена доходить не желают. И возле отверстых ворот на заржавелой табличке можно даже прочесть выведенное большими буквами то ли название, то ли имя: ТУПИК ПЛУТОН.
Это решает дело.
— Ко мне, Плутон! Плутон, место! К ноге, Плутон! Плутон, взять! Молодец, Плутон! Лежать, сидеть, принеси, Плутон! Хоп, Плутон! Ищи, Плутон! Моя трубка, Плутон!
Плутон и будет нашим крестным, тот самый Плутон, что загребает зерно и монеты, тот, что наподобие Аиду — или старому Пеколсу — вершит все подземные, незримые, все внехрамовые дела, все формальности по нисхождению, у него там пансион что надо, и канатная дорога прямо до шахтной трясины, туда нырь, а уж обратно извините, приют надежный, и хозяина не подмажешь, все, все отправятся к Плутону, хоть никто его не почитает. Лишь Матерн да жители Элиды[341] выкладывают ему на алтарь пожертвования — сердце, селезенку и почки для Плутона!
Они идут вдоль пути. Заросли бурьяна между шпалами намекают, что тут давным-давно не ходят поезда и ржа затупила рельсы. Матерн опробует новое имя, то громко, то тихо. С тех пор, как он вступил во владение собакой, хрипота его помаленьку проходит. А с кличкой вроде все ладится. Сперва легкое удивление, затем усердное послушание. Дескать, он не какой-нибудь… Плутон встает и ложится по команде и по свисту прямо в угольной пыли. На пол-дороге между Дортмундом и Оберхаузеном Плутон показывает все, чему его обучили и что он, оказывается, вовсе не позабыл, разве что самую малость, потому как больно уж беспокойные и безхозные были времена. Все свои фокусы. Туман постепенно расходится, сам себя пожирая. Даже солнце здесь, оказывается, есть, в полпятого утра.
Что за мания хотя бы раз в день устанавливать собственное местонахождение: где это мы? О, знатное место. Слева Шальке-Северный, справа Ванне уже без Айккеля, за Эмшерской Балкой кончается Гельзенкирхен, а здесь, куда привели их сквозь бурьян ржавые рельсы, расположилась под допотопным копром наполовину разбомбленная, остановленная шахта Плутон, давшая черному кобелю немецкой овчарки свое имя.
Чего только война не наделает: все и вся в бессрочном отпуску. Крапива и одуванчики растут куда быстрей, чем люди привыкли думать. Что за сила играючи скорчила Т-образные опоры и отопительные трубы в стальную судорогу желудочных колик? Нечего описывать развалины[342], их надо пускать в дело; вот почему уже скоро придут утильщики и выпрямят все металлоломные вопросительные знаки. Как колокольчики подснежников знаменуют весну, точно так же торговцы будут извлекать из старых железяк мирные позвякивания, возвещая о великой переплавке. О вы, небритые ангелы мира, простирайте ваши замызганные, помятые крыла и опускайтесь скорее на площадки вроде этой — шахта Плутон, между Шальке и Ванне!
Местечко это приходится по душе обоим — и Матерну, и его четвероногому приятелю. А коли так — немного дрессировки. Для этого как нельзя лучше подходит остаток стены, примерно метр тридцать. Хоп, Плутон! Что ж, это не фокус при таком идеальном поставе передних ног и при такой длинной холке, при умеренно длинной, но мощной спине, при столь ладно скроенных скакательных суставах и плюснах. Прыгай, Плутон! Черная молния без единой отметины и даже без темной полосы вдоль вытянувшейся в полете спины — быстрота, выносливость, прыгучесть. Хоп, мой песик, я тебе еще высоты прибавлю. С удовольствием, задним лапам только этого и надо. Прочь от земного. Легкая прогулка по рейнско-вестфальскому эфиру. И мягкое, пружинистое приземление, это щадит суставы. Хороший пес, просто образцовый пес Плутон: гладкий, стройный, подтянутый!
Понюхает тут, порыщет там. С низким носом коллекционирует пахучие метки — большая редкость в наши дни. В выгоревшей каптерке облаивает покачивающиеся цепи подъемников и крюки, но и, на всякий случай, разбросанные как попало одежки последней утренней смены. Эхо. Большое удовольствие — подавать голос среди безлюдных развалин; но хозяин уже свистит, зовет пса на солнышко, на манеж. В кокнутом маневровом паровозике обнаруживается кочегарская фуражка. Ее можно в воздух подбрасывать или на голову надевать. Кочегар Матерн:
— Это все наше. Каптерка уже у нас. Теперь займем управление. Народ овладевает средствами производства.
Но в здании управления хоть шаром покати — ни единого даже самого завалящего штемпеля не осталось. И если бы не одна мелочь:
— Гляди-ка, да тут прямо дырка в полу! — они бы преспокойно могли снова отправиться на прогретый солнышком тренировочный манеж. — И спуститься можно, — по почти целой подвальной лестнице. — Только осторожно! — потому как там вполне может заваляться мина былых времен. Но не завалялась, в этом угольном подвале мин нет. — Сейчас мы его изучим. — Аккуратно, шаг за шагом. — Где мой свет в ночи и где моя добрая старая зажигалка, которую я нашел в Дюнкерке, которая повидала Пирей, Одессу и Новгород, вывела меня домой и служила мне безотказно, почему же здесь не хочет?
Каждая тьма знает, почему. Каждая тайна боится щекотки. И каждый кладоискатель мечтает о несметных сокровищах. Вот они стоят на шести конечностях в битком забитом подвале. А перед ними — не ящики, которые так интересно взламывать, не бутылки, которые так аппетитно булькают; не припрятанные персидские ковры и не столовое серебро; не церковная утварь и не графское добро из замка — только бумага. И не чистая, белая, это бы еще был товар. И не переписка на шикарных, ручной выделки, листах между двумя великими людьми. Нет, цветная печать, в четыре краски: сорок тысяч новехоньких, еще пахнущих типографией плакатов. Все как один глянцево поблескивают. И с каждого из-под низко надвинутого козырька смотрит Он — суровым и неподвижным взором Вождя: «Сегодня с четырех сорока пяти утра[343]… Провидение определило меня… В ту пору, когда я, тогда я решил… Неисчислимые. Позор. Убожество. Если потребуется. И сверх того. В конечном счете. Останется, снова будет, никогда не. Образуют заговор. В этот час взирает. Поворотный миг. Призываю вас. Мы все как один. Я был. Я буду. Я вполне осознаю. Я…»
И каждый плакат, который Матерн двумя пальцами сдергивает со стопки, какое-то время плавно парит в воздухе и опускается прямо к передним лапам Плутона. И лишь очень немногие экземпляры падают лицом вниз. В большинстве случаев они продолжают смотреть суровым и неподвижным взором Вождя на отопительные трубы, что тянутся под потолком подвала. Пальцы Матерна работают без передышки, словно ожидая, что за следующим плакатом, или через один, им откроется чей-то иной взгляд. Человек надеется, покуда он…
И тут вдруг мертвую тишину подвала оглашает истошный вой сирены. Это взгляд Вождя исторг из песьей груди арию тоски и печали. Пес завывает без умолку, и Матерн не в силах его остановить.
— Тихо, Плутон! Лежать, Плутон!
Но пес, хоть и поджав уши, опускаясь на подломившиеся лапы и подобрав под себя хвост, скулить не перестает. Воздев морду к бетонному потолку, к лопнувшим трубам, он продолжает тянуть свою заунывную песнь, которую Матерн пробует теперь заглушить скрежетом зубовным. Когда и это не приносит результата, он просто плюет — сгусток слюны на портретное фото, снятое еще до покушения; харкотиной прямо между глаз, суровых и неподвижных; смачный плевок переворачивается в воздухе и попадает точно в цель — в Него, в Него, в Него! Но не остается, где положено, ибо у пса есть язык, и язык этот облизывает лик Вождя по всей его многоцветной протяженности: вот и сопли со щеки слизнул, и ничья мокрота не замутняет больше взор Вождя, и слюну с крохотной бородки вылакал подчистую — пес, верный, как пес.
Но коли так — ответная акция. У Матерна есть еще десять пальцев, и они способны смять все, что в четыре краски запечатлело на себе неизгладимый этот лик, все, что валяется на полу, громоздится стопками, проницательно глазеет на потолок — смять Его, Его, Его! Но пес говорит: «Нет!» Рычание усиливается. Плутон уже показывает свой безупречный прикус. Нет! Пес решительно возражает: «Прекратить! Немедленно прекратить!» Вскинутый кулак Матерна сам собой опускается.
— Ну ладно, ладно, Плутон. Ступай на место, Плутон! Хорошо, хорошо, не буду. И не хотел вовсе. Не пора ли нам на боковую, чтобы свечку зря не жечь? Отоспимся, а завтра поутру опять будем друзьями, верно, Плутон? Вот и умница, Плутон, умница…
Матерн задувает свечу. На сложенных стопкой взорах Вождя почивают хозяин и его пес. Они тяжело посапывают во сне. Каждый вздыхает о своем. Господь Бог взирает на них.
ВТОРАЯ МАТЕРНИАДА
Они больше не бредут на шести конечностях, из которых одна, похоже, дефектная и потому слегка приволакивается; они едут в битком набитом вагоне поезда, который везет их из Эссена через Дуйсбург прямиком в Нойс, потому как должна же у человека быть хоть какая-нибудь цель — шапочка университетского доктора или серебряный значок победителя стрелкового праздника, царство небесное или крыша над головой — по пути к мировому рекорду Робинсона, Кельну-на-Рейне.
Тяжкое это путешествие и долгое. Многие, если не все, проделывают его лежа, устроившись на своих мешках с картошкой и сахарной свеклой. И едут они — если верить мешкам — отнюдь не навстречу весне, а скорее уж праздновать день Святого Мартина. А по причине ноябрьских непогод ездить в переполненных вагонах, при всей их давке и ароматах набрякшей одежды, все же лучше, чем на покатой вагонной крыше, трясучих буферах или на подножках, ожесточенная борьба за которые возобновляется на каждой станции. Ибо в дороге отнюдь не у всех пассажиров одна цель.
Мартин успевает позаботиться о Плутоне еще в Эссене. Суровый запах пса благополучно смешивается в теплом вагонном нутре с тяжким духом позднего картофеля, сахарной свеклы, влажной земли и потеющих пассажиров.
Сам Матерн нюхает только паровозную гарь на ветру. С рюкзаком в обнимку он успешно отбивает подножку от натиска непрошенных попутчиков на станциях Гроссенбаум и Калькум. И нет никакого смысла скрежетать зубами супротив встречного ветра. В прежние времена, когда его челюсть спорила даже с дисковой пилой, — про него ведь шла слава, что он даже под водой умеет зубами скрипеть, — в прежние времена он бы и встречному ветру не дал спуска. А теперь вот безмолвно, хотя и с множеством театральных ролей в голове, он проносится мимо притихших осенних ландшафтов. В Дерендорфе Матерн, поставив свой рюкзак на попа, уступает клочок подножки плюгавенькому часовщику, который, впрочем, с тем же успехом мог бы оказаться и университетским профессором. Часовщику очень нужно довезти до Кюпперштега свои восемь угольных брикетов. В Дюссельдорфе на главном вокзале он еще кое-как отстаивает старичка, но в Бернате его вместе с брикетами слизывает с подножки перронная давка. Вот почему — исключительно из чувства справедливости — Матерн уже в Леверкузене спихивает на вынужденную пересадку парня с кухонными весами, который сменил профессора на подножке и очень хотел доставить свои весы в Кельн. Оглядки через плечо подтверждают: пес все еще стоит, верный, как пес, на всех своих четырех лапах в вагонном проходе, не отрывая взгляда от окна в ближайшем купе.
— Ну ладно, ладно. Потерпи еще чуток. Вот эта груда битого кирпича, например, считает себя Мюльхаймом. В Кальке он вообще не останавливается. Зато из Дойца мы уже сможем разглядеть знаменитый двузубец, готические чертовы рога, собор. А уж возле собора, совсем рядышком, расположился и его мирской двойник — главный вокзал. Собор и вокзал — они в Кельне как Сцилла и Харибда, трон и алтарь, бытие и время, хозяин и пес.
А это, значит, и есть Рейн! Матерн-то сам на Висле вырос. Любая Висла в воспоминании шире, чем Рейн наяву. Да и сам этот крестовый поход на Рейн только потому и состоялся, что все Матерны отродясь на реках жили, черпая из вечного струения мимотекущей воды чувство жизни. А еще потому, что Матерн здесь уже однажды был. А еще потому, что предки его, братья Симон и Грегор Матерна, равно как и двоюродный их братишка, цирюльник Матерна, тоже любили возвращаться, обычно за отмщением, которое творили огнем и мечом — так сгинули в пламени Токарный и Петрушечный переулки, так погорели на восточном ветру Долгосад и церковь Святой Варвары; м-да, ну а здесь уже другие успели испытать в деле свои зажигалки. К тому же месть Матерна вышколена не на поджогах: «Я пришел судить с черным псом и списком имен, что вырезаны в моем сердце, почках и селезенке, — ИМЕНА ЭТИ ТРЕБУЮТ СПИСАНИЯ!»
О ты, начисто лишившийся стекол, продуваемый всеми сквозняками, святой и католический главный вокзал города Кельна! Орды с чемоданами и рюкзаками валом валят посмотреть и понюхать тебя и разъезжаются во все концы света, уже не в силах позабыть тебя и двуглавого каменного выродка, что взгромоздился рядом на площади. Кто хочет узнать человеков, пусть преклонит колена в твоих залах ожидания, ибо здесь все набожны и под жиденькое пивко все друг другу исповедуются. Да-да, что бы они ни делали — дрыхнут ли, раззявив рты, обнимают ли свой жалкий скарб, называют ли вполне земные цены на недосягаемые небесные блага вроде кремней или сигарет, — какие бы слова ни изрекали и ни умалчивали, ни повторяли и ни добавляли к сказанному, — все они работают над одной большой исповедью. Работают и перед окошечками касс, и в замусоренном бумажками зале (две шинели рядом выглядят уже как заговор, три шинели вместе — ополчение!), и, разумеется, внизу, в отделанных кафелем туалетах, где холодное пиво течет снова, теперь уже теплым ручьем. Мужчины на ходу расстегиваются, тихо и почти умиротворенно становятся в белые эмалированные стойла, пускают скороспелую струю, редко целеустремленную и упругую, обычно под легким, хотя и точно рассчитанным углом. Свершается мочеиспускание. Писающие жеребцы целую вечность стоят над эмалированными лоханями, выпрямив крестцы, прикрыв заросший шерстью источник козырьком правой руки, — мужики все больше женатые, — левую уперев в бок, и печальным взглядом смотрят прямо перед собой, расшифровывая начертанные на кафеле химическим карандашом, выцарапанные ножичком, шилом, а то и просто гвоздем надписи, посвящения, признания, молитвы, крики души и рифмованные вирши, а еще имена, имена…
И Матерн тоже. Только левой рукой он не упирается в бедро, а держит кожаный поводок, который в Эссене обошелся ему в две сигареты «Кэмел» и теперь вот связывает его с псом в Кельне. Все мужики простаивают за этим делом целую вечность, но вечность Матерна длится еще дольше, хотя его струя, направленная в эмалированную емкость, давно иссякла. Он уже застегивает пуговицы, одну за другой, с паузами, в которые вместился бы и «Отче наш», и крестец его уже не выпрямлен, скорее наоборот, у него сутулая спина усердного читателя. Так наклоняются только близорукие люди, когда не могут поднести к глазам печатный или написанный текст. Жажда знаний. Атмосфера читальни. Прямо кабинетный ученый, да и только! Соблюдайте тишину! Знание — сила. Тихий ангел, тенью промелькнув по кафельному полу, витает в строгом тепле кисло-сладких испарений под святыми католическими сводами мужского туалета кельнского главного вокзала.
А написано тут всякое. «Замыкающий — смотри в оба!» На все времена запечатлено: «От холеры и чахотки нет лекарства лучше водки.» Чей-то лютеровский гвоздь выцарапал: «И пусть весь мир кишит чертями…»[344] С трудом можно разобрать призыв: «Проснись, Германия!» Зато большими буквами увековечено: «Все бабы — суки.» Какого-то поэта осенило: «И в зной, и в лютый холод душой ты будешь молод.» Еще кто-то был предельно краток: «Вождь жив!», но рядом кто-то более сведущий приписал: «Только он в Аргентине.» То и дело встречались краткие волеизъявления вроде: «Нет уж! Без меня!» или «Выше голову!», а также рисунки, бесконечно варьирующие непреходящий мотив, что-то вроде волосатой французской булочки, а также распластанные женщины, увиденные в том же ракурсе, в каком Мантенья изобразил мертвого Христа, то бишь со ступней. Наконец, где-то в щелке между радостным возгласом «Да здравствует Новый 1946 год!» и уже утратившим актуальность предупреждением: «Тише! Враг подслушивает!» Матерн обнаруживает — нижние пуговицы уже застегнуты, самая верхняя еще нет — фамилию, имя и адрес без всяких рифм и дурацких комментариев: «Йохен Завацкий, Флистеден, Бергхаймерская улица, 32».
Тотчас же у Матерна — который всем сердцем, почками и селезенкой уже устремился во Флистеден — отыскивается в кармане гвоздь, которому тоже не терпится что-нибудь начертать. С глубокомысленным нажимом поверх всех посвящений, признаний, молитв, поверх несуразных волосатых булочек и распростертых в мантеньевой[345] позе женщин гвоздь выцарапывает на стене детский стишок: «НЕ ОБОРАЧИВАЙТЕСЬ — ТАМ СКРИПУН ЗА ВАМИ ПО ПЯТАМ!»
Флистеден — это придорожная деревенька между Кельном и Эфтом. Автобус от главного почтамта идет через Мюнгерсдорф, Левених, Браувайлер, Гревенбройх и останавливается здесь, прежде чем за Бюсдорфом свернуть к Штоммельну. Нужный дом Матерн находит без расспросов. Ему открывает сам Завацкий в резиновых сапогах:
— Вальтер, дружище! Жив, бродяга! Вот так сюрприз! Да заходи, заходи же, или так и будешь на пороге стоять?
Дух в доме тяжкий — варят сахарную свеклу. Из подвала показывается смазливая бабешка в косынке и пахнет не лучше.
— Понимаешь, мы как раз сироп варим, мы его меняем потом. Работенка та еще, но и навар приличный. А это моя женушка, Инга, она из здешних мест, из Фрехена. Слышь ты, Инга, а это вот мой друг, мой настоящий товарищ. Мы с ним сколько-то времени в одном штурмовом отряде были. Бог ты мой, чего только нам не поручали: Эх, ма, была не была! Представляешь, мы с ним оба в Малокузнечном парке. Сколько ни есть в карманах — все на стол! И — вперед без тормозов! Густава Дау и Лотара Будзинского помнишь? А Францика Волльшлегера и братьев Дуллеков? А Вилли Эггерс, какой был парень, скажи, а? А Отто Варнке, а Хоппе, чертяка, а малыш Бублиц? Все, конечно, головорезы, но друг за друга горой, пили, правда, по-черному. Вот, значит, и ты. Слушай, а зверюги твоей кто хошь испугается. Нельзя ее в другую комнату пока что запереть? Ну, нет так нет, пусть остается. Ну, давай, рассказывай — куда же ты смылся в самый что ни на есть подходящий момент? Ведь после того, как ты от нас ушел, вся лафа кончилась. Понятное дело, сейчас, задним числом, каждый скажет — дураки мы были, что за такую ерунду, за такую безделицу тогда тебя поперли. Все дело вообще яйца выеденного не стоило. Но они же сами хотели знать, особенно братья Дуллеки и Волльшлегер, а потому — вынь да положь им суд чести! Штурмовик не ворует! Красть у товарищей — последнее дело! Я же плакал настоящими слезами, честное слово, Инга, когда он от нас уходил. А теперь, значит, ты вернулся. Хочешь — ложись отдыхай, хочешь — пойдем вниз, в прачечную, где у нас свекла варится. Садись в шезлонг и смотри. Вальтер, дружище, голова садовая! Я же всегда говорил — сорную траву ничем не вытравить, верно, Инга? Нет, я прямо дурею от радости!
В уютной подвальной прачечной варятся бураки, отдавая свою сладость. Матерн развалился в шезлонге, на душе и на зубах у него слова, которые никак не выговариваются, уж больно рады ему эти людишки, которые так трогательно, в четыре руки, заготавливают сироп. Она деревянной скалкой размешивает сироп в кухонном тазике, — шустро-шустро, изо всех сил, хотя сиропа там пока что с гулькин нос, — а он следит за огнем; брикеты, черное золото, аккуратно сложены у них штабелем. Она настоящая уроженка рейнских краев — кукольное личико, чуть удивленные глазки, которые то и дело посматривают на гостя; он почти не изменился, разве что раздался немного. Она только смотрит и пикнуть не смеет, он же предается воспоминаниям.
— Ты помнишь, помнишь, как мы отрядом-то выходили, и тогда уж ё-моё, эх, ма, была не была!
Что она на меня так глазеет, в конце концов мне не с женушкой Ингой, а с муженьком счеты сводить. Наверно, все из-за сиропа. Больно много с ним мороки. Ночью на поле крадись, свеклу воруй, потом чисть, на мелкие кусочки режь и так далее. Нет, так быстро вы от Матерна не отделаетесь, ибо он пришел с черным псом и списком имен, что вырезаны в сердце, почках и селезенке, и одно из них можно прочесть на кельнском главном вокзале, где оно увековечено над кафельным полом, теплыми ссаками и эмалированными писсуарами: Йохен Завацкий, командир штурмового отряда номер 84, Лангфур-Северный, вел своих бойцов в огонь и в воду. А его речи — такие краткие и такие свойские! А его мальчишеское обаяние, когда он принимался говорить о Вожде и будущем Германии! Его любимые песни и любимая выпивка — «Аргоннский лес» ближе к полуночи и можжевеловка всегда и всюду, с пивком и без. И при этом ведь практичный малый. Сильная рука, честное рукопожатие. Совершенно разочаровался в коммуне[346], а потому тем более неколебимо был предан новой идее. Его акции против социалистов Брилля и Вихмана; тяжелые битвы в польском студенческом кафе Войка; ответственная операция с участием восьми человек в проезде Стеффенса…
— А скажи-ка, — вопрошает Матерн сквозь свекольный чад, удобно раскинувшись в шезлонге и словно не замечая пса, устроившегося у него в ногах, — что сталось потом с этим Амзелем? Ну, ты же помнишь. Тот чудак со своими фигурами. Которого вы отлупили в проезде Стеффенса, прямо по месту жительства.
Для пса все это звук пустой, но над свеклой небольшая заминка. Удивленный Завацкий не выпускает из рук кочергу:
— Дружище, и это ты меня спрашиваешь? Тот приятельский визит — ведь это же была целиком твоя идея! Я-то никогда ее до конца понять не мог, ведь вы же вроде дружили, верно?
Сквозь пар из шезлонга доносится ответ:
— На то были свои причины личного свойства, сейчас не время в них вдаваться. Мне вот что хотелось знать: что вы потом, я имею в виду, после того, как вы ввосьмером его в проезде Стеффенса…
Женушка Инга смотрит и промешивает. Завацкий не забывает подкладывать брикеты:
— Мы? Ну, знаешь, хватит! К чему вообще все эти расспросы, когда были мы не ввосьмером, а вдевятером, с тобой вместе. И ты собственноручно так его отделал, что у него от физиономии вообще мало что осталось. А ведь были куда более вредные субъекты. Доктора Ситрона, например, мы, к сожалению, проворонили. Успел удрать в Швецию. То есть, что значит «к сожалению»? К счастью все эти страсти-мордасти с окончательным решением и победным концом теперь-то уж позади. Вот и ты перестань ворошить. Быльем поросло, и не надо никаких упреков. Иначе я всерьез рассержусь. Потому как оба мы с тобой, лебедь мой прекрасный, одной водой мыты, и ни один из нас нисколечко не чище другого, верно ведь?
Из шезлонга в ответ слышится невнятное бурчание. Пес Плутон глядит преданно, как пес. Мелко порубленная сахарная свекла бездумно варится на огне: не вари свеклу — иначе провоняешь свеклой. Поздно, они все уже одним мирром мазаны и пахнут единогласно — истопник Завацкий, женушка Инга с глазами-плошками, бездеятельный Матерн, и даже пес воняет уже не только псиной. В огромном стиральном чане булькает и бурлит: сироп из свеклы густ и крут — от диабета мухи мрут. Вон, женушка Инга еле-еле поварешку в гуще проворачивает — а уж прошлое и вовсе ворошить не стоит. Завацкий подкладывает последние брикеты: сахар есть у нас в харче — и у Боженьки в моче.
Наконец Завацкий определяет, что продукт готов, и начинает шеренгой в два ряда расставлять толстопузые двухлитровые бутыли. Матерн вызывается помочь, но ему не разрешают:
— Нет уж, голубчик. Вот после, когда сироп разольем, пойдем наверх и пропустим по одной — там и поможешь. Такую встречу как не обмыть, верно, Инга, мышонок мой?
И обмывают — отличной картофельной самогонкой. А для мышонка Инги есть даже яичный ликер. Вообще Завацкие для таких суровых времен очень даже неплохо обустроились. Большая картина маслом, «Козы», двое напольных часов, три кресла, под ногами — ковер с оригинальным узором, на малой громкости играет «народный приемник» рядом с тяжелым дубовым книжным шкафом, за стеклами которого посверкивают золотом тридцать два тома энциклопедии, от «А» до «Я». «А» — это, считай, амнистия, поскольку гнев Матерна уже испарился; «Б» — бомбардировщик: представляешь, я в него прямой наводкой бил, а он все равно ушел, собака; «В» — вакханалия, так что будем веселиться; «Г» — Германия, ну как же, превыше всего, особенно сейчас; «Д» — это Данциг, у нас на востоке конечно красивей, но на западе лучше; «Е» — ну ясное дело, евреи, в Палестину бы их всех, а то и на Мадагаскар[347]; «Ж» — жилет, снимай-снимай, тут и так душно; «З» — заваруха: я раз пятнадцать участвовал, если не больше, да что там — раз десять за коммунистов, и не меньше двадцати вместе с наци, но когда и за кого — убей Бог, не упомню, только места, где дрались: ипподром в Оре, кафе «Дерра», Бюргерский лужок и еще, конечно, в Малокузнечном парке; «И» — это Инга, ну станцуй, станцуй нам что-нибудь этакое, на восточный манер; «К» — это коварство, ты ведь был когда-то актером[348], ну-ка, тряхни стариной; «Л» — любовь, кончай хихикать, Инга, он же Франца Мора играет; «М» — Маас, ну да, от Мааса до Мемеля[349]; «Н» — наследники, не плачь, не плачь, Инга, может, еще одного родишь; «О» — одеколон, а я тебе говорю, эти русские пьют его как воду; «П» — это папа, мой-то, говорят, на «Гюстлове» утонул, а твой?; «Р» — рогоносец, нет, ревность мы вообще не признаем; «С» — сигареты, веришь ли, за дюжину пачек «Лайки Страйки» мы получили весь этот столовый сервиз и вот еще кофейные чашки впридачу; «Т» — Талмуд, да, и этот раввин мне лично записку написал, что я гуманно с ним обращался, доктор Вайс[350] его звали, на Маттеновой слободе жил, в двадцать пятом доме; «У» — убытки, вот-вот, только их теперь и подсчитываем; «Ф» — ну конечно, только прошу тебя, не заводи опять про старое, ладно?; «X» — храбрость, ее-то было хоть отбавляй; «Ц» — целомудрие, да садись, садись же к нему на колени, не в гляделки же играем; «Ч» — часы, это швейцарские, на шестнадцати камнях; «Ш» — шуры-муры: а я тебе скажу, треугольником гораздо лучше, чем квадратом; «Щ» — на то и щука, чтобы карась не дремал; «Э» — «Эдельвейс», какая была дивизия!; «Ю» — юность, где она теперь; «Я» — янки, ты не думай, я с этими «ами» и «томми» не якшаюсь; ну вот, а теперь все вместе пойдем поваляемся. Поднимем наши чашки! У нас еще целая ночь впереди! Я лягу слева, ты справа, а Ингу-мышоночка мы посередке положим. Но псину твою не пустим, ни за что. Эта зверюга пусть в кухне ночует. Мы ей пожрать чего-нибудь дадим, хотя вроде у нее уже и так есть. А ты, дружок, если помыться хочешь, вот мыло.
И три человека, выпив картофельной самогонки и яичного ликера из кофейных чашек, ложатся — после того, как мышонок Инга исполнила сольный танцевальный номер, Матерн припомнил несколько своих актерских монологов, а Завацкий вдоволь поразглагольствовал о минувших и нынешних временах, после того, как они все вместе приготовили псу подстилку на кухне, а потом хотя и по-быстрому, но с мылом помылись — в широченную, как корабль, супружескую кровать, которую Завацкие называют своей супружеской крепостью и которую они приобрели относительно недавно по сходной цене — за семь двухлитровых бутылей сиропа из сахарной свеклы. НИКОГДА НЕ ЗАСЫПАЙТЕ ВТРОЕМ — ИБО ВЕЛИК РИСК ВТРОЕМ ПРОСНУТЬСЯ!
Матерн вообще-то предпочел бы лечь слева; что же, Завацкий, гостеприимный хозяин, согласен устроиться и справа. Мышонок Инга в любом случае остается посередке. О, старая дружба, слегка охладевшая после тридцати двух побоищ, но сейчас снова подогретая теплом и хмельной качкой широкопалубного супружеского ложа! Матерн, пришедший сюда с черным псом, чтобы судить, уже отправляет свою руку в разведку, как вдруг в самом сокровенном месте его палец наталкивается на добродушный супружеский палец боевого товарища, и оба они, объединив и удвоив усилия, поддерживая и сменяя друг друга, как когда-то их обладатели на Бюргерском лужке, на ипподроме в Оре или у стойки в Малокузнечном парке, не щадят себя ради общего дела, которое явно доставляет Инге удовольствие — еще бы, такое разнообразие возможностей и вариантов, — а ее азарт, в свою очередь, подзадоривает друзей, ибо от картофельной самогонки вообще-то клонит в сон. Теперь же у них состязание не на шутку, ноздря в ноздрю. О, ночь открытых дверей, когда Инге-мышке приходится ложиться на бочок, чтобы друг мужа мог ублажить ее спереди, а сам супруг деликатным образом с противоположной стороны — вот до чего радушно и по-рейнски просторно, хотя и по-девичьи упруго предоставляемое Ингой гостеприимное вместилище. Если бы не свербящее душу беспокойство… О, эти запутанные стежки-дорожки дружеских уз! Когда смешиваются фенотипы[351]. Когда сплетаются воедино не только тела, но и намерения, побуждения, мотивы — вплоть до убийственных, разные уровни духовных запросов, когда — при стольких-то сочленениях — возникает потребность в сложной, изощренной гармонии. Кто тут кого целует? Это ты или это я? Кто это тут вздумал кичиться правами собственника? И кто сам себя щиплет, чтобы другой вскрикнул от страсти? Кто это тут собирался судить, неся с собой имена, вырезанные в сердце, печени и селезенке? Так пусть торжествует справедливость! Каждый не прочь переползти на солнечную сторону. Каждому хочется снимать сливки. Каждому тройственному ложу нужен рефери. Да что там, жизнь так разнообразна, так неисчерпаема, шестьдесят девять позиций уготовано нам то ли небом, то ли самой преисподней: узел и петля, параллелограмм и качели, наковальня и шаловливое рондо, весы, тройной прыжок, скит; а сколько ласкательных имен рождает фантазия, распаленная ингиными прелестями: Инга-ручка и Инга-коленочка, Инга-леденец и Инга-крикуша, Инга-рыбка и Инга-кусака, Инга-засос и Инга-хватай, Инга-ласточка и Инга-ножки-врозь, Инга-хотелка и Инга-пыхтелка, — Инга-отдых, Инга-передышка, Инга-перекур — Инга-просыпайся, Инга-открывайся, Инга-встречай-гостей, Инга-готовь-угощенье, Инга-на-двоих, Инга-мои-ручки-твои-ножки. Инга-твои-ручки-мои-ножки, Инга-трио, Инга-троица, Инга-не-спать, Инга-повернись, — Инга-спасибо, Инга-было-так-славно, Инга-спать-пора, Инга-сегодня-переутомилась; Инга-наша-сладость, Инга-наша-свеколка, — Инга-сил-больше-нет, Инга-спокойной-ночи, Инга-побойся-Бога!
Теперь они лежат в темной, еще недавно четырехугольной комнате и дышат вразнобой. Проигравших нет. Все в выигрыше. Три победителя в одной постели. Инга спит, зарывшись в подушку. Мужчины спят, раскрыв рты. Со стороны это звучит так: они пилят лес. Словно им надо повалить весь роскошный Йешкентальский лес вокруг памятника Гутенбергу, бук за буком. Вот уже Гороховая гора облысела. Вот уже и проезд Стеффенса завиднелся — вилла к вилле рядком стоят. А в одной из этих вилл в проезде Стеффенса живет Эдди Амзель в отделанных дубом комнатах и мастерит птичьи пугала в натуральную величину: одно пугало изображает спящего штурмовика, другое — спящего командира штурмового отряда, а третье — молоденькую женщину, всю с головы до пят заляпанную сахарным сиропом, который приманивает муравьев. Штурмовик-командир храпит обыкновенно, зато штурмовик-рядовой мало того что храпит, он еще и зубами во сне скрежещет. И только сахарная молодка спит совершенно беззвучно, но зато дрыгает и брыкается всеми конечностями — из-за муравьев. И покуда за окном по-прежнему, ствол за стволом, падают стройные и гладкие буки Йешкентальского леса, то бишь бухенвальда, — а ведь какой ожидался урожайный год на буковые орешки! — Эдди Амзель на своей вилле в проезде Стеффенса мастерит четвертое птичье пугало в натуральную величину: самоходного черного пса о двенадцати лапах. А чтобы пес мог лаять, Эдди Амзель встраивает ему лаятельный звуковой механизм. И вот теперь он лает и будит своим лаем храпуна, Скрыпуна и облепленную муравьями сахарную красотку.
Это Плутон буйствует на кухне. Он хочет, чтобы его услышали. Все трое кубарем скатываются с кровати, даже не сказав друг дружке «доброе утро». «Никогда не засыпайте втроем, ибо есть риск втроем проснуться!»
Завтракают они кофе с молоком и бутербродами с сиропом. Каждый жует в одиночку. Каждый и каждая, включая псину. Сироп потому и сироп, что слишком сладкий. И из каждой тучки когда-нибудь идет дождь. В такое утро любая комната будет зиять углами. И всякий лоб будет нахмурен. У каждого чада двое отцов. И каждая голова мыслями витает где-то далеко. Всякая ведьма горит лучше. И так три недели подряд — завтрак за завтраком: каждый жует на особицу. Да, уже три недели эта пьеса для троих не сходит с подмостков. Впрочем, имеются и тайные, и даже не вполне скрытные намерения отделить от этого фарса некую монопьесу: Йохен Завацкий все больше тяготеет к монологической варке свеклы. И чтобы остался идиллический шепоток на двоих, в котором Вальтер и мышонок-Инга, продав псину, заживут богато и счастливо; однако Матерн не хочет ни продавать, ни шептаться вдвоем, лучше уж одиночество наедине с псом. Все что угодно, только не проклятое чувство локтя.
А тем временем за окнами прямоугольной общей комнаты-спальни на пространствах от Флиденштедта до Бюсдорфа, равно как и между Ингендорфом и Глессеном, а также между Роммерскирхеном, Пульхаймом и Ихендорфским квадратом свирепствует суровая послевоенная зима. Идут обильные снегопады на почве денацификации: каждый норовит выставить на мороз неудобные предметы и факты, дабы их без следа запорошило снегом.
Матерн и Завацкий худо-бедно сколотили будку для несчастной твари, которой приходится страдать ни за что. Будку они хотят поставить в саду, чтобы из окна было видно. Завацкий вспоминает:
— Такие горы снега я только раз в жизни видел. В начале тридцать восьмого, когда мы того толстяка в проезде Стеффенса ходили навещать, помнишь? Тогда вот точно так же снег шел, день и ночь, без передышки.
Потом он уходит в подвал — затыкать пробками двухлитровые бутыли. А любовной парочке надоело сидеть дома у окна и считать воробьев. Их чувство рвется на волю и требует выгула. И вот, прихватив пса, они бродят по знаменитому треугольнику Флиштеден — Бюсдорф — Штоммельн, но ни одного из поименованных населенных пунктов не видят, поскольку вокруг все тонет в беснующейся снежной кутерьме. Только телеграфные столбы вдоль шоссе Бюсдорф-Штоммельн, гуськом направляющиеся из Бергхайм-Эфта в Ворринген на Рейне, напоминают мышонку Инге и ее ненаглядному Вальтеру о том, что зима эта имеет календарное исчисление, что снег этот вполне земной и настоящий, что под ним когда-то росла сахарная свекла, чьим вожделенным субстратом они и по сей день живут, все четверо, поскольку пса надо кормить как следует — это он, Вальтер, так говорит; она же считает, что пса следует продать, сбыть с рук как можно скорее, потому как страшный больно, жуть смотреть, а любит она только его, его, его одного:
— Если б не холод, я бы с тобой хоть сейчас, прямо вот тут, в чистом поле, под открытым небом, хошь стоя хошь лежа, но от пса надо избавиться, мне от него не по себе, слышишь?
Плутон по-прежнему черен. Снег ему очень идет. Мышонок Инга не прочь и всплакнуть, но слишком холодно. Матерн с пониманием относится к женским слабостям и между однобоко заснеженных телеграфных столбов рассуждает о разлуках[352], которые следует то ли опережать, то ли упреждать. И изливается цитатами из своего любимого поэта[353]: разглагольствует о послерозии и сущностных бессмертниках. Но не углубляясь по возможности в сферы каузально-генетические, своевременно перескакивает в онтическое. Инга-мышонок просто млеет, когда он, хватая ртом снежные хлопья, рычит, скрежещет зубами, пыхтит и выталкивает из себя мудреные, непонятные слова:
— Я существую во имя моей индивидуальности! А весь белый свет хоть не рассветай! Свобода — это свобода для моего Я. Я есмь сущее. Набросок моего Я в сердцевине наброска вселенной. Я, обретаемое и причастное! Я — набросок миросущности. Я как причина причинности. Я как возможность — почва — выявленность. Я КАК САМА БЫТИЙНОСТЬ, В НЕБЫТИЕ БЫТУЮЩАЯ!
Смысл этих темных речей откроется Инге-мышонку незадолго до Рождества. Невзирая на многочисленные миленькие и полезные вещицы, приготовленные ею для подарочного столика, он уходит. Он удаляется.
— Возьми меня с собой!
Но он хочет встречать Рождество один, только Я, Я, Я, наедине с псом.
— Возьми меня с собой!
Вот почему на подступах к Штоммельну жалобным эхом бьется в снежной круговерти тоскливое: «…меня с собой!» Но сколь бы пронзительно ни буравил ее голос его волосатое мужское ухо, всякий поезд когда-нибудь да отходит. Всякий поезд исчезает в дали. А мышонок Инга остается.
Тот, кто пришел судить с черным псом и перечнем имен, вырезанных в сердце, почках и селезенке, покидает сахарно-свекольный уют и, сбросив со счетов имя Йохена Завацкого с супругой, поездом отправляется в Кельн-на-Рейне. И вот на святейшем главном вокзале в виду мстительно воздетого ввысь двуперстого собора, хозяин и его пес снова стоят в самом центре на своих шести конечностях.
МАТЕРНИАДЫ С ТРЕТЬЕЙ ПО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТУЮ
Матерну это так примерно рисовалось: «Мы, то есть Плутон и я, отметим Рождество вдвоем, отпразднуем его сосисками и пивом в большом и тихом, продуваемом всеми сквозняками зале ожидания святого католического вокзала города Кельна. Мы, одни в людской толпе, будем думать о мышонке Инге, об Инге-ножке и Инге-коленочке, о нас самих и о Святом Евангелии.» Но человек предполагает, а случай располагает: над кафельным полом мужского туалета, возле шестой эмалированной посудины в правом ряду нацарапана весточка. Среди прочих, вполне бесполезных туалетных призывов и сентенций, Матерн, застегивая ширинку, обнаруживает одно вполне осмысленное сообщение: «Капитан Эрих Хуфнагель, Альтена, Леннвег, 4.»
Так что в итоге они празднуют рождественский вечер не в одиночестве под сводами кельнского главного вокзала, а в Зауэрланде, в семейном кругу. Лесистая и холмистая, по-рождественски заснеженная местность знаменита тем, что большую часть года здесь льют дожди: гнилостный климат порождает характерные заболевания — одичавшие в лесах жители, впадая в хандру, до одурения много, быстро и задешево вкалывают и пьют.
Чтобы немного размять ноги, хозяин и пес сходят с поезда уже в Хоэнлимбурге и ранним вечером в канун Рождества начинают горное восхождение. Весьма утомительное, поскольку и здесь выпал снег, обильный и бесплатный. На Хобрэкерском хребте, лицом к Вибблингсверде, Матерн под кронами разбойничьего леса декламирует себе и своему псу: Франц и Карл Моор поочередно бросают вызов судьбе, богам и Амалии. «Еще один жалобщик на Господа Бога. — Что ж, продолжай.» За шагом шаг. Хрупает снег, скрипят снежные звезды, скрежещет зубами Франц Моор, трещат вековые сучья, покряхтывает матушка-природа. «О, я слышу, слышу, как они шипят, гады преисподней!» — однако из искрящейся огоньками альтенской долины слышны только не переплавленные на пушки церковные колокола, возвещающие вторую послевоенную рождественскую ночь.
Улица под названием Леннвег ползет от одного частного домика к другому. Перед каждым домиком на рождественской елке уже зажжены огоньки. Перед каждым шепеляво улыбается ангел. Каждая дверь готова отвориться. На пороге капитан Хуфнагель собственной персоной и в шлепанцах.
Пахнет здесь, однако, не сахарной свеклой, а с порога и одуряюще — свежими пряниками. Шлепанцы у Хуфнагеля, кстати, новенькие. Семейство уже обменялось подарками. Хозяину и псу предлагается тщательно обтереть все шесть конечностей о половичок. Нетрудно заметить, что госпожа Доротея Хуфнагель осчастливлена по случаю Рождества кипятильником. Тринадцатилетний Ганс-Ульрих уже впился в лукнерского «Морского дьявола», а весьма приглядная дочка Элька пробует на красивой подарочной бумаге, которую ей по совету мамаши Хуфнагель давно бы надо было разгладить и припрятать для следующего Рождества, перо новенькой авторучки — настоящий «пеликан»! Большими округлыми буквами она выводит: ЭЛЬКА, ЭЛЬКА, ЭЛЬКА.
Матерн, величественно поворачиваясь всем торсом, осматривается вокруг. Обстановка, как и следовало ожидать. Вот, значит, где мы оказались. Только без церемоний. Не будем слишком тянуть. Всякий незваный гость в тягость, особенно он, пришедший в рождественский вечер, дабы судить.
— Ну что, капитан Хуфнагель? Сами вспомнили или пособить? Больно вид у вас растерянный. Что ж, с удовольствием вам помогу: двадцать второй зенитный полк, батарея Кайзерхафен. Дивные места: штабеля леса, водяные крысы, курсанты и ополченцы, стрельбы по воронам, гора костей напротив, смердела вовсю, куда бы ни дул ветер, и я, придумавший и запустивший в дело леденцовый стимул, я, ваша правая рука: Матерн, фельдфебель Матерн докладывает. Потом, правда, я на вашей образцовой батарее покричал, чего не следует, про Рейх, Народ, Вождя и горы костей. Вам, к сожалению, это мое стихотворение не слишком понравилось. Но вы тем не менее его слово в слово записали своей авторучкой. Тоже, кстати, был «пеликан», как и у барышни вашей. А затем оформили донесение — и пошло-поехало: трибунал, разжалование в рядовые, штрафной батальон, саперы, команда смертников. И все потому, что вы своим «пеликаном» соизволили…
С этими словами Матерн выхватывает — но не злосчастную офицерскую, а ни в чем не повинную послевоенную авторучку «пеликан» из теплых девичьих пальчиков и ломает ее пополам, тут же залив себе обе пятерни чернилами: вот черт!
Капитан Хуфнагель в тот же миг понимает всю серьезность положения. Госпожа Доротея не понимает ничегошеньки, но тем не менее делает единственно правильное: полагая, что в рождественский вечер к ним вломился некий бывший военнопленный с востока, оставшийся теперь без хозяина, она протягивает незваному гостю отважно-трясущимися руками новехонький, поблескивающий никелем кипятильник, дабы вторгшийся в их дом вандал мог утолить свою страсть к разрушениям на еще одном предмете хозяйственной утвари. Но Матерн, столь примитивно истолкованный из-за своих растопыренных чернильных пальцев, вовсе не намерен довольствоваться чем ни попадя — на худой конец его устроит рождественская елка или стулья, а лучше вообще весь гарнитур целиком: всякому уюту рано или поздно приходит конец!
К счастью, капитан Хуфнагель, который успел устроиться в канадскую военную комендатуру в административный отдел и потому в состоянии обеспечить себе и своей семье настоящую, как в благодатные мирные времена, рождественскую ночь — он даже ореховое масло раздобыл! — имеет на этот счет иное, более цивилизованное мнение:
— С одной стороны — и с другой стороны. В конце концов, на всякое дело можно посмотреть с двух сторон. Но сперва присядьте лучше, дорогой Матерн. Ну, если вам непременно хочется стоять, ради Бога. Итак, с одной стороны, вы, конечно, совершенно и так далее; но, с другой стороны, как бы ни велика была постигшая вас несправедливость, я в ту пору был единственным, кто спас вас от наихудшего. Вы, быть может, не знаете, что в случаях вроде вашего полагалась смертная казнь, и если бы мои показания не побудили военный трибунал вырвать это дело из лап чрезвычайного суда, то… Хорошо, можете мне не верить, я понимаю, вы столько выстрадали. Я и не требую понимания. И тем не менее — заявляю это сегодня, в канун Рождества, со всей ответственностью — без меня вы бы сегодня здесь не стояли и не изображали бы этакого неистового Бекмана[354]. Кстати, отличная вещица. Мы ее всей семьей, да, временный театрик на частной квартире. Материал, конечно, сильный, пробирает до костей. Постойте, вы ведь, по-моему, актер, верно? Послушайте, эта роль прямо для вас! Этот Борхерт бьет, что называется, не в бровь, а в глаз. Разве со всеми нами, и со мной тоже, не так же было? Разве мы не стояли на улице перед дверью, став чужаками для наших родных и близких и для самих себя? Я вот четыре месяца назад вернулся. Французский плен. Хлебнул, будьте уверены. Лагерь Бад Кройцнах, если вам это о чем-нибудь говорит. Но все равно лучше, чем… А нам именно это и светило, если бы мы своевременно из района Вислы… Как бы там ни было, а вернулся я с пустыми руками, остался буквально ни с чем. Фирма моя накрылась, дом заняли канадцы, жена с детьми в Эспае, в Эббских горах, в эвакуации, угля нет, бесконечные склоки с властями, словом — типичная ситуация Бекмана, точь-в-точь как в книжке: на улице перед дверью! Поэтому, любезный мой Матерн, — да садитесь же вы наконец — я вдвойне, даже втройне способен понять, каково у вас на душе. В конце концов, я же помню вас по двадцать второму зенитному полку как серьезного человека, который во всем старался до самой сути, да. И полагаю и надеюсь, что в этом вы не изменились. Так что будем христианами и отметим этот вечер, как того требуют вера и обычаи. Дорогой мой господин Матерн, от всего сердца и от имени всей моей семьи желаю вам счастливого Рождества!
В таком духе и проходит вечер: Матерн на кухне точильным бруском оттирает пальцы от чернил, а потом, причесавшись, садится за семейный стол, благосклонно разрешает Гансу-Ульриху погладить Плутона, голыми руками, поскольку щипцы в хозяйстве Хуфнагелей отсутствуют, колет для всего семейства грецкие орехи, получает в подарок от госпожи Доротеи пару только один раз простиранных носков, обещает весьма приглядной дочке Эльке новую авторучку «пеликан», до полного одурения потчует хозяев рассказами о своих средневековых предках, народных героях и головорезах, ночует вместе с псом в холодной мансарде, в первый день Рождества вкушает семейный обед — жаркое в кисло-сладком соусе с толченым картофелем, за две пачки «Кэмела» на второй день Рождества раздобывает на черном рынке почти новую авторучку «Монблан», вечером, дорассказав гостеприимному семейству все прочие предания из устья Вислы и о народных героях Симоне и Грегоре Матерне, намеревается в поздний час, когда все усталые головы уже прильнули к подушкам, на цыпочках прокрасться под дверь элькиной спаленки, дабы вручить ей авторучку «Монблан»; но половицы под бесшумными носками все равно предательски скрипят, и в ответ на их скрип через замочную скважину до него доносится писклявое «Войдите!» Отнюдь не всякая каморка заперта на засов и на замок. Тихой сапой он вступает в девичьи покои под предлогом все той же авторучки. Но ему тут рады, он желанный гость и уже вскоре получает возможность отомстить папаше, отыгравшись на дочке. Месть оказывается кровной, кровь течет неопровержимо:
— Ты первый, кто… Как только ты вошел в тот вечер, и даже шляпу не захотел снимать. Ты теперь не будешь думать обо мне плохо? Вообще-то я совсем не такая, вот и подружка моя все время говорит. Ты теперь так же счастлив, как и я, и тоже желаешь только одного, чтобы?.. Скорей бы только мне школу закончить, а после я хочу путешествовать, путешествовать без конца! А это что у тебя? Неужели шрамы — и тут, и вот тут? Проклятая война! Каждому от нее досталось. Ты теперь у нас останешься? Тут иногда очень даже красиво бывает, когда дождя нет: лес, звери, горы, Ленне, Высокий Зондерн, так много дамб, город Люденшайд сверху неплохо смотрится, и куда ни глянь, всюду леса и горы, озера и реки, олени и косули, дамбы и озера, леса и горы, оставайся!
Но Матерн предпочитает тихой сапой удалиться вместе с псом восвояси. И даже почти новую ручку «Монблан» с собой в Кельн-на-Рейне прихватить; в конце концов, не для того же он в Зауэрланд направлялся, чтобы подарки раздаривать, а для того, чтобы судить папашу, осуществив акт возмездия с его дочкой. Один Господь Бог, на сей раз из застекленной иконки в рамочке над книжной полкой, видел, как этот акт происходил.
Вот так и набирает свой неотвратимый ход справедливость. Туалет кельнского главного вокзала, воистину католическое отхожее место, открывает новое имя — унтер-офицер Леблих, место жительства — Билефельд, славный своим бельем из египетского хлопка и детским хором. А потому — долгий разбег по железной дороге с обратным билетом в кармане, потом на третий этаж, вторая дверь направо, и с порога, даже не постучав, прямо в чужую жизнь; но Эрвин Леблих после несчастного случая на производстве, происшедшего не по его вине лежит в кровати с загипсованной ногой на растяжке и загипсованной рукой, однако за словом в карман не лезет:
— Ради Бога, делай со мной что хочешь, пусть твоя псина подавится моим гипсом. Согласен, я тебя муштровал и гонял по плацу в противогазе; но двумя годами раньше меня точно так же муштровал и гонял в противогазе другой; а его в свою очередь гонял в противогазе — да еще с песней — кто-то третий. Вот я и спрашиваю: чего тебе, собственно, надо?
Матерн, опрошенный таким образом на предмет своих желаний, осматривается вокруг в поисках жены Леблиха — но Вероника Леблих погибла еще в марте сорок четвертого в бомбоубежище. Тогда Матерн требует предоставить ему дочку Леблиха — однако шестилетняя малютка только-только начала ходить в школу и потому переселилась к бабушке в Лемго. Но поскольку Матерн во что бы то ни стало решил увековечить свое отмщение, он убивает хозяйского кенаря — невинную птаху, которая сумела счастливо пережить и ковровые бомбежки, и бреющие налеты штурмовиков.
Поскольку Эрвин Леблих просит принести ему стакан воды, Матерн покидает комнату болящего, заграбастывает левой рукой стакан, наполняет его водой из-под крана, а правой рукой на обратном пути мимоходом наносит короткий визит в птичью клетку: только капающий водопроводный кран да еще Господь Бог наблюдают за делом рук его.
Тот же очевидец наблюдает за Матерном и в Геттингене. Там наш герой, причем без помощи пса, приканчивает кур одинокого почтальона Весселинга, — числом пять штук, — потому что Пауль Весселинг еще в бытность свою полевым жандармом задержал его, Матерна, за участие в уличной драке во французском городе Гавре. В итоге Матерн получил трое суток строгого ареста, а из-за этого ареста не смог поступить на офицерские курсы и стать лейтенантом, хотя и заслужил такое право, доблестно проявив себя во время французской кампании.
Придушенных кур он пару дней спустя продал неощипанными на площади между кельнским собором и кельнским главным вокзалом за двести восемьдесят довоенных марок. Его дорожная казна срочно требовала пополнения, поскольку проезд по маршруту Кельн — Штаде под Гамбургом и обратно первым классом да еще с собакой обходится в кругленькую сумму.
Там, за эльбской дамбой, живет некто Вильгельм Димке с невзрачной женой и глухим отцом. Димке, будучи судебным асессором, в качестве заседателя участвовал в работе чрезвычайного суда района Данциг-Новосад, разбиравшего дело о подрыве боевого духа и оскорблении Вождя — Матерну грозила смертная казнь, если бы военный трибунал округа по ходатайству бывшего командира обвиняемого не принял это дело к своему производству, — так вот, заседатель Димке успел вывезти из Старгарда, последнего места его доблестной судебной карьеры, большую коллекцию почтовых марок немалой, очевидно, стоимости: семейство как раз ее каталогизирует. Изучение типичной среды? У Матерна на это нет времени. А поскольку Димке припоминает множество рассмотренных дел, но дело Матерна никак вспомнить не может, Матерн, дабы расшевелить его память, швыряет в гудящую пламенем чугунную печь альбом за альбомом, напоследок — с пестрыми заветными марками «колоний»: печь ликует, ее тепло расползается по переполненной кланом беженцев комнатенке, под конец она радостно и безвозвратно принимает в свою пасть весь запас клеящей бумаги и пинцетов; но Вильгельм Димке все еще никак не вспомнит. Его невзрачная жена плачет. Его глухой отец отчетливо произносит слово «вандализм». На шкафу сложены на зиму сморщенные яблоки. Ему никто не предлагает. Матерн, пришедший судить, в сопровождении почти безучастного пса, не прощаясь, покидает семейство Димке, чувствуя себя глубоко обиженным.
О, эти вечные кафельные стены мужского туалета на главном вокзале города Кельна! Они помнят все. Они ни одного имени не упустят: ибо точно так же, как прежде в девятом и двенадцатом отсеке красовались имена полевого жандарма и судебного заседателя, теперь во втором отсеке слева аккуратным наколом по эмали отчетливо запечатлены имя и адрес бывшего чрезвычайного судьи Альфреда Люксениха: Аахен, Каролингская улица, 112.
Там Матерн попадает в музыкальные круги. Участковый судья Люксених убежден, что музыка, эта великая утешительница, помогает нам пережить тяжкие и смутные времена. Поэтому он советует Матерну, который пришел судить своего бывшего чрезвычайного судью, прослушать сперва вторую часть шубертовского трио: сам Люксених исполняет партию на скрипке, некий господин Петерсен весьма ловко музицирует на фортепьяно, а барышня Оллинг управляется с виолончелью — и Матерн, успокаивая встревоженного пса, сосредоточенно слушает, хотя его сердце, почки и селезенка уже вскоре не выдерживают и на свой внутренний лад начинают бунтовать. Но после второй части псу Матерна и трем его чувствительным внутренним органам предоставляется возможность насладиться третьей частью того же трио. По завершении которой участковый судья Люксених, как выясняется, не вполне доволен собой и смычком барышни Оллинг:
— Нет-нет, так не пойдет. Попрошу третью часть еще раз. А уж после господин Петерсен, кстати, учитель математики в здешней Карловой гимназии, исполнит для вас «Крейцерову сонату». Я же, со своей стороны, прежде чем мы отведаем по бокалу мозельского, хотел бы завершить вечер баховской сонатой для скрипки. Так сказать, для истинных знатоков!
Всякая музыка имеет начало. Матерн всем своим немузыкальным туловищем подлаживается к классическому ритму. Всякая музыка дает пишу для сравнений. Например: он — и виолончель между коленями барышни Оллинг. Всякая музыка раскрывает бездны. Это затягивает, влечет и напоминает немое кино. Великие мастера. Непреходящее наследие. Лейтмотивы красной нитью и кровью. Набожный музыкант Господа. На худой конец Бетховен. Пленник гармонии. Какое счастье, что хоть никто не поет — а он как пел, как журчал и переливался. «Dona nobis»[355]. И голос всегда в верхней горенке. «Господи помилуй!», от которого немели зубы. «Агнец божий» как маслом по сердцу. Мальчишеское сопрано как резец. Ибо в каждом толстяке спрятана утонченность и рвется наружу, и поет тоньше, чем дисковая и ленточная пила. Евреи не поют, а он пел. Слезы, тяжелые и круглые, катятся по чашечкам почтовых весов. Только у воистину немузыкальных людей немецкая серьезная классическая музыка способна вызывать слезы. Гитлер плакал по случаю смерти матушки и в восемнадцатом году, по случаю краха Германии; а Матерн, пришедший с черным псом, дабы судить, плачет при звуках фортепьянной сонаты гения, которую старший преподаватель Петерсен нота за нотой вверяет клавишам. И не может сдержать ручьи слез, когда участковый судья Люксених начинает извлекать из чудом уцелевшего инструмента баховскую сонату для скрипки.
Кто же стыдится скупых мужских слез? Кто же способен лелеять в сердце своем ненависть, когда святая Цецилия[356] парит в музыкальной гостиной? Кто не ощутит признательности к барышне Оллинг, если та сама ищет близости Матерна, утвердив на нем свой всеведущий женский взор, наложив одновременно свои цепкие пальчики виолончелистки на его руку и окучивая его душу ласковыми тихими словами?
— Вам надо выговориться, мой милый друг. Не мучьте себя, прошу вас! Непомерная боль снедает вас. Дозволено ли и нам ее разделить? Ах, каково же должно быть у вас на душе! Едва вы вошли с этим черным псом, на меня словно мир обрушился со всеми юдолями скорбей и неистовыми бушеваниями страсти. Но поскольку я вижу: человек, понимаете, к нам человек явился, хотя и чужой, но вместе с тем и какой-то близкий, родной почти, мы можем и должны ему помочь в меру наших скромных сил, а раз так — я снова обретаю веру и решимость в сердце. Дабы распрямить и поднять вас. Ибо и вам, мой друг, надо бы. Откройте мне, что вас так сильно растрогало? Воспоминания? Черные дни прошлого встали перед вашим взором? Иль то любимый человек, давно ушедший от вас, снова разбередил вашу душу?
Матерн отвечает отрывисто, будто через силу. Словно кубики друг на друга ставит. Но сооружаемое им здание оказывается вовсе не верховным областным судом в Данциге-Новосаде с резиденцией чрезвычайного суда на четвертом этаже; нет, скорее уж он, кирпичик к кирпичику, возводит готическую громаду церкви святой Марии. А под гулкими, с удивительной акустикой сводами этой церкви — заложена 28 марта anno[357] 1343 — звонкий голос толстого мальчика, подхваченный главным органом и органным эхом, тоненько выводит свое серебристое «Ве-е-ерую!»
— Да, я его любил. А они у меня его отняли. Еще мальчишкой я не жалел ради него кулаков, потому как мы, Матерны, начиная от моих предков — Симона Матерны и Грегора Матерны — за слабых всегда горой. Но те, другие, были сильней, так что мне оставалось лишь беспомощно наблюдать, как террор сломил этот голос. Эдди, мой Эдди! С тех пор и во мне многое безнадежно сломлено: осталась одна дисгармония, остракизм, раздрызг, и черепки уже не склеить.
Тут барышня Оллинг решительно возражает, а господа Люксених и Петерсен, сострадая над искристым мозельским, ее поддерживают:
— Милый друг, это никогда не поздно. Время врачует раны. Музыка врачует раны. Вера врачует раны. Искусство врачует раны. И любовь, конечно же любовь врачует раны! — Универсальный клей. Гуммиарабик. Суперцемент. Алебастр. Слюна.
Матерн, все еще не веря, соглашается тем не менее попробовать. В поздний час, когда оба господина над мозельским уже слегка задремывают, он предлагает барышне Оллинг свою сильную руку и грозную пасть пса Плутона для сопровождения домой по ночному Аахену. Поскольку путь их не пролегает ни через парк, ни по прибрежному лугу, Матерн при первой же возможности водружает барышню Оллинг, — она оказывается куда увесистей, чем ее музыка, — на мусорную бочку. Впрочем, ее нисколько не смущают ни отбросы, ни вонь. Она говорит «да» гниению и тлену в ожидании любви, которая превзойдет и затмит собою все мерзости этого мира:
— С тобой — куда хочешь, в сточную канаву, в любую клоаку, бросай меня в самые жуткие подвалы, неси, опрокидывай, заваливай, вонзайся в меня, делай со мной что хочешь, лишь бы это делал ты!
В деятельном его участии, впрочем, сомневаться не приходится: хоть она и скачет во весь опор на мусорной бочке, но скачет на месте, потому что Матерн, пришедший, чтобы судить, сдерживает ее галоп в весьма неудобной позе, которую только люди, оказавшиеся в отчаянном положении, способны сохранять долго, причем даже не без выгоды для себя.
На сей раз эту сцену — нет ни дождя, ни снега, ни лунного света — кроме Господа Бога наблюдает еще кое-кто: пес Плутон на своих четырех лапах. Он охраняет мусорную бочку, галопирующую на ней наездницу, стойкого стремянного и виолончель, исполненную всеисцеляющей музыки.
Полтора месяца проходит Матерн курс лечения у барышни Оллинг. За это время он успевает усвоить, что зовут ее Кристина и что она не любит, когда ее называют Кристель. Живут они в ее мансардной комнате, где пахнет типичностью среды, канифолью и гуммиарабиком. Для господ Люксениха и Петерсена это беда. Участковый судья и старший преподаватель лишились возможности играть трио. Матерн покарал бывшего чрезвычайного судью, вынудив его с февраля по начало апреля разучивать одни дуэты; а когда Матерн со своим псом и тремя свежевыглаженными сорочками покинет Аахен, — его снова призовет к себе Кельн, и он последует зову, — участковому судье и старшему преподавателю придется припомнить немало утешительных, осколкосклеивающих, душеспасительных слов, прежде чем барышня Оллинг снова будет в состоянии подарить долгожданным трио свою почти безошибочную виолончель.
Всякая музыка имеет конец, зато кафельные стены мужского туалета на кельнском главном вокзале пребудут всегда и во веки вечные не перестанут нашептывать имена, что вырезаны в душе и на иных внутренних органах у железнодорожного пассажира Вальтера Матерна: теперь ему обязательно надо навестить в Ольденбурге некоего Зелльке, бывшего партсекретаря района. Только теперь он начинает понимать, до чего же все еще обширна и велика Германия, ибо из Ольденбурга, где по сю пору сохранились настоящие придворные парикмахеры и придворные кондитеры, ему приходится снова через Кельн поспешать в Мюнхен. Там, согласно вокзально-туалетным сведениям, обитает добрый старый приятель Варнке, с которым Матерн за питейной стойкой в Малокузнечном парке далеко не все обсудил. За двое неполных суток город на Изаре успевает изрядно его разочаровать, зато гористый край в верховьях Везера он изучит неплохо, потому что там, в Витценхаузене, как он снова выясняет в Кельне, осели Бруно Дуллек и Эгон Дуллек, или, проще говоря, двойняшки Дуллеки. С ними обоими он, поскольку темы для разговоров уже вскоре исчерпаны, добрых две недели режется в скат, чтобы в конце концов все же с этим делом завязать и двинуться дальше. На сей раз он решает нагрянуть в город Саарбрюккен, где оказывается гостем Вилли Эггерса, которому и спешит рассказать про Йохена Завацкого, Отто Варнке, про Бруно и Эгона Дуллеков, словом, про всех добрых старых друзей-приятелей — они теперь, благодаря посредничеству Матерна, уже начинают слать друг другу открытки и боевые братские приветы.
Но и Матерн разъезжает не впустую. Как память или как охотничий трофей — ибо он, не забудем, путешествует с псом, дабы судить — он привозит с собой в Кельн: теплый вязаный зимний шарф, которым его одарила секретарша бывшего районного партсекретаря Зелльке; баварское грубошерстное пальто, поскольку уборщица в доме у Отто Варнке по совместительству распоряжалась зимней одеждой; а из Саарбрюккена, где Вилли Эггерс растолковывал ему тонкости местного приграничного сообщения[358], он, поскольку братья Дуллеки в верховьях Везера ничего, кроме сельского воздуха и мужского ската на троих, предложить не могли, прихватывает добротный, городской, французский оккупационный триппер.
НЕ ОБОРАЧИВАЙТЕСЬ — ТАМ ЗА ВАМИ ТРИППЕР ПО ПЯТАМ. С таким вот заряженным пистолетом, с таким, можно сказать, шиповатым бичом любви, со шприцем зудящей сукровицы в чреслах, Матерн объезжает вместе с псом города Бюкебург и Целле, заброшенные холмы Хунсрюка, приветливую Горную дорогу от Вислоха до Дармштадта, Верхнюю Франконию вкупе с Фихтельскими горами и даже Веймар в советской оккупационной зоне, где он останавливался в знаменитом отеле «Элефант», а также отроги Баварского Леса, Богом забытое захолустье.
И в какое бы захолустье они оба, хозяин и пес, ни направляли свои шесть стоп, — в Швабский Альб, на побережье Восточной Фрисландии или в убогие деревушки Вестервальда, — повсюду у триппера было свое, местное наименование: в одних краях его звали зудешник, в других любовными соплями, еще где-то предостерегали от блудной почесухи, а то и — весьма поэтично — советовали не пробовать потаскушьего медку; были и иные, вполне наглядные народные обозначения: дрынное золотишко и дворянский насморк, вдовьи слезы и срамное маслице, а также совсем простые, вроде скакуна и бегунчика; Матерн называет триппер «молоком мщения».
В изобилии располагая этим продуктом, он наведывается во все четыре оккупационных зоны, равно как и на руины некогда славной, а ныне четвертованной Столицы Рейха. Там пес Плутон почему-то впадает в болезненную нервозность и снова успокаивается лишь на западном берегу Эльбы, где они доблестно продолжают раздавать молоко мщения, или, иначе говоря, пот справедливости, собранный с утомленного чела богини Юстиции.
Не оборачивайтесь — там за вами триппер по пятам! И притом все более шустрый и неотвратимый, поскольку агрегат отмщения не дает самому мстителю ни минуты покоя, а, не успев толком завершить один акт возмездия, уже устремляется к следующему: скорее во Фройденштадт, а оттуда до Рендсбурга рукой подать; из Пассау в Клеве; Матерна не страшат ни многочисленные пересадки, ни даже длительные — и по необходимости слегка враскорячку — пешие переходы.
Тот, кто сегодня займется статистикой заболеваемости в первые послевоенные годы, наверняка заметит, как с мая сорок седьмого резко взлетает кривая этой, в сущности, безобидной, но весьма мучительной венерической болезни, и продолжает ползти вверх, достигая своего апогея в конце октября, чтобы затем так же внезапно упасть и вскоре успокоиться на прежнем уровне начала года, обратившись в более или менее прямую линию, легкие колебания которой определяются главным образом интенсивностью пассажирских перевозок да сменой дислокации оккупационных войск, но уже никак не сопряжены с Матерном, чьи — приватные и никак не залицензированные — перемещения по стране с заряженным гонококками шприцем продиктованы страстным желанием «отработать» весь список имен и подвергнуть своеобразной денацификации широкий круг своих разбросанных где попало знакомых. Вот почему позже, когда придет пора воспоминаний в дружеском кругу о послевоенных передрягах и подвигах, Матерн будет называть свое полугодичное заболевание не иначе, как антифашистским триппером; и в самом деле, Матерн сумел опосредованно, по женской линии оказать на бывших партийных функционеров среднего звена воздействие, которое в известном, то бишь переносном смысле, следует считать целительным.
Но кто исцелит его самого? Того, кто, можно сказать, поставил отмщение на ноги и научил ходить, его-то кто избавит от боли в чреслах? Врач! Исцели самого себя[359]!
Между тем он, завершив крестовые походы по Тевтобургскому лесу и недолго погостив в Детмольде, останавливается в деревушке неподалеку от мунстерского лагеря, там, где берет начало его тяга к странствиям. Отсчитав назад и сверившись с записной книжкой: все так, вокруг вот они, луга, цветущие, что твое дрынное золотишко, а посему между Хайдшнукеном и Хайдебауэрном Матерн отыскивает уйму друзей-приятелей — среди прочих и гауптбаннфюрера Ули Гепферта, который когда-то вместе с юнгбаннфюрером Вендтом из года в год открывал в Поггенкругском лесу под Оливой излюбленные юношеством палаточные городки. Здесь же, в Эльмке, он проживает уже без Отто Вендта, зато под пятой у длинноволосой фурии, бывшей вожатой отряда девочек, в двух комнатах и даже с электрическим светом.
У Плутона здесь отличный выгул. Зато Гепферт сидит у плиты как пришитый, накладывает на чресла торф, который сам накопал с весны, ворчит на себя и весь свет, то и дело принимается ругать неких свиней, ни одну не называя по имени, и размышляет на тему: как теперь быть? Что ему теперь — эмигрировать? Примкнуть к христианским демократам, социал-демократам или к жалкой горстке вчерашних единомышленников? Позднее он решится связать свою судьбу с либералами и в рядах так называемых младотурков[360] даже сделает карьеру в Северной Рейн-Вестфалии; но пока что, здесь, в Эльмке, ему приходится долго и безуспешно лечиться от триппера уретры, который занес к нему в дом больной приятель со здоровым псом.
Иногда, когда госпожа Вера Гепферт дает уроки в школе и не провоцирует своей прической приступы дворянского насморка, Гепферт и Матерн рядышком сиживают у огня, готовят себе смягчающие торфяные примочки, то бишь врачуют общий недуг одним и тем же стародавним крестьянским снадобьем, и ругают на чем свет стоит «этих свиней», безымянных и именитых.
— Вот куда они нас завели, эти сволочи! — зудит бывший гауптбаннфюрер. — А мы-то как дураки верили, надеялись, вынашивали планы, участвовали во всем, а теперь, что теперь?
Матерн твердит список имен, от Завацкого до Гепперта, их у него уже около восьмидесяти — в сердце, почках и селезенке. Много общих знакомых. Гепферт, к примеру, хорошо помнит руководителя оркестра шестой бригады штурмовиков, Эрвин Букольт его звали:
— И было это, голубь ты мой, не в тридцать шестом, а аккурат двадцатого апреля тридцать восьмого, потому как ты, хочешь верь, хочешь нет, тоже стоял в тот день в оцеплении. В Йешкентальском лесу в десять часов утра. Погода — подарок Вождю. Лесная сцена. Молодежный праздник всех восточных земель с исполнением кантаты Баумана[361] «Зов с Востока». Сто двадцать мальчиков и сто восемьдесят девочек, сводный хор. Только отборные голоса. Парадный выход, построение в три яруса на трех террасах. Размеренный марш по прошлогодним буковым орешкам. Девчата все деревенские, кровь с молоком. Вижу их как сейчас: блузки распирает, красные и голубые фартучки и такие же косынки. И этот ритмичный парадный марш волнами по террасам. Хоры сливаются в один. На главной террасе стоит маленький хор мальчиков и, после моего краткого вступительного слова, начинает задавать судьбоносные вопросы. А два больших хора мальчиков и два больших хора девочек медленно, торжественно, чеканя каждое слово, дают ответы. А в промежутках — помнишь? — было слышно, как кукует кукушка на поляне у памятника Гутенбергу. Будто специально поджидала паузу между судьбоносным вопросом и судьбоносным ответом и всякий раз вставляла свое «ку-ку!» Но четверо мальчишек, что были солистами и стояли на главной террасе, все равно не сбились. А на третьей террасе стоит шеренга фанфаристов. Вам, штурмовому отряду Лангфур-Северный, надлежит стоять слева внизу, прикрывая оркестр Букольта, потому как потом именно вы следите за правильностью отхода. Слушай, и ведь все получилось! В Йешкентальском лесу замечательное эхо, это все от гутенберговой поляны, где кукушка не унимается, и от двух холмов — Гороховой горы и Мирной выси. А в кантате речь идет о судьбах Востока. Всадник скачет по немецким землям и возвещает: «Держава больше, чем ее границы!» На вопросы хоров и четырех главных солистов-вопрошателей Всадник отвечает, чеканя слова как металл: «Оплот свой храните — то наши врата на Восток!» А вопросы и ответы постепенно сливаются в единое горячее признание в любви к Отчизне. И завершалась вся кантата величественным гимном великой Германии. Отовсюду эхо. Буковый лес кругом, сплошной бухенвальд. Голоса чистейшие. Даже кукушка ничуть не мешала. Погода — подарок Вождю. Были же столичные гости — им очень понравилось. И ты там был, голубок. Был-был, не надейся. Тридцать восьмой год. Двадцатое апреля. Дерьмо собачье. На Восток нас, видишь ли, потянуло, с Гельдерлинами и Хайдеггерами в солдатских ранцах. Зато теперь вот сидим на Западе и чем награждены? Триппером.
И тут Матерн, двигая Восток и Запад навстречу друг другу, скрежещет зубами. Ему осточертел этот вечный крапивный зуд, молоко отмщения, это дрынное золото, смоченное вдовьими слезами. Ему тесно в низенькой и душно натопленной торфом крестьянской хижине, где он после своих восьмидесяти четырех матерниад стоит как неприкаянный, поневоле раскорячив ноги. «Довольно! Хватит!» — вопиют его измученные болью чресла.
«Что значит довольно?» — возражают оставшиеся, неохваченные имена, начертанные в сердце, почках и селезенке.
— Два шприца цемента и каждый час свежая торфяная примочка, а все еще никакого улучшения! — жалуется бывший гауптбаннфюрер Гепферт. — А пенициллин не купишь ни за какие деньги, даже беладонну трудно достать.
И тогда Матерн, расстегнув штаны, направляется к побеленной стенке, которой обозначены рубежи крестьянской хижины с востока. Торжественный этот миг свершается без фанфар и даже без кукушки. Но именно на восток направляет он свой измученный, медоточивый пенис. «Держава больше, чем ее границы!» Девять миллионов беженских удостоверений штабелями громоздятся за спиной у Матерна. «Оплот свой храните — то наши врата на Восток!» Всадник скачет по немецким землям, но ищет уже не врата, а обыкновенную электрическую розетку. И между этой розеткой и его пенисом возникает мгновенный электрический контакт. То бишь, говоря без околичностей, Матерн мочится на розетку, в результате чего получает через посредство непрерывной жидкостной струи сильнейший, сногсшибательный, но и целебный удар электрическим током; ибо, когда он, бледнее смерти, волосы дыбом и весь дрожа, снова встает на ноги, потаскухин мед вытекает из его чресел. Свертывается молоко отмщения. Утекает в щели между половицами срамное масло. Плавится дрынное золото. Перестает зудеть зудешник. Топчется на месте бегунчик. Высыхают вдовьи слезы. Дворянский насморк повержен одним электрическим ударом. Врач исцелился сам. Пес Плутон тому свидетель. И бывший гауптбаннфюрер Гепферт тому свидетель. Разумеется, и Господь Бог тоже тому свидетель. И только госпожа Вера Гепферт ничего не видела, ибо, когда она со своим пышным узлом волос возвращается из сельской школы, от Матерна в хижине остаются только запахи и дырявые носки. Хотя и не отпущенные, но исцеленные, покидают хозяин и его пес цветущие люнебургские луговины. С этого часа триппер в Германии резко идет на убыль. Всякий недуг очистителен. Всякая чума уходит в прошлое. Всякое вожделение когда-то бывает последним.
ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ ФИЛОСОФСКАЯ И ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ ИСПОВЕДАЛЬНАЯ МАТЕРНИАДЫ
Что надо Браукселю? Долбит и долбит свое. Мало того, что за какие-то жалкие пару сотен аванса приходится страница за страницей выворачиваться наизнанку; теперь еще, оказывается, ему надлежит еженедельно отчитываться: «Сколько страниц сегодня? Сколько будет завтра? Будет ли иметь последствия эпизод с женой Завацкого? Падал ли снег, когда начались хождения между Фрайбургом в Брайсгау и зимним спортивным курортом Тодтнау? В каком именно стояке мужского туалета на кельнском главном вокзале обнаружено походное предписание следовать в Шварцвальд? Надпись выцарапана или наколота?»
Тогда слушай, Брауксель! Матерном извергнуто: сегодня семь страниц. И завтра семь страниц. И вчера семь страниц. Каждый день по семь страниц. Каждый эпизод будет иметь последствия. Снег между Фрайбургом и Тодтнау не падал, а падает. В двенадцатом стояке слева не было написано, а написано. Матерн пишет только в настоящем времени: всякий проселок есть в своем роде просека[362]!
Перед всеми писсуарами толкучка. Промозглая погода загоняет мужиков в туалет, поскольку в соборе не топят. Матерн никого не поторапливает, но когда наконец дожидается своей очереди в двенадцатый стояк слева, располагается там надолго, словно и не намереваясь уходить. Человек на земле имеет право на пристанище! Но сзади уже погоняют — нет, не имеет.
— Эй, приятель, давай пошевеливайся! Другим тоже хочется. Он и не ссыт уже давно, только глазеет! Что ты там углядел, приятель? Нам-то хоть расскажи!
По счастью, пес Плутон обеспечивает хозяину возможность насладиться чтением без помех. Смакуя, он семь раз перечитывает нежные, словно серебряным стилом начертанные строчки. После стольких пыток похоти и заразы наконец-то он вкушает духовные яства. И пусть моча всех мужчин на свете клубится вокруг. Матерн стоит как скала, сам по себе, и запечатлевает нежные царапины серебряного стило у себя в сердце, почках и селезенке. Клубящийся смрад в католическом мужском туалете — это смрад католической кухни. За спиною Матерна толпятся повара, им тоже не терпится слить свой отвар.
— Давай, приятель! Ты тут не один! Слышь, друг, возлюби ближнего своего!
Но Матерн стоит неколебимо, как памятник. Великий скрежетун и супротивец вбирает в себя каждое слово заветной надписи в двенадцатом стояке слева: «Алеманская вязаная шапочка торчит между Тодтнау и Фрайбургом. Бытиё отныне пишется через „ё“».
Восприняв сию мудрость, Матерн поворачивается.
— Ну, наконец-то! — Пес Плутон послушно льнет к ноге. — Нет, ты только подумай, псина, но не через разум! Он сопровождал меня на планере и в шахматной партии. С ним — рука об руку, душа в душу — брели мы портовыми набережными туда и Длинным переулком обратно. Эдди подарил мне его потехи ради. А он читался сам собой, проскакивал, как масло. Помогал от головных болей и лишних мыслей, когда Эдди — посредством разума — начинал размышлять о воробьях. Ты вспомни, псина, помысли — но не через разум! Его я зачитывал вслух лангфурскому штурмовому отряду номер восемьдесят четыре. Они чуть не падали под стойку и ржали до потери бытия и времени. А он теперь пишет бытие через «ё». И носит вязаную шапочку, под которой вьются дороги мудрости подлиннее всех наших походов и отступлений! Ведь я же протаскал его с собою в вещевом мешке от Варшавы до Дюнкерка, от Салоник до Одессы, от Миусского фронта до батареи Кайзерхафен, а оттуда — учти, расстояния нешуточные! — в Арденны, с ним вместе перебежал к англичанам, протащил его с собой до мунстерского лагеря; Эдди купил его в букинистической лавке в Поденном переулке — первое издание, двадцать седьмого года, еще с посвящением малышу Гуссерлю, которого он потом своей вязаной шапочкой… Слушай как следует, псина: он родился в Месскирхе. Это под Браунау на реке Инн. И он, и тот, другой, отделились от пуповины в один и тот же год, урожайный на вязаные шапочки. Он и тот, другой, изобрели и придумали друг друга. Он и тот, другой, когда-нибудь будут стоять на постаменте общего памятника. Я слышу его зов постоянно. Ну-ка, догадайся, псина, но только чур, не через разум! Куда помчит нас еще сегодня перестук вагонных колес?
Они сходят с поезда во Фрайбурге в Брайсгау и стучатся в двери университета. Хотя стены еще помнят эхо громовой речи, которую он произнес здесь в тридцать третьем[363] — «Мы хотим сами себя…» — но ни в одной аудитории вязаная шапочка не висит. «Ему запрещено, потому что он…»[364]
Упорные расспросы приводят наконец хозяина и пса к кованой калитке уютной виллы. Не боясь нарушить тишину фешенебельного квартала, они кричат и лают во весь голос.
— Эй, шапочка, открывай! Это Матерн пришел обнаружить себя кличем заботы. Открывай!
Вилла хранит зимнее безмолвие. Ни одно окошко не затепливается желтым электрическим сиянием. Зато на почтовом ящике сбоку от калитки приклеена записочка с уведомлением: «Вязаная шапочка ушла на лыжах в горы.» Приходится хозяину и псу на своих шестерых карабкаться на гору Фельдберг. Где-то над Тодтнау их застигает в дороге снежный буран. Самая что ни на есть философская погода — погода познания! В снежных вихрях бытийносущие вихри мысли. И ни одной ели в этом Темном Лесу — Шварцвальде, чтобы подсказала дорогу. Так что если бы не пес, полагающийся отнюдь не на разум, плутать бы им до скончания века. Но пес нижним чутьем находит горную хижину, серое пятнышко тени в снежной круговерти. И вот уже сквозь посвист вьюги пробиваются раскатистые выкрики и собачий лай:
— Отворяй, шапка-невидимка! Матерн пришел к тебе, дабы явить отмщение! Пришедшие к тебе суть в матерниадах сущие и воплощение Симона Матерны, славного борца за свободу. Он поставил на колени города Данциг, Диршау и Эльблинг, напрочь спалил Токарный и Петрушечный переулки, и тебя, ученый колпак, праздношатающееся на лыжах Ничто, ожидает та же участь, — открывай!
И хотя забитая-заколоченная, затворенная на все засовы и ставни хижина хранит безмолвие, на ладном, без единой щелочки шварцвальдском бревенчатом срубе, припорошенная снегом и уже почти неудобочитаемая, приклеена записочка: «Шапочка спустилась в долину почитать Платона.»
Значит, снова под гору. Но это ведь не карликовая Гороховая гора, это Фельдберг. Без карты и разума через Тодтнау и Нотшрай — Крик беды, да-да, такие здесь названия — снова вниз, через Зорге-Заботу, Юберштиг-Перевал, Нихтунг-Нетие. Что ж, все правильно, Платон блуждал и возвращался, почему бы и ему нет? Чем для одного были Сиракузы[365], тем станет для другого ректорская речь. Главное поэтому — все время тихо-мирно отсиживаться в провинции. Почему мы сидим в провинции? Да потому что философская шапочка ее не покидает. Он либо наверху бегает на лыжах, либо глубоко внизу читает Платона. Вот и всё маленькое провинциально-философское различие. Это такая игра, развлечение для философов: ку-ку, я здесь! Ку-ку, а теперь вот он я! Вверх — вниз, вниз — вверх. На-кась, выкуси! О, бедняга Матерн, семь раз вверх-вниз — с Фельдберга и на Фельдберг, так ни разу и не настигнув свое второе «Я». Сшит колпак, перешит колпак, да не по-колпаковски! Это вечное недоосуществление себя, недообретение другого, только вне себя вверх-вниз в погоне за самостью промежду елей, сплошь, как одна, безмолвных и безразличных. И снова с горних высей надежды провал в жутчайшие бездны бесприютного самоналичия, поскольку внизу, в долине, на квадратном листке возле садовой калитки до боли знакомый почерк доверительно нашептывает: «Вязаная шапочка, как и все истинно великое, противостоит бурям», а вверху, освеженный метелью, Матерн читает: «Вязаная шапочка призвана внизу расчищать пути-дороги».
О, тяжкий труд отмщения! Неистовый гнев заглатывает на лету снежные хлопья. Ярость сшибает сосульки. Но ели стоят как одна в угрюмом отрицании и не выдают тайну местонахождения искомого: ежели он не пребывает вверху, значит, блуждает внизу; ежели не бытует вверху, значит, обозначился внизу на записочке у железной калитки: «Шатер всех раскидистых шварцвальдских елей, что осеняют вязаную шапочку, дарует бытие и снежную пыль.» Что за погода — мечта лыжника! О, бедняга Матерн, что ж тебе делать, ежели ты, семь раз сгоняв вверх-вниз на гору Фельдберг и обратно, так и не обрел ни себя, ни другого, всякий раз читая внизу: «Вязаная шапочка наверху», а вверху перед его усталым взором подрагивало что-нибудь вроде: «Вязаная шапочка внизу, где ей открывается Ничто».
И вот в фешенебельном квартале у калитки небезызвестной виллы устало отдуваются хозяин и пес — измотанные, одураченные, в глазах рябит от елок. Отмщение, гнев и ярость влекут за собой попытку помочиться в почтовый ящик. Через заборы соседних вилл с паузами от понятного напряжения карабкается крик отчаяния:
— Скажи, философская шапочка, ну как, как мне до тебя добраться?! Где, в какой фолиант юркнул закладкой твой помпон? В какую шапку-невидимку ты припрятал пересыпанные хлоркой бытийно-забытые кости? И какой длины был колпак, которым ты придушил малютку Гуссерля? Сколько зубов мне надо у себя выдрать, чтобы брошенность снова стала бытийносущным бытием под колпаком у вселенной?
Впрочем, не надо пугаться стольких вопросов. Матерн на них ответит собственноручно. Ему не привыкать. Кто всегда стоит в центре, — фенотип, самоодержимый, — тот за ответом в карман не лезет. Матерн не формулирует, он действует обеими своими ручищами. Сперва он просто трясет кованую решетку ограды небезызвестной виллы, сопровождая сие действие руганью. Но уже не на мудреном философско-алеманском диалекте — Матерн изъявляет себя на кровном просторечии родимого захолустья:
— Слышь ты, нетопырь, а ну выходи! Это я к тебе пришел, вурдалак ты этакий! Хмырь болотный! Гнида когтистая! Кащей ненасытный! Выходи, говорю! Я те щас фитиля-то вставлю! Ты у меня щас покувыркаешься! Я те голову снесу и мозги вправлю! В клочья разорву и в кровянке размешаю! В порошок сотру! Искромсаю и этой вот зверюге по кускам скормлю! Довольно с меня брошенности и вечного твоего неналичия! Все, Матерн на тебя зол. Матерн на тебя обижен. Выходи, философ несчастный! Матерн тоже философ — я те щас покажу философию!
Эти слова, подкрепленные энергичными движениями, делают свое дело — но не в том смысле, что философ, последовав дружескому призыву, появляется на пороге виллы в алеманском вязаном колпаке и крестьянских башмаках с пряжками, а в том, что Матерн, войдя в раж, снимает с петель кованую садовую калитку. В ярости он поднимает ее над головой, отчего пес Плутон просто теряет голос, и изо всех сил трясет, норовя, похоже, закинуть прямо на небо. Но поскольку ночное, пахнущее снегом небо явно не хочет принимать на себя сей тяжкий груз, Матерн забрасывает калитку в сад, причем на удивление далеко.
Произведя столь успешную разрушительную работу, Матерн отряхивает руки:
— Ну вот, дело сделано. — И оглядывается в поисках свидетелей. — Видали? Вот так и только так работает Матерн. Феноменально работает! — Мститель все еще смакует послевкусие свершенной мести. — Получай по заслугам! Теперь мы квиты.
Но кроме пса никто не сможет клятвенно подтвердить, что все случилось именно так, а не иначе — разве что Господь Бог, при всей его страсти к снегопадам, успел одним глазком подглядеть со своей верхотуры: бытийносущий или отсутствующий, но простуженный и в насморке наверняка.
Поэтому и полиции совершенно не было дела до Матерна и его пса, когда те надумали покинуть Фрайбург в Брайсгау. На сей раз приходится ехать третьим классом, ибо походы вверх-вниз изрядно истощили его дорожные финансы: один раз пришлось ночевать в Тодтнау, дважды в Зорге-Заботе и еще по разу в Нихтунге-Нетии и Юберштиге-Перевале; вот какое это, оказывается, дорогостоящее удовольствие — общение с современными философами, так что если бы не женское милосердие и не девичья отзывчивость, терпеть бы хозяину и псу голод, жажду и всяческие иные бедствия.
Ибо все они упорно странствуют по его следам, мечтая охладить его разгоряченное философскими диспутами чело, надеясь вернуть земной юдоли и ее сладким двуспальным ложам славного молодца, одной ногой уже, можно считать, состоящего на службе у трансценденции: музицирующая на виолончели барышня Оллинг, пригожая дочурка капитана Хуфнагеля, каштановокудрая секретарша из Ольденбурга и чернокудрая уборщица Варнке, Герда, наградившая его зудешником где-то между Фельклингеном и Саарбрюккеном, а также все, кого он успел осчастливить — с дрынным золотом или без оного — все жаждут его и только его: сноха Эбелинга из Целле и Грета Диринг из Бюкебурга; сестра Будзинского, покинувшая ради него свой Богом забытый Хунсрюк; Ирма Егер, краса и гордость Горной дороги от Вислоха до Дармштадта, и верхнефранкские дочери Клингенберга — Криста и Гизела; трогается в путь из советской оккупационной зоны Хильда Волльшлегер без своего Франца Волльшлегера; Йоханна Тиц не желает больше жить со своим Тицем в Баварском лесу; его разыскивают также: принцесса цу Липпе вкупе с подружкой, дочка трактирщика из Восточной Фрисландии, девушки из Берлина и девы с Рейна. Немецкие женщины ищут его с помощью объявлений и по справочным бюро. Запрашивают о нем службы Красного Креста. Сулят вознаграждение. Стиснув зубы, упорно преследуют желанную цель. Они его гонят, травят, хватают с поличным, норовят удушить пышными волосами Веры Гепферт. Пытаются залучить всеми правдами и неправдами, уловить всеми дырками и норками, щелями и провалами, безднами и тоннелями, прихлопнуть крышками от кастрюль и мусорных бочек, засунуть в карманы передников, под мышку и за пазуху, соблазнить саксонскими булочками и берлинским печеньем, приморскими рыбными биточками и силезским муссом. Ради этой цели они тащат с собой: табак, носки, серебряные ложки, обручальные кольца, карманные часы Волльшлегера, золотые запонки Будзинского, бритвенное мыло Отто Варнке, микроскоп деверя и мужнины сбережения, скрипку бывшего чрезвычайного судьи, канадские доллары капитана, а также всю любовь души и сердца.
От всех этих несметных богатств Матерну не всегда удается увернуться. Ибо они, являя картину трогательной преданности, ждут своего ненаглядного между кельнским главным вокзалом и несдвигаемым кельнским собором. Сокровища жаждут обозрения в подвальных гостиницах и дешевых меблирашках, на прирейнских лугах и дремучей лесной хвое. Они и для пса припасли колбасных шкурок, дабы вожделенные ответные услуги не прервала вдруг требовательным лаем собачья морда. Не повторяйся в делах, чтобы не повторяться в переживаниях!
Но когда бы он, один, лишь в сопровождении пса, ни направлялся сквозь вокзальную толчею в благодатную тишину мужского туалета, желая посвятить себя размышлению и уединиться от этого мира, в него требовательно утыкаются женские пальчики, пальчики матрон и дев, принцесс и домохозяек: «Пойдем со мной. Я знаю куда. У меня есть знакомый домоправитель, он сдает на сутки. Мой приятель уехал на пару дней. Я знаю один карьер, совсем заброшенный. Я сняла для нас в Дойце… Хотя бы на часик. Только поговорить. Волльшлегер меня выгнал. У меня просто нет выбора. А после я уйду, честное слово. Ну пойдем же!»
От такой неотступной заботы Матерн хиреет, а Плутон жиреет. О, неумолимая обратимость возмездия! Ярость впивается в вату. Ненависть испражняет любовь. Его, мнящего, что это он восемьдесят пять раз сразил противника, настигает брошенный им же бумеранг. НЕ ПОВТОРЯЙСЯ В ДЕЛАХ — ПОВТОРЕНИЕ ВСЕ РАВНО НЕВОЗМОЖНО. Несмотря на превосходную кормежку, он тощает на глазах: ему уже впору сорочки Гепферта; и сколь ни холодит ему чело изъятый супругой у Отто Варнке целительный березовый лосьон, волосы у Матерна выпадают все сильнее. Ибо на сцену выходит судебный исполнитель — старый знакомый, возвращенец триппер; ведь то, от чего Матерн, как он полагал, окончательно избавился в Баварском лесу либо в правительственном квартале Аурих, настигает его снова и снова в верхнефранкском, советском оккупационном и еще Бог весть в каких диковинных захолустных вариантах. Побудительные мотивы — они же и убийственные: шесть раз по одной и той же причине приходится Матерну мочиться в розетку. Это любого доконает. Лечение такими лошадиными дозами кого хочешь с ног свалит. Гонококки его донимают. Электричество всякий раз нокаутирует. А широченные двуспальные ложа постепенно превращают странствующего мстителя в увядающего дон-жуана. У него уже пресыщенный взгляд. Он уже упоенно, наизусть и без умолку разглагольствует о любви и смерти. Он нежен заранее, даже не взглянув, с кем. Он холит и лелеет корень своих недугов, словно любимое дитя гения. Мелкий бесенок безумия уже дает о себе знать. Скоро Матерну после бритья захочется оскопить себя и бросить псу, своему верному Лепорелло[366], свой поверженный фенотип.
Кто спасет Матерна? Ибо что могут все самые мудреные философы супротив одного необузданного ваньки-встаньки? И может ли пусть даже семикратное восхождение на гору Фельдберг в поисках колпака премудрости перевесить шестикратный, и к тому же столь интенсивный, контакт с электрической розеткой? А вдобавок ко всему эти беспрестанные мольбы: «Сделай мне ребенка! Помоги мне от ребенка избавиться! Обрюхать меня! Смотри только, чтобы не было последствий! Заполни меня всю! Сделай мне чистку! Не уходи! Выскакивай! Мои яичники!» Кто спасет Матерна, кто вычешет ему выпадающие волосы и до поры до времени застегнет ему брюки? Найдется ли такая добрая, самоотверженная душа? Кто отважится встать между ним и подогретыми волосатыми булочками?
Но, по счастью, есть еще пес. Худшие из бед Плутону удается предотвратить: уборщицу Отто Варнке и дочку Гепферта Веру он гонит по прирейнским лугам, из заброшенной каменоломни, где они вытягивали из Матерна последние соки. К тому же Плутон уже научился издалека чуять приближение особ, несущих в своем ридикюле жемчуга любовного недуга, и оповещать об этом хозяина. Он лает, рычит, встает между Матерном и гостьей и тыкается мордой прямо туда, где тлеет очаг коварной заразы. Разоблачив таким манером Хильдочку Волльшлегер и подружку принцессы, верный слуга уберегает своего господина еще от двух электрошоков; но спасти Матерна не в силах даже он.
Таким его и видит кельнский двузубец: немощный, с запавшими глазницами и залысинами на висках, почти старик, вокруг которого, верный, как пес, носится вприпрыжку Плутон. Почти карикатурным воплощением убожества он собирает последние силы, снова намереваясь устремиться сквозь вокзальную толкучку, дабы обрести желанный покой в укромном нашептывании кафельных католических сводов; ибо Матерн все еще чувствует в себе имена, кровавыми буквами врезанные в его внутренние органы и требующие списания, пусть даже дрожащей от слабости рукой.
Вот так, опираясь на суковатую палку, он шаг за шагом медленно приближается к цели. Таким она его и лицезреет: ходячий призрак с палкой и псом. Зрелище столь очевидной немощи трогает ее до слез: неотвратимая в своем милосердии, сострадании и материнской ласке, она устремляется к нему, сахарносвекольная мадонна, та, с которой берет начало история его мести. Инга Завацкая толкает перед собой детскую коляску, где мирно возлежит спелый ноябрьский бурачок, который во всей своей сиропной сладости появился на свет еще в позапрошлом июле и с тех пор зовется Валли, уменьшительно-ласкательным от имени Вальбурга — вот до какой степени уверена Инга, что имя отца малютки Валли начинается на букву «В» и звучит как Вальтер, хотя Виллибальд и Вунибальд, святые братья великой святой аббатиссы, охранительницы от ведьм, с католической точки зрения к имени Вальбурга гораздо ближе.
Матерн мрачно смотрит в отнюдь не порожнюю детскую коляску. Впрочем, Инга Завацкая не оставляет ему много времени на вдумчивое созерцание:
— Прелестная малютка, правда? А вот у тебя вид неважный. Скоро ходить начнет. Да не бойся ты. Ничего мне от тебя не надо. Но Йохен был бы очень рад. Да, ты сильно сдал. Нет, правда, мы же оба тебя любим. К тому же он так трогательно заботится о малышке. Роды были легкие. Нам вообще повезло. Должна была родиться Раком, а родилась Львом, причем под покровительством Весов. Для девочки это сулит хорошее будущее: как правило, привлекательная внешность, отличная хозяйка, уживчива, разносторонняя натура, привязана к спутнику жизни, но самостоятельна и с характером. Мы теперь на том берегу живем, в Мюльхайме. Если хочешь, поехали вместе на катере: «И в воду концы, господин капитан!»[367] А тебе и вправду нужен покой и уход. Йохен в Леверкузене работает. Я-то ему не советовала, но он опять связался с политикой и молится теперь на своего Реймана[368]. Господи, какой же ты измученный! Можем и на поезде, если хочешь, но я больше на катере люблю. А Йохен наверно знает, что делает. Говорит, пора встать под знамя борьбы. Ты ведь тоже вроде с ними начинал. Это тогда вы познакомились или уже в штурмовом отряде? Что ты все время молчишь? Мне правда ничего от тебя не нужно. Если хочешь, отлежись у нас недельку-другую. Тебе правда нужен покой. Что-то вроде дома. У нас две комнаты и кухня-столовая. Отдадим тебе каморку под крышей. Я тебя точно беспокоить не буду. Я тебя, конечно, люблю. Но уже иначе, спокойней, чем раньше. Смотри-ка, Валли только что тебе улыбнулась! Видал? А теперь снова! Твой пес любит детей? Говорят, овчарки детей обожают. Я и тебя люблю, и пса твоего. А раньше ведь продать хотела, представляешь, дура какая была? Тебе срочно надо что-то с волосами делать, они у тебя выпадают.
Они ступают на борт — мать и дитя, хозяин и пес. Упитанное солнце варит в одном котле руины Мюльхайма и его же тощие продовольственные распределители. Никогда еще Германия не была столь прекрасна! Никогда еще Германия не была столь крепка здоровьем! Никогда еще не было в Германии стольких вдохновенных, четко очерченных лиц, как во времена одной тысячи двухсот тридцати калорий[369]! Но Инга Завацкая продолжает рассуждать, покуда их катерок пристает к берегу:
— Скоро новые деньги введут. Золоторотик даже знает, когда. Как это ты с ним не знаком? Его же здесь всякий знает, кто хоть чуть-чуть обжился. Этот, скажу я тебе, на все наложил лапу. Весь рынок, от Транкгассе до Бремерхавена, ему в рот смотрит. Но Золоторотик говорит, скоро, мол, вся лафа кончится. Он говорит, надо подготовиться заранее. Новые деньги будут уже не просто бумажками, их будет мало и за них здорово вкалывать придется. Был, кстати, у нас на крестинах. Его настоящее имя почти никто не знает. Йохен говорил, правда, что он не совсем нашенских кровей. А по мне так и пусть себе. В церковь он, и точно, не стал заходить, зато два детских комплекта подарил и джина хоть залейся. Сам, правда, спиртного в рот не берет, только курит. Но уж дымит, скажу я тебе, одну за одной без передышки. Сейчас-то он в отъезде. Поговаривают, что у него штаб-квартира где-то около Дюрена. А другие Ганновер называют. Но про Золоторотика ничего наверняка знать нельзя. Вот мы и дома. Страшновато, конечно, среди развалин, но привыкаешь быстро.
У своих добрых старых знакомых Матерн встречает знаменательный «День Икс» — денежную реформу. Наступает время смотреть на вещи трезво. Завацкий незамедлительно выходит из компартии. Ему там и так было тошно. Каждый получает свою денежную норму[370], и уж ее-то Завацкие не пропьют.
— Это теперь наш первичный капитал. Жить будем за счет припасов. Сиропа нам еще на год хватит, не меньше. А покуда все шмотки да подштанники износим, Валли уже в школу пойдет. Мы же не сидели просто так на своих товарах, а сбывали с выгодой, причем все по закону. Золоторотик научил. Хороший совет — он дороже золота. Инге он подсказал, где получать американские благотворительные пакеты, просто так, по доброте душевной, потому что мы ему симпатичны. О тебе, кстати, тоже всякий раз спрашивал, ведь мы ему про тебя рассказывали. Где ты вообще пропадал все это время?
Понемногу восстанавливающий силы Матерн медленно, с тяжелыми, как гири, паузами, перечисляет немецкие города и веси: Восточная Фрисландия, Юра, Верхняя Франкония, милая Горная дорога, Зауэрланд, Хунсрюк, Айфель, Саарская область, Люнебургская пустошь, Тюрингия и Зеленое сердце Германии; описывает и Шварцвальд, немецкий Лесистый хребет, самые его дремучие и суровые вершины. А уж названиями городов сыплет — прямо наглядный урок географии: «По пути из Целле в Бюкебург… В Аахене, древней, еще римлянами основанной резиденции германских королей… Пассау, где Инн и Ильц впадают в Дунай… Разумеется, в Веймаре я осмотрел площадь Фрауэнплан. Мюнхен скорее разочаровывает, зато Штаде и вообще весь Альтеланд с его богатыми фруктовыми садами за дамбами Эльбы…»
Вопрос Завацких, — «НУ А ДАЛЬШЕ ЧТО?» — впору вышить крестом и в рамочке повесить над диваном. Матерн намерен дрыхнуть, есть, читать газету, снова дрыхнуть, глазеть в окно, отдыхать душой и телом и разглядывать физиономию Матерна в бритвенном зеркальце: глазницы уже не такие запавшие. И зияющие провалы щек отменно загладились. А вот волосы уже не уберечь — они продолжают эмигрировать. Поэтому лоб его неудержимо растет, удлиняя и без того выразительную голову, сформированную тридцатью и одним собачьим годом. «Так что же теперь?» Неужто сдаться? В одиночку, без пса и наудачу, кинуться в экономику, раз уж она начинает оживать? Посвятить себя сцене, оставив пса в театральном гардеробе? И уже никогда не скрежетать зубами на вольной воле, а только на подмостках? Играть Франца Мора? Дантона? Фауста в Оберхаузене? Унтер-офицера Бекмана в Трире? Гамлета в самодеятельности? Нет уж! Никогда! Но все равно кое-что еще остается в остатке. Для Матерна «день Икс» еще не наступил. Матерн все еще норовит расплатиться дореформенной монетой, поэтому начинает дебоширить в уютной двухкомнатной (с кухней-столовой) квартире Завацких. Недрогнувшей и тяжелой рукой он давит детскую целлулоидную погремушку, выражая попутно сомнение в том, что Валли действительно веточка от его, Вальтера, ствола. В одно прекрасное утро он одним махом сбрасывает со счетов и со стола все непогрешимые советы, исходящие от Золоторотика, вместе с сахарницей. Он желает прислушиваться только к себе, к своему сердцу, почкам и селезенке. Он и Йохен Завацкий давно уже не обращаются друг к другу по имени, а только переругиваются на разные лады в зависимости от времени суток и настроения: «Троцкист! — Нацист! — У-у, предатель! — Жалкий попутчик!» Но лишь когда Матерн прямо в гостиной влепляет Инге оплеуху, — с какой стати он это сделал, так и останется тайной, — Йохен Завацкий выбрасывает гостя вместе с псом из своей двухкомнатной, но с кухней-столовой, квартиры. Впрочем, раз так, Инга в тот же миг требует, чтобы из дома выбросили и ее, причем вместе с чадом. Но тут уж Завацкий прихлопывает ладонью по клеенке на кухонном столе:
— Ребенок останется со мной! Ребенка я на произвол судьбы не отдам. Сами можете катиться куда угодно, хоть к чертовой бабушке. Но не с моей дочуркой, уж об этом я позабочусь.
Итак, без ребенка, но с псиной и весьма скромной суммой новых денег. Впрочем, у Матерна еще остаются карманные часы Волльшлегера, золотые запонки Будзинского и два канадских доллара. Часы они на радостях тут же пропивают на пятачке между кельнским собором и кельнским главным вокзалом. Остального хватает на неделю гостиницы в Бернате с видом на замок с круглым прудом и квадратным парком.
После чего Инга спрашивает:
— А дальше что?
Он перед зеркалом платяного шкафа массирует лысину.
Инга, ткнув пальцем куда-то в оконные шторы, поясняет:
— Я вот о чем: если ты ищешь работу, так на том берегу заводы Хенкеля, а на этом справа Демаг производство восстанавливает. Могли бы и квартиру подыскать — в Верстене или в самом Дюссельдорфе.
Но ни сейчас, перед зеркалом, ни позже, на лоне промозглой и безрадостной осенней природы, Матерн работать не хочет — он желает странствовать. Такой уж он в семье мельника уродился. К тому же и псу нужно что? — Выгул! Так что прежде чем он ради этих свиней-капиталистов хоть мизинцем шевельнет, он лучше…
— «Хенкель», «Демаг», «Маннесманн»! Вот умора-то!
Вдвоем, но в сопровождении пса вдоль подножья горы Триппельберг, потом прирейнскими лугами до Химмельгайста. Там имеется деревенская гостиница, по сути постоялый двор, где есть свободная комната и не слишком интересуются штампами в паспорте и брачными узами. Беспокойная ночь, поскольку Инга Завацкая, хоть и не прихватила с собой походных ботинок, зато не забыла вышитую салфеточку с извечным вопросом «А дальше что?». Спать не дает. Заладила одно и то же. Шипит сквозь пуховые подушки:
— Займись чем-нибудь. Хоть чем-то. Золоторотик сказал: «Инвестировать, инвестировать и еще раз инвестировать, самое позднее через три года все окупится». Взять хоть Завацкого: он уже решил в Леверкузене завязать, перебраться в какой-нибудь маленький городишко и открыть там свое дело. Может, и тебе что-нибудь свое затеять, хоть что-то. Зря, что ли, ты в университетах учился, сам всегда говоришь. Консультацию какую-нибудь или астрологическую газету, чтобы с гороскопами, но солидную. Золоторотик говорит, это очень перспективное дело. Люди просто перестали верить во всю эту прежнюю дребедень. Они хотят все знать по-другому, по-новому — как это написано в звездном небе… Ты вот, к примеру, Овен, а я Рак. Поэтому ты и делаешь со мной, что хочешь.
В полном соответствии с этим наблюдением Матерн на следующий же день именно так с ней и поступает. Денег им хватает аккурат на паром от Химмельгайста до Удесхайма. Дождь они получают в придачу бесплатно. О, промозглая кабала! В хлюпающих ботинках они понуро плетутся следом за псом до Гримлингсхаузена. Там их поджидает отнюдь не обед, но голод. И даже на другую сторону, в Фольмерсверт, им не на что перебраться. Так что голод донимает их на рейнском левобережье, прямо под взорами святого Квиринуса, сожженного под именем Кульман на костре в Москве, что отнюдь не уберегло город Нойс от ковровых бомбардировок.
Так где же спать человеку без гроша за душой, если душа эта, несмотря на все грехи, благочестива? В церкви, конечно, а точнее — в нетопленной, зато единственно дарующей утешение, то бишь в католической церкви, вот где они дают запереть себя на ночь. До боли знакомая обстановка. Беспокойная ночь. Они лежат на скамьях, каждый на своей, но вскоре остается лежать одна Инга, тогда как он, волоча за собой ногу и сонного пса, бродит по церковному нефу. Повсюду строительные леса, ведра с побелкой. И все не так! Прежде всего сама церковь. Типичный переходный продукт. Начали в романском стиле, когда тот уже устарел, потом кое-что наспех отделали на барочный манер, к примеру, купол. Кислый запах сырой штукатурки. В клубах гипсовой пыли — растревоженное эхо пространных епископских обеден собачьих тридцатых годов. Он все еще переминается с ноги на ногу, ложиться неохота. Похоже, Матерн уже бывал здесь однажды, в ту пору, когда ему случалось вести беседы с Пресвятой Девой. Сегодня его донимает разговорами Инга.
— Ну, а дальше что? — гласит ее неизменный, упрямо обращенный к нему вопрос. — Холодно! — жалуется она. — Да сядь же ты! — И еще: — Может, нам ковер откуда-нибудь притащить? — И еще: — Если бы не в церкви, я бы совсем не прочь, а ты?
На это из пыльной и кромешной тьмы она слышит:
— Гляди-ка, тут исповедальня. Интересно, заперта или нет?
Исповедальная кабинка не заперта, а напротив, всегда готова к услугам. Именно там, в исповедальне, он Ингу и ублаготворит. Это что-то новенькое. В таком месте наверняка еще никто не додумывался. Тогда уж и пса надо пристроить к окошечку, куда священник ухо подставляет. Потому как Плутон — он во всем участвовать должен. Так что Матерн, определив Ингу на колени, в весьма неудобной позе обрабатывает ее сзади, прижимая лицом к резной деревянной решетке, за которой пес Плутон, изображая священника, слушает все Ингины охи, вздохи и причитания. Распаленная блудом кукольная женская мордашка вдавливается в отполированные несметным множеством грехов деревянные узоры резной решетки — добротная работа эпохи барокко, испытанное веками изделие рейнских мастеров не ломается, только расплющивает нос на Ингином личике. Самый малый грех — тоже грех. Всякое прегрешение требует покаяния. Всякий грех надобно замаливать. А в данном случае — не простой молитвой вроде «Святой Квиринус, помоги!», а уж скорее «Завацкий, где ты? На помощь! О, Господи, о, Бог ты мой!»
С грехом пополам исповедальня уцелела — и то хорошо. Зато Инга без сил валяется в темноте на холодных каменных плитах с расквашенным носом. Что до Матерна, то он уже снова колобродит под сводами храма в сопровождении пса. И когда он, свершив два одиноких, гулким эхом отзывающихся оборота, снова останавливается перед нерушимой исповедальней, щелкает своей доброй старой зажигалкой, намереваясь выкурить для разрядки трубочку, зажигалка делает больше, чем от нее требуется: во-первых, она, конечно, споспешествует раскуриванию трубки; во-вторых, ясно доказывает, что у Инги из носа идет кровь и кровь эта алая; а в-третьих, выхватывает из кромешной тьмы табличку на исповедальне, на которой черным по белому кое-что написано: имя и фамилия, Иосиф Кнопф, без какого-либо более точного адреса, поскольку их обладатель временами обитает здесь и, следовательно, ему не нужно, как всяким прочим, сообщать в достославный мужской туалет католического города Кельна свой домашний адрес; ибо этот самый Кнопф изо дня в день от без четверти десять до четверти одиннадцатого утра квартирует в вышеозначенной исповедальне, предоставляя всем и каждому в полное его распоряжение свое задубелое ухо. О, побудительные мотивы, они же и убийственные! О, сладостно-упоительный сироп отмщения! О, справедливость, неотвратимая и разворотливая, что дышло! О, имена и фамилии, уже списанные и еще подлежащие списанию — Иосиф Кнопф, или Восемьдесят шестая матерниада!
Его Матерн приходит списывать лично и персонально ровно в десять утра. Пса Плутона — расставание далось нелегко — он привязал где-то в развалинах города Нойса на чудом уцелевшей велосипедной стоянке. Беспрерывно плачущая Инга тем не менее незадолго до утренней мессы безропотно покидает церковь и на цокающих каблучках направляется восвояси, по направлению к Кельну. Ничего, какой-нибудь грузовик подхватит — сам же Матерн остается, не ищет, а сразу находит на Батарейной улице, где-то посередке между Мюнстерской площадью и Промышленным портом десять пфеннигов одной монеткой. Целое состояние! Это святой Квиринус специально для него приберег денежку! На эту монетку можно приобрести целую сигару, свежую, еще пахнущую типографской краской газету «Райнише Пост», во столько же обойдется коробок спичек и жевательная резинка; ту же монетку можно сунуть в шлиц, и стоит тебе встать на весы, как из них выползет записочка: твой точный вес! Но Матерн курит не сигары, а трубку, и разжигает ее зажигалкой. Газеты он читает в витринах. Жевать можно и без резинки. А истинный вес Матерна все равно не измерить. Так что на десять найденных пфеннигов Матерн покупает себе красивую, тонкую, длинную, сверкающую девственным блеском вязальную спицу. К чему бы это?
Не оборачивайся — там сверкает спица по пятам.
Ибо спица предназначена для священнического уха, ей надлежит вонзиться в ухо Иосифа Кнопфа. Так что Матерн с твердым умыслом вступает без четверти десять под своды асимметричной церкви Святого Квиринуса, дабы судить посредством длинной и отчужденной от своего исконного предназначения вязальной спицы.
Перед ним деловито и скупо исповедуются две старухи. Наконец и он преклоняет колена там, где еще сегодня в непроглядном церковном мраке нанизанная отнюдь не на спицу Инга норовила исповедаться псине. И кровь из ее носа, ежели кто ищет улик, запеклась на деревянной решетке, свидетельствуя об ее мученических страстях. Он шепчет целенаправленно. Большое, мясистое ухо Иосифа Кнопфа несодрогаемо и незыблемо. В нем без труда умещаются все, перечисленные с загибанием пальцев, грехи за много лет, включая давнишнюю историю, разыгравшуюся в конце собачьих тридцатых между бывшим штурмовиком, а потом новокатоликом, и профессиональным католиком старой школы, который, опираясь на так называемые мария-лаахские вердикты, посоветовал новокатолику вернуться в какой-нибудь приличный штурмовой отряд, дабы с помощью Пресвятой Девы укреплять католическое крыло этой, в целом, конечно, безбожной организации. Необычайно хитроумная, старая, как мир, и шитая белыми нитками рекомендация. Но ухо священника неколебимо и несодрогаемо. Матерн шепчет фамилии, даты, цитаты. Он с придыханием сообщает: вот этого звали так-то и так-то, а того так и так. Никакая самая назойливая муха не способна потревожить ухо священника. Матерн не успокаивается: а такой-то, которого звали так-то, сказал такому-то после майской мессы года такого-то от Рождества Христова… Ухо священника словно высечено из камня. И лишь время от времени из-за стенки доносятся его солидные, басовитые слова:
— Сын мой, чистосердечно ли ты раскаиваешься? Помни, Иисус Христос, принявший на кресте за всех нас смертную муку, знает о всяком, даже самом малом прегрешении нашем и зрит дела наши в любой час и в любую минуту. Обрати в себя взоры свои, сын мой, и ничего не утаивай.
Как раз этого-то Матерн и добивается. Он сызнова от начала и до конца прокручивает всю историю. Словно под бой старинных курантов выступают из мрака резные фигурки — прелат Каас[371], нунций Пачелли, бывший штурмовик и раскаявшийся новокатолик, равно как и лукавый католик старой школы, доблестный представитель католического крыла в среде штурмовиков. Все они, под конец даже вместе с вспоможительницей Девой Марией, вершат свой танец по кругу и снова удаляются; и только Матерн все никак не угомонится, все крутит и крутит свою шарманку жарким шепотом:
— И это были вы, именно вы, вы мне сказали: «Обратно в штурмовики». И эта вечная болтовня о конкордате, эти россказни об аббатстве Мария Лаах. Даже тайком благословили штандарт, и молитвы за Вождя отшамкали. Доминиканец! Черный поп! Мешок с дерьмом! Кто мне, Матерну, говорил: «Сын мой, облачись снова в доблестное коричневое одеяние. Сам Иисус Христос, что принял за всех нас смертную муку на кресте и зрит все дела наши, ниспослал нам Вождя, дабы тот с твоей и моей помощью раздавил бесовское отродье!» Вы так и сказали: раздавить! Понятно вам?
Но ухо священника, уже неоднократно и нелицеприятно поименованного, по-прежнему остается мастерским изделием каменотеса готической поры. И даже когда вязальная спица, добротный товар по цене десять пфеннигов за штуку, уже занесена для удара, когда сей предмет неотвратимого отмщения уже покоится на обшарпанной решетке исповедального окошечка и нацелен сверкающим острием прямо священнику в ухо, ухо это не отпрядывает в инстинктивном страхе за свою барабанную перепонку; только старческий голос, почувствовав, видно, что исповедующийся малость притомился, привычно и устало бормочет:
— Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Amen[372].
Наложенная епитимья гласит: девять раз «Отче наш» и тридцать два раза «Дева Мария, радуйся».
И тут Матерн, пришедший судить с десятипфеннинговым орудием возмездия, прячет свою спицу обратно: ибо сей служитель Божий подставляет страждущим свое ухо лишь для виду. Его уже ничем не проймешь. Этому хоть каждый Божий день говори что угодно — он будет слышать только шум лесной, да и то не наверняка. Иосиф Кнопф. Что ни день — глух как пень. Куда ни кинь — всюду клин. Глухой священник отпускает мне грехи мои во имя такого-то и такого-то и во имя всех глухих голубчиков. Преглухой Иосиф делает мне из-за решетки ручкой, мол, можешь идти. Катись, Матерн! Другим ведь тоже не терпится дорваться до глухого уха. Испарись и проваливай, на тебе больше нет греха. Давай, поторапливайся, чище все равно не бывает. Слейся с толпой других кающихся, в конце концов Мария Лаах недалеко от Невигеса[373]. Выбери себе маршрут посимпатичней и иди каяться. Отнеси свою спицу обратно в магазин. Может, у тебя еще примут ее обратно и вернут тебе твои кругленькие десять пфеннигов. Ты за них сможешь выручить коробок спичек или жевательную резинку. За эти деньги газету можно купить. За десять пфеннигов ты можешь точно измерить свой вес после душеоблегчающей исповеди. А еще лучше — купи своему псу хоть на грош колбасных обрезков. Плутону нельзя терять силы.
ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ ЧЕРВОТОЧНАЯ МАТЕРНИАДА
У каждого человека по меньшей мере два отца. И им не обязательно знать друг друга. Некоторые отцы вообще не знают. Другие частенько бывают и сплывают. А вот у Матерна, который сам являет пример такого неизвестного и сплывающего родителя, отец замечательный и достоин особого увековечения в виде памятника, только Матерн не знает, где он сейчас; и понятия не имеет, что он сейчас поделывает; только надеется, что отец его… Но отца не ищет.
Зато с тем большим упорством и даже в снах, где он, как каторжный, валит ствол за стволом нескончаемую буковую рощу, свой бухенвальд, он разыскивает Золоторотика, о котором все вокруг только и говорят, но как-то невнятно; но сколь основательно ни обрыскивает он все стояки мужского туалета на главном вокзале города Кельна, ни одна надпись, ни одна указующая стрелка не направляют его торопливой рысью по желанному следу; зато ему случается прочесть — и в этой скрижали распознать почерк и мысль своего родителя — некую житейскую мудрость, свежевыгравированную на щербатой эмали:
«Не слушайте червя, червь сам с червоточинкой!»
Не вычеркивая из своих планов розысков Золоторотика и еженощного лесоповала во сне, Матерн пускается в путь — по направлению к отцу, в сторону папы…[374]
Мельник с плоским придавленным ухом. Он стоял подле своей исторической мельницы на козлах, что красовалась в Никельсвальде, к востоку от устья Вислы, посреди поля зимнестойкой сибирской пшеницы «уртоба», держал на плече шестипудовый мешок и не опускал его до тех пор, пока мельница, не переставая вращать плетеными крыльями, не сгорела вся, от козел до закромов и чулана. Только после этого мельник соглашается уклониться от объятий подступающей со стороны Тигенхофа и Шарпау линии фронта. Взвалив на плечо десятикилограммовый мешочек пшеничной муки, смолотой из эппской пшеницы, он вместе с женой и сестрой успевает погрузиться на борт парома, который десятилетиями связывал переправой две деревушки по берегам Вислы — Никельсвальде и Шивенхорст. В одном караване с этим паромом шли также паром «Ротебуде», железнодорожный паром «Айнлаге», буксир «Будущность» и целая армада рыбацких ботов. Северо-восточнее острова Рюген паром «Шивенхорст» ввиду технических неисправностей был разгружен и взят на буксир паромом «Ротебуде». Мельнику вместе с десятикилограммовым мешочком пшеничной муки и родственницами удалось пересесть на борт торпедного катера. Катер, перегруженный детским ором и морской болезнью, западнее Борнхольма напоролся на мину и очень быстро пошел ко дну, прихватив с собой детский ор, рвотные спазмы, а также жену и сестру мельника; самому же мельнику посчастливилось вместе с неразлучным своим мешочком взойти на борт и получить стоячее место на палубе курортого пароходика «Лебедь», шедшего из данцигской Новой Гавани курсом на Любек. Больше уже корабли не меняя, мельник Антон Матерн, обладатель плоского уха и сбереженного в сухости мешочка, благополучно достиг порта Травемюнда, желанной суши, материка.
В течение следующих месяцев — история тем временем идет своим ходом, уже заключен мир! — мельнику приходится не однажды то силой, то хитростью отбивать свое наплечное беженское добро от посягательств, потому как вокруг полно желающих полакомиться пирожными не имея муки. Да и сам он не раз и не два испытывает искушение облегчить свои десять килограммов муки хотя бы на пригоршню и сварить себе липкую, как клейстер, но такую сытную затирушку; но сколько раз ни подбивает его на это вопиющий его желудок, столько же раз левая его рука лупит по развязывающим мешочек пальцам правой. Таким и видит его ползучая, сама с изумлением себя разглядывающая послевоенная немецкая нищета: кривой, тихий, сдержанный человек на полу в залах ожидания, в беженских бараках, в толкучке казенных очередей. Одно ухо оттопырено, тогда как другое, совсем плоское, приплюснуто к голове заветным мешочком с мукой. Там, под мешочком, оно покоится надежно и, на непосвященный взгляд, тихо, как мышка.
Когда мельник Антон Матерн где-то между главным вокзалом города Ганновера и, хотя и продырявленным, но все еще длиннохвостым конным памятником попадает в полицейскую облаву, затем в участок и — все из-за злополучного мешочка — чуть ли не под арест по подозрению в спекуляции, спасает мельника отнюдь не спешившийся по такому случаю со своего чугунного коня король Эрнст Август, — за него неожиданно вступается некий чиновник оккупационной администрации, бойкими доводами мало-помалу оспаривает его и его десятикилограммовый мешочек у полиции, в ходе этой защитительной речи все ярче обнажая в ослепительной улыбке все свои тридцать два золотых зуба. Мало того, что Золоторотик вызволяет Антона Матерна под свое ручательство и берет кривого мельника вкупе с его мешочком под свою защиту, — распознав удивительные профессиональные способности этого человека, Золоторотик приобретает для него где-то между Дюреном и Крефельдом, то бишь на плоской равнинной местности, слегка поврежденную мельницу на козлах, крышу которой он распоряжается подлатать, а вот дырявую обшивку крыльев ремонтировать не велит, дабы мельница на ветру зря не крутилась.
Ибо мельнику по прихоти Золоторотика надлежит вести на двух этажах мельницы жизнь покойную и созерцательную. Наверху, под сенью мельничных крыльев и заросшими пылью шестеренками мельничной машины, на так называемом мешочном чулане, он спит. Хотя большой лежняк, насыпной ковш с корытцем и выламывающееся из-под крыши зубчатое колесо изрядно загромождают помещение, тем не менее там, где в прежние времена стоял короб загрузки, выкроилось отнюдь не тесное пространство для кровати почти голландских размеров, благо что и до голландской границы тут рукой подать. Жернов-бегун служит столом. В корытце насыпного ковша хранятся пожитки и белье. Летучим мышам приходится покинуть обжитые закуты и проемы, хитроумное сплетение стропил, несущих балок и подкосов под мельничной крышей, освобождая место для скромных подарков Золоторотика — радио, лампы (электричество он, конечно, тоже провел), газет и журналов, а также нехитрой посуды и утвари для старика, который даже на спиртовке исхитряется замечательно жарить картошку. У лестницы, что ведет вниз, обновлены перила. Ибо в просторном закроме, в середине которого красуется мощный несущий ствол мельницы, старик обустроил себе горницу, которая вскоре станет его приемной. Под мельничным веретеном и брусом тормозного рычага, среди хитроумной механики подвесных грузов, клинышков и хомутиков, которая служила когда-то для регулирования жерновов, Золоторотик, умело вплетающий пожелания мельника в ткань своего общего замысла, ставит роскошное, наново обитое кресло с подголовником, которое, поскольку подголовник, как выясняется, мешает размещению на плече мешочка с мукой, в конечном итоге вынуждено уступить свое место обычному креслу без подголовника. Даже в безветренную погоду мельница тихо потрескивает. Если же с улицы потянет сквознячком, пыль, как и в былые годы, клубами ползет от мельничного глаза через весь мельничный постав к дырявому, понуро обвисшему на своих пяльцах мешку. Когда ветер с востока, чугунная печурка малость коптит. Но по большей части низкие облака тянутся над нижнерейнской долиной с запада, от канала. Лишь однажды, едва въехав, мельник смазал главную зубчатую передачу и кружловину, а также подбил все запорные клинья, чтобы сразу видно было: на мельнице настоящий мельник поселился. Но с тех пор он расхаживает по своему жилищу в домашних шлепанцах и темной, не обсыпанной мукой одежке, спит до девяти, завтракает в одиночестве или с Золоторотиком, когда тот у него гостит, и листает военные и послевоенные подшивки американского иллюстрированного журнала «Лайф». Трудовое соглашение он подписал сразу после символической подбивки запорных клиньев. Впрочем, требует от него Золоторотик не слишком много. Во все дни, кроме четверга, по утрам от десяти до полудня мельнику с плоским ухом надлежит принимать посетителей. Во второй же половине дня, за исключением четверга, когда у него прием от трех до пяти, он свободен. В это время он может слушать — не плоским, а другим, оттопыренным своим ухом — радио, ходить в Фирзен в кино или резаться в скат с двумя активными функционерами партии беженцев, которой и он отдает свой голос, поскольку, как он считает, родные кладбища по обоим берегам в устье Вислы, особливо в Штегене, заросли плющом гораздо живописнее, нежели унылые погосты между Крефельдом и Эркеленцем.
Но кто же навещает кривого мельника с плоским ухом в его приемные часы по утрам во все дни, кроме четверга, а в четверг пополудни? Сначала это были окрестные крестьяне, платившие натурой: маслом, отборной спаржей и иными дарами своих полей и огородов; затем пошли мелкие промышленники из Дюрена и Гладбаха с годными к натуральному обмену изделиями своих заводиков и мастерских; а в начале сорок шестого о нем проведала пресса.
Так что же приманивает сюда поначалу отдельных посетителей, а затем их мощный, с трудом регулируемый поток? Кто еще не знает: мельник Антон Матерн способен своим плоским ухом слышать будущее. Кривой мельник все важные события и даты знает наперед. Его приплюснутое ухо, судя по всему, глухое к будничным шумам, слышит некие директивы, которые позволяют совладать с грядущим. И все это без всякого столоверчения, раскладывания карт и взбалтывания кофейной гущи. И без разглядывания звезд в подзорную трубу из мешочного чулана. Без пристального изучения хитросплетенных линий руки. Без жреческого копания в сердцах ежей, лисьих селезенках и в почках рыжего теленка с белой отметиной на лбу. Кто еще не знает: это десятикилограммовый мешочек муки обладает столь редким даром всеведения. А точнее, это мучные черви, в муке из пшеницы эппских сортов пережившие с Божьей помощью, а напоследок и с помощью Золоторотика, тяготы морского путешествия на пароме, стремительное потопление торпедного катера, короче, все превратности военной и послевоенной разрухи, нашептывают все наперед, а плоское ухо мельника — десять тысяч мешков, если не больше, пшеницы, «уртобы» и «эппской», а также муки из шлипхакенского зерна, сорт номер пять, сплюснули это ухо, сделав его одновременно глухим и яснослышащим, — внимает тому, что сулит грядущее, передавая наущения мучных червей, — мельник только их и воспроизводит, — всем, кто пришел искать совета. За умеренную плату с помощью восточногерманских мучных червей мельник Антон Матерн немало споспешествует становлению западногерманских судеб; ибо с той поры, когда вслед за крестьянами и мелкими промышленниками к нему из Гамбурга начинают приезжать будущие короли и лорды прессы и, скромно усаживаясь напротив его кресла, пишут на аспидных дощечках самые заветные свои вопросы и пожелания, он становится все более влиятельной — поистине судьбоносной, всемирно значимой, исторически определяющей, эпохальной, образующей зеркало общественного мнения, формирующей образы нашей современности — фигурой.
Таким образом мельнику, после того, как он десятилетиями давал советы в родном Никельсвальде, по подсказкам мучных червей преобразив и сделав рентабельным все окрестное зерновое хозяйство от Нойтайха до Бонзака, после того, как он, припадая чутким, хотя и плоским ухом к мешковинному обиталищу мучных червей, предсказывал мышиную потраву и градобитие, девальвацию гульдена в вольном городе Данциге и обвалы курсов на зерновой бирже, смертный час Президента Державы и разрушительный дружественный визит германского военного флота в данцигский порт, — после всего этого ему, не без поддержки Золоторотика, удается теперь совершить головокружительный взлет из тесноты и узости былого провинциализма на открытые просторы западногерманской современности: ибо однажды к нему на оккупационном джипе привозят трех важных господ. Они, еще такие молодые и непорочные, в два с половиной прыжка одолев лестницу, принеся с собой много шума, одаренности и неведения, ощупывают и охлопывают мощный ствол мельницы, пытаются крутить канатный подъемный барабан, хотят, конечно же, первым делом забраться на мешочный чулан и перемазать все пальцы о шестеренки привода; однако строгая табличка «Частное владение, посторонним вход воспрещен» дает им возможность выказать хорошее воспитание, так что вскорости они, как образцовые ученики, затихают перед мельником Матерном, который указывает им на аспидные таблички, дабы они написали свои пожелания, а уж как оные исполнить — это его забота.
То, что мучные черви имеют сообщить каждому из трех господ, звучит, быть может, несколько прозаично. Самому миловидному рекомендовано во что бы то ни стало выбить из британских оккупационных властей газетно-издательскую лицензию номер шестьдесят семь, дабы начать растущими тиражами выпускать газету «Слушай!», а заодно, кстати, не забыть предоставить мельнику Антону Матерну бесплатную годовую подписку на это издание, ибо мельник обожает иллюстрированное газетно-журнальное чтиво и помешан на радио, а ведь «Слушай!» — это, конечно, подробная иллюстрированная радиопрограмма. Лицензию номер шесть, на издание еженедельника «Ди Цайт» — «Время», названного так по совету мучных червей, предложено взять самому шустрому из трех гостей. А самому маленькому и деликатному, который от робости грызет ногти и даже заговорить не решается, мучные черви шепотом через мельника просят передать совет: пусть, мол, нынешнюю свою затею, газету «Ди Boxe» — «Неделя», немедля бросит, а попытает счастья с лицензией номер сто тридцать два.
Ушлый Шпрингер[375] хлопает чудаковатого, рассеянного Руди[376] по плечу:
— Спроси у деда, как тебе окрестить твое новое чадо?
Незрячие мучные черви устами кривого мельника тотчас ответствуют: «Дер Шпигель» — «Зеркало», ибо без хорошего зеркала, в котором виден каждый прыщик, нынче ни в одном доме уже не обойтись, — правда, зеркало должно быть вогнутое; ибо то, что легко читается, легко забывается и еще легче цитируется; писать правду вовсе не обязательно, но номера домов должны быть указаны точно; словом, хороший архив, то бишь тысяч десять, а то и больше мелко исписанных карточек с успехом заменяют мысль; «люди не хотят, чтобы их заставляли думать», — так выразились черви, — «они ждут, чтобы их точно информировали».
Собственно говоря, прием как таковой уже окончен, однако Шпрингер все еще что-то недовольно бормочет насчет червячных прогнозов, потому как, если уж начистоту, он вовсе не радиопрограмму для широких масс замышлял издавать, а скорее радикально-пацифистский еженедельник.
— Я хочу их встряхнуть, понимаете, встряхнуть!
В ответ мучные черви устами мельника Матерна утешают его пророчеством: в июне пятьдесят второго он облагодетельствует нацию общеполезным начинанием — «три миллиона читающих неучей будут ежедневно завтракать с газетой „Бильд“ в руках».
Тут, торопясь, покуда мельник не раскрыл второй раз свои карманные часы, почти в отчаянии кидается за помощью и советом тот самый, еще совсем недавно такой вальяжный господин, у которого Аксель Шпрингер и коротышка Аугштайн стараются перенять хорошие манеры. Ночью, исповедуется он на аспидной дощечке, ему снятся социал-демократические сны, днем он обедает с христианскими заправилами тяжелой промышленности, тогда как сердце его отдано авангардистской литературе, словом, он совершенно не знает, как ему быть. В ответ мучной червь сообщает ему, что это сочетание — по ночам левые мысли, днем правые деяния, а в сердце авангардистский огонь — самая что ни на есть подходящая смесь для еженедельника «Ди Цайт» — «Время», органа почтенного и вместе с тем доступного, либерального и в меру мужественного, просветительского, но и прибыльного.
А вопросы так и сыпятся: «Цены на газетные объявления? Кто составит заградительное меньшинство[377] в издательском доме „Улльштайн“»? Но мучные черви в лице мельника Матерна дают отмашку. Всем троим милостиво дозволяется, прежде чем они учтиво откланяются, начертать на стволе мельницы свои имена — они и по сей день там красуются: красавец Шпрингер, оседланный мировой скорбью Руди и господин Буцериус[378], чье родословное древо коренится в глубоком, хотя и просвещенном средневековье.
После относительно спокойной недели, — мельнику Матерну доставлен и расстелен под ногами ковер; на рукояти рубильника, который в прежнюю пору включал и выключал трясучую механику сортировочного ящика, находит опору и временное пристанище застекленная фотография дряхлого Президента Рейха Гинденбурга, — после недели, прошедшей без особых хозяйственных перемен и организационных преобразований, — разве что Золоторотик успевает расширить проселок, ведущий от шоссе Фирзен — Дюлькен к заброшенной мельнице и снабдить поворот соответствующим указателем, — итак, после недельной подготовки и концентрации сил к мельнице по отремонтированной и засыпанной свежим гравием дороге один за другим начинают подкатывать хозяева концернов или их доверенные лица, обремененные заботами декартелизации[379]; так что отдохнувшие и словоохотливые мучные черви первым делом избавляют от мук несварения разъевшуюся до необозримости корпорацию Флика. На жесткой табуретке, представляя своего папашу, восседает собственной, жаждущей совета персоной Отто-Эрнст Флик. А мельнику совершенно все равно, кто это там перед ним дергается, скрещивая ноги на все мыслимые и немыслимые лады, — с непроницаемо-любезной миной он листает свои уже порядком потрепанные подшивки, а аспидная дощечка заполняется тем временем наинасущнейшими, безотлагательными вопросами. Введенный союзниками закон о декартелизации предписывает Флику-отцу избавиться либо от стали, либо от угля. Мучные черви кричат наперебой: «Шахты, шахты похерь!» Вот так и возникает вычлененное Маннесманном из своих рядов объединение, которое завладевает контрольным пакетом акций АО «Эссенский каменный уголь», а впоследствии, опять-таки по рекомендации мучного червя, возвращается под крылышко Маннесманна. А «Харпенский уголь», отошедший к французскому консорциуму, Флик-старший через девять лет, то бишь пять лет спустя после своего досрочного и день в день предсказанного мучными червями освобождения из тюрьмы, снова помаленьку приберет к рукам уже в качестве главного акционера.
Кстати, в том же году и доктор Эрнст Шнайдер, побывавший в приемной на мельнице вскоре после Флика-младшего, вступает в банковский дом Тринкхаус; а вместе с ним туда же вступают: вся группа Михеля, — бурый уголь! о, бурый уголь! а вместе с ним и углекислота! — чей наблюдательный совет он милостью мучного червя возглавит; ибо своим щедрым, как сама Висла, языком мельник раздает посты и назначения, которые за секунду до этого производят мучные черви. Так одному отставному ротмистру, — будущей ключевой фигуре зарождающейся экономики — обещано участие в двадцати двух наблюдательных советах, причем в шести из них председателем, — поскольку господину фон Бюлов-Шванте, если он хочет остаться на коне, надобно провести весь концерн Штумма через множество сложных препятствий, с каверзной плотностью расставленных союзниками по трассе.
Словом, посетители идут и идут. Важные господа раскланиваются друг с другом на лестнице, что ведет под мельничную крышу в покои мельника Матерна. Звонкие имена все гуще испещряют мельничный ствол, ибо каждый или почти каждый, будь то АО «Хоеш» или «Бохумское объединение», мечтает увековечить себя в столь достопримечательном месте. Крупп посылает Байтца, и Байтц разузнает, как уклониться от декартелизации в эти хитрые, трудные, но все равно работающие на Круппа времена. Кстати, и знаменательный разговор между господином Байтцем и господином Робертом Мерфи, секретарем Государственного департамента США, при посредничестве мучных червей проистекает загодя: это мучные черви сперва, а уж потом господа Байтц и Мерфи договариваются о долгосрочных кредитах слаборазвитым странам; однако выделит эти кредиты не государство — целевым и частным образом их раздаст рука Круппа: мучные черви с энтузиазмом проектируют для Индии металлургические заводы, которые, останься черви дома в Никельсвальде, по правому берегу устья Вислы, были бы, наверно, спроектированы для Польской Народной Республики; но поляки почему-то помощью мучных червей из Западной Пруссии пренебрегли.
А коли так — к червям идут на поклон «Сименс и Хальзке», «Клекнер» и «Гумбольдт»; нефть и калий туда, где отродясь добывали только каменную соль. Этой чести мельник Матерн сподабливается одним дождливым утром в среду. Доктор Квандт является собственной персоной, дабы выяснить, каким образом АО «Винтерсхалл» заполучит контрольный пакет акций Бурбахских разработок калийных солей. Ему растолкована и обещана выгоднейшая сделка, благодарным свидетелем которой как бы невзначай оказывается Золоторотик, заинтересованный в судьбе одной заброшенной шахты где-то между Зарштедтом и Хильдесхаймом.
Но на следующее утро в четверг — дождь не унимается, а мельник Матерн в свободные от приема часы забивает гвозди в опорные балки, перевешивая фото дряхлого президента с места на место, — Золоторотика, который, как выясняется, только хотел забросить мельнику очередную стопку иллюстрированных журналов, уже и след простыл: он опять где-то за границей. Зато сутки спустя — нудный деревенский дождь не знает ни удержу, ни передышки — пред очи мельника являются все наследники Объединения немецких промышленников. Хоть и декартелизованные, они — Баденский Анилин, Байер и Хоехст — приходят все вместе и сообща жаждут получить от мучных червей указания на ближайшие годы. «Ни гроша на дивиденды, все только на наращивание капитала!» Впрочем, подобным лозунгом мучные черви напутствуют не одну только химическую индустрию; кто бы ни пожаловал, — АО «Фельдмюле» и «Эссо», «Ханильс» и «Северогерманский Ллойд», всемогущие и всеимущие банки и агентства гарантийного страхования, — мучные черви хором и в унисон твердят одно и то же: «Отказ от дивидендов ради наращивания капитала!» А уж к этому главному совету всякие мелкие добавки. Как заграбастать концерн «Херти» вкупе с еще более старинной фирмой «Титц» в фамильный фонд Карга? Давать или не давать Бренникмайеру кредиты своим клиентам? И как должен выглядеть мужской костюм будущего, — имеется в виду, конечно же, двубортный, вожделенный объект просыпающегося покупательского спроса, — который скоро начнет выпускать с конвейера фирма «Пик и Клоппенбург»?
По твердым расценкам (плата, разумеется, вперед) мучной червяк готов дать ответ на любой вопрос. Он ласково полирует фирменную мерседесовскую звезду, предсказывает блеск и нищету концерну Боргварда, по-хозяйски распределяет средства из плана Маршалла, заседает в Международном Рурском совете, утверждает конституцию прежде, чем Парламентский совет успевает ее принять, устанавливает дату денежной реформы, проводит подсчет голосов задолго до первых парламентских выборов, успевает скорректировать планы ховальдских судоверфей с учетом грядущего корейского кризиса, содействует заключению Петерсбергского соглашения[380], объявляет некоего господина доктора Нордхофа[381] будущим главным бухгалтером поэтапного ценообразования и изо всех сил, когда это выгодно ему и иже с ним, жмет на педаль понижения курса.
В целом, однако, тенденции благоприятные, хотя дамы из Тиссена тоже отнюдь не чураются стежки-дорожки на заброшенную мельницу. Уж не дарует ли мельница-чудесница секрет вечной юности? Не разглаживает ли морщины, не стройнит ли дряблые старческие икры? Уж не сводничает ли на досуге мучной червячок? Некоему доблестному ветерану, который перед портретом бывшего Президента Рейха, — портрет тем временем перебрался из мешочного чулана в закром — просветлев лицом, отдает честь, ему, этому все еще крепкому старичку черви рекомендуют втереться в доверие к будущей ключевой фигуре, господину Бюлов-Шванте, ежели он хочет, чтобы его строительная фирма процветала. «Женись, Портленд-Цемент, женись, счастливчик!» — ибо мучные черви благоволят семейным предприятиям.
Правда, всякий, кто собрался на поклон к мучному червю, должен запастись в дорогу смирением и детской верой. Вот почему несгибаемому, вечно насмешливому Хьяльмару Шахту, бесенку в стоячем воротничке, никакие советы впрок не идут, хотя очень часто он с мучными червями совершенно согласен. И черви, и Шахт в один голос предостерегают об опасностях избыточного экспорта, чрезмерного валютного запаса, разбухания денежного обращения и роста цен. Но только мучные черви знают и подсказывают решение грядущих затруднений. Когда на мельницу порознь прибывают будущий министр финансов Шэффер и тайный советник Фоке, директор государственного банка, им, каждому по отдельности, дается наказ невзирая ни на что все же отворить двери всех казначейских кубышек: министр пусть не пытается сдержать рост налогового бремени, а тайный советник пусть не морит взаперти золотой запас, а выпустит его на свободу. И в этом случае, как и на организованной мучными червями встрече Круппа, Байтца и Мэрфи, главный лозунг неизменен: «Валютные кредиты слаборазвитым странам».
А вот уже и первые заметные сдвиги к лучшему. Закупки в Латинской Америке укрепляют рынок шерсти. Бременские джуты потихоньку переводят дух. Своевременное предостережение о понижении курса канадского доллара. Образцово проведенная мучными червями консолидирующая пауза позволяет удержать рынок. Тенденции по-прежнему благоприятны. Золоторотик распорядился покрыть подъезд от шоссе к мельнице асфальтом. Несуразные свадебные прожекты мельника — он остановил свой выбор на некоей вдове из Фирзена — мгновенно рушатся, как только выясняется, что после женитьбы ему придется отказаться от беженской пенсии. По-прежнему один, но отнюдь не страдая от одиночества, мельник листает газеты и иллюстрированные журналы: «Квик» и «Кристалл», «Штерн» и «Ревю», словом, все, что присылается ему на дом совершенно бесплатно — франкфуртскую «Алльгемайне» и мюнхенскую «Слушай!», которая, кстати, уже третий год выходит. И все, кто хранил ему верность с самого начала, равно как и те, кто с опозданием приобщился к истинной вере, приходят к нему снова и снова, либо, робея, идут в первый раз, увековечивают либо подтверждают свою подпись на мельничном стволе, не забывают в знак внимания маленькие подарки для хозяина и терпеливо покашливают, когда капризная печка чадит при восточном ветре: клиенты самого первого призыва — Мюннеман и Шликер, Некерман и Грундиг, старые лисы Реемтсма и Бринкман, тяжеловозы Абс, Форберг и Пфердмэнгес; поначалу будущий, а затем вполне современный Эрхард[382] захаживает регулярно, и ему даже дозволяется проглотить лишнего мучного червячка, который и по сей день чудесно и чудодейственно пребывает в теле сего безупречного мужа — вот она, экспансия! Стихия свободного рынка оседлана мучным червем. В отце экономического чуда червь — чудесный и чудодейственный — гнездился с самого начала. «Не слушайте червя, червь сам с червоточиной!»
Это каркает оппозиция — ибо сама она к мельнику Матерну не ходит, денег не платит, при восточном ветре дымом не давится и советов не слушает. Решением всей своей парламентской фракции она категорически отмежевывается от участия в этом средневековом мракобесии. Профсоюзных лидеров, которые тайком и окольными тропами, но все же пробираются к мельнице, невзирая на то, что полученные ими червячные директивы решающим образом способствуют укреплению и чуть ли не всемогуществу Объединения немецких профсоюзов, рано или поздно подвергают обструкции — достаточно вспомнить о судьбе Виктора Агарца[383]. Ибо социал-демократы, все как один, отвергают мельника и презирают его консультируемых мучными червями клиентов. Адвокат Арндт не пожинает ничего, кроме дружного хохота зала, когда на заседании бундестага в части «разное» пытается доказать, что хождение за советом к мучным червям противоречит параграфу два Основного закона, то бишь Конституции, ибо культ мучного червя, наблюдающийся и набирающий силу повсеместно, препятствует свободному самораскрытию личности каждого гражданина. Циничные остроты про червяков, культивируемые в боннской штаб-квартире СПГ, будучи обнародованы в качестве предвыборных лозунгов, стоят партии многих решающих голосов. Ни одна предвыборная речь господ Шумахера и — с августа пятьдесят второго — Олленхауэра[384] не обходится без издевок и саркастических выпадов по поводу государственных визитов на заброшенную мельницу. Лидеры оппозиции то и дело высмеивают «капиталистическую червячную терапию» — надо ли удивляться, что в итоге они так в оппозиции и остаются?
А вот священство захаживает исправно. Правда, не в парадном облачении и не процессиями с Фрингсом и Фаульхабером[385] во главе, а все больше в анонимном обличим доминиканских монахов, которые — редко на моторе, чаще всего пешком, но бывает что и на велосипедах — устремляются к путеводной ветряной мельнице.
Отнюдь не долгожданные гости, скорее назойливые просители, они сидят внизу с раскрытыми требниками и смиренно дожидаются, покуда некий доктор Откер из Билефельда не выяснит, что для него задача дня гласит: «Пеки свой торговый флот! Замеси свое пудинговое тесто, дай вскипеть на слабом огне, потом остуди и аккуратно спускай во все мировые океаны. Оглянуться не успеешь — и вот они, уже на плаву, танкеры доктора Откера!» А уж после, когда Откер, увековечившись на мельничном стволе, наконец откланивается, приходит время патеру Рохусу с легким изумлением дышать на свои очки, ибо, как только он скрипучим школьным мелом процитировал на аспидной доске катехизис — «Господь, ниспошли от Духа Твоего, и все воздастся…» — мучные черви рупором господним ответствуют: единственно душеспасительной церкви надлежит постепенно насадить в правящей христианской партии сперва готические, а затем и позднероманские нравы, дабы задним числом, на худой конец даже и с помощью иноземцев, снова утвердить империю Карла Великого; начинать надо осторожно, без пыток и охоты на ведьм с последующим их сожжением, поелику еретики вроде Герстенмайера и Дибелиуса[386] и так будут покорны Пресвятой Деве: «Мать непорочная, светоч любви, всех нас спаси и благослови!»
Со столь щедрыми дарами святые отцы, кто пеший, кто на велосипеде, возвращаются по домам. А однажды Бог весть каким ветром к порогу мельницы прямиком из родной аахенской обители приносит даже шестерых францисканских монахинь во всей их диковатой и декоративной красе. И хотя настоятельница, сестра Альфонс-Мария, испрашивает у мельника дозволения на получасовую беседу, предмет и содержание ее никогда и нигде не подлежат разглашению; одно только известно доподлинно: католические мучные черви — ибо мельник Антон Матерн правоверный католик — на все мыслимые и немыслимые случаи жизни сочинили епископские послания; шепотком называли также некоего грядущего министра, который знаменательным образом — nomen est omen[387] — будет носить фамилию Вюрмелинг, то бишь Червивер, и при поддержке знатных католических семейств обоснует нечто вроде государства в государстве; мучные черви уже разрабатывают соответствующие законопроекты; мучные черви настаивают на конфессиональном школьном обучении; по религиозным соображениям мучные черви решительно против воссоединения Германии; мучные черви правят в Западной Германии — ибо отростковое восточногерманское государство слишком поздно посылает к ним своего ходока, теоретика плановой экономики.
Так что прежде чем мельник со своим десятикилограммовым мешочком, в котором, кстати, пары килограммов эппской пшеничной муки уже недоставало, и пришлось с превеликим трудом контрабандой добывать их с исторической, а ныне польской родины в дельте Вислы, — так вот, прежде чем мельник Матерн вместе со своими хорошо упитанными мучными червями смог принять участие в проектировании металлургического комбината в городе Сталинштадт, что в Оденбрухе, равно как и в создании энергетического комбината «Черный насос», в разработке урановых и вольфрамовых месторождений в печально известном АО «Висмут», в организации движения социалистических бригад, — прежде чем он успел подумать обо всем этом, компетентные служащие в штатском огородили и взяли под строжайшую охрану район дислокации говорящих мучных червей; ибо если бы в ту пору господам Лойшнеру и Мевису[388] — а поговаривают, что Ульбрихт посылал даже Нушке[389] — удалось хотя бы несколько раз преодолеть заградительную полосу, сооруженную вокруг секретного объекта подчиненными некоего генерала, жизнь в нынешней Германской Демократической Республике была бы хоть куда, там было бы картошки до отвала и канцелярских скрепок сколько хошь, а так там хоть шаром покати, даже колючей проволоки[390] — и той не хватает.
Нерадивые критики экономического чуда, дружно и невпопад тычущие обличительным перстом в бедолагу Эрхарда, все скопом забывают о скромной пригородной трехвагонке на Дюрен. Господин Куби, а вместе с ним и все остальные зубоскалы-кабаретисты, пополнили бы свои колчаны самыми ядовитыми сатирическими стрелами и сочинили бы куплеты, способные потрясти империю, догадайся они хоть раз совершить паломничество к мельнику Матерну. Ибо в корне неверно предположение, будто у пристрастных червяков с самого начала на уме был один лишь Конрад[391]. Ничего подобного! Даже самые первые клиенты — те, что из прессы, и те, что были озабочены трудностями декартелизации, — подтвердят: в провидческом десятикилограммовом мешочке с самого начала царили радикальнейшие антиаденауэровские умонастроения; отнюдь не этого бездарного обербургомистра, который всего лишь четыре раза приходил за советом на мельницу, да и то по внешнеполитическим вопросам, прочили мучные черви на должность первого канцлера, о нет, вовсе не ему был отдан их вотум — напротив, они в один голос умоляли: «Пусть это будет Ганс Глобке[392], тихий, отважно сидевший в глубоком тылу герой Сопротивления!»
Но вышло по-иному, и если бы не верные ученики и приверженцы мучных червей, которые, памятуя о червячном наказе, сделали доктора Ганса Глобке теневым канцлером, обеспечив «червячной фракции» влияние в бундестаге и поставив сколько-то своих людей заместителями министров в важнейших министерствах, — многое, если не все пошло бы прахом.
А что же мельник Матерн? Каких почестей удостоился? Неужто бесплатная подписка на тот или иной журнал, неужто скромные новогодние подарки — настенные календари фирм от «А» до «Я», от «Авто-Унион» до «Яхты-Ганнибал-Ганновер» — вот и вся его выгода? Осыпан ли он должностями, орденами, пакетами акций? Разбогател ли он по крайней мере?
Сын его, вместе со своим черным псом навестивший старика в марте сорок девятого, поначалу не получает от отца ни грошика. Во дворе ветер зло трясет дырявые крылья мельницы. Некарсульм и Объединенные заводы Кесселя только что откланялись — прием окончен. Десятикилограммовый мешочек покоится в стальном сейфе. Этот сейф — подарок АО «Краусс-Маффай», которое теперь, после того как контрольным пакетом акций завладел Будерус, принадлежит к группе Флика, — установил Золоторотик, поскольку счел, что просто так, в сортировочном ящике, заветный мешочек хранить ненадежно. Есть и иные, не столь полезные, но тоже интересные приобретения: в просторной клетке — подарок АО «Винтерсхалл» — целуется пара волнистых попугайчиков — подарок страхового концерна Герлинга. Но отец и сын молча сидят друг против друга, если не считать раздающихся время от времени глубокомысленных возгласов типа «М-да» или «Вот так-то оно!» Наконец, вежливый сын первым начинает осмысленный разговор:
— Ну как, отец, что там говорят твои мучные черви?
Отец только отмахивается:
— Да что они могут говорить? Байки, одни только байки…
Теперь, как и положено, сыну полагается спросить о матери и тетке:
— А что мать? А тетя Лорхен? Или ты их бросил?
Мельник тычет большим пальцем в мельничный пол:
— Утопли обе по пути.
Тут сыну приходит в голову спросить о старых знакомых:
— А что Криве? Люрман? Карвизе? Куда Кабруны подевались? А старик Фольхерт? А Лау с его Хедвиг, ну, с шивенхорстской стороны?
И снова большой палец мельника указывает на половицы:
— Утопли! Все как один утопли по пути.
Ну, раз уж мать, тетка и все соседи упокоились на дне Балтийского моря, остается спросить об отцовской мельнице. И вновь старик-мельник вынужден возвестить об утрате:
— Сгорела дотла средь бела дня.
Сыну, коли он хочет у отца о чем-нибудь дознаться, приходится кричать. Сперва околичностями, а потом и напрямик излагает он свою просьбу. Но мельник, хоть убей, никак его не расслышит — ни одним, плоским, ни другим, оттопыренным своим ухом. Тогда сын формулирует свои желания с помощью грифеля на аспидной дощечке. Он требует денег, — «Бабки! Монеты!» — ведь он тоже погорел не хуже отцовской мельницы: «На бобах сижу! Без гроша!» Папаша-мельник сочувственно кивает и советует сыну поискать работу либо на угольных складах, либо у него на мельнице.
— Попробуй тут пригодиться. Дело всегда сыщется. И пристройку мы как раз затеваем.
Но прежде чем сын с черным псом решит пойти к отцу в услужение, он как бы между прочим осведомляется, не знает ли мельник случайно одного человека, заядлого курильщика по прозвищу Золоторотик, и нельзя ли этого куряку при помощи мучных червей разыскать:
— Спроси-ка их при случае.
Тут мельник делается будто каменный. Мучные черви хранят непроницаемое молчание в своем стальном убежище от «Краусс-Маффай». И только волнистые попугайчики — страховой концерн Герлинга — по-прежнему щебечут в своей клетке — АО «Винтерсхалл». Тем не менее Матерн-младший решает остаться и первым делом сколачивает под козлами мельницы собачью будку для Плутона. Окажись здесь вдруг Висла и дамбы вдоль Вислы от горизонта до горизонта, то вон та зачуханная деревенька была бы Шивенхорстом, а здесь вот, куда каждое утро, кроме четверга, прибывают кокосовые короли и магнаты недвижимости, находилось бы Никельсвальде. Так это место вскоре и назовут: Ново-Никельсвальде.
Тем временем Матерн-младший помаленьку обустраивается. Отец и сын по всей форме подписали договор о найме. Отныне псу Плутону надлежит мельницу со всем содержимым охранять, а о всяком деловом визите извещать лаем. Сыну же вменено в обязанности регулировать внешнее течение направляемого червями хозяйственно-экономического процесса. В своем качестве домоуправителя на сверхтарифном окладе он позволяет оборудовать у подножья мельничного холма автомобильную стоянку, но отвергает проект размещения здесь же автозаправочной станции. И покуда бензоколонки ищут и находят себе место на повороте от дюренского шоссе, он милостиво дает разрешение на строительство отделению федеральной почты и филиалу «Блатцхайм». Но вокруг стоянки дозволено возвести лишь одноэтажные постройки с трех сторон, дабы мельница — изображение которой украсило тем временем головку сувенирного значка-булавки — надлежащим образом превосходила в масштабах процветающие под нею предприятия. Небольшая телефонная станция и канцелярия обеспечивают передачу червячных указаний в ясных, логически законченных формулировках. В главном здании разместился небольшой и скорее простой ресторанчик, а также двенадцать одноместных и шесть двухместных гостевых комнат, дабы носителям червячной мысли было где с комфортом отдохнуть и переночевать. В подвале оборудован бар, где ближе к вечеру собираются у стойки адепты червячной правды или, как сейчас бы сказали, представители продуктивных общественных сил. Побрякивая льдом в бокалах, похрустывая соленым миндалем, они как бы между делом воплощают в жизнь рекомендованную мучными червями тенденцию к образованию монополий, дискутируют спорный и давно изъеденный червями кодекс честной конкурентной борьбы, подвергают оный сомнению, открывают друг другу душу и процентные ставки, готовы временно поддержать, спокойно движутся в ту же сторону, реагируют неоднозначно, однако оказывают влияние и нажим, берут на заметку и на баланс, с места и в карьер, быка и за рога, и при этом с улыбкой поглядывают на транспарант, вывешенный Матерном, домоуправителем, где белым по красному выведено:
КАПИТАЛУ НЕТ ЖИТУХИ, КОЛИ ЧЕРВЬ МУЧНОЙ НЕ В ДУХЕ!
Ибо Матерн-младший активно участвует в беседах. При этом многие из его доводов начинаются одинаково:
— Марксизм-ленинизм доказал, что…
Или:
— На крыльях социализма человечество…
Адепты червячной мысли — ибо представителями продуктивных общественных сил они никогда не были — вздрагивают на своих табуретах у стойки, когда домоуправитель Матерн, знаменитым ленинским жестом указуя на бело-красный транспарант, начинает говорить о сплоченном пролетарском коллективе мучных червей, о червячной структуре победоносной социалистической общественной формации и об истории как диалектическом червячном процессе. Так что покуда наверху в заброшенной ветряной мельнице кривой мельник своим удивительным ухом вслушивается в укромную жизнь обитателей десяти килограммового мешочка муки, споспешествуя послевоенной немецкой экономике в ее восхождении к нынешним всемирно признанным высотам, — это его терпеливому сотрудничеству обязан, кстати, своим возникновением основополагающий научный труд политэконома В. Ойкена[393] «Продуктивная роль общественно полезных мучных червей в правовом государстве», — его сын, домоуправитель, на чем свет стоит кроет тем временем капиталистических кровососов, угнетателей трудового червячного племени. Он сыплет цитатами, где через слово поминается мучной червь. Бывает классово-сознательный червь и червь деклассированный. Одни черви занимаются коллективным самообразованием, другие ведут бригадный трудовой дневник. Первопроходцы соцсоревнования возводят здание социализма. В новых исторических условиях прежний капиталистический червь превращается в… Пройдя горнила чисток, они освобождают свои ряды от чуждых элементов и неудержимо ползут к новым победам. В бесконечных беседах у стойки — Матерн-старший давно уже заснул наверху и видит в сладких грезах благодатно увитые плющом тихие кладбища по обоим берегам устья Вислы — его сын, Матерн-младший, склоняясь над очередным стаканом джина или виски, развивает на марксистской основе нечто вроде червячной мифологии, которой надлежит наглядно подкрепить тезис о неотвратимом поступательном движении всякого исторического развития.
— Ибо есть в их рядах плановики-передовики и целые червячные бригады, которые на крыльях социализма преодолеют путь от «Я» к «МЫ».
Матерн, тот, который домоуправитель, говорить не дурак. В прокуренном баре, поблескивая своим скоро уже совсем голым черепом в матовом свете потолочных ламп, заграбастав в ладони стакан с виски и позвякивая ледком, то и дело указывая столько уже раз запечатленным в живописи ленинским перстом в будущее, он разыгрывает поучительные пьесы-агитки, благо что в охочей до театра публике недостатка нет. Ибо те, что сидят у стойки — носители червячной мысли Абс и Пфердменгес, дамы от Тиссена и Аксель от Шпрингера, лидер продуктивных общественных сил Блессинг и Синдикус Штайн, все эти активные общественники по делам имуществ и семижды члены наблюдательных советов, — все они охотно подыгрывают, потому как у каждого — «иначе куда бы нас все это привело?» — есть свое собственное мнение, и оно должно быть представлено. К тому же каждый когда-то в молодости — «Клянусь, черт подери, вечерним кефиром и утренним стулом!» — где-нибудь да стоял слева. Мы же тут среди своих — «Краусе-Маффай» и «Рехлинг-Будерус». Ах вы, старые рубаки, Любберт и Бюлов-Шванте, свидетели Альфреда и наследники Хуго. И вообще, ежели после полуночи, — люди как люди, с ними вполне можно поговорить, — так Матерн считает, домоуправитель. И у них жизнь совсем не сахар. Каждому, даже вдове Сименс, приходится влачить свое бремечко. Каждой, даже компании «Хижина доброй надежды», приходилось когда-то начинать с самого низа. И каждое предприятие, даже «Феникс-Райнрор», не позволит просто так себя высечь.
— Но одно вы себе зарубите на носу, вы, страховые компании и страховые агентства по страхованию страхований, вы, переработчики смолы и металлолома, вы, широко разветвленные и удачно породненные, вы, Крупп, Флик, Штумм и Штиннес: победа социализма неизбежна! Выше чашки! Дело мучного червя непобедимо! Будь здоров, Викко! Тенденции благоприятствуют! Ты отличный парень, хоть и был штандартенфюрером. Быльем поросло. Все мы когда-то… Правда, каждый на свой лад. Зови меня просто Вальтер.
Но подобные братания под сводами заброшенной мельницы проистекают лишь в полночь — днем же, покуда автостоянка забита, телефонная станция перегружена, а приемные часы полностью расписаны на неделю вперед, здесь царит малая идеологическая война. Увы, со стороны домоуправителя никакие закулисные темные силы ведение оной не финансируют; из собственных скромных средств он вынужден оплачивать печатание листовок, характер которых — ввиду своеобразия их применения — следует признать новаторским.
На лицевой стороне пафос классовой борьбы подкреплен именами Карла Либкнехта и Розы Люксембург и расцвечен множеством восклицательных знаков; на оборотной вслед за деловитым двоеточием возвещено, что Рюссельсхайм уже через пару лет будет выплачивать супердивиденды — шестьдесят шесть процентов годовых.
На лицевой стороне вожаки разбойничьих банд Симон Матерна и Грегор Матерна уже в начале шестнадцатого столетия, оказывается, создали классово сознательные коллективы, чтобы не сказать бригады; на оборотной заложены основы концерна «Монтана».
На лицевой стороне всяк кому не лень может прочесть о том, как прадед домоуправителя, веривший в Наполеона, но сбывавший штурмовые лестницы русским, благодаря этой раздвоенности сколотил деньгу, которая прежде принадлежала милитаристам и буржуям; на оборотной аккуратными столбцами выстраиваются цифры инвестиций и отчислений баденской анилиновой и содовой фабрики на еще далекий пятьдесят пятый год.
Короче: в то время, как домоуправитель Матерн на лицевой стороне своей красной листовки утверждает себя борцом, стремящимся ускорить неминуемый конец декадентского западного общественного устройства, оборотную, чистую сторону той же самой листовки торопливо заполняют статистические графики будущих расходов, колебаний курсов, конспекты грядущих распоряжений и приказов по картелям и концернам — сколь наглядное предвосхищение современной модели мирного сосуществования!
А сколько бесплатного удовольствия можно было бы доставить себе, ввернув сейчас, дабы оттянуть приближающийся конец сей славной хроники, ту или иную вставную новеллу в повествование, ибо теперь-то, когда подоплека прояснилась, любой был бы горазд подкинуть сюда какую хочешь байку. Например, о студии УФА, которая слишком поздно удосужилась послать своих доверенных лиц в Ново-Никельсвальде. Теперь-то любой смог бы сколько угодно распускать нюни и сетовать. Чего стоит одна только нескончаемая литания упущений и огрехов в нашем сельском хозяйстве, хотя мучные черви по своему почину и во весь голос предупреждали о подступающем аграрном кризисе. Теперь-то всяк был бы рад накатать сюда целый альманах общественно-значимых сплетен. Хватило бы за глаза одних только гамбургских хитросплетений: коллизия Розенталь — Ровольт, мотивы развода Шпрингера и прочее социально-критическое занудство… К черту все эти подробности, излагаем коротко и ясно: с марта сорок девятого и вплоть до лета пятьдесят третьего Вальтер Матерн, тот самый, что пришел с черным псом, дабы судить, служит и живет домоуправителем и вполне оседлым сыном у своего отца Антона Матерна, который пришел, дабы помогать людям советами из шепчущего мешочка с мукой. Этот период приобрел всеобщую известность как первоцвет экономического чуда. А самая первая зародышевая клетка этой эпохи называется Ново-Никельсвальде. Тут многое — неспроста ведь поговаривали о закулисных фигурах и международных связях — было и впредь будет покрыто мраком. К примеру, Матерн, как-никак домоуправитель, так ни разу и не сподобился лицезреть Золоторотика, о котором все знали, что он… Но никто не знал, где он — даже мучные червяки. Зато про смерть Сталина они разболтали прежде, чем о ней было официально объявлено. А несколько недель спустя беспривязно бегающий ночью сторожевой пес Плутон извещает всех громким лаем: «Костер под мельницей!» Огонь тогда быстро погасили. Пришлось только заменить четыре перевязки в козлах мельницы. Седло и опорные балки пострадали незначительно. Президент дюссельдорфской полиции приезжал лично. Установленный поджог! Однако все попытки выявить связь между этим случаем и вскоре последовавшим за ним вторым, как приходится признать, удавшимся налетом на мельницу остались в области слухов и домыслов, потому как доказательств и по сей день нет никаких. В сфере чисто голословных предположений остаются и те, кто усматривает связи между смертью Сталина и сорванным поджогом, с одной стороны, и между удавшимся налетом и восстаниями рабочих в советской оккупационной зоне[394], с другой. Тем не менее как в поджоге, так и в похищении все и по сей день дружно обвиняют коммунистов.
По этой же причине и сын мельника Матерна в течение нескольких недель подвергался допросам. Однако ему не привыкать. Он всю жизнь любил играть в «веришь — не веришь». Со сцены, так ему кажется, каждый его ответ срывал бы бурю аплодисментов.
— Специальность по образованию?
— Актер.
— Род занятий в настоящее время?
— Вплоть до дня нападения на участок с мельницей, принадлежащий моему отцу, я трудился у него домоуправителем.
— Где вы находились в ночь нападения?
— В баре-погребке.
— Кто может это подтвердить?
— Господин Викко фон Бюлов-Шванте, председатель наблюдательного совета концерна «Штумм»; господин доктор Любберт, персонально полномочный представитель фирмы «Дикерхофф и Видманн»; а также господин Густав Штайн, один из руководителей Федерального объединения немецкой промышленности.
— О чем вы беседовали с этими лицами?
— Сперва о традициях уланского полка, в котором служил господин фон Бюлов-Шванте; затем о строительных подрядах фирм «Ленц-Бау» АО и «Вайс и Фрайтаг» в деле восстановления Западной Германии; а под конец господин Штайн разъяснял мне, что общего между деятелями культуры и ведущими силами экономики.
Но сколь бы упорно ни скрывались от лучей славы истинные заказчики и исполнители этого преступления, факт остается фактом: несмотря на усилия организации Гелена[395] и тройной кордон охраны, неизвестным злоумышленникам удалось в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое июня пятьдесят третьего года похитить мельника Антона Матерна, постоянно проживавшего в заброшенной мельнице в Ново-Никельсвальде. Кроме самого мельника, утром шестнадцатого июня в помещении вышеозначенной ветряной мельницы недоставало следующих предметов: в мешочном чулане — окантованной и застекленной фотографии бывшего Президента Рейха фон Гинденбурга, а также радиоприемника фирмы Грундиг. В закроме — пяти годовых подшивок популярного радиожурнала «Слушай!», двух волнистых попугайчиков вкупе с клеткой и десятикилограммового мешочка пшеничной муки, хранившегося в стальном сейфе, который злоумышленники — судя по всему, их было несколько — сумели вскрыть без применения силы.
Поскольку, однако, вышеупомянутый десятикилограммовый мешочек был не простым, а содержал в себе мучных червей восточногерманского происхождения, которые в течение ряда лет осуществляли централизованное управление цветом всей западногерманской экономики, так что оная и сегодня, когда конец ее в обозримом будущем исторически предрешен, все еще по инерции продолжает процветать и поддерживать благоприятную конъюнктуру, — утрата мешочка, да еще вкупе с неотъемлемым от него мельником, повергает правящие верхи в панический ужас. Важные господа, которым вплоть до завершения первичного расследования запрещено покидать Ново-Никельсвальде, обсуждая происшедшее то в баре-погребке, то на автостоянке, воскрешают в памяти сопоставимые по масштабу катастрофы немецкой и европейской истории. Уже произнесены слова Канны, Ватерлоо и Сталинград. Чуть ли не как пророчество Кассандры помянута и известная подпись под давней английской карикатурой по случаю отставки Бисмарка: «Лоцман покидает корабль!» А кому такая аналогия кажется еще недостаточно яркой, тот к изречению о Бисмарке добавляет многозначительное словцо из поговорки о крысах: «Лоцман покидает тонущий корабль!»
Широкой общественности, однако, не дано разделить смятение верхов. Ибо хотя никто не отдает распоряжений об информационной блокаде событий в Ново-Никельсвальде, ни одна газета, включая даже скандальную «Бильд», не бьет в набат аршинными заголовками с первых страниц: «Мучные черви покидают Федеративную Республику!» — «Советский налет на командный пункт западногерманской экономики!» — «Звезда Германии закатилась!»
Ни строчки в «Вельт». От Гамбурга до Мюнхена любой мнящий себя газетой листок сообщает только о разворачивающемся восстании строительных рабочих на аллее Сталина в Берлине; однако Ульбрихт, поддержанный лязгом танковых гусениц, остается, тогда как мельник Антон Матерн бесследно и без всякого шума исчезает.
После чего все, кто припеваючи жил и по сю пору не бедствует благодаря его, мельника, просторечным червячным мудростям, все они — Крупп и Флик, Штумм и Штиннес, все, кто и сегодня мчится на всех парусах по выверенному червями курсу, — Банк немецких земель и Бальзенские хлебцы, — после чего все, кто когда-то стоял в очередях у порога заброшенной мельницы, — головные организации и торговые палаты, кредитные конторы и федеральные объединения — после чего все как один червепослушные клиенты разом перестают помнить об этих приемных часах. Отныне во всех торжественных речах при открытиях мостов, спусках со стапелей и прочая, прочая, прочая ни один из них не скажет: «Это процветание нашептано нам мучными червями. Всем, что мы имеем, мы обязаны мельнику и его радеющему об общей пользе заветному мешочку. Да здравствует мельник Антон Матерн!» Вместо этого все эти бывшие рупоры червячной мысли что в ветреную, что в безветренную погоду долдонят — теперь уже как самостоятельные и облеченные властью ораторы — о «немецком трудолюбии». А еще — о «созидательной воле немецкого народа». А еще — о «фениксе из пепла». А еще — о «чудесном возрождении Германии». А первым делом и прежде всего — о «милости Божьей, без которой ничего бы не свершилось».
И лишь одного-единственного человека исчезновение мельника начисто выбило из колеи. Матерн, бывший домоуправитель, ныне безработный, с черным псом на поводке и скрежетом зубовным, мыкается неприкаянный по городам и весям. Всякое благосостояние со временем утрясется. Всякому чуду найдется свое объяснение. И о всяком кризисе нас заблаговременно предупреждали. Было ведь сказано: «Не слушайте червя — червь сам с червоточинкой!»
ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СТЕРИЛЬНАЯ МАТЕРНИАДА
Общая тенденция безрадостна: набычив начисто облысевшую голову, понуро бредем вперед, но по-прежнему в неукоснительном сопровождении пса. Плутон подчиняется с полуслова, он уже давно не юноша. Тяжкий удел старения, когда каждый следующий полустанок тоскливей предыдущего. На каждом лужке уже пасутся другие. В каждой церкви один и тот же бог: Ессе Homo![396] Взгляните на меня: облысел снаружи и внутри. Пустой гардероб с мундирами всевозможных умонастроений. Я был красным, а носил коричневое, щеголял в черном, но снова перекрасился под кумач. Плюньте в меня, вот он я — приодет на все случаи жизни, подтяжки переставляются, человек-неваляшка на свинцовых подошвах, сверху лыс, внутри пуст, зато снаружи обвешан лохмотьями былых одежек — красных, коричневых, черных: плюньте! Но Брауксель не плюет, а шлет авансы, дает советы, рассуждает между делом об экспорте-импорте и о приближающемся конце света, покуда я скрежещу зубами: лысый взыскует справедливости! Все дело в зубах, числом тридцать два. На моих еще ни один зубной врач не поживился. Каждый зуб на счету!
Общая тенденция безрадостна. И главный вокзал в Кельне уже не тот, что прежде. Господи Иисусе, который умеет преумножать хлеба и урезонивать сквозняки, распорядился его застеклить. Господи Иисусе, который всем нам прощает, велел покрыть свежей эмалью писсуары мужского туалета. Нет больше обремененных виной имен, нет предательских адресов. Людям хочется покоя и каждый день горячую картошку кушать; один только Матерн все еще чувствует кожей сквозняки и нутром — имена, вырезанные в сердце, почках и селезенке, ибо имена эти требуют списания, все, все до единого. Кружка пива в зале ожидания. Один обход с псом вокруг собора, дабы он пометил все его тридцать два угла. После чего еще одно пиво у стойки напротив. Болтовня с бродягами, которые принимают Матерна за бродягу. После чего последний заход в мужской туалет. Вонь все та же, хотя прежде пиво куда хуже и разбавленное. Какая дурь — тратиться на презервативы. Рядком жеребцы, прогнув крестцы, тридцать два ручейка в тридцать два стояка, все стояки безымянные, бесфамильные. Матерн покупает себе гондоны, десять упаковок. Ему надобно навестить старых добрых друзей в Мюльхайме.
— Завацкие? Они давно тут не живут. Сперва в Бедберге обосновались, открыли там маленький магазинчик мужской одежды. Помаленьку на ноги встали, и теперь у них в Дюссельдорфе шикарный салон готового платья, два этажа.
Дюссельдорф… Прежде ему удавалось избежать этого очага скверны. Все время только проездом, ни разу не сошел. В Кельне — да! И в Нойсе — с вязальной спицей. Неделю в Бернате. И на карьерах — от Дортмунда до Дуйсбурга. Как-то раз два дня в Кайзерсверте, но в самом Дюссельдорфе — ни-ни. Об Аахене приятно вспомнить. В Бюдерихе случалось переночевать, но в этой деревне на Дюсселе — никогда. На Рождество даже в Зауэрланде гулял, но не у куролесов-карнавальщиков[397]. Крефельд, Дюрен, Гладбах и даже выселки между Фирзеном и Дюлькеном, где папа со своими червяками чудеса творил, — всякое бывало, но хуже этого чумного гнойника в подслеповатых глазках круглых окон, этого осквернилища несуществующего Бога, этой горчичной кляксы, засохшей между Дюсселем и Рейном, этой прокисшей пивной отрыжки, этого изроныша, оставшегося после того, как Ян Веллем слез с Лорелеи[398], — хуже ничего быть не может. Теперь это город искусства, выставок и садов. Вавилон эпохи Бидермайер. Нижнерейнская кухня туманов и столица земли. Побратим города Данцига. Горшочек винной горчицы и гробница шута горохового. Здесь страдал и бился Граббе. «А как же, был тут с нами. Так что мы квиты. А потом он смылся.» Ибо даже Кристиан Дитрих не хотел здесь умирать, предпочтя сыграть в ящик в родном Детмольде. Смех Граббе: «Я бы весь Рим мог уморить со смеху, а уж Дюссельдорф и подавно!» Слезы Граббе, старый глазной недуг его Ганнибала: «Хорошо вам плакать, друзья-атлеты[399]! После того, как вы все захапали, самое время пролить слезу!» — Но без малейших позывов смеха и без рези в глазах, трезвый, как стеклышко, с черным псом у ноги, Матерн приходит навестить дивный город Дюссельдорф, где во время карнавала правит бело-голубая гвардия принца[400], где шелестят денежки, благоденствует пиво и пышно пенится искусство, где до конца дней живется сладко и весело, весело, весело!
Но и у Завацких общая тенденция безрадостна. Инга вздыхает:
— Мальчик мой, ты же совсем облысел.
Они живут шикарно, аж в пяти комнатах на улице Шадова прямо над своим магазином. Йохен, особенно торжественный возле встроенного в стену средней величины аквариума, говорит теперь только на литературном немецком, чудеса, правда? От добрых старых мюльхаймских времен — «Ты помнишь, Вальтер?» — сохранилась тридцатидвухтомная энциклопедия, которую они все трое не уставали листать еще во Флистедене. «А» — аметист: «Да, это мне Йохен на годовщину свадьбы подарил.» «Б» — барак: «С этого мы в Бедбурге начинали, зато потом…» «В» — Валли: «Нет-нет, Вальтер, это наша с Йохеном дочка, даже и не думай об отцовстве». «Г» — год: «Ты только представь себе, на Пасху Валли уже в школу пойдет. Как годы летят…» «Д» — Данциг: «Была тут у нас недавно встреча беженцев, но Йохен не пошел». «Е» — евреи: «Сейчас-то их все защищают». «Ё» — ёж: «Да-да, так и живем, ощетинившись на все стороны». «Ж» — жизнь: «У нас она только одна». «З» — загородный дом: «Два гектара леса, да еще пруд с утками, представляешь?» «И» — инкогнито: «Не знаю, когда он опять объявится, давно уже не был…» «Й» — йогурт: «А еще творожок с облепихой, вот и весь наш завтрак…» «К» — клавесин: «Это итальянский, в Амстердаме купили, и очень недорого». «Л» — легенда: «Да, про Золоторотика все еще судачат». «М» — материя: «Вот пощупай-ка, чувствуешь, какой матерьяльчик, и не шотландский, нашенский, поэтому у нас и дешевле, чем…» «Н» — наци: «Ладно-ладно, не надо об этом». «О» — Оскар: «Земляк ваш, играет тут в одном погребке». «П» — прислуга: «Совсем распустилась: предыдущая нам уже через две недели хамить начала». «Р» — родина: «У кого есть, а у кого уже и нету». «С» — свадьба: «Нынешняя марка в ту пору тянула пфеннигов на пятьдесят, не больше». «Т» — текстиль: «Это все Золоторотик, он нам тогда подсказал». «У» — ужин: «У нас сегодня по-простому, консервы и хлеб». «Ф» — фанатик: «Ты всегда им был, из таких никогда ничего путного не выходит». «X» — хлеб: «Теперь хоть в очереди не стоять». «Ц» — цимбалы, или на чем они там играют в этом ресторанчике? «Ч» — чиновники: «Да, они в торговой палате сперва вставляли нам палки в колеса, но после того, как Йохен туда сходил и выложил на стол письма…» «Ш» — штатский: «Да какие вы военные, кто вас, красавцев таких, возьмет?» «Щ» — щедрость: «Вот уж чего сейчас днем с огнем не сыскать». «Э» — экскурсия: «В прошлом году мы в Австрию съездили, в Бургенланд, так, развеяться». «Ю» — «Юкатан»: «Может, туда пойдем? Они недавно открылись». «Я» — «Янтарь»: «Нет, только не в „Янтарь“».
— Тогда уж лучше в «Морг». Вот куда тебе обязательно надо заглянуть. У них там эпатаж, причем какой! С ума сойти! Бесподобные наглецы! Отчаянные ребята. Фантастическое зрелище, хотя и идиотское. Во всяком случае, уж необычное — это точно. И смешное — животик надорвешь. Медицинское, так сказать. Ну конечно, не нагишом. Все только до пояса. И при этом очень торжественно. Режут прямо на твоих глазах. Может и стошнить, честное слово. Садизм, зверство, словом — жуть! По идее должно быть запрещено. Но почему-то никто не запрещает. Мы уже столько раз там были. Чебрец жуем. Да не волнуйся, Йохен заплатит.
Вообще-то псу Плутону надо бы остаться в пятикомнатной квартире со служанкой и охранять спящую дочурку Валли, но Матерн настаивает: в гастрономический ресторан «Морг» он пойдет только вместе с Плутоном. Завацкий осторожно спрашивает:
— Может, все-таки лучше в «Юкатан»?
Но Инга хочет только в «Морг». Они отправляются втроем не считая собаки. По Флингерской вверх, потом по Болькерской вниз. Разумеется, как и все дорогие заведения Дюссельдорфа, «Морг» расположен в старом городе. Владелец ресторана не вполне известен. Называют то Ф. Шмуха, хозяина «Лукового погребка», то Отто Шустера, владельца «Юкатана». Киношный Маттнер, который со своим «Горшочком» и своей «Дачей», что прежде называлась просто «Тройкой», нынче вон как размахнулся, а недавно еще и магазин открыл, «Блошиный рынок» называется, к тому часу, когда Матерн с псом и Завацкими идет кутить, стоит еще в самом начале своей карьеры. И пока они идут вдоль по Мертенской, неторопливо приближаясь к «Моргу», Инга всю дорогу ломает свою кукольную, на пять лет поблекшую головку:
— Хотела бы я знать, кто все-таки до этого додумался? Нет, правда, кому-то ведь первому должна была прийти в голову идея, верно? Золоторотик вот, к примеру, иногда такие чудные вещи рассказывал. Мы, конечно, никогда в его басни особенно не верили. На него только по части дел всегда положиться можно, но в остальном… Он, вот, к примеру, нам заливал, что у него чуть ли не собственный балет был. И все это в войну, фронтовой театр и все такое. И это притом, что он же точно не совсем арийских кровей. Уж это-то они в ту пору наверняка бы заметили. Я его пару раз спрашивала: «Послушайте, Золоторотик, а откуда вы вообще родом?» Один раз он мне ответил: Рига. А в другой раз: сейчас, мол, это место называется Свибно[401]. А как оно раньше называлось — не сказал. Но все-таки что-то в этих байках про балет есть, честное слово. Может, они тогда и вправду ничего не заметили. Вон, говорят, Шмух тоже из этих. Ну, тот, у которого «Луковый погребок». Он, вроде, все это время сторожем бомбоубежища прокантовался. Но я только двоих таких из этой породы маленько поближе знаю. Этих-то обоих ни с кем не спутаешь. Вот я и говорю — чтобы что-то такое вроде «Морга» придумать, совсем особые мозги нужны, как у Золоторотика, к примеру. Сам увидишь. Я точно ничего не преувеличиваю. Скажи, Йохен? Да это вот тут, сразу за следующим переулком, прямо напротив суда.
И хотя вывеска строгими белыми буквами по черному полю ясно возвещает: «МОРГ» — посетитель с первого взгляда может, пожалуй, принять заведение и за обыкновенную погребальную контору. Поскольку и в окне витрины тоже покоится пустой детский гробик цвета слоновой кости. Ну, и остальное в том же духе: восковые лилии и образцы самых изысканных обивок для гробов. Постаменты, забранные черным бархатом, украшены фотографиями первоклассных похорон. К постаментам притулились геометрически строгие, как спасательный круг, похоронные венки. На переднем плане гордо красуется каменная урна эпохи бронзы, найденная, как уведомляет табличка, на раскопках в Коесфельде, Мюнстерланд.
Столь же тактично напоминает о бренности человеческой жизни и интерьер заведения. Хотя Завацкие и не заказывали столик, их, равно как и Матерна с псом, усаживают неподалеку от носилок с телом погибшей в автокатастрофе шведской кинозвезды. Она лежит под стеклом и, понятное дело, выполнена из воска. Белое стеганое одеяло, под которым ничего не различить — только пухлые края его скрадены пышной кружевной оторочкой — укрывает актрису до пупка, зато выше вся левая ее половина, начиная от волнисто ниспадающих смоляных волос, включая щеку, подбородок, мягкие очертания стройной шеи, едва обрисованный выступ ключицы, взлет упругой груди и заканчивая точеной линией стана, — все это предстает во плоти, хотя и в восковой, но с виду вполне неподдельной и желто-бело-розовой; второй же, правой половины, если смотреть от столика Матерна и Завацких, как будто и вовсе нет, словно ее отсек нож прозектора, обнажив, — тоже, понятно, искусственные, но в натуральную величину — сердце, селезенку и левую почку. Вся штука, однако, в том, что сердце бьется, бьется по-настоящему, так что несколько посетителей ресторана «Морг» всенепременно стоят около стеклянного ящика, желая поближе разглядеть, как оно бьется.
Не без робости — Инга Завацкая после всех — они садятся. Осторожно скользящему по стенам взору тут и там предстают размещенные в мягко подсвеченных нишах не только всевозможные фрагменты человеческих скелетов, — где рука с лучевой и локтевой костью, а где и самый заурядный череп, — но и плавающие в больших склянках с соответствующими надписями крыло легкого, большой мозг и мозжечок, плацента, и все это наглядно, близко, словно приготовленное для занятий по анатомии. Тут же и библиотека, услужливо, отнюдь не под стеклом предлагает посетителю на выбор корешки своих многочисленных переплетов: вся необходимая специальная литература, богато иллюстрированная, включая даже такие изыски для совсем уж знатоков, как описание первых опытов в области трансплантации органов и двухтомное исследование о гипофизе. А между стенными нишами, неизменно одинакового формата и в изящной окантовке, строго взирают на трапезующих гостей портреты — фотографии и гравюры — знаменитых медиков: тут и Парацельс, и Вирхов, и Зауэрбрух[402], и даже римский бог врачевания Эскулап со своим чудодейственным посохом.
В меню ничего особенного: шницель по-венски, грудинка говяжья с хреном, мозги телячьи на тостах, говяжий язык в мадере, почки бараньи в горящем коньяке, есть даже банальная свиная ножка и совсем уж заурядные цыплята с картофелем-фри. Что заслуживает особого упоминания, так это сервировка: Матерн и Завацкие управляются с телячьей ножкой при помощи стерилизованного набора скальпелей и прочих патолого-анатомических инструментов; по ободку всех тарелок деликатно пробегает надпись: «Медицинская академия, отдел аутопсии»; пиво, обыкновенное «дюссельское», пенится в колбах Эрлен-майера; но уж кроме этого — никаких крайностей. Хозяин любого дюссельдорфского ресторана средней руки, равно как и представители современного дюссельдорфского «большого стиля» вроде уже помянутого киношного Маттнера вкупе со своими дизайнерами-оформителями нагородили бы черт-те чего — например, включали бы фонограмму шумов настоящей операции: тягучий, как жвачка, счет от одного до десяти или дальше, пока наркоз не подействует, негромкие, но решительные приказы хирурга, позвякивание металла о металл, а вот и пила вступила и еще что-то зудит на одной ноте, и ритмичный стук, как насос, только все медленнее, потом снова быстрей, приказы все короче, злей, и сердце, сердце… Ничего похожего. Нет даже приглушенной и ненавязчивой легкой музыки, что заполняла бы тишину под сводами «Морга». Тихо полязгивают скальпели, орудуя над мясными блюдами. Размеренно и спокойно ведутся беседы за всеми столиками. Впрочем, они, хоть и укрыты камчатными скатертями, но все же не столики, а опять-таки самые что ни на есть доподлинные операционные столы на колесиках, продолговатые, раздвижные и вариабельные, — зато горят над ними не беспощадно-яркие операционные светильники, нет: вполне старомодные, уютные, конечно же бидермайеровские абажуры заботливо укрывают каждый стол шатром своего мягкого, теплого, интимного света. И гости тоже не какие-то медики в штатском, то бишь без халатов, а скорее, как вот Завацкие с Матерном, нынешние деловые люди со своими друзьями-приятелями, изредка депутаты ландтага, иной раз даже и иностранцы, из тех, которым надо показать что-то особенное, и уж совсем редко — молодые пары; нет, в основной своей массе это солидная публика, которая решила в свое удовольствие провести вечер; ибо «Морг» — в начале, по задумке, он и вовсе должен был называться «Мертвецкая» — заведение отнюдь не дешевое и к тому же полное соблазнов. Так, у стойки бара здесь восседают не привычные девицы, призванные оживлять денежный оборот заведения, нет, никакой дешевой игры на низменных страстишках и моральных запретах — у стойки молодые люди, корректно одетые, строгие, подтянутые; это одаренные врачи-ассистенты, готовые здесь же, за бокалом шампанского, если не поставить окончательный диагноз, то вполне квалифицированно и на доступном уровне поболтать об интересующем вас предмете. Иному гостю — особенно если у кого слишком уж добренький домашний доктор — именно тут впервые доводилось осознать, что болезнь его называется так-то и так-то, допустим, артериосклероз. Отложения жироподобного вещества, то бишь холестерина, повлекло за собой отвердение стенок кровеносных сосудов. Дружелюбно, но без всякого запанибратства, столь принятого в разговорах у стойки, молодой специалист, служащий ресторана «Морг», предупредит гостя о возможных последствиях заболевания, как то об инфаркте или инсульте, чтобы незамедлительно взмахом руки подозвать одного из сидящих тут же, неподалеку и тоже с бокалом, коллег, эксперта в области обмена веществ, биохимика, который — и все это по-прежнему за шампанским — расскажет посетителю о животных и растительных жирах.
— Кстати, именно поэтому, можете не сомневаться, в нашем ресторане используются только те жиры, кислоты которых понижают уровень холестерина: телячьи мозги на тостах, например, приготовлены на чистом кукурузном масле. Кроме того, мы жарим еще на подсолнечном масле и даже на китовом жиру, но на сале и сливочном масле — никогда.
Матерна в последнее время беспокоят камни в почках, поэтому Завацкие, особенно Инга, всячески уговаривают его подойти к стойке и подсесть к одному из этих, как Инга их называет, «медицинских жиголо». Но поскольку идти через весь зал, как сквозь строй, Матерн не решается, Завацкий вальяжным взмахом руки подзывает к столику одного из молодых людей, отрекомендовавшегося урологом. Едва заслышав о камнях в почках, тот немедленно и настоятельно советует заказать для Матерна порцию сока из двух выжатых лимонов.
— Видите ли, еще совсем недавно выход даже маленьких камней после длительного курса лечения считался большим успехом; однако наша лимонная терапия дает гораздо больший эффект при в общем-то не столь больших затратах. Мы эти камни, правда, только так называемые ураты, просто растворяем: через два месяца анализ мочи у наших клиентов, как правило, уже в пределах нормы. К сожалению, при одном условии: увы, да — категорический отказ от алкоголя.
Матерн отставляет только что принесенную кружку пива. Уролог — а он, говорят, учился у светил в Берлине и Вене — не хочет больше мешать и откланивается:
— Правда, против оксалатных камней — вы можете их увидеть вон там, во второй витрине слева — мы пока бессильны. Хотя вообще-то наша лимонная терапия, — если не возражаете, я оставлю вам проспектик, — штука простая и давно известная. Еще Геродот писал о лимонной диете, применявшейся в Вавилонии как средство от камней в почках; правда, когда он говорит о камнях величиной с голову ребенка, следует учесть, что он иной раз имел склонность к преувеличениям.
Матерн горюет над своей двойной порцией лимонного сока. Добродушные подтрунивания Завацких. Втроем они дружно листают проспект ресторана «Морг». Кого у них только нет! Тут и специалисты по болезням торакса и щитовидной железы, есть невролог, есть кто-то отдельно по простате… Плутон под операционным столом ведет себя вполне спокойно. Завацкий раскланивается со знакомым радиоторговцем и его спутницей. У стойки бара жизнь просто кипит. Медицинские жиголо, не скупясь, делятся своими познаниями. Телячья ножка, кстати, была превосходная. Что на десерт? Сыры или что-нибудь сладкое? Официанты подходят сами, не дожидаясь, когда их позовут.
Кстати, официанты — ну прямо как живые. Белые просторные кители, скупо оттеняющие свое сходство с больничными халатами, застегнуты на все пуговицы, на головах белые хирургические колпаки, на лицах белые марлевые повязки — все это придает их облику стерильную и бесшумную анонимность. И разумеется, они сервируют и разделывают блюда с говяжьей грудинкой или, допустим, со свининой в слоеном тесте отнюдь не голыми руками, а, как и положено у медиков, в резиновых перчатках. Вот это уже слишком. Инга Завацкая, правда, не согласна, но Матерн считает, что перчатки — это уже перебор.
— Где-то ведь и у шутки должны быть границы. Но у нас, как всегда, из одной крайности в другую: изгоняем бесов бесовской силой[403]. И при этом ведь все «честные маклеры», но почти без юмора, ибо здесь с неба не хватают звезд. Кроме того, наша история их ничему не учит, они все время думают — это с другими, только не с нами такое может быть. Первым делом им церкви в деревне подавай, а с мельницами сражаться — увольте. Покуда их язык глаголет: дух и мир да будут здравы! Саломея Ничто. По трупам к черту на рога. И вечно ошибались с профессией. В любую секунду готовы стать всем братьями и обниматься с миллионами. В любое время дня и ночи готовы нести в мир свой категорический как-его-там… Любая перемена их страшит. Любое счастье — не с ними. В горах обитает любая их свобода, только вот горы все выше и выше. Но при этом, конечно же, вполне возможное географическое понятие. «Зажаты страхом в жуткие тиски…» Революции всегда только в музыке и никогда в собственной глухомани. Зато наилучшие пехотинцы, тогда как артиллерия у французов… Много великих композиторов и изобретателей. Коперник-то, конечно же, никакой не поляк, а… И даже Маркс чувствовал себя не как, а как… Но всегда и во всем до сути всех вещей. Вот хотя бы эти резиновые перчатки. Ведь они, ясное дело, что-то должны значить. Хотелось бы знать, что конкретно имел в виду хозяин-немец. Если, конечно, он немец. Сейчас ведь вон, повсюду, итальянские и греческие, испанские и венгерские ресторанчики — как из-под земли. И каждый норовит что-нибудь этакое придумать. Нарезка лука в «Луковом погребке», веселящий газ в потешных кабачках — а здесь вот резиновые перчатки на этом официанте-эскулапе. Постой-ка, а ты его, часом, не узнаешь? Ведь это же… Если бы он еще свою белую тряпку с рожи стянул… Тогда… Тогда… Как же это, как же его звали, ну-ка, быстренько, листанем, где тут у нас имена, в сердце, селезенке и…
Матерн с черным псом пришел, дабы судить.
Но официант-хирург даже и не думает стягивать с рожи тряпку. Все так же инкогнито, скромно потупив очи долу, он убирает с укрытого камчатной скатертью операционного стола бренные останки разделанной телячьей ножки. Он еще вернется и в тех же резиновых перчатках подаст десерт. А гости пока что могут полакомиться корешками диоскореи из пухленьких, в форме почки, глечиков. Очень, говорят, полезные корешки, особенно от склероза. Что ж, время пока есть, Матерн посасывает обглодок корешка: так кто же это все-таки? Уж не та ли скотина, что тогда?.. Это ему и еще кое-кому ты обязан тем, что ты… А с этим у меня свои счеты. Ведь это он, я не ошибаюсь, он и никто другой был тогда четвертым номером, когда мы все вдевятером прямо из леса и через забор… Я однажды помогал ему выпутываться. Неужели Завацкий ничего не заметил? Или только делает вид, а сам все знает? Но нет, уж с этим я один. Заявлюсь прямо сюда в резиновых перчатках и с тряпкой на физиономии. Если бы он в черном был, как официанты у «Зорро», или как тогда, когда мы… Сначала-то просто черная портьера была. А мы ее ножницами чик-чик на девять треугольных платков: один для Вилли Эггерса, один для Отто Варнке, еще по одному для обоих братьев Дулеков, один еще для кого-то, Волльшлегеру один, один для Завацкого, вот он сидит, как ни в чем не бывало, или и вправду не признал, а девятый вон для того голубчика, ну погоди. Да, прямиком через забор и на участок той виллы, что в проезде Стеффенса. А после все эти собачьи годы через тот же забор каждую ночь. Девять черных платков через забор — и ты за ними. Но у них платки повязаны иначе были, чем у того. По самый лоб, только прорези для глаз. А у того — слушай, ты же помнишь его глаза! Снег был тяжеленный. Он уже тогда официантом работал, сперва в Сопоте, потом в Эдене. Ну, давай же, тащи наконец свой пудинг, у меня для тебя тоже десерт найдется. Бублиц, ну конечно! Вот у него-то с рожи я тряпку и сорву. Альфонс Бублиц. Ну погоди, милок!
Но Матерн, пришедший, дабы сурово судить и срывать с лица все и всяческие маски, никого не судит и ничего не срывает, а сидит, как пригвожденный, не в силах оторвать глаза от пудинга, поданного в прозрачных пластмассовых ванночках, какие используют дантисты. Точно и красиво — это они умеют — кондитер воспроизвел в виде пудинга человеческую челюсть, в две краски: розоватые, мясисто-припухлые десны обволокли своей упругой плотью белоснежно-жемчужные, сильные и хорошо соразмерные зубы; да, это человеческая челюсть, распадающаяся на тридцать два зуба, а именно, с каждой стороны и сверху и снизу: по два резца, по одному клыку и по пять коренных — облитых эмалью сахарной глазури. Сперва Матерн готов расхохотаться знаменитым смехом Граббе, который, как известно, мог бы и Рим уморить со смеху, — и смести своим хохотом все это заведение с лица земли; однако когда он видит, как по обе стороны от него Инга и Йохен, его гостеприимные соседи по застолью, привычно опускают каждый в свою пудинговую челюсть поданные им лопаточки в форме зубоврачебного шпателя, смех Граббе застревает у него в глотке, так и не уморив ни Рим, ни ресторан «Морг», зато в нем самом, который уже набрал в грудь воздуху, предвкушая столь редкий и столь упоительный восторг театральщины, разделанная телячья ножка начинает бунтовать против столь странного и явно лишнего десерта. Медленно поднимается Матерн со своей табуреточки. С трудом отчаливает от белоскатертного операционного стола. По пути ему приходится опереться на ящик, под стеклянной крышкой которого безучастно и ровно бьется сердце шведской кинозвезды. Лавируя между заполненными столиками, за которыми выходные костюмы и сверкающие драгоценностями вечерние платья вкушают шашлыки из печенки и телячий зоб в панировочных сухарях, он, без руля и без ветрил, держит курс наугад. Голоса как в тумане. Болтающие медицинские жиголо. Гирлянда навигационных огней над стойкой бара. Мимо расплывающихся обликов врачевателей-гуманистов Эскулапа, Зауэрбруха, Парацельса и Вирхова он в сопровождении верного Плутона выгребает дальше. Наконец-то вход в гавань — то бишь в совершенно нормальный, если не считать репродукции знаменитого «Урока анатомии» Рембрандта, туалет. Там он блюет — с чувством, с толком, целую вечность. И никто, кроме Господа Бога, — ибо Плутону приходится остаться с туалетной привратницей, — не видит его за этим занятием. Затем, уже снова в привычной сцепке с псом, он тщательно моет лицо и руки.
А после, не найдя мелочи, дает туалетной привратнице двухмарковую бумажку на чай.
— Это еще полбеды, — утешает его та. — С теми, кто в первый раз, тут и не такое бывает. — Она напутствует его советом: — Выпейте сейчас хорошего крепкого кофе и рюмашку водки — и будете снова как огурчик.
Что Матерн послушно и исполняет: из какой-то медицинской фарфоровой склянки потягивает крепчайший кофе, а из настоящей пробирки опрокидывает в себя первую — «выпей еще, иначе потом не хватит» — а вслед за ним сразу и вторую порцию «малиновки».
Инга Завацкая встревожена не на шутку:
— Что это с тобой? Или нутро уже не держит? Позвать снова того уролога или другого кого, по этой части?
Тот же официант, что прежде потчевал их телячьей ножкой, корешками диоскореи и пудинговой челюстью, сейчас принес ему кофе и водку; но Матерну уже не до имени и фамилии, что прячутся за стерильной марлевой повязкой.
В нужную минуту Завацкий успевает произнести:
— Пожалуйста, счет, господин метрдотель. Или как вас прикажете величать: господин доктор, господин профессор, ха-ха-ха?
Официант-мумия подает счет на типографском бланке свидетельства о смерти — с печатью, датой, неразборчивой подписью, личным штампом врача и отдельно указанной строчкой налоговых отчислений.
— Можно потом списать с налогов. Деловые расходы. А иначе как, если регулярно не… Эти налоговые ищейки — они же с потрохами готовы… Да уж, родимое государство заботится, чтобы мы его не…
Костюмированный официант исполняет пантомиму благодарности и провожает Завацких вместе с их гостем и его псом до дверей. Тут, на пороге, Инга Завацкая, но только не Матерн, еще раз оглядывается. Кому-то из медицинских жиголо, вероятно, биохимику, она напоследок хочет махнуть ручкой — до скорого, мол — но как-то очень невпопад, поскольку и дверь здесь необычная, двойная, а к тому же и раздвижная. Обтянутая белой кожей, лакированная, на шарнирах. Ее даже трогать не нужно, она повинуется нажатию электрической кнопки. А кнопку нажимает все тот же стерильный официант.
Оказавшись в нормальном гардеробе и помогая друг другу надевать пальто, они оглядываются еще раз: над раздвижной двустворчатой дверью светится красная надпись: ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ! ПРОСЬБА НЕ ВХОДИТЬ!
— Не-е-т! — облегченно вздыхает Завацкий на свежем воздухе. — Не хотел бы я здесь ужинать каждый вечер. Раза два в месяц, не чаще, верно?
Матерн дышит глубоко, словно вознамерился засосать в себя весь дюссельдорфский старый город с его подслеповатыми ставнями, оловянной посудой, кривой башней Святого Ламбертуса и старинным немецким литьем. Словно каждый его вдох может оказаться последним.
Завацкие всерьез беспокоятся о здоровье друга:
— Вальтер, тебе надо спортом заниматься, а то еще и вправду перекинешься ненароком.
ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СПОРТИВНАЯ И ДЕВЯНОСТАЯ ПИВНАЯ МАТЕРНИАДЫ
Болел и болею. Грипповал и гриппую. Но не холил свою горячку в постели, а потащил ее в «Горшочек» и прислонил там к стойке бара. Ничего заведение, нижнерейнский поздний стиль, все на рельсах, салон-вагон, красное дерево и латунь. Короче, между тем и вон тем до четырех сорока пяти один и тот же сорт виски в стакане, глядел, как тает лед, и внимал, о чем там жужжат все семь миксеров. Болтовня на табуретках у стойки — как сыграл «Кельн», ограничения скорости за чертой города, берлинские переговоры и все такое — а потом вдруг разругался с Маттнером, потому как начал чистилкой от своей трубки отскребать пижонскую полировку со стены: все туфта! Надо же поглядеть, что там в натуре. И притом — зажат в вагоне в жуткие тиски. Кругом одни смокинги и эти целлулоидные пипки с попками: фу-ты ну-ты, ногти гнуты. Но со мной этот номер не пройдет. В лучшем случае что-нибудь попроще, для утоления мужских печалей: чтоб накручивать долго, а раскрутить враз. Вот и вся маленькая ночная серенада. Под конец был, как говорится, за глаза и за уши. И вроде бы даже, когда Маттнер выставил всем пиво, начал декламировать за Франца Мора, акт пятый, сцена первая: «Мудрость черни! Трусость черни! Еще не доказано, что прошедшее не прошло, что есть око. Гм! Гм! Кто мне все это?.. Мститель там… Нет! Нет! Да! Да! Страшный шепот вокруг. И ты предстанешь судии еще этой ночью. Нет, говорю вам! Жалкая… в которой хочет… Пусто, безжизненно, глухо там над… Ну а если там, за ними, все же… Нет, нет! Я приказываю: нет! Там ничего нет!»
А они давай хлопать во все ладоши и щелкать в Матерна своими пудреницами: «браво!», «бис!»
— Приказываю: нет! Там ничего нет!
Что делать мстителю, когда жертвы дружески похлопывают его по плечу?
— Ну ладно, ладно, парень! Уже дошло: когда ты приказываешь, значит нет. Договорились уже, хватит! Смени пластинку. Ты, кстати, планеристом вроде когда-то был, так? Ну хорошо, хорошо, ты прав, прав: ты у нас один такой антифашист, а мы тут все сплошь маленькие грязные наци. Доволен? Так вот, разве ты не был, кто-то ведь мне рассказывал, что ты в кулачный мяч по первой лиге играл, разводящим был, так или нет?
Бронза, серебро, золото. Каждый спортсмен начищает медали былой славы. Каждый спортсмен когда-то прежде был молодцом. Завацкие, оба, но в один голос, до еды и после:
— Тебе надо больше двигаться, Вальтер. Бегай по лесу, плавай в Рейне. Ты же знаешь, у тебя камни в почках. Надо как-то бороться. Вытащи из подвала наш велосипед или купи себе за мой счет боксерскую грушу.
Но Матерна не сдвинуть со стула. Он сидит, уронив руки на колени, будто прирос, будто он собрался девять лет сиднем просидеть, как его бабка, старая Матерниха, которая девять лет парализована была, сидела в кресле и только глазами лупала. А ведь в Дюссельдорфе да и вообще вокруг сколько всего интересного: тридцать два кинотеатра, театр Грюндгенса[404], Королевская аллея вдоль и поперек, молодое пиво, заново отстроенный старый город, городской парк с прудами-лебедями, музыкальное объединение имени Баха, художественное объединение, зал Шумана, выставка-продажа мужской одежды, карнавал одиннадцатого одиннадцатого[405] в одиннадцать одиннадцать, а уж стадионов, спортплощадок… Завацкие перечисляют их все подряд:
— Поезжай во Флинген, погляди, какой там стадион «Фортуна» — и не только футбол, там все, что хочешь.
Но ни один вид спорта — а Завацкий перечисляет их столько, что пальцев двух рук не хватает — не способен оторвать его от стула. И тут вдруг случайно — супруги уже почти отступились — кто-то из них вспоминает про кулачный мяч. Неважно, кто шепнул эти слова — Инга или Йохен, а может, даже малышка Валли, веселая побегушка. Как бы там ни было, а он тут же встает. В тот миг, когда Дюссельдорф и весь мир собирались уже махнуть на него рукой, Матерн встает и делает шаг по ковру, упругому и толстому, как бумажник. Точные и непринужденные движения. Изумленный треск в суставах. И вот уже он мечтательно сотрясает воздух:
— Братцы, как же давно это было — кулачный мяч! Да, тридцать пятый — тридцать шестой, стадион Генриха Элерса. Технический институт справа, труба крематория слева. Мы все турниры выигрывали, чесали всех подряд: и фехтовально-гимнастическое объединение, спортклуб «Данциг», «Шельмюлль-98» и даже школу полиции. Я же за младопруссаков центрового играл, под канатом. И был у нас отличный разводящий. Он любой мяч вытаскивал и подносил мне как на блюдечке, причем запросто так, будто играючи. Говорю вам — тащил все и с полнейшим хладнокровием, принимал снизу и мячик за мячиком мне выкладывал, а мне что, только заколачивай, косыми, прямыми, резаными, как хошь, лишь бы в площадку. А перед самой войной и тут успел поиграть, за «Атлетов» Унтеррат, пока меня… Ну да ладно, об этом лучше не надо.
До Унтеррата и сегодня недалеко, с площади Шадова на двенадцатом до Ратингена, оттуда по Графенбергской аллее до производственных корпусов фирмы «Ханиль и Люг», поворот налево, к Мойзенбройху, мимо палисадников и городского лесопарка, мимо Ратербройха и богадельни прямиком к Ратскому стадиону, небольшому и уютному сооружению у подножья Апервальдской горы. Та стоит во всей красе, открывая вид на близлежащие сады и полускрытый за ними в обычной своей дымке город: индустриальная и церковная архитектура в запоминающемся контрасте. Строительные котлованы, строительные ограждения, а прямо напротив, массивной громадой — фирма «Маннесманн», И в городе, и на стадионе на всех спорт-и-стройплощадках кипит жизнь. Где-то всенепременно трамбуют гаревую дорожку. Гандболисты-юниоры затеяли неумелую перепасовку, бегуны на три тысячи метров торопятся улучшить личные рекорды; а на совсем отдельной небольшой площадке, в стороне от стадиона, под сенью нижнерейнских тополей, смотри-ка, и правда кулачный мяч: первая мужская Унтеррата против первой мужской Дерендорфа. Встреча, похоже, товарищеская. Площадка уютная, защищена от ветра, однако «Атлеты» из Унтеррата проигрывают. Матерн и пес определяют это с ходу. И даже знают, почему: центровой у каната никуда не годится, к тому же не сыгран с разводящим, который, кстати, может, не так уж и плох. Защитникам не худо бы, конечно, подтянуть удар с задней линии, но этот, под канатом, абсолютно безнадежен. Левый краек, кстати, ничего еще, но его редко подключают к атаке. И вообще — команде явно недостает хорошего разводящего, потому как этот — почему-то он кажется Матерну очень знакомым, но, наверно, все дело в форме, да и вообще ему в последнее время очень уж многие кажутся знакомыми — этот довольствуется лишь тем, чтобы абы как поднять мяч в воздух, а дальше пусть к нему бежит кто хочет — оба защитника, центровой, все, кому не лень; не удивительно, что дерендорфцы, средненькая, в общем-то, команда, этим пользуются: лупят почем зря в образующиеся «дыры». Единственно вот левый краек — и его ведь Матерн тоже где-то когда-то видел — играет строго по месту и хорошими ударами тыльной стороной кулака хоть как-то поддерживает престиж «Атлетов». Ответная партия тоже заканчивается поражением хозяев; они хоть и поменяли местами своего центрового с правым защитником, но и тот до самого финального свистка на новой позиции толком не освоился и чудес не сотворил.
Матерн с псом стоит у выхода с площадки; всякий, кто направляется в раздевалку, не сможет укрыться от его испытующего взгляда. Игроки приближаются, небрежно перебросив через плечо спортивные костюмы, а он уже не сомневается. Сердце его стучит. Что-то давит на селезенку. Болят, болят проклятые почки. Да, это они. Когда-то такие же, как он, унтерратские юниоры: Фриц Анкенриб и Хайни Тольксдорф. Еще тогда, сколько-то собачьих лет тому назад, Фриц играл разводящим, а Хайни был крайком, слева от Матерна, который под канатом хозяйничал — какое нападение было! Да и команда в целом — ведь и защитники тогда, как же их звали, тоже были классные. Разделывали под орех и кельнскую студенческую сборную, дюссельдорфскую молодежную СС, пока вдруг в один прекрасный день все не накрылось, потому как… Вот сейчас я ребяток и поспрошаю, помнят ли они, почему тогда и кто меня, и не был ли это, часом, некто Анкенриб, который меня, и даже Хайни Тольксдорф был тогда за то, чтобы меня…
Но прежде чем Матерн успевает провозгласить: «Я пришел с черным псом, дабы…» — Анкенриб уже вопит ему чуть ли не в ухо:
— Да быть не может! Это ты или не ты? Посмотри-ка, Хайни, кто пришел взглянуть на нашу позорную игру! А я еще когда сторонами менялись, подумал: стоп, откуда же я его знаю? Лицо, фигура — ну прямо знаю и все! Так-то ты совсем не изменился, вот только сверху. Да что там, годы никого не красят. Когда-то мы были надеждой Унтеррата, а теперь что — проигрываем направо и налево. Господи, вот времечко было! Полицейский спортивный праздник в Вуппертале! Ты у каната. И раз за разом этим легавым из Херны мячом под ноги — хрясть! Тебе обязательно надо зайти в наш кабачок, там до сих пор все фотографии висят и грамоты. Покуда ты у нас у каната стоял, нас никто не мог, зато потом, — верно, Хайни? — сразу вниз покатились. И больше уже так и не поднялись по-настоящему. И правильно, все по заслугам. Гребаная политика!
Групповой портрет: трое и прыгающий вокруг пес. Пса они посадили посередке, перебирают победы, припоминают поражения, без обиняков выкладывают, что да, это они тогда в правлении клуба, чтобы, значит, дисквалифицировать.
— Ведь просили же тебя помалкивать! Хоть ты, конечно, во многом был прав тогда…
Нескольких замечаний в раздевалке, пусть даже вполголоса, оказалось достаточно.
— Если б ты это сказанул у меня дома или еще где, я бы просто уши заткнул и все, а то, глядишь, даже и поддакнул бы, но там: спорт и политика никогда не ладили, и сейчас не ладят.
Матерн цитирует:
— Это ты сказал, Анкенриб: «Без центрового, который разводит жидовско-большевистскую агитацию, мы вполне можем обойтись.» Говорил?
Хайни Тольксдорф спешит высказаться:
— Мы все были обмануты, мой милый, все до единого. И ты тоже говорил когда так, а когда и совсем иначе. Они нам годами мозги пудрили. И нам же потом расплачиваться пришлось. Задних наших помнишь — малыша Рилингера и Вольфика Шмельтера? В России полегли. Оба. Господи, твоя воля! И ради чего, ради чего?
Постоянный кабачок унтерратских «Атлетов» стоит, где всегда стоял — во Флингерне. Здесь, в кругу четырех-пяти старых знакомых, Матерна дружески, но настойчиво уговаривают припомнить подробности игры в Гладбахе, четвертьфинала в Ваттеншайде, ну и, конечно, незабываемого финала в Дортмунде. Уголок, где приютился постоянный столик друзей, отнюдь не обделен спортивными реликвиями, так что Матерн может полюбоваться собой в амплуа центрового на двенадцати командных снимках, все в рамочках и под стеклом. Вот здесь, черным по белому, написано: с осени тридцать восьмого до лета тридцать девятого в составе «Атлетов» (Унтеррат) играл Вальтер Матерн. Всего-то семь месяцев — а сколько триумфальных следов! А какие густые и непокорные у него были волосы! И всегда такой серьезный. Всегда выделяется, даже если не совсем в центре стоит. А вот и грамоты: коричневые завитушки тогдашнего поздравительного шрифта под тогдашним гербовым орлом.
— Ну нет, уж его-то надо было заклеить. Видеть не могу эту тварь. Воспоминания воспоминаниями, все это очень славно, но только не под этим вонючим партийным орлом!
Что ж, предложение можно обсудить. Ближе к ночи, — пили пиво с можжевеловкой, — старые друзья совместными усилиями вырабатывают образцовый компромисс: Хайни Тольксдорф одалживает у хозяина тюбик клея и, подбадриваемый радостными криками присутствующих, заклеивает обыкновенными пивными пробками изображение гербового орла, раз уж из-за него такой сыр-бор. Матерн же в ответ должен дать торжественное обещание — товарищи по команде ради такого случая встают — никогда впредь ни словом не поминать ту дурацкую давнюю историю, а наоборот, — ну что, по рукам? — снова выйти центровым в составе первой мужской «Атлетов» (Унтеррат).
— Главное — чтобы добрая воля была. Надо уметь подстраиваться. Забыть о том, что нас разделяет, а тому, что объединяет — честь и хвала. Если каждый маленько уступит, распрям и раздорам конец. Потому как подлинная демократия немыслима без готовности к компромиссу. Мы все не без греха, все вместе, были и участвовали. Кто первым бросит камень? Кто может сказать про себя: я без! Кто тут считает себя непогрешимым? А коли так — отвяжитесь. Мы, унтерратские атлеты, всегда. А поэтому первым делом за наших товарищей, которые в России, в чужой земле. А потом за здоровье нашего доброго старого, который снова сегодня с нами, так что в конечном счете за старую и новую спортивную дружбу. Я поднимаю этот бокал…
Каждый тост — предпоследний. Каждая круговая тянется бесконечно. Каждому мужчине вольготней всего в мужской компании. Под столом пес Плутон лижет пивные лужицы.
Так что все вроде опять в ажуре. Инга и Йохен не нарадуются, когда Вальтер Матерн демонстрирует им свою новехонькую, с иголочки спортивную форму.
— А фигура, фигура-то у него, ты погляди только!
Но фигура — одно, а игра — совсем другое. Форму, понятное дело, так сразу не наберешь. Так что сходу ставить его к канату смысла нет. Но и для защиты он пока тяжеловат — стартовая скорость не та, а в середке, разводящим, тоже не тянет, вернее, все тянет только на себя, всеми хочет командовать, а вот строить игру, мяч с толком к канату набрасывать — это ему не дано. Куда бы защитники с задней линии мяч ни направили, он считает, что это все ему, у своих же партнеров верные мячи из-под носа крадет и большую часть к тому же запарывает. Этакий виртуоз-одиночка, играет только за себя, своими «фирменными» ударами из центра площадки то и дело создавая противнику возможность «убивать» мячи наверняка и с удобствами. Куда ж его ставить-то, ежели центровым вроде пока рановато?
— Ему только под канатом место.
— А я говорю вам, ему сперва вработаться надо.
— Такому только у каната играть, больше негде.
— Но для каната ему бы скоростишку подтянуть…
— Зато рост у него в самый раз для центрового.
— Ему бы во вкус войти, а там уж разыграется.
— А разводящим — больно уж мастерится.
— Ну ладно, поставим его впереди, а там видно будет.
Но и впереди, у каната, Матерну лишь иногда удаются его коронные убойные удары противнику под ноги. Редко, очень редко застает он врасплох оберкассельцев или первую мужскую Дерендорфа своими коварными резаными мячами — впрочем, когда такой мяч по низкой косой траектории вонзается в площадку противника с непредсказуемым и абсолютно неберущимся отскоком, вот тогда чувствуется, каким центровым был Матерн в свое время. Анкенриб и Тольксдорф только растроганно кивают:
— Ребята, какая у него была раньше колотушка! Жалко.
И не теряют терпения. Они заботливо обслуживают друга пасами, они аккуратно, как на блюдечке, выкладывают ему мячи, которые тот нещадно запарывает. Просто беда с ним.
— Но все равно: что значит спортивный характер! Через столько лет снова на площадку выйти — это не каждый сможет. А ведь у него к тому же нога. Хоть и незаметно почти, но как-никак ранение. Надо, Хайни, как-нибудь по-умному ему отсоветовать. Скажи ему так, примерно: «Знаешь, Вальтер, дружище, по-моему ты просто малость потерял интерес. Оно и понятно. На свете куча более важных вещей, чем за унтерратских „Атлетов“ под канатом гробиться. Но может тебе, для разнообразия и чтобы не так сходу завязывать, следующую игру или там через одну — судьей попробовать?»
Друзья осторожно наводят для Матерна мосты к отступлению.
— Да ради Бога! Всегда пожалуйста! С превеликим удовольствием. Должен быть благодарен, что вы меня вообще. Я для вас все сделаю: хотите на линии отсужу, протокол там, могу и главным. Может, мне вам еще кофе приготовить или за лимонадом сгонять? А что, можно будет прямо с настоящим свистком?
На самом-то деле Матерн давно этого хотел. Да это же просто его призвание — принимать ответственные решения.
— Мяч не засчитывается. Заступ. Девятнадцать — двенадцать в пользу Верстена. Потеря подачи. Я же правила назубок знаю. Еще пацаном совсем, у нас дома, на стадионе Генриха Элерса… Ой, ребята, какой у нас тогда был разыгрывающий! Толстый, веснушчатый увалень, но быстрый, легкий на ногу, как многие толстяки, и при этом само спокойствие. Ему все было нипочем. И всегда в отличном настроении. Вот он, как и я, все правила знал. При подаче обе ноги подающего должны находиться за лицевой линией площадки. В момент соприкосновения кулака подающего с мячом хотя бы одна нога подающего должна находиться в соприкосновении с землей. Подача несформированным кулаком или с оттопыренным большим пальцем правилами запрещена. При приеме подачи противника каждый из игроков имеет право только на одно касание, команда в целом — не более чем на три касания, причем перед каждым касанием мяч может иметь не более одного отскока от площадки, но не от каната и не от столбов, только от площадки, кулаков и рук до плеча, — эх, сыграть бы хоть разок снова вместе с Эдди, он разыгрывающим, я под канатом! — при нарушении этих правил мяч не засчитывается и игра прерывается двойным свистком, что означает: «Мяч проигран!»
Кто бы мог подумать: Матерн, пришедший с черным псом, дабы судить, наконец-то обретает судейское поприще на спортплощадке и даже исхитряется выдрессировать своего зверюгу в судью на линии: всякое попадание мяча в аут Плутон четко фиксирует лаем. Матерн, прежде непримиримый к врагу, напрочь забыл о супротивниках, для него теперь есть только команды на площадке, равно подвластные правилам, одинаковым для всех без исключения.
Былые товарищи по команде, Фриц Анкенриб и Хайни Тольксдорф, восхищены своим другом. И не устают расхваливать его в правлении клуба, а особенно в команде юниоров:
— Вот с кого вам надо брать пример. Как только он понял, что уже не тот, — тут же, никому слова худого не сказав, уступил свое место под канатом другому и сам бескорыстно предложил свои услуги в качестве судьи. Вот был бы тренер для вас, лучше не придумаешь! Всю войну прошел. Три боевых ранения. Одних штрафных батальонов сколько! Да он только рассказывать начнет — вы рты пораскрываете и больше не закроете никогда.
Кто бы мог подумать: Матерн, пришедший судить ветеранов Анкенриба и Тольксдорфа, превратился теперь в беспристрастного арбитра: он отвергает предложенные ему в порядке дружеского подкупа подставки на фирме «Маннесманн», которые с лихвой могли бы прокормить хозяина и его собаку, и стоит теперь, сама неподкупность с овчаркой на поводке, окруженный стайкой унтерратских юниоров. Ребята в синих тренировочных костюмах обступили его почтительным полукругом, а он — тоже в тренировочном костюме, но бордового цвета — выставив перед собой для наглядности кулак, объясняет премудрости ударов тыльной и внутренней сторонами. И пока он, уже опустив кулак, демонстрирует слушателям ударные поверхности тыльной стороны кулака и внутренней части запястья, воскресное утреннее солнышко ослепительно сияет на его голом лысом черепе — но это только отражение. Унтерратские юниоры ждут не дождутся, когда же им можно будет применить в деле почерпнутые у Матерна познания: его теперь уже горизонтально вывернутый кулак показывает плоскости и точки соприкосновения с мячом при выполнении ударов снизу и особенно коварного резаного удара. А напоследок, после бодрой, в охотку проведенной тренировочной игры и отработки стартовой скорости защитниками с помощью специальных упражнений, он рассказывает юниорам свои истории из военных и мирных времен. Темно-синие тренировочные костюмы образуют вокруг своего бордового тренера хотя и непринужденно сидячий, но напряженно-заинтересованный полукруг. Наконец-то хоть кто-то всерьез взялся за молодежь. Ни один вопрос не упадет безответно на газон спортплощадки. Матерн во всем разбирается. Он знает, почему дошло до такого; какой была неразделенная Германия и какой могла стать; и кто несет историческую вину за все это; и где сегодня пристроились вчерашние убийцы; и что надо делать, против чего выступать, чтобы никогда впредь не доходило до такого. Он умеет с молодежью. Из любой идейной каши извлечет чеканный и доходчивый вывод. Лейтмотивы — красной нитью и кровью. Лабиринты превратит в магистрали. Когда тренер Матрен говорит: «Вот это и есть наше и поныне не преодоленное прошлое» — унтерратские юниоры только в нем, своем наставнике, видят того, кто способен это прошлое преодолеть. В конце концов, он ведь это давно уже проделывает, раз за разом:
— Когда я, например, этого присяжного чрезвычайного суда, а потом и самого судью привлек к ответу, оба этих мерзавца тут же у меня пардону запросили, вот ведь как, а этот районный партийный секретаришко Зелльке в Ольденбурге, который раньше строил из себя ого какую птицу, как увидел меня вместе с псом, так сразу в слезы…
Вообще, упоминания о псе Плутоне, который неизменно тут как тут, когда полукругом рассевшееся юношество постигает суть прошлого и настоящего, играют в нескончаемой педагогической поэме роль рефрена: «И когда мы с псом к Везеру… Пес был при мне, когда в Альтене, что в Зауэрланде… Пес свидетель, что я в Пассау…» Ребята рукоплещут, слушая, как Матерн низверг очередного «из бывших». Они в восторге: тут тебе и тренер, и живой пример в одном лице. Жаль только, что во время этой вполне нужной и полезной заупокойной по нацизму Матерн не устает поминать, причем отнюдь не только в придаточных предложениях, неизбежность победы социализма.
«Какое отношение имеет Маркс к кулачному мячу?» — единодушно недоумевает правление клуба.
«Имеем ли мы право допускать, чтобы на наших спортплощадках возделывалась питательная почва для оголтелой пропаганды с востока?» — вопрошает уже в письменном виде смотритель стадиона, адресуясь со своим вопросом к руководству спортклуба «Атлеты» (Унтеррат).
— Наша спортивная молодежь не намерена терпеть далее подобные безобразия, — настаивает почетный председатель клуба на заседании в кабачке. Матерна он знает еще с довоенных пор. — С ним уже и тогда были те же самые сложности. Не умеет жить в коллективе. Портит моральный климат.
По его, председателя, мнению, которое дружно поддержано кивками присутствующих и негромкими репликами типа «Совершенно справедливо!», настоящий унтерратский спортсмен должен не только с большой физической самоотдачей совершенствовать свое мастерство, но и сохранять в чистоте свой духовный облик.
И вот, в который раз за столько собачьих лет его не слишком пока что продолжительной жизни, дело Матерна опять разбирается судом чести. Точно так же, как когда-то младопруссаки со стадиона Генриха Элерса и потом штурмовики отряда СА «Лангфур Север», «Атлеты» из Унтеррата принимают решение вторично вычеркнуть имя Матерна из списков членов своего клуба. Как и в тридцать девятом году: исключение из клуба, запрет на посещение арены, принято столькими-то голосами «за» при двух воздержавшихся. Воздержались только бывшие товарищи Матерна по команде Анкенриб и Тольксдорф, что воспринято присутствующими с молчаливым, но всеобщим одобрением. В заключение почетный председатель подытоживает:
— Пусть радуется, что мы оставляем всю эту историю между нами. В прошлый-то раз делу был дан ход, и расследовалось оно на Кавалерийской улице, если вам это о чем-нибудь говорит.
НЕ ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ. ИНАЧЕ СПОРТ ЗАЙМЕТСЯ ТОБОЙ.
О, Матерн, сколько же еще поражений тебе предстоит списать со счетов по графе побед! Какая среда тебя не выплюнула — после того, как ты ее покорил? Выпустят ли когда-нибудь в качестве учебного пособия для школ карты обеих Германий, где, как и положено, двумя скрещенными сабельками будут отмечены все твои битвы и сражения? Будут ли говорить: победа Матерна под Витценхаузеном выявилась утром такого-то?.. На следующий день после битвы при Билефельде победителя Матерна чествовал Кельн на Рейне. Победа Матерна в Дюссельдорф-Рате имела место третьего июня 1954 года… Или твои победы не войдут в учебники истории строчками дат и скрещенными сабельками на картах, а останутся в устном предании, в полусказочной молве бабушек, окруженных стайками внучат и внучек: «И тогда в сорок седьмом собачьем году, в это собачье время пришел к нам один бедолага с собакой, и хотел наделать дедушке неприятностей. Но я взяла этого типа за плечи, он, кстати, совсем неплохой малый оказался, и отвела в сторонку, и очень скоро он стал у меня как шелковый, как котенок прямо, ласковый, только что не мурлыкал…»
Инга Завацкая, например, уже сколько раз помогала Матерну после очередной победы подняться, вот и сейчас, когда надо перевязать раны, полученные на поле Унтерратской битвы, она, конечно, тут как тут. Она знала, что так и будет. Инга умеет ждать. Каждый воин рано или поздно приходит домой. Каждая женщина встречает с распростертыми объятиями. Каждая победа жаждет триумфального чествования.
Даже Йохен Завацкий вынужден это признать. Поэтому он говорит жене своей Инге:
— Делай то, без чего ты все равно не можешь.
И вот они оба, наша классическая любовная пара, Вальтер и Инга, делают то, без чего они все равно не могут. Квартира-то огромная. Кстати, теперь, изрядно потрепанный жизнью, Вальтер доставляет Инге гораздо больше удовольствия, чем в прежние времена: в ту пору ей стоило лишь глазами в него стрельнуть чуть ниже пояса — и орудие в сей же миг было готово к ответному огню и поражало цель куда быстрей, чем требовалось. И вечно эта погоня за рекордами: «Сейчас ты у меня увидишь! У меня в любое время — и мигом. Я могу с тобой хоть семь номеров отмочить, а потом еще на Фельдберг взобраться». Это уж от природы. Матерны все такие были. У Симона Матерны, к примеру, в любой час, даже когда он на коне был и черным мстителем сеял смерть между Диршау, Данцигом и Эльбингом, в любой час у него кто-нибудь на передке болтался. Тот еще был мститель. А про брата его, Грегора Матерну, и сегодня в данцигском городском архиве можно прочесть, как «после всех своих злодеяний, убийств и пролития многой крови христианской, Матерна тот не угомонился и по осени пошел на Данциг, чтобы и там творить всяческие непотребства и повесить за шею Клауса Бартуша, причем виселицею спроворил собственный надроченный дрын, такой твердый, что все разбойники и торговые люди, кто был, диву давались». Во какой был мужик, да и мне раньше, еще в армии, если не здоровенного детину, то уж пятикилограммовую гирю точно можно было на палку вешать, а я бы и с гирей тебя все равно ублажил, причем по-быстрому и на полную катушку.
Поздно, поздно. Да к тому же это ведь не гвозди в стенку заколачивать. Мягко, неторопливо, бережно она показывает ему, в чем разница:
— Только без паники, времени у нас еще много. Это ведь самые лучшие годы, когда потенция успокаивается и начинаешь дорожить ей все равно как сберкнижкой. В конце концов, на свете есть и другие удовольствия, не только это. Могли бы, например, в театр сходить, раз уж ты и сам когда-то на сцене… Не хочешь? Ладно, тогда в кино или вон пойдем с Валли поглядим праздничное шествие на день Святого Мартина: «Фонари-фонарики, луна и солнце словно шарики…» Там очень красиво бывает, а потом на Кайзерверте кофе попьем, на Рейн полюбуемся. Можем и на шестидневные автогонки в Дортмунд, туда и Завацкого можно взять. И на Мозеле я еще ни разу не была, когда там сбор винограда. Ах, какой замечательный у меня был год с тобой! Этим я еще долго кормиться буду. И сдается мне, ты теперь более уравновешенный, не то, что раньше. Даже пса иногда дома оставляешь. Конечно, бывает и наоборот, как вот недавно на последней ярмарке, ну, выставка-продажа мужской верхней одежды, когда ты на толстого этого коротышку наткнулся, Земрау его фамилия, — ты тогда прямо рассвирепел и вы долго потом с ним и с Йохеном у нас за стендом, как ты говоришь, дискутировали. Но потом выпили по паре пива, и ничего, а Йохен с этим Земрау даже сделку заключил: полупальто, очень была приличная партия. Или в Кельне на масленицу, когда карнавальное шествие, колоссальное, больше часа шло и все не кончалось — и вдруг тележка, а на ней ветряная мельница, как настоящая, а вокруг мельницы монашки пляшут да рыцари при всех доспехах. И все без голов! Головы у них либо под мышкой, либо они ими вообще перебрасываются. Только я у тебя собралась спросить, что это они такое олицетворяют, а тебя уж и след простыл, ты уже через заграждение прорваться норовишь прямо к монашкам этим самым. Хорошо еще, тебя не пропустили. Еще неизвестно, чего бы ты там над ними учинил, а они над тобой, потому как когда у них карнавал, тут шутки в сторону. Но ты, правда, быстро утихомирился, а потом на вокзале очень даже весело было. Помнишь, ты вырядился этаким средневековым головорезом, Завацкий был у нас одноглазый адмирал, ну, а я — вроде как разбойничья невеста. Жалко, фотография получилась нерезкая. А то сразу было бы видно, какой у тебя теперь животик, радость моя. Вот что значит пригляд и уход. Ты у меня прямо как огурчик стал, с тех пор, как спорт свой… Просто это все не для тебя — объединения эти, собрания. Ты всегда сам по себе — каким был, таким и остался. А с Йохеном потому только ладишь, что он все делает под твою дудку. Он даже против атомной бомбы, раз ты против и что-то там подписал. Но я тоже против, мне тоже подыхать неохота, особенно теперь, когда мне с тобой так хорошо. Просто я люблю тебя. Да ты не слушай. Я могла бы даже дерьмо твое, потому что я тебя, ты понял? Все, все в тебе. И как ты в стенку смотришь, и как рюмку держишь. И как ты сало режешь на весу. И когда говорить начинаешь как на сцене и руками Бог весть что. Голос твой, твое мыло для бритья, и когда ты себе ногти, и походку твою — ты ведь идешь, как будто у тебя встреча не знамо с кем. Потому как иной раз я совсем не знаю, что у тебя на уме. Но это ерунда. И вообще не слушай, что я тут… Но вообще-то мне очень хочется знать, как ты раньше, с Йохеном, когда вы вместе… Только не надо сразу на меня зубами. Я же сказала — не слушай. Слушай, кстати, на Рейнском лугу ведь стрелковый праздник, слышишь? Пойдем? Завтра? Без Йохена? До шести я завтра на той стороне, в филиале. Ну, скажем, в семь у Рейнского моста. На том берегу.
Итак, Матерн идет на свидание. И даже без пса. Старина Плутон, его теперь уже рискованно брать в город, еще под машину угодит. Матерн идет быстро, решительно, прямым курсом, ибо ему надо быть к определенному часу. Он купил себе черешни, целых полкило. Теперь он выплевывает косточки прямо по курсу. Встречным прохожим приходится уклоняться. Черешни и минуты тают на глазах. Только когда идешь через мост пешком, понимаешь, какая могучая река Рейн: от планетария на дюссельдорфской стороне до оберкассельского берега — почти полкило черешен. Он выплевывает косточки, боковой ветер относит их в сторону Кельна, но Рейн подхватывает их и тащит в Дуйсбург, если не дальше. Черешня за черешней бежит и черешню погоняет. Почему-то вкус черешни пробуждает ярость. Иисус, когда мытарей из храма, тоже сперва полкило черешни. И Отелло, прежде чем Дездемону, тоже полкило, не меньше. И братья Моры, оба-два, изо дня в день, даже зимой. Так что если бы Матерну довелось играть Иисуса, Отелло или там Франца Мора, пришлось бы ему перед каждым спектаклем по полкило, не меньше. Сколько же ненависти вызревает с ними, сколько консервируется в компотах? Они только выглядят этакими круглыми милашками; при ближайшем рассмотрении каждая черешня — злой треугольник. А уж вишни — от них вообще зубы сводит. Как будто ему это нужно. Мысли быстрее, чем плевки. Впереди него канцелярские крысы после трудового дня, держатся за шляпы и даже оглянуться… А которые оглядываются назад, быстро смекают, чей это взгляд. И только Инга Завацкая, у которой сегодня тоже свидание, бесстрашная и пунктуальная, строит глазки все более грозно приближающемуся Матерну. Откуда ей знать, что он почти полкило черешни слопал. Нестерпимой белизной сияет ее новенькое, сверху узкое, внизу широкое летнее платьишко. Талия все еще пятьдесят четыре, правда, с поясом. И ожидание без рукавов тоже еще может себе позволить. Ветер лижет юбку, обнимает Ингины коленки — четыре с половиной радостных шажка на легких итальянских сандалетках, улыбка, порыв: и косточка-пуля прямо в белый лиф платья, аккурат посередке. Но Ингу Завацкую так просто не прошибешь, стоит, как бравый солдатик:
— Я не опоздала? За пятнышко спасибо, очень кстати. Ты прав, сюда просилось что-то алое. Это были вишни или черешни?
Ибо кулек уже израсходовал всю свою ярость. Так что изрыгатель черешневых косточек может спокойно бросить его на землю.
— Хочешь, я тебе куплю, вон киоск?
Но Инга Завацкая хочет только:
— Гигантские шаги! Гигантские шаги!
Так что через парк прямо туда. Вместе со многими, кто торопится туда же и кого даже пересчитывают. Описание парка и его типичной среды, однако, выпадает, поскольку мороженого Инга не хочет, стрелять не умеет, американские горы нравятся ей только в темноте, комнаты ужасов и кривых зеркал надоели, так что только гигантские шаги, всегда и сколько угодно.
Но он сперва выбивает для нее в тире две розы и тюльпан. Потом ей с ним приходится потрястись на «автодроме». Он, внешне совершенно непроницаемый, размышляет тем временем о людских массах — «Человек-масса», было такое название[406] — материализме и трансценденции. Напоследок выбивает с трех выстрелов для Валли маленького желтого медвежонка, который, правда, не умеет рычать. Теперь еще ему надо — наспех, стоя — выпить два пива зараз. А после он должен купить ей жареный миндаль, неважно, хочет она или нет. Теперь по-быстрому еще по мишеням: две восьмерки, одна десятка. И только после всего этого, наконец-то, можно и на гигантские шаги, но не сколько угодно.
Вот они, крутятся-вертятся, никуда не убежали. Карусель заполнена лишь на треть и вообще постепенно выходит из моды. Но Инга любит все старомодное. Она собирает часы с боем, танцующих медведей, силуэты, китайские тени, жужжащие юлы, переводные картинки и будто рождена для карусели «гигантские шаги». Она и платье, и даже белье специально для этого карусельного тура обновила. Черт с ней с прической, коленки тоже сжимать не будем — ибо кто так горяч, как Инга Завацкая, и в любую минуту носит при себе маленькую печурку, тот любит и себя, и печурку на ветру подержать. Зато вот он, Матерн, не любит испытывать на себе закон всемирного тяготения. Две с половиной минуты по кругу, даже если ты повернулся в другую сторону, — все равно по кругу и только вперед, пока музыка не кончится. А Инга уже хочет «Еще! Еще!» — ей опять надо подержать на ветру себя и свою печурку. Ну ладно, нельзя же портить ей удовольствие. Мало какую женщину можно ублажить столь же быстро и столь же недорого. Так что лучше осмотрись-ка вокруг, пока тебя крутит по кругу. Все время одна и та же кривая кособокая башня Святого Ламбертуса — это Дюссельдорф на том берегу. Все время одни и те же рожи там внизу — с мороженым и без, стоят, тиская в руках все, что купили, выиграли на аттракционах и в тире, и ждут, когда же Матерн остановится и вернется. Человек-масса верит в него, трепещет при одном его появлении. Мудрость черни! Трусость черни! — там, внизу, все на одно сливающееся лицо. Пенсия в сердце, джунгли — но без клыков и когтей, дурман желаний в стерильной упаковке, словом, ни то, ни се, но подавайте мне все. И пиво тоже. Что ж, по мне — так и изюм в батон, ради Бога. Бытийнозабытые взыскуют эрзац-трансценденции. Однообразный узор из честных налогоплательщиков, все как на подбор — кроме одного. Да, один выпадает. Один-единственный зацеп в ткани — но выпадает. Круг за кругом — цепляет за мозги. Вроде и шляпа стрелковая как у всех, а все-таки, да вон он, снова пропал, а вот опять, и снова нету — этот вольный стрелок совсем особенный. О, эти имена! Да это же, постойте, ну ясное дело, это же, секундочку, вон опять, и пропал! — тебя-то мне и недоставало: ничего, сейчас эта забава кончится, господин майор полиции. Уже, уже, радость тихо замирает, господин майор полиции Остерхюс. Что, на карусельке захотелось прокатиться? Самого себя, как преступника, по кругу погонять — себе же на потеху? Ну, так как, Генрих, садишься или нет?
Несколько вольных стрелков не прочь покататься, но этот, особенный, именно что прочь. То есть совсем недавно он, может, был и не прочь, но теперь, когда кто-то с останавливающейся карусели на ходу спрыгивает и его имя-фамилию на весь свет орет, да еще и звание, хотя срок давности истек, — у нынешнего депутата городского совета охота пропадает вмиг, и он именно что стремится прочь. Не любит он теперь, когда его окликают господином майором полиции. Даже старым друзьям не дозволено. Потому как это было давно и к делу сейчас не относится.
Сколько раз видено, и даже в кино снято: нет ничего легче, чем удирать от погони на стрелковом празднике. Братишки вольные стрелки стоят повсюду, все в одинаковых стрелковых шляпах — наполовину лесническая, наполовину зюйдвестка — и все в любую минуту готовы прикрыть товарища. Даже немного пробежаться рядом, чтобы отвлечь волка на ложный след. Подурачить волка, разбегаясь в разные стороны, как зайцы, чтобы волку пришлось двоиться, троиться, расчетверяться… Эх, надо было Матерну выходить на охоту на Остерхюса вшестнадцатером. Хватай его! Ату! Держи! Вор у вора! Эх, отчего он не прихватил с собой Плутона, тот бы взял след! Эх, ему бы не Ингино платье, ему бы майора полиции тех давних, ребродробительных лет пометить черешневой косточкой!
— Остерхюс! Остерхюс!
Не оборачивайся — там кулек черешни по пятам!
Лишь после часа поисков и окликов — он чуть ли не полк вольных стрелков перехватал за пуговицы, чтобы потом разочарованно отпустить — он все-таки выходит на след: смятая и растоптанная фотокарточка валяется в примятой траве. А на ней — не сват и не брат, и не какой-нибудь там захудалый вольный стрелок — на ней неподсудный за давностью лет майор полиции Остерхюс, который в тридцать девятом лично и собственноручно допрашивал Вальтера Матерна в подвале Полицейского президиума на Кавалерийской улице.
С этой фотографией в руках — очевидно, вольный и беглый стрелок обронил ее из кармана — Матерн обходит пивные палатки. Пусто! А может, он специально ее выбросил — улика все-таки. Теперь, с уликой в руках, Матерн рыскает по балаганам, шурует палкой под фургонами. А над Рейнским лугом уже темнеет, белое Ингино платьишко следует за ним по пятам, почтительно и боязливо, и хочет теперь на американские горки — он же, одержимый Остерхюсом, заходит в последнюю пивную. Но если своды остальных палаточных шатров вздулись от пения и пьяного шума парусами восторга, то под сенью этого необычно тихо.
— Т-с-с! — шикает на него прямо с порога распорядитель. — Мы фотографируемся.
Усталые Вальтеровы подошвы топчут прокисшие от пива опилки на полу. Ни складных стульев, ни столиков в ряд. Но взгляд, взыскующий Остерхюса, замирает: что за картину, что за фото собрался снимать наемный фотограф! На подмостках в мертвой тишине воздвиглись рядами и ярусами от пола до самой парусиновой крыши сто тридцать два вольных стрелка. Передние на коленях, те, что за ними, сидят, следующие стоят, а совсем задние каким-то образом возвысились над стоящими. Сто тридцать два вольных стрелка надели свои стрелковые шляпы — наполовину леснические, наполовину зюйдвестки — с легким наклоном вправо. Стрелковые шнуры и украшения распределены по справедливости.
Да-да, ничья грудь не отсвечивает ярче других, ничья не глядится пятном бедности, не сто тридцать один вольный стрелок и один король стрелков, отнюдь: сто тридцать два стрелковых собрата одинаковыми напряженно-приветливыми лукавыми ухмылочками лыбятся Матерну, а он, с фотокарточкой в руках, должен найти и выбрать. Всякое сходство чисто случайно. Всякое сходство заведомо отрицается. Всякое сходство с готовностью и стотридцатидвукратно подтверждается: ибо от пола и до самой парусиновой крыши рядами и ярусами на коленях, сидя, стоя и возвышаясь над стоящими в стрелковой шляпе с легким наклоном вправо однократной съемкой запечатлевается на фото стотридцатидвукратный вольный стрелок Генрих Остерхюс. Семейный портрет, так сказать… Стотридцатидвухняжки.
— Готово, господа! — восклицает наемный фотограф.
Сто тридцать два Генриха Остерхюса, не спеша, поднимаются со своих мест, расходятся, болтают, покачиваются от пива, спускаются с подмостков и, разумеется, норовят тотчас же стотридцатидвукратно пожать руку давнему знакомцу из славного стотридцатидвукратного майор-полицейского прошлого.
— Ну, что, как живем-можем? Опять, значит, в наших краях? Ребра, надо надеяться, все хорошо срослись? Да, суровые, прямо скажем, были времена. Мы все, все сто тридцать два, готовы засвидетельствовать. Кто не в ногу — тому никакого спуска, да. Зато ребятки хотя бы голос подавали, стоило как следует за них взяться. Не то что сегодня — при нынешних-то слюнтяйских методах.
И тут, обратив вспять стопы свои на прокисших от пива опилках пола, Матерн пускается в бегство.
— Куда же, куда же так скоро, дружище? Такая встреча, надо бы обмыть!
Стрелковый праздник изрыгает Матерна на волю. О, небосвод, источенный звездами! Стойкое Ингино платьишко и Господь Бог поджидают его снаружи. Под их покровом и защитой он и встречает новый день на Рейнском лугу, и лишь тогда Инге удается успокоить своего клацающего зубами возлюбленного.
ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ ПОЛУПРОВИДЧЕСКАЯ МАТЕРНИАДА
Какой, спрашивается, прок от чугунной башки, когда все стены предусмотрительно расступаются сами? Разве это дело для мужчины — ломиться в открытые двери? Наставлять потаскух на стезю благодетели? Ковырять дырки в швейцарском сыре? Кому охота вскрывать старые раны, когда это доставляет окружающим одно удовольствие? Или копать другому яму, чтобы он потом тебя же оттуда и вытаскивал? Боксировать с тенью? Гнуть английские булавки? Вгонять гвозди в каучуковых врагов? Выписывать фамилии целыми телефонными или адресно-справочными книгами? Умерь свою месть, Матерн! Не тревожь понапрасну старого пса Плутона, не тащи его из-за печки. Кончай свою денацификацию! Заключи, наконец, мир со всем этим миром или сопряги императив своих почек, сердца и селезенки с гарантией твердого ежемесячного заработка. Ведь что-что, а лентяем ты никогда не был. Давно уже загружен полный день на всю катушку: бродить, списывать, снова бродить. Давно уже трудишься на пределе, а то и за пределом сил: брать женщин, бросать женщин… А что ты еще умеешь, Матерн? Чему научился перед зеркалом и против ветра? Громко и отчетливо произносить текст со сцены. Ну так почисти зубы, войди во все образы и стучись тройным заветным стуком в режиссерские двери: дай ангажировать себя на амплуа характерных героев, Франца Мора, Карла Мора или кого тебе еще там захочется, и скажи прямо в лицо всем этим ярусам, бельэтажам и тучнокресельному партеру: «И не далек тот день, когда я произведу вам жестокий смотр»[407].
Слишком уж глупо. Нет, Матерн все еще не готов превращать свою месть в ремесло, к тому же не больно прибыльное. Он по-прежнему просиживает кресла в доме Завацких, лелея зевоту и пустые замыслы. Влачится из комнаты в комнату, таская за собой свои почечные камни. Друзья его терпят. Возлюбленная приглашает его в кино. Когда он вместе с псом и по велению долга выходит из дому, прохожие стараются не оглядываться. Как еще должна пришибить его судьба, чтобы он, Скрыпун неуемный, перестал, наконец, донимать людей скрежетом зубовным в спину?
Но вот в пятьдесят пятом году, когда всем детишкам, рожденным в первом мирном, то бишь сорок пятом году, исполняется по десять, на рынке массового спроса появляется некая дешевая вещица. Секретный, но отнюдь не запретный механизм ее реализации отлично смазан и потому работает без лишнего шума. О новинке не оповещают газетные объявления, взгляд не наткнется на нее ни в одной витрине, и она не так проста, чтобы продаваться в магазинах детской игрушки или крупных универмагах; ни одна торговая фирма не рассылает ее наложенным платежом; однако между балаганными киосками по праздникам, на детских площадках и перед школами внезапно, как из-под земли, возникают легконогие уличные торговцы со своим удивительным товаром; всюду, где собираются дети, но и перед ремесленными училищами и техникумами, перед студенческими общежитиями и интернатами, перед университетами и институтами можно купить игрушку, предназначенную для детей и юношества от семи до двадцати одного года.
Дабы не напускать таинственности на и без того загадочный предмет, скажем сразу: речь идет об очках. Не о каких-то сомнительных «окулярах», при посредстве которых можно, якобы, видеть все на свете неприличности во всех позах и красках. Нет, отнюдь не об этом изделии злокозненного подпольного фабриканта, удумавшего растлить все послевоенное немецкое юношество, пойдет речь. Никакого повода информировать компетентные органы, а тем, в свою очередь, принимать вынужденные и неотложные меры. Ни один священник не рискнет произнести с кафедры грозную обличительную притчу. И тем не менее покупателям предлагаются по ценам намного ниже рыночных отнюдь не обычные очки для устранения заурядных дефектов зрения, о нет, — по цене пятьдесят пфеннигов за штуку в количестве, по примерным прикидкам, около одного миллиона четырехсот тысяч экземпляров на немецкий рынок выброшены очки не простые, не растлительные, но и не целительные. Позже, после того, как в федеральных землях Гессен и Нижняя Саксония расследованием этого дела занялись специально созданные комитеты, правильность предварительных прикидок была подтверждена официально: некая фирма «Брауксель и К°», юридическое местонахождение в Гизене под Хильдесхаймом, выпустила один миллион семьсот сорок тысяч экземпляров оных очков, совершенно незаслуженно подвергшихся теперь гонениям, и один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч плюс (с точностью до единицы) еще триста двенадцать штук этих конвейерных изделий сумела реализовать. Очень даже приличный куш, особенно если учесть, что производственные расходы были невелики: оправа — зауряднейшая пластмассовая штамповка. И только стекла, хоть они и нуждались в шлифовке не больше обычных оконных, потребовали длительной разработки: высококвалифицированные оптики, обучавшиеся в Йене, а потом сбежавшие из республики, предоставили фирме «Брауксель и К°» свои специальные знания; однако «Брауксель и К°» — кстати говоря, фирма с солидной репутацией — легко может доказать обоим комитетам, что ни один из оптиков не проводил недозволенных лабораторных изысканий, но что тем не менее небольшая, приданная основному производству стекольная фабрика выпускает стекло совершенно особого, а потому, конечно, и запатентованного состава: к общеизвестной смеси кварцевого песка, соды, глауберовой соли и известняка добавляется ничтожно малое, до грамма выверенное и содержащееся в строжайшем секрете количество слюды — той, что добывается из слюдяных гнейсов, слюдяных сланцев и слюдяного гранита. Короче говоря, это не дьявольское варево и вообще никакая не алхимия, есть отзывы признанных химиков, подтверждающие научную сторону процесса. Так что начатые правительствами федеральных земель Нижняя Саксония и Гессен специальные расследования приходится прекратить; и тем не менее какая-то чертовщинка — может, все дело как раз в слюдяных зайчиках? — в этих безделушках есть, но только для юношества, только в возрасте от семи до двадцати одного года фокус срабатывает, а фокус в очках имеется, такой фокус, что ни взрослые, ни дети раскусить не могут.
Как очки называются? Да самые разные наименования в ходу, причем ни одно из них не дано разработчиком. Фирма «Брауксель и К°» предпочитает распространять свои изделия среди юношества в виде безымянных игрушек, чтобы затем, когда к ним приходит коммерческий успех, воспользоваться наиболее удачными наименованиями для рекламной кампании.
И вот Матерн, держа за ручку маленькую, теперь уже восьмилетнюю Валли Завацкую и слоняясь по дюссельдорфскому рынку, впервые слышит о «чудо-очках». Маленький, невзрачного вида человечек, который с тем же успехом мог бы продавать пряники, бритвенные лезвия или подозрительно дешевые шариковые ручки, скромно стоит с полупустой картонной коробкой в руках аккурат между киоском с пампушками и прилавком с рождественским печеньем.
Но ни слева от него, где бушуют жирные луково-картофельные ароматы, ни справа, где не скупятся на сахарную пудру, нет такой толкучки, как возле пустеющей на глазах картонной коробки. Продавец, явно сезонник, и не думает громко зазывать, он еле шепчет:
— Чудо-очки — нацепишь на нос и видишь насквозь.
Но это название, — «чудо-очки», — сколь бы сказочно оно ни звучало, больше предназначено для взрослых, для тех, кто уже завел свой бумажник; среди же подрастающего поколения давно просочилось и передается из уст в уста, что это за чудо такое и в чем оно, собственно, состоит: тринадцатилетние шкеты и шестнадцатилетние пигалицы называют игрушку по большей части «сквозными очками»; школяры старших классов и только что обучившиеся автомеханики, но и студенты первых семестров говорят об «опознавательных очках». Менее употребительны и, очевидно, не детско-юношеского происхождения наименования «знай папу», «знай маму» или еще «семейный обличитель».
Таким образом, исходя из последнего названия, можно сказать, что очки, выбрасываемые на рынок фирмой «Брауксель и К°», делают проницаемым семейное прошлое. Папу, маму и вообще всякого взрослого члена семьи, кому перевалило за тридцать[408], очки позволяют увидеть насквозь, познать и, хуже того, разоблачить. И только тот, кому в пятьдесят пятом году еще нет тридцати, но и двадцать один уже миновал, может сохранять беспристрастность, не имея возможности разоблачать, но и быть разоблаченным младшими собратьями. Да разве можно столь грубыми арифметическими методами решать проблемы отцов и детей? И надо ли понимать дело так, что эти беспристрастные, как-никак девять полновесных годовых поколений, попросту списаны со счетов за неспособностью к познанию первичных истин? Неужто фирма «Брауксель и К°» берет на себя смелость таких решений? Или, может, нас хотят уверить, что современные аналитики рынка научились с такой точностью угадывать и, главное, удовлетворять запросы подрастающих послевоенных поколений?
Но и по этому спорному пункту юрист фирмы «Брауксель и К°» может, как выясняется, представить отзывы специалистов, компетентность и социологическая оснащенность которых полностью развеивает сомнения обоих правительственных комитетов. «Встреча продукта с потребителем, — так сказано в одном из этих отзывов, — просчитываема в своих последствиях лишь до того событийного момента, покуда потребитель сам не начнет продуктивную деятельность, преобразовав приобретенный продукт в собственное средство производства, то есть придав ему принципиально иное и неустановимое данным анализом качество.»
Скептики могут качать головами сколько угодно; но, как бы там ни было и какие бы мотивы ни повлияли на решение выпускать чудо-очки, успех этой сенсации сезона неоспорим и существенно повлиял на изменения социальной структуры западногерманского общества, независимо от того, были ли эти структурно-потребительские изменения намеренными, как уверяет Шельский[409], или нет.
Юношество начинает прозревать. Даже если большая половина сбытых очков уже вскоре после их приобретения уничтожаются родителями, ибо те ничего хорошего от новой детской забавы не ждут, — все равно остается примерно семьсот тысяч очкариков, которым дана возможность с чувством, с толком, с расстановкой разглядывать своих родителей в истинном свете. Особенно хороши для этого занятия минуты после ужина, семейные выезды за город, но и просто созерцание из окна — задумчиво, сверху вниз, в сад, где предок ходит кругами за газонокосилкой. Инциденты, так или иначе связанные с очками, регистрируются по всей территории Федеративной Республики; однако особая, пугающая их насыщенность отмечена только в федеральных землях Северная Рейн-Вестфалия, Гессен и Нижняя Саксония, тогда как на юго-востоке и в федеральной земле Бавария очки поступают в торговлю более равномерно. И лишь в федеральной земле Шлезвиг-Гольштиния, за исключением Киля и Любека, есть целые районы, где никаких происшествий с очками не зафиксировано, поскольку там в округах Ойтин, Рендсбург и Ноймюнстер местные власти не побоялись сходу, целыми коробками конфисковать очки у торговцев. А уж соответствующее «неукоснительное распоряжение» оформили задним числом. И хотя фирме «Брауксель и К°» удается взыскать возмещение ущерба, однако лишь в городах Киле и Любеке, да еще в окрестностях Итцехоэ очки благополучно находят покупателей, давая тем возможность увидеть образ, родительский образ, в истинном свете.
Так что же, если конкретно, видится сквозь эти чудо-очки? Проведенные опросы принесли не слишком интересные результаты. Представители юношества, родительский облик в чьих глазах благодаря очкам сильно преобразился, в большинстве своем просто отказываются говорить. Впрочем, все они признают, что чудо-очки раскрыли им глаза. Вообще же опросы на спортплощадках или у дверей кинотеатров проходят примерно так:
— Ну так скажите нам, молодой человек, как подействовало на вас ношение очков нашей фирмы?
— Да что тут говорить? В общем, после того, как я эти очки пару раз надел, я теперь все, что касается моих предков, очень ясно вижу.
— Нас интересуют конкретные детали. Говорите, пожалуйста, без стеснения и открыто все как есть. Мы представляем фирму «Брауксель и К°». В интересах наших клиентов и в целях дальнейшего усовершенствования очков…
— Нечего в них усовершенствовать. Очки в полном ажуре. Я же уже сказал. Пару раз глянул — и все ясно вижу. Так ясно, что дальше некуда.
И хотя все опрашиваемые от точных ответов уклоняются, одно не подлежит сомнению: невооруженный юношеский взгляд видит отца совсем иначе, нежели тот же взгляд, но в оптическом прицеле чудо-очков. Далее удалось установить: чудо-очки показывают пытливому юношеству прошлое родителей в череде сменяющихся картин, нередко — при надлежащем старании и навыке — в хронологической последовательности. С особой четкостью и наглядностью демонстрируются те эпизоды, которые по тем или иным причинам от подрастающего поколения утаивались. Но и в этом отношении опросы, проводимые как фирмой «Брауксель и К°», так и органами образования, почти никаких результатов не принесли. Тем не менее — и поразительным образом — есть основания считать, что с помощью чудо-очков открывается отнюдь не так уж много эротических тайн (тут обычно дело не идет дальше самых заурядных интрижек на стороне), но зато в двойном контуре чудо-очков «знай папу» воспроизводятся все насильственные действия, совершенные, допущенные, причиненные одиннадцать — тринадцать лет назад. Убийства, нередко сотнями. Пособничество к. Спокойный перекур и созерцание, покуда. Испытанные, награжденные, овеянные почестями и славой убийцы. Лейтмотивы красной нитью и кровью. С убийцами за одним столом, в одной лодке, в одной постели и в казино. Тосты и походные предписания. Записи в личных делах. И обязательно дохнуть на печать. Иногда это просто подписи и корзины для бумаг. Много путей ведут к. Слова и молчание могут. И каждый отец хотя бы одно скрывает. Многое почти что и не совершалось, так и осталось бы шито-крыто-позабыто, если бы на одиннадцатом послевоенном году не появились на рынке чудо-очки и не выставили бы всех злодеев на всеобщее обозрение.
Нет-нет, никаких частностей. Разве что тот или иной юноша соглашался на статистическую обработку ново-приобретенных познаний; но получаемый в результате материал держится от сыновей и дочерей в строжайшем секрете — точно так же, как хранившие скромное молчание отцы и матери запрятывали его куда подальше, на дно самых глубоких своих сновидений. Немаловажным затрудняющим фактором является порой и стыд. Внешнее сходство с отцом нередко порождает боязнь сходства не только внешнего. Кроме того, многие гимназисты и студенты не хотят подвергать риску свое образование, зачастую оплачиваемое родителями ценой немалых жертв, и поэтому предпочитают не требовать от родителей никаких объяснений. Не исключено, что кто-то — разумеется, не сама фирма «Брауксель и К°», — но тот, кто изобрел чудо-очки, сумев извлечь из слюдяных гнейсов слюдяные искорки и запустить их в оптические стекла, этот некто, очевидно, предвидел последствия своего изобретения и даже, возможно, возлагал на них определенные надежды. Однако опасаться восстания детей против родителей все же не стоит. Чувство семьи, инстинкт самосохранения, трезвый расчет, а также слепая любовь к своим как бы выставленным на поругание родителям — все это воспрепятствует новой революции, которая в противном случае подарила бы истории нашего столетия не один сенсационный газетный заголовок: «Новый вариант детских крестовых походов!» — «Организованные группы подростков заняли кельнский аэропорт Ваан!» — «Законы о чрезвычайном положении вступают в силу!» — «В ходе кровавых столкновений в Бонне и Бад-Годесберге силы полиции и подразделения бундесвера лишь к утру смогли…» — «Радио земли Гессен, за исключением нескольких примыкающих строений, находится…» — «К настоящему времени установлено сорок семь тысяч подростков, в том числе и восьмилетних детей…» — «Волна самоубийств бушует среди блокированных в районе Лауэнбурга на Эльбе…» — «Франция выполнит договор о выдаче преступников…» — «Малолетние зачинщики кровавого мятежа уже признались в том…» — «После завершения запланированных акций по очистке территории завтра с обращением к народу по всем программам…» — «Продолжается розыск коммунистических агентов — организаторов и руководителей восстания.» — «После первоначальных болезненных колебаний курса биржа…» — «В Цюрихе и Лондоне также зафиксирован спрос на немецкие акции и ценные бумаги…» — «Шестое декабря объявляется днем немецкого национального траура.»
Ничего похожего. Правда, увеличилась детская заболеваемость. Немалое число девочек и мальчиков не могут выносить вида родительских пальчиков. Они бегут из дома: заграница, иностранный легион, все как обычно. Некоторые возвращаются. В Гамбурге за короткое время зафиксировано четыре, в Ганновере два, в Касселе шесть самоубийств, что вынуждает фирму «Брауксель и К°» незадолго до праздника Святой Пасхи приостановить производство так называемых чудо-очков.
Прошлое, высветившись в течение нескольких месяцев, снова и, как можно надеяться, теперь уже навсегда, погружается во тьму. И единственно только Матерн, о котором здесь, в матерниадах, идет речь, несмотря на противодействие обстоятельств, приходит к вразумлению; ибо едва он успевает на дюссельдорфском рождественском рынке купить своей дочурке Валли эти модные чудо-очки, дитя тут же нацепляет их на нос: только что Валли еще смеялась и радостно грызла пряник, но стоило ей глянуть на Матерна через очки — и она тут же роняет пряник, бросает перевязанные золотой тесемкой пакеты с подарками, орет благим матом и кидается наутек.
Матерн с псом — за ней. Но оба они — ибо через очки Валли в жутком и истинном свете видит и пса — только еще больше пугают девочку, когда настигают ее уже почти у самых Ратингских ворот. Прохожие, сочувствуя захлебывающемуся криком ребенку, требуют от Матерна подтвердить свое отцовство. Возникают осложнения! Уже высказаны кое-какие гипотезы типа: «Ясное дело, чего он от ребенка хочет! Да вы только поглядите на него. У него на роже все написано. Ах ты поганец!» Тут, наконец, сквозь собравшуюся толпу пробивается полицейский. Требует предъявить документы. Выслушиваются свидетели — кто что видел, кто чего не видел. Валли по-прежнему в очках и все еще продолжает орать. Патрульная машина доставляет Матерна, пса Плутона и до смерти перепуганную девочку к дому Завацких. Но и в привычной обстановке родительской квартиры, в окружении своих многочисленных и дорогих игрушек, Валли по-прежнему не по себе, потому что взгляд ее все еще скован очками: и не только Матерна и его пса, но и Йохена и Ингу Завацких ребенок видит в новом, ясном и жутком свете. Ее крик заполоняет детскую, заставляя пса Плутона залезть под стол, а взрослых цепенеть от ужаса. Но это не просто крик, это еще и слова, пусть искаженные всхлипами, но вполне осмысленные. Валли что-то лепечет про снег и про кровь, много снега и кровь на снегу, и зубы, тоже в крови, и этот милый толстый дяденька, которого папа и дядя Вальтер, а с ними еще другие дяди, жуткие такие все, бьют и бьют кулаками, особенно дядя Вальтер, бьют и бьют милого толстого дяденьку, который уже не может стоять, только в снегу, потому что дядя Вальтер…
— Не смей! Так нельзя! Нельзя бить и обижать — ни людей, ни цветы, ни животных! Это запрещено, всюду! А кто так делает, не попадет на небо! Боженька все видит! Прекрати! Прекрати сейчас же!
Лишь когда Инге Завацкой удается снять с рыдающей девочки очки, она мало-помалу перестает неистовствовать; но и часы спустя, уже в кроватке, среди своих любимых кукол, она продолжает всхлипывать. Ей измеряют температуру — повышенная. Вызывают врача. Тот отметает предположения о начинающемся гриппе и прочих детских болезнях, а сразу заподазривает нервный шок, вызванный чем-то непредсказуемым и ставший причиной срыва, а посему рекомендует покой, взрослых просит держаться от ребенка подальше, если же не наступит улучшения, девочку придется госпитализировать.
Похоже, все к тому и идет. Два дня и две ночи жар не спадает, с мрачным однообразием воспроизводя одно и то же бредовое видение: снег пластом, кровь ручьем, бьют кулаком, толстый дяденька падает, шлепается снова и снова, куда? — да конечно же в снег, потому что дядя Вальтер, но и папа тоже, его в снег, а он зубы выплевывает, один, два, пять, тринадцать, тридцать два! — Пересчитывать с девочкой эти зубы — нет больше сил! Поэтому Валли вместе с двумя ее любимыми куклами перевозят в госпиталь Марии. А мужчины, Завацкий и Матерн, остаются сидеть дома — но, конечно, не возле зияюще пустой детской кроватки, нет, они сидят на кухне и пьют стаканами, пьют, что называется, до упаду. Любовь к кухонному застолью Завацкий сохранил невзирая ни на что; и если день-деньской он сугубо деловой человек, образцово и с иголочки облаченный в почти немнущееся добротное сукно, то вечерами он с наслаждением шаркает в шлепанцах от холодильника к плите и держится за подтяжки. День-деньской он изъясняется на энергичном и деловом литературном немецком, которому остатки военной лексики придают сочную выразительность и столь необходимую для экономии времени краткость. Как говаривал когда-то большой военный мыслитель Гудериан[410], прежде чем двинуть вперед свои танки: «Не рассусоливать надо, а рубить с плеча!» — так вслед за ним и Йохен Завацкий теперь слово в слово то же самое повторяет, прежде чем завалить рынок партией однобортных пиджаков; но к вечеру, на кухне, наевшись ноздреватых оладьев и водрузившись на шлепанцы, как на котурны, он любит порассуждать обстоятельно, с чувством, с толком и не торопясь про то, «что тогда стряслось в мае и как оно было на самом деле на нашей холодной родине.» И прежде неугомонный Вальтер Матерн тоже начинает помаленьку ценить кухонный уют. Сквозь хмельные слезы друзья-товарищи хлопают друг друга по плечу. Неразбавленный шнапс и взаимная жалость увлажняют им очи. Гоняют туда-сюда по кухонному столу свою межеумочную вину и если в чем и расходятся, так только в датах. Матерн, например, считает, что то-то и то-то случилось в июне тридцать седьмого; Завацкий на это возражает:
— А я тебе говорю: точно в сентябре. Кто бы нам тогда шепнул, что это все так гнусно кончится.
Но оба твердо уверены, что в принципе уже тогда были против.
— Знаешь, если начистоту, наш штурмовой отряд по сути был чем-то вроде убежища для внутренней эмиграции, да. Ты вспомни, вспомни, как мы там у стойки философствовали. Вилли Эггерс там был, Дуллеки братья, Францик Волльшлегер само собой, Бубиц, Хоппе и Отто Варнке. А ты все, помню, талдычишь и талдычишь про эту свою бытийность, покуда мы совсем не отрубимся. Эх-ма, была не была! А теперь что? Что теперь? Родное дитё приходит и прямо тебе в лицо: «Убивец! Убивец!»
После этой или подобной ламентации под низким кухонным потолком на некоторое время повисает мертвая тишина, — только закипающая вода для кофе бесшабашно насвистывает свою легковерную песенку, — покуда Завацкий не заводит снова-здорова:
— А в общем и целом, ну скажи, Вальтер, голубчик, разве мы это заслужили? Заслужили мы такое? Нет, говорю я тебе! Нет, нет и еще раз нет!
Когда почти месяц спустя Валли Завацкую выписывают из больницы, так называемых чудо-очков в доме не обнаруживается, — исчезли. Хотя ни Инга Завацкая их в помойное ведро не выбрасывала, ни Йохен с Вальтером на кухне их не видали, — разве что пес разгрыз, прожевал, проглотил… Но Валли и не спрашивает о пропавшей игрушке. Девочка тихо сидит за своим письменным столом и, поскольку она много пропустила в школе, прилежно занимается. Валли посерьезнела и стала немножко ледышкой, зато она теперь уже умеет складывать и умножать. Все надеются, что девочка, быть может, забыла, из-за чего она посерьезнела и стала немного ледышкой, почему она больше не прежняя Валли, резвая и веселая хохотушка. Потому как именно для этого ее и помещали в больницу: хороший уход, чтобы Валли поскорее забыла. Именно это стремление становится постепенно главной жизненной задачей всех заинтересованных лиц: забыть! Слова, воровато запихнутые в носовые платки, полотенца, наволочки и даже в подкладку шляпы — каждый должен уметь забывать. Ведь забывчивость так естественна. В памяти должны жить одни приятные воспоминания, а не эти мучительные пакости. Но это, конечно, тяжкий труд — вспоминать только положительное. Поэтому у каждого должно быть что-то, во что он смог бы поверить: например, Бог; или, если в Бога он не может, тогда пусть Красота, Прогресс, Доброе Начало в Человеке и вообще любая Идея.
— Здесь, на западе, мы лично твердо верим в Свободу и всегда верили.
Значит, активность. Забвение как продуктивная деятельность. Матерн покупает себе самый большой ластик, садится посреди кухни на стул и принимается стирать все уже списанные и еще не списанные имена из сердца, почек и селезенки. И пса Плутона, этот уже дряхлый, но все еще передвигающийся на четырех лапах живой кусок прошлого, он хочет продать, сдать в питомник — стереть; но кто купит, кто возьмет старую животину? К тому же мать и дитя категорически против. Инга Завацкая не позволит ни за что на свете, она уже привязалась, постепенно. Валли плачет и обещает снова заболеть, если пса… Так что пес остается — черный и непроницаемый. Да и имена оказывают самому большому ластику Матерна упорное сопротивление. К примеру: стоит только одно стереть и крошки ластика с селезенки сдунуть, как за чтением газеты тут же натыкаешься на новое — этот, оказывается, теперь пишет о театре. Вот что бывает, если заниматься двумя делами сразу — стирать имена и в то же время читать газету. У каждой статьи имеется автор. И у этой тоже — сразу видно, знаток своего дела. Этот достиг таких высот познания, что шпарит прямо как по-писаному: «Театр нужен человеку в той же мере, в какой и человек нужен театру.» Но чуть ниже он уже сетует: «Вот в каком состоянии возрастающего отчуждения пребывает сегодня человек.» И это при том, что он твердо знает: «История человечества находит свое оптимальное отражение в истории мирового театра.» Но если, как он опасается, «театр трехмерного пространства вновь уступит место плоской сценической картинке», тогда тому господину, который подписал свою статью инициалами Р.Ц., ничего другого не останется, как вместе с великим Лессингом воскликнуть: «Ради чего тогда убиваться над драматургической формой?» Статья его одновременно предостерегает и увещевает: «Театр не тогда прекратит быть театром, когда человек перестанет быть человеком, нет, совсем наоборот: закройте театры — и человек перестанет быть человеком!» И вообще, словечко «человек» этому господину Рольфу Цандеру — Матерн знает его еще из своих театральных времен — явно полюбилось. Вот, к примеру: «Человек грядущих десятилетий…» Или еще: «Но все это предъявляет чертовски суровые требования к человеку.» А вот и полемически: «Обесчеловеченный театр — никогда!» И при этом ведь нынешний Р.Ц., то бишь доктор филологии Рольф Цандер — в прежние времена он заведовал репертуарной частью в городском театре в Шверине — даже не связан со своим «театральным призванием» по долгу службы, таковым долгом он в качестве консультанта с недавних пор связан с западногерманским радио, но оная деятельность, видимо, ничуть не мешает ему пописывать статьи для субботних приложений многих крупных газет: «Недостаточно просто показать человеку катастрофу, нет: всякое потрясение остается всего лишь самоцелью, если оно не изливается в экзегезу, покуда очистительное воздействие катарсиса[411] не сорвет венок с нигилизма и не осенит хаос ясностью единого смысла.»
Итак, спасение гуманно подмигивает между строк. Вот, оказывается, к кому должен обратиться Матерн, у которого в голове сплошной хаос, тем паче, что человека этого он хорошо знает, еще с давних пор, поэтому и имя Рольф Цандер где-то у него вырезано, то ли в сердце, то ли на селезенке, то ли в почках, и никаким ластиком, даже новеньким, только что из магазина, эту надпочечную надпись не стереть.
Каждый человек где-то проживает. Рольф Цандер — не исключение. Работает он в новом шикарном здании Кельнского Радио, а вот проживает — так нашептывает телефонная книга — в кельнском предместье Мариенбург.
Итак, с псом или без пса? Чтобы судить или чтобы просить совета в нелегкой и хаотической человечьей юдоли? Месть в кармане или скромный гуманный запрос? И то, и другое. Не может Матерн остановиться. Он ищет работы и отмщения одновременно. Пусть дремлют в одном кулаке привет и ответ. Врага и друга он навестит с одинаково черной псиной. Но он, конечно, не заявится просто так, возгласив с порога: «Вот он я, Цандер, на радость тебе иль на погибель!» — нет, сперва он долго рыщет — «не оборачивайтесь, там…» — вокруг дома и старого сада, решив для начала погубить если уж не самого бывшего заведующего репертуарной частью, то хотя бы деревья у него в саду.
И вот однажды жарким грозовым августовским вечером (да-да, тут все сходится: дело было в августе, была жара, а потом началась гроза) он вместе с псом перемахивает через ограду и приземляется на рыхлую почву цандеровского сада. А с собой у него не топор и не пила, а всего лишь белый порошочек. В чем-в чем, а уж в ядах Матерн знает толк! У него по этой части опыт имеется: трех часов не прошло — а Харрас уже отмучился. И никаких там вороньих глаз и прочей цыганской чертовщины — обыкновенный мышьяк, и все дела. На сей раз мышьяк предназначен для растений. От дерева к дереву мечется тень человечья, а за нею — тень собачья. Изящный прыгучий танец в честь матери-природы. Менуэт и гавот определяют последовательность движений среди темно-зеленого мрака цандеровского сада, этого дивного парка, где обитают гномы и нимфы, а в сплетениях ветвей запечатлелись любовные объятия. Танцевальные поклоны завершаются всякий раз изысканным движением протянутой руки: на драконьи корни могучих дерев Матерн сыплет белый порошок, даже не бормоча при этом никаких заклинаний. Правда, зубоскрежещет, как всегда, одну и ту же свою песенку:
Не оборачивайтесь — там Скрыпун за вами по пятам!Да где уж там деревьям-то оглянуться! Они даже листвой шуршать не в силах, потому как под душным небом ни ветерка. Не вскрикнет сорока. Не всполошится сойка. Не хихикнут замшелые барочные куртизанки. И даже богиня Диана с охотничьим псом возле резвой ноги не оглянется и не натянет тетиву смертоносного лука — зато из сумрачно-философских глубин паркового грота сам господин Цандер собственной персоной обращает к вдохновенному сеятелю яда таковы слова:
— Кого я вижу? Матерн, вы ли это? Бог ты мой, и какому мирному занятию вы предаетесь: разбрасываете искусственные удобрения на корни моих вековых исполинов! По-вашему, они еще недостаточно вымахали? Впрочем, вам еще тогда была свойственна тяга ко всему гигантскому. Это ж надо, искусственные удобрения! Как трогательно, хотя и абсолютно бессмысленно. Вот только погоду вы не учли. Сейчас над миром, садом и над нами, человеками, гроза разразится. И первые же капли ливня смоют и унесут все следы ваших самоотверженных садовнических усилий. Но не будем медлить! Порывы ветра уже возвещают непогоду! Там, наверху, первые капли уже оторвались, и летят, летят… А посему могу ли я просить вас, а с вами и эту замечательную особь собачьей породы, пожаловать в мое скромное жилище?
После чего слабо сопротивляющегося Матерна берут за рукав и ведут по направлению к спасительной кровле. Последние метры, уже по гравию, приходится почти бежать. Только на веранде беседа возобновляется:
— Бог ты мой, до чего же тесен мир! Как часто я о вас вспоминал: интересно, а что поделывает Матерн? Этот натуральный здоровяк, этот, с вашего позволения, отчаянный бражник и сумасброд? И вот вы тут, стоите посреди моей комнаты, трогаете мои книги и мебель, осматриваетесь по сторонам, как и ваша собака, отбрасываете оба настоящую тень и вообще присутствуете во плоти и крови и во всей человеческой явности. Добро пожаловать!
Как торопится экономка господина Цандера разлить по чашкам крепкий, настоящий мужской чай. Коньяк тоже приготовлен. Быт, вездесущий и неописанный, опять берет свое. Покуда за окном, говоря словами господина Цандера, гроза захватила всю сцену, здесь, в тепле и сухе, в уютно насиженных креслах продолжается неспешный и весьма полезный разговор людей театра:
— Но друг мой, — хорошо, конечно, что вы сразу заговорили о наболевшем, — однако, уверяю вас, вы заблуждаетесь и горько обижаете меня своими подозрениями. Признаю: да, это я, на беду или на благо вам, досрочно расторг ваш договор со шверинским городским театром. Однако причина, по которой с вами так обошлись, по которой с вами пришлось так обойтись, была вовсе не политического, как вы сейчас полагаете, а совсем иного, как бы это сказать помягче, — заурядно алкогольного свойства. Понятно, все мы любим приложиться к рюмочке. Но эта ваша тяга к крайностям! Если совсем начистоту: и сегодня, в условиях нашего полудемократического полуотечества, любой сколько-нибудь ответственный режиссер, любой завлит или помреж волей-неволей поступили бы точно так же: вы же пьяным являлись на репетиции, пьяным и без текста приходили на спектакли, срывали спектакли! Ну конечно, еще бы мне не помнить ваши громоподобные обличительные речи! Ничего, уже тогда ничего не имел против их содержания и эмоциональной силы, однако категорически возражал и сегодня продолжаю возражать против времени и места этих ваших неистовых декламаций. И это при всем моем безусловном уважении — как-никак вы неоднократно, сотни раз и вслух произносили то, что все мы тогда думали, не решаясь, правда, высказать это публично. При всем моем восхищении, и сегодня, и тогда, вашим беспримерным мужеством, должен отметить, однако, что состояние крайнего алкогольного опьянения, в котором вы очень многие неприятные вещи называли тогда своими именами, лишало ваши поступки должной действенной силы: заявления и жалобы, все больше от рабочих сцены, скапливались у меня на столе грудой, я колебался, улаживал, но в конце концов вынужден был принять меры, не в последнюю очередь ради вашего же блага, чтобы вас защитить, да-да, защитить; уволив вас за обычные дисциплинарные нарушения, я помог вам распрощаться со Шверином, где вам уже опасно было оставаться, одному Богу известно, что бы они с вами могли сделать. Вы же знаете, Матерн, эти люди тогда, если уж кого брали, шутить не любили. Жизнь простого человека и ломаного гроша не стоила.
За окном театральный гром грохочет без устали. А здесь, в тепле и сухе, Матерн размышляет, как сурово повернулась бы его жизнь, если бы не друг человечества доктор Цандер. За окном целительный проливной дождь смывает убийственный яд с корней всеведущих парковых исполинов. А здесь, внутри, пес Плутон порыкивает на кого-то в своих собачьих снах. Там, за окном, шекспировский дождь льет как из ведра. А тут, в тепле, конечно же, тикают часы, да не одни, а целых трое старинных часов тикают не в унисон, заполняя томительную паузу, повисшую между бывшим заведующим репертуарной частью и бывшим характерным молодым героем. Шумовые эффекты грозы за рампу ни ногой. Напряженное облизывание губ. Потирание висков. Внезапно, будто озаренный изнутри вспышкой молнии за окном, Рольф Цандер, искушенный в беседе хозяин, снова напоминает о себе:
— Бог мой, Матерн! А вы помните, как вы у нас на показе декламировали? Франц Мор, акт пятый, сцена первая: «Мудрость черни! Трусость черни!» Вы были неподражаемы. Нет-нет, правда, это было что-то особенное. Сам Иффланд[412] не смог бы завывать лучше. Открытие сезона, молодое дарование прямо из Данцига, который подарил миру не одного замечательного артиста — вспомните о Зёнкере, да и о Дитере Борше, если угодно. Да, вы пришли к нам молодым, нерастраченным, подающим надежды. Если не ошибаюсь, вашим учителем ведь был милейший, нет, правда, и как человек, и как коллега, милейший Густав Норд, столь ужасно погибший в конце войны. Постойте: я же вас помню в этой жуткой пьесе Биллинга. Разве не вы играли сына Донаты Опферкух? Ну конечно, а Баргхеер в заглавной роли тогда просто спасла спектакль. Что там еще-то шло? Ах да, конечно, прекрасная постановка Шнайдер-Виббель с Карлом Брюкелем в главной роли. Вообще-то до сих пор смех разбирает, как вспомню Фрица Блюмхоффа, который, играя принца в «Летучей мыши», году этак в тридцать шестом — тридцать седьмом, уморительно пародировал саксонский прононс. Кто еще? Карл Кливер, всенепременная «Дора Оттенбург». Гейнц Бреде, которого я запомнил в очень выдержанной постановке «Натана», и, конечно, снова и снова, ваш учитель: какой был блистательный Полоний! И вообще замечательно Шекспира играл, а еще, покуда можно было, Бернарда Шоу. Со стороны руководства театра это, кстати, был очень мужественный шаг — в тридцать восьмом поставить «Святую Иоанну». Только лишний раз могу повторить — что бы с нами было, если бы не провинция! Как у вас в народе-то здание театра называли? Правильно, «кофемолка»! Полностью разрушена, до сих пор, да. Но до меня дошли слухи, что собираются на том же месте и в том же классическом стиле… Эти поляки, просто удивительно, который раз. И центр старого города тоже хотят. Переулки Длинный, Камзольный и Бабий уже вроде отстраивают. Я же сам из тех же краев: Мемель. Не хочу ли снова? Да нет, дорогой мой. Дважды в одну и ту же реку, дважды одну и ту же жену, нет. А дух, воцарившийся на западногерманских сценах, мне и правда… Театральное призвание? Театр как средство массовой коммуникации? Сцена всего лишь как родовое понятие? А человек, мера всех вещей? Когда все становится лишь самоцелью и ничто не изливается в экзегезу? Где очищение? Где прояснение? Катарсис где? — Все в прошлом, дорогой Матерн, хотя, быть может, и не совсем, потому что работа на радио дает мне полное удовлетворение и еще оставляет время на то, чтобы заняться небольшими эссеистскими работами, большинство из которых давно, уже много лет просятся на волю. А вы? Нет желания? Акт пятый, сцена первая: «Мудрость черни! Трусость черни!»
Матерн что-то мямлит и пьет чай. Внутри него, обмотавшись четками вокруг сердца, селезенки, измученных почек, стучит и стучит один и тот же рефрен: «Приспешник! Нацист недоделанный! Пидер! Приспешник! Нацист недоделанный! Пидер!» Но вслух, над краем чашки, вдруг раздается малодушное:
— Театр? Да никогда в жизни! Неуверенность в себе? Может быть. К тому же и нога. Внешне почти незаметно, но на сцене… А так-то все вроде бы еще при мне: голос, силушка, да и охота. Еще какая охота! Вот только возможностей никаких.
И тут, после минутной паузы, во время которой трое старинных часов в стиле ампир беспрепятственно могут слушать свое тиканье, с уст Рольфа Цандера начинают слетать судьбоносные слова. Рассуждая умно, проникновенно и вполголоса, этот почти тщедушный человечек расхаживает взад-вперед по соответствующей торжественности момента гостиной. За окнами тяжелые капли с деревьев напоминают о капризах переменчивой августовской погоды. Пока доктор Цандер разглагольствует, рука его ласково поглаживает корешки переплетов на просторных книжных полках, а то и снимет нужный том, раскроет его, помедлит, покуда хозяин не найдет и не зачитает нужную цитату, которая непринужденно впишется в смысл его речи, после чего любовно поставит книгу на место. За окном сумерки смыкают строй деревьев. Здесь же, в комнате, доктор Цандер задумчиво замирает перед чудом уцелевшими раритетами, гордостью его коллекционерской страсти: балийские танцевальные маски, дьявольские китайские марионетки, раскрашенные фигурки мавританских танцовщиков — но при этом ни на секунду не останавливает поток своего красноречия. Дважды появляется экономка со свежим чаем и печеньем; она тоже в своем роде редкостный экземпляр — как и часы ампир, первые и прижизненные издания, древнеиндийские музыкальные инструменты. Матерн обмякает в кресле. Деревянный стебель торшера отлично корреспондирует с его отполированным черепом. Похрапывает во сне Плутон — пес, столь же старый, как и деревья за окном. А здесь, в гостиной, Цандер рассказывает о своей работе на радио. Ему поручены ранние утренние и совсем поздние, на сон грядущий, часы: детское вещание и ночная программа. Для Цандера тут нет противоречий, скорее напротив. Он говорит о продуктивном напряжении, о наведении мостов между… Пора повернуться к прошлому, с тем, чтобы. Кстати, в свое время и Матерн у него в детском вещании озвучивал, верно? Волком был в Красной Шапочке и сожрал семерых козлят.
— Ну так! — подытоживает Цандер. — Голосов, вот чего нам сейчас недостает, Матерн! Голосов вроде вашего. Которые заполняют собой пространство. Голосов, которые сродни стихиям. Которые несут в себе и дают почувствовать связь времен. Голосов, в которых обретает голос наше прошлое. Мы, к примеру, готовим сейчас новую серию передач, которую хотим так и назвать: «Дискуссия с прошлым». Или нет, еще лучше: «ДИСКУССИЯ С НАШИМ ПРОШЛЫМ». Один молодой сотрудник, ваш земляк, кстати, — способный, я бы сказал, почти опасно одаренный юноша — надумал разрабатывать новый жанр радиовещания. И мне кажется, что как раз вы, мой дорогой Матерн, вполне могли бы сжиться с этой новой задачей, которая под стать вашему дарованию. Истовый поиск правды. Вечный вопрос о человеке. Откуда пришел — камо грядеши. Там, где прежде были засовы молчания, теперь отворяются врата речи. Ну как, хотите?
Тут древний Плутон нехотя просыпается, а Матерн хочет.
— Решено?
— Решено!
— Послезавтра в десять утра на радио?
— Послезавтра в десять утра на радио. Без опоздания.
— Без опоздания и желательно в трезвом виде. Позвольте я вызову вам такси.
Отчего же не позволить доктору Цандеру вызвать такси за счет западногерманского радио? Любой расход можно списать. Любой риск не облагается налогом. На всякого Матерна найдется свой Цандер.
СОТАЯ, ПУБЛИЧНО-ДИСКУССИОННАЯ МАТЕРНИАДА
Он вещает, гремит, ревет. Его голос проникает в каждый дом. Матерн, популярный исполнитель в радиопередачах для детей и юношества. Малыши видят во сне его самого и его голос, который материализует все страхи и еще долго будет звучать в их памяти, когда сами детки, уже дряхлыми развалинами, будут вспоминать:
— А вот во времена моего детства был дядя-сказочник, так его голос просто за живое брал и не отпускал, и держал, и до сих пор еще, но это со многими матернойдами, которые тогда…
Однако сейчас голосом Матерна в воспитательных целях с радостью пользуются взрослые, чье детство сформировано совсем иными голосами; когда чада не слушаются, мамаше достаточно просто пригрозить:
— Мне что, радио включить, злого дядю вам поставить?
На длинных, средних и даже коротких волнах можно заполучить прямо в дом голос дяди-бяки. На него, кстати, большой спрос. Другие радиостанции тоже хотят в своих диапазонах вещать, греметь, реветь голосом Матерна. И хотя промеж собой многие коллеги высказываются в том смысле, что по-настоящему, как профессиональный диктор, он вообще говорить не умеет, однако и они вынуждены признать, что какая-то изюминка в его голосе все же есть:
— Какие-то флюиды, какая-то варварская неотесанность, и эта, знаете, хищная натуральность, за все это в наши дни, когда благозвучие и благопристойность у всех вот где, платят втридорога.
Матерн вынужден купить себе деловой календарь, поскольку каждый день, то тут, то там, и все это к определенному часу, имеет место происходить консервация его голоса. Он вещает, гремит, ревет больше всего на Западногерманском Радио, зачастую на Гессенском, никогда на Баварском, от случая к случаю на Севернонемецком, с большим удовольствием, к тому же на нижненемецком наречии, на Радио Бремен, с недавних пор стал появляться на Южногерманском радио Штутгарта, а когда позволяет время — и на Юго-Западном вещании. Поездок в Западный Берлин он опасается. Поэтому радиостанции РИАС и «Свободный Берлин» вынуждены отказаться от идеи собственных передач, озвученных неподражаемым голосом Матерна, и в рамках творческого обмена пользоваться детскими программами Западногерманского Радио из Кельна, где этот высокооплачиваемый голос имеет, так сказать, штаб-квартиру.
Он теперь обустроился, он теперь тоже проживает: новостройка, две комнаты, мусоропровод, кухонный уголок, встроенные шкафы, мини-бар, двуспальная тахта; ибо по выходным его навещает, одна или с Валли, неотчуждаемая Инга-подружка. Завацкий, «Мужская мода», шлет с ней приветы. Пес, правда, мешает. В конце концов, хочется побыть наедине и немножко личной жизни. А он надоедлив как старая бабка, из которой уже песок сыплется. И при этом все время начеку, дрессированный ведь. Ну как тут, под неотступным собачьим надзором, почувствовать себя как дома? Глаза запали, местами уже ожирел, но на глотке все еще никакого провиса. Тем не менее никому и в голову не придет сказать: «Пора от него избавиться.» Напротив, Матерн, Инга-подружка и Валли единодушны скорее в другом: «Он заслужил свой кусок на старости лет. Долго он все равно не протянет. Пока нам есть что есть, и на него тоже хватит». А Матерн, бреясь перед зеркалом, частенько размышляет примерно так: «Всегда был мне другом в любой беде. Не бросил меня, когда мне было совсем худо, когда я места себе не находил, метался, как кочевник, в погоне за фантомом, у которого столько имен, но ни за одно так и не ухватишь. Дракон. Зло. Левиафан. Ничто. Морок».
Но Матерн, при всей своей нынешней обустроенности, нет-нет, да и вздохнет вдруг над утренним омлетом. Охотничий его взгляд, старательно избегая Ингу-подружку, рыщет по стенам в поисках заветных надписей. Но абстрактный узор обоев, увы, слишком прост и однозначен, да и репродукции в рамочках тоже дают уму не слишком много пищи — при всей их модерной замысловатости. Или вдруг стук в батареях, Матерн прислушивается, Плутон вскидывается, но стук замирает, и снова все кончается тяжким вздохом, словно лопнувший мыльный пузырь. И лишь с наступлением весны, едва проснутся первые мухи, Матерн находит себе занятие по душе и надолго, порой часами, забывает о вздохах. Храбрый Портняжка тоже начинал с мухобойки, а в итоге победил Единорога. Никому никогда не узнать, как величает он своих несчастных жертв, подстереженных и ловко пойманных у оконных стекол, какие имена хрустят у него между пальцами, как обращается он к своим преображенным врагам, отрывая им без всякой пощады и жалости одну мушиную ножку за другой, а под конец и оба мушиных крылышка. Однако вздохи остаются, они просыпаются вместе с Матерном и вместе с ним ложатся, сидят рядом с ним за столиками буфетов на радио, покуда он наспех еще раз пробегает глазами свой злодейский текст. Потому как опять запись. И Матерну надо снова вещать, греметь, реветь. Так что эти полкружки пива так и останутся недопитыми. А вокруг него уже старательно монтируют анонс самых заманчивых передач на сегодня: «Между нами, женщинами», «Что скажет сельский хозяин?», концерт «После полудня», проповедь «На сон грядущий», концерт духовой музыки, «Поразмыслим вместе», «Нашим братьям и сестрам за железным занавесом», спорт и спортлото, «Лирика для полуночников», сообщение службы водонадзора, джаз, оркестр Гюрцених. Детская редакция. Коллеги и коллеги коллег. Вон тот, или вон тот, или вот этот, в ковбойке и без галстука? Его-то ты вроде точно знаешь. Или, наоборот, вон того? А не тот ли это, который тебя в сорок третьем на Миусском фронте?.. Или вон тот, черно-белый, с молочным коктейлем. Разве не он тогда? Или он как раз тогда тебя не?.. Все, все они, все! Черно-белые и в клеточку, все мухи! Жирные навозницы — режутся в скат, в шахматы, кроссворды разгадывают. Одна к одной, не различить. Новые плодятся. О, Матерн, неужели они все еще зудят, эти столь долго зарубцовывающиеся имена? Уже в студии, такой мило-приятной и такой до смерти скучной, он снова вздыхает, и коллега, заслышав этот тяжкий, будто из самых недр нашей планеты исторгнутый вздох, дружески похлопывает его по плечу:
— Матерн, дружище! Уж вам-то что вздыхать? Уж вам ли быть недовольным. Вы, можно сказать, всюду нарасхват. Вчера включаю между делом ящик — и кого я слышу? Сегодня с утра заглядываю в детскую. А они уже опять ящик к себе перетащили. И кто там из ящика рычит, да так, что они только рты пораскрывали и закрыть не могут? Опять же вы, везунчик вы этакий!
Матерн, сама грозная радиопедагогика во плоти, вещает, рычит, гремит перманентно в самых страшных ролях — он Вечный Разбойник, Волк, Мятежник и Иуда. Он хрипит лучше любого полярника в свирепую пургу. Завывает похлеще двенадцатибалльного шторма. Кашляет чахоточным узником, позвякивая радиокандалами. Он правдоподобнее подлинного и задумчивого горняка перед роковым обвалом. Честолюбивого альпиниста в пропащей экспедиции на Гималаях. Золотоискателя, перебежчика из восточной зоны, головореза-маньяка, эсэсовского палача, карателя из иностранного легиона, богохульника, римского надсмотрщика за рабами и даже Благородного Оленя из рождественской сказки; эту роль, кстати, даже на сцене, он уже однажды, в пору актерской юности, озвучивал.
Вот и Харри Либенау, его земляк, который, с помощью консультанта доктора Р. Цандера, руководит редакцией вещания для детей и юношества, ему говорит:
— Я почти уверен, что это была моя первая встреча с вами. Городской театр. Детский утренник. Маленькая Брунис, вы же помните, танцевала Снежную Королеву, а вы играли говорящего Оленя. Произвело на меня колоссальное впечатление, чтобы не сказать больше. Точка отсчета, в известном смысле. Стоп-кадр из детства. Отталкиваясь от него, много чего можно припомнить.
Ах уж этот мозгляк с его картотечной памятью! Вечно, где бы ни шел, ни стоял, ни сидел, перебирает свои убористо исписанные карточки. Нет такой темы, к которой он тут же не припомнил бы какого-нибудь факта: Пруст и Генри Миллер, Дилан Томас и Карл Краус; цитата из Адорно и данные о тиражах. Любитель коллекционировать пустяки и выявлять взаимосвязи. Дистанцироваться и потом обнажать корни. Архивный филер и исследователь среды. Уж этот знает, кто стоит слева, а пописывал справа. Сам-то собственноручно, коротко и зло, пишет о трудностях писательства. Вспоминатели и ходоки в прошлое. Вопрошатели и умники задним числом. Но ни один писательский конгресс — без его дара формулировать, истовой потребности разобраться, исторической памятливости… А на меня-то как смотрит — мол, интересный случай! Он думает, я для него всего лишь материал! Раскладывает меня по косточками своим бисерным почерком. Думает, будто все про меня знает, коли видел один раз говорящим оленем и еще, правда, два раза, в мундире. Слишком молод был, чтобы. Когда я с Эдди, ему было от силы… Но этот из тех, кому до всего надо в точности. Это умение терпеливо слушать, эта шпионская выдержка со всезнающей ухмылочкой на губах:
— Да конечно, конечно, Матерн. Я-то знаю. Будь я на пару годков постарше, меня бы точно так же, как и вас… Так что я буду последним, кто в этой связи о морали… Мое-то поколение, вы же знаете, во всех водах… К тому же вы более чем убедительно доказали, что могли и иначе… Надо, чтобы все это когда-нибудь доподлинно и без этих вечных обид… Ну вот хотя бы в этой нашей серии «Дискуссия», которую мы планируем начать. Что вы об думаете? Ведь на этих детских сказочках, при всей их пользе, долго мы не протянем. Неоценимая радиопомощь при укладывании деток в кроватку. В конце концов, это же просто натужное надувательство и больше ничего. Любая пауза куда красноречивей[413]. Хоть бы что-то живое в эфир. Чего нам недостает, так это фактов. Чтобы хоть раз начистоту. Все, что на сердце! Все, что в почках сидит!
Только селезенки не хватает! А как этот пижон одевается! Английские ботинки ручной работы — и лыжный свитер! Да еще и гомик наверно. Как же это я его совсем не запомнил? Несет что-то без конца про свою кузину и при этом подмигивает, весьма двусмысленно. Говорит, он сын «того самого» столярных дел мастера, который с собакой — «да вы же помните!» «А моя кузина Тулла — на самом-то деле ее Урсулой звали — была от вас просто без ума, ну, тогда, на береговой батарее, а потом и в Кайзерхафене.» Я, оказывается, даже обучал его на этой батарее. «Номер К-6 обслуживает механизм прицела…» И с Хайдеггером даже вроде как я его познакомил: «Бытие уклоняется посредством ухода в бывание…» Похоже, у этого парня на тему «Матерн» собрано больше фактов, чем сам Матерн сходу способен выложить. При этом внешне — сама любезность, хотя и скользкий какой-то. Тридцати, наверно, еще нет, а подбородочек уже заплыл, и вечно эти шуточки! Вот из него-то в свое время гестаповская ищейка была бы хоть куда! Недавно совсем заявляется ко мне на фатеру, — якобы, чтобы со мной роль проработать, — и что делает? Хвать Плутону прямо в пасть и давай его челюсти ощупывать, а вернее, то, что еще осталось там от зубов. Прямо как заправский собачник, даже кинолог. А уж туману напустил: «Интересно, в высшей степени интересно. И грудь, и линия спины от холки до крупа. Такая старая животина — я ей даю все двадцать, если не больше собачьих ветхозаветных лет — а породу все равно сразу видно, хотя бы по крою передних лап да и по все еще образцовому поставу ушей. Скажите честно, Матерн, где вы эту псину подцепили? Хотя нет, еще лучше: мы обсудим этот вопрос публично! На мой взгляд, здесь перед нами случай, который — помните, мы говорили с вами о моем заветном плане? — должен раскрываться во всей динамике публичного обсуждения. Но, понятно, не в плоском натуралистическом смысле. Формальных изысков пусть будет сколько угодно. Если хочешь увлечь публику, будь добр, хоть переверни свой интеллект с ног на голову — но все равно заставь его декламировать. Та же классическая драма, но сконцентрированная в одном-единственном акте. Но по испытанным композиционным рецептам: завязка, кульминация, катастрофа. Декорации я себе мыслю так: опушка леса, по мне хоть букового, то бишь бухенвальда, щебет птиц. Вы, конечно же, помните Йешкентальский лес? Тогда — опушка вокруг памятника Гутенбергу. Отлично! Старика Гутенберга к чертям выбрасываем. А вот беседку оставляем. И на место первопечатника водрузим вас. Так точно, именно вас, фенотип Матерн, мы там для начала и поставим. А что — вы там в укрытии, с видом на Гороховую гору, — восемьдесят четыре метра над уровнем моря, — а вот проезд Стеффенса, который, весь утыканный виллами, проходит по ту сторону горы, мы показывать не будем, в этом единственном акте у нас только опушка. А для публики соорудим трибуну прямо напротив бывшего памятника Гутенбергу, на тридцать два человека для ровного счета. Это все дети и юноши в возрасте от десяти лет и до двадцати одного года. Слева поставим небольшой подиум для ведения дискуссии. Ну а Плутон — просто удивительный зверюга, и пугающее, знаете ли, сходство — Плутон пусть займет место возле своего хозяина».
Вот так, только так и никак иначе, почти без всякой музыки, этот шкет организует свои представления. Цандер млеет от восторга и ни о чем, кроме «будоражаще новых форм вещания», говорить не в состоянии. Он даже провидит — «выходя за пределы эфира» — новые возможности для театра вообще:
— Ни плоской сценической картины, ни трехмерного пространства! Граница между партером и рампой стирается раз и навсегда! После столетиями длившегося монолога человечество снова обретает себя в двоеречии! Больше того: эта великая предзакатная дискуссия европейской цивилизации[414] возвращает нам надежду на экзегезу и катарсис, на очищение и осмысление.
Рольф Цандер длинностатейно указует в будущее; а вот мозгляк метит только в настоящее. Он вовсе не намерен вытаскивать театр из субсидируемого застоя, а просто хочет пригвоздить Матерна с псом к публичному столбу. Сам колдует над хитроумным устройством волчьей ямы, а когда его спросишь, к чему, мол, все это, начинает петь лазаря:
— Прошу вас, Матерн, мы всего лишь хотим с вашей помощью разработать легитимный способ отыскания истины. Не только для вас, но и для всех соотечественников крайне, жизненно, насущно необходимо прямо сейчас разорвать наконец этот заколдованный круг между псом и хозяином и распахнуть окно в новые перспективы; потому как даже мне — вы без труда убедитесь в этом на примере моих скромных писаний — даже мне недостает витальной хватки, не дается образ бытия из плоти и крови, формальному мастерству не хватает фактуры, это сфокусированное, плотное, отбрасывающее тень «так оно и было!» никак не устанавливается, помогите же мне, Матерн, иначе я просто пропаду в сослагательном наклонении!
И вот весь этот театр и вправду происходит. Этот шкет даже настоящие буки откуда-то раздобыл, и чугунную беседку-храм, под сводами которой фенотип Иоганн Гутенберг невозмутимо ждет, чтобы его сменили. Полтора месяца кряду, не считая установочных репетиций, Матерна вместе с псом терзает сменяющаяся публика. И вот как читается окончательный манускрипт, над которым мозгляк и его консультант доктор Рольф Цандер лишь в стилистическом плане немного поработали. Этот текст главной роли Матерну надлежит теперь — «Вы же актер, в конце-то концов!» — выучить наизусть, дабы в день сдачи радиопостановки знать его назубок и вещать, реветь, греметь как по-писаному.
Публичная дискуссия
Передача: Западногерманское Радио, Кельн.
Текст: Р. Цандер и Х. Либенау
Срок выхода в эфир (предположительно): 8 мая 1957 года[415].
Участники дискуссии:
Харри Л. — ведущий
Валли З. — ассистентка ведущего в чудо-очках
Вальтер Матерн — предмет дискуссии
Неизменно рядом с ним — черный пес Плутон породы «немецкая овчарка».
Кроме того, в публичной дискуссии более или менее активно участвуют тридцать два представителя послевоенного поколения в возрасте не моложе десяти лет и не старше двадцати одного года.
Время проведения дискуссии: примерно год назад, когда так называемые «чудо-очки» или «опознавательные очки» были изъяты из продажи.
Место проведения дискуссии: овальной формы опушка букового леса, или, по-немецки говоря, бухенвальда. По правую руку возвышается четырехъярусная трибуна, на которой непринужденно рассаживаются дети и подростки, юноши и девушки. Слева на небольшом подиуме стол, за которым сидят ведущий дискуссии и его ассистентка. Чуть в стороне — школьная доска. А между трибуной и подиумом, слегка задвинутый вглубь, занимает свое место на трех гранитных ступенях постамента чугунный храм-беседка с гирляндами чугунных цепей и грибком крыши.
Внутри храма грузчики тем временем снимают с пьедестала чугунную фигуру, — по всем внешним признакам, это памятник Иоганну Гутенбергу, — укладывают на пол, заворачивают в шерстяные одеяла и в конце концов уносят. Во время этих манипуляций грузчики то и дело подбадривают друг друга криками «Раз-два, взяли!», «На меня!», «На себя!» и т. д. Слышен так же разнобой детских и юношеских голосов.
Ведущий дискуссии поторапливает грузчиков возгласами типа: «Ну сколько же можно! Нам ведь пора начинать! Этот чугунный старикан, в конце концов, не тяжелее бехштейновского рояля! А позавтракать успеете после, когда работу закончите!»
Щебет птиц господствует над всеми остальными звуками.
Когда грузчики управляются со своей ношей и наконец уходят, на опушке появляется Матерн с черной овчаркой.
Ассистентка Валли З. при его появлении достает свои чудо-очки из футляра, но пока что не надевает.
Юные участники дискуссии радостным топотом приветствуют Матерна, который явно не знает, куда ему податься.
Скандирующий хор детей и юношества, равно как и вытянутая рука ведущего, указуют ему на храм: «Все дороги ведут в Гутенберга чертоги! Где Гутенберг красовался, там Матерн сегодня обосновался! Гутенберга уберем — мы Матерна сегодня познаем! Гутенберга нет — вместо него Матерн, дискуссии предмет! С людьми и животными хотим дискутировать плотно мы! Вот он, Матерн! Просим любить и жаловать! Добро пожаловать!»
Новый топот и аплодисменты увенчивают эти приветственные лозунги. Матерн с псом стоит в храме. Ассистентка поигрывает очками. Ведущий поднимается, одним движением руки утихомиривает все шумы, кроме птичьего щебета, и открывает дискуссию:
Ведущий: Уважаемые участники! Дорогие юные друзья! Слово вновь стало плотью и обретается теперь среди нас. Проще говоря: мы собрались здесь, чтобы подискутировать. Ибо дискуссия есть наиболее адекватное средство самовыражения наших поколений. И в прежние времена людям случалось дискутировать: за семейным столом, в кругу друзей или на школьных дворах во время перемены — но по большей части тишком, тайком или с напускным юморком; нам же удалось вызволить нашу великую, динамичную, нескончаемую и не желающую оканчиваться дискуссию из тесных четырех стен, где она томилась в заточении, на вольный воздух, под открытое небо и зеленые деревья!
Дискутант: Ведущий забывает про птиц!
Хор дискутантов:
С людьми и животными хотим дискутировать плотно мы!Ведущий: Так точно! И вы, наши пернатые друзья, воробьи, дрозды, горлицы — вы тоже готовы ответить на наши вопросы. Чик-чирик! Фьюги-фью! Никто не молчит — все говорят! Все имеют право получать информацию. Каждый камень даст нам ответ.
Хор дискутантов:
Камни — все равно, что люди. Как мы звать тот камень будем?Двое дискутантов:
Если Фриц — пускай бежит, если Эмиль — пусть лежит, если ж Вальтером зовется — пусть он с нами остается.Ведущий: Да, это именно он. Вальтер Матерн пришел к нам, чтобы мы его — и когда я говорю «ЕГО», то имею в виду нечто явное, отбрасывающее тень, оставляющее следы, существующее и бытующее «ЕГО» — обсудили и продискутировали насквозь.
Дискутант: Он что, добровольно явился?
Ведущий: Мы дискутируем — значит, мы живем. Мы не действуем, мы…
Хор дискутантов: …дискутируем!
Ведущий: Мы не умираем…
Хор дискутантов: …мы дискутируем о смерти!
Дискутант: Так я спрашиваю: Матерн добровольно пришел или нет?
Ведущий: Мы не любим…
Хор дискутантов: …мы дискутируем о любви!
Ведущий: Поэтому нет такой темы, которую мы не смогли бы обсудить энергично и динамично. Господь Бог и обязательное страхование, атомная бомба и Пауль Клее[416], наше прошлое и наша конституция — все это для нас не проблемы, а только темы для дискуссии. Только тот, кто готов дискутировать, достоин…
Хор дискутантов: …быть членом человеческого сообщества!
Ведущий: Только тот, кто готов дискутировать, становится в процессе дискуссии человеком. А потому, быть человеком, это значит…
Хор дискутантов: …хотеть дискутировать!
Дискутант: Но сам-то Матерн хочет или нет?
Хор дискутантов:
Готов ли Матерн идти до точки, подвергнув дискуссии свои почки?Две девушки:
Нас, девушек, до самого пупка волнует его сердечная лирика.Двое дискутантов:
Пусть расскажет, не уходя в сторонку, как поживает его селезенка!Хор дискутантов:
Люди и животные хотят знать всю подноготную!Две девушки:
А еще мы, девушки, интересуемся знать, как мысли друг с дружкой целуются.Хор дискутантов:
Пусть Матерн скажет: «Я готов!» — и мы начнем без вступительных слов.Ведущий: Итак, Вальтер Матерн, мы вас спрашиваем: хотите ли вы открыто, без обиняков и умолчаний, встать в аэродинамическую трубу дискуссии? Хотите вы думать то, о чем будете говорить; хотите выбалтывать то, что вы там надумали? Иными словами: согласны вы стать предметом этой динамичной публичной дискуссии? Если да, отвечайте громко и отчетливо: Я, Вальтер Матерн, готов участвовать в дискуссии.
Дискутант: Не хочет он! Я же сразу сказал: он не хочет!
Дискутант: Или он еще не сообразил.
Дискутант: Да он и не хочет соображать!
Хор дискутантов:
Если он такой несообразительный — будем дискутировать принудительно!Ведущий: Я бы попросил либо скандировать выкрики хором, либо подавать их в письменном виде. Изъявлению вульгарных эмоций не место на публичной дискуссии. — Итак, я во второй раз спрашиваю: Вальтер Матерн, вы испытываете потребность поделиться с нами, дабы общественность могла поделиться с вами? (Ропот среди дискутантов. Матерн безмолвствует).
Дискутант: Тогда закройте храм, раз он не хочет!
Дискутант: Предлагаю перейти к принудительной дискуссии. Случай Матерна имеет общезначимый интерес и должен быть рассмотрен.
Ведущий (обращаясь к ассистентке): Временное отстранение от участия в дискуссии дискутантов номер четырнадцать и двадцать два за недискуссионное поведение. (Валли З. записывает на краю доски оба номера). Тем не менее, в целях более динамичного протекания дискуссии организаторы принимают к сведению эти неорганизованные выкрики с мест и готовы, ежели предмет дискуссии и впредь намерен вести себя неконструктивно, объявить состояние принудительной дискуссии. Это означает, что наша ассистентка в качестве принудительной меры будет вынуждена прибегнуть к так называемым «опознавательным очкам» и с их помощью предоставит нам необходимый для дискуссии фактический материал.
Хор дискутантов:
Кто промолчит и не ответит — того очки насквозь просветят!Ведущий; Поэтому я в третий раз спрашиваю Вальтера Матерна; согласны ли вы вот в этом чугунном храме, где еще недавно в качестве памятника находилась статуя первопечатника Иоганна Гутенберга, предстать общественности в качестве предмета дискуссии, то бишь держать ответ и отвечать на вопросы? Одним словом: готовы вы участвовать в дискуссии или нет?
Матерн: В общем… (Пауза). Треклятье… Я это… (Пауза). В Бога и в душу мать твою Богородицу! Готов участвовать в дискуссии!
Валли З. записывает на доске: «Предмет дискуссии к дискуссии готов.»
Хор дискутантов:
Он сказал: «Ядрена мать! С вами я готов играть!»Матерн:
Как на Страшном суде Не укрыться нигде. И каждый ответит, как школьник урок, Коли тронул хоть волосок. Пальнул я в зеркало, дважды, попал, Оно проснулось — и я пропал!Двое дискутантов:
Из дерьма лепил он пули А теперь кричит: «Надули!»Матерн:
Синицу в небе подстрелил, червя в земле похоронил…Двое дискутантов:
Он затоптал костер ногами — а нынче глядь: пылает пламя!Двое дискутантов:
Он полотенце утопил в тазу — оно ему давно бельмом в глазу.Матерн:
Я сахарил соль, я каменья подначивал, я блеянье козье ножом окорачивал.Хор дискутантов:
Он написал на двери кошки: «Завтра мышь протянет ножки!»Матерн:
И вот теперь я предмет дознания, конечный итог известен заранее!Аплодисменты и топот дискутантов. Ведущий встает и движением руки просит тишины.
Ведущий: С большой радостью и симпатией мы только что услышали: Вальтер Матерн готов с нами поделиться. Но прежде чем вопросы и ответы, сперва ручейком, потом мощным потоком повлекут его и нас по течению дискуссии, давайте помолимся. (Дискутанты и Ассистентка встают и молитвенно складывают руки). О Ты, великий Творец динамической и нескончаемо длящейся всемирной дискуссии, Ты, кто создал вопрос и ответ, Ты, который даешь слово и лишаешь слова, да пребудет с нами Твоя поддержка и опора сейчас, когда мы собрались насквозь и до самого дна обсудить изъявивший готовность к такому обсуждению предмет нашей дискуссии — Вальтера Матерна. О Ты, Владыка и Повелитель всех дискуссий…
Дискутанты: …ниспошли нам и сегодня все необходимые для дискуссии силы и зрелость.
Ведущий: О Ты, премудрый и всеведущий Творец языка, повелевший звездам дискутировать во Вселенной…
Дискутанты: …раскрепости и наши уста.
Ведущий: О Ты, Вседержитель и Созидатель великих и славных предметов обсуждения, который и сам есть величайший из оных предметов, раскрепости и уста готового к дискуссии Вальтера Матерна…
Дискутанты: …раскрепости и его уста.
Ведущий: И позволь нам во имя Твое открыть эту, Тебя и одного лишь Тебя славящую дискуссию…
Хор дискутантов: Аминь!
Все садятся. Тихий ропот, перешептывания. Матерн просит слова. Ведущий движением руки его останавливает.
Ведущий: Право на первый вопрос принадлежит дискутантам, а не предмету дискуссии. Но прежде чем мы приступим к обычным тестовым вопросам, я хочу представить общественности нашу ассистентку, Валли З., а также особо поблагодарить фирму «Брауксель и К°», любезно предоставившую в наше распоряжение один из столь редких теперь, поскольку они изъяты из торговли, экземпляров «опознавательных очков». (Дружные аплодисменты всех дискутантов). К этому крайнему средству мы, однако, прибегнем лишь в случае необходимости и при безусловном волеизъявлении большинства присутствующих, тем более, что предмет дискуссии выказал добровольную готовность к таковой, тогда как постоянный контроль за ходом дискуссии при посредстве браукселевских опознавательных очков возможен лишь при официально объявленном состоянии принудительной дискуссии. Однако, дабы подчеркнуть значение неусыпного наличия и функциональной пригодности этих очков, я как ведущий попрошу сейчас Валли З. объяснить нашим новым дискутантам, равно как и предмету дискуссии, для чего эти «опознавательные очки» нужны, а также рассказать, как она сама впервые имела возможность применить «опознавательные очки» в действии.
Валли З.: Примерно с осени прошлого и вплоть до Пасхи нынешнего года фирма «Брауксель и К» изготовила один миллион четыреста сорок с чем-то тысяч очков, которые под названием «чудо-очки» в указанный период поступили на рынок и начали пользоваться огромным успехом. Эти «чудо-очки», которые сегодня называют еще «опознавательными очками», продавались по цене пятьдесят пфеннигов за штуку и позволяли любому покупателю, которому исполнилось не меньше семи лет и не больше двадцати одного года, видеть насквозь любого взрослого в возрасте от тридцати лет и старше.
Ведущий: Пожалуйста, Валли, не расскажете ли вы нам пояснее, что конкретно было видно насквозь, когда, допустим, вот вы впервые надели очки?
Валли З.: Мой дядя Вальтер, который сегодня является предметом дискуссии и которому я, поскольку я теперь так много о нем знаю, обязана честью, несмотря на мой малый возраст, присутствовать на этой дискуссии в качестве ассистентки, так вот, мой дядя Вальтер на третий Сочельник в прошлое Рождество повел меня в Дюссельдорфе на рождественский базар. Там было много разноцветной электрической рекламы, палаток и киосков, где купить можно было все что угодно: пряники и марципан, противотанковые орудия и рождественское печенье, ручные гранаты, хозяйственные товары, ковры для бомбометания, бокалы для коньяка и команды смертников, лейтмотивы красной нитью и кровью, подставки для новогодних елок и наградные жетоны за участие в рукопашном бою, куклы с моющимися волосами, кукольные домики, кукольные колыбельки, кукольные гробы, кукольные запчасти, кукольная фурнитура, куклы с дистанционным управлением…
Хор дискутантов: К делу! Ближе к делу!
Валли З.: И так называемые чудо-очки тоже можно было купить. Вот мой дядя Вальтер — вон он стоит! — мне их и купил. А я их сразу же и надела, потому что мне все надо попробовать сразу же, ну и посмотрела через эти очки на него, и сразу совершенно ясно увидела, каким он был раньше: он был просто ужасен! Ну я, конечно, сразу заорала и бегом от него. (Для наглядности вскрикивает). А вот он — мой дядя Вальтер — погнался за мной и около Ратингских ворот поймал. И пес его был с ним. Но поскольку он все еще очки с меня не снял, я отчетливо видела и его, и его пса, и все их прошлое, они мне казались жуткими чудовищами, и я орала как резаная. (Для наглядности снова кричит). А потом, потому что у меня было нервное потрясение, меня положили в госпиталь Марии, на целый месяц. Мне там вообще-то понравилось, хотя кормят, конечно, не особенно. Потому что медсестры, одну звали сестра Вальбурга, а другую сестра Доротея, а ночную сестру звали…
Хор дискутантов: К делу, пожалуйста!
Дискутант: К чему нам эти больничные байки!
Дискутант: Давайте не отвлекаться на всякую ерунду!
Валли З.: Вот так у меня все было с чудо-очками, которые я сегодня уже как опознавательные очки надену в том случае, если предмет дискуссии начнет давать затрудняющие ход дискуссии показания. Браукселевские опознавательные очки — неотъемлемый элемент любой публичной дискуссии. Язык может отказать…
Хор дискутантов: …но браукселевские опознавательные очки не откажут никогда!
Валли З.: И если кто, как мой дядя Вальтер, является предметом дискуссии…
Хор дискутантов: …он должен помнить: опознавательные очки всегда наготове!
Валли З.: Многие наивно полагали: что прошло, то прошло…
Хор дискутантов: …но браукселевские опознавательные очки способны оживить прошлое!
Валли З.: Так что если я, к примеру, сейчас надену очки, чтобы взглянуть на моего дядю Вальтера, я сразу же опять начну кричать, как в третий Сочельник прошлого Рождества. — Надеть?
Матерн и пес нервничают. Матерн успокаивающе похлопывает пса по загривку. Ведущий жестом предлагает Валли 3. сесть.
Ведущий (доверительно и любезно): Извините, господин Матерн, иные дискутанты у нас иногда забываются и начинают вести себя совсем как дети. И тогда то, что мыслится у нас серьезной работой, грозит стать всего лишь игрой; но ради вашего и общего спокойствия я как ведущий спешу заверить, что располагаю возможностями в корне пресечь подобные грубые шутки и поползновения к оным. — Снимаем пока что временное отстранение от дискуссии с номеров четырнадцать и двадцать два и открываем дискуссию серией простых и по возможности прямых тестовых вопросов. Желающих задать вопрос прошу поднять руку.
Многие дискутанты поднимают руки. Ведущий по очереди дает им слово.
Дискутант: Первый тестовый вопрос к предмету дискуссии: сколько остановок?
Матерн: Тридцать две.
Дискутант: А если в обратном порядке?
Матерн: Тридцать две.
Дискутант: Сколько из них вы забыли?
Матерн: Тридцать две штуки.
Дискутант: То есть всего вы запомнили…
Матерн: …тридцать две штуки общим счетом.
Дискутант: Ваше любимое блюдо?
Матерн: Тридцатидвухняшки.
Дискутант: Ваше счастливое число?
Матерн: Тридцать два на тридцать два.
Дискутант: Ваше несчастливое число?
Матерн: Dito[417].
Дискутант: Таблицу умножения до десяти помните?
Матерн: Восемь — шестнадцать — двадцать четыре — тридцать два.
Дискутант: Спасибо. Первую серию тестовых вопросов можно считать закрытой.
Ведущий: Вторая серия, пожалуйста.
Дискутант: Способны ли вы образовывать простые предложения, начинающиеся с местоимения «каждый, каждая, каждое»?
Матерн: Каждый зуб на счету. Каждая ведьма горит лучше. Каждое колено ноет. Каждый вокзал хуже предыдущего. Каждая Висла с каждым воспоминанием шире каждого Рейна. В каждом жилом помещении слишком прямые углы. Каждый поезд стоит под парами. Каждая музыка когда-нибудь да вступает. Каждое событие отбрасывает свою тень. Каждый ангел улыбается шепеляво. Каждая свобода обитает на слишком высоких горах. Каждое чудо объяснимо. Каждый спортсмен лелеет медали былой славы. Каждая туча по многу раз выпадала дождем. Каждое слово может оказаться последним. Каждый сироп слишком сладок. Каждая шляпа впору. Каждый пес стоит в центре. Каждый, каждое, каждая тайна щекочет нервы…
Ведущий: Достаточно, большое спасибо. А теперь третья и последняя серия тестовых вопросов. Прошу!
Дискутант: Верите ли вы в Бога?
Матерн: Я прошу этот вопрос снять. Вопрос о Боге нельзя считать тестовым.
Ведущий: Вопрос о Боге, доколе речь не идет о «триедином» или «единственно истинном» Боге, как тестовый вопрос допускается.
Дискутант: Итак: верите ли вы в Бога?
Матерн: В Бога?
Дискутант: Ну да, да, в Бога вы верите?
Матерн: Вы спрашиваете, верю ли я в Бога?
Дискутант: Именно. В Бога.
Матерн: В Бога там, наверху?
Дискутант: Не только наверху, всюду, вообще.
Матерн: Ну, во что-то там наверху или еще где…
Дискутант: Мы не про что-то там вас спрашиваем, а коротко и ясно: про Бога! Вы слышите: верите ли вы в Бога?
Хор дискутантов:
Четкий ответ — да или нет!Матерн: Каждый человек волей-неволей, каждый человек, независимо от воспитания и цвета кожи, от приверженности той или иной идее, так вот, каждый человек, говорю я, способный думать и чувствовать, принимать пищу, дышать, действовать, то есть жить…
Ведущий: Господин Матерн, вопрос дискутантов к предмету дискуссии гласил: Верите ли вы в Бога?
Матерн: Я верю в Ничто. Ибо иной раз серьезно себя спрашиваю: Почему вообще Сущее, а не Ничто?
Дискутант: Эта цитата из Хайдеггера нам известна.
Матерн: Быть может, чистое Бытие и чистое Ничто — это одно и то же?
Дискутант: Опять Хайдеггер!
Матерн: Ничто есть нетие без всяких оговорок.
Дискутант: Хайдеггер!
Матерн: Ничто есть исток отрицания. Ничто само по себе исконней, нежели Ничто в Отрицании. Ничто — это заведомость.
Хор дискутантов:
Хайдеггер туда, Хайдеггер сюда — о Боге когда?Матерн: Но иногда я даже в Ничто перестаю верить; а то вдруг начинаю верить, что и в Бога смог бы поверить, если бы я…
Дискутант: Вопрос, по-моему, предельно ясен: да или нет?
Матерн: Ну, коли так… (Пауза). Именем триединого Бога… Нет!
Ведущий: Ответ на третий и последний тестовый вопрос засчитывается. Подводим итоги по тестовым вопросам. Счастливое и несчастливое число предмета дискуссии — тридцать два. Предмет дискуссии способен в неограниченном количестве образовывать предложения с местоимением «каждый, каждая, каждое». Он не верит в Бога. Это сочетание: тридцать два, каждый, каждая, каждое, Бог — дает право на дополнительный тестовый вопрос. Прошу!
Валли З. тем временем записывает результаты тестовых вопросов на доске.
Матерн (возмущенно): А кто установил правила и законы этой дискуссии? Кто здесь вообще всем заправляет, кто?
Ведущий: Дискуссия, ведущаяся готовыми к ней дискутантами, сама из себя образовала оптимальный ход своего протекания, сообщающий ей необходимый динамический уклон, то есть тенденцию к катастрофе в исконном, классическом смысле этого слова, то бишь к повороту, развязке или даже уничтожению. Поэтому попрошу дополнительный тестовый вопрос на основании следующих результатов тестирования: тридцать два — каждый, каждая, каждое — Бог.
Дискутантка: Любите ли вы животных?
Матерн: Даже смешно. Вы же видите: я держу собаку.
Дискутантка: Это не ответ на дополнительный тестовый вопрос.
Матерн: Собака содержится хорошо. По всем правилам, а когда надо, то и в строгости.
Дискутантка: Вообще-то вопрос простой и повторения не требует, тем не менее я еще раз спрашиваю: вы животных любите?
Матерн: Ну посмотрите сюда, барышня! Кого вы видите? Старого, почти слепого пса, которого трудно кормить, потому как зубов у него почти не осталось, но несмотря на это…
Девушка: Вы любите животных?
Матерн: Этот пес…
Ведущий: Как ведущий я вынужден заявить протест. Поскольку предмет дискуссии сознательно уклоняется от ответа, даю разрешение на необходимые в рамках установления истины по этому пункту наводящие вопросы.
Дискутант: Случалось ли вам убивать животное голыми руками?
Матерн: Признаюсь: да. Канарейку, вот этой вот рукой, потому что хозяин птицы — в Билефельде это было — был матерым нацистом, и я как антифашист…
Дискутант: Случалось ли вам когда-нибудь стрелять в животных?
Матерн: В армии. Кроликов и ворон, но на войне все по зверушкам стреляли, а эти вороны…
Дискутант: Случалось ли вам когда-нибудь убивать животное ножом?
Матерн: Как всякому мальчишке, ежели у него есть перочинный нож: крыс и кротов. Ножик этот мне подарил друг, и мы с ним этим ножом…
Дискутант: Случалось ли вам когда-нибудь отравлять животное?
Матерн (после паузы): Да.
Дискутант: Какое именно животное?
Матерн: Собаку.
Хор дискутантов:
Белую, серую, голубую или лиловую? Рыжую, зеленую, желтую или лиловую?Матерн: Это была черная собака.
Хор дискутантов:
Шпиц, такса или пекинес? Сенбернар, боксер или пекинес?Матерн: Это была черная собака породы немецкая овчарка, она отзывалась на кличку Харрас.
Ведущий: Дополнительный вопрос, подкрепленный наводящими, позволяет заключить, что предмет дискуссии Вальтер Матерн убил одну канарейку, много кроликов, ворон, кротов, крыс и одну собаку. Поэтому я, основываясь на сочетании: тридцать два — каждый, каждая, каждое — Бог, — повторяю дополнительный вопрос: любите ли вы животных?
Матерн: Хотите верьте, хотите нет: люблю.
Ведущий подает знак Ассистентке Валли З. Та записывает на доске: «Любитель животных».
Ведущий: Итак, мы устанавливаем, что предмет дискуссии, с одной стороны, одну немецкую овчарку черной масти отравил, но, с другой стороны, другую немецкую овчарку черной масти образцово содержит. Поскольку он заявил, что любит животных, похоже, именно собака — вообще и в частности черная немецкая овчарка — является для нашего предмета дискуссии чем-то вроде идеи-фикс. Поэтому, для вящей уверенности, я бы попросил задать тестовые вопросы относительно этого, в целом весьма динамичного промежуточного итога завязки нашей дискуссии, который мы назовем «немецкая овчарка черной масти», с точки зрения возможности квалифицировать его как идею-фикс. Прошу!
Валли З. записывает на доске: «Немецкая овчарка черной масти».
Дискутант: Ну, например: вы смерти боитесь?
Матерн: Так я же человек-неваляшка.
Дискутант: Вы что же, тыщу лет прожить собираетесь?
Матерн: Сто тысяч, потому что я неваляшка.
Дискутант: Но все-таки, если бы вам пришлось умирать, вы бы предпочли умереть в комнате или под открытым небом, на кухне, в ванной или в подвале?
Матерн: Неваляшке вроде меня это совершенно безразлично.
Дискутант: Какая смерть вам подходит больше: от болезни или от несчастного случая? Или вы предпочтете честный бой, дуэль как способ жизненного выбора, войну как причину, революцию как возможность или обыкновенную хорошую драку?
Матерн (добродушно): Мой юный друг, для такого неваляшки, как я, все это только возможности лишний раз показать, что меня, неваляшку, ничто не берет. Можете дискутировать меня насквозь хоть ножами, хоть пулями; можете сбросить с телевизионной башни; и даже если вы меня на сажень в землю зароете и вашими гранитными аргументами придавите — я завтра же буду стоять перед вами на своих вечных, свинцовых подошвах. Ванька-встанька, поднимись!
Хор дискутантов:
Пари принимаем, зароем, схороним, не выйдет ни в жисть! Ни в жисть не увидит ни солнца, ни света, ни ложки, ни плошки — ложись!Матерн:
И ложка и плошка была в том подвале, но сплавились с… Когда же Аврора свистка пронзительной трелью там наверху тьму разорвала, встал…Хор дискутантов:
…встал Матерн на свинцовых подошвах, с сердцем, почками, селезенкой, и голоден был, и ложкой хлебал, и жрал, и срал, и спал.Матерн:
Удар хорош! Лечу я с башни, Об мостовую хрясть — и вмиг на мостовой одна лишь надпись, курсивом буквы как цветник:Хор дискутантов:
Лежит лежмя и похоронен, здесь тот, кто сверзился плашмя; его ни дождь, ни град уже не тронет, его ни весть, ни взгляд уж не догонит, и все дискуссии ему до фонаря!Матерн:
Но двуногая Аврора появляется наутро и взрывает мостовую, ту, к которой я прилип, и встает ремень и пряжка, а за ними человечек, весь улыбчивый, и стойкий, и готовый к размноженью.Хор дискутантов:
Он был расстрелян в пух и перья и сквозь него, как сквозь туннель, решили шпалы проложить и рельсы, чтоб понеслись по рельсам поезда.Матерн:
И даже королей спецпоездами через мою утробу провозили встречаться с дружественными королями. И Римский папа сквозь мою дыру на девяти глаголил языках.Хор дискутантов:
Он был воронка, черная дыра, Таможня с двух сторон его блюла!Матерн:
И лишь когда Аврора-мастерица со знаменитым молотом явилась и врезала мне спереди и сзади — вскочил свежерасстрелянный Матерн и снова стал дышать, калякать, жить!Пауза. Валли З… пишет на доске: «Человек-неваляшка».
Ведущий: Хорошо. Иными словами: смерти вы не боитесь?
Матерн: И у неваляшек бывают минуты слабости.
Ведущий: Коли так, то вы, полагаю, не надеетесь прожить тыщу лет, если не больше?
Матерн: Избави Бог! Вы не представляете, как устаешь порой таскать на ногах весь этот свинец.
Ведущий: В таком случае, предположим, вам предоставили бы выбор между смертью в постели или на лоне природы?
Матерн: На свежем воздухе — хоть сейчас!
Ведущий: Сердечный приступ, несчастный случай или смерть на поле боя?
Матерн: Хочу быть убитым.
Ведущий: Холодным или огнестрельным оружием? Через повешение или от удара током? Удушением или утоплением?
Матерн: Хочу умереть от отравления, внезапно, на сцене летнего театра перед публикой во время премьеры! (Пытается изобразить эту смерть мимически).
Хор дискутантов:
Слышите? Снова яд! Матерн будет яду рад!Дискутант: А какой именно яд он имеет в виду?
Дискутант: Старомодный жабий глаз?
Дискутант: Змеиный яд?
Дискутант: Может, мышьяк, или ядовитые грибы: мухомор пятнистый, бледная поганка, красик, сатанинский гриб?
Матерн: Да самый обыкновенный: крысиный яд.
Ведущий: Как ведущий позволю себе задать промежуточный вопрос: когда вы отравили черную немецкую овчарку по кличке Харрас, к какому яду вы прибегли?
Матерн: Обыкновенно к какому: к крысиному.
Хор дискутантов:
Феноменально! Второй раз кряду он хочет прибегнуть к крысиному яду!Ведущий (обращаясь к Валли З.): Пожалуй, эти факты тоже надо закрепить: в столбике под «человеком-неваляшкой» запишем: «Тяга к смерти, двоеточие, яд.» А направо сделаем стрелочку: «Смерть пса Харраса, двоеточие, крысиный яд». (Валли З. записывает все это крупными буквами). Прерывая пока разработку подтверждения идеи-фикс «Немецкая овчарка черной масти» в этом направлении, я попросил бы задать второй, также относящийся к идее-фикс тестовый вопрос. Прошу!
Дискутант: Под каким знаком Зодиака вы родились?
Матерн: Понятия не имею, под каким это знаком: девятнадцатое апреля.
Валли З.: В качестве ассистентки вынуждена напомнить предмету дискуссии, что дача заведомо ложных показаний влечет за собой немедленный переход к принудительной дискуссии: мой дядя, то есть предмет дискуссии, родился двадцатого апреля 1917 года.
Матерн: Ох уж эти чада! Да, так записано в моем паспорте, но моя мать всегда утверждала, что на самом деле я родился девятнадцатого, за десять минут до полуночи. Вопрос только в том, кому вы больше хотите верить, моей матери или моему паспорту?
Дискутант: Девятнадцатого или там двадцатого, в любом случае вы родились под знаком Овена.
Хор дискутантов:
Что паспорток, что мама На Овена указывают прямо!Дискутант: А какие еще знаменитые люди, кроме вас, появились на свет, когда Солнце находилось под знаком Овена?
Матерн: Откуда мне знать! Профессор Зауэрбрух!
Дискутант: Чушь! Зауэрбрух был Рак.
Матерн: Ну хорошо: Джон Кеннеди.
Дискутант: Типичный Близнец!
Матерн: Тогда его предшественник.
Дискутант: По-моему, уже всем более или менее давно известно, что генерал Эйзенхауэр появился на свет, когда Солнце находилось под знаком Весы.
Ведущий: Уважаемый господин предмет дискуссии Вальтер Матерн! Постарайтесь, пожалуйста, сосредоточиться. Кто, как и вы, родился под знаком Овена?
Матерн: Ах вы шибздики! Мозгляки несчастные! Это черти что, а не публичная дискуссия, охота на ведьм какая-то! Да знаю, знаю я, куда вы гнете! Хорошо, получайте: в том же месяце и, как записано в паспорте, в тот же день, двадцатого апреля, выщенился Адольф Гитлер, величайший преступник всех времен и народов!
Ведущий: Протестую! К сведению принимается только имя (Валли З. записывает на доску) без прочих, не относящихся к делу характеристик. Мы собрались здесь не для ругани, а для дискуссии. Как ведущий я, таким образом, констатирую: предмет дискуссии Вальтер Матерн родился под тем же знаком Зодиака и в тот же день двадцатого апреля, что и тема другой нашей недавней дискуссии: «Адольф Гитлер — строитель немецких автострад». То есть: под знаком Овена.
Дискутант: Имеется ли у вас еще хоть что-нибудь общее с овеннорожденным Гитлером?
Матерн: У всех людей есть хоть что-то общее с Гитлером.
Дискутант: Хотелось бы подчеркнуть, что не «все люди» и тем более не «все человечество», а именно вы и только вы являетесь предметом дискуссии.
Валли З.: Я, по крайней мере, одно точно знаю. И могу без всяких опознавательных очков засвидетельствовать. Он это делает даже во сне, и когда бреется тоже. Ему для этого даже не надо сперва высасывать лимон.
Матерн: Хорошо. В школе и потом неоднократно меня дразнили: «Скрипун!», — потому что я порой, особенно когда что-нибудь не ладится или не по мне, скриплю и скрежещу зубами, вот так. (Долго и с удовольствием демонстрирует в микрофон). И этот Гитлер, говорят, порой тоже так делал: зубами скрипел и скрежетал.
Валли З. записывает: «Скрежещет зубами», кличка «Скрипун».
Хор дискутантов:
Не оборачивайтесь — там Скрипун за вами по пятам!Дискутант: Другие сходства со строителем немецких автострад?
Хор дискутантов:
Не ходи в лесок, лесок высок. А в леске дерева, хлыщи да хвощи, самого потом ищи-свищи.Дискутант: Хотелось бы знать, имеет ли предмет дискуссии Вальтер Матерн, по прозвищу Скрипун, еще какие-нибудь сходства с обсужденной уже дискуссионной темой «Адольф Гитлер»?
Хор дискутантов:
Не имей страха, от страха мокра рубаха. У кого рубаха мокрая, того чуют всей стаей те, у кого рубаха сухая.Дискутант: Предмет дискуссии облизывает губы.
Хор дискутантов:
Не пей из моря, у моря вкус горя. Кто из моря разок попил, навеки пьян и тянет его в море-океан.Дискутант: На горизонте без всякого дыма и огня грозно обозначается динамичная тень принудительной дискуссии!
Хор дискутантов:
Не строй себе дома, в доме ты будешь как дома. А кто дома сидит да ждет добрых вестей, дождется поздних гостей.Дискутант: Наша ассистентка Валли З. уже извлекает из чемоданчика документальный материал: открытки, следы крови, аттестаты, анализы кала и мочи, свидетельства, галстуки, письма и прочие ксивы…
Хор дискутантов:
Не пиши ксиву, ксива для архива красива. Кто ксиву написал, тот подписал то, чем сам со временем стал.Дискутант: Он, всегда стоявший в центре, фенотип и скрипун, человек-неваляшка, он, чье наследие мы разберем еще при жизни, он полагает, что все еще стоит в центре.
Хор дискутантов:
Не стой под светом — тебя под светом нету.Двое дискутантов:
Не собирайся с духом — у тебя на это нет духа.Две девушки:
Не пой в огне — петь в огне не по мне.Двое дискутантов:
Не клянись молчать — не то придется кричать.Хор дискутантов:
Не оборачивайтесь — там Скрипун за вами по пятам!Матерн: Хорошо, так и быть, для ясности — буду говорить дальше. Что вам еще хотелось бы от меня узнать и услышать?
Дискутант: Факты. Прочие признаки сходства с другим овеннорожденным. О скрежете зубовном мы уже слышали.
Хор дискутантов: Не оборачивайтесь — там…
Матерн: Ладно, для вашего удовольствия: вот собака. Этот Гитлер, как и я, любил немецких овчарок черной масти. А тот пес Харрас, тоже немецкая овчарка черной масти, который принадлежал столярных дел мастеру…
Ведущий: Стоп! Идея-фикс — немецкая овчарка черный масти — объявляется установленной окончательно. Остались ли у дискутантов еще сомнения и вопросы по этому пункту?
Валли З. записывает и подчеркивает на доске идею-фикс.
Дискутант: Идею-фикс — то есть овчарку — следовало бы как минимум протестировать в эротическом аспекте.
Дискутант: Дискутант номер двадцать восемь, конечно же, имеет в виду сексуальное наполнение идеи-фикс: немецкая овчарка черной масти.
Ведущий: Дополнительный тестовый вопрос разрешается, прошу!
Дискутант: С какими знаменитыми женщинами вы имели или охотно бы имели половые сношения?
Матерн: В тысяча восемьсот шестом году с прусской королевой Луизой дважды подряд. Она тогда бежала от наступающего Наполеона и переночевала со мной на отцовской ветряной мельнице, которую охраняла немецкая овчарка черной масти по кличке Перкун.
Дискутант: Вышеозначенная королева дискутантам абсолютно неизвестна…
Ведущий: …тем не менее, прошу вас, Валли З., давайте запишем сторожевого пса по кличке Перкун, но добавим приписку «по преданию» и поставим вопросительный знак, хорошо?
Матерн: Кроме того, с конца лета тридцать восьмого и до весны тридцать девятого я довольно регулярно имел сношения с Девой Марией.
Дискутант: Фиктивные сношения с Девой Марией всякий правоверный католик может воспроизводить в душе сколько угодно, тем паче что и всякому так называемому неверующему оное удовольствие по меньшей мере не возбраняется.
Матерн: Тем не менее это именно она уговорила меня отравить немецкую овчарку черной масти по кличке Харрас крысиным ядом, потому что этот Харрас…
Ведущий: Хорошо, по желанию предмета дискуссии прошу рядом с ключевой строкой «Собачья смерть Харраса от крысиного яда» записать в скобках: «Под воздействием Богородицы».
Дискутант: Хотелось бы услышать о более конкретных и не столь иррациональных эпизодах.
Матерн: Ладно, вот вам лакомый кусок: я спал с Эвой Браун, когда она уже была его любовницей.
Дискутант: Пожалуйста, опишите нам протекание коитуса во всех подробностях.
Матерн: Настоящие мужчины не болтают о своих постельных историях.
Дискутант: Это нечестно! В конце концов, у нас тут публичная дискуссия!
Девушка: Подобное блудливое ханжество в присутствии дискутанток, я считаю, просто неприлично!
Хор дискутантов:
Тень набегает стремительно дискуссии принудительной!Ведущий: Протест ведущего. Предмет дискуссии на вопрос о половых сношениях со знаменитыми женщинами ответил достаточно полно. Так, рассказав сперва о скорее воображаемых сношениях с никому не известной сексуальной партнершей Луизой, королевой Пруссии, признав затем имевшие место фиктивные сношения с Девой Марией, он под конец поведал о коитусе, совершенном с барышней Эвой Браун. Вопросы о конкретном протекании сношений в этой связи абсолютно излишни; впрочем, предмет дискуссии может быть опрошен на предмет того, происходил ли половой акт между сексуальными партнерами Вальтером Матерном и Эвой Браун в присутствии свидетелей или без оных. Прошу!
Дискутант: Строитель немецких автострад случайно при этом не присутствовал?
Матерн: Присутствовал. И его любимый пес Принц, черная овчарка, и фотограф Вождя Хоффман.
Ведущий: Ответ на тестовый вопрос получен, сексуальное наполнение уже установленной идеи-фикс «немецкая овчарка черной масти» считается выявленным. Полагаю, имеет смысл записать еще кличку собаки Принц. Что до фотографа, то без него, по-моему, можно обойтись, не так ли? (Валли З. записывает). Теперь, прежде чем мы приступим к вопросу о правообладании присутствующей здесь собакой, которая сопровождает предмет нашей дискуссии не только в качестве идеи-фикс, но и фактически, предмету дискуссии разрешается задать вопрос дискутантам.
Матерн: Что все это значит? С какой стати я тут вместо Иоганна Гутенберга стою? И почему этот публичный допрос называется публичной дискуссией? Какая, к черту, динамика, если я, кому пристало динамично расхаживать туда и обратно, обязан торчать тут между колоннами? Мне, как актеру и фенотипу, Карлу Мору и Францу Мору — «Мудрость черни! Трусость черни!» — мне требуются проходы, внезапные выходы к рампе с весомыми словами, с монологами, и потом уходы, заставляющие публику замирать в трепетном ожидании новых грозных выходов! «И не далек тот день, когда я произведу вам жестокий смотр.» Вместо этого одна статика и игра в вопросы-ответы! По какому вообще праву меня все эти мозгляки и умники допрашивают? Или, если уж на то пошло: зачем вообще вся эта дискуссия?
Ведущий: Последний вопрос засчитывается.
Дискутант: В процессе дискуссии мы овладеваем информацией.
Дискутант: В любой демократии публичная дискуссия имеет свое законное место.
Дискутант: Во избежание недоразумений: истинно демократическая публичная дискуссия принципиально отличается от католической исповеди, поскольку происходит публично.
Дискутант: Кроме того, было бы в корне неверно сопоставлять наше начинание с так называемыми публичными покаяниями и показательными процессами в ряде стран коммунистического режима.
Дискутант: Тем более, что демократическая публичная дискуссия не увенчивается отпущением грехов ни в религиозном, ни в светском смысле; она, скорее, вообще не имеет обязательного финала, то есть, по идее, настоящая дискуссия не кончается никогда, ибо после большой публичной дискуссии мы уже в узком кругу обсуждаем ее результаты и подыскиваем новые интересные предметы обсуждения для следующих публичных дискуссий.
Дискутант: Так, например, после предмета дискуссии Вальтера Матерна у нас на очереди конфессиональные школы, или мы обсудим такой вопрос: «Имеет ли смысл снова вводить льготное налогообложение накоплений?»
Дискутант: Для нас нет запретных тем!
Дискутант: Недавно мы подвергли обсуждению жизнь и творчество философа Мартина Хайдеггера. Полагаю, мы можем смело сказать: оный предмет больше не таит для нас загадок.
Хор дискутантов:
Вязаная шапочка — выйди на минуточку, расскажи ребяточкам метафизическую шуточку!Дискутант: Потому как в принципе, если иметь терпение, все проблемы решаются сами собой. Вот, к примеру, хотя бы еврейский вопрос. Наше поколение такого бы не допустило. Мы бы с этими евреями до тех пор дискутировали, покуда они сами, добровольно и полностью убежденные, не покинули нашу страну. Мы презираем любые формы насилия. И даже если мы прибегаем к принудительной дискуссии, итоги ее самый предмет ни к чему не обязывают: захочет ли он по окончании дискуссии удавиться или пропустить кружечку пива — это его сугубо личное дело. У нас ведь демократия как-никак.
Дискутант: Мы живем, чтобы дискутировать.
Дискутант: В начале была беседа!
Дискутант: Мы дискутируем, чтобы не погрязнуть в монологах.
Дискутант: Ибо так и только так выявляются наши социальные связи. Здесь никто не предоставлен самому себе!
Дискутант: Ни теория классовой борьбы, ни буржуазные политэкономические учения не способны заменить классическую модель прикладной социологии, а именно: публичную дискуссию!
Дискутант: В конечном счете техническая эффективность нашего бытийного аппарата зависит от мощных общественных организаций, таких, как всемирная организация свободных и всегда готовых к дискуссии дискутантов.
Дискутант: Дискуссия — это постижение основ бытия!
Дискутант: Современной социологией установлено, что в условиях современного массового общества только открытая публичная дискуссия создает предпосылки для формирования зрелой, способной к дискуссии личности.
Хор дискутантов: Мы все — одна дружная, публичная, суверенная, интернациональная, динамично дискутирующая семья!
Двое дискутантов: Без нашей склонности к дискуссии невозможны демократия, свобода и, следовательно, сама жизнь в условиях свободного, демократического массового человеческого сообщества.
Дискутант: Теперь позвольте подытожить. (Все встают). Предметом дискуссии был задан нам вопрос: зачем вообще вся эта дискуссия? Наш ответ гласит: мы дискутируем, дабы доказать существование самого предмета дискуссии; замолчим мы — не будет и предмета дискуссии Вальтера Матерна!
Хор дискутантов:
Мы знаем наверно: без нас нет и Матерна!Валли З. записывает.
Ведущий: Ответ на вопрос предмета дискуссии дан. Мы спрашиваем: у вас есть заявка на дополнительный вопрос?
Матерн: Валяйте дальше. Я уже более или менее разобрался, что к чему, и обедню портить вам не буду.
Ведущий: Тогда мы возвращаемся к идее-фикс, — немецкая овчарка черной масти, — которая была установлена нами трижды, напоследок в своем сексуальном наполнении.
Матерн (с пафосом):
Блевать так блевать — подставляйте, ребятки, лохань. Я выдам вам все, чего нахлебался за эти собачьи годы!Ведущий: Нам осталось выяснить и подвергнуть дискуссии вопрос правообладания немецкой овчаркой черной масти.
Матерн:
Горошек и картошечка, умятые в ту пору, докажут вам сегодня, что и тогда люди ели как всегда. Сегодняшние лейтмотивы потянутся тогдашней красной кровушкой.Ведущий: А конкретно мы спросим о той овчарке, что представляет вышеупомянутую идею-фикс — немецкая овчарка черной масти — наяву и во плоти.
Матерн:
Ибо сняты все препоны: что тогда мне было вкусно нынче просится отрыжкой. И все, что этой дорожкой проползло — от высот Кавказа до синих низин Ладоги — пусть теперь течет обратно с желчью, вонью, и всем, что вам так нравится.Ведущий: Итак, прошу задавать вопросы, касающиеся правообладания вот этой, реально присутствующей здесь собакой.
Матерн: Убийство, старомодное слово!
Дискутант: Как зовут присутствующую здесь овчарку черной масти?
Матерн:
Перекрестье прицела, бельмо в глазу, соси леденец и крути рукоятку.Дискутант: Я повторяю вопрос: как зовут присутствующую здесь собаку?
Матерн:
Трупы, да кто нынче считает трупы? Все кости давно перемолоты. Кровь только на сцене. Сердца бьются ровно. Смерти в наш кабак вход воспрещен! (Пауза). А пса известно как зовут Плутон.Дискутант: Кто хозяин Плутона?
Матерн: Тот, кто его кормит.
Дискутант: Вы Плутона купили?
Матерн: Он сам ко мне приблудился.
Дискутант: Пытались ли вы выяснить, кому принадлежал пес Плутон раньше?
Матерн: Он ко мне прибился вскоре после окончания войны. Тогда много бездомных псов бегало.
Дискутант: Имеет ли предмет дискуссии предположения относительно того, кому мог принадлежать пес Плутон прежде, вероятно, под другим именем?
Матерн: Я готов рассказывать о том, что я ел, щупал, делал, пережил, но категорически отказываюсь обсуждать здесь мои предположения.
Ведущий: Поскольку предмет дискуссии ведет себя неконструктивно, пытаясь изъять из сферы обсуждения свои предположения, дискутантам разрешается непосредственно опросить присутствующую здесь немецкую овчарку черной масти, ибо она и фактически, и как идея-фикс сопряжена с предметом дискуссии. Для начала мы проиграем псу три музыкальных темы. Какие будут предложения? Прошу!
Валли З. записывает: «Музыкальный опрос собаки Плутон».
Дискутант: Предлагаю начать музыкальный опрос с «Маленькой ночной серенады»! (Валли 3. ставит пластинку. Недолго звучит музыка).
Ведущий: Мы констатируем, что пес Плутон на музыку Моцарта никак не реагирует. Какие еще будут предложения?
Дискутант: А как насчет Гайдна? Или еще чего-нибудь в том же духе? Или сразу «Песню о Германии» завести?
Валли З. ставит соответствующую пластинку. При первых же аккордах пес начинает вилять хвостом.
Ведущий: Пес реагирует возбужденно и радостно, доказывая своей реакцией, что его хозяин был несомненно германским подданным. Чем, в свою очередь, устанавливается, что он не мог принадлежать в ту пору представителю какой-либо из оккупационных армий. Тем самым мы заранее можем отказаться от музыки Генделя, равно как и от мелодий из французской оперы «Кармен». Нам не понадобится ни сюита из «Щелкунчика», ни хор донских казаков. Также отпадают спиричуэлзы североамериканских негров и народные песни американских пионеров времен освоения дикого Запада. Третье предложение, прошу!
Дискутант: Чтобы не ходить вокруг да около, я предлагаю самый прямой путь: что-нибудь хрестоматийное из Вагнера, ну, хотя бы мелодию Зигфрида или «Хор гребцов»…
Дискутант: Тогда уж лучше сразу «Сумерки богов».
Хор дискутантов:
«Су-мер-ки богов!» «Су-мер-ки богов!»Валли З. ставит пластинку. «Сумерки богов» звучат долго. Пес в упоении подвывает.
Ведущий: Настоящим, полагаю, более чем убедительно доказывается, что пес Плутон принадлежал поклоннику Вагнера. На основании предыдущих предварительных итогов дискуссии — прошу взглянуть на наши заметки — мы, думаю, не ошибемся в предположении, что законным владельцем присутствующей здесь овчарки черной масти, в настоящее время отзывающейся на кличку Плутон, являлся бывший Канцлер Рейха Адольф Гитлер, которого мы недавно в качестве строителя немецких автострад продискутировали насквозь и чья любовь к музыке Вагнера общеизвестна. Чтобы не затягивать без нужды течение нашей публичной дискуссии, мы немедленно проводим динамичную очную ставку: портрет Гитлера, с одной стороны, черная немецкая овчарка — с другой, прошу!
Матерн: Пустая затея. Пес же почти совсем слепой.
Ведущий: Инстинкт собаки не слепнет никогда. Мой отец, например, почтенный столярных дел мастер, в качестве сторожевого пса держал во дворе овчарку, кстати, черной масти, которую звали Харрас и отравили крысиным ядом. Поскольку ваш покорный слуга с этим Харрасом, можно сказать, вырос, то он, хоть никогда и не занимался кинологией как наукой, смеет полагать, что в собаках, а уж в овчарках черной масти и подавно, разбирается неплохо. Очную ставку, прошу!
Валли З. поднимается и разворачивает на школьной доске большой цветной плакат с портретом Гитлера. После чего выкатывает доску на авансцену и устанавливает напротив чугунной беседки. Затяжная пауза. Псом овладевает беспокойство. Он вытягивает нос в сторону плаката, потом вдруг кидается к нему, повизгивает, лает, скулит и, встав на задние лапы, начинает лизать лицо Гитлера на портрете. По знаку ведущего Валли З. сворачивает плакат. Пес продолжает скулить и лишь с большой неохотой позволяет Валли отвести себя обратно к беседке. Доска водворяется на прежнее место. Волнение среди дискутантов.
Дискутант: Дело ясное.
Дискутант: В который раз динамичная очная ставка подтвердила свою эффективность как плодотворный стимул дискуссии.
Хор дискутантов:
Пес на очной ставке много раз протявкал и то, что опознал, он языком облизал.Ведущий: Очная ставка явила нам результат, который, независимо от его влияния на течение дискуссии, несет на себе все приметы события поистине исторического. А посему попрошу всех встать и осмыслить это обстоятельство в ходе короткой медитации. О Ты, великий Творец нескончаемо длящейся всемирной дискуссии, о Ты, Созидатель великих предметов обсуждения… (Длительная и глубокая тишина. У дискутантов светло на душе). Аминь. — Дискутантам разрешается сесть. Тем временем наш дискуссионный архив выдал следующие факты.
Валли З. (она не молилась вместе со всеми и теперь держит в руках бумаги.): В питомнике бывшего Канцлера Рейха Адольфа Гитлера среди многих овчарок выделялся кобель черной масти по кличке Принц. Он был подарен Канцлеру Рейха данцигским краевым руководителем Адольфом Форстером. Проведя первые месяцы своей жизни в питомнике служебных собак полицейского управления Данциг Лангфур, он затем был переправлен в резиденцию Вождя, в так называемый Бергхоф. Там вплоть до начала войны он мог наслаждаться беззаботным существованием на лоне природы. Затем, однако, бурные события военных лет заставили его кочевать из одной штаб-квартиры Вождя в другую, вплоть до окончательного водворения в бункер Вождя при Канцелярии Рейха.
Ведущий: А дальше случилось вот что:
Валли З.: Двадцатого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года…
Дискутант: …то есть в день, когда строитель немецких автострад и предмет нашей сегодняшней дискуссии Вальтер Матерн отмечали свои годовщины…
Валли З.: …покуда не умолкает хор поздравлений, в котором участвуют генерал-фельдмаршал Кейтель, подполковник фон Ион…
Дискутант: …капитан третьего ранга Людде-Нойрат…
Дискутант: …адмиралы Фосс и Вагнер…
Дискутант: …генералы Кребс и Бургдорф…
Валли З.: …полковник фон Белоф, руководитель партийной канцелярии Рейха Борман, посланник Хевель из министерства иностранных дел…
Дискутант: …барышня Эва Браун!
Валли З.: …гауптштурмфюрер СС Гюнше и обер-группенфюрер СС Фегеляйн…
Дискутант: …доктор Морелль…
Валли З.: …а также господин Геббельс с супругой и все их шестеро детишек, — покуда, значит, происходят поздравления, кобель немецкой овчарки черной масти по кличке Принц убегает от своего хозяина.
Дискутант: И что же? Его поймали? Арестовали? Расстреляли?
Дискутант: Кто-нибудь видел, как он сбежал? К неприятелю перебежал?
Дискутант: И если к неприятелю — то к какому именно?
Валли З.: После непродолжительного размышления пес решил подчиниться велению часа и смыться на запад. Поскольку ко времени его запланированного и осуществленного побега вокруг тогдашней столицы Рейха разгорелись ожесточенные бои до победного конца, псу по кличке Принц, несмотря на героические и неустанные усилия специально и тотчас же созданных особых Поисковых команд собаки Вождя и Частей перехвата собаки Вождя, удалось избежать поимки. Восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года, в четыре часа сорок пять минут утра пес Плутон, почти никем не замеченный, переплыл Эльбу выше Магдебурга и на западном берегу начал искать себе нового хозяина.
Хор дискутантов:
Хозяином новым наверно он выбрал себе Матерна.Валли З.: Но поскольку тогдашний Вождь и Канцлер Рейха в своем завещании от двадцать девятого апреля подарил своего любимого пса, немецкую овчарку черной масти по кличке Принц, всему немецкому народу…
Ведущий: …мы вынуждены установить, что предмет дискуссии Вальтер Матерн никак не может быть законным владельцем черной овчарки по кличке Принц, именуемой ныне Плутоном. Он, однако, безусловно вправе считаться распорядителем завещанного Вождем наследия — а именно: «немецкой овчарки черной масти по кличке Принц».
Матерн: Это еще что за домыслы! Я антифашист!
Ведущий: А почему, собственно, антифашист не может быть распорядителем завещанного Вождем имущества? Хотелось бы услышать на этот счет мнение дискутантов.
Матерн: Я в «Красном Соколе» состоял, потом был зарегистрированным членом коммунистической партии…
Дискутант: В качестве распорядителя наследия Вождя предмет дискуссии может указать на ряд свойств, которые предопределили его для этой исторической миссии…
Матерн: Еще в тридцать шестом году я листовки…
Дискутант: Например, то, что он, как и бывший законный владелец собаки, тоже родился под знаком Овена.
Матерн: А что потом в штурмовики вступил и то всего на год — так это была шалость, озорство…
Дискутант: К тому же распорядитель собаки Матерн умеет, как и ее покойный владелец, скрипеть и скрежетать зубами.
Матерн: А после-то нацисты меня вытурили… Суд чести был!
Дискутант: Но не следует ли в качестве контрдовода учесть, что нынешний распорядитель собаки в свое время одного черного пса уже отравил?
Матерн: Причем крысиным ядом, потому как этот нацистский кобель, принадлежавший одному столярных дел мастеру, в полицейском питомнике покрыл суку, которая впоследствии…
Дискутант: Но в то же время предмет дискуссии недвусмысленно заявил, что любит животных…
Дискутант: Предлагаем обсудить идею-фикс «немецкая овчарка черной масти» и предмет собственности «немецкая овчарка черной масти по кличке Принц», ныне Плутон, в связи с родословной черного кобеля Плутона и динамическим прошлым предмета дискуссии.
Матерн: Я как антифашист заявляю самый решительный протест против подобного произвольного сцепления случайных фактов!
Ведущий: Протест удовлетворен. Мы уточняем постановку вопроса: идея-фикс и родословная собаки будут рассмотрены и обсуждены в связи с антифашистским прошлым предмета дискуссии.
Дискутант: Но лишь окончательные итоги дискуссии могут показать, достоин или недостоин нынешний распорядитель собаки и впредь распоряжаться завещанным наследием Вождя — Принцем, переименованным им в Плутона.
Ведущий: Заявление дискутанта принимается к сведению. Предполагая возможность наличия еще одной идеи-фикс, я как ведущий попрошу пока задавать вопросы, не затрагивающие непосредственно идею-фикс и предмет владения, а именно «немецкую овчарку черной масти». Пожалуйста!
Девушка: Не может ли предмет дискуссии перечислить важные, наиболее памятные впечатления своего детства?
Матерн: Реальные или больше умственные?
Девушка: Мы из всех слоев сознания умеем извлекать факты, важные для развития дискуссии.
Матерн (показывая широким жестом):
Никельсвальде тут — Шивенхорст там. Перкунас, Пеколс, Потримпс! Двенадцать монахинь без голов, двенадцать рыцарей безголов. Грегор Матерна и Симон Матерна. Богатырь Милигедо и разбойник Бобровский. Куявская пшеница и пшеница «уртоба». Меннониты и прорванные дамбы… Висла пусть течет, мельница мелет, поезд по узкоколейке спешит, масло тает, молоко киснет, немного сахарного песку сверху и ложка стоит, — а паром пусть приближается, а солнце заходит, а утром всходит, прибрежный песок пусть отступает, а волны прибоя пусть его лижут… И дети бегают босиком, ищут янтарь, а находят синие черничины, выкапывают из норок мышей, босиком прямо по колючкам, босиком на дуплистые ивы… Но кто ищет янтарь, бегает босиком по колючкам, прячется в дуплистые ивы, выкапывает из норок мышей, тот однажды найдет в дамбе мертвую девочку, совсем засохшую: это герцога Свянтополка дочурка, что раскапывала песок, ловила мышей, двумя острыми резцами прикусывала и никогда не носила ни башмаков, ни чулок… А дети босиком по песку, а ивы колышат ветками, а Висла все течет, а солнце всходит и заходит, и паром то туда, то обратно, или накрепко к причалу и скрежещет, а молоко киснет, покуда ложка в нем не встанет торчком, и медленно поспешает, хотя и вовсю пыхтит почти игрушечный поезд на повороте узкоколейки.И мельница покряхтывает, когда ветер восемь метров в секунду. И мельник слушает, что нашепчет ему мучной червяк. И зубы скрежещут, когда Вальтер Матерн ими слева направо. И бабка точно так же, вон она гоняет по огороду бедную Лорхен. Сента черной молнией из-под гороховых штакетин — шасть! Потому как уже надвигается, неотвратимая и грозная, черная тень с угловатой поварешкой в руке, вот она уже легла на лохматую Лорхен, и тень все больше, все жирней… Но и Эдди Амзель…
Дискутант: Кто этот Эдди Амзель? Друг детства предмета дискуссии?
Матерн: Он был у меня единственным…
Дискутант: Он что, умер, этот единственный друг?
Матерн: Не могу представить, чтобы Эдди Амзель — и умер.
Дискутант: Дружба с только что упомянутым Эдди Амзелем была прочной?
Матерн: Мы были братья по крови! Одним перочинным ножом мы себе взрезали на руке…
Дискутант: Куда потом подевался этот нож?
Матерн: Нож? Понятия не имею.
Ведущий: Вопрос повторяется еще раз: что сталось с перочинным ножом?
Матерн: Ну, вообще-то я хотел швырнуть в Вислу голыш; у нас камни голышами называли…
Дискутант: Нас все еще интересует нож!
Матерн: Ну вот, я искал голыш, то есть камень, в обоих карманах шарил, но не нашел ничего, кроме…
Дискутант: …перочинного ножа.
Матерн: Три лезвия, штопор, пилка и даже шило…
Дискутант: …и все в одном перочинном ноже.
Матерн: И тем не менее я швырнул…
Дискутант: …перочинный нож…
Матерн: …в Вислу. — Сколько всего тащит в себе река? Заходы, закаты, дружбы, перочинные ножи! Что влачится в памяти и при помощи Вислы само по себе или брюхом вверх? Заходы, закаты, дружбы, перочинные ножи! Не всякая дружба выдерживает испытания. И реки, что стремятся в ад, впадают в Вислу…
Ведущий: Поэтому давайте сейчас уточним: предмет дискуссии Вальтер Матерн и его друг Эдди Амзель заключили, еще детьми и при посредстве перочинного ножа, кровное братство. И этот самый нож Матерн еще мальчишкой выбросил в Вислу. Почему именно нож? Потому что камня под рукой не оказалось. Почему вообще бросил?
Матерн: Потому что Висла все время так неостановимо! Потому что солнце всегда за противоположную дамбу, потому что кровь моего друга Эдди, после того, как мы заключили кровное братство, текла и во мне тоже, потому что… потому что…
Дискутант: Ваш друг, он что — был негр, цыган или, может, еврей?
Матерн (с горячностью): Наполовину только! По отцу. Но не по матери. И волосы-светло рыжие у него были от матери, а от отца вообще мало что. И вообще отличный был парень. Он бы, ребята, вам понравился. Всегда веселый такой и на выдумки горазд. Толстый, правда, что да, то да, мне приходилось поэтому частенько его выручать. Но я все равно его любил, восхищался им, я бы и сегодня…
Дискутант: Ну а когда вы, допустим, сердились на вашего друга, что ведь наверняка время от времени случалось, какими бранными словами или кличками вы его обзывали?
Матерн: Ну, в худшем случае, поскольку он такой толстый увалень был, я его жиртрестом обзывал. Еще, но это потехи ради, мухосранцем — у него повсюду веснушки были, просто тьма. Еще, но тоже больше не по злобе, а в шутку, я его чучельником звал, потому что он из всякого старого тряпья вечно чудные такие фигуры делал, крестьяне их по полям расставляли, пугалами, птиц отгонять.
Дискутант: Другие бранные слова и клички не вспоминаются?
Дискутант: Какие-нибудь особенные!
Матерн: Это все.
Дискутант: Ну, а когда вам хотелось особенно сильно его оскорбить или обидеть?
Матерн: У меня такого и в мыслях не было.
Ведущий: Мы вынуждены напомнить предмету дискуссии, что обсуждаем здесь не мысли, а поступки. Поэтому прошу вас — самое грязное, гнусное, распоследнее, динамичное, убойное ругательство!
Хор дискутантов:
Словечко, и незамедлительно! Иначе спросим принудительно!Валли З.: Боюсь, в конце концов мне все-таки придется прибегнуть к опознавательным очкам, чтобы разглядеть в далеком прошлом ситуации, когда предмет дискуссии, мой дядя Вальтер, терял контроль над собой…
Матерн (махнув рукой): Тогда, — но это когда я правда не мог сдержаться, потому что он снова… или не прекращал… или потому что Эдди… словом, тогда я обзывал его абрашкой.
Ведущий: В нашей дискуссии объявляется короткий перерыв, дабы произвести оперативную оценку слова «абрашка», употребляемого в оскорбительном смысле. (Пауза, сопровождаемая приглушенным ропотом голосов. Валли З. встает). Прошу внимания, послушаем нашу ассистентку Валли З.
Валли З.: «Абрашка», слово, произносимое с ударением на втором слоге, но нередко и с особым нажимом на согласные «р» и «ш», образовано от распространенного у иудеев имени Абрам или Авраам и примерно с середины прошлого столетия употребляется в качестве презрительного обозначения еврея вообще: сравни, например, роман Густава Фрайтага «Приход и расход», а также слова уже в двадцатом столетии возникшей народной попевки…
Хор дискутантов:
Жид абрашка, тощий жид, по веревочке бежит. Руки-крюки, нос крючком, ухи грязные точком.Дискутант: Позвольте, но друг предмета дискуссии, которого тот обзывал «абрашкой», был ведь толстым, скорее пухлым мальчиком…
Ведущий: Употребление бранных и ругательных слов, как мы уже не раз имели возможность убедиться в ходе предыдущих дискуссий, не всегда подчиняется строгой логике; хорошо известно, например, что американцы и представители других народов нередко дают немцам оскорбительные прозвища, связанные с кислой капустой — сравни, хотя бы: «немец-перец-колбаса, кислая капуста…» и так далее — хотя отнюдь не все немцы любят и регулярно употребляют в пищу этот продукт. Точно так же и прозвище «абрашка», в том числе и с дополнением «тощий жид», может быть адресовано еврею или, как в нашем случае, полуеврею, явно склонному к полноте.
Дискутант: И в том, и в другом случае мы обязаны зафиксировать склонность предмета дискуссии к антисемитским высказываниям.
Матерн: Я категорически протестую — как человек и филосемит! Даже если у меня иногда сгоряча и вырывались подобные необдуманные словечки, я тем не менее всегда брал Эдди под защиту, когда другие обзывали его «абрашкой»; например, когда вы, господин Либенау, при пособничестве вашей сопливой кузины, во дворе столярной мастерской вашего отца осыпали моего друга обидными ругательствами только за то, что он зарисовывал сторожевого пса Харраса, я решительно вступился за моего друга и пресек ваши хотя и детские, но тем не менее оскорбительные выходки.
Дискутант: Предмет дискуссии, судя по всему, дабы отвлечь нас от сути дела, решил попотчевать нас байками о личной жизни ведущего…
Дискутант: Он говорит о кузине ведущего и обзывает ее сопливой.
Дискутант: Он упоминает двор столярной мастерской, в котором, как мы знаем, наш ведущий рос, на котором, среди штабелей древесины и кастрюль со столярным клеем прошли беззаботные годы его детства.
Дискутант: С той же целью он упоминает неотъемлемого от двора столярной мастерской сторожевого пса Харра-са, идентичного немецкой овчарке черной масти по кличке Харрас, которую предмет дискуссии впоследствии отравил.
Ведущий: Как ведущий данной дискуссии я вынужден расценить этот некорректный переход на личности как еще одно доказательство тому, сколь несдержанно может подчас реагировать предмет нашей дискуссии, и в свою очередь позволю себе задать встречный вопрос: имеется ли между уже зафиксированным у нас сторожевым псом Перкуном — с пометкой «по преданию», с также зафиксированной сукой Сентой, принадлежавшей отцу предмета дискуссии, то бишь мельнику Матерну, — и черным кобелем немецкой овчарки по кличке Харрас, принадлежавшим отцу вашего покорного слуги, столярных дел мастеру Либенау, какая-нибудь еще связь, кроме той, что сын мельника Вальтер Матерн с одной стороны и сын столярных дел мастера вместе со своей кузиной Туллой Покрифке с другой стороны обзывали друга предмета нашей дискуссии «абрашкой»?
Матерн: О, эти вгрызающиеся друг другу в хвосты собачьи годы! В начале была волчица из литовских лесов. Ее повязали с кобелем овчарки. От этой помеси выродился кобель, чью кличку не называет ни одна родословная. И вот он-то, этот безымянный, зачал Перкуна. А Перкун зачал Сенту…
Хор дискутантов: А Сента родила Харраса…
Матерн: А Харрас зачал Принца, который сегодня, под именем Плутон, доживает у меня под боком свою старость и дожевывает свой старческий хлеб. О, все вы, хрипло провытые собачьи годы! Все они, честно охранявшие мельнику его мельницу, столярных дел мастеру — его столярный двор, любимой песьей шкурой тершиеся строителю немецких автострад об его сапоги, — все они приблудились ко мне, антифашисту. Вам ясен ли весь смысл этой притчи? Доходит ли до вас во всей его семизначности, какой за эти собачьи годы мне предъявлен счет? Теперь с вас довольно? Есть у вас что сказать? Или отпустите Матерна с псом выпить наконец пива?
Ведущий: Хотя этот важный промежуточный итог проводимой здесь и динамично устремляющейся к своему финалу дискуссии дает нам повод к законной гордости, не будем слишком поспешно успокаиваться на достигнутом. Кое-какие ниточки еще не связались. Давайте вспомним! (Он указывает на доску.) Предмет нашей дискуссии убил много животных.
Дискутант: Он собаку отравил!
Ведущий: Но при этом заявляет, что он…
Дискутант:...любит животных…
Ведущий: …любитель животных. Кроме того, мы пока что знаем, что предмет дискуссии, охотно именующий себя антифашистом и филосемитом, с одной стороны, оберегал своего друга, полуеврея Эдди Амзеля, от приставаний несмышленых ровесников-мальчишек, с другой же стороны, при случае сам обзывал его обидным и оскорбительным прозвищем «абрашка». Поэтому мы спрашиваем:
Хор дискутантов:
Матерн любит животных; а любит ли Матерн евреев?Матерн (с пафосом): Да именем Бога и Ничто! Евреям причинили столько зла.
Дискутант: Отвечайте коротко и ясно: любите ли вы евреев, как вы любите животных, или вы евреев не любите?
Матерн: Мы все причинили евреям огромное зло.
Дискутант: Это общеизвестно. Статистические данные говорят сами за себя. Искупление — кстати, тема одной из наших недавних дискуссий, — уже несколько лет идет полным ходом. Но мы говорим о нашем сегодня. Сегодня вы любите — или все еще нет?
Матерн: Если потребуется, я готов рисковать ради еврея собственной жизнью.
Дискутант: Что конкретно имеет в виду предмет дискуссии под словами «если потребуется»?
Матерн: Ну вот хотя бы как однажды, когда холодным январским вечером моего друга Эдди Амзеля избивали девять штурмовиков, а я не мог ему помочь.
Дискутант: И как же звали этих девятерых громил-штурмовиков?
Матерн (вполголоса): Как будто именами можно поименовать преступников! (Громко). Но пожалуйста. Йохен Завацкий. Пауль Хоппе. Франц Волльшлегер. Вилли Эггерс. Альфонс Бублиц. Отто Варнке. Эгон Дуллек и Бруно Дуллек.
Хор дискутантов (загибавших пальцы):
Мы насчитали лишь восемь! Девятого просим, просим! Девять воронов, девять швабов, девять волхвов и девять симфоний! Просим девятого! Пожалуйста, без церемоний!Ведущий: Дискутанты, хотя им было обещано назвать девять имен, насчитали лишь восемь. Дозволено ли будет нам, во избежание динамической принудительной дискуссии, предположить, что девятым в этой компании был сам предмет нашей дискуссии?
Матерн: Нет! Нет! Да какое вы имеете право!
Валли З.: Имеем не только право, но и опознавательные очки. (Надевает очки и подходит к беседке поближе.)
Девятеро лезут через забор — в том числе и мой дядя. Девятеро топчут январский снег — в том числе и мой дядя. Черная тряпка на каждом лице — затряпился и мой дядя. Девять кулаков десятому в лицо — и дядя мой бьет глядя. И когда остальные устали бить — бил дядя потехи ради. И когда зубы кончились все — все еще бил мой дядя и приговаривал как припев: «Вот вам, абрашки, бляди!» Девятеро обратно через забор — и с ними мой дядя, не глядя.Валли З. снимает очки, возвращается к доске и рисует на ней девятерых человечков.
Ведущий: Нам остается только получить ответы на следующие вопросы:
Дискутант: Номер штурмового отряда?
Матерн (вытянувшись): Штурмовой отряд номер восемьдесят четыре «Лангфур-Север» шестой штурмовой бригады СА.
Дискутант: Ваш друг сопротивлялся?
Матерн: Сперва он хотел сварить нам кофейку, но мы отказались.
Дискутант: Какова, собственно, была цель вашего визита?
Матерн: Хотели вручить ему небольшую памятную записку.
Дискутант: Почему вы скрыли лица под масками?
Матерн: Такой был тогда стиль: ходить в масках по домам и вручать памятки.
Дискутант: И каким образом вы их вручали?
Матерн: А разве мы это еще не установили? — В морду он получал, жидюга пархатый! Эх-ма, была не была! Каждому абрашке в морду хрясть, и все дела!
Дискутант: И ваш друг при этом потерял зубы?
Матерн: Все тридцать два.
Хор дискутантов:
Эта цифра не нова: тридцать два, тридцать два!Ведущий: Таким образом, мы устанавливаем, что выявленное в первой серии тестовых вопросов счастливое, равно как и несчастливое число предмета дискуссии равнозначно количеству зубов, выбитых у его друга Эдди Амзеля девятью штурмовиками в масках, среди которых находился и предмет дискуссии. Отныне мы знаем, что помимо идеи-фикс «немецкая овчарка черной масти» есть еще одна идея-фикс, позволяющая рассмотреть предмет дискуссии в динамическом раскрытии — это число тридцать два! (Валли З. записывает на доске крупными цифрами.) Тем самым форма публичной динамичной дискуссии очередной раз полностью подтвердила свою жизненность.
Дискутант: Как в результате мы можем определить предмет нашей дискуссии?
Ведущий: А как бы сам предмет дискуссии охарактеризовал себя в ответ на поставленный вопрос?
Матерн: Можете болтать и умничать сколько влезет! А я, Матерн, был и есть убежденный антифашист! Я доказал это все тридцать два раза и готов снова и снова…
Ведущий: Таким образом отныне мы будем видеть в предмете дискуссии Вальтере Матерне антифашиста, который питает и лелеет наследие Адольфа Гитлера, немецкую овчарку черной масти по кличке Плутон, в прошлом Принц. А теперь, когда итог дискуссии окончательно установился, воздадим благодарность и молитву. (Дискутанты поднимаются и молитвенно складывают руки.) О Ты, великий Кормчий и Творец вечно длящейся динамической всемирной дискуссии, Ты, ниспославший нам дискуссионно-отзывчивый предмет дискуссии и подаривший оной дискуссии общезначимый итог, позволь возблагодарить Тебя тем, что мы тридцать два раза гимнически восславим кобеля немецкой овчарки черной масти. Он был и он есть:
Хор дискутантов: …жесткошерстный, со слегка вытянутым корпусом, стоячими ушами и умеренно длинным хвостом.
Двое дискутантов: Мощные челюсти и сухие, плотно смыкающиеся губы.
Пятеро дискутантов: Темно-карие, чуть косо поставленные глаза смотрят…
Один дискутант: …прямо, и с легким наклоном вперед поставлены уши.
Хор дискутантов: Шея сильная, крепкая, без подвеса и подглоточного мешка.
Двое дискутантов: Длина хвоста на шесть сантиметров превосходит высоту в холке.
Дискутантки: С какой стороны ни посмотреть — постав лап по отношению к туловищу правильный.
Хор дискутантов: Пясти и плюсны крепкие, пальцы плотно сжатые. Его длинный, плавно ниспадающий круп. Подушечки лап в меру упругие.
Двое дискутантов: Плечи, предплечья, скакательные суставы…
Одна дискутантка: …сильные, хорошо омускуленные.
Хор дискутантов: Псовина — волосок к волоску, остевые волокна прямые, жесткие, плотно прилегают к телу и сплошь черные.
Пятеро дискутантов: И подшерсток — черный.
Две дискутантки: Не темный волчий окрас на сером или желтом основании.
Один дискутант: Нет, повсюду, вплоть до стоячих, с легким наклоном вперед ушей и глубокой, в легких завитках груди, на бедрах с умеренно длинными штанами — его шерсть повсюду отливает и поблескивает глубокой чернотой.
Трое дискутантов: Чернотой зонтика и грифельной доски, чернотой священника и чернотой вдовы…
Пятеро дискутантов: …чернотой эсэсовцев и фалангистов, чернотой дроздов, Отелло и Рура.
Хор дискутантов: Чернотой фиалок и томатов, лимонов и муки, молока и снега…
Ведущий: Аминь!
Дискуссия благополучно завершается.
СТО ПЕРВАЯ ПОПЫТКО-ПОБЕЖНАЯ МАТЕРНИАДА
Эту окончательную редакцию текста публичной дискуссии Матерн и читает в буфете радиокомитета. А уже двадцатью пятью минутами позже — дискутанты еще не успели отбубнить свою заключительную молитву, зато из аппаратной уже успели по селектору вызвать Матерна в студию номер четыре — он вместе с псом Плутоном покидает сверкающее новизной здание радиокомитета. Он не хочет это произносить. У него язык не повернется. Он считает, что Матерн не какой-то там предмет, чтобы его дискутировать. Эти сопливые мозгляки, эти подлые ищейки соорудили ему из своих бойких дискуссионных выступлений такой домик, без окон без дверей, что он там ни за что ни часа, ни тем паче радиочаса не проживет; зато у него еще не получен солидный гонорарчик, заработанный столь всеми любимым голосом из детских радиопередач. Вот квиточек, уже со всеми подписями, осталось только в кассу предъявить — так что прежде, чем покинуть радиообитель, он еще успевает услышать приятный хруст новеньких банкнот.
В самом начале, когда Матерн много ездил, дабы воздать кому надо по заслугам, кельнский главный вокзал и кельнский собор были ему что дом родной; но теперь, с последним гонораром в кармане и вновь обуреваемый жаждой странствий, он в этом треугольнике: главный вокзал — собор — радиокомитет — почему-то чувствует себя неуютно. Матерн уходит, Матерн отрывается, Матерн бежит.
Причин для побега он может привести сколько угодно: во-первых, эта омерзительная динамическая дискуссия; во-вторых, ему это огрызочное, капиталистическое, милитаристское, реваншистское, кишмя кишащее заклятыми нацистами западногерманское государство обрыдло, — его манит полная энтузиазма и созидания, миролюбивая, уже почти совсем бесклассовая, здоровая и восточноэльбская Германская Демократическая Республика; а в-третьих, ему действует на нервы, и тоже в сторону побега, Инга Завацкая, с тех пор как эта дуреха удумала разводиться со стариной Йохеном.
Прощание с готическим, голубелюбивым двузубцем. Прощание со все еще продуваемым сквозняками вокзалом. Еще есть время пропустить в этом гигантском молельном зале ожидания, среди кающихся и закосневших во грехе, последнюю кружечку пивка. Еще есть время, правда, совсем в обрез, чтобы спустить в кафельно-белом, католическом, строго и сладко пахнущем вокзальном туалете последнюю воду. О нет! Только без сантиментов! К черту и ко всем его философским соответствиям все имена, что, начертанные на белоснежной эмали туалетных стояков, заставляли прыгать его сердце, раздували его селезенку, коликами отзывались в почках. Фенотип требует смены караула. Человек-неваляшка желает неваляться где-нибудь еще. Распорядитель наследия более не считает себя обязанным. Матерн, объезжавший западный капиталистический лагерь вместе с псом, дабы судить, отправится в восточный лагерь мира без пса — ибо Плутона, равно как и Принца, он оставит в привокзальной богадельне. Вот только в какой? Их тут две, конкуренция. Но в евангелической к животным проявляют больше любви, чем в католической. О да, уж он-то научился разбираться в религиях и идеологиях.
— Будьте любезны, нельзя ли у вас пса на полчасика?.. Я инвалид войны. Вот удостоверение. Я тут по делам. И как раз туда, куда мне сейчас нужно, с собакой никак… Господь вам воздаст… Чашечку кофе с молоком? Когда вернусь — с превеликим удовольствием. Будь умницей, Плутон! На полчасика только!..
Прости и прощай. Наспех бросить в коридорный сквозняк три крестных знамения. Сжечь корабли — в помыслах, словах и делах своих. Отряхнуть прах, но уже на бегу — перрон номер четыре. До отправления межзонального скорого поезда Кельн — Берлин-Восточный через Дюссельдорф, Дуйсбург, Эссен, Дортмунд, Хамм, Билефельд, Ганновер, Хельмштедт, Магдебург, Берлин-Зоологический сад осталось… Просим пассажиров… Провожающих… Двери закрыть, отойти от края платформы…
О, благостная определенность последнего гудка! Пока пес Плутон в евангелической богадельне, возможно, уже лакает свое молоко, Матерн, без пса и вторым классом, уже едет, уже в пути. До Дюссельдорфа без остановок. На всякий случай принять независимый вид и смотреть прямо перед собой: мало ли кого — собратьев-стрелков, спортивных друзей, кого-нибудь из Завацких — нелегкая может занести в поезд, а его, благодаря одному только их присутствию, вынести из поезда. Но нет, вроде никого, Матерн может спокойно сидеть на месте и без всякого самоотчуждения держать на плечах свою характерную, столь запоминающуюся голову. Едет он не сказать чтоб слишком комфортабельно — с ним в купе еще семеро межзональных попутчиков. Все сплошь борцы за мир, это ему очень скоро становится ясно. На западе ни один не хотел бы остаться, пусть там хоть все озолотят…
Потому как у каждого там, «за бугром», родственники. «За бугром» — это всякий раз там, где тебя нет.
— До прошлой весны был там, за бугром, потом перебрался. А те там, за бугром, остались, им виднее, почему. И сколько всего там, за бугром, оставлять придется. Здесь за бугром томатная паста итальянская, а там, у нас за бугром, болгарская бывает.
Разговоров хватит до Дуйсбурга и дальше: расслабленные голоса, но блудливо-опасливые глаза. Только одна бабулька из-за бугра рассуждает свободно:
— У нас там, за бугром, одно время коричневых ниток не было. Так мой зять мне и говорит: на-ка, прихвати с собой, кто знает, когда вы еще из-за своего бугра. А я тут, за бугром, поначалу никак привыкнуть не могла. Всего полным-полно. И эта реклама. Но когда я потом цены… Мои-то, ну, здесь, за бугром, сперва вообще не хотели меня отпускать: оставайся, мама, и все тут. Ну что тебе там, за бугром, когда ты у нас тут, за бугром… Но я им сразу сказала: вам я только в тягость буду, да и у нас там, за бугром, глядишь, теперь тоже помаленьку лучше станет. Молодые-то, они легче приноравливаются. Когда я прошлый раз у них, за бугром, была, я сразу сказала: «Ну, вы тут, за бугром, хорошо устроились.» А муж моей младшей мне на это: «Ясное дело, мама. Там, за бугром, разве это была жизнь?» Но в объединение оба не верят. Шеф моей младшей, он еще четыре года назад перебрался, ей и говорит: «Русские и американцы по сути вроде как заодно. А на словах у них все по-разному выходит. И не только там у нас, но и здесь у нас». А я на Рождество всякий раз думаю: ну, значит на следующее Рождество. И каждую осень, когда в саду урожай снимать надо да на зиму закатывать, я сестре своей, Лизбет, говорю: «Неужели мы никогда больше сливы на Рождество всем миром, дружно-весело?» В этот раз тоже вот привезла им две банки. Они радовались, говорили: совсем как дома! Но у самих-то здесь, за бугром, чего только нет. Каждое воскресенье ананас…
Вот какая музыка у Матерна в ушах, а за окном свое кино. Деловитый индустриальный ландшафт под знаком свободной рыночной экономики. Без дикторского текста. Трубы говорят сами за себя. Ежели кому охота, может считать. Картонных нет. И все в небо. Гимн труду, песнь песней работе. Вознесены, динамичны и серьезны: с доменными печами шутки плохи. Смотр тарифных ставок. Работодатель и работа лицом к лицу. Уголь и химия, чугун и сталь, Рур и Рейн. — Не гляди из окна, в окне жуть одна! Эта чертовщина начинается уже среди угольных котлованов, а на плоской равнине расползается повсюду. В купе для курящих все та же музыка: расслабленные голоса, опасливые глаза: «Мой зять там, за бугром, говорит, да и младшая моя, здесь за бугром, тоже хочет…» — а за окном тем временем — не гляди из окна! — сперва из палисадников, потом с полей, на которых по-майски зеленеют озимые, волнами вздымается восстание. Всеобщая мобилизация — призрачная суета — шевеление птичьих пугал. Межзональный скорый идет без опоздания, но и они мчатся. Нет, не то чтобы они его обгоняли. И никаких лихих призрачных вспрыгиваний на подножку на полном ходу. Просто целеустремленный бег. Покуда бабулька в купе для курящих разглагольствует: «Без сестры я туда, за бугор, ни за что не поеду, пусть она мне хоть сто раз скажет: давай, мол, перебирайся, кто знает, долго ли еще можно будет…» — там, за окном, — не гляди из окна! — птичьи пугала срываются со своих обжитых и давно узаконенных мест. Стоячие вешалки в соответствующем тряпье покидают салатные грядки и сочные овсы. Огородные жердины крест-накрест, в зипунах, по-зимнему застегнутых наглухо, берут старт и стелются над барьерами. Что секунду назад осеняющим длиннорукавным жестом благословляло куст крыжовника, говорит теперь «аминь» и пускается трусцой. Но это не бегство, отнюдь, скорее уж эстафета. Не то, чтобы все вдруг подхватились и кинулись драпать за бугор, на восток, в лагерь мира, нет, куда больше похоже на то, что им всем срочно понадобилось передать отсюда туда какую-то весть или пароль; ибо пугала, выкарабкавшиеся из своих овощных грядок, стремительно несут некую трубочку с вложенным в нее жутким текстом и передают ее пугалам, которые только что охраняли юную рожь, а те, поскольку огородные теперь остаются во ржи, припускают вровень со скорым межзональным, покуда не наткнутся на следующих, что принимают у них призрачную почту в хорошо поспевающих ячменях и, сменив почти бездыханных ржаных, кто в грубую клетку, кто на ходулях, не отстают от идущего в графике состава, пока снова ржаные, теперь уже серо-буро-малиновые в крапинку, не демонстрируют отличный прием эстафеты. Одно, два, шесть пугал — похоже, они соревнуются командами — несут шесть упруго свернутых писем, оригинал и пять копий, — а может, это шесть разных редакций одного послания, которые лишь все вместе полностью воспроизводят его коварный смысл? — несут куда, какому адресату? Но не так, чтобы Затопек[418] принимал эстафету от Нурми. Смена спортивных цветов не обнаруживает никакой исторической логики: только что впереди были бело-голубые верстенцы, но к ним уже подтягиваются унтерратские атлеты, а рядом нажимают ребята из Дерендорфа, идут грудь в грудь с «Лохуазен-07»… Потому как форма одежды у участников — любая, на дистанцию независимо от прихотей моды допускаются все: под велюровыми шляпами, в ночных колпаках и касках всех родов войск несутся кучерские тулупы, блюхеровские мантии и черт-те кем траченые ковры, сверкая галошами и туфлями на пряжках, ботфортами и штиблетами. Английское полупальто сменяет вольного глазенаппского гусара. Всепогодный бобрик передает эстафету реглану. Искусственный шелк — муслину. Огненно-красное кимоно — синтетическому пеньюару. Поплин — корсетному полотну, нанка и пике отправляют на следующий этап байку и тюль. Сачок для бабочек и мужской плащ отстают. Тяжелый драп обходит вздутое ветром неглиже и платье стиля ампир. Эпоха Директории[419] и реформизм передают эстафету двадцатым годам и древним франкам. Подлинный Гейнсборо и князь Пюклер-Мюскау[420] демонстрируют классическую технику передачи. Снова в фаворе Бальзак[421]. Вслед за ним утверждаются суфражистки. А потом долгое время впереди держится свободного покроя платьице «принцесса». О, эти краски, яркие и ветхие: переливы, пастельные тона, пестроцветье! О, эти узоры: скромненькая полосочка, горошек и цветочки вразброс! О, вы, сменяющие друг друга тенденции: античный стиль переходит в деловой, военная выправка сменяется партикулярной… Талия снова опустилась ниже. Изобретение швейной машинки способствует демократизации дамской моды. Век кринолина кончается. Но Макарт[422] снова распахивает все сундуки, вытаскивая на свет божий бархат и плюш, бахрому и кисею, — глядите, глядите, как они бегут! — не гляди из окна, там жуть одна! — а тем временем в купе для курящих — о, эта бесконечная сага! — бабуля все еще повествует о «там, за бугром» и «тут, за бугром», покуда вестфальский ландшафт пугалонепринужденно передает эстафету начинающемуся нижнесаксонскому, дабы из-за бугра здесь перенести палочки за бугор туда; ибо птичьи пугала не знают границ, параллельно с Матерном в лагерь мира спешит-торопится некая пугальная весть, отряхивает с себя пыль дорог, оставляет за спиной поля тучной капиталистической ржи и подхватывается классово сознательными пугальными элементами в хлипких народных овсах — оттуда сюда, из-за бугра за бугор, без паспорта и контрольного листка, ибо пугала паспортному контролю не подлежат и не подвержены, в отличие от Матерна, равно как и бабули, которая побывала там, за бугром, и теперь, наконец, снова к себе за родной бугор вернулась.
Матерн готов вздохнуть полной грудью; о, насколько по-другому пахнут сосиски в лагере мира и социализма! Остался позади и сгинул весь пряный капиталистический тлен, все эти карри и кус-кусы! Сердце Матерна вот-вот выпрыгнет от радости — Мариенборн[423]! Как прекрасны тут люди и бараки, народные полицейские, цветочные ящики и даже плевательницы! И как полноцветно и величаво скрещиваются тут красные флажки и наполняются ветром натянутые повсюду транспаранты! После всех этих жутких лет, с черным псом, как с гирей на ноге, наконец-то страна побеждающего социализма. И конечно же, как только скорый межзональный возобновляет движение, Матерну не терпится рассказать, какой кумачовой радостью исполнено его сердце. Однако едва он начинает громко восхвалять лагерь мира и преимущества нового строя, купе для курящих незаметно, но стремительно пустеет под шорох растаскиваемых чемоданов. Слишком уж дымно, в вагоне для некурящих наверняка найдется местечко. Так что не обижайтесь, товарищ, и счастливого пути.
Все попутчики, кому надо в Ошерслебен, Хальберштадт, Магдебург, — все его покидают, последней бабуля, которой в Магдебурге еще пересаживаться на Дессау. Матерн в одиночестве слушает перестук колес, невольно убаюкиваемый их ритмом: муть — жуть, муть — жуть.
Ибо вот они, снова за окном со своей чрезвычайной вестью. Теперь, правда, все больше в пролетарских и революционных лохмотьях. Сменяют друг друга пикеты забастовщиков. Санкюлоты жаждут крови. Даже на опушках леса Матерну мерещится торопливая побежка повстанцев. Из-за елей выскакивают драные штормовки. Ручьи и озерки для них не помеха. Плетни перемахивают сходу. Длинноногие, им и пересеченная местность нипочем. Пропали — и тут же снова вынырнули. В деревянных башмаках на босу палку, в якобинских шапочках. Пугала-кроссовики. Пугала лесные и луговые. Пугала времен Крестьянской войны: Союз башмака и Бедный Конрад, гонцы и рудокопы, чернорясники и перекрещенцы, попик Пфайфер, Хиплер и Гайер, алльштедтская фурия, мансфельдцы и айхсфельдцы, Бальтазар и Бартель, Крумпф и Фельтен[424], теперь во Франкхаузен, где взметнется целая радуга из тряпья и лохмотьев, из лейтмотивов и иных мотивов, красной нитью и кровью… Тут Матерн решает сменить окно, но и из вагонного коридора скорого межзонального поезда он с ужасом наблюдает все ту же картину равномерного и прямолинейного пугального движения.
Сойти! Немедленно, на любой станции, где нет остановки. В нем зреют недобрые предчувствия. Каждый поезд когда-нибудь идет не туда. Действительно ли я попаду в гостеприимный лагерь мира, когда локомотив, запряженный в вагоны первого, потом второго класса и в мои желания, наконец-то скажет «аминь»? Матерн на всякий случай проверяет свой билет: все так и все оплачено. А уж то, что происходит за окнами, и вовсе бесплатно. Ну, увидел человек парочку обычных пугал, пусть даже и бегущих, — что же, сразу в панику ударяться? В конце концов, они ведь чешут по нашим, магдебургским, народным и столь богатым сахарной свеклой полям, а не по капиталистической пустыне Невада. К тому же эка невидаль. Не он первый, не он последний, кто видит их вот так, дюжинами, — подумаешь, палки, старое тряпье и тонкая проволока. Но эти, правда, — взгляд из окна, — эти, пожалуй, его рук дело. Его стиль. Его продукция. Его, Эдди, ловкие пальчики!
И Матерн бежит. Куда, спрашивается, можно бежать в идущем на всех парах скором межзональном, окна которого, по большей части заклиненные, делают вагон прозрачным, как аквариум, куда еще, как не в одно местечко? Тут не только легче, тут можно заодно уж и облегчиться, подыскав в этом занятии оправдание своему бегству. Так что расслабься! Будь как дома! Забудь все страхи, ведь окна туалетов всех, что скорых, что пассажирских поездов как правило забраны матовыми стеклами. Из матового окна жуть не видна. О, блаженная идиллия! Почти полная благость, и почти столь же католическая, как та, что ждала его в вокзальном туалете, когда он возвращался в Кельн и шел туда в поисках уединения. И здесь, конечно же, каракули на щербатом пластике. Все как обычно: стишки, признания, предложения сделать то и се, так или этак, и имена, ему не известные; ни сердце, ни почки, ни селезенка ни разу не дрогнули, пока он расшифровывал эти разнообразные письмена. Но когда в глаза ему даже не бросается, — прыгает густо заштрихованный, в ладонь величиной рисунок: черный-пречерный пес Перкун-Сента-Харрас-Принц-Плутон, перемахивающий через садовую ограду, — вот тут сердце его накрывает темной волной, заволакивается ужасом пурпурная селезенка и почки отдают последнее. И Матерн снова вынужден бежать, на сей раз от столь убедительно нарисованного пса.
Но куда, спрашивается, убежишь в поспешающем на всех парах скором межзональном, коли единственное убежище, где за матовыми стеклами можно было скрыться от пугального парада, столь бесславно покинуто? Сперва, вполне логично, он намеревается сойти в Магдебурге, но затем, словно загнанный кролик, решает ехать до конца по билету, все свои упования связывая с рекой Эльбой. Эльба ляжет поперек. Эльба — природная преграда, лагеря мира надежный оплот. Пугальная жуть и мало ли кто там еще с ней поспешает — все они, упершись в могучую реку, запнутся и останутся на западном берегу, оглашая округу отчаянным пугальным или еще Бог весть чьим воем, между тем как скорый межзональный умчится от них через Эльбу по единственному и все еще не отремонтированному до конца мосту.
Но едва Матерн и тем временем почти совсем опустевший скорый межзональный — большинство пассажиров в Магдебурге сошли — минуют столь чаемый и спасительный мост через Эльбу, как из прибрежных камышей восточного берега выныривает и ломится все та же, нет, теперь усугубленная жуть: не только старые знакомцы — пугала, поспешающие, словно из Марафона в Афины[425], со своей роковой вестью, но и еще кое-кто, с густо-черной, мокро-блестящей от эльбской воды псовиной мчится теперь вдоль полотна вместе с поездом и вровень с ним. И начинается гонка, грудь в грудь, по лагерю мира и с переменным успехом. Сперва сгоряча уйдя от опаздывающего поезда в отрыв — ибо в лагере мира скорый межзональный, вынужденный щадить не слишком надежные шпалы и рельсы, сбавляет ход — пес вскоре великодушно притормаживает, дабы Матерн вдоволь мог насладиться этой сверкающей чернотой.
О, зачем ты сдал пса Плутона в животнолюбивую евангелическую богадельню, а не доверился конкурирующей католической? Зачем ты не дал псине уже испытанного в деле яду, зачем просто не врезал дубиной промеж полуслепых старческих глаз, дабы навсегда отбить охоту от погонь и азартного лая? А теперь вон черный зверь молодеет на глазах, сбрасывая в аллюре между Гентином и Бранденбургом один собачий год за другим. Холмы и поляны его проглатывают. Просеки и прогалы выплевывают снова. Заборы членят прыжки на шестнадцать кадров. Красивый, размашистый разбег. Мягкое приземление. Сильные пясти. Так прыгает только он. Эта линия от холки до плавно ниспадающего крупа. Восьми — двадцати четырех — тридцатидвухлапо. Плутон выходит вперед и уверенно тащит за собой пелетон пугал. Закатное солнце вырисовывает черный силуэт пасти. Двенадцатая армия с боями к Беелицу. Сумерки богов! Конечная структура. Ах, почему нет камеры — какой монтаж! Общий план: призраки! Еще общий план: до победного конца! Общий план: пес на бегу! Но в лагере мира кино- и фотосъемка из проходящего поезда категорически запрещена. Так и не запечатленные на пленку, они упорно держатся вровень, замаскированная под армию призраков армейская группа Венка и пес по имени Перкун-Сента-Харрас-Принц-Плутон, ни на пядь не отставая от окна, к которому прилип зубоскрежещущий Вальтер Матерн: «Убирайся, псина! Go ahead, dog![426] Уйди, Кион!»
Но лишь за поймой Эльбы, перед Потсдамом, где-то на необозримых просторах магдебургского озерного края и в сумерках подступающей тьмы, птичьи пугала вместе с псом теряются из виду. Матерн, будто приросший к дерматину сиденья, не отрываясь, изучает фото в рамочке на противоположной стене купе второго класса: на нем, в поперечном формате, раскинулся лощинистый ландшафт Эльбских гор. «В поход по Саксонской Швейцарии!» А что, хоть какое-то разнообразие, к тому же по скалам пугала и Плутон, наверно, не шастают. Прочные и удобные, желательно на двойной подошве, походные башмаки. Шерстяные, только не штопаные, носки. Рюкзак и карта. Большие месторождения гранита, слюды и кварца. Брунис, еще тогда, переписывался с одним геологом из Пирны и обменивался с ним слюдяными гнейсами и слюдяным гранитом. Кроме того, там эльбского песчаника завались. Вот куда тебе надо. Там спокойней. Там никто и ничто тебя сзади не достанет… Ты там никогда еще не был — ни с псом, ни без пса. Надо бы вообще только туда, где никогда раньше, ну вот хотя бы до Флурштана, оттуда вверх по Кнотенвегу, потом вдоль по Цигенрюкш-трассе до самого Поленцблик, плоская вершина скалы без перил, оттуда превосходный вид на всю Поленцскую долину — туда, где Амзельгрунд ведет к Амзельфаллю и Хокштайну. Потом завернуть в местный замок Амзельгрунд. «Я нездешний» — «Матерн? Никогда не слыхал. Почему Амзельгрунд называется Амзельгрундом, а Амзельфалль Амзельфаллем? Эти названия к вашему другу Амзелю, полагаю, вообще никакого отношения… Кроме того, у нас тут еще есть Амзельлох и Амзельштайн. Ваше прошлое нас совершенно не интересует. У нас тут свои заботы, социалистические. Участвуем в восстановлении прекрасного города Дрездена. Древний Цвингер[427] из нового эльбского песчаника. На народных каменоломнях изготавливаем украшения для фасадов всего лагеря мира. Тут у любого, и у вас тоже пропадет охота зубами-то скрипеть. Так что предъявите-ка лучше паспорт и контрольный листок. Так, в Западном Берлине не выходите, это фронтовой город, доезжайте прямо до Восточного вокзала, а уж оттуда милости просим в наши гостеприимные Эльбские горы. И оставайтесь спокойно сидеть, когда поезд будет стоять на вокзале у этих поджигателей войны и реваншистов. Потерпите немного — и вас радостно встретит вокзал Фридрихштрассе. Ради Бога, только не сойдите по ошибке на станции Берлин-Зоологический сад!»
Но как раз незадолго до станции Берлин-Зоологический сад Матерн вдруг вспоминает, что у него с собой еще солидный остаток гонорара. И ему вдруг непременно хочется — как бы между делом — обменять свои западно-германские марки по выгодному капиталистическому курсу один к четырем, а уж после, на обычной подземке, въехать в лагерь мира. Кроме того, ему на всякий случай срочно надо купить бритвенный прибор с лезвиями, две пары носков и рубашку на смену: кто знает, чего у них там, в лагере, на прилавках не окажется.
С такими вот скромными желаниями он и сходит с поезда. Вместе с ним и другие, у кого желания явно посерьезней. Обнимаются родные, не обращая внимания на Матерна, которого никто из родных не ждет. Так он с легкой горечью думает. Однако и его, оказывается, встречают. Да еще как — передними лапами в грудь! И длинным языком в лицо! И звонко подавая голос! И ликующе скуля! «Ты меня не узнаешь? Ты меня больше не любишь? Неужто мне пришлось бы до самой собачьей смерти торчать в этой жуткой вокзальной богадельне? Или я, пес, больше не имею права быть верным, как пес?»
«Ну хорошо, хорошо, Плутон! Умница! Видишь, хозяин снова с тобой. Дай-ка на тебя взглянуть». Это и он, и не он. Несомненно, это черный племенной кобель, отзывающийся на кличку Плутон, однако челюсти прощупываются без единого изъяна. И островки седины в надглазьях исчезли, да и глаза больше не гноятся. То есть самое большее, что можно дать — это лет восемь. Пес помолодел, пес как новый. Только жетон все тот же. Не успел потеряться, как успел сыскаться, а тут еще — как это сплошь и рядом бывает на вокзалах — объявляется и честный благодетель.
— Извините, это ваша собака?
Итальянскую шляпу с элегантной шевелюры — долой, узенькое щегольское кашне хрипит простуженно, тем не менее вовсю попыхивает огоньком сигареты.
— Прибился песик, понимаешь, и сразу давай тянуть меня к вокзалу, а там прямо через кассовый зал, по лестнице вверх и вот сюда, на перроны, к дальним поездам…
Чего этот благодетель домогается — вознаграждения или знакомства? Все еще со шляпой в руке, не щадит, бедняга, голосовых связок:
— Боюсь показаться назойливым, но я просто счастлив повстречаться с вами. Да называйте как хотите. Здесь, в Берлине, меня обычно называют Золоторотиком. С намеком на мою хроническую хрипоту и те чистопробные штуковины, которые я вынужден носить во рту вместо зубов.
И тут Матерн, кое-что смекнув, начинает снимать кассу: все виды валют сыпятся наперебой. Его сердце, только что воспаленно беспокойное, радостно принимает листовое золото, почки и селезенка тяжелеют от дукатов.
— Это надо же, какой сюрприз! И на вокзале! Не знаю, чему больше удивляться: объявившемуся Плутону — а ведь пес еще в Кельне от меня отбился — или этой нашей, прямо надо сказать, знаменательной встрече.
— Совершенно с вами согласен…
— А по-моему, у нас с вами есть общие знакомые.
— Это кто же?
— Да Завацкие. То-то они удивятся, когда…
— Позвольте, но тогда, если не ошибаюсь, я имею честь видеть господина Матерна?
— Он самый, собственной персоной. Такое дело, я считаю, неплохо бы и вспрыснуть.
— Я целиком и полностью за.
— Куда предложите пойти?
— Это уж на ваше усмотрение.
— Да я здесь… так сказать, нездешний.
— Что ж, тогда, если не возражаете, мы начнем наш маленький обход у мадам Барфус…
— Заранее со всем согласен. Только сперва я хотел бы — поездка у меня вышла внезапная — купить себе рубашку на смену и бритвенный прибор. К ноге, Плутон! Нет, вы поглядите только, как пес радуется…
СТО ВТОРАЯ ОГНЕУПОРНАЯ МАТЕРНИАДА
— По здешним заведениям я с закрытыми глазами хоть самого Господа Бога проведу с одним вот этим единственным реквизитом!
И действительно, он мчится вперед мелкой побежкой, поигрывая, словно фокусник, изысканной тростью черного дерева с рукоятью из слоновой кости. На всех вокзалах, и на этом тоже, его узнают и приветствуют:
— Привет, Золоторотик! Опять в наши края? Как там наша радость?
И все время, причем очень быстро, курит сигареты «Нэви Кэт». Покуда Матерн в недрах вокзала — там киоски работают допоздна — покупает себе жизненно необходимый бритвенный прибор и полагающиеся к нему лезвия, этот человечек курит беспрерывно, а когда у него кончаются спички, великодушно позволяет дежурному полицейскому поднести себе огня:
— Вечер добрый, вахмистр!
И тот, вытянувшись, отдает фланирующему куряке честь.
И все вокруг ему подмигивают, указывая или кивая, так, во всяком случае, Матерну кажется, на него, Матерна, и на помолодевшего пса. Мол, так держать! Ай да молодец! Браво, Золоторотик! Экую птицу словил!
Кстати, о птичках. Когда Матерн возвращается с двумя парами шерстяных носков и рубашкой на смену, он застает своего нового знакомца в окружении пяти или шести чижиков. И чем они занимаются, эти мальчики-красавчики? Дурачатся напропалую на пятачке между кассами подземки и книжной лавкой Хайне, приплясывая вокруг него и его слегка отбивающей такт тросточки, трещат и попискивают, словно высоковольтные провода, вообще устраивают птичий переполох, вдобавок вывернув наизнанку свои пиджачишки, и вот так, подкладкой наружу, очень сильно смахивают на родственников той птичье-пугальной семейки, что совсем недавно проводила эстафетные бега взапуски вдоль поспешающего на всех парах скорого межзонального, — словно теперь, по прибытии оного на вокзал Берлин-Зоологический сад, они вот только что примчались передать, вручить вверенную им весть, пароль, послание, а заодно и громко провозгласить: «Он приехал! Приехал! Сейчас будет здесь, только вот купит себе бритвенный прибор да носки и рубашку на смену!» Но все чижики разлетаются, как дым, едва Матерн с помолодевшим псом и аккуратными свертками подходит к Золоторотику:
— Ну что, идем?
Идти-то всего ничего. Сегодня этого кабачка уже нет, но вообще-то вот он, едва наша троица выходит на Харденбергштрассе, прямо напротив кинотеатра «Новости дня», который сегодня, правда, тоже уже в другом месте. Нет, им не в универмаг «Билка», а вот сейчас на зеленый, через Йоахимтальскую, потом десяток-другой шагов по улице Канта, и сразу за магазином спорттоваров их радушно приветствует светящаяся неоновая вывеска: «АННА ХЕЛЕНА БАРФУС» — та самая, что сегодня давно уже моет бокалы за совсем иной, небесной стойкой, но сейчас, когда наша троица на подходе, царственно восседает еще за вполне земной кассой. Когда-то это был дешевый кучерский кабак. Теперь дорожные полицейские захаживают сюда после дежурства. Но и профессора-искусствоведы со Штайнплац[428], и любовные парочки за полчаса до киносеанса. Время от времени появляются и сомнительные личности, которым приходится часто менять профессию. Эти подолгу стоят у стойки, только время от времени, от стакана до стакана, меняют ногу. В придачу надо бы упомянуть юркую пожилую тетю вечно в одной и той же шляпке, которая неизменно получает здесь даровое дежурное блюдо, за что Анна Хелена заставляет ее отчитываться обо всех ее театральных впечатлениях в Фольксбюне[429] — от последней премьеры Артюра Адамова[430] до очередных оваций, сорванных Эльзой Вагнер[431]; ибо сама Барфус походов в театр позволить себе никак не может — касса у нее звенит, не умолкая. И здесь тоже все Золоторотика знают. Его заказ, — «горячий цитрон, пожалуйста» — никому, кроме Матерна, не кажется странным.
— Это из-за горла, да? Однако и сильную же простуду вы подцепили. Еще, чего доброго, будет катар курильщика. Вон вы как садите, смотреть жутко.
Этому голосу Золоторотик внимает вдумчиво. Посредством соломки сообщается с горячим цитроном. Но слушать Матерна и потягивать цитрон — это лишь два дела; третье же — курить сигареты одну за одной, от чинарика одной прикуривать следующую, сам же чинарик немедленно летит за спину: и хозяйка, оторвавшись на секунду от перипетий театрального действа, пересказываемого за даровым дежурным блюдом, одним движением бровей повелевает кельнеру загасить чинарик — но уже после того, как господа расплатились за два пива, один цитрон и три котлетки. Каждый платит за себя, Матерн еще и за пса.
Но и после этого Золоторотику и Матерну с новообретенным псом особо далеко ходить не надо: вверх по Йоахимстальской, потом по зебре перехода через Курфюрстендам и на углу Аугсбургской прямиком в «Белого Мавра». Там они употребляют: Матерн два пива и две рюмки пшеничной; Золоторотик досасывает очередной горячий цитрон до сладкого осадка на самом донышке; псу подается порция свежей — домашнего изготовления! — кровяной колбасы. В общей сложности четыре чинарика приходится раздавить кельнеру за спиной у курилки. На сей раз они не у стойки лепятся, а на пивной столик облокотились. Так что теперь глаза в глаза. И Матерн тоже может подсчитать, сколько раз кельнеру нужно тушить то, что Золоторотик щелкнул за спину в огне и дыме.
— Зачем вы так несусветно дымите, коли и без того простужены в дым?
В ответ на эти тщетные увещевания курилка почти между делом высказывается в том смысле, что хроническая хрипота у него вовсе не от курения, нет, просто давным-давно, когда он еще был некурящий и даже спортом занимался, то ли что-то, то ли кто-то подорвал ему голосовые связки:
— Ну да вы-то конечно помните. В январе это случилось.
Но Матерн, сколько ни взбалтывает остаток пива в своем стакане, никак не припомнит, о чем речь:
— О чем я должен? Разыграть меня решили? Но шутки в сторону, вам правда не стоит вот так все время. А то еще совсем голос… Кельнер, счет. Ну, куда теперь двинемся?
На сей раз за все, включая и кровяную колбасу для новообретенного пса, платит Золоторотик. Но и отсюда им тоже долго не придется подошвы протирать — тут совсем рядом, вон, вверх по Аугсбургской. Трогательные сцены приветствий на вольном майском ветерке, которому, впрочем, нелегко сохранять свою свежесть под напором пряного духа карри из окрестных пивных и закусочных. Одинокие уличные дамы радуются искренне, но не впадая в излишнюю назойливость: «Золоторотик здесь, Золоторотик там!» — и той же песенкой на мотив арии Фигаро их встречает «Закуток Пауля», где им придется сидеть на высоких табуретах у стойки, так как овальный диванчик при столике для постоянных гостей уже занят: все сплошь таксисты с дамочками и бесконечными, как судебный процесс, историями, которые даже торжественно встреченный приход Золоторотика надолго прервать не может, — так что дело ограничивается вежливым интересом к собаке.
— Моему-то, — место, Хассо! — уже одиннадцатый годок пошел.
Расспросы любопытствующих профанов:
— Чистокровный, видать, зверюга. Откуда он у вас?
Словно вовсе не Матерн хозяин пса, а все тот же курилка, который, и не думая отвечать, сразу делает заказ:
— Привет, Ханночка! Тухерское пиво для господина. Мне как обычно. А еще господину стопку пшеничной. Если нет, можно, думаю, и ячменной, верно?
Верно, верно. Тут главное не смешивать. Пить поаккуратней, чтобы голова ясная и рука твердая, в случае чего, наперед никогда нельзя знать.
Матерну приносят его выпивку. Золоторотик тянет через соломку свое обычное. Новообретенный и уже аттестованный одним из таксистов как «чистокровный» зверь получает запеченное вкрутую яйцо, которое Ханночка за стойкой собственноручно для него обколупывает. Обстановка свойская и позволяет от столика к столику и даже от стойки к круглому столу перекидываться вопросами, ответами и почти двусмысленными замечаниями. Так, столик с тремя дамами почти у выхода интересуется, по каким делам — служебным или личным — Золоторотик «опять в наши края». Круглый стол, стена за которым украшена фотографиями боксеров и кетчменов, что в боевой стойке приготовились либо к обмену ударами, либо к особо коварному захвату, этот стол, не замыкаясь на собственных важных темах, любопытствует, как у Золоторотика идут дела. Поминаются некие неприятности с налоговой инспекцией. Золоторотик сетует на очень уж долгие сроки поставок.
— Да это семечки, при ваших-то экспортных заказах! — парируют с диванчика.
Ханночка хочет знать, «как там наша радость», — вопрос, который уже задавался на шумном вокзале Берлин-Зоологический сад и на который Золоторотик что там, что здесь отвечает неопределенным росчерком дымящей сигареты.
Но и в этом заведении, где все в курсе, один только Матерн нет, курилка не перестает швырять окурки за спину, сколько ни подсовывает Матерн ему пепельницу.
— Ну и манеры у вас, скажу я вам. Впрочем, здесь, похоже, давно уже к этим вашим фокусам привыкли. А почему бы вам с фильтром не попробовать? А еще, говорят, жевательная резинка очень помогает. Это же только нервы, и больше ничего. А потом — горло. Не мое дело, конечно. Однако на вашем месте я бы в две недели завязал, категорически. Нет, я правда серьезно беспокоюсь.
Золоторотику нравится, когда Матерн столь многословно проявляет озабоченность его здоровьем. Но всякий раз ему вспоминается, что хроническая хрипота у него вовсе не от безудержного курения, а имеет точно датируемую причину:
— Как-то раз к вечеру, в январе, много лет назад. Но вы-то наверняка помните, господин Матерн. Тогда много снегу намело.
На это Матерн замечает, что в январе снегу, как правило, бывает много. Так что все это пустые отговорки, лишь бы и дальше смолить одну за одной, тогда как именно они, эти гвоздики в крышку гроба, и есть главный корень всех недугов с горлом, а вовсе не какая-то там давняя и совершенно заурядная зимняя простуда.
Следующую выпивку им презентует круглый стол, в ответ на что Матерн считает своим долгом поставить таксистам и дамочкам семь стопок можжевеловки:
— Она родом из тех же мест, откуда я сам. Из Никельсвальде, а Тигенхоф у нас был районный центр.
Однако, несмотря на то, что настроение явно поднимается, Золоторотик, Матерн и новообретенный пес и здесь, в «Закутке у Пауля», долго не задерживаются. Как ни уговаривает их дамский столик у самого выхода, чей контингент, кстати, частенько меняется, и постоянный состав круглого таксомоторного стола, и всеми нежно любимая Ханнушка из-за стойки — «Вечно вы заходите только на минуточку! И давно уже ничего не рассказывали!» — друзья намерены рассчитаться, что, впрочем, не мешает Золоторотику — он с Матерном и псом уже стоит почти в дверях — напоследок все же одну историю поведать.
— Расскажите, как вы балетом командовали!
— Или про оккупацию, когда вы «культур-офицером» были!
— А по мне, так и про червяков неплохо!
Но Золоторотик, похоже, на сей раз настроен на совсем иной лад. Обращаясь в основном к круглому столу, но не обходя и дамский и не забывая, конечно же, про Ханнушку, сиплый голос роняет и роняет слова, тяжелые, отдельные, а таксисты, кивая головами, слушают.
— Совсем короткая история, раз уж мы так хорошо тут сидим. Жили-были когда-то два мальчика. И один по дружбе подарил другому отличный перочинный нож. Этим замечательным ножом другой мальчик делал потом много всего, но однажды все тем же ножом он взрезал кожу на руке у себя и у своего щедрого друга. Так оба мальчика побратались на крови. Ну а потом тот мальчик, которому был подарен нож, в один прекрасный день вздумал швырнуть в реку камень, но камня, чтобы швырнуть в реку, под рукой не нашлось, и тогда он швырнул в реку перочинный нож. Где тот и сгинул безвозвратно.
Почему-то эта история заставляет Матерна призадуматься. А они уже снова в пути: дальше по Аугсбургской, миновали Нюрнбергскую. Курилка уже совсем было собрался свернуть направо, дабы нанести визит кому-то, кого он именует князем Александром, но, заметив мрачную задумчивость своего спутника, решает, что им всем, ему, Матерну и псу, не худо бы немного проветриться, а коли так — по Фуггеровской вперед, через Ноллендорфплац, а потом взять левее на Бюловштрассе.
— Скажите-ка, — это Матерн, — эта история с перочинным ножом, она мне что-то напоминает…
— Ничего удивительного, друг мой, — отвечает хриплый голос. — Это история, можно сказать, хрестоматийная. Ее всякий знает. Вон, даже господа за круглым столом кивали, причем впопад, когда ее слушали.
Матерн, однако, чует какой-то подвох и норовит копнуть поглубже, дабы извлечь на свет божий суть и смысл мудреной притчи:
— Ну а в чем же, так сказать, символика?
— Да Бог с вами! История как история! Полноте, друг мой: два мальчика, перочинный нож, река. История, каких сколько угодно в любой школьной хрестоматии. И назидательная, и запоминается легко.
И хотя теперь история, которую он для себя решил считать притчей, беспокоит его чуть меньше, Матерн все же вынужден снова возразить:
— Вы, по-моему, сильно переоцениваете качество немецких школьных хрестоматий. Там что прежде, что теперь полно всякой дряни. И ничего стоящего, такого, чтобы просветить юношество насчет нашего прошлого и вообще. Сплошное вранье! Чистое вранье и ничего больше!
На это Золоторотик, ухмыльнувшись из-за сигареты:
— Милый друг мой, так и моя хрестоматийная история, пусть вполне назидательная и легко запоминающаяся, — тоже вранье. Взгляните-ка сюда. Помните, в чем была мораль сей басни? Мальчик бросил нож в реку, где тот и сгинул безвозвратно. — А что у меня в руке? А? Посмотрите хорошенько. Он, правда, теперь не такой красивый, как много лет назад. Ну?
На распахнутой ладони, словно выхваченный из воздуха, лежит ржавый перочинный нож. Даже фонарь, под которым стоят Матерн, пес и Золоторотик, — и тот наклонился, чтобы рассмотреть нож, в котором когда-то было три лезвия, штопор, шило и пилка.
— И вы считаете, это тот самый, про который говорится в вашей истории?
Радостно выделывая своей черной тростью всякие трюки, Золоторотик готов, судя по всему, подтвердить что угодно:
— Да-да, это тот самый перочинный нож из моей хрестоматийной истории! Только прошу вас, ради всего на свете, не говорите больше ничего плохого о немецком школьном учебнике! Он столь же плох, сколь и хорош. Назидательную мораль в конце, как вот с этим новообретенным ножом, составителям в большинстве случаев приходилось убирать ввиду ее нестерпимой и опасной для хрупкого детского сознания правдивости. Но в целом дух у немецких учебников правильный, высокоморальный и назидательный.
«Хижина Бюлова» уже распахнула нашей троице свои объятия, Золоторотик уже готов вернуть новообретенный перочинный, нож воздуху, самой надежной кладовке для своего реквизита, торопливое воображение уже видит наших друзей у стойки или в креслах уютного «Зеленого зала», «Хижина Бюлова» уже вот-вот их поглотит, чтобы выплюнуть лишь к утру — ибо ни одно заведение вокруг Апостольской церкви не переваривает своих гостей столь же долго, тщательно и со вкусом — как вдруг на курилку находит блажь щедрости.
Покуда они пересекают Курфюрстендам, чтобы потом, свернув направо, отдаться неумолимой прямизне Потсдамской улицы, эта блажь дарителя-благодетеля-мецената ищет выражения в следующих словах:
— Слушайте внимательно, друг мой! Эта ночь — почти безоблачная и с такой расточительно ясной луной — настраивает меня на великодушный лад: вот, возьмите! Мы, правда, оба давно уже не мальчики, да и рискованно было бы таким ржавым ножом взрезать себе кожу, то бишь заключать кровное братство, тем не менее — возьмите. Дарю от чистого сердца.
Поздней ночью, когда месяц май полнит своим цветуще-зеленым великолепием все аллеи и кладбища, зоосад и парк Клейста, Матерн, уже облагодетельствованный сегодня новообретенным и омоложенным псом, получает еще один подарок: неожиданно тяжелый и, как он тут же успевает убедиться, не раскрывающийся от ржавчины перочинный нож. Вежливо поблагодарив, он не может — как бы в качестве ответного дара — еще раз не высказать свою озабоченность хрипотой Золоторотика и его больным горлом.
— Прошу вас, сделайте мне одолжение. Я ведь не изверг какой-нибудь, ничего невозможного не потребую, но прошу вас — каждую третью сигарету давайте пропускать! Я вас, конечно, всего несколько часов знаю, но тем не менее. Возможно, вам это покажется навязчивым и смешным. Но я правда серьезно о вас беспокоюсь.
Но какой прок от уговоров, если курилка снова и снова твердит, что истинная причина его хрипоты — давний январский мороз, в одночасье обернувшийся оттепелью; и хоть Матерн по-прежнему винит во всем сигареты, Золоторотик считает их совершенно безвредными и даже более того — жизненно необходимыми.
— Только не сегодня, друг мой! Знакомство с вами так меня взбодрило. Но завтра, да, вот завтра мы начнем новую жизнь. А сегодня — давайте-ка лучше завернем вот сюда. Ибо признаюсь вам, как на духу: горячий цитрон мне и моему горлу сейчас очень бы даже не помешал. Вон тот дощатый сарай, временное, конечно, заведение, чтобы не сказать халупа, пусть лицезреет нас вместе с псом. Вы получите здесь ваше пиво и вашу рюмашку, мне подадут, как обычно, ну, а уж для доброго старого Плутона найдутся котлетки или сосиски, яйцо вкрутую или там отбивная — мир так разнообразен!
Какая декорация! На заднем плане вздымается громада старого дворца спорта — обшарпанная, заброшенная, никому не нужная; на переднем же толкутся, — впрочем, оставляя между собой пролеты свободного пространства, — дощатые будки, служащие самым разным ремеслам и промыслам. Одна сулит скорые покупки. Вторая заманивает шашлыками, жареными колбасками и все тем же неистребимым ароматом карри. В этой круглосуточно готовы подтягивать петли на дамских капроновых чулках. Четвертая сулит выигрыш в тотализаторе. А вот седьмая, из сборных барачных конструкций, под названием «У Йенни», и должна послужить очередным пристанищем нашему трио.
Но прежде чем они сюда завернут, Матерну нужно именно сейчас, еще на вольном майском воздухе, а не в седьмой будке, задать назревший у него вопрос:
— Скажите, этот перочинный нож, ну, который теперь мой, где вы его раздобыли? Не могу же я в самом деле поверить, что это тот самый, который мальчик — ну, из вашей истории, — выбросил в реку.
А курилка уже зацепил дверную ручку рукоятью своей прогулочной трости, — он все заведения, где они побывали: кафе-бар Анны Хелены Барфус, лауферсбергерского «Белого Мавра», «Закуток Пауля» и даже «Хижину Бюлова», если б ноги туда дошли, отмыкает подобным образом, — уже Йенни, хозяйка забегаловки, неспроста, значит, названной «У Йенни», вот-вот обрадуется приходу дорогих гостей, ибо она-то знает, кто нынче пожалует, и уже начала выжимать лимоны, — но тут сиплый голос Золоторотика в ответ и в объяснение говорит таковы слова:
— Вы готовы внимательно следить за моей мыслью, друг мой? Мы говорили и все еще говорим о перочинных ножах. Каждый перочинный нож когда-нибудь, в самом начале, бывает совсем новым. А потом, по мере пользования — либо в исконном своем качестве, как нож, либо в ином, отчужденном, — как пресс-папье или противовес, или, допустим, в связи с отсутствием под рукой каменного предмета для зашвыривания в реку, как предмет для зашвыривания в реку, — он находит самое разнообразное применение. Каждый перочинный нож рано или поздно теряется. Ножи крадут, забывают, их конфискуют или, скажем, выбрасывают. Однако половину всех существующих в этом мире перочинных ножей составляют ножи найденные. Эти последние, в свою очередь, можно подразделить на найденные просто так и счастливо новообретенные; к каковым, вне всяких сомнений, относится и вот этот, найденный мною, чтобы вручить его вам, исконному владельцу. Или вы здесь, вот на этом самом месте, на углу Паластштрассе и Потсдамской, здесь, в виду вот этого исторического, впрочем, и ныне действующего дворца спорта, здесь и сейчас, прежде чем нас проглотит эта вот дощатая будка, станете утверждать, что вы никогда в жизни не имели, а значит, никогда и не теряли, не забывали и не выбрасывали, то есть, следовательно и в конечном счете, никогда и не находили никакого перочинного ножа? — А ведь организация этого скромного праздника возвращения новообретенного ножа потребовала от меня кое-каких усилий. В моей хрестоматийной истории говорится: «Перочинный нож упал в реку и сгинул там безвозвратно.» «Безвозвратно» — слышите? — вот это и есть вранье! Ибо бывает, что рыбы заглатывают перочинные ножи, а потом кончают свой век под ножом кухарки; но кроме того, бывают и самые обычные землечерпалки, которые все без разбора тащат со дна на свет божий, в том числе порой и выброшенные перочинные ножи; ну, а кроме того, иногда помогает случай, но на сей раз он остался не у дел. Годами, — раз уж мы заговорили о моих трудах, — так вот, годами и не стесняясь затратами я подавал одно прошение за другим, не останавливался даже перед прямым подкупом крупных чиновников различных водорегулирующих учреждений, дабы в конце концов, и то лишь благодаря сговорчивости польских властей, получить желанную лицензию: в дельте Вислы, — ибо нож, как мы с вами прекрасно знаем, был брошен в Вислу, — землечерпалка, которую по распоряжению из Варшавы специально для меня туда направили, извлекла со дна на свет божий искомый объект примерно в том самом месте, где то ли в марте, то ли в апреле одна тысяча девятьсот двадцать шестого года он с этим светом вынужденно распрощался: между деревнями Никельсвальде и Шивенхорст, но поближе к никельсвальдской дамбе. Сколь несомненная и однозначная находка! А ведь до того я годами гонял землечерпалки вдоль южного побережья Швеции или в Ботническом заливе; все намывные отмели вдоль полуострова Хела были за мой счет и под моим присмотром обшарены вдоль и поперек. Завершая, таким образом, тему искомого объекта, мы можем с полной уверенностью сказать: нет никакого резона бросать перочинные ножи в реки. Каждая река возвращает перочинные ножи без всяких разговоров. И не только ножи! Столь же бессмысленно было спускать в Рейн так называемые сокровища Нибелунгов. Ибо найдись чудак, который всерьез — примерно так же, как я судьбой перочинного ножа, — заинтересовался бы схороненными богатствами этого беспокойного семейства, заветный клад Нибелунгов тоже выплыл бы на свет божий и давно нашел бы себе место, — в отличие от перочинного ножа, чей законный владелец жив и пребывает в добром здравии, — в одном из краеведческих музеев. — Ну да хватит нам болтать на проходе. И не надо благодарностей! Разве что еще минутку терпения, дабы выслушать от меня маленький совет: обращайтесь с новообретенным имуществом чуть бережнее. Не бросайте его в реку Шпрее, как когда-то бросили в Вислу; хотя Шпрее отдает перочинные ножи еще более охотно, чем Висла, на которой вы выросли — по выговору, кстати, это и сейчас еще слышно.
И снова Матерн с неразлучным псом у ноги стоит возле стойки, ухватившись левой рукой за пивную кружку, а правой за двойную стопку пшеничной. И пока он умствует — «да откуда он знает, да как он до всего этого?» — Золоторотик с хозяйкой забегаловки, где кроме них и посетителей-то нет, разыгрывают сцену встречи, отдельные возгласы которой — «Йенни радость моя! Йенни лапочка! Йенни сердечко мое!» — свидетельствуют о том, что тощая особа за стойкой внушает Золоторотику чувства, которым явно тесно в четырех барачных стенах. И покуда эта старая вешалка в обвислой вязаной кофте жмет сок из лимонных половинок, Матерна заверяют, что именно эта Йенни, и есть Серебряная Йенни, во-первых, а к тому же еще и Снежная Королева, во-вторых.
— Однако мы не будем называть ее Ангустри, потому что это настоящее ее имя настраивает ее на меланхолический лад, напоминая ей о Биданденгеро, если вам когда-нибудь приходилось об этом господине слышать…
Матерн, в глубине души все еще препирающийся сам с собою из-за ножа, отнюдь не намерен утруждать свою память неудобопроизносимыми цыганскими именами и созерцанием дешевенького серебряного перстенька. Для него эта столь расхваливаемая Йенни — по ней же сразу видать — всего-навсего одна из многих отплясавших свое кордебалетных цапель; весьма проницательное наблюдение, полностью подтверждаемое и оформлением забегаловки: если в «Закутке Пауля» стены были увешаны фотографиями дюжих кетчменов и боксеров с расплющенными носами, то заведение Йенни украшают станцованные кордебалетом балетные туфельки: слегка покачиваясь, они свисают с низкого потолка — бледно-розовые, когда-то серебряные и лебедино-озерно-белые. Ну, и конечно, фотографии разных там жизелей. Золоторотик сведущим пальцем тыкает в аттитюды и арабески:
— Слева внизу — это Дееге. Такая всегда нежная, такая лиричная! Это вон — Свеа Кёллер, потом Скорик, Мария Фриз в ее первой главной роли — Дульсинеи. А вон там, рядом с бедняжкой Леклерк[432], наша Йенни Ангустри вместе со своим партнером Марселем, который в ту пору, когда Йенни танцевала с ним дочку садовника, еще носил простецкую и запоминающуюся фамилию Фенхель.
Значит, эта забегаловка — артистическое кафе. Сюда наскоро заглядывают после спектакля, чтобы повстречать, если посчастливится, маленького Бредова или Райнхольма, сестер Веско, Клаусика Гайтеля или балетного фотографа Рама, того, кто отретушировал большинство из вывешенных здесь фотографий, ибо кому охота, чтобы все жилы на шее видны, да и подъем каждому хочется самый высокий…
Ах, сколько же порывов тщеславия и секундных мигов красоты пережили, перетанцевали все эти балетные туфельки? Кажется, невзирая на пивной кран, бутыль «Райдемайстера», шеренгу других доблестных напитков, от бренди «Мампе» до можжевеловки «Штоббе», в кабачке пахнуло потом, канифолью, прокисшими балетными трико. А тут еще эта коза за стойкой, про которую Золоторотик утверждает, что она, как никто, умет готовить горячий цитрон. Уже сейчас, после первых жадных и живительных глотков, нахваливает курилка, по всему горлу расходится тепло, и его голос — в мальчишестве он взлетал под самый церковный купол — припоминает самые головокружительные моцартовские арии, ничего, скоро и до этого дойдет, еще только несколько стаканчиков Иенниного божественного, Йенниного фирменного цитрона, и он пробудит в себе ангела и заставит того маленько возликовать. И хотя так, на слух, Матерн и впрямь вроде улавливает в голосе Золоторотика кое-какие нотки улучшения, он и сейчас не станет таить своей озабоченности:
— Может статься, цитрон тут и вправду особенный, а коли вам так нравится — так пусть даже и вкусный. Вот и пили бы только свой сок, а это безудержное и, я бы даже сказал, ерническое курение пора прекратить.
Опять они о том же: «Не кури так много, жить останется так мало!» На что курилка ловким ногтем вскрывает очередную пачку «Нэви Кэт» и, не предлагая ни Матерну, ни хозяйке кабачка Йенни, обслуживает исключительно самого себя, пренебрегая, ко всему прочему, даже спичками, поскольку всякую новую сигарету неизменно поджидает ее догорающая подруга, и только дождавшись — хоп-ля! — летит на половицы, где может валяться, гаснуть или тлеть сколько душе угодно, а то и — как знать — подыскивать себе новую пищу.
Благо на сей раз ни один кельнер деликатной тенью не скользнет Золоторотику за спину и не загасит стоптанным каблуком тлеющие экскременты особенно дорогого гостя, — именно так, экскрементами, называет Золоторотик свои чинарики, неизменно отправляемые за спину.
— Они, друг мой, являют собою, если угодно, мой экзистенциальный стул. Да-да, не убоимся этого слова, равно как и самого жизненно важного процесса. Отходы, отбросы… А мы разве нет? Или не станем со временем? И не ими ли мы живем? Взгляните, да не пугайтесь вы так, на этот вот стакан горячего цитрона. Пора, пожалуй, — верно, Йенни? — открыть вам один секрет. Обычный напиток в этом стакане превращают в совершенно особое питье не отборные лимоны, и не какая-то привозная вода, нет — всего лишь чуток, на кончике ножа, слюды, добытой из слюдяных гнейсов и слюдяного гранита, добавляется в стакан, — видите этих крохотных серебристых рыбок? — а еще — выдаю вам древний цыганский рецепт! — три капли бесценной и божественной эссенции, которую наша дорогая Йенни всегда держит для меня про запас, придают моему любимому напитку столь чудодейственный вкус, что для моего горла это как бальзам. Вы уже догадываетесь? Вы уже почувствовали его на языке, это омерзительное, но такое великое слово, вы подозреваете ту же эссенцию и в вашем светлом пиве, вы уже отворачиваетесь, вас передергивает от отвращения, вы вот-вот в ужасе закричите: «Моча! Моча! Бабьи ссаки!» — но нам, Йенни и мне, не привыкать, нас не впервой заподазривают в том, что мы тут разводим ведьмовскую кухню; так что вы уже прощены — не так ли, Йенни? — и между нами снова воцаряется согласие и мир под этим небосводом станцованных и усталых туфелек, уже снова, и не в последний раз, наполняются стаканы и стопки, моему гостю не повредит еще одно пиво и рюмка пшеничной, пса пусть порадуют котлеты, ну а мне, курилке, который курит, дабы все знали: «Глядите, он курит, значит, он существует!»; мне, которому одним январским вечерком внезапная оттепель навсегда сорвала голос; мне, от кого не спрячется ни один перочинный нож; мне, кому ведомо множество хрестоматийных историй, — про подгорающего гуся и про сосущих молоко угрей, про двенадцать рыцарей без голов и двенадцать монахинь без голов, равно как и глубоко назидательная история про птичьи пугала, которые все созданы по образу и подобию человечьему; мне, выжившему курилке, который садит одну за одной и бросает за спину то, что только что дымилось во рту — экскременты! экскременты! — мне, Золоторотику, который с детства мечтал иметь во рту вместо скучных нормальных зубов тридцать два золотых зуба; так вот, мне, курилке с золотыми зубами, — этим сокровищем я обязан другу, который избавил меня от моих натуральных челюстей, — мне, избавленному, пусть подадут горячий цитрон, которому биотит и московит подарили толику слюдяных зайчиков на кончике ножа, цитрон, облагороженный бесценной Йенниной эссенцией, дабы мы сдвинули стаканы и чокнулись — за что? — да за дружбу, конечно, и за вечнотекущую Вислу, за все ветряные мельницы, вертящиеся и заброшенные, за черную лаковую туфельку с пряжкой, которую носила дочка сельского учителя, за воробьев — веборов! — над волнистыми просторами пшеничных полей, за лейбгренадеров Фридриха Второго Прусского, который так любил задавать всем перцу, за пуговицу от мундира французского драгуна, что остался в недрах церкви Святой Троицы отметиной истории, за скачущих жаб и дергающиеся саламандровые хвостики, за славную немецкую лапту, нет, вообще за Германию, за соусы немецкой судьбы и клецки немецкой надежды, за немецкий прапудинг и лапшу немецкой душевности, выпьем за аистов — адебар! — которые приносят детей, равно как и за того косаря, что придумал песочные часы, но и за Акционерную пивоварню Адлера и за «Цеппелина» высоко в небе над стадионом Генриха Элерса, за столярных дел мастера и за концертирующего пианиста, за мятные леденцы и за дурман костного клея, за дубовые панели и зингеровскую швейную машинку, за наш храм культуры, в просторечии «кофемолка», и за сотню столь богатых ролями книжонок издательства «Реклам», за хайдеггеровское бытие и за хайдеггеровское время, равно как, конечно же, и за классический труд Вайнингера, то бишь за напев и чистую идею, за простоту, стыд и достоинство, за трепет перед и потрясение после, за честь и истинную эротику, за милосердие, любовь и юмор, за веру, немецкий дуб и мотив Зигфрида, за трубы и славный штурмовой отряд номер восемьдесят четыре; за того январского снеговика, который меня отпустил, чтобы я, курилка, выжил. Я курю, значит, я существую[433]! Давай чокнемся, Вальтер, за меня и тебя! Я существую, значит, мы чокаемся! Ты говоришь — «Горит!» — и все равно давай чокнемся! Ты считаешь, пора вызывать пожарных — но чокнемся пока что без них! Ты уверяешь, что мои экскременты, или, по-твоему, чинарики, повергли в пламя эту юдоль утомленных балетных туфелек, которую ты презрительно именуешь халабудой — прошу тебя, оставь пожар в покое и давай, наконец, чокнемся, ибо мне не терпится выпить мой горячий цитрон, о, этот божественный горячий цитрон!
И друзья чокаются, невзирая на пожар, что расползается по полу и уже начинает полизывать барачные стены. Пивная кружка и стакан цитрона встречаются в воздухе и издают подобающий такому случаю звон, в то время как под потолком до смерти измученные балетные туфельки, воспрянув от занимающегося жара, начинают свой удивительный балет: эшапе круазе, эшапе эфасе, — ассамбле, ассамбле — пти батман сюр ле ку-де-пье. Ах, какой же это замечательный балетмейстер — огонь! Но уж поистине достойное оваций чудо совершает тем временем горячий цитрон: капли йенниной эссенции вкупе с толикой слюдяных блесток на кончике ножа уже оказывают свой волшебный эффект — мягким, чуть высоковатым и, пожалуй, немного тихим, а потому за балетмейстерской работой пожара не всегда разборчивым тенорком Золоторотик, не прекращая курить даже в условиях пламенного окружения, рассказывает свои захватывающие хрестоматийные истории, с моралью и без. Матерн, тоже не будь лодырь, в ответ выдает свои, заполняющие, кстати, кое-какие пробелы в историях Золоторотика. Да и у Йенни, хозяйки за стойкой, свои истории имеются. А вокруг этого увлеченного историями квартета — ибо пес Плутон, конечно, слушает — огонь рассказывает свою, которая так нравится приплясывающему от жара кордебалету под потолком, что он отвечает дружными и точными па де ша и, не зная усталости, перебирает ножками: па де буре, па де буре! И покуда фотографии, пестря аттитюдами и арабесками, начинают обугливаться с нижних краев; покуда у стойки очередная история Золоторотика, дополненная матерниадой, плавно перетекает в искрометно-цитронную Йеннину историю; покуда, значит, фотографии бугрятся и чернеют, историям нет конца, а разгулявшийся над пламенем кордебалет выделывает совсем уж немыслимые глиссады, — на улице пожарная команда начинает тянуть свою, нескончаемую, как пожарный шланг, волынку.
Престо[434]! Золоторотику пора со свими птичье-пугальными историями поторапливаться; Матерну со своими собачьими тоже самое время закругляться; да и Йенни не худо бы подвести к финалу свою легенду о слюдяных гнейсах, где действуют лесные гусары и смугляки, то бишь просто цыгане, и все должно закончиться веселым праздником с угощением из запеченных ежей; ибо ни Золоторотику, ни хозяйке, ни толкующему пса в притчевом смысле Матерну не дано рассказывать свои истории столь же быстро, как огонь умеет пожирать дерево. Статичные аттитюды и арабески на фотографиях уже начинают оживать в пламенной динамике. Изобретательная хореография уже сближает непринужденные паз ассамбле кордебалета вверху с широкими и размашистыми, огненными мужскими па жете снизу. Короче говоря: уже вся забегаловка, за исключением крохотного островка увлеченной своими историями стойки, горит ярким пламенем. А раз так — совсем по-быстрому еще историю о засаде птичьих пугал в битве при Лейдене. А после Матерн со своей историей о том, как он по наущению Девы Марии отравил черного пса. Хозяйка трактира Йенни — о, как идет ей огонь, как оживает в волнах жара былая Жизель в ее увядших чертах — эта вновь расцветшая красавица еще успеет скорыми, острыми, сверкающими, как слюдяные зайчики словами поведать о том, как мало, в сущности, нужно добавок, чтобы превратить обычный цитрон в заветный, животворный эликсир Золоторотика.
— Рассказывайте, дети мои, рассказывайте! — воодушевляет Золоторотик, уже с новой сигаретой в зубах, всю честную компанию у стойки, включая задремывающего пса. — Не дайте ниточке порваться, дети мои! Ибо покуда мы рассказываем — мы живем. Покуда нам еще приходят на ум истории, с моралью или без, про собак, угрей, птичьи пугала, про крыс, наводнения и рецепты, истории лживые и хрестоматийные, и покуда нас еще способны развлекать истории — до тех пор никакой ад нам не страшен! Рассказывай, Матерн, если тебе жизнь дорога!
Балет кончился под бурный треск аплодисментов. Девятихвостые языки пламени взметываются и совокупляются налету. Барачные стены доблестно встречают свой удел. Пожарники доблестно выполняют свое назначение. И жар был бы уже непереносим, если бы Матерн не умел остудить его своей январской морозно-трескучей историей:
— Такие морозные зимы только на востоке и бывали. И если уж там снег шел, то по-настоящему, целыми днями. И все, бывало, заметет, все! Потому и снеговики на востоке еще и тогда были куда больше, чем на западе. И когда оттепель наступала, ей работы было будь здоров! Еще предки мои, давно, когда фамилия у них была не Матерн, а Матерна, так вот, они в январе, когда от Хелы до самого устья Вислы все подо льдом…
Что-что, а уж начинать издалека, да еще при хорошем освещении, Матерн умеет. Огонь подает себе первое, выплевывая дочиста обглоданные на закуску косточки-досточки и раскаленные гвозди, бесшумно подлизывает вытекающее из бочонков пиво, взрывает батареи бутылей, штофов, пузырей — «Райдемайстера» и можжевеловку «Штоббе», округлую рябиновую и граненого «Штайнхегера», простецкую сивуху и благородные дистиллаты, настойку-малиновку и мягчайший французский коньяк «Бисквит», дешевое бренди и настоящую араку, виски «Белую лошадь», «Блэкбери», шерри, «Картхойзер» и джин, стройную тминную и такой сладкий «Кюрасао», ликер «Эттальский монастырь» и гусарский лимонад, то бишь шампанское… Спиртное… Какое красивое, всеобъемлющее, в трансценденции уводящее слово! И пока один винный дух возгорается о другой, Матерн, начав издалека, нанизывает матерниаду на матерниаду:
— Их, братьев, было двое. И начинается вся катавасия с Грегора Матерны в одна тысяча четыреста восемьдесят восьмом. Когда его, как он из Данцига прибыл, в Лондоне обвесили солью и тем нанесли обиду. За которую понятно что — кровь! А потому он вернулся и потребовал своего права, но не добился. И тут же учинил бучу при дворе короля Артура, куда никому при оружии входить не дозволялось, а он вошел, да еще и применил. За что его и объявили вне закона, так-то вот. Но он, не будь дурак, нашел себе компаньонов: а именно, остатки той разбитой банды, что прежде под началом подмастерья мясника Ханса Бригера творила смертоубийства и учиняла пожары вроде вот этого; Бобровский тогда к нему прибился и Хильдебранд Бервальд, чтобы многих-то не называть. Словом, пока суд да дело, в Зубкау одно, в Эльбинге другое, а потом подался он в орден к тевтонцам, в самую январскую стужу, и выпустил там дух из старосты Мартина Рабенвальда, чтобы после этого залить его по самые уши свинцом, ну, а потом, потому как холода все не унимались, стал баловаться главным образом поджогами: весь Долгосад с церковью Святой Варвары и больницей при ней — то-то крику было — спалил подчистую. От Широкого переулка, со всеми его веселыми росписями, — одни пепелища. Но в конце концов его все-таки поймали и вздернули — Цантор, познаньский воевода, это сделал. В сентябре, четырнадцатого числа, в году одна тысяча пятьсот втором, так-то вот. Но кто думает, что на этом дело закончилось, тот сильно ошибается и еще погорит. Ибо на сцену выходит Симон Матерна, дабы отомстить за брата, и жжет, что зимой, что летом, направо и налево, что дома ремесленников, что тучные данцигские амбары. Под Путцигом он держит целые склады с дегтем, смолой, серой, и приставляет три сотни девиц — по слухам, все как одна были девственницы — крутить фитили из пакли. Монастырям Олива и Картхаус он платит за то, чтобы трудяги-монахи изготовляли для него факелы. Снарядившись таким образом, он устраивает поджог до небес — Петрушечный и Столярный переулки горят у него как свечки. Двенадцать тысяч свиных колбас, сто три барана и семнадцать волов — это не считая всяких там курей, жирных пойменных гусей и кашубских уток — он велит зажарить, да еще чтобы с корочкой, на специально заложенном большом огне, дабы всех бедняков города, — голытьбу из Хакеля, калек и увечных из больницы Святого духа, прочую рвань и босяков, кто приковылял и притащился из Маттенбудена и Молодой Слободы, — всех, накормить досыта, да-да, досыта накормить! Подпустите-ка красного петуха в дома богатеев, пусть полыхнут дымком да огоньком! Пусть в красном перце пожара как следует подрумянится пропитание для сирых и недужных! Да, Симон Матерна, вот кто, если б они и его не поймали и тоже не вздернули, вот кто мог бы развести такой всемирный пожар, что всякой угнетенной твари достался бы сочный кусок мяса на вертеле. Вот от него-то, от первого классово-сознательного поджигателя, я и веду свой род, так-то! И социализм все равно победит, вот так!
Эти крики, равно как и последовавший за ними нескончаемый хохот, — это Золоторотик выдал парочку из своих веселеньких хрестоматийных историй, — очевидно, придавали зрелищу горящего барака нечто жуткое, чтобы не сказать адское, так что не только обычные, и без того падкие на суеверия и любую чертовщину зеваки, но и стойкие западноберлинские пожарники, — даром что все добрые протестанты, — поспешили перекреститься. Следующая волна дьявольского хохота вмиг согнала с крыши все четыре доблестных пожарных звена. Недолго сворачивали усатые дяди в шлемах свои бесценные пожарные шланги. Сарай, он сарай и есть, пусть горит, тем паче, что на соседние будки огонь загадочным образом почему-то не перекидывается, — так, примерно, рассудив, пожарные с обычным шумом и помпой укатывают восвояси. И даже дежурного не оставляют отследить догорание объекта, ибо не находится смельчака, чтобы спокойно такое слушать: в геенне огненной пируют адские гости, то выкрикивая прокоммунистические лозунги, то заходясь мерзким хохотом, а то вдруг выпустив напоследок тенора, который заходится чище и выше самого высокого пламени, да еще по-латыни, как поют в католических церквях, оскверняя добропорядочную протестантскую Потсдамскую от здания Контрольного совета и до самой Бюловштрассе. Да, такого дворец спорта еще не слыхивал: молитва, от которой искры летят, такая «Gloria in excelsis Deo»[435], что даже загребущим лапам огня впору благоговейно сложить персты. Это, конечно, Золоторотик выводит свои арии. Дивным, в слюдяных переливах и стройным, как лимонное дерево, голосом он, — покуда пламя, сметя подчистую второе и все еще не насытившись, подбирается к десерту, — верует, по-детски чисто и непосредственно, «in unum Deum»[436]. За пленительным «Sanctus»[437] следует «Osanna»[438], которой Золоторотик умеет сообщить эхоподобное многоголосие[439]. Когда же в мягчайшем анданте бенедиктуса он бьет все рекорды высоты, Матерн, чьи глаза легко переносили самый едкий дым, не может сдержать слезы:
— Прошу тебя, пощади, только «Agnus Dei»[440] не надо!
Но лишь дружный и радостный хорал избавит его от терзающего душу надрыва, который, похоже, берет за живое и хозяйку Йенни, и даже пса, и утрет им слезы шелковыми платочками утешения: это Золоторотик все тянет и тянет «Dona Nobis»[441] — до тех пор, покуда благодарные слушатели вновь не приходят в себя, а пожар во всех своих всполохах, языках и даже маленьких искрах вдруг разом не утихает, сморенный внезапным сном. «Amen»[442], торжественное и гулкое, прокатывается над этим сном пианиссимо и укрывает, словно одеялом, обугленные балки, расплавленное стекло и утанцевавшийся в прах и пепел пламенный кордебалет.
После чего и сами они, тоже изрядно устав, покидают, пройдя вдоль неведомо как уцелевшей стойки, объятое последним сном пепелище. Осторожно, за шагом шаг, пес впереди, овладевают, как вражеским тылом, никем, кроме фонарей, не охраняемой Потсдамской улицей. Йенни, наконец, признается, как она устала. Ах да, ведь за вечер еще не заплачено. Золоторотик объявляет себя гостеприимным хозяином. Йенни намерена идти домой одна:
— Мне и так никто ничего не сделает.
Однако кавалеры настаивают на своем сопровождении. На Манштейнской улице, напротив «Лайдеке», они, наконец, говорят друг другу «спокойной ночи». Уже у двери Йенни, это Бог весть как уцелевшее создание, говорит:
— И вы тоже отправляйтесь по домам. Старые гуляки. Будто завтра им дня не будет.
Но для двух других существ, которым, похоже, выжить важнее, чем просто уцелеть, ночь еще не кончилась. И сопровождающая их бессмертная тварь держится на своих четырех лапах бодро и бдительно.
— К ноге, Плутон!
Ибо остатки сладки, и надо их добрать. Один остаток — это некое количество сигарет, которые, все так же поджигая одна другую, движутся своим путем — по Йоркской вверх, мимо Американской библиотеки и дальше; но есть и еще один остаток, так сказать, беспредметный, он навяз в зубах и очень им мешает, всем тридцати двум.
Но Золоторотику эта музыка по душе:
— Как приятно, Вальтер, снова, как в блаженные времена Амзеля, слышать твой скрежет зубовный.
Матрен, однако, себя самого даже не слышит. Его душа — ибо и у Скрипуна есть душа — превратилась в ринг, а на ринге идут жестокие схватки. Всю дорогу по Цоссенскому мосту и вдоль Урбанхафен дюжие кетчмены не выпускают друг друга из клинча. Сам черт не разберет, кто там кого хочет бросить на лопатки! Похоже, тут весь род Матернов на ринге собрался — все сплошь богатыри-забияки, высматривают себе достойных противников. Ну что, способен Золоторотик на ринг выйти или слабо? Опять пустился в свои ернические рассуждения и курит свои ернические, все и вся подвергающие сомнению сигареты. Все, что еще недавно из геенны огненной возносилось в однозначно ликующем «верую» — «credo», теперь, возле Адмиральского моста вновь распадается на множестве сипло-блудливых «но» и «если». Нет, видите ли, на свете ничего чистого. И обязательно все святое поставить вверх тормашками, да еще чтоб тормашки всенепременно торчали. Его любимый конек: «Пруссаки вообще и немцы в особенности.» Рассыпается в похвалах, но каких-то гнусненьких похвалах, этому народу, под которым столько выстрадал, до снеговика и после. Так не годится, Золоторотик! Даже если на дворе май и почки лопаются: негоже влюбляться в своих убийц!
Но и его любовь к Германии, если как следует прислушаться, попахивает весьма циничными лаврами, понатасканными из навощенных погребальных венков. Вот, к примеру, какие признания исторгает у него вид берлинского канала Тельтов:
— Ты не поверишь, мне удалось выяснить, что — как это в песне поется? — «от Этша и до Бельта, от Мааса и до Мемеля»[443] выпускалась и выпускается лучшая в мире, самая стойкая, то бишь никогда не блекнущая штемпельная краска.
Уже прежним своим простуженно-сиплым голосом курилка развешивает свои сентенции на когтистые здания вдоль Майбахской набережной. Скачущая по углам губ сигаретка — гвоздь от гроба — говорит вместе с ним:
— Нет, дорогой Вальтер, ты можешь сколько угодно хаять твою великую отчизну — а я вот немцев люблю. Ах, до чего же они таинственны и исполнены богоспасительной забывчивости! Будут подогревать себе гороховый супчик на синем газовом пламени и ни о чем не вспомнят! А кроме того, нигде в мире не делают таких коричневых, таких добротно-мучнистых соусов и подливок, как здесь…
Но когда они доходят до того места, где вяло текущие, но с неукоснительной прямотой канализированные воды раздваиваются — по левую руку они уходят к Восточной гавани, прямо напротив упираются в советский сектор, а направо продолжают течение канала Тельтов — когда они вместе с псом оказываются на этом торжественном месте — ибо напротив них Трептов-парк, монумент Солдату-Освободителю, кто ж его не знает? — Золоторотик позволяет себе высказывание, которое, хотя и вполне достойно данной канальной развилки, влечет за собой много всякой дряни:
— Что верно, то верно: из всякого человека можно со временем сделать птичье пугало; ведь в конце концов, — об этом никогда не следует забывать, — птичье пугало создается по образу и подобию человеческому. Но из всех народов, что живут на земле, так сказать, в качестве птичьепугального арсенала, именно в немцах — даже в еще большей степени, чем в евреях — есть все задатки, чтобы однажды подарить миру этакое всем пугалам пугало, так сказать, прапугало.
Матерн молчит, ни слова не проронит. Птахи, уже проснувшись, и те снова прикидываются спящими. Но скрежет зубовный, такой знакомый, кто ж его сдержит… И ботинок уже беспокойно шарит по гладкой мостовой — как назло, ни камушка. «Ну чем же, чем? Коли голыша нигде? Не носками же и не рубашкой на смену? Бритвенный прибор в этой погорелой халабуде остался. Тогда… Или самому — головой в воду, и в тот сектор. Ведь хотел же, а все еще зачем-то тут торчу. Но лучше… лучше…»
И он уже замахивается от плеча, и в кулаке у него кое-что зажато, о, какая впечатляющая, какая рельефная поза! Золоторотик не нарадуется такой превосходной координации. Плутон напрягся. И Матерн бросает, бросает далеко, что есть мочи — а что же еще? — ну да, тот же самый перочинный нож. То, что не без некоторого сопротивления вернула Висла, он отдает берлинскому каналу Тельтов — как раз в месте его развилки. Но едва перочинный нож с обычным всплеском и, как кажется, безвозвратно исчезает под водой, Золоторотик уже тут как тут со своим дружеским утешением:
— Ах, дорогой Вальтер, не огорчайся. Для меня это сущий пустяк. Необходимый для отыскания объекта участок канала будет временно осушен. Течение здесь слабое. Не пройдет и двух недель — и твой добрый старый перочинный нож опять к тебе вернется. Ты же помнишь — он сделал нас кровными братьями.
О, бессилие, высиживающее яйца ярости, голой и без всякого пушка! Вальтер выпускает слово. О, ярость человеческая, вечно ищущая слов и в конце концов хоть одно да находящая! Матерн вонзает это одно, одно-единственное, заточенное, меткое. О, ярость, о, человеческая, которой одного раза всегда мало и в повторах чается новизна! Много раз подряд — слово! Пес стоит. Канал раздваивается. Золоторотик даже забывает прикурить сигарету от догорающего чинарика. Лейтмотив, красной нитью и кровью. Матерн прицеливается и говорит:
— Абрашка!
Окончательно проснулись воробьи. О, дивное и мягкое пробуждение майского утра под разделенным надвое небом. О, ночь, минувшая, и день, еще не наставший. О, междучасье, когда вымолвленное словечко «абрашка» еще не упало, еще временит, еще парит в воздухе…
Падает не словечко, падает Матерн. Переутомился. Да и было от чего:
— Сперва поездка эта межзональная со всей чертовщиной. Потом этот загул по кабакам. Смена климата. Радость свидания. Такого кто угодно не выдержит. Каждое объяснение раскрывает лишь обстоятельства. В конечном счете каждое слово — лишнее. Делай со мной, что хочешь.
Что ж, Золоторотик взмахом трости черного дерева останавливает такси:
— Аэропорт Темпельхоф. К залу отлета, пожалуйста. Этот господин, пес и я, мы все очень торопимся. Нам надо успеть к первому же рейсу на Ганновер. У нас там осмотр подземного предприятия: фирма «Брауксель и К°». Слыхали про такую?
СТО ТРЕТЬЯ И НАИГЛУБОЧАЙШАЯ МАТЕРНИАДА
Кто хочет спуститься под землю, тому перво-наперво надо основательно проветриться в воздухе: так что рейсом авиакомпании «Бритиш Эрвей» до аэропорта Ганновер-Лангенфельд. Оставшуюся часть пути по плоской наземной равнине помогает сократить присланный фирмой автомобиль: мимо коров и стройплощадок, по подъездным путям и дорожным развязкам, вперед сквозь зелень майского, но все еще блеклого ландшафта. Уже издалека взгляды приклеивает к себе цель на горизонте: огромной кубышкой гора отработанной породы, кирпично-красные коробки корпусов; а вот и лаборатория, штейгерский барак, котельная, здание управления, склады — и над всем этим, по-хозяйски оглядывая крыши корпусов, гору породы, погрузчики и рештаки — огромная, на высоченных ходулях, птица подъемно-спусковой башни, копер.
Кому нужны какие-то соборы, когда такие махины подпирают небо! Это и есть фирма «Брауксель и К°», которая, хотя и зарегистрирована в калийном объединении Ганновера и подотчетна тамошнему горнорудному управлению, давно уже ни тонны калия не добывает, однако ежедневно отправляет под землю по три смены горняков: главного штейгера, штейгера смены, штейгеров участка, мастеров вентиляции, аттестованных забойщиков и шахтеров, всего сто тридцать двух человек.
А того, кто первым вылезает из служебного «БМВ», здесь, на производственной территории, покуда подъемный барабан в шахтном стволе способны тянуть канат, здесь следует величать не Золоторотиком, а «господином директором» или «господином Браукселем» — так обращается к нему водитель, так приветствует его привратник.
А тот, кто вылезает из служебного авто вслед за Браукселем, тоже еще далеко не Матерн, а, совсем напротив, черный здоровенный кобель породы немецкая овчарка, которого оба, Брауксель и выбирающийся наконец из машины Матерн, кличут Плутоном.
И едва они ступают за тяжелые, кованые железные ворота, что поставлены были еще в добрые времена соледобычи, привратник, здороваясь с господином директором Браукселем, почтительно сдергивает с головы шапку. После чего Матерн, которого ни полная чудными происшествиями и столь же причудливыми беседами ночь, ни чудесный по своей легкости перелет по воздушному коридору Берлин — Ганновер не лишили врожденной способности удивляться, вынужден спросить:
— Что за чертовщина: отчего это здешний привратник так жутко похож на моего отца, мельника Антона Матерна?
На что директор рудника Брауксель, ведущий своего гостя прямиком к штейгерскому бараку и свистом подзывающий к ноге пса Плутона, будто это и вправду его собака, может ответить с исчерпывающей ясностью:
— Привратник Антон Матерн не просто похож на мельника Антона Матерна, он и есть мельник, он и есть отец.
Что позволяет Матерну, который тоже, правда, безуспешно, пытается свистом подозвать Плутона к ноге, сделать многозначительное, хотя и несколько туманное умозаключение:
— Каждый отец рано или поздно становится привратником каждому сыну.
Вслед за чем комендант штейгерского барака дает Вальтеру бумагу, которую тот должен подписать. Ибо согласно параграфам горно-административного уложения, все посторонние лица, спускающиеся под землю с целью осмотра предприятия, обязаны подтвердить добровольность своего намерения собственноручной подписью. Матерн подписывает, после чего его проводят в умывальную, где по принятии сухой ванны ему надлежит скинуть свою верхнюю одежду и надеть светлый комбинезон, шерстяные носки, тяжелые горняцкие ботинки на шнурках, обмотать шею шерстяным шарфом и нахлобучить на голову новенький, сверкающий желтой лаковой краской, но не слишком удобный шлем. Пока он — одно за другим — все это на себя напяливает, он успевает спросить через перегородку у находящегося в соседней кабинке директора рудника Браукселя:
— А Плутон куда подевался?
На что Брауксель, который, хоть и директор, а тоже одну за другой обязан сложить с себя свои мирские одежды и надеть подобающее случаю платье, через ту же перегородку отвечает:
— Плутон при мне. Где же ему еще быть…
Но вот Брауксель и Матерн, сопровождаемые псом Плутоном, покидают штейгерский барак. У каждого в левой руке рудничная карбидная лампа. Этот светильник, равно как и одинаковые комбинезоны с желтыми шлемами, стирают внешние различия между директором рудника и посторонним на руднике человеком. Однако, едва они ступают на дорожку, что ведет вдоль здания управления, некий маленький горбатый господин в нарукавниках, которые недвусмысленно выдают в нем канцелярскую крысу, какого-нибудь делопроизводителя, отлепившись от портала, принуждает их остановиться. Этому предполагаемому делопроизводителю срочно нужно получить от Браукселя несколько подписей на бумагах, накопившихся за время его отсутствия. Весьма порадовавшись знакомству с господином Матерном-младшим и пожелав им напоследок «Добром наверх!», прокурист, наконец, освобождает им путь к башне копра.
И оба, Матерн и Брауксель, сопровождаемые псом, пересекают фабричный двор, по которому бульдозеры-автопогрузчики перемещают туда-сюда штабеля деревянных заколоченных ящиков; но никакого калия — ни на складах, ни на транспортировочных лентах, ни в емкостях.
А когда они, наконец, подходят к подножью башни копра и Брауксель первым ступает на железную лестницу, ведущую на «полотенце», — помост на верхнем шахтном венце — Матерн задает вопрос:
— Что, пса тоже под землю?
На что Брауксель без всяких шуток отвечает:
— Каждый пес выходит из-под земли и в конце концов должен вернуться туда, откуда пришел.
Матерн все еще сомневается:
— Пес никогда не был в шахте.
На что Брауксель очень твердо:
— Это служебный пес фирмы, так что придется ему привыкать.
С этой потерей — еще несколько часов назад он был владельцем собаки — Матерн смириться никак не может.
— Это моя собака! Плутон, к ноге!
Но Браукселю достаточно просто свистнуть, и черная овчарка впереди них взлетает по лестнице на помост, который оборудован где-то на половинной высоте подъемной рамы. Тут, на верхотуре, задувает. Откуда-то снизу и сбоку подъемная машина через систему шкивов приводит в движение подъемный барабан у них над головами: верхний и нижний канаты натягиваются, давая почувствовать всю серьезность предстоящей дороги. Но когда удары колокола — четыре раза, что означает «подавай медленно!» — возвещают о приближении поднявшейся с рудничного двора бадьи, Матерн, пока не поздно, торопится кое-что предложить:
— А что, если нам Плутона здесь на площадке оставить? Кто знает, как он перенесет такой спуск, раз — и вниз, а там, к тому же, должно быть, жарища адская.
Но лишь когда они — пес Плутон между Браукселем и Матерном — уже обременяют собой бадью, директор изъявляет готовность ответить. Звонарь тремя ударами возвещает команду «Завис!», следующими пятью — «Спуск!», и лишь теперь Брауксель произносит:
— В каждом аду свой климат. Придется псу привыкать.
И вот уже последний луч дневного света остался наверху. С канатного спуска — от площадки на высоте тридцать пять метров над землей до главного рудничного двора на глубине восьмисот пятидесяти метров под землей — начинается официальный осмотр предприятия, организованный специально для экскурсанта Матерна, дабы он прямо на месте набирался ума-разума. Ему, кстати, уже рекомендовано раскрыть рот и дышать ровно. Давление в ушах объясняется скоростью канатного спуска, легкий запах гари — трением падающей бадьи о направляющие брусья шахтного ствола. Сквозняк снизу задувает все сильней и уже норовит пробраться в брючины комбинезона и хватать за щиколотки. Матерн осторожно решается заметить, что Плутон дрожит, на что Брауксель невозмутимо изрекает: мол, задрожишь тут, когда всего за одну минуту на такую глубину проваливаешься.
И прежде чем они успевают достигнуть рудничного двора, он наскоро сообщает Матерну, дабы тот ума-разума набирался, о производительности грузоподъемника в доблестные времена добычи калия и о достижениях, на которые уже сама фирма «Брауксель и К°» может оглянуться. Словечки «мертвый груз» и «полезный груз» падают вместе с ними вниз со скоростью пятнадцать метров в секунду. На такой ровной скорости хорошо поговорить о паузах засыпки и профилактике каната: двести двадцать четыре провода — семь раз по тридцать два — и оплетенная сизально-конопляной нитью стальная основа — вот из чего сделан подъемный канат. Все внешние повреждения, которые переносят перегрузки на основу, винтообразные изменения формы, так называемые «закруты» и выпроставшиеся из каната «ворсы» — вот главные причины редких, но все же случающихся иногда обрывов каната. Нельзя списывать со счетов и ржавчину, которая грызет канат даже при постоянной его эксплуатации. А это значит — смазка нужна, но только бескислотная, и не по всей длине, а каждый раз только по сто метров, дабы свежая смазка не забила шкивы, «поскольку канат, на котором мы сейчас падаем, это душа всего предприятия, его жизнь и смерть, он спускает в преисподнюю и вытаскивает на свет, поэтому не приведи Бог, если…»
Так что у Матерна особо нет времени прислушиваться к той жутковатой, щекочущей желудок пустоте, что знакома каждому, кто спускался хотя бы на скоростном лифте. И легкая боль в висках, и наплывы зрения остаются незамеченными, поскольку Брауксель в самых общих чертах обрисовывает ему планировку главной шахты от перекрытия над барабаном до подканатной бухты и так называемой шахтной трясины.
А вот уже и звонарь четырьмя упреждающими ударами и затем еще одним, последним, означающим «стоп!», прерывает урок, который Брауксель всего за какую-то минуту успел вдолбить полному профану в горном деле Матерну; вот как падение, пусть даже и на канате, обостряет человеческую способность внимать и усваивать.
Итак свет, теперь электрический, являет им рудничный двор. И когда они, с псом Плутоном впереди, вступают на почву выработки, их уже поджидает традиционным шахтерским приветствием «Добром наверх!» штейгер участка Вернике, который, в соответствии с указаниями с дневной поверхности, то бишь сверху, покинул засыпной ярус, где надо было ему проверить вентиляционные шлюзы, чтобы дать Матерну, не сведущему в горном деле, полную характеристику месторождения.
Но Брауксель, которому все здешние вырубные камеры, штреки, камерные горловины, тупиковые выработки знакомы примерно так же хорошо, как закоулки старого города, где он в школе учился, предупреждает штейгера участка:
— Только не увлекайтесь особенно, Вернике! Начните с сорок пятого, обрисуйте тогдашнюю ситуацию и сразу переходите к главному, а именно, к остановке калийных разработок и к началу выдачи на гора готового продукта с товарным знаком фирмы «Брауксель и К°».
Вдохновленный таким напутствием, равно как и шумной откаткой на всех трех колеях рудничного двора, штейгер участка начинает излагать историю месторождения и характеристику его благонадежности:
— После сорок пятого, значит, как уже господин директор сказал, мы тут оказались всего с тридцатью девятью процентами довоенных мощностей выработки калия. Остальное, — а это, прямо скажем, были самые мощные и для своего времени отлично оборудованные калийные рудники, — осталось на территориях советской оккупационной зоны. Но хотя предпосылки у нас поначалу были неблагоприятные, мы уже в пятьдесят третьем всю продукцию восточной зоны обошли, хотя наше предприятие к тому времени вообще-то разработки калия остановило и уже перешло на выпуск готового продукта. Так вот, возвращаясь к калийным разработкам: мы тут работали на соляном месторождении, которое простирается от соляных копей Зальцдефурт, от восточных предгорий Хильдесхаймского Леса, через Грос-Гисен, где мы как раз вырубали, и до самого Хазеде, Химмельстюра, Эммерке и Зарштедта. Соляные месторождения такой мощности обычно залегают на глубине от трех тысяч метров, но здесь они сжаты в седловины, покрытые лишь наслоениями пестрого песчаника. Мы тут имели горную свободу на разработку жилы, которая уходила вглубь по оси седловины этак километров на девятнадцать, из них примерно шесть и пять десятых километра — пока фирма «Брауксель и К°» не остановила добычу калия — были уже охвачены шахтами. Наш рудник располагает двумя шахтами, которые, на расстоянии трех километров друг от друга, уходят на глубину восемьсот пятьдесят метров к нашему главному ярусу. Оба шахтных ствола — один подъемно-спусковой и вентиляционный, другой только для рудничной вентиляции — по горизонтам связаны друг с другом четырьмя главными ярусами. От этих ярусов выведены штреки к вырубным камерам. Раньше основным нашим главным ярусом был тот, что на глубине семьсот тридцать четыре метра проходит, то бишь семьсот тридцать четвертый, по-нашему если. Там был хороший, знатный пласт сильвинита, в основном двадцатичетырехпроцентного, и почти четырнадцатипроцентный карналит, все это мощностью до двадцати метров. Но после того, как на резервном месторождении Штасфурт начались бурильные и взрывные работы, в феврале пятьдесят второго калийные разработки Брубах отошли к АО «Винтерсхалл», а наша шахта, поскольку месторождение Штасфурт поначалу считалось маломощным, была сперва сдана в аренду, а потом и переписана на фирму «Брауксель и К°». Но большая часть горняков осталась при шахте, поскольку, помимо аккордных и не облагаемых налогом шахтерских премиальных — две марки пятьдесят за смену — нам было еще обещано дополнительное вознаграждение за негорняцкий труд. Но только с июня пятьдесят третьего, когда шахта две недели пробастовала, эту премию стали фактически и исправно выплачивать. Стоит еще упомянуть, что имеющаяся при шахте теплоэлектростанция с паровыми турбинами и динамо-машиной обеспечивает нас теплом и энергией. Из шестидесяти восьми лишь частично выбранных в свое время вырубных камер тридцать шесть по соображениям безопасности пришлось засыпать пустой породой, зато оставшиеся тридцать две после тщательной, неделями длившейся проверки службами надзора горнорудного управления, были переданы фирме «Брауксель и К°» в эксплуатацию. И если поначалу нам, обученным горнякам, трудно было отказаться от привычных своих дел — вырубки камер, обслуживания скреперов и рештаков, мы потом мало-помалу к новым и, как нам тогда казалось, негорняцким работам приладились, тем паче что нас, благодаря твердой позиции господина Браукселя, отстоявшего наши интересы перед горнорудным управлением, и из горняцкого цеха не исключили.
В этом месте директор рудника Брауксель говорит:
— Ладно-ладно, Вернике… И горе тому, кто осмелится поставить калий, уголь или там руду выше нашей готовой продукции. То, что мы выдаем на гора, с любой стороны показать не зазорно.
Поскольку, однако, не сведущий в горном деле экскурсант Вальтер Матерн задает вопрос, почему это на рудничном дворе так пахнет и чем, и откуда, и из чего вообще такой запах происходит, директор рудника и штейгер участка вынуждены признать, что да, запах есть, остался в основном еще со времен соледобычи:
— Тут испарения насыщенных каменно-соляных щелочей, выделяемых влажной породой, и землистый запах пестрого песчаника, смешиваются с застоявшимися пороховыми дымами, в которых содержится азот, потому что прежде при проведении порохострельных работ применялся динамитный студень. Кроме того, рудничную атмосферу во всех штреках и камерах усугубляют сернистые соединения, выделяемые органическими окаменелостями водорослей и мелкой морской фауны, плюс озон от электродвигателей шахтных локомотивов. Есть в запахе и другие примеси: летучая и осевшая соляная пыль, карбидные дымы от рудничных ламп, следы двуокиси углерода, старой смазкой попахивает, а еще — когда рудничная вентиляция оставляет желать лучшего — можно догадаться, какое пиво тут пили во времена соледобычи да и сейчас, в эпоху выпуска готовой продукции, все еще пьют: херренхойзерский пильзнер, бутылочное, с нижнесаксонским конем на этикетке.
После чего профан в горном деле Матерн, просвещенный теперь насчет запаха, господствующего как в хорошо проветриваемых штреках, так и в неважно проветриваемых камерах, замечает, что тут не только сильно пахнет, но еще и каким-то удушливым теплом из главного яруса на рудничный двор веет, хотя наверху полным-полно свежего майского воздуха.
Но они тем временем уже двинулись, не забыв прихватить и пса Плутона, сперва по горизонту посредством электродрезины, потом отвесно вверх по канатной дороге на шестьсот тридцатый ярус — то бишь поднялись на глубину шестьсот тридцать метров, и тут, оказавшись на месте, попадают уже в настоящую августовскую духоту, верхний слой которой образуют соляные щелочи, средний — сернистые соединения, а уж где-то совсем внизу стелются древние пороховые дымы вперемешку с новомодным электрическим озоном. Пот высыхает на коже, не успев даже проступить. И тогда Матерн изрекает:
— Да тут просто ад!
Но штейгер участка Вернике тут же его поправляет:
— Здесь у нас только переработка поступивших сверху материалов. Иначе говоря, мы, в соответствии с программой осмотра, сейчас находимся в первой камере, где доставленное сверху сырье подвергается первоначальной обработке, или, как мы говорим, испоганиванию.
И они, пес впереди, узкой камерной горловиной входят в первую камеру. Перед ними открывается зал, подобный церковному нефу. Пласты соли, — вверху висячие, по бокам вертикальные, под ногами залегающие, — размеченные аккуратно просверленными отверстиями взрывных шпуров, устремлены к торцевой стене, которая возвышается перед ними в столь строгой, сакральной отрешенности, что кажется, будто прячет за собой ковчег завета. Но только поместительные ванны, с каждой стороны числом по шестнадцать, пролегли двумя рядами, словно садовые грядки, от горловины камеры до потолочного уступа, оставив между собой дорожку прохода, по которой расхаживает сейчас Хинрих Шреттер, бывший взрывник, орудуя в ваннах длинным железным штоком с черпаком на конце.
И вот он-то, обслуживающий все щелочные ванны в первой камере, поучает несведущего в горном деле Матерна:
— Мы тут перерабатываем главным образом хлопок, целлюлозную ткань, поплин, саржу, ситец, фланель, эта быстро проходит, потом трикотаж, тафту, тюль, но и шелк, натуральный и искусственный, недавно большую партию бельевой фланели с начесом пропустили и двенадцать штук муара, иногда, но это от случая к случаю, мелкими или средними порциями, кашемир бывает, батист или там шифон, но эти на метры идут. Сегодня вот с начала вечерней смены восемь штук ирландского льна, метр двадцать по ширине, не выщелаченного еще, в первой стадии испоганивания лежат, потом партия шкур, в основном жеребчики, каракулевый лоскут, козий мех, а в трех последних ваннах, там слева, несколько отрезов парчи, потом комплект брюссельского кружева, небольшие количества пикейной ткани, крепдешин и замша испоганиваются. Остальные большие ванны испоганивают подкладочные материалы, тик, мешки, английскую парусину и вообще любую оснастку. Работаем мы, как правило, с холодными щелочными растворами, которые получаем из обычных породных щелочей с добавлением хлорида магния. И только когда нужно сильное испоганивание совсем нового сырья — тогда работаем с горячей сильвиновой щелочью с добавлением бромида магния. Вообще-то все щелочные ванны, особенно с примесью брома, требуют мощной рудничной вентиляции. Но к сожалению — вот и господин Вернике, штейгер нашего участка, не даст соврать — шестьсот тридцатый ярус еще и в прежние времена, когда здесь в камерах взрывники работали, не проветривался как надо.
Но Брауксель, директор предприятия, не видит тут большой беды:
— Все наладится, дети мои, вот поставим передвижные компрессоры, они нам будут гонять ветер в лучшем виде.
И они покидают первую камеру, над щелочными растворами которой стелется белесый туман и, предводительствуемые штейгером участка с высоко воздетой шахтерской лампой, идут ко второй камере, где выщелаченные ткани, равно как и новые материалы, подвергаются сухому испоганиванию: скреперный агрегат, приводимый в движение лебедчатой передачей от бесконечной цепи, перемешивает груды тряпья с остатками соледобычи, лежащими тут еще с ее славных времен.
В третьей камере, куда они вступают вместе с бодрым псом, их не встречает ни шум, ни лязг лебедчатой передачи, ни обволакивающие пары хлорида магния; здесь в просторных, напоминающих платяные шкафы емкостях верхняя мужская одежда равно как и мундиры всех видов и родов войск подвергается бесшумной, но энергичной потраве при помощи моли. Испоганиваемая продукция должна выдерживаться тут не менее недели. Однако Вернике, штейгер участка, обладает правом экстренного вскрытия, которым и пользуется, распахивая один из шкафов: все вокруг мгновенно заполняется мельканием серебряных крылышек. Шкаф снова срочно запирается.
А после того, как в четвертой камере им показывают удивительный машинный цех, где, под управлением бывших забойщиков и рудооткатчиков уже испоганенные щелочными растворами, валками и зубьями, траченные молью ткани и материи, с одной стороны, дополнительно раздираются, дубятся на просушке, покрываются масляными, чернильными и винными пятнами, с другой же, будучи испоганенными окончательно, наново раскраиваются по предлагаемым лекалам, сшиваются в одежды, обрастают подкладкой, — после этого директора с псом и штейгера участка с несведущим в горном деле Матерном принимает под свои своды пятая камера, отчасти, кстати, чем-то похожая на предыдущую, машинную.
Перед ними металлический лом, добываемый отнюдь не из недр земли, а с ее все перемалывающей поверхности, тот самый, что грудами скапливается на автомобильных свалках и грудами плодится на полях сражений. Демонтаж не требуется, лом, рассортированный после прохождения через взрывные камеры, лежит целой энциклопедией, антологиями путешествует по лентам транспортеров, режется автогеном, принимает антикоррозийные ванны, ныряет, скрываясь ненадолго из виду, чтобы, пройдя гальванизацию, снова вынырнуть на конвейерной ленте: а здесь уже вовсю идет монтаж, играют шарикоподшипниковые суставы, испытательный песок не в силах застопорить механизмы, грейферные барабаны с регулируемыми цепными грейферами расхватывают с ленты все нужное, оставляя несортицу. Шатуны и кривошипы, муфты, шестеренки и прочая механическая дребедень уже крутятся-вертятся-ерзают-шустрят, погоняемые электромоторчиками. Костяками в человеческий рост висят по стенам механические выродки. По рядам марионеточных скелетов, подчиняясь единому шаркающему ритму, от одной кукольной сцены к другой пробегает судорога жизни. В выпяченных металлических грудях неутомимые молотовые толчеи взяли на себя нескончаемый труд стучать и стучать по гулким стальным шарам. Да и вообще шум!
Его подхватывает и усугубляет следующая камера, уже шестая в ходе этого поучительного осмотра. Шум в этой высокой, новоготической камере разрастается до такой степени, что пес Плутон сперва просто ведет себя беспокойно, а затем начинает подвывать.
И тогда Матерн, не сведущий в горном деле экскурсант, говорит:
— Но тут действительно ад! Надо было оставить пса наверху. Животное страдает!
На что Брауксель, директор предприятия, имеет заметить, что взмывающий под своды камеры собачий вой отлично вписывается в скрежет и лязг скелетов, на которых испытывается здесь вмонтированная в них электроника.
— А то, что некоторые тут поторопились назвать адом, дает, между прочим, — и это только в одной смене, — работу и хлеб тридцати горнякам, которые прошли курс обучения у известных скульпторов по металлу и дипломированных акустиков. Да вот и наш штейгер участка, добрейший господин Вернике, подтвердит, что горняки, по двадцать лет оттрубившие в забоях, готовы отыскать ад где угодно на дневной поверхности земли, а вот под землей пока что нигде — даже при плохой рудничной вентиляции — никакого ада не обнаружили.
На это сведущий в горном деле штейгер участка неоднократно кивает головой и ведет своего директора, его упорствующего в завываниях пса и не сведущего в горном деле экскурсанта из шестой камеры, где шум не знает никакого удержу, мглистой камерной горловиной во все более внятную тишину главного яруса.
И они следуют за его тихо гудящим карбидным светом до той шахты, что в самом начале осмотра от основного главного яруса подняла их на ярус засыпной и к ветряной шахте.
И снова они проделывают канатный спуск, но на сей раз короткий, в проходящую под ними тупиковую выработку, которую Вернике по старинке называет подошвой рудничной выработки, а директор уже по-новому, «штреком первостатейных дисциплин».
Теперь в седьмой, восьмой и девятой камерах профану в горном деле демонстрируют, дабы он набирался ума-разума, три первичных эмоции в их отголосках и разновидностях.
И снова Матерн осмеливается воскликнуть:
— Но это же ад, самый что ни на есть!
Хотя перед ними только плач человеческий во всех его видах, к тому же без слез. Именно обезвоженность эмоции превращает седьмую камеру чуть ли не в камеру пыток. Железяки, только что бывшие просто ломом, восстав из праха скелетами, подергавшись в немых, а потом и в шумных корчах под воздействием сложной механики, пройдя вслед за этим хитрые технические и акустические испытания, теперь, кутаясь в испоганенные саваны скорби, образуют на дочиста выскребанном соляном полу хороводы, в которых плач ходит по кругу. При этом каждый кружок поставил себе свое, особое задание, слезоточивое, но неизменно как бы иссякающее в песках незримой пустыни. Вот тут плач только начинается. По соседству не могут сдержать хныканье. Рядом всхлипывают до икоты. Вон тот кружок то растаскивает в стороны, то сжимает в кучку дружный, слитный, нарастающий либо сдавленный вой. Придушенные, как в подушку, рыдания. Скулеж, жалобный и противный, как подгоревшее молоко. Яростный мык с носовым платком в зубах. Горе как чума. В путах судорог и в надрывах испуга. На грани истерики и плакса-вакса-гуталин. Сотрясаясь всем телом и укрыв глаза рукавом, бия себя в грудь и немо, столбом, — а над всей этой юдолью плача слезливый голос гнусавит жалостливые истории, способные камень растрогать и из кого хочешь вышибить слезу и сопли: «И тут грубый хозяин говорит маленькой, замерзающей цветочнице[444]… Но когда бедное дитя протянуло ручки к богатому крестьянину… А голод лютовал по-прежнему, и тогда король приказал каждого третьего в стране… И было бедной слепой старушке до того одиноко, что решила она… И так лежал молодой добрый витязь, истекая последней кровушкой… И беда укрыла всю страну как саван. Каркало воронье. Завывал ветер. Падала скотина. В старых балках зашевелились мертвецкие черви. Горе вам! Горе! Вот она кара! Камня на камне и сухого глаза во всей округе не останется. Горе вам!»
Но сколь бы прилежно ни осваивали обитатели седьмой камеры дисциплину плача, ни у кого из них нет желез, дабы открыть шлюзы потокам желанной влаги. Даже луковый сок не оказал бы здесь никакого эффекта. Хорошо плачут автоматы, но денежка в них не звенит. Да и как могут здесь, под соляными сводами, над соляным полом и между соляных стен, забить ключи жидкости, что в конечном своем продукте опять-таки явит глазу лишь соляные кристаллы, соблазнительные разве что для козы?
И, видя столько тщеты, директор с псом и штейгер участка, а за ними и несведущий экскурсант покидают седьмую камеру первой первичной эмоции, чтобы молча проследовать по людному главному ярусу, покуда лампа штейгера не увлекает их в горло восьмой камеры, которая, на первый взгляд, кажется тесноватой для распирающего ее веселья.
И снова Матерн не может сдержать своего восклицания:
— Что за адский хохот!
На самом деле, однако, — директор Брауксель тут же ему на это указывает, — в восьмой камере демонстрируются только внешние проявления второй первичной эмоции, то бишь человеческого смеха. Диапазон нам известен — начиная от хихиканья и кончая хохотом до судорог и икоты.
— Надо бы особо указать, — говорит штейгер участка Вернике, — что на всем нашем предприятии восьмая камера единственная, которую из-за постоянных толчков и сотрясений пришлось усилить тремя рядами крепей, причем из лучшего дерева, во избежание обвала кровли.
Это, впрочем, и без пояснений понятно, стоит взглянуть на фигуры и услышать, как они, те, которые совсем недавно, завернутые в жуткую дерюгу, упражнялись в печали и скорбях, теперь, в пестрых, хотя тоже испоганенных, шотландках и ковбойках, — хохочут, ржут, покатываются. Они переламываются пополам, падают, корчатся на полу. Встроенная механика позволяет им хвататься за животы, хлопать себя по ляжкам, топать и сучить ногами. И покуда их конечности выделывают свои фортели, из круглых, с кулачок величиною отверстий рвется наружу: здоровый и больной, старческий и молодецкий, как из пивной бочки и винного подвала, задним умом и раньше времени, наглый, без причины, сатанинский, сардонический, а еще, да, безумный и сквозь слезы — смех и хохот. В многоколонном соборе — ибо чем крепи не колонны? — перекликается, аукается, рассыпается на все голоса мощный, но задыхающийся хор: тут смеются роты, полки и армии, все куры, боги — эти, конечно, гомерически, все рейнладцы, и Германия, целиком, над, вместе, вопреки и без конца — своим птичьепугальным хохотом.
Именно несведущий в горном деле экскурсант Вальтер Матерн первым произносит это не больно складное, но меткое словечко. И поскольку ни директор, ни штейгер участка на сей раз его не поправляют, как поправляли, например, когда он говорил об «адском хохоте», он и анекдоты, которыми перебрасываются друг с другом собранные здесь смешливые автоматы, тоже называет «птичьепугальными»:
— А этот знаешь? Два дрозда и скворец встречаются в Кельне на вокзале… А вот этот: синичка собралась межзональным поездом съездить на «Зеленую неделю» в Берлин[445], а на границе, в Мариенборне… Или вот этот, совсем свежий: однажды три тысячи двести тридцать два воробья отправляются все вместе в бордель, а после оказывается, что у одного из них триппер. Угадай, у которого? А вот и неправильно! Слушай снова: однажды три тысячи двести тридцать два воробья…
Тут не сведущий в горном деле Матерн заявляет, что подобного рода юмор, на его вкус, отдает ерничеством и цинизмом. Для него юмор — это прежде всего освобождение, исцеление, а зачастую, да, и спасение. А тут ему недостает человеческого тепла, доброты, гуманности. Все эти качества ему сулят предъявить в девятой камере. После чего все, включая никогда не смеющегося пса Плутона, устремляются прочь от пугального хохота и вновь следуют вдоль по главному ярусу, покуда открывшаяся слева камерная горловина не увлекает их в тот зал, где обретается третья первичная эмоция.
Тут Матерн вздыхает, чувствуя, как вкус не поданного еще блюда наполняет его рот нестерпимой горечью. И тогда уже Брауксель, воздев свою изумленную лампу, любопытствует, о чем таком тут можно вздыхать?
— Меня удручает пес, который, вместо того, чтобы резвиться наверху под солнцем мая, должен выносить здесь весь этот по полочкам разложенный ад.
Но Брауксель, вооруженный не подобающим такому случаю горняцким штоком, а тростью черного дерева с рукоятью слоновой кости, что лишь несколько часов назад принадлежала заядлому курилке по прозвищу Золоторотик, тогда как Брауксель под землей никогда не курит, — Брауксель на это замечает:
— Раз уж всякие посторонние лица позволяют себе называть наше предприятие адом, то, значит, тут должен быть и служебный адский пес. Смотрите, как ловко учит пса наш фонарь отбрасывать всепоглощающую, адскую тень на стены шахты. Вон, его уже засасывает камерная горловина. Последуем же за ним!
Ненависть, глазки щелочками, нержавеющая ярость и месть, хладнокровная и кровная, — вот кто правит бал в этой камере. Пугала, которые совсем недавно, задрапированные в скорбные хламиды, что есть мочи налегали на безнадежно заглохшую слезную помпу, птичьи пугала, которые вот только что, в разухабистом клетчато-пятнистом тряпье, истово отрабатывали встроенный в них юмористический завод, стоят здесь в раздутых ветрами гнева, готовых лопнуть по швам боевых одеяниях, которым неоднократное щелочное испоганивание сообщило живописные следы и меты всех знаменитых «семи котлов»[446], стоят в пустом зале, каждое как бы само по себе. Вот, значит, какие уроки заданы ярости, ненависти и мести: им приходится гнуть здоровенные железяки, превращая их в знаки вопроса, завитушки и прочие несъедобные кренделя. Лопается от ярости вся клеенная-переклеенная ярость, чтобы тут же снова начать раздувать меха своих неукротимых легких. Дырки в собственном колене прожигает себе ненависть своими глазками-щелочками. А вот месть, хладнокровная и кровная, должна ходить по кругу — не оборачивайтесь, там месть за вами по пятам! — пригоршнями отправляя в рот кварцевый гравий и грызя его скрежещущими зубами.
Вот, значит, какой вкус у блюда, которое профан в горном деле Матерн предчувствовал заранее. Школьные завтраки. Птичьепугальные обеды. Ибо и ярость и ненависть, которым одного лопанья и выжигания дыр мало, которым и сгибания железяк явно недостаточно, тоже вовсю хапают из кормушки, куда двое рабочих ежечасно подсыпают свеженького гравия, благо наверху, под солнцем мая, на производственном дворе фирмы «Брауксель и К°», этого добра, скрежету зубовному на пропитание, навалом.
И тут Матерн, который с младых ногтей скрежетал зубами, когда ярость его обуревала, ненависть заставляла глядеть в одну точку, а месть не давала ногам покоя, отворачивается от этих неприятных пугал, возведших его индивидуальную особенность в ранг всеобщей обязательной дисциплины.
И обращаясь к штейгеру участка, который, подняв лампу, уже ведет их из девятой камеры обратно в главный ярус, как бы между прочим говорит:
— Я полагаю, эти в высшей степени экспрессивные пугала находят у вас хороший спрос. Человечество любит созерцать себя вот так, вне себя.
На что, однако, Вернике, штейгер участка, отвечает:
— В прежние времена, в начале пятидесятых, наши зубоскрежещущие модели, действительно, пользовались большим спросом, что на внутреннем рынке, что за рубежом, но сейчас, в более зрелую эпоху, мы только молодым африканским государствам поставляем ассортимент на базе третьей первичной эмоции.
Тонко улыбнувшись, Брауксель замечает, похлопывая пса Плутона по загривку:
— Только не надо беспокоиться за фирму «Брауксель и К°» по части сбыта. Придет время, и ненависть, ярость и шатунья-месть снова будут в моде. Первичная эмоция, да еще со скрежетом зубовным, это вам не какая-нибудь дешевая однодневка. Кто задумает упразднить месть, тому от мести же и возместится.
Эта фраза вместе с ними влезает в электродрезину и всю дорогу по нескончаемому главному ярусу, через двое вентиляционных ворот, мимо зарешеченных мертвых штреков и забитых породой выбранных камер, не идет из головы. Лишь у цели, где штейгер участка обещает им осмотр камер с десятой по двадцать вторую, фраза Браукселя о неупразднимой мести постепенно теряется в памяти, не теряя, впрочем, своей остроты.
Ибо уже в десятой, одиннадцатой и двенадцатой камерах, где имеют место спортивные, религиозные и военные упражнения, как то разучиваются эстафетные бега, самобичующие процессии и смены караулов, — ярость, ненависть и бродячая, а потому неупразднимая из этой жизни месть, равно как и сломанная слезная помпа, встроенная юмористическая пружина, короче, плач, смех и скрежет зубовный, то бишь три первичных эмоции, — образуют тот прочный и глубокий фундамент, на базе которого спортивные птичьи пугала успешно осваивают прыжки с шестом, кающиеся пугала — длительное передвижение на карачках, а новоиспеченные пугала-новобранцы — навык рукопашного боя на рекордно короткой дистанции. Как они, молодцы, стараются, как улучшают результаты с каждой птичьепугальной попытки, как с каждым разом все быстрее и быстрее удается им подъем в гору птичьепугального креста, как ловко преодолевается заграждение из колючей проволоки — и не просто при помощи традиционных кусачек, а посредством мгновенного пожирания проволоки вместе с колючками и последующего птичьепугального испражнения ее, уже без колючек, — о, все это заслуживает занесения в таблицы, и такие таблицы есть: служащие фирмы «Брауксель и Кº» замеряют и фиксируют все — от рекорднопугальных секунд до длины пугальных четок. Три вырубных камеры, которые в славные времена соледобычи эксплуатировались до тех пор, покуда не достигли длины и ширины спортивного дворца, выси соборного нефа и непробиваемой мощи противовоздушного бункера, за одну смену обеспечивают более чем четырем сотням спортивно-командных, молитвенно-вдохновенных и бункерно-неубиенных пугал полный простор для применения их электронно управляемых сил. Пока что посредством дистанционного управления — командный пункт находится там, где прежде размещалась лебедка, — то бишь управляемые на расстоянии спортивные праздники, епископские торжественные мессы и осенние маневры, но и в комбинированных вариантах: армейский спорт, военно-полевые молебны и освящения утильнопугального оружия заполняют учебную программу, дабы впоследствии, в случае так называемой «необходимости», ни один рекорд не устоял, ни один еретик не ушел от разоблачения и ни один герой не остался без своей окончательной победы.
Но вот директор со своим псом и посторонний экскурсант с многоопытным штейгером Вернике расстаются с щелочно-испоганенными пугалоатлетами, с траченными молью пугалоризниками и с мятыми-сучеными пугаломундирами, которым надо по-пластунски, потому что пугаловраг тоже по-пластунски, ибо в программе сегодня значится: по-пластунски. Наползание — по-пластунски. В штыковую — по-пластунски, грудь в грудь — по-пластунски.
Когда, однако же, в ходе продолжающегося осмотра их взорам открываются тринадцатая и четырнадцатая камеры, представленные и проходящие здесь обучение пугальные коллекции уже не радуют глаз пестроцветным единообразием спортивной формы, строгим пурпуром священнического облачения, монолитной неприметностью камуфляжа; здесь, в обеих камерах, скорее господствует штатская, гражданская неразбериха. Ибо в этих камерах, семейной и административной, разучиваются, всячески развиваются и внедряются в практику, то бишь в повседневный гражданский обиход, демократические добродетели птичьепугального государства, конституция которого, безусловно, отвечает самым высоким гражданским запросам. Стройными рядами пугала сидят за столами, перед телевизорами, в испоганенных молью палаточных кемпингах. Птичьепугальные семейства — ибо они есть основные ячейки государства! — проходят все разделы и статьи основного закона[447]. Громкоговорители вещают, а пугала многоголосо вторят, разучивая пугальную преамбулу: «Осознавая свою ответственность перед Богом и людьми, вдохновляемые стремлением крепить национальное и государственное единство пугального народа…» Затем статья первая о достоинстве пугала, которое неприкосновенно. После чего статья вторая — о гарантированном праве свободного и всестороннего развития птицепугальной личности. Потом то да се, наконец, статья восемь, предоставляющая всем птичьим пугалам право без уведомления и санкции властей собираться вместе в мирных целях и без оружия. И статью двадцать семь: «В духе немецкого единства все пугала немецкого происхождения отмечены товарным знаком фирмы „Брауксель и Кº“» — птичьепугальные семейства тоже поддерживают, уважительно кивая головами. Точно так же без всяких возражений принимается и статья шестнадцать, параграф два: «Политически преследуемым пугалам предоставляется право убежища под землей». Все эти азы пугальной государственности, от «а» до «я», от «аполитичной свободы ругательства» до «явной необходимости принудительного выдворения», осваиваются в четырнадцатой камере: имеющие право голоса пугала шагают к избирательным урнам; дискуссионно-зрелые пугала обсуждают проблемы государственной благотворительности; птичьи пугала, чьи журналистские дарования находят отражение в ежедневной газете, с важностью указывают на свободу прессы, статья пятая; собирается на сессию парламент; Верховный птичьепугальный суд в последней инстанции отклоняет; оппозиция в вопросах внешней политики правящую партию поддерживает; оказывается фракционный нажим; фискальная система налогообложения лишает; свобода коалиций объединяет камеры, не примыкающие к одному и тому же главному ярусу; согласно статьям один-Б и три-А практика пугально-социологического анализа с помощью разработанного фирмой «Брауксель и К°» детектора лжи объявляется антиконституционной; наблюдается расцвет государственности; свободе коммуникации ничто не препятствует; гарантированное в соответствии со статьей двадцать восемь, параграф A-три, право птичьих пугал на самоуправление берет начало под землей и простирается что по равнинной, что по пересеченной земной поверхности от нив канадской пшеницы до рисовых плантаций Индии, от неоглядных полей украинской кукурузы до любых уголков планеты, где изделия фирмы «Брауксель и К°» в качестве птичьих пугал любой разновидности и модификации с честью выполняют свою миссию противостояния птичьей потраве.
Однако несведущий в горном деле Матерн, осмотрев тринадцатую и четырнадцатую камеры, которые так много преуспели по части государства и гражданственности, то и дело повторяет:
— Господи, да это же ад! Сущий ад!
И тогда, чтобы это несведущее мнение опровергнуть, штейгер участка Вернике, подняв свой светильник, ведет Вальтера Матерна, а заодно и директора с послушным псом, в пятнадцатую, шестнадцатую и семнадцатую камеры, где обосновались разнузданный эрос, подавленный эрос и фаллическая самодостаточность.
Вот уж где начинается поругание всякой униформенной строгости и гражданского достоинства, ибо ненависть, ярость и неугомонная месть, только что, казалось, усмиренные и законопослушные, распоясываются теперь сызнова, обтянутые хотя и испоганенной, но вполне розовой и плотской кожей. Ибо здесь все пугала — разнузданные, подавленные и фаллически самодостаточные — объедаются одним и тем же пирогом, тесто которого замешано на всех похотях, но ни одну из них не насыщает, сколько бы это голозадое месиво, извиваясь, дрыгаясь и киша во всех позах и положениях, ни совокуплялось и ни изливалось. Последнее, впрочем, имеет место только в пятнадцатой камере, где разнузданный эрос не дает ни одному раскочегарившемуся пугалу до конца завершить много смен подряд длящуюся эрекцию. Нет такой затычки, чтоб остановить это извержение. Перманентный оргазм не знает ни отдыха, ни срока. Не знает преград и пугальная слизь — специальный, как объясняет тут же штейгер участка Вернике, на основе сильвинита разработанный в лабораториях фирмы «Брауксель и Кº» продукт, зараженный к тому же похожими на гонококков возбудителями, чтобы раздражение и зуд, симптомы, близкие проявлениям самого заурядного триппера, дарили вечно брызжущим разнузданным пугалам острые дополнительные ощущения. Однако напасть эта из пятнадцатой камеры ни в коем разе не должна перекинуться на шестнадцатую и семнадцатую. Ибо что там, что там никакого извержения нету, а в подавленной так даже и эрекция недопустима. Да и в фаллической самодостаточной пугала-индивидуалы трудятся в поте лица без всякого результата, сколько бы ни споспешествовала их усилиям томная музыка, в которую блудливо вплетаются всякие развратные слова, и какие бы телеса ни заполняли экраны, что натянуты на торцевых стенах в подавленной и самодостаточной камерах. Никакого движения соков. Все удавы сморены сном. Всякое удовлетворение осталось там, наверху, так что не сведущий в горном деле Матерн, который как раз сверху и пришел, вынужден заметить:
— Это же противоестественно! Какие адские муки! Жизнь, настоящая жизнь, дает гораздо больше. Уж я-то знаю. Я вкушал.
Но поскольку штейгер участка Вернике считает, что там, наверху несведущему экскурсанту недоставало духовного начала, он ведет гостя, а за ним и улыбающегося директора предприятия, который, в свою очередь, непринужденно ведет за ошейник пса, в восемнадцатую, девятнадцатую и двадцатую камеры, расположенные на следующем, более глубоком горизонте, в семисотдевяностометровом ярусе, и демонстрирующие познания, достижения и противоречия, соответственно, в философии, социологии и идеологии.
Едва ступив в этот ярус, Матерн поворачивает назад: несведущий больше не хочет, этот ад его утомил, он желает снова дышать чистым наземным воздухом; но Брауксель, директор предприятия, строго пристукнув тростью черного дерева, которая еще несколько часов назад принадлежала некоему Золоторотику, напоминает Матерну о чем-то, что тот недавно на земной поверхности наделал:
— Может, наш гость запамятовал, при каких обстоятельствах он ранним утром сегодняшнего дня бросил перочинный нож в канал Тельтов, что протекает в Берлине, городе, что расположен на солнечной дневной поверхности?
Так что назад несведущему в горном деле Матерну никак нельзя, а нужно вперед, в очередную камерную горловину, навстречу философским познаниям, что развернутся в восемнадцатой камере во всей своей велеречивости. Только нет там ни Аристотеля, ни Декарта со Спинозой, и от Канта до Гегеля тоже никого. И от Гегеля до Ницше — пустыня! Неокантианцев с новогегельянцами тоже не видать, нет ни пышногривого Риккерта, ни Макса Шелера[448], не заполняет камеру своей стройной феноменологией остробородый Гуссерль, помогая несведущему экскурсанту забыть об адских ужасах бездуховного эроса, и никакой Сократ не размышляет здесь под землей о земной юдоли, — зато Он, наш досократический, но зато стократный, Он, сразу в ста испоганенных щелочами и молью алеманских вязаных шапочках, Он, в простых сандалях и чесучовом кительке — стократно Он, в пути, в пути! И думает. И глаголет. У него тысячи слов — для бытия, для времени, для сущности, мира и основы, для «вместе» и для «сейчас», для «Ничто» и для Ис-пугала как Над-стояния. Поэтому: пугание, ис-пуг-ливость, пугалоструктура, пугалопогляд, непугаль, запугаление, противопугало, пугаловидческий, пугалосущность и пугалоналичие, распугаливание и обеспугаливание, пугалообреченность и пугалоцельность, Первопугало и — тезис об Ис-пугале: «Ибо сущность пугал есть трансцендентально возникающее тройное устремление Ис-пугала в миронабросок. Простирая себя в Ничто, Ис-пугало тем самым уже заведомо и в целокупности преизбывает свою пугалобытийность…»
Так что в восемнадцатой камере из лыжных шапочек журчит трансценденция. Сто испоганенных выщелачиванием философов все как один одного мнения: «Ис-пуга-ло-бытие — это значит себя-простирание в Ничто». И на робкий вопрос несведущего Матерна, испуганно брошенный в философскую камеру: «А как же человек, по образу которого создается набросок птичьего пугала?» — один из ста философов успевает ответить: «Вопрос об Ис-пугале самих нас — вопрошающих — ставит под вопрос.» После этого Матерн предпочитает больше голоса не подавать. Сто философских близнецов расхаживают по соляным залежам и основательно, по существу, друг друга приветствуют: «Ис-пугало преосуществляется из самого себя.»
И пусть не просеки, но полевые тропки они уже своими простецкими сандалиями протоптали. Иногда, когда они замолкают, Матерн слышит работающую в них механику. Вот что-то щелкнуло, и снова пошел-поехал тезис об Ис-пугале…
Но прежде чем стократно явленный, молью-щелочью-зубьями-валками испоганенный философ снова начнет прокручивать вставленную в него магнитофонную ленту, Матерн спасается бегством в главный ярус и рад бы вообще отсюда сбежать, да не может, потому как все еще не сведущ в горном деле и наверняка заблудится: «Пугало-бытийность разверзается в заблуд, блуждает там вокруг пугания и плодит тем самым только новые заблуждения.»
Поневоле привязанный к многоопытному штейгеру Вернике, то и дело поминая ад при виде черного пса Плутона, Матерн покорно дает вести себя от камеры к камере, неукоснительность нумерации коих не оставляет места для сомнений: от него сегодня не утаят ничего.
Под сводами девятнадцатой камеры громоздятся социологические познания. Виды и формы отъединения, теория социальных расслоений, интроспективный метод, практический космонигилизм и поведенческая рефлекторика, обстоятельственные и понятийные анализы, равно как и динамика и статика, двойной социологический аспект и совокупные слоевые структуры — все они тут, бодрые и мобильные. Диференцированно испоганенные. Интегрированное современное общество внимает лекциям о коллективном сознании. В среднесоциологических пугалах прорастают пугалоустойчивые поведенческие стереотипы. Периферийные пугала соответствуют средним значениям. Детерминированные пугала развязали с недетерминированными диспут столь яростный, что результатов его предпочитают не дожидаться ни несведущий в горном деле Матерн, ни вполне сведущий в нем директор Брауксель вкупе со штейгером участка и псом.
Ибо в двадцатой камере их уже дожидаются все идеологические контроверзы — тут идет настоящая птичьепугальная идеологическая борьба, за которой Матерн не прочь и последить, поскольку в голове у него творится примерно такая же катавасия. Здесь, так же, как и в сознании у Матерна, вопросы стоят ребром: «Есть ли ад вообще? Или он давно уже на Земле? Попадают ли птичьи пугала на небо? Происходят ли пугала от ангелов, или они существовали и до того, как были замыслены ангелы? И не являются ли именно пугала ангелами? Кто — ангелы или пугала — изобрели пернатых? Есть ли Бог, или Бог — это Прапугало? И если человек создан по образу и подобию Бога, а птичье пугало — по образу и подобию человека, то не является ли и пугало отображением Божьим?» — О, Матерн готов с радостью ответить твердое «да» на все эти вопросы, а потом выслушивать дюжины других и на все скопом отвечать только утвердительно: «Все ли пугала равны? Или есть элитные пугала? Являются ли пугала общенародной собственностью? Или каждый крестьянин имеет право категорически настаивать на своем пугало-владении? От какой расы происходят пугала? Стоит ли германская пугальная раса выше славянской? Допустимо ли немецкому пугалу рядом с еврейским? Да, но разве евреи не лишены дара? Мыслимое ли вообще это дело — семитское пугало? Пугалоабрашка! Пугалоабрашка!» — И снова Матерн спасается бегством в главный ярус, где ему уже не задают вопросов, на которые — на все, сразу и без разбору — надо отвечать только утвердительно.
Но вот, немым отдохновением для глаз, словно директор предприятия и штейгер участка решили, наконец, дать несведущему экскурсанту легкую поблажку, их взорам открывается двадцать первая камера. Здесь пугалозапечатлены поворотные моменты истории. Испоганенная и тем не менее динамичная, от начала к концу и строго по датам, со всеми своими катастрофами и мирными договорами, здесь в пугальном обличье вершится мировая история. Старофранкская пряжка и стюартовский воротник, веллингтоновская и калабрийская шляпы, далматка и треуголка после основательной щелочной ванны и надлежащей потравы молью символизируют теперь звездные часы и судьбинные годы. Все это крутится и отвешивает поклоны по законам своей моды. Контрдансы и вальсы, полонезы и гавоты соединяют десятилетия. Бессмертные изречения, крылатые слова: «Здесь гвельф, там гибеллин!»[449] — «В моем государстве каждый может на свой манер…»[450] — «Дайте мне четыре года сроку…»[451] — сменяют друг друга на транспарантах. А все эти впечатляющие — то неподвижно рельефные, то пантомимические — картины! Верденская мясорубка. Победа при Лехфельде[452]. Покаянное паломничество в Каноссу[453]. Неутомимо скачет к далекому престолу юный Конрадин[454]. Готические мадонны не скупятся на складчатость мантий. Побольше соболей, раз уж в Ренсе теперь королевство[455]! Кто это там наступил на многоаршинный бархатный шлейф? Турки и гусситы одной водой немыты. Рыцарь и ржа, доспехами дребезжа. Щедрая Бургундия не жалеет багрянца, золототканой парчи и шелковых шатров на бархатной подстежке. Пыжатся чресельные мешки и гульфики, едва вмещая в себя свое бесценное хозяйство, но черноризник уже прибил к дверям свои тезисы[456]. О Ты, столетие, осененное оттопыренной габсбургской губой! Союз Башмака бродит по городам, соскребая с домов изображения. Но Максимилиан терпимо относится к разрезам, коротким камзолам и беретам, огромным, как нимбы у святых. Над испанской чернотой пеной вскипает белое, в три слоя жабо. Шпага сменяет меч и Тридцатилетнюю войну, которая дала моде полную свободу. Чужеземные плюмажи, сюртуки на коже, сапоги с ботфортами занимают зимние квартиры где придется. Не успевают войны за наследство утвердить моду на удлиненные парики, как в ходе трех силезских войн треуголка становится все обязательней. Но ни шиньоны, ни изысканные чепцы, ни шейные платки уже не защитят от ножеточильщиков и санкюлотов: свеклу с плеч, и все дела! И все это — очень искусным модулем — в двадцать первой камере. Однако, как ни побледнела бурбонская белизна, а лилейной Реставрации удается выскользнуть из лап Директории. В бальных платьях и облегающем икры нанкине танцует Венский конгресс. Фрак переживет цензуру и тревожный март[457]. Франкфуртские смельчаки в церкви Святого Павла[458] что-то шепчут в свои цилиндры. Под звуки Йоркского марша вперед на дюппельские бастионы[459]! Эмская депеша[460], любимое детище всех учителей истории. Канцлер уходит[461] в крылатке. Ему на смену, в сюртуках, Каприви, Хоенлое и Бюлов[462]. Борьба за культуру[463], Тройственный союз[464] и восстание Эрреры запечатлены в трех чрезвычайно красочных картинах. Но не забыты и алые долманы цитенских гусар при Мар-ля-Туре[465]. Но вот уже грянули выстрелы в траченом молью балканском захолустье. К каждой победе колокола. Речушка называется Марна. Стальная каска на смену прусскому шлему. Голову без противогаза уже не помыслить. В военных кринолинах и шнурованных сапожках кайзер удаляется в Голландию, потому что кто-то ножом в спину. Вслед за чем незамедлительно бескокардные солдатские советы. Тут как тут капповский путч. Спартак восстает. Хрустят бумажные денежки[466]. Костюмчик Штреземана[467] голосует за закон о полномочиях. Факельные шествия. Горят книги. Коричневые бриджи. Коричневое как идея. Коричневое доминирует. Ноябрьская картинка: кафтан, набитый соломой[468]. За этим — праздники народного костюма. За этим — полосатые арестантские робы. За этим — кирзовые сапоги, экстренные сообщения, зимняя помощь фронту, ушные клапаны, белые маскхалаты, хаки и камуфляж, экстренные сообщения… А в самом конце симфонический оркестр в своих коричневых рабочих спецовках наяривает что-то из «Сумерек богов». Мелодия хороша на все случаи, а потому мечется, как призрак, лейтмотивом, красной нитью и кровью по всей этой живописно-наглядной, пугало-ожившей истории, заполняющей собою двадцать первую камеру.
Вот когда не сведущий в горном деле Матерн вынужден обнажить чело и казенным шейным платком утереть жемчужины пота с лысой черепушки. Еще в школе все исторические даты сыпались у него из учебника, как горох, и без следа исчезали в щелях между половицами. Только по части семейных преданий память его не знает сбоев, однако эти пугала разыгрывают не какие-то там региональные матерниады, тут все по-крупному: Папский интердикт и Контрреформация, — да притом насквозь механизировано или при посредстве небольших, с кулак величиной, электрических моторчиков, приводится в движение — вестфальский мир и все такое, в пугальном обличье, заседают, решают, что, когда, где, с кем, против кого, без Англии, то-то принять, а это объявить вне закона по всему рейху, — словом, движут историю от одного переломного мига к другому.
И тут, конечно, едва вся эта шарманка раскручивается сначала, — опять франки, опять Лехфельд и Каносса, сызнова юное штауффенское пугало скачет к престолу — несведущий в горном деле Матерн не может удержаться от своей уже привычной присказки:
— Ад! Чистый ад!
Те же примерно инфернальные слова он произносит и позже, когда они, вместе с псом, выходят из двадцать второй камеры, которая, будучи уподоблена огромному биржевому залу, тем не менее, похоже, не в силах вместить экономическую экспансию, представленную здесь своими лучшими, то бишь инвестирующими, осаждающими рынок, подстегивающими конъюнктуру силами. Бесшумное зрелище шустрого образования пугального картеля, акустический экстаз, сопровождающий легкое колебание курса, равно как и монументальное величие заседания наблюдательного совета, исторгают из груди Матерна все тот же невежественный возглас:
— Ад! АО «Ад»!
Нельзя сказать, чтобы более многословный отзыв у него вызвала и двадцать третья камера, высота которой составляет шестнадцать метров, давая простор между полом и кровлей одной в высшей степени сложной акробатической дисциплине, именующей себя «внутренней эмиграцией»[469]. Тут впору подумать, что только птичьим пугалам доступно умение завязываться столь хитрыми узлами, только пугала обладают даром заползать в собственные кишки, лишь пугала в состоянии быть для сослагательного наклонения телом изнутри и расселиной снаружи. Но поелику — как гласят установления — птичье пугало есть образ и подобие человеческое, то, стало быть, и на земной поверхности тоже должны попадаться такие вот бродячие сослагательные наклонения.
Теперь в голосе профана слышна издевка:
— Я гляжу, вы в своем аду никого не забыли. Даже мокрицы у вас имеются.
На это Брауксель, директор, поигрывая отбрасывающей тень тростью черного дерева, ему отвечает:
— А что нам остается? Спрос большой. Каталоги, которые мы рассылаем по всему миру, должны пленять полнотой. Лежалого товара у нас нет. А двадцать третья камера занимает весьма важное место в нашей экспортной программе. Многие все еще эмигрируют вовнутрь. А что, там тепло, все родное, да и не докучает никто.
Не столь внутривъедливо, но тоже с вывертами, идет жизнь в двадцать четвертой камере, отведенной для испоганенных оппортунистов. Здесь проверяют на быстроту реакции. Свисающие с потолка лампы, сродни обыкновенным земным светофорам, с разлитыми интервалами включают разные, но однозначно понятные политические цвета и эмблемы, запечатлевшиеся в судьбах государственности; а обнаженным пугалам, в скелетах которых хорошо просматривается встроенная в них механика, надлежит в считанные секунды — стрелка секундомера подгоняет их нещадно — поменять цвета и тряпки, а в особенности расположение пробора на испоганенной, но наличествующей шевелюре — то быстренько расчесать его слева, то, по велению моды, справа, а то и, как того требует злоба дня, посередке; есть, впрочем, и полусредние нюансы, да и запросы на безволосую политическую прическу тоже не исключаются.
Матерна эта обезьянья дрессировка немало забавляет, — «адские шуточки!» — тем паче, что под его желто-лакированным шлемом прячется череп, который, благодаря бушующим над землей, к тому же часто весьма краткосрочным идейным ветрам, сперва увенчался огромными залысинами, а затем, — с помощью женщин, это Матерн признает, — и вовсе запретил себе всякую растительность. Как же радуется несведущий в горном деле экскурсант, что капризное время уже не сможет потребовать от него перемены прически, то бишь пробора.
— Будь у вас побольше таких комедий, я бы к вам в ад как в театр ходил!
Похоже, Матерн под землей обживается. Однако штейгер участка Вернике поднимает свою жужжащую карбидную лампу: в ярусе семьсот девяносто он имеет предложить еще только одну, двадцать пятую камеру. Эта скудная событиями одноактная пьеска, что под названием «Своенравные отдельности» значится в репертуаре предприятия с самых первых дней, тотчас же сбивает Матерну все его хорошее настроение, хотя безмолвные ее перипетии и разыгрываются под аккомпанемент классических цитат. То, что там, на поверхности посчитали бы абсурдом, здесь, на глубине, выглядит очень даже реалистично: отдельные члены и конечности живут и действуют совершенно самостоятельно. Головы-попрыгуньи, своенравию которых мешали даже шеи, теперь зато друг с другом не поцапаются. Короче: все, что делает человеческое тело многочленным, живет здесь по отдельности. Рука и нога, кисть и торс позируют под знаменитые реплики, которые обычно даются от рампы, но сейчас звучат из-за кулис: «Боже! Боже! Какое это страшное обручение, но зато вечное!»[470] «Добро пожаловать, достойнейшие друзья мои[471]! Какое чрезвычайное происшествие привело вас ко мне в столь многочисленном составе?» «И не далек тот день, когда я произведу вам жестокий смотр!»
Но, хотя у Шиллера и сказано дальше: «Трепеща, они уходят», — своенравные пугальные фрагменты, эти долгоиграющие мимы, никогда и никуда не уходят. Неисчерпаемый запас цитат позволяет продолжить одиночным коленопреклонением. Солирующие руки говорят сами за себя. Головы, как откатная порода, лежат кучей с одной хронической жалобой в устах: «Нет худшей боли, чем в годину муки счастливые припомнить времена»[472].
Лишь во время непродолжительного канатного спуска — звонарь двойным ударом возвещает прибытие на тот самый глубокий, основной главный ярус, где находятся рудничный двор, а значит, и надежда, что этот ад кончился и можно наконец подниматься, — лишь теперь, зажатый в тесной бадье между директором, штейгером и псом, Матерн узнает: увиденные им в двадцать пятой камере мобильные пугальные фрагменты пользуются в последнее время огромным спросом, особенно в Аргентине и Канаде, где бескрайние просторы полей требуют эшелонированного запугаливания.
Но вот, когда они все трое, а рядом с ними и пес, уже стоят на твердой почве яруса восемьсот пятьдесят, штейгер участка по сигналу директора произносит тот текст, которым, очевидно, должна предваряться заключительная стадия осмотра:
— Итак, после того, как мы на трех расположенных над нами горизонтах проследили весь, так сказать, производственный цикл, — то есть ознакомились с различными видами испоганивания, затем монтажа, попытались уяснить себе, как на основе трех первичных эмоций базируются все проходимые дисциплины, от спортивной до своенравно фрагментарной, — нам остается теперь только показать, как все пугала осваивают тот круг задач, с которыми им придется справляться на земной поверхности. В двадцать шестой, двадцать седьмой и двадцать восьмой камерах мы увидим упражнения на объектах, то есть производственные испытания, от которых ни одно из пугал, выпущенных фирмой «Брауксель и К°», пока что не сумело уклониться.
— Это живодерство! — тихо говорит Матерн еще до того, как им откроется двадцать шестая камера. — Немедленно прекратите это живодерство! — вопит он, когда слышит, что воробьи, эти, по замечанию Браукселя, «наши милые, неприметные граждане мира», и здесь, под землей, не могут оставить свои озорные привычки.
А еще директор говорит:
— Здесь наши экспортные пугала знакомятся с воробьями, а также с теми сортами зерновых, которые им предстоит охранять от птичьей потравы. Подлежащее испытанию пугало — тут вот перед нами коллекция предназначенных для Зеландии ржаных пугал, областью применения которых будет юго-западная оконечность острова — должно суметь отстоять тестовый квадрат с разбросанной по нему приманочной рожью от налетов наших тестовых воробьев. В течение этой смены, как я вижу, будут испытаны и другие коллекции. Двенадцать пугал модели «Одесса», которым предстоит оправдать себя на южнорусской пшенице «гарновка» и на украинской сандомирской. Затем наши весьма успешные модели «Ла-Плата», благодаря которым сельское хозяйство Аргентины вышло на рекордные урожаи пшеницы. А потом восемь моделей канзасских пугал будут осваивать защиту «кубанки», летнего сорта твердой пшеницы, который, кстати, культивируется и в штате Дакота. Более мелким партиям пшеничных пугал придется обеспечивать заградительный барьер между тестовыми воробьями и польской «сандомиркой», равно как и зимнестойкой «белотуркой». Здесь, так же, как и в двадцать седьмой и двадцать восьмой камерах, испытываются, кроме того, коллекции, предназначенные для двурядного ячменя «Полтава», северофранцузского пивного ячменя, скандинавских метельчатых овсов, молдавской кукурузы, итальянской кукурузы «чинквантино», советских и североамериканских сортов кукурузы с юга России и с равнин Миссисипи. Но если в этой камере испытательные площади охраняются исключительно от воробьев, в следующей против испытуемых экспортных пугал выступит уже отряд голубеобразных, прежде всего полевые голуби, которые, как известно, представляют опасность также для рапса, гороха и льна. Иногда в качестве испытательных объектов сюда допускаются вороны, галки и жаворонки полевые, в то время как в двадцать восьмой камере черные и обыкновенные дрозды экзаменуют наши древесные, а скворцы — наши виноградниковые пугала. Однако, ради спокойствия несведущих экскурсантов, можем сообщить: все наши тестовые птицы, от воробьев и полевых голубей до зябликов, жаворонков и скворцов доставляются сюда только с разрешения властей. Ганноверский и хильдесхаймский филиалы объединения «В защиту животных» инспектируют все три испытательных камеры ежеквартально. Мы птицам не враги. Мы с птицами сотрудничаем. Всякие там пневматические ружья, клейкие ветки, сети и прочие птицеулавливающие приспособления внушают нашим пугалам недоверие. Да, фирма «Брауксель и К°» по праву, публично и неоднократно заявляла категорические протесты против варварского отлова и вывоза итальянских певчих птиц. Наши успехи на всех континентах, наши пугала в Огайо и Мэриленде, наши сибирские пугала «уртоба», наши пугала над канадской пшеницей «манитоба», наши рисовые пугала, охраняющие рисовые плантации на Яве и итальянские, под Мантуей культивируемые сорта «остильони», наша модель «королева полей», во многом благодаря которой советские урожаи кукурузы уже приблизились к рекордным американским, словом, все наши пугала, где бы ни несли они свою вахту, обороняя от птичьей потравы отечественную ли рожь, моравский ли ячмень «ганна», выведенный ли в Миннесоте овес «милтон», знаменитую ли бордосскую озимую, индийские ли рисовые поля, южноперуанскую кукурузу «куско», китайское ли просо, шотландскую ли гречиху — все, абсолютно все изделия фирмы «Брауксель и К°» пребывают в гармонии с природой, больше того, они — сама природа, ибо птицы и птичьи пугала нерасторжимы, не было бы в природе птичьих пугал, значит, не было бы и птиц; и оба они, и пугало, и птица — творения Божьей длани — способствуют сейчас решению важной проблемы всемирной борьбы с голодом, птица — уничтожая своими шустрым клювиком щелкуна полосатого, зерновую моль, черного скрипуна и семена вредоносной свербигузки, пугало — заставляя смолкнуть птичьи трели, голубиное воркованье и воробьиную трескотню над вызревающим зерном, выдворяя скворцов из виноградников, а черных и обыкновенных дроздов — с вишневых деревьев.
Однако, сколь красноречиво ни расписывает директор Брауксель установившуюся между птицами и пугалами полную гармонию, несведущий экскурсант Матерн то и дело бормочет, словечко «живодерство». Когда же он слышит, что фирма, в целях дальнейшей рационализации, приучает теперь воробьев, полевых голубей и черных дроздов гнездиться, высиживать и выводить птенцов в горной породе, когда ему начинают мерещиться целые птичьи генерации, не ведающие света дня, а угрюмые соляные своды принимающие за свод небесный, он уже прямо говорит об адских мучениях адских птиц, хотя во всех трех камерах жизнь, на первый взгляд, идет дружно-весело и совсем по-майски: трели жаворонка и посвист зяблика, голубиное воркованье и галочий грай, наконец, сумбурный воробьиный гвалт, — словом, акустика полноцветного майского полдня безоблачно царит под сводами всех трех камер; лишь иногда, совсем редко, когда рудничная вентиляция в восемьсот пятидесятой оставляет желать лучшего, чтобы не сказать почти иссякает, служащим фирмы «Брауксель и К°» приходится подбирать с пола тельца отдельных пернатых созданий, у которых подземная атмосфера отбила всякую охоту радоваться жизни.
Несведущий экскурсант заявляет, что он просто убит. С его уст даже срывается тавтологическое словосочетание «адское позорище». И если бы не штейгер участка, который сулит ему в двадцать девятой камере показать венец всего птичьепугального образования, а именно выпускной праздник, или большой заключительный всепугальный митинг — он бы давно уже очертя голову мчался к рудничному двору, чтобы уж там — буде, конечно, он туда добрался — кричать и требовать, словом, рваться к воздуху и свету, к солнцу и маю.
Ну, а так он снова вынужден подчиниться и вот уже смотрит, но, конечно, со стороны, на весь этот феерический балаган. Ибо в этом пугалопараде представлены все выпускники-фирманты всех обучающих камер. Пугала-богомольцы и пугала-десантники, гражданские пугала — эти целыми семьями с пугалоглавой во главе. Разнузданные, подавленные и самодостаточные пугалокозлы. В испоганенном тряпье на пугальный слет и пугальный шабаш прибывают: философское пугало в вязаной шапочке, приведенные к средним значениям периферийные пугала, ангелоподобные элитные пугала, а также все, чем может порадовать нас история: бургундские носы и габсбургская губа, шиллеровский ворот и суворовский сапог, испанский черный на прусском голубом, а промежду ними — барыги свободной рыночной экономики и почти уже неразличимые, ибо скрывшиеся в собственных потрохах, внутренние эмигранты. А это еще кто разоряется, кому больше всех надо, кто обеспокоен пугальными умонастроениями и пугалопеременами? Да конечно же всеобщие любимцы — оппортунисты, те, что под коричневым носят красное, но в любую секунду готовы юркнуть и в церковное черное. А в самую гущу праздника — ибо государственное уложение подразумевает тут равноправие представительства — уже рвутся своенравные театралки отдельности. Одно слово — пестрота, пугалокрасочность, благолепие! Родной пугалонемецкий уже коммуницирует. Пугаломузыка облагораживает ненависть, ярость и неугомонную месть, три первичных эмоции, которые во всех камерах тщательно смазали всем пугалам механику, да и сейчас, в зале, ходят надсмотрщиками и покрикивают: «Вот ужо! Смотрите у меня!»
Однако в целом фирманты ведут себя прилично, хотя в любую минуту и готовы к шалостям. Пугала с полной боевой выкладкой пристают к поющим пугалам-миссионерам. Пугало-стервятник не может отказать себе в удовольствии поразмять когти. Историческая группа «Смерть Валленштейна» почему-то затащила в свои ряды горстку больнично-бледных медсестер. Кто бы мог подумать, что досократическое философски-лыжное пугало позволит втянуть себя в диалог с лукавой теорией социального расслоения? Ажиотаж нарастает. Разученный в седьмой камере и совершенно несправедливо названный кое-кем «адским» смех, а иногда уже и хохот, волнами перекатывается по залу, смешиваясь где с плачем из восьмой, а где и со скрежетом зубовным из девятой камер; ибо какой праздник обходится без шуток и смеха, но и без слез по поводу пропавшей сумочки, и без мгновенно вспыхнувшей ссоры, быстро улаженной и погребенной под скрежетом зубовным?
Когда, однако, объединенные общим заключительным торжеством фирманты, ведомые директором с псом и несведущим экскурсантом, что плетется за штейгером участка, препровождаются в расположенную по соседству тридцатую камеру, тут мгновенно устанавливается мертвая тишина.
Стыд повелевает Матерну отвернуть голову, когда весь собравшийся здесь пугальный цех, подчиняясь — уж Матерн-то знает — командам дистанционного управления, то есть, как он же, Матерн, формулирует, «с бездушным автоматизмом», принимает торжественную присягу на верность фирме «Брауксель и К°». И птичьи пугала осмеливаются лопотать, повторяя за диктором: «И да поможет мне Бог!» И присяга, начавшись традиционным в стране «Клянусь именем…», заканчивается — после того, как обещано было никогда не предавать своего подземного происхождения, никогда самовольно не покидать вверенного пугалу поля, неизменно исполняя главное свое назначение, строго, но честно отбивая охоту у птиц — заканчивается все тем же обращением к Нему, Тому, чье око и здесь, под землею не дремлет: «И да поможет мне Бог!»
Остается только упомянуть, что в тридцать первой камере изготовленные на экспорт пугала — по отдельности и целыми коллекциями — упаковываются и укладываются в ящики, а в тридцать второй ящики надписываются, заполняются накладные и производится погрузка в автофургоны.
— Таким образом, — говорит штейгер участка Вернике, — мы с вами достигли конечного пункта нашего длительного производственного цикла. Надеюсь, общее представление у вас теперь имеется. Вход в наземные объекты — лаборатории, цех автоматики и электромастерские — экскурсантам, к сожалению, запрещен. И на наш стекольный завод тоже только по специальному пропуску. Если захотите, можете, конечно, попросить господина директора…
Однако несведущему экскурсанту Вальтеру Матерну всего увиденного более чем достаточно. В глазах у него рябит до тошноты. Он готов мчаться к свету куда быстрее, чем дрезина, везущая их к рудничному двору. Матерн сыт по горло.
Поэтому он даже не особенно перечит, когда Брауксель, директор предприятия, схватив черного пса Плутона за ошейник, сажает его на цепь аккурат там, где начинался их ознакомительный осмотр, где завершается характеристика месторождения, где по указанию Браукселя прибита гостеприимная табличка «Добром наверх!» и где Матерн, будь его воля, начертал бы совсем другие слова: «Оставь надежду всяк, сюда входящий»[473].
Уже открыта дверца бадьи, чтобы на канате вознести их наверх, когда несведущий экскурсант подбирает, наконец, слова:
— Вообще-то это моя собака.
На что Брауксель произносит слова окончательные:
— Да разве там, в веселом надземном мире, сыщется более достойный объект охраны для такого-то пса? Его место здесь. Здесь, где ствол главной подъемной шахты говорит свое «аминь» и вентиляционные штреки жадно выдыхают засосанный сверху майский воздух. Пусть сторожит здесь, хотя и не зовется Цербером. Ибо Оркус там, наверху!
О, канатный взлет вдвоем, ибо штейгера они оставили внизу.
О, несравненные, возносящие пятнадцать метров в секунду.
О, знакомое чувство, что всякий лифт — посредник.
Гул, среди которого они молчат, ватой забивает каждое ухо. Но каждый из них слышит, что пахнет горелым. И каждое упование обращено к канату с мольбой сохранить, ради Бога сохранить свою целокупность, дабы снова свет, дневной свет, еще хоть разок солнцем напоенный май…
Но когда они, уже наверху, выходят на помост «полотенца», с неба сеется дождь, а с Гарца на округу наползают сумерки и хмарь.
И оба, Тот и Другой — ибо кому еще охота величать их Браукселем и Матерном? — я и он, с погашенными огнями шагаем мы к штейгерскому бараку, где комендант забирает у нас шлемы и карбидные лампы. Он разводит нас, меня и его, по кабинкам, где, сложенная, лежит одежда Матерна и Браукселя. Он и я, оба мы сбрасываем с себя наши подземные одеяния. Для меня и для него уже стоят наполненными ванны. Я слышу, как Эдди уже плещется за перегородкой. Теперь и я ступаю в купель. Пусть вода нас выщелачивает. Эдди что-то насвистывает. Я пытаюсь подсвистеть. Получается плохо. Оба мы нагишом, каждый в своей купели. И каждый отмывается в одиночку.
Примечания
1
Первым изданием роман «Собачьи годы» вышел в издательстве «Лухтерханд» в 1963 году. Роман завершает так называемую «данцигскую трилогию» Грасса, куда входят также роман «Жестяной барабан» (1959) и повесть «Кошки-мышки» (1961).
Создавая роман, захватывающий как глубокие исторические пласты, так и злободневные явления западногерманской современности — то есть немецкой жизни пятидесятых — начала шестидесятых годов, Грасс, естественно, не мог обойтись без вспомогательной литературы и источников, на которые указывают комментаторы его немецких изданий.
В том, что касается мифологии, основным источником Грасса была книга «Народные сказания Восточной Пруссии, Литвы и Западной Пруссии», изданная в 1837 году в Берлине: Die Volkssagen Ostpreussens, Litthauens und Westpreussens. Gesammelt von W.J.A. von Tettau und J.D.H.Temme, Berlin, 1837. В дальнейшем цитируется или упоминается как «Народные сказания».
Специальная литература использовалась Грассом и в других сферах: язык данцигских цыган он изучал по книгам: Siegmund A. Wolf, «Grosses Worterbuch der Zigeunersprache», Mannheim, 1960. По части кинологии главным источником автора был хрестоматийный труд: Rittmeister von Stephanitz, Der deutsche Schaferhund in Wort und Bild, 1901. При переводе использовались следующие издания: «Служебное собаководство», Москва, ДОСААФ СССР, 1987; «Стандарты собак служебных пород», Часть первая (немецкая овчарка, ризеншнауцер, эрдельтерьер, шотландская овчарка, ротвейлер), Москва, Экокомпьютеринформ, 1992. Книга Отто Вайнингера «Пол и характер» неоднократно издавалась в России в начале века, однако качество перевода практически исключает возможность цитирования этих изданий. Большое значение имеет в романе и вообще в творчестве Грасса магия чисел, на эту тему даже написана диссертация: Michael Harscheidt, Wort, Zahl und Gott bei Gunter Grass, Bonn, 1975. Однако комментарий на эту тему занял бы слишком много места.
На русском языке роман публикуется впервые.
(обратно)2
Вальтер Хенн (1931–1963) — друг Грасса, театральный режиссер, поставил в 1961 году его драму «Злые повара».
(обратно)3
На 4 февраля 1962 года астрологами предсказывалась вселенская катастрофа.
(обратно)4
Летние паводки на Висле, приходившиеся чаще всего на начало августа, когда отмечается день святого Доминика (7 или 8 августа).
(обратно)5
Вильгель Эренталь — точнее Франц Вильгельм Эренталь (1818–1895) — лицо историческое, он действительно отвечал с 1861 по 1881 год за состояние плотин в Большой пойме Вислы и действительно опубликовал в 1875 году «Дамбоспасательную эпистулу» в стихах на античный манер.
(обратно)6
Грасс обыгрывает здесь мотивы сказания о всаднике на белом коне, использованного, в частности, и Т. Штормом в его известной одноименной новелле (1888).
(обратно)7
Плотинные смотрители — выборная, а иногда и наследуемая должность в сельских общинах Большой поймы, лицо, ответственное за состояние дамб на территории общины. Упоминаются в хрониках данцигского края с 1637 года.
(обратно)8
Меннониты — представители радикального крыла реформации, сторонники учения теолога Менно Симонса (1495–1561), проповедовавшего, в частности, крещение не в младенчестве, а в сознательном возрасте. Подвергались религиозным преследованиям в Швейцарии, Германии и Нидерландах, что влекло за собой вынужденное их переселение, в частности, в дельту Вислы, где с 1585 года между западнопрусскими сословиями (протестантскими в подавляющем большинстве) и польским королем, представлявшим католицизм, был заключен и соблюдался религиозный мир. Нидерландские меннониты «пришлись ко двору» в дельте Вислы благодаря огромному опыту в деле осушения земель и строительства дамб. Но среди самих меннонитов намечается раскол на «строгую» фламандскую и более либеральную «фризскую» ветви. «Фламандское» течение категорически отклоняло всякую роскошь в одежде, в частности, карманы и пуговицы, и браки за пределами общины.
(обратно)9
Адальберт Пражский (956–997), так называемый «прусский апостол», погибший при попытке обратить племена пруссов в христианство.
(обратно)10
Святнополк — герцог Поммерельский (1220–1266), сын Мествина I.
(обратно)11
Мествин I, с 1209 по 1220 г. данцигский князь и правитель, основал для своей дочери Даноки женский монастырь Цукау.
(обратно)12
Богатырь Милигедо — персонаж «Народных сказаний», богатырь, принявший крещение и выступивший вместе с крестоносцами рыцарского ордена против своих соплеменников-язычников. Единственным его оружием была свинцовая палица.
(обратно)13
Перкунас. Пеколс. Потримпс… — троица «первобогов» прусско-литовского языческого пантеона, почитавшихся под вечнозеленым дубом в святилище Ромове. Перкунас — бог огня и природных стихий (дождя, грозы), изображается в облике гневного мужчины средних лет с вьющейся черной бородой, увенчанного пламенем. Пеколс — бог преисподней и тьмы, высокорослый старец с седой бородой, с мертвенно-бледным лицом, глядящий исподлобья снизу вверх. Потримпс — бог войны и урожая, изображался безбородым смеющимся юношей в венке из колосьев.
(обратно)14
Имеются в виду священные дубы древних германцев, срубаемые миссионерами-крестоносцами.
(обратно)15
Кестутис — князь тракайский и жемайтский, в 1345 году разделивший власть в Великом княжестве Литовском со своим старшим братом Ольгердом. Сыграл значительную роль в борьбе против Тевтонского ордена.
(обратно)16
Святой Бруно — прусский миссионер Бруно фон Кверфурт, который, по преданию, дабы доказать истинность своих проповедей, прошел сквозь пламя двух пылающих костров.
(обратно)17
Фамилия Матерны действительно упоминается в «Народных сказаниях». Грасс, кроме того, опирался на изданную за счет автора брошюру некоего Георга Матерна, посвященную исследованию рода Матернов и вышедшую в 1933 году.
(обратно)18
Имеется в виду: до и после российского похода, поскольку Данциг пережил в связи с наполеоновскими войнами две осады — первую войсками Наполеона под командованием генерала Лефевра весной 1807 года, вторую, гораздо более длительную, войсками союзников с января по декабрь 1813 года.
(обратно)19
Военное изобретение английского инженера и генерала артиллерии Уильяма Конгрева, применялось с 1804 года.
(обратно)20
Имеется в виду Михаил Радзивилл (1778–1850), видный польский военачальник, представитель знатного литовско-польского княжеского рода.
(обратно)21
Ветхозаветное предание повествует о поединке молодого пастуха Давида, будущего царя иудеев, с филистимлянином, великаном Голиафом. Давид сражает Голиафа из пращи (Библия, Первая книга Царств, 17, 4–51).
(обратно)22
Под французским городом Верденом с февраля по декабрь 1916 года происходило одно из самых ожесточенных сражений Первой мировой войны.
(обратно)23
По условиям Версальского мирного договора германские войска должны были полностью оставить Данциг, что и произошло 8 февраля 1920 года.
(обратно)24
Современная Намибия, немецкий протекторат с 1884 по 1919 год. Не исключено, что Корнелиус Кабрун проходил там службу в германской армии.
(обратно)25
Немецкое название так называемого «нового» французского экю, серебряной монеты с лиственным орнаментом вокруг трех лилий. Имели широкое хождение в Европе XVIII–XIX веков.
(обратно)26
Золотые монеты.
(обратно)27
Генерал-губернатор граф Рапп — командующий французским гарнизоном Данцига с 1807 года.
(обратно)28
Бумажные деньги, выпущенные в 1813 году.
(обратно)29
В битве при Йене и Ауэрштедте 14 октября 1806 года. После этого прусская королевская семья вынуждена была бежать от стремительно наступающих французов из Кюстрина через Штеттин (совр. Щецин), Данциг (Гданьск) и Кенигсберг в Мемель (Клайпеду).
(обратно)30
Те, кто служили в течение года добровольно, должны были сами оплачивать свое содержание. Некоторые кавалерийские подразделения в виду необходимости содержания еще и лошади, а также в связи с нравами и традициями проведения досуга считались «дорогими». В контексте данного эпизода важно также знать, что в данцигских гусарских полках издавна поддерживались традиции изощренного антисемитизма.
(обратно)31
То есть в сражениях Первой мировой войны: битва на Сомме происходила с июня по ноябрь 1916, на реке Марне в начале сентября было остановлено продвижение немецких передовых частей, а в июле-августе 1918 немецкими войсками была предпринята последняя отчаянная попытка наступления.
(обратно)32
Отмель в центральной части Северного моря. В этом районе 24 января 1915 года произошел первый серьезный бой между английской и германской крейсерскими эскадрами, в результате которого обе стороны понесли потери, а германская эскадра вынуждена была отступить.
(обратно)33
Абраам-Фридрих Блех (1762–1830), священник церкви св. Марии, автор двухтомной хроники «История семилетних бедствий города Данцига с 1807 по 1814 год.»
(обратно)34
Густав Нахтигаль (183–1885), немецкий военный врач, путешественник по Африке, колонизатор.
(обратно)35
Отто Вайнингер (1880–1903) — австрийский писатель, «Пол и характер» — его главное произведение, основные идеи которого излагаются Грассом хотя и неприязненно, но достаточно точно.
(обратно)36
Рихард Пфенниг, автор книги «Вильгельм Флис и его послеоткрыватели: Отто Вайнингер и Г. Свобода», вышедшей в 1906 году в Берлине.
(обратно)37
Герман Свобода, доктор юриспруденции и философии, был приват-доцентом в университетской психиатрической клинике в Вене.
(обратно)38
Вильгельм Флис, биолог и доктор медицины, опубликовал в 1906 году в Берлине книгу «О своем деле. Против Отто Вайнингера и Германа Свободы».
(обратно)39
Еврей не занимается спортом. — Этой мысли у Вайнингера нет, Грасс добавил ее от себя.
(обратно)40
О «национальном своеобразии лапты» как «истинно немецкой народной игры» см. последующие разделы романа.
(обратно)41
Имеются в виду так называемые «Нюрнбергские законы», закон «О рейхсгражданстве», ограничивавший гражданские права евреев, и закон «О защите немецкой крови и немецкой чести», запретивший браки евреев с неевреями. Оба закона были приняты на Нюрнбергском партийном съезде 15 сентября 1935 года.
(обратно)42
«Прусские короли», «Великие мужи Пруссии», «Старый Фриц» — Грасс перечисляет образцы весьма популярного в конце XIX — начале XX столетия исторического чтива, выдержанного в духе прославления Пруссии и ее истории. «Граф Шлиффен» — граф Альфред фон Шлиффен (1833–1913), прусский политический деятель и историк, автор книг о Фридрихе II, короле Пруссии с 1740 по 1786, и других исторических трудов. «Фридрих и Катте» — Катте — друг молодости Фридриха II. Барбарина — или Барберина Кампанини (1721–1799), прославленная балерина XVIII века, имела ангажемент в Берлинской опере с 1743 по 1748, пользовалась щедрым покровительством Фридриха II.
(обратно)43
В ночь на 13 августа 1961 года была возведена стена, разделившая Восточный и Западный Берлин.
(обратно)44
Копф Хинрих (1893–1961), немецкий политик, возглавлял правительство западногерманской земли Нижняя Саксония в 1946–1955 и 1959–1961 годах.
(обратно)45
Известное сражение Семилетней войны между прусскими и австрийскими войсками 3 ноября 1760 года. Кровопролитный бой продолжался весь день, а ночью, после того, как австрийское командование уже рапортовало в Вену о победе, внезапная атака гусарского полка под командованием генерала Ханса Йоахима Цитена (1699–1786) принудила австрийцев к отступлению.
(обратно)46
«… озеру Саспи до ручейка Стриеза…» (лат.).
(обратно)47
«До впадения ручейка Стриез в Вислу…» (лат.).
(обратно)48
«… вышеупомянутая речушка Стризце по обоим берегам от селения Колпин…» (лат.).
(обратно)49
На цыганском языке Асмодей — одно из имен черта.
(обратно)50
Немецкими комментаторами Грасса происхождение этого имени не установлено.
(обратно)51
Медуза, одна из трех горгон греческой мифологии, мерзкое порождение морских божеств, отличающееся ужасным видом: вместо волос у них змеи, а взор их все живое превращает в камень.
(обратно)52
Зюттерлиновский шрифт — один из вариантов написания латинского шрифта, названный так в честь графика Людвига Зюттерлина (1865–1917), с 1935 по 1941 преподавался в немецких школах как стандартный шрифт. Упоминается и в других произведениях Грасса чаще всего в негативном контексте как атрибут казенщины и тоталитаризма.
(обратно)53
Еще одно победоносное сражение Фридриха II в Семилетней войне в августе 1760 года.
(обратно)54
5 декабря 1757 года прусские войска разбили австрийцев под Лейтеном. Штурм кладбища, в каменных стенах которого укрылись отступающие австрийцы, считается одним из наиболее славных эпизодов прусской военной истории.
(обратно)55
Некто Ульрих Брекер (1735–1798), автор книги «Жизнь и невольные приключения бедняка из Тоггенбурга» (1789), описывает в ней свою принудительную службу в прусской армии вплоть до дезертирства во время битвы при Лобозице 1 октября 1756 г.
(обратно)56
При Максене — где прусский генерал Финк капитулировал с остатками своей армии 21 ноября 1759 года в сражении против австрийцев.
(обратно)57
Де ля Мотт-Фуке — известная фамилия многих потомственных офицеров прусской армии, прославлена, однако, поэтом-романтиком Фридрихом де ла Мотт-Фуке (1777–1843), автором повести «Ундина» (1811), тоже, кстати, отличившимся на полях сражений против Наполеона.
(обратно)58
Победа Фридриха II над австрийцами 10 апреля 1741 года.
(обратно)59
Победа генерала Цитена над австрийцами 23 ноября 1745 года.
(обратно)60
В уже упомянутой выше автобиографии Брекер подробно описывает быт и нравы прусского воинства в военном лагере под Пирной. В битве при Колине 18 июня 1757 года Фридрих II потерпел сокрушительное поражение от австрийской армии под командованием фельдмаршала Лоепольда-Иосифа Дауна.
(обратно)61
5 ноября 1757 года Фридрих II с минимальными потерями наголову разбил втрое превосходящую его по численности соединенную французско-имперскую армию.
(обратно)62
Имеется в виду чрезвычайно пестрый территориальный состав имперского войска, противостоявшего Фридриху в битве при Росбахе.
(обратно)63
После Росбахского сражения прусский генерал кавалерии Фридрих Вильгельм Зейдлиц (1721–1773) гнал имперские войска, которыми командовал принц Йозеф Фридрих фон Хильдбургхаузен, на юг до Бамберга, где последний сложил с себя командование почти полностью разбежавшейся армией.
(обратно)64
«…вот и конец моим мученьям по крайней мере…» (франц.).
(обратно)65
То есть до 7 июля.
(обратно)66
В конце двадцатых, начале тридцатых годов как следствие общего экономического кризиса.
(обратно)67
Гинденбург Пауль фон (1847–1934), Президент Веймарской республики с 1925 года, умер 2 августа 1934.
(обратно)68
Начало Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года.
(обратно)69
Разряд «А» был самым низшим и просто удостоверял статус беженца.
(обратно)70
Плутон в греческой мифологии — одно из имен бога, который владычествует в подземном царстве, Аиде.
(обратно)71
Вотан, Бальдур, Фафнир, Фрея — боги древнегерманского языческого пантеона.
(обратно)72
Зевс, Юнона, Плутон, Аполлон, Меркурий — божества греческой мифологии из так называемого олимпийского пантеона.
(обратно)73
Изида — египетская богиня плодородия, символ женственности и материнства, почиталась и за пределами Египта, в частности, и в древнем Риме.
(обратно)74
Рыцарские ордена — организации рыцарства в средневековой Европе, возглавляемые так называемыми магистрами.
(обратно)75
Герман Бальке (умер в 1239 г.) — магистр прусского ордена, при нем в 1230 году началось покорение прибалтийских земель, будущей территории Тевтонского ордена. Конрад фон Валленрод — магистр с 1391 г. до своей смерти в 1393 г. Организовал несколько безуспешных крестовых походов на Литву, в которых принимали участие рыцари из Германии, Англии и Франции. Юнгинген Ульрих фон — магистр с 1407 г. по 1410 г., при нем войска ордена потерпели сокрушительное поражение в Грюнвальдской битве, которая в немецкой исторической традиции именуется битвой при Таннеберге. Книпроде Винрих фон (1352–1382). Летцкау Конрад — бургомистр Данцига, убит в 1411 году вскоре после Грюнвальдской битвы в ходе распрей между Данцигом и Тевтонским орденом. Фон Плауэн Генрих — магистр ордена в 1410–1412 гг. Ягайло (ок.1351–1434) — великий князь литовский, родоначальник династии Ягеллонов, с 1386 г. под именем Владислава II король Польши, родственник Кестутиса. …великий Казимир — Казимир III, польский король с 1333 г. по 1370 г. …Бенеке Пауль и Мартин Бардевик — данцигские корабельные капитаны в конце XV столетия, не гнушавшиеся пиратским ремеслом. Лещинский — Станислав Лещинский (1677–1766), польский король в 1704–1711 гг., 1733–1734 гг., избран королем под нажимом Швеции, но не признан большинством шляхты. Альбрехт Ахилл (род. в 1414) — курфюрст Бранденбургский с 1470 г. по 1486 г.
(обратно)76
Далее у Грасса очень сложная художественная реконструкция перипетий одного из крестовых походов Тевтонского ордена на Литву с участием немецкого и английского рыцарства.
(обратно)77
Князь Витовд — или Витаутас (1350–1430), великий князь Литвы, сын Кестутиса.
(обратно)78
Иоганнес Бобровский (1917–1965), немецкий поэт, в стихах и прозе которого воспеваются земли его родины, мемельского края, упоминает речку Шяшупу в своем сборнике «Время сарматов» (1961).
(обратно)79
Сражение при Цорндорфе 25 августа 1758 года между прусскими и русскими войсками было решено двумя атаками кавалерийских частей генерала Зейдлица в пользу пруссаков.
(обратно)80
То есть Наполеон в 1813 г.
(обратно)81
Второй битвой при Танненберге в немецкой историографии именуется ряд сражений между германскими и русскими войсками (2-я армия под командованием генерала А. В. Самсонова) 23–31 августа 1914 года, в ходе которых русские войска понесли тяжелые потери.
(обратно)82
В мае 1920 года 1-я Конная армия под командованием С. М. Буденного совершила стремительный и не слишком подготовленный рейд в направлении Варшавы, но затем под ударами польских войск отступила на исходные рубежи. Юзеф Пилсудский был в ту пору руководителем польского государства и военачальником.
(обратно)83
«Мать стояла в смертной боли»… — начальные строки религиозного песнопения, текст которого приписывается средневековому итальянскому поэту Джакопони да Тоди (ок. 1230–1306). Грасс цитирует первые его четыре строки, причем первую строчку по-немецки, остальные по латыни.
(обратно)84
В классной комнате шестого начального… — в Германии нумерация классов от начального до выпускного велась прежде в обратном порядке, так что выпускной класс школы или гимназии считался первым.
(обратно)85
Вальтер очень глупый мальчик (англ.).
(обратно)86
24 января 1962 года.
(обратно)87
Двенадцатая ночь после Рождества, на 6 января, по народным преданиям — ночь чудес и дивных превращений.
(обратно)88
21 сентября, день осеннего равноденствия, также считается особым и чудодейственным.
(обратно)89
Вечный двигатель (лат.).
(обратно)90
Грасс предлагает читателю дополнить: «…родился в Данциге». Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ.
(обратно)91
Автор пользуется литературными ассоциациями в описании внешности: Эйхендорф Йозеф фон (1788–1857), немецкий писатель-романтик, один из крупнейших поэтов Германии. Водяная мельница, веселые подмастерья и фантастическая ночь… — Грасс упоминает здесь ряд образов поэзии и прозы Эйхендорфа, в частности, из знаменитой повести «Из жизни одного бездельника» (1835) и из стихотворения «Дивная даль».
(обратно)92
Гейне, «Зимняя сказка», — точнее «Германия. Зимняя сказка» (1844), одна из наиболее известных поэм Генриха Гейне (1797–1856). Упоминание о Гейне важно в данном контексте еще и потому, что в фашистской Германии его произведения сжигались на книжных кострах.
(обратно)93
Раабе, «Балбес» — роман немецкого писателя Вильгельма Раабе (1831–1910), опубликованный в 1891 г. В сюжетных перипетиях книги не последнюю роль играет противопоставление «правильного», скучного образа жизни умонастроениям озорного гуманистического анархизма, воплощенным в фигуре заглавного героя.
(обратно)94
14 января 1962 года Совет министров ЕЭС принял решение о переходе к аграрной интеграции, как второй стадии развития Общего рынка.
(обратно)95
Австрийский писатель Адальберт Штифтер (1805–1868) славится своими описаниями природы, в особенности горных и холмистых ландшафтов своего родного края.
(обратно)96
На цыганском языке «перстень», «кольцо».
(обратно)97
На том же языке означает «беззубый».
(обратно)98
Так Грасс контрапунктом вводит в повествование перекличку с первым романом «данцигской трилогии» — «Жестяной барабан». В дальнейшем эта тема получает все более интенсивное развитие.
(обратно)99
Лилит — в мифологии ряда восточных народов — демон в женском обличье.
(обратно)100
Гнейсы — метаморфическая горная порода, сланцеватая, богатая полевым шпатом, содержащая также кварц, биотит, мусковит и т. п. Применяются для изготовления щебня, тротуарных плит, в качестве облицовочных материалов.
(обратно)101
Бенг Дирах Беельзебуб, Вельзевул… — различные имена Сатаны.
(обратно)102
Братишка Бальдур — призрак в цыганских преданиях.
(обратно)103
О магии чисел у Грасса написано не одно исследование, например: Michael Harscheidt, Wort, Zahl und Figur bei Günter Grass, Bonn, 1975.
(обратно)104
На цыганском языке означает «сорока».
(обратно)105
Авгит — минерал группы пироксенов.
(обратно)106
Обманка роговая — точнее: роговая обманка, минерал из группы моноклинных амфиболов.
(обратно)107
«Ниспошли нам…» (лат.).
(обратно)108
Части мессы, богослужения у католиков.
(обратно)109
Рихард Стахник (1894–1892) — учитель данцигской гимназии, преподавал Грассу латынь. С марта 1933 года председатель данцигской Партии центра, с мая 1933 депутат данцигского фолькстага. Сообщаемые Грассом в романе биографические данные полностью соответствуют действительности.
(обратно)110
Данцигский фолькстаг — орган законодательной власти Вольного города Данцига.
(обратно)111
Ганс Лютер (1879–1962) — немецкий политик, в 1925–1926 гг. рейхсканцлер.
(обратно)112
Линдберг Чарльз (1902–1974), американский летчик, в 1927 году совершил первый в истории одиночный перелет из Нью-Йорка в Париж через Атлантику за тридцать три с половиной часа.
(обратно)113
Лига наций — международная организация, созданная после окончания Первой мировой войны с целью развития сотрудничества между народами и обеспечения гарантии их мира и безопасности. Предшественница ООН, Лига наций действовала в 1919–1939 годах.
(обратно)114
Гарри Пиль (1892–1963) — популярный немецкий актер и режиссер, известный и у нас в стране по фильмам 20-х годов «Лжепринц» и «Знатный иностранец».
(обратно)115
Хайнц Хаке (1892–1945) — член национал-социалистской рабочей партии Германии с 1922 года, долгое время единственный депутат от НСРПГ в Прусском ландтаге, с апреля 1934 глава Земельной администрации провинции Рейн.
(обратно)116
Книга «Бытие и время» — первая известная работа немецкого философа-экзистенциалиста Мартина Хайдеггера (1889–1976), с которым Грасс в этом романе ведет ожесточенную саркастическую полемику.
(обратно)117
Лангфур — предместье Данцига и место действия многих произведений Грасса.
(обратно)118
С кошнадерским водяным духом… — так же, как упоминающиеся чуть ниже говорящая корова, кожаный мост, способный сам собой расстилаться по воде, и два мешка золота — сказочные, фольклорные мотивы из «Народных сказаний».
(обратно)119
В 1830 и 1863 годах.
(обратно)120
Во время европейского аукциона — то есть по итогам Венского конгресса 1814–1815 годов.
(обратно)121
«Огнем и мечом» — формулировка Гитлера после так называемой «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года, когда были уничтожены многие главари штурмовиков.
(обратно)122
«Сегодня с четырех сорока пяти утра…» — цитата из речи Гитлера по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года.
(обратно)123
«Юнгфольк» — фашистская организация для детей от 10 до 14 лет.
(обратно)124
«Мы любим бури…» — профашистская песня начала 30-х годов, музыка и слова Вильгельма Фолька.
(обратно)125
«В ранний час, когда светает…» — песня «гитлерюгенда», фашистской организации для юношества от 14 до 18 лет.
(обратно)126
Оскар Мацерат, главный герой романа Грасса «Жестяной барабан».
(обратно)127
В Вольном городе Данциге до 1939 года сохранялся так называемый «польский анклав».
(обратно)128
«Я нагрузил тележку с верхом…» — немецкая народная песня.
(обратно)129
«Страны прекрасней в наше время…» — немецкая народная песня середины XIX века, пользовавшаяся особой популярностью в фашистских детских и молодежных организациях в виду ее патриотизма.
(обратно)130
«Мастер Якоб» — немецкая версия французского канона второй половины XIX века «Frère Jaques».
(обратно)131
В предместье Данцига Лангфуре располагались казармы бригады лейб-гусаров кронпринца Вильгельма и его сестры Виктории-Луизы. Макензеновскими гусаров называли в честь генерала кавалерии, с 1915 года генерала-фельдмаршала Августа фон Макензена (1849–1945), начинавшего здесь свою карьеру и считавшегося «отцом и патроном» данцигских гусаров.
(обратно)132
Альберт Форстер (1902–1948) — видный деятель НСРПГ, с 1930 года назначенный Гитлером «гауляйтером», т. е. областным партийным руководителем Данцига, хотя Данциг, находившийся в статусе Вольного города, к Германии до 1939 года не принадлежал. 12 июля 1933 года Гитлер объявил Форстера своим «доверенным человеком» в Данциге, что обеспечило Форстеру более высокий, хотя и неофициальный, ранг, нежели номинальным городским руководителям Вольного города Данцига — сперва Раушнингу, потом Грайзеру. После войны Форстер был арестован на западе Германии, выдан Польше и в 1947 году приговорен к смертной казни.
(обратно)133
20 апреля 1935 года.
(обратно)134
Резиденция Гитлера.
(обратно)135
Сектор и подсектор (по-немецки «хауптбанн» и «юнгбанн») были организационно-территориальными подразделениями «гитлерюгенда» и «юнгфолька», в каждый сектор входило около 20 подсекторов. Данциг, хотя формально к Германии не относился, имел ранг сектора.
(обратно)136
«Ремовским путчем» официальная гитлеровская пропаганда именовала кровавую акцию по уничтожению многих руководителей штурмовиков (СА) во главе с начальником штаба Эрнстом Ремом в июне 1934 года. Задним числом Рем был обвинен в заговоре против Гитлера и руководства НСРПГ.
(обратно)137
Имеется в виду Президент Рейха Гинденбург, скончавшийся 2 августа 1934 года в своем поместье в Нойдеке.
(обратно)138
Ангела Раубаль, урожд. Гитлер, сестра Гитлера по отцу.
(обратно)139
Рудольф Гесс (1894–1989) — с 1925 года личный секретарь Гитлера, с 1933 — его заместитель по партии.
(обратно)140
Ханфштенгель, Эрнст — личный друг Гитлера.
(обратно)141
Раушнинг Герман (1887–1982) — с июня 1933 до ноября 1934 президент Данцигского сената и одновременно член НСРПГ. Не поделив власть с Форстером, ушел в отставку и эмигрировал в 1936 году. В описании данной сцены Грасс во многом опирается на книгу Раушнинга «Разговоры с Гитлером», вышедшую в 1940 году в Цюрихе.
(обратно)142
Август Вильгельм Прусский — сын последнего германского кайзера Вильгельма II, примкнувший к национал-социалистам в надежде на восстановление в Германии монархии.
(обратно)143
Брюкнер — адъютант Гитлера.
(обратно)144
Даре Рихард Вальтер (1895–1953) — деятель НСРПГ, занимавшийся вопросами сельского хозяйства, аграрной политики, с 1934 года имел официальный титул «предводителя всех крестьян Рейха». В 1945 году арестован, приговорен в 1949 году к 7 годам заключения, освобожден в 1950.
(обратно)145
Штрассер, Шляйхер — сподвижники Рема, уничтоженные вместе с ним в ночь длинных ножей.
(обратно)146
Шпенглер Освальд (1880–1936) — культурфилософ, его главное произведение «Закат Европы» (1918–1922) во многих постулатах использовалось фашистскими идеологами.
(обратно)147
Гобино Жозеф Артюр де (1816–1882) — французский писатель и дипломат, один из основателей расово-антропологической школы в социологии, в главном своем труде «Опыт о неравноценности человеческих рас» (1853–1855) пытается теоретически обосновать превосходство «белой расы».
(обратно)148
«Протоколы сионских мудрецов» — опубликованная в 1905 году в России фальшивка, содержащая сфабрикованные протоколы якобы имевшего место тайного заговора сионистских сил, посягающих на мировое владычество. Документ и по сей день не утратил своей антисемитской актуальности.
(обратно)149
«Оберон» (1826), опера Карла Марии фон Вебера.
(обратно)150
«Зима пришла», «Охотник из Пфальца», «Иду я на Неккар, иду я на Рейн»… — немецкие народные песни.
(обратно)151
«Стрела в моем луке» — народная песня на слова Ф. Шиллера из драмы «Вильгельм Телль».
(обратно)152
«Прусская слава», «Финский кавалерийский», «Боевые товарищи» — прусские военные марши.
(обратно)153
«Бенедиктус», «Dona nobis» — части католической мессы.
(обратно)154
Ирландский дипломат Сэйн Лестер с января 1934 по январь 1937 года был в Данциге комиссаром Лиги наций, следившим за соблюдением статуса Вольного города. Ушел со своего поста в знак протеста против антисемитской, противоречащей статусу Данцига политики Форстера.
(обратно)155
Имеется в виду Вольный город Данциг, формально не подпадавший германской юрисдикции.
(обратно)156
Хелена Ланге (1848–1930) — немецкий педагог, одна из руководительниц так называемого «женского движения» в Германии, выступавшего с либеральной программой за расширение гражданских прав женщин.
(обратно)157
Фриц Август Пфуле (1878–1969), с 1910 по 1945 год преподавал рисование и смежные дисциплины в Высшей технической школе Данцига.
(обратно)158
В комедии «Канат» («Rudens»), стих 721.
(обратно)159
Главные герои-антагонисты драмы Фридриха Шиллера «Разбойники».
(обратно)160
Дми-плие — приседание, не отрывая пяток от пола.
(обратно)161
Пор-де-бра — правильное положение рук в основных балетных позициях.
(обратно)162
Батман дегаже — одна из многочисленных форм батмана, группы движений работающей ноги.
(обратно)163
Пти батман сюр ле ку-де-пье — маленький батман, при котором работающая нога расположена на щиколотке опорной.
(обратно)164
Мариус Петипа (1822–1910) — знаменитый танцовщик, затем балетмейстер.
(обратно)165
Преображенская Ольга Иосифовна (1871–1962) — известная русская балерина, педагог.
(обратно)166
Нижинский Вацлав Фомич (1889–1950) — знаменитый русский танцовщик, балетмейстер.
(обратно)167
Мясин Леонид Федорович (1895–1979) — русский танцовщик и хореограф.
(обратно)168
Фанни Эльслер (1810–1884) — австрийская танцовщица.
(обратно)169
Тальони Мария (1804–1884).
(обратно)170
Гризи Шарлотта (1819–1899).
(обратно)171
Фанни Черрито (1817–1909), Люсиль Гран (1819–1907) — известнейшие танцовщицы своего времени.
(обратно)172
«Па-де-катр» — балет-дивертисмент на музыку Чезаре Пуньи в хореографии Жюля Перро.
(обратно)173
«Коппелия» — балет Л. Делиба, премьера состоялась в Париже в 1870 году.
(обратно)174
«Жизель» — балет А. Адана; «Сильфида» — балет Ж. Шнейцхоффера.
(обратно)175
Уланова Галина Сергеевна (род. в 1910), звезда русского балета, в середине тридцатых годов уже становилась известной в Европе благодаря гастролям Кировского театра.
(обратно)176
Плие — приседание на двух или одной ноге.
(обратно)177
Па-де-бурре — простейшая форма танцевального шага.
(обратно)178
Пти шанжман де пье — маленький прыжок из пятой позиции дми-плие.
(обратно)179
Арабески — арабеск: одна из основных позиций классического танца, отличие которой — поднятая назад нога с вытянутым коленом.
(обратно)180
Тур а ля згонд — обозначение подгруппы оборотов, при которых нога из второй позиции поднята в сторону под прямым углом или выше.
(обратно)181
Тридцати двух фуэте… — в партии Одилии в «Лебедином озере» (1877) П. И. Чайковского; фуэте — танцевальные па, напоминающие движения хлыста.
(обратно)182
Начальный эпизод повести Грасса «Кошки-мышки».
(обратно)183
Знаменитый гигантский дирижабль, построенный в 1928 году и названный в честь графа Фердинанда Цеппелина (1838–1917), немецкого конструктора дирижаблей. Как и другой крупный дирижабль, «Гинденбург», сгоревший в 1937 году, служил символом национальной гордости.
(обратно)184
Хоэнфриденбергский марш — военный марш в честь одной из побед Фридриха II; Баденвейльский марш — военный марш времен Первой мировой войны, считался любимым маршем Гитлера; «Святая отчизна» — немецкая военно-патриотическая песня 1914 года Рудольфа Александра Шредера.
(обратно)185
В то время католическая церковь еще запрещала кремацию.
(обратно)186
Грайзер Артур Карл (1897–1946), с 1933 года сперва заместитель президента (Раушнинга), а с ноября 1934 — президент данцигского сената. Казнен в Польше как нацистский преступник.
(обратно)187
Персонаж одной из сказок братьев Гримм.
(обратно)188
Халиф-аист — герой одной из сказок Вильгельма Гауффа.
(обратно)189
Имеется в виду, по всей видимости, все же классический труд немецкого зоолога Альфреда Брема (1829–1884) «Жизнь животных» (1863–1869), а не работы его отца, Кристиана Людвига Брема (1787–1864), занимавшегося сугубо орнитологией.
(обратно)190
Шинкель Карл Фридрих (1781–1841), немецкий архитектор, представитель позднего классицизма.
(обратно)191
«Флориан Гейер», историческая драма Г. Гауптмана (1896).
(обратно)192
Бытие, 27, 1–35, где повествуется о том, как Иаков обманом получил от отца благословение, предназначавшееся другому сыну, Исаву.
(обратно)193
Иаков обманом отобрал себе из стада Лавана лучших овец и коз (Бытие, 30, 25–43).
(обратно)194
Хьюстон Стюарт Чемберлен (1855–1927) считался предшественником национал-социализма, Вайнингер с ним полемизирует, внося коррективы в его антисемитские воззрения.
(обратно)195
«Фауст», II-я часть, акт 2.
(обратно)196
Скрытая цитата из шиллеровской оды «К радости».
(обратно)197
«Реклам» — известное немецкое издательство, выпускавшее серьезную литературу в очень дешевых изданиях.
(обратно)198
Молодежная организация коммунистической партии Германии.
(обратно)199
9 ноября; в этот день в 1923 году Гитлером была предпринята попытка путча в Мюнхене, марш к галерее полководцев.
(обратно)200
С 1935 года введенная обязательная шестимесячная трудовая повинность для молодых людей после 18 лет.
(обратно)201
«Песня о Германии» Гофмана фон Фаллерслебена и песня «Хорст Вессель».
(обратно)202
«Ты помнишь лес, снарядами разбитый», «На дне лежит глубоком», «Голова моя кровью и ранами» — военно-патриотические и солдатские песни времен Первой мировой войны.
(обратно)203
Брилль был председателем данцигского отделения социал-демократической партии.
(обратно)204
Браунау — родина Гитлера, Браун Эва — возлюбленная Гитлера, на которой он женился перед их совместным самоубийством. «Браун» по-немецки означает «коричневый».
(обратно)205
Герхард Гауптманн — известный писатель, не покинул фашистскую Германию и не дистанцировался от гитлеровского режима.
(обратно)206
Биргель Вилли (1891–1973) — популярный киноактер 30-х годов.
(обратно)207
Яннингс Эмиль (1884–1950) — популярный немецкий актер театра и кино.
(обратно)208
Шмелинг Макс (род. 1905) — немецкий боксер-профессионал, чемпион мира в тяжелом весе 1930–1932 г. Нацистская пропаганда придавала большое значение его боям с американским боксером, негром Джо Луисом: победа Шмелинга в 1936 году превозносилась до небес как доказательство превосходства арийской расы, однако в матче-реванше в 1938 году Шмелинг потерпел сокрушительное поражение.
(обратно)209
Пачелли Эудженио (1876–1958) — в 1920–1929 папский нунций в Берлине, с 1939 — римский папа Пий XII. В 1933 был статс-секретарем государства Ватикан, которое первым из стран мирового сообщества заключило с нацистским государством международный договор, так называемый конкордат о рейхе, по сути подчинивший немецкую католическую церковь фашистскому режиму. Скомпрометировал себя молчанием, когда весь цивилизованный мир призывал его выступить с осуждением массового уничтожения евреев.
(обратно)210
Лебзак Вильгельм — нацистский партийный функционер, отвечавший в Данциге за идеологическую работу.
(обратно)211
Далее у Грасса сопоставление Данцига и Берлина, прошлого и настоящего, то есть времени, в которое роман пишется.
(обратно)212
Александр Фридрих (1771–1833), брат русской императрицы Марии Федоровны (супруги Павла I), командовал русскими войсками при осаде Данцига в 1813 году.
(обратно)213
Грасс переиначивает числа в известных историко-литературных образцах: «Семеро против Фив» Эсхила, триста спартанцев в битве при Фермопилах, «Семеро швабов» в сказке братьев Гримм и т. д.
(обратно)214
«И вот он, Нибелунгов рок» — знаменитая строка из «Песни о Нибелунгах». Этцель — персонаж из той же древней германской эпической поэмы.
(обратно)215
«Дряхлые кости мира дрожат» — цитата из популярной в нацистские времена песни 1914 года.
(обратно)216
Шнорр фон Карлсфельд Юлиус (1794–1872) — немецкий живописец, выполнивший в 1831–1867 помпезный цикл картин о Нибелунгах для резиденции баварского короля в Мюнхене.
(обратно)217
Хаген фон Тронье, Хильдебранд и Хадубранд, Гунтер — персонажи «Песни о Нибелунгах». Фолькер Бауман — автор песни «Дряхлые кости мира дрожат». Геббель фон Вессельбурен, Рихард дер Вагнер. — Грасс в пародированно усложненном варианте упоминает имена драматурга Фридриха Геббеля, родившегося в Вессельбурене, и композитора Рихарда Вагнера: оба создали циклы произведений на сюжет «Песни о Нибелунгах».
(обратно)218
Шнорр фон Карлсфельд.
(обратно)219
Батман девлоппе — батман, при котором работающая нога из пятой позиции, сгибаясь, скользит носком по опорной ноге, поднимается до колена и вытягивается вперед, в сторону или назад.
(обратно)220
Пасе ля жамбе — движение работающей ноги из одной позиции в другую.
(обратно)221
Аттитюд круазе деван, …эфассе, …круазе дерьер — разновидности аттитюда: одной из основных позиций классического танца, отличительная особенность которой — согнутое колено поднятой назад ноги.
(обратно)222
Па ассамбле — прыжок с выбрасыванием ноги вперед, в сторону и назад под углом 45 градусов.
(обратно)223
Па де ша — вид прыжка.
(обратно)224
Скрытая евангельская цитата (Первое послание к Коринфянам, 15, 55).
(обратно)225
Гран плие — сгибание колена до предела с отрывом пятки от пола.
(обратно)226
Батман дегаже — разновидность батмана.
(обратно)227
Рон де жамб — круговое движение работающей ноги.
(обратно)228
Аттитюд ферме — разновидность аттитюда.
(обратно)229
Виктор Гзовский (1902–1974) — танцовщик и балетмейстер, педагог.
(обратно)230
Разновидность арабеска.
(обратно)231
Эшаппе — движение из двух прыжков, во время которых ноги переводятся из закрытой позиции в открытую и обратно.
(обратно)232
Луис Тренкер (1892–1990) — австрийский киноактер, режиссер, писатель, в 1940 был вынужден покинуть нацистскую Германию.
(обратно)233
Цитрон — теплый или горячий напиток на основе лимонного сока.
(обратно)234
То есть между Вольным городом Данцигом и Польшей, а затем между Польшей и Германией.
(обратно)235
Гудрун — персонаж германской мифологии, во времена нацизма символ силы и стойкости немецкой женщины.
(обратно)236
Древнегерманские племена.
(обратно)237
Конгломерат — в геологии: осадочная, сцементированная, то есть очень твердая, плохо поддающаяся обработке порода.
(обратно)238
Совокупность этнических перемещений в Европе 4–7 веков.
(обратно)239
Готы — древнегерманские племена.
(обратно)240
Арбо Туано (1519–1596) — французский теоретик танца.
(обратно)241
«Выворотность» — способность к развертыванию ног наружу.
(обратно)242
Гран жете — прыжок, движение, исполняемое броском ноги.
(обратно)243
Лиль Даговер (1887–1980) — популярная немецкая киноактриса.
(обратно)244
Макс Хальбе (1865–1944) — немецкий писатель, уроженец данцигского края.
(обратно)245
Очередная отсылка к «Жестяному барабану».
(обратно)246
Немецкий фунт равняется 500 граммам, поэтому цифра 990 граммов при измерении в фунтах просто невозможна: Тулла, желая «перещеголять» Йенни, на самом деле все равно определяет себе больший вес.
(обратно)247
Па де баск — одна из разновидностей прыжка с ноги на ногу.
(обратно)248
Работа Мартина Хайдеггера «Введение в метафизику» вышла лишь в 1953 году, однако в середине тридцатых годов Матерн мог уже прочесть «Что такое метафизика?» и «Кант и проблема метафизики».
(обратно)249
«Был у меня товарищ…» — популярная солдатская песня.
(обратно)250
Биллингер Рихард (1890–1965), его пьеса «Гигант» была опубликована и поставлена в Берлине в 1937 г.
(обратно)251
Имеется в виду философия М. Хайдеггера: Грасс отталкивается здесь от книги П. Хюнефельда «По части Хайдеггера», где внешний облик философа описан так: «Со стороны его можно принять за алеманского крестьянина: в белой вязаной шапочке от солнца, в белом сюртуке, в коротких штанишках и башмаках с пряжками, он нередко стоит так летними днями на пороге своего дома…»
(обратно)252
Имеются в виду, а затем частично и цитируются стихи немецкого поэта Готфрида Бенна (1886–1956), светские в противовес литургическим текстам.
(обратно)253
Стихотворение Г. Бенна «Плот лемуров».
(обратно)254
«Морг» — известное стихотворение Бенна, «брошенность» — категория хайдеггеровской философии.
(обратно)255
«День гнева, этот день…» (лат.).
«Dies irae, dies ilia», «Tuba mirum spargens sonum…», «Confutatis maledictis» — строки из средневекового религиозного стихотворения Томмазо Челано на тему Страшного суда.
(обратно)256
«Нетие» — категория философии Хайдеггера, родственная отрицанию.
(обратно)257
«Послерозие», «Плот лемуров», «Восточные осыпи», «Баркароллы», «Аид прибывает», «Морг», «Плато инков», «Замок луны» — стихотворения Готфрида Бенна.
(обратно)258
«Посрамив злодеев» (лат.).
(обратно)259
«Дай им упокоение» (лат.).
(обратно)260
Дюссельдорф расположен в месте впадения реки Дюссель в Рейн.
(обратно)261
Настоятель этого, весьма известного и почитаемого у немецких католиков аббатства уже в мае 1933 года публично пообещал Гитлеру «верное соратничество» в духе «новой духовной общности».
(обратно)262
Доминиканец — католический орден доминиканцев, основанный в XIII веке, был опорой инквизиции, религиозной нетерпимости и фанатизма.
(обратно)263
Я уже двадцать два года собакой живу… — одно из многих мест в романе, определяющих многозначный контекст его названия.
(обратно)264
Скрытая цитата из шиллеровского «Дон Карлоса» (II, 2).
(обратно)265
25 августа 1939 года немецкие линкоры «Силезия» и «Шлезвиг-Гольштиния» прибыли в данцигскую бухту под видом дружественного визита в Вольный город Данциг и встали на якорь против мыса Вестерплатте, где с 1924 года находились склады боеприпасов польской армии. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года в 4.45 утра артобстрелом этих складов с линкора «Шлезвиг-Гольштиния».
(обратно)266
«Проданная невеста» — опера Б. Сметаны (1824–1884).
(обратно)267
Адриан Брауэр, или Броувер (1605–1638) — фламандский живописец, один из крупнейших мастеров бытового жанра.
(обратно)268
«Сила через радость» — нацистская организация, основанная в 1933 году для обеспечения досуга и отдыха трудящихся.
(обратно)269
Дюнкеркская операция продолжалась с 26 мая по 4 июня 1940 г.
(обратно)270
Имеются в виду военнопленные.
(обратно)271
Добрый день, месье! (франц.).
(обратно)272
Добрый день, мадемуазель (франц.).
(обратно)273
Простите, месье, вы не позволите, месье, мне зайти на минуточку? (франц.).
(обратно)274
С удовольствием, мадемуазель (франц.).
(обратно)275
Спасибо, месье! (франц.).
(обратно)276
Между 1 сентября 1939 и июнем 1941 года.
(обратно)277
Французская кампания завершилась 22.06.1940, балканский поход начался 6.04.1941.
(обратно)278
Нападение на СССР 22.06.1941.
(обратно)279
Трефилова Вера Александровна (1875–1943) — русская балерина, педагог.
(обратно)280
Ганс Тома (1839–1924) — немецкий живописец, репродукции его картин широко продавались.
(обратно)281
Категория хайдеггеровской философии.
(обратно)282
Дворец УФА — крупнейшая немецкая киностудия 20–30-х годов, УФА располагали и широкой сетью собственных кинотеатров.
(обратно)283
«Раскованные руки» — немецкий фильм 1939 года, в главных ролях Бригитта Хорнай, Ольга Чехова и Эвальд Баслер.
(обратно)284
Эрвин Роммель (1891–1944), командовал германскими экспедиционными силами в Африке с февраля 1941 по март 1943 г., рейд по Ливийской пустыне с 24.03 по 12.04.1941.
(обратно)285
Кейтель, Вильгельм (1882–1946) — с 1938 года начальник штаба верховного главнокомандования вермахта. Альфред Йодль (1890–1946) — с 1939 года начальник штаба оперативного руководства вермахта.
(обратно)286
Новер, Жан-Жорж (1727–1810) — французский танцовщик, хореограф и теоретик танца.
(обратно)287
Лицом к станку! (франц.).
(обратно)288
Итак, дети мои! (франц.).
(обратно)289
Первая позиция, гран-плие, руки над головой! (франц.).
(обратно)290
Здесь: танец вдвоем.
(обратно)291
С этого места у Грасса начинается длительная пародия на Хайдеггера, на многозначительно-витийствующий стиль его философствования. Одной из задач своей философии Хайдеггер считал преодоление метафизического мышления как способа мировосприятия и философствования, возвращение к досократовской Греции, которая жила еще «в истине бытия».
(обратно)292
Грасс обыгрывает здесь многие мотивы легенд и сказаний, связанных с крысами, в частности, легенду о гаммельнском Крысолове, который приманивал крыс звуками флейты, а также собственные произведения: радиопьесу «Наводнение», роман «Крысиха».
(обратно)293
В терминологии Хайдеггера: исконные, следовательно, истинные.
(обратно)294
Фараоновы тощие годы. — Бытие, 41.
(обратно)295
Для Хайдеггера такое расставание — предпосылка истинного философствования.
(обратно)296
Категории хайдеггеровской философии.
(обратно)297
Синагога в Лангфуре была сожжена в так называемую «хрустальную ночь» еврейских погромов с 9 на 10.11.1938.
(обратно)298
Ульрих фон Гуттен (1488–1523) — немецкий писатель-гуманист, политический деятель.
(обратно)299
Генрих фон Трайчке (1834–1896) — немецкий историк консервативно-прусской ориентации.
(обратно)300
Генрих Георге (1893–1946) — немецкий актер, солидаризировавшийся с национал-социализмом.
(обратно)301
Савонарола Джироламо (1452–1498) — флорентийский религиозно-политический деятель и писатель.
(обратно)302
«Грязевой период»… — так гитлеровская пропаганда называла остановку наступления на восточном фронте осенью 1941 года.
(обратно)303
Рудель Ганс-Ульрих (1916–1982) — известный военный летчик, ас гитлеровской авиации; после войны — одиозная фигура крайне правой ориентации.
(обратно)304
10 и 15 апреля 1944 г.
(обратно)305
Граф Клаус Шенк фон Штауфенберг (1907–1945), один из организаторов неудавшегося покушения на Гитлера.
(обратно)306
Тодтнау — местечко в горах Шварцвальда, где находилась так называемая «хижина» Хайдеггера.
(обратно)307
Философ Эдмунд Гуссерль (1859–1938) был учителем Хайдеггера. Будучи ректором Фрайбургского университета, Хайдеггер, по слухам, в 1933–34 году отказал Гуссерлю от дома, поскольку тот был евреем. Кроме того, в новом издании книги «Бытие и время» Хайдеггер убрал посвящение Гуссерлю.
(обратно)308
Обер-группенфюрер СС Фегеляйн — личный представитель Гиммлера в ставке Гитлера, был женат на сестре Эвы Браун.
(обратно)309
Главные герои драматической поэмы Лессинга «Натан Мудрый» и драмы Гёте «Гец фон Берлихинген».
(обратно)310
Тодзио Хидэки (1884–1948), военный министр и премьер-министр Японии в годы войны, казнен как военный преступник.
(обратно)311
«Пугала», или «Восстание пугал» — балет на либретто Грасса и музыку Ариберта Раймана был поставлен в 1970 году в Берлине.
(обратно)312
Па баттю — прыжковые движения, усложненные ударом или несколькими ударами одной ноги о другую.
(обратно)313
Бризе — прыжок, во время которого полет опорной ноги как бы прерывается ударом работающей.
(обратно)314
Па шассе — прыжок с продвижением, при исполнении которого одна нога как бы догоняет другую, соединяясь в пятой позиции в верхней точке прыжка.
(обратно)315
Глиссады — маленькие прыжки из пятой позиции с последующим скольжением.
(обратно)316
Меровинги и Каролинги — западноевропейские королевские династии эпохи раннего средневековья.
(обратно)317
Здание парижской оперы, построенное в 1861–1874 гг. архитектором Чарльзом Гарнье. По особо торжественным случаям на этой сцене был предусмотрен ритуал парадного выхода всего балетного ансамбля от статистов до примабалерин.
(обратно)318
Гаэтано Вестрис (1728–1808) — французский танцор и хореограф, итальянец по происхождению.
(обратно)319
Мари Анн (1710–1770) — французская артистка, испанка по происхождению, ее жизнь послужила сюжетом для оперы Э. де Лева, оперетт Ш. Лекока и Понкале, балетов К. Даль Арждине, Л. Минкуса и Д. Брайта.
(обратно)320
Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) — русский театральный деятель, организовал так называемые «русские сезоны» в Европе и труппу «Русский балет Дягилева».
(обратно)321
Анна Павлова (1881–1931) — знаменитая русская балерина.
(обратно)322
Композитор и пианист Фредерик Шопен (1810–1849) умер от чахотки.
(обратно)323
Белластрига и Архиспоза. Петрушка — персонажи балетов. «Умирающий лебедь» — поставленный на музыку Сен-Санса сольный танцевальный номер Анны Павловой.
(обратно)324
Лёнс Герман (1866–1914) — немецкий поэт и прозаик.
(обратно)325
18.01.1945.
(обратно)326
Имеется в виду ликвидация по приказу Шернера привилегированных офицерских курсов по подготовке штабных офицеров.
(обратно)327
В описании этого эпизода Грасс следует документальным источникам.
(обратно)328
Морелль — личный врач Гитлера.
(обратно)329
В бункере Гитлера, действительно, до самого конца находилась его любимая овчарка Блонди: на ней был испробован яд, которым отравилась Эва Браун.
(обратно)330
В Цоссене под Берлином располагался генеральный штаб верховного главнокомандования.
(обратно)331
Фиктивную операцию по поимке собаки Гитлера Грасс совмещает с реальными фактами, отраженными в «Военном дневнике верховного главнокомандования вермахта», стиль, а часто и логику которого писатель пародирует, привлекая для этого еще и вокабуляр хайдеггеровской философии.
(обратно)332
Потсдам — летняя резиденция прусских королей, место проведения военных парадов и смотров.
(обратно)333
Время начала второй мировой войны.
(обратно)334
Пьеса Бернарда Шоу (1923).
(обратно)335
«Мудрость черни! Трусость черни!» — Ф. Шиллер «Разбойники» (V, 1).
(обратно)336
То есть примерно с пятнадцати лет. Обучение в каждом «классе» гимназии занимало два года, после «второго начального» следовал «второй высший».
(обратно)337
Шьен — кание — дог — кион! — наименование собаки на французском, по латыни и по-английски. Кион — в греческой мифологии надзиратель за псом преисподней Цербером.
(обратно)338
Первое послание к Коринфянам, 15, 55.
(обратно)339
Короли древних готов;
(обратно)340
Хаузер Каспар (прибл. 1812–1833) — человек-найденыш, выросший, очевидно, в отрыве от людей и объявившийся в 1828 году в Нюрнберге при невыясненных обстоятельствах. Убит в 1833.
(обратно)341
Жители Элиды — почитали Аида-Плутона и воздвигли ему храм.
(обратно)342
Послевоенную западногерманскую литературу нередко называли «литературой развалин».
(обратно)343
«Сегодня с четырех сорока пяти…» — далее в кавычках своеобразный коллаж из речей Гитлера (в день начала второй мировой войны, в ночь с 20 на 21 июля 1944 года, после покушения на его жизнь, и из заключительного пассажа седьмой главы книги «Моя борьба».
(обратно)344
«И пусть весь мир кишит чертями…» — строки из псалма Мартина Лютера.
(обратно)345
Мантенья Андреа (1431–1506) — итальянский живописец, Грасс имеет в виду его знаменитую картину «Мертвый Христос».
(обратно)346
То есть в коммунистах.
(обратно)347
В 1938 году среди нацистских вождей всерьез обсуждался план депортации всех европейских евреев на Мадагаскар.
(обратно)348
Ассоциация, вызванная названием известной пьесы Шиллера «Коварство и любовь».
(обратно)349
Цитата из начальной строфы песни Гофмана фон Фаллерслебена «Германия, Германия превыше всего!», служившей во времена нацизма национальным гимном.
(обратно)350
Давид Вайс, раввин лангфурской синагоги, ему удалось эмигрировать в 1939 г.
(обратно)351
Фенотип — складывающийся из совокупности отдельных признаков неповторимый образ живого существа, понятие, введенное в широкий интеллектуальный обиход благодаря образу Готтфрида Бенна — «фенотип этого часа».
(обратно)352
Скрытая цитата из стихотворения Рильке «Будь прозорливей разлук…».
(обратно)353
Из Бенна, «Позднее „Я“».
(обратно)354
Главный герой пьесы немецкого писателя Вольфганга Борхерта «Там, за дверью» (1947), считающейся отправной точкой послевоенной западногерманской литературы.
(обратно)355
«Ниспошли нам…» (лат.).
(обратно)356
Святая Цецилия — покровительница музыки.
(обратно)357
года (лат.).
(обратно)358
Саарбрюккен находится на границе с Францией.
(обратно)359
«Врач! Исцели самого себя!» — От Луки, 4, 23.
(обратно)360
«Младотурками» называли членов либеральной фракции дюссельдорфского ландтага, голоса которых оказались решающими при выражении вотума недоверия земельному правительству партии ХДС.
(обратно)361
Ганс Бауман (род. 1914) был автором многих официозных музыкальных произведений во времена нацизма.
(обратно)362
Намек на два произведения Хайдеггера: эссе «Шепот проселка» (1949) и сборника статей «Просеки» (1950).
(обратно)363
В мае 1933, по случаю вступления на пост ректора Фрайбургского университета, Хайдеггер произнес речь, в которой призвал молодежь солидаризироваться с новым режимом.
(обратно)364
С 1945 года оккупационные власти наложили запрет на преподавательскую деятельность Хайдеггера, который был снят лишь в 1951 г.
(обратно)365
Платон дважды гостил при дворе правителя Сиракуз Дионисия-младшего.
(обратно)366
Лепорелло — слуга Дон-Жуана в опере Моцарта «Дон-Жуан».
(обратно)367
«И в воду концы, господин капитан!» — припев популярной песенки.
(обратно)368
Рейман Макс (1898–1977), в те годы председатель КПГ.
(обратно)369
Официальная норма распределения продуктов питания в послевоенной Германии.
(обратно)370
Во время денежной реформы в западных оккупационных зонах Германии 21 июля 1948 года каждый житель получил возможность обменять на новые деньги всего по 40 марок.
(обратно)371
Каас Людвиг (1881–1952) — деятель немецкой католической церкви, поддерживавший во времена фашизма попустительскую политику Ватикана.
(обратно)372
Отпускаю тебе грехи твои во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь (лат.).
(обратно)373
Невигес — место паломничества неподалеку от Вупперталя.
(обратно)374
Озорная перекличка с названием романа Марселя Пруста «В сторону Свана».
(обратно)375
Шпрингер Аксель (р.1912) — журналист и издатель, владелец крупнейшего в ФРГ газетно-журнального концерна.
(обратно)376
Аугштайн Рудольф (р. 1923) — журналист и издатель, основал в 1947 г. популярный еженедельник «Шпигель».
(обратно)377
Меньшинство, имеющее право «вето».
(обратно)378
Буцериус Герд (р. 1906) — основатель и издатель еженедельника «Ди Цайт» (с 1947 года).
(обратно)379
Материал для этой «матерниады», а скорее даже язвительного памфлета об истории становления западногерманской экономики, Грасс брал из объемистой книги Курта Питцколяйта «Кому принадлежит Германия? Хроника владения и власти», вышедшей в 1957 году. Откомментировать все приводимые Грассом имена и факты не представляется возможным, тем паче, что некоторые критические пассажи утратили актуальность даже для немецкого читателя.
(обратно)380
Петерсбергское соглашение — подписано между ФРГ и западными державами 22 ноября 1949 года, предусматривало важные политические и экономические послабления в политике оккупационных держав по отношению к Западной Германии.
(обратно)381
Нордхоф Генрих (1899–1968) — западногерманский промышленник и экономист.
(обратно)382
Эрхард Людвиг (1897–1977) — в 1963–1966 годах федеральный канцлер.
(обратно)383
Агарц Виктор (1897–1964) западногерманский профсоюзный деятель, политик.
(обратно)384
Шумахер Курт (1895–1952), Олленхауэр Эрих (1901–1963) — западногерманские политики, возглавляли СПГ и парламентскую оппозицию.
(обратно)385
Фрингс Йозеф (1887–1978) — немецкий религиозный деятель, теолог консервативного толка, кардинал; Фаульхабер Михаэль (1869–1952) — немецкий католический теолог, сподвижник Фрингса.
(обратно)386
Герстенмайер Ойген (1906–1986), Дибелиус Отто (1880–1967) — немецкие теологи антифашистской и экуменической ориентации.
(обратно)387
Имя — уже знамение (лат.).
(обратно)388
Бруно Лойшнер (1910–1965) и Курт Мевис — председатели Госплана ГДР в пятидесятые годы.
(обратно)389
Нушке Отто (1883–1957) — политический деятель ГДР, председатель ХДС, занимался вопросами религии и церкви.
(обратно)390
Намек на циркулировавшие в ту пору слухи о том, что колючая проволока для берлинской стены изготовлялась по заказу в одной из западных стран.
(обратно)391
Конрад Аденауэр (1876–1967), федеральный канцлер в 1949–1963 гг.
(обратно)392
Ганс Глобке (1898–1973) — государственный секретарь в пору правления Аденауэра (1953–1963). В прессе неоднократно публиковались статьи о его причастности к нацизму.
(обратно)393
В. Ойкен (1891–1950), выступал за рыночную экономику при сильном регулирующем участии государства.
(обратно)394
В июне 1953 года.
(обратно)395
Имеются в виду западногерманские контрразведывательные службы, называемые так по имени их организатора, немецкого генерала Райнхарда Гелена (1902–1979).
(обратно)396
Се, Человек! (От Иоанна, 19,5). (лат.).
(обратно)397
Дюссельдорф, как и многие другие города Рейнланда, славится своими карнавалами.
(обратно)398
Игра слов: Лорелея — утес над Рейном и имя сказочной девушки-феи, героини фольклора и романтических баллад Брентано, Гейне, Эйхендорфа. Иоханн Вильгельм I, или в просторечии Ян Веллем (1658–1716) — курфюрст пфальцский, о жизни которого сложено множество легенд и анекдотов. Памятник ему установлен на ратушной площади Дюссельдорфа.
(обратно)399
«Хорошо вам плакать, друзья-атлеты!» — цитата из последней сцены драмы немецкого писателя Христиана Дитриха Граббе «Ганнибал» (1835).
(обратно)400
Каждый город (а часто и район города) имеет во время карнавала свои традиционные цвета.
(обратно)401
Свибно — современное название Шивенхорста.
(обратно)402
Вирхов, и Зауэрбрух — немецкие ученые, врачи.
(обратно)403
Изгоняем бесов бесовской силой. — От Марка, 3, 22. Далее у Грасса набор различных, иногда точных, чаще перефразированных цитат: …здесь с неба не хватают звезд. — И. В. Гёте, «Фауст», часть I, стих 2162, перевод Б. Пастернака; Покуда их язык глаголет… — строка из стихотворения Эрнста Морица Арндта «Что для немца есть отчизна?»; …дух и мир да будут здравы! — строка из стихотворения Эмануэля Гайбельса «Немецкое ремесло» (1861); …готовы стать всем братьями и обниматься с миллионами. — Ф. Шиллер, «К радости»; …категорический как-его-там… — категорический императив, одна из главных категорий этического учения Иммануила Канта; Любая перемена их страшит. — Ф. Шиллер, «Мессинская невеста», (I, 7), «Любая перемена страшит счастливого»; Любое счастье — не с ними. — В одном из стихотворений из «Часослова» Рильке ключевая строка — «и только счастье не с ними»; …свобода обретает на слишком высоких горах — Ф. Шиллер, заключительная сцена драмы «Мессинская невеста» (IV, 7); «Но при этом, конечно же, вполне возможное географическое понятие» — Австрийский государственный канцлер Меттерних (1773–1859) в одном из своих писем о возможности существования Германии как единого государства; «Зажаты страхом в жуткие тиски…» — Ф. Шиллер, «Смерть Валленштейна» (1799), IV, 10.
(обратно)404
Грюндгенс Густав (1899–1963) — немецкий актер и режиссер, с 1947 до 1955 года руководил в Дюссельдорфе драматическим театром.
(обратно)405
Карнавал в Рейнской области начинается 11 ноября в 11 часов 11 минут.
(обратно)406
Экспрессионистская пьеса Эрнста Толлера (1921).
(обратно)407
Ф. Шиллер, «Разбойники», II, 3.
(обратно)408
Роман Грасса создавался в пору возникновения молодежного левого движения, один из лозунгов которого был: «Не верь тому, кому за тридцать!»
(обратно)409
Шельский Хельмут (1912–1984) — влиятельный западногерманский социолог 50-х годов.
(обратно)410
Гудериан, Хайнц Вильгельм (1888–1954), генерал-полковник немецко-фашистской армии, военный теоретик.
(обратно)411
Общепринятое значение термина «экзегеза» — толкование религиозных, в первую очередь библейских текстов; в данном случае употребляется в смысле «религиозное переживание»; катарсис — «очищение», термин древнегреческой философии и эстетики для обозначения эстетического переживания.
(обратно)412
Иффланд Август Вильгельм (1759–1814) — немецкий актер, драматург и режиссер.
(обратно)413
Этой мыслью Грасс подхватывает сюжетный мотив новеллы и радиопьесы Генриха Белля «Молчание доктора Мурке» (1959).
(обратно)414
Перекличка с названием труда Освальда Шпенглера «Закат Европы».
(обратно)415
Годовщину окончания Второй мировой войны в странах Европы отмечают 8 мая.
(обратно)416
Пауль Клее (1879–1940) — швейцарский живописец и график абстракционистски-философского направления.
(обратно)417
Уже сказал (лат.).
(обратно)418
Эмиль Затопек (р. 1922) — знаменитый чехословацкий бегун 50-х годов;… принимал эстафету от Нурми. — Пааво Нурми (1897–1973) — знаменитый финский бегун 20-х годов.
(обратно)419
Директория — название правительства французской республики с ноября 1795 по ноябрь 1799, с ним связаны многочисленные преобразования и перемены в стиле жизни и моды; реформизм — концепция женской моды середины прошлого столетия, связанная с решительным пересмотром прежних представлений.
(обратно)420
На полотнах английского живописца Томаса Гейнсборо (1727–1788) пристальное внимание уделено модной одежде; Пюклер-Мюскау, Герман фон (1785–1871) — немецкий литератор, публицист, пропагандировал английский стиль моды и поведения, так называемый «дендизм».
(обратно)421
Великий французский реалист также славился своим пристрастием к английской моде.
(обратно)422
Макарт Ганс (1840–1884), австрийский живописец эпохи грюндерства, оказавший большое влияние на моду и быт своего времени.
(обратно)423
Мариенборн — бывший контрольно-пропускной пункт на границе ФРГ и ГДР.
(обратно)424
Союз башмака и Бедный Конрад …перекрещенцы, попик Пфайфер, Хиплер и Гайер … мансфельдцы и айхсфельдцы, Бальтазар и Бартель, Крумпф и Фельтен — имена крестьянских союзов и вожаков времен Крестьянской войны в Германии (1524–1526), связанные в первую очередь с Томасом Мюнцером (ок. 1490–1525), одно из прозвищ которого — алльштедтская фурия, в Алльштедте у Мюнцера был его церковный приход; Франкенхаузен — место последнего сражения Крестьянской войны, в котором войско Мюнцера было наголову разбито.
(обратно)425
По преданию, воин-гонец, посланный в Афины с вестью о победе над персами в Марафонской битве (490 до н. э.), пробежал весь путь — 42 195 метров, называемые теперь марафонской дистанцией, без передышки и, выполнив свое назначение, упал замертво.
(обратно)426
Убирайся, собака! (англ.).
(обратно)427
Древний Цвингер — знаменитый дворцовый ансамбль в Дрездене.
(обратно)428
На Штайнплац в Берлине находится Высшая школа изобразительных искусств, где Грасс учился в 1953–1955 гг.
(обратно)429
Фольксбюне — берлинский театр, до 1966 года руководимый Эрвином Пискатором.
(обратно)430
Артюр Адамов (1908–1970) — французский драматург, мастер популярной в начале 60-х годов «документальной драмы».
(обратно)431
Эльза Вагнер (1881–1975) — известная немецкая актриса.
(обратно)432
Дееге Гизела (р. 1928), Свеа Келлер (р.1928) — немецкие артистки балета; Скорик Ирен — французская балерина и балетмейстер; Мария Фриз (1932–1961) — немецкая балерина, танцевала партию Дульсинеи в поставленном Гзовским балете М. Минкуса «Дон-Кихот»; …рядом с бедняжкой Леклерк — Тенекиль Леклерк (р. 1929) — американская танцовщица, во время европейских гастролей 1956 г. заболела полиомиелитом.
(обратно)433
Я курю, значит, я существую! — перифраз знаменитой максимы Декарта: «Я думаю, значит, я существую».
(обратно)434
Престо! — музыкальный термин: «быстро!».
(обратно)435
«Слава в вышних Богу» (лат.).
(обратно)436
«в Бога единого верую» (лат.).
(обратно)437
«Святой дух» (лат.).
(обратно)438
«Осанна» (лат.).
(обратно)439
«Gloria in excelsis Deo» — «in unum Deum» — Sanctus — Osanna — «Agnus Dei» — «Donna Nobis» — «Amen» — Это перечисление свидетельствует о том, что Амзель/Брауксель спел от начала до конца всю мессу.
(обратно)440
«Агнец божий» (лат.).
(обратно)441
«Ниспошли нам» (лат.).
(обратно)442
«Аминь» (лат.).
(обратно)443
Из песни «Германия, Германия превыше всего».
(обратно)444
«И тут грубый хозяин говорит маленькой замерзающей цветочнице…» — подборка цитат из сказок братьев Гримм.
(обратно)445
Традиционная сельскохозяйственная выставка-ярмарка.
(обратно)446
Котел — термин военной стратегии времен Второй мировой войны: так назывались сражения, в ходе которых силы одной из сторон оказывались окруженными на большой территории: так называемый «киевский», «сталинградский», «рурский» котел и др.
(обратно)447
Далее Грасс пародирует несколько статей конституции ФРГ.
(обратно)448
Риккерт Генрих (1863–1936), немецкий философ, уроженец Данцига, представитель баденской школы неокантианства; Шелер Макс (1874–1928) — немецкий философ, испытал влияние Гуссерля.
(обратно)449
«Здесь гвельф, там гибеллин!» — Лозунг политической борьбы между гвельфами и гибеллинами в Италии 12–15 веков.
(обратно)450
«В моем государстве каждый может на свои манер… благоденствовать» — изречение прусского короля Фридриха II.
(обратно)451
«Дайте мне четыре года сроку…» — В обращении гитлеровского правительства к немецкому народу от 1.02.1933 буквально говорится: «А теперь, немецкий народ, дай нам четыре года сроку, а потом суди или милуй!».
(обратно)452
В 955 г. объединенное войско баварцев, швабов, франков и чехов под началом короля Отто I разбило под Аугсбургом войско мадьярских завоевателей.
(обратно)453
Римско-германский император Генрих IV (1050–1106), пытаясь ограничить власть римского папы Григория VII, был подвергнут так называемому папскому интердикту (отлучению) и вынужден был совершить унизительное покаянное паломничество и просить прощения.
(обратно)454
Неутомимо скачет… юный Конрадин — или Конрад IV-младший (1252–1268), герцог швабский, последний представитель династии Штауфенов, после смерти своего дяди Манфреда в 1267 году срочно отправился с отрядом из 3000 всадников наследовать свои южные владения в Италии. Был затем убит.
(обратно)455
В 1388 году князья в Ренсе (под совр. Кобленцем) объявили свои владения королевством.
(обратно)456
Мартин Лютер (1483–1546), глава бюргерской Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма, в 1517 году вывесил на дверях виттенбергской Замковой церкви свои знаменитые реформаторские тезисы.
(обратно)457
Фрак переживет цензуру и сумбурный март — то есть засилье реакции 40-х годов и революционные события марта 1848 года в Германии.
(обратно)458
Франкфуртское национальное собрание заседало с мая 1848 по май 1849 в церкви св. Павла.
(обратно)459
Оборонительные сооружения в районе гольштинской деревни Дюппель, взятые прусскими войсками 18 апреля 1864 в ходе немецко-датской войны.
(обратно)460
Эмская депеша — отредактированный Бисмарком в немецком курортном городке Эмсе дипломатический документ, отправленный без ведома короля и фактически развязавший франко-германскую войну 1870–1871 года.
(обратно)461
Отто Бисмарк, рейхсканцлер, ушел в отставку в 1890 году.
(обратно)462
Каприви, Хоенлое, Бюлов — немецкие государственные деятели, преемники Бисмарка.
(обратно)463
Борьба за культуру — общественное движение в Пруссии конца XIX века за создание правового государства и отделение его от церкви.
(обратно)464
Тройственный союз — политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879–1882 гг.
(обратно)465
При Мар-ля-Туре — сражение франко-немецкой войны 1870–1871 г.
(обратно)466
Хрустят бумажные денежки — инфляция 20-х годов в Германии.
(обратно)467
Штерземан, германский политик, министр иностранных дел Веймарской республики, ввел в деловой обиход так называемый комбинированный костюм: полосатые брюки и черный фрак.
(обратно)468
Имеется в виду «хрустальная ночь», когда сжигались набитые соломой чучела, изображающие евреев.
(обратно)469
Под внутренней эмиграцией подразумевалась скрытая оппозиция фашистскому режиму со стороны интеллектуалов, не покинувших Германию после гитлеровского переворота.
(обратно)470
«Боже! Боже! Какое это страшное обручение…» — Ф. Шиллер, «Коварство и любовь», (IV, 4).
(обратно)471
«Добро пожаловать, достойнейшие друзья мои!» — Ф. Шиллер, «Заговор Фиеско в Генуе», (II, 17).
(обратно)472
«Нет худшей боли…» — Данте Алигьери, «Божественная комедия», «Ад» (Песнь 5, стих 121).
(обратно)473
«Оставь надежду всяк, сюда входящий» — Там же, (3, 9).
(обратно)


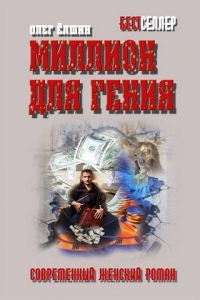
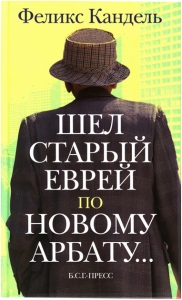

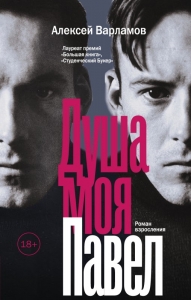

Комментарии к книге «Собачьи годы», Гюнтер Грасс
Всего 0 комментариев