Сергей Солоух Рассказы о животных Роман
© Сергей Солоух, 2016
© Валерий Калныньш, оформление и макет, 2016
© «Время», 2016
* * *
– Ебаный конь!
Он не поставил знак. Чертов треугольник. Знак аварийной остановки. Он должен был это сделать. Обязан. Воткнуть эти два локтя гайской геометрии. Расправить. И с этой, с этой, южной стороны подъема, ну или, если было в лом пройти пятнадцать метров навстречу едущим в ночи, тогда уж на точке взлета, на самом переломе. Хотя бы так. Чтобы помаргивала в свете фар, чтоб бликовала, как звездочка на кладбище, могилки там, могилки на севере, на скользком ноябрьском асфальте. Блестящем, как лунная наждачка, но скользком, как холодный нож. Только водитель серого «сарайчика», «газели» или японской праворучки с будкой не сделал самого простого. Забыл, или забил, или же просто умер, самым последним движением руки, всей силой крови, всей черной массой гавкнувшей из лопнувшей аорты, лишь затянул ручник. Не важно. Теперь не важно. Его машинка с будкой стояла точно на полосе. Торчала на спуске, в какой-то сотне метров от точки переката север – юг. И приближалась стремительно, неумолимо неслась навстречу, ширилась, чуть-чуть подрагивая в конусе ближнего света, и снег, седой, дорожный, трупной коростой ощетинился на серебре ее дверей и мертвых углях габаритов.
Удар неизбежен. Дикий скрежет, после которого забвение и тишина. Справа необыкновенно узкое плечо предательски неверной обочины, за которой резко обрывающийся в снежную, бездонную тьму черный откос. А слева, на встречке, заставляя танцевать мелкую лунную хмарь, неумолимо приближаются два желтых буркала чего-то огроменного, как паровоз. Выхода нет. Нет выхода. Есть только меньшее из трех возможных зол. Из мрака лобового столкновения, неважно, с неподвижным или движущимся препятствием, нет никакого шанса вынырнуть; из белой искусственной пурги, летящей кувырком, через себя в кювет машины – есть небольшой. Но прежде чем взять вправо, туда, где неизвестность с одним шансом на спасение, или же дерево, береза, приблудившаяся поближе к человеку, или же сам человек, тот самый, водила обездвиженного на проезжей части ночной дороги Киселевск – Карагайла сарайчика на четырех колесах, копается, быть может, согнувшись в три погибели, у заднего моста своего мертвого кормильца, нужно попытаться во что бы то ни стало сбросить скорость. Притормозить. Но только не педалью. Не дай бог. На ветром облизанном леденце ночной, декабрьской дороги немедленно сорвет, закрутит. И бесполезным станет тогда все. И руль, и двигатель, и тормоза. И физика, случайная точка раскрытия параллелограмма сил, по своим собственным законам произвольно выберет зло, большое, малое или все три, какие есть в наличии. Удар боком плашмя в будку-газельку, после чего левой водительскою частью морды – в совиные глазенапы фуры, чтоб напоследок, уже задом, вертясь с угла на угол крыши, лететь в провал, кювет с его березой или бетонным праздничным столбом межи района.
Толькой коробкой. Не теряя ни одной секунды. Третья передача, вторая. При каждом перещелкиванье ручки гул под капотом нарастает, а нос машины припадает, льнет к стеклу асфальта. И десять, двенадцать километров минус с тех девяноста с небольшим, с которыми перевалил злосчастный бугорок, чтобы открылся не длинный ровный расчес в снегах до следующего бугра-перевала, а стенка. Стальной квадрат сарая с густо запорошенными цифрами госномера. Как быстро и неумолимо он надвигается, уже закрыл весь горизонт, уже заполнил всю ширь лобовика. И сколько же осталось энергии убийства в скромной жестянке собственной машины? Допустим, даже и удалось не десять, не двенадцать, а с каждым перескоком на пониженную отнять пятнадцать километров от исходных девяноста, тогда еще приличных шестьдесят. Достаточно, вполне еще достаточно для проникающих ранений всех видов, разнообразных переломов костей, разрывов сочленений и полного вечерними, нечищеными зубами резинового коврика. Нет, биться в стену с закрытыми, снегом и льдом закованными дверцами никак нельзя. Надо брать вправо. Вправо. Все. Пора. На узкую обочину, которая не может удержать. Не сможет.
Но что это? Что это? Тентованная задница идущей по встречке в облачке белых блестящих мух фуры оказывается не такой безмерной и бесконечной, как бронепоезд. Между сараем маленьким, завязшим, вросшим в эту полосу шоссе, и огроменной колбасой, идущей, тянущейся вверх по встречной, возникает зазор. Узкая, но быстро ширящаяся полоса тьмы. Они расходятся, расходятся, и открывается шанс, прежним раскладом никак не предусмотренный. Четвертый. Остаться на дороге. Как-то нырнуть в узкий, но раскрывающийся, да, раскрывающийся, точно мешок Деда Мороза, угольный зев слева.
Конечно, скрежет будет. Будет. Этого не избежать. Но не короткий и ужасный, от лобового столкновения, когда все разом всмятку, и кости, и металл, совсем другое – долгий, бегущий по всему хребту от шейных позвонков до копчика, скрежет от смятия самым первым переднего крыла, потом дверей, одной, второй, и завершающийся уже волной по заднему крылу с отрывом бампера. Соприкосновение по касательной с пробочным выстрелом отлетающего зеркала заднего вида. Или двух сразу. Но это лучше, много лучше всего того, что раньше случай предлагал. Страдать будет одно железо, а тело только сожмется от ужаса. И разожмется позже. В тишине. Живое и невредимое. Скорее всего.
И Игорь уходит влево. В дыру, черную пропасть, которая все шире, все желанней распахивается на встречной полосе. Счастливое решение, озарение – протыриться, пускай впритирку, пускай с обрывом дверных ручек и зеркал, но проскочить. Остаться на дороге и может быть в живых.
Машина на второй отзывчива на самое легчайшее движение педали газа, колеса, прижатые к дороге предыдущим торможением, реагируют, кажется, не на движенье руля, а самой мысли. Все в организме собралось в один литой комок, и лишь трепещут, чуть ли не сами верещат, барабанные перепонки, поют в предчувствии всей гаммы звуков, рождаемых, когда корежится, волной стиральной доски идет металл. Справа при соприкосновении с углом будки «газели» и слева – от обратившейся в коготь задней, широкой причальной рамы фуры. Мгновение, другое. И ничего.
Лишь пустота дороги до горизонта. Черная линия, шрам от ногтя на белой, лунной коже декабря. Проскочил. И даже не коснулся, не задел. Из безнадежной, глухой ловушки вынырнул на свободу. Сам целый и с целою машиной. Так не бывает, не бывает, но вот поди ж ты.
И только под утро, уже дома Игорь проснулся от удара. От не случившегося. Мгновенно, в ужасе, в ознобе, от крика, от взрыва в голове. Но с ясным видением – там, на ночной дорогое, случай, его счастливый случай мог по-другому распорядиться. Совсем иначе.
Сразу за фурой, за первой двухэтажной дурой по встречке, на трассе Киселевск – Карагайла могла идти вторая, сейчас же, следом. Чудовище с белыми, налитыми горячей слепотой глазами ближнего света и желтыми, бессмысленными и тупыми, подглазьями противотуманок. Еще один ЖД-состав на всех парах, разогнанный американским дизелем до сотни километров в час. Неумолимый вершитель судеб. И прав был бы тогда не Игорь, везунок, счастливчик, интуитивно, в доли мгновения нашедший выход, решивший кинуть свою машинку влево. Свистнуть на чистую удачу в пасть, в чернильный, беспросветный омут ночи.
Прав был бы тогда водила фуры, перед ударом, перед тем как ему капот и ветровое дождем засыпет, рваниной из стекла и мяса, зверюгой заоравший, пославший как проклятье в морду ловкачу, внезапно из черной щели, из пустоты, из ниоткуда каким-то чертом вылетевшему ему в лобешник:
– Ебаный конь!
* * *
Когда это началось? Когда он перестал употреблять даже сорное, автоматическое «боже мой»? Когда он понял, что звать и обращаться не к кому?
Давно. Очень давно. Когда перед номером региона еще не было единицы. В две тысячи втором. Весной. Когда Алку еще не выгнали из института, когда еще была надежда, что это можно вылечить.
В универсаме на Советском Игорь встретил Олега Запотоцкого.
– А ты все там же? – спросил Олег, после короткого, без электричества, в один сердечный пульс рукопожатия.
«Все там же» означало – на кафедре. В Политехническом, ставшем в большую косметическую бурю девяносто третьего университетом. С приставкой Т – технический. На кафедре. На той самой, общей и для Игоря, и для Олега.
В семьдесят восьмом заведующим этой кафедры избрали отца Игоря, Ярослава Васильевича. Запотоцкий как раз заканчивал и был любимым учеником отца. Они уже писали статьи в соавторстве. А Игорь всего лишь навсего учился на третьем курсе. Только-только начинал работать на теме у одного из первых отцовских аспирантов, в ту пору уже сорокалетнего доцента. Естественно, что Запотоцкий, звезда своего курса и будущее науки о системах управления, относился к сыну своего научного руководителя как старший брат. С легкой иронией и покровительством. Симпатизировал, но уважать не собирался. Да, собственно, и все вокруг так относились к Игорю, который от отца, рожденного и выросшего под Витебском, на белорусской трехразовой, универсальной бульбе, унаследовал самую неподходящую для Западной Сибири фамилию. Валенок. Игорь Валенок. Игорь Ярославович.
И такой взгляд на него – как на последа, а не наследника, как на нечто не вполне самостоятельное, приданное, изменился только на пятом курсе. Но вовсе не благодаря науке, хотя он ею достаточно успешно занимался и прямым ходом шел в аспирантуру. Чем-то отдельным и главное самоценным в глазах всех окружающих Игоря сделала Алка. Алка Гиматтинова, ставшая его женой. Алкой Валенок.
– Все там же, – ответил Игорь Олегу Запотоцкому тогда, в две тысячи втором, в универсаме. Две металлические ручки пустой корзины для товаров, которую он не успел еще наполнить морковкой и кефиром, черт знает от чего мелко позвякивали.
– Призвание? – ласково усмехнулся Запотоцкий. В его корзине лежала батарея, целая горка из искрящихся бутылок импортного пива. Штук шесть или, быть может, восемь зеленых шей в золотых генеральских воротничках. Все из того, дорогим кофе и ванилью пахнущего закутка универсама, в который Игорь никогда не заходил. Даже из любопытства.
Призвание? Игорь пожал плечами.
– Наверное…
Или же патология. Особенность психофизичского строения организма. Отец был точно таким же, как Игорь, закрытым, замкнутым, и даже сверх того, порою просто недоверчивым, угрюмым человеком, но поднимался на лекторскую кафедру – и словно в кипяток нырял, и шкура лопалась у бульбы. И обнажалось что-то яркое, рассыпчатое, необычайно привлекательное. Питательное и питающее. Мир. Тайный мир связей и смыслов. Нечто еще не видимое, не осознаваемое здесь и сейчас, пока еще, этой наивной, девственной аудиторией, полусотней глаз, ушей, голов, но существующее. Существующее. Прекрасное и цельное. Самое важное на свете.
Это порода. Наверное. Конечно. Ни прадеда, ни деда Валенка Игорь не видел никогда, но, если один был сельским учителем под Могилевом, а другой директором станкоинструментального техникума в отцовском Витебске, значит, эта лампадка смысла горит давно. Ну да. Из поколенья в поколенья перелетает мотылек света с фитиля на фитиль, от колбы к колбе закрытого от всех, задраенного и застегнутого тела Валенков. И ничего другого, чтобы понять и оправдать свое существование на белом свете. Лишь огненная бабочка, с синими, желтыми, красными – всегда меняющимися ободками на быстрых крылышках. От деда к внуку, от отца к сыну. Лишь это. Лишь одно. И только Игорю было дано хоть что-то сверх того. Его Алка.
– Но ведь это же тупик. Тупик, – Запотоцкий улыбался все так же ласково и говорил с какой-то необычной, особенной, едва ли не родственной теплотой. – Это, конечно, было хорошо, доцентом быть, кандидатом технических наук, тогда, во времена Ярослава Васильевича. Не спорю. И прибыльно, и почетно. Даже для беспартийного был шанс расти. А сейчас? Они хотя бы платят вам, или все продолжается уже на голом энтузиазме?
– Платят, конечно. Два раза в месяц, – ответил Игорь, чуть-чуть качнулся, даже кивнул головой и от этого его пустая универсамовская корзинка для товаров нелепо и жалко звякнула. Запотоцкий, как будто только сейчас заметив в руках у Игоря лукошко из нервных стальных прутиков, по-детски рассмеялся.
– А может быть, ко мне пойдешь? Не хочешь?
Запотоцкий ушел с кафедры, когда такой поступок еще казался безрассудством. Минутным помутнением мозгов. В девяносто втором, ровно за год до смерти отца. Но в бизнес окунулся много раньше. Его кооператив возник чуть ли не самым первым в институте. Какие-то консультационные услуги, объединение преподавателей для дойки двоечников. Сама идея, помнится, казалась отцу разумной.
– И правильно. Так во всем мире, не хочешь, ленишься – плати.
Потом к этому добавились компьютеры. Запотоцкий и боевой племянник ректора Антон Корецкий стали снабжать институт черно-белыми экстишками с десятимегабайтными жесткими дисками. Лишь паре избранных кафедр достались эйтишки с батарейкой для часов и дисками по двадцать мегабайт. На отцовскую пришлась даже пара таких красавиц, но это Валенка-старшего уже не радовало. Кто-то ему показал счета и прейскуранты конкурирующих, но не институтских кооперативов. Посторонние предлагали то же самое, но в полтора раза дешевле. Это разумным уже не представлялось.
– Ничего не понимаю, – все повторял отец, то открывая, то закрывая томик Венцель, и оттого казалось, что не жизнь его впервые вдруг смутила, а положение теории. Математическая формула. Нечто безукоризненное по своей сути.
Когда он, наивный человек, в курилке ученого совета спросил об этом ректора Корецкого: как так, ведь можно три вместо двух покупать, если пойти по объявлению в газете, – тот только ухмыльнулся и радостно сказал, что завтра подпишет еще один договор, на двадцать дополнительных настольных ЭВМ, среди которых будут две 386-е.
– Вам ведь такая не помешает, Ярослав Васильевич? Все ваши модели разом обсчитаете во всех режимах.
Конечно, было бы только кому. Сначала с кафедры ушел Запотоцкий. За ним племянничек Корецкого, а потом и самого отца не стало. На его место избрали того самого доцента, у которого Игорь начинал когда-то, много лет назад, программировать на языке ЭЦВМ «Наири». Высокий и доброжелательный, и только-только разменял полтинник. Евгений Рудольфович Величко. Похожий на мушкетера. Его, в отличие от отца, динамика все больше и больше ускорявшегося, в разнос идущего процесса не удивляла. Упадок и разложение ни капли не смущали. Покуда сохранялся, существовал, порядок внешний. Планы, журналы, показатели. Все шло, как надо. Хорошо. И он, наверняка, не удивился бы, принял как должное, что вот стоит один из некогда лучших и перспективных учеников профессора Валенка и предлагает уйти с кафедры его сыну, доценту, преподавателю со степенью и стажем, который тянет девятьсот часов в год. Все по закону, правильно. Такая диалектика. Закон природы. Глупо сопротивляться.
– Послушай, Валенок, – сказал Запотоцкий, и в этом вдруг ставшем фамильярным тоне был новый, необычный оттенок покровительства. Он, Олег Геннадьевич Запотоцкий, ныне, двадцать лет спустя, снисходил не к последу своего учителя, неуклюжему мальчишке, а и к самому учителю, лично, и вообще ко всей их смешной картофельной династии всю жизнь учивших да учившихся, – у меня буквально на следующей неделе освобождается место ведущего менеджера. Полста в месяц будешь иметь легко, если научишься крутиться.
Крутиться. Звучало как приглашение в Большой театр. И денег в четыре раза больше, чем сейчас. Немыслимая какая-то сумма. Астрономическая.
– А делать-то что, Олег? Крутиться в каком смысле?
– В самом прямом.
– Ну, то есть?
– Торговать, – Олег Геннадьевич счастливо рассмеялся, и очередь пришла уже его бутылкам звякнуть. Снарядам из европейской толстой зелени. Триумфально, как подобает генералитету.
– Это совсем не сложно для человека с головой. Стоит начать – и втянешься, само пойдет, – добавил Запотоцкий.
И вот что удивительно, Игорь не сказал ему естественным, природным образом, нисколько не задумываясь:
– Ну, это не наше, выгадывать копейки, химичить, да шустрить. Не наше, пусть другие, – как говорил всегда отец в ответ на робкий вопрос матери: может быть не стоит дворничихе старые вещи отдавать, а все-таки снести в комиссионку?
– Не знаю… Спасибо… Подумать надо… – вот что Игорь Валенок пообещал Олегу Запотоцкому под жалобное звяканье дурацкой, пустой и легкой, сумки для товаров.
– Подумай, конечно, время есть, – все также ему мирволил и благоволил человек, отягощенный праздничным штабелем пива.
А Игорь, в общем-то, и не стал. Пришел домой и разом все решил, едва лишь Алка, начав в прихожей и завершив рассказ свой в кухне, как-то радостно и даже гордо сообщила, что слово сдержала и съездила на консультацию «в этот разрекламированный центр» и, с доктором посовещавшись, согласна пойти туда и закодироваться.
– Три курса и за каждый три тысячи. Найдем ведь?
– Конечно, – кивнул Игорь. – Обязательно. Ты умница.
И уже утром набрал номер, который Запотоцкий ногтем для вящего удобства подчеркнул в своей визитке.
Только обманул Олег Геннадьевич. Ввел в заблуждение. Придется не столько крутиться, сколько крутить. Баранку, рулевое колесо. Наверчивать по три-четыре тысячи кэ-мэ в отчетный месяц, по области мотаясь, от города к городу, от одного клиентского офиса к другому. Коммивояжер это называлось в старину. Да, коммивояжер с правами категории «В». Документик и легче, и компактнее, чем ваковские корочки кандидата технических наук или доцента. Только не греет, как те, забытые теперь где-то в шкафу на полке, а мертвой, холодной ледышкой лежит в нагрудном кармане. В сентябрьском густом тумане по утрам или же ночью в беспросветную февральскую метель.
* * *
– А! Ссышь! – услышал Игорь еще в коридоре. – Очко жим-жим! – и понял, что эти двое уже на месте. На еженедельную вторничную планерку прибыли.
– А че мне ссать-то, слышь, хер ты потный? Если только на всех, и на тебя в первую голову, с высокой колокольни! – беседы его коллег по разъездному бизнесу, особенно с глазу на глаз, особой утонченностью обыкновенно не отличались.
Их двое, коммивояжеров эпохи беспроводной связи. Парочка. Оба похожи на бывших студентов Игоря, только разного призыва. Один, тот, что постарше, маленький, с удивительной рожей в веснушках-конопушках, от их обилия как будто бы двоящейся, троящейся, все время ускользающей из фокуса, был словно из второй половины восьмидесятых, а другой, высокий, весь из костей и жил, наглядный, как пуля или кукиш, мог бы учиться в конце девяностых. Эти, в отличие от первых, что в мягком сальце непроясненности, уже не врали, пряча глазки, пургу не гнали про знания и ценную специальность, а сразу честно сознавались, что тут вот, в техническом университете, лишь для того, чтоб откосить от армии.
Здешний экземпляр такой же, без экивоков:
– А что, Игорь Ярославович, правду вот товарищ вчера лепил, что вы кандидат наук?
– Правду.
– Смотри как, а я вот, например, технарь и тот не смог закончить.
При этом сам-то товарищ, который вчера неизвестно почему и для чего лепил, рядом стоит, помалкивает. Лишь косится да ухмыляется. Опять подставил дылду. В очередной раз дернул за веревочку. И, кажется, все время кажется Игорю, что видит он этот характерный блин рожи без постоянной и определенной формы не в первый раз. Учился он у него. Сидел за первой партой. Но вот фамилия… Удивительная фамилия Полторак. Андрей Полторак, полтора рака равно половине таракана, из памяти не вызывает ничего. С образом никак не соединяется. Значит, ошибка, удивительное совпадение.
Обычно при Игоре Ярославовиче эта парочка, Полторак и Гусаков, особо не собачатся. Щурятся да чешутся и глазками стреляют, но сегодня так завелись и разогнались, что даже появление в кабинете старшего по возрасту и званию не обрывает горячий обмен любезностями. Напротив, Гусаков, как будто даже вдохновившись, вот честный человек пришел, не то что мы – мошенники, мутной воды не будет нагонять, сейчас же приглашает включиться, сказать чистую правду.
– Игорь Ярославович, машины-то ведь наши? Правильно же? Так же? Да даже если и расхлестаю ее в хлам, Запотоцкому-то какое дело? Он по-любому все до копейки взыщет!
– Ну, если в хлам, наверное, его уже не деньги будут интересовать, а то, как вам работать. А вы, Борис, действительно серьезно побились или только теоретическую возможность пока рассматриваете?
– Да ничего я не рассматриваю. Дурак я, что ли. Нет, так, царапина, и все. Чиркнул на той неделе одного придурка, да уже все сделал. Можете посмотреть, не видно ничего, как новая, – Гусаков махает рукой в сторону окна, где, надо думать, под стеной внизу во дворе блистает его вновь ставшая безукоризненной «двенашка».
– Вот я и говорю, – сладко вступает Полторак, – даже бабла у меня занял, чтоб поскорее подлудить. Ссыкотно. И так уже очков, Бобок, на до свидания у Запотоцкого на тебя немеряно.
– Да что ты, гнида, мне все эти очки тычешь? Какие еще очки? Свои лучше считай. Или надень себе на нос, если херово видишь. Меня-то он как раз не выгонит, пока не рассчитаюсь. А вот тебя он запросто под зад ногой, и сколько хочешь радуйся тогда, что с его ссудой уже разделался.
Самое правильное немедленно исчезнуть, но нужно распечатать отчет к сегодняшнему совещанию у Запотоцкого. И Валенок задерживается. Сначала бумагу заряжает в пустой лоток, потом перегружает зависшее устройство, потом вытаскивает замятый из-за собственной же спешки лист – и снова все сначала. В результате картина происшествия недельной давности из реплик все больше и больше кипятящихся коллег складывается довольно ясная и более чем заурядная.
В четверг, пытаясь выбраться из хаоса вечно переполненной стоянки у офисного центра на Кирова, Борис Гусаков хорошенько проехался передним бампером своей «двенашки» по боку чужой машины. По какой-то причине срочно решил отремонтироваться и занял денег у бережливого Андрея Полторака. Теперь последний вкушает все радости, ему положенные и доступные как щедрому кредитору. Травит и дразнит Бобка, так он обычно зовет по-дружески Гусакова: ха, сдрейфил кореш, смалодушничал перед возможным гневом генерального.
Ну что же, возможно, не без этого. Трухнул очередной разборки. И так отчего-то много в последнее время накопилось того, что эти двое называют «косяками», за Борей, Бобком Гусаковым. Мог бы и это лыко в строку сунуть Запотоцкий. Машину поцарапал. От суммы ссуды и половины не возвратил, а имущество, еще по сути компанейское, уже не бережешь. Мог бы, конечно, такой же добрый кредитор, Олег Геннадьевич Запотоцкий, как и Андрей Андреевич Полторак, те же права травить и издеваться. Отчего бы и не воспользоваться?
Но все. Два листа отчета упали в пластмассовый карман устройства. Можно покинуть поле боя глупого бобки с лукавой гнидой, одной второю таракана. Игорь выходит из кабинета, но сразу у него за спиной хлопает дверь, и тут же накрывает дыхание Гусакова.
– Игорь Ярославович, ну это, выручите, пожалуйста, елки-моталки… Одолжите три тысячи. Обхаживает там свои жэки да школы, и, блин, живьем меня сожрал бы, только бы мои прямые продажи под себя подмять. Все выжидает случая. Одолжите, Игорь Ярославович, не откажите, по-отечески, так сказать, пойду, глотку заткну ему, сучку, а то прохода нет. Честное слово, уже сколько раз, блин, зарекался, ведь знал же наперед, что замотает, падла рыжая, заколебет… А вам отдам… Отдам вот прямо в эту пятницу, конец же месяца, как раз объеду точки – и сразу же…
– Три тысячи, что-то вы легко отделались, Борис, это только-только на ваш бампер, а у того человека какие повреждения?
– Да черт бы знал, чего там у него, – в полумраке коридора Гусаков уныло качается перед глазами, как обрубок кривого, грозой снесенного ствола карагача. – Я чо, смотрел? Уехал сразу, чего там было рассусоливать, у него, у лоха, даже сигналка не сработала…
* * *
Как быстро, как легко вовлекаешься в эту игру. Становишься животным.
Светло-серая лента утренней дороги, светло-голубое небо сухой осени, и такое же, без резких красок и оттенков, состояние души. Всеобщая промытость. Едешь не слишком быстро и не слишком медленно, все время радуясь тому, как очень аккуратно и совершенно точно рассчитываешь момент приближения к очередной помехе. «Оке» или «КамАЗу». Как неизменно совмещаешь со свободной встречкой, чтобы не нюхать черных или синих выхлопов, не поджидать под колесом, рискуя получить камешек в лобовое стекло. Щелкаешь инвалидку или грузовик сходу, быстро, без задержек – и снова ничего лишнего, ненужного перед глазами. Лишь горизонт, чистая линия, где светло-голубое переходит в светло-серое.
Так нет же, когда все легкие, короткие движения ногами и руками уже приобретают приятную предсказуемость и простоту автоматизма, качели тихой радости внезапно стопорятся. И нужно не ускоряться, а тормозить. Решительно и быстро. Сплющивать воздух между собой и кузовом, груженным доверху и выше лесом, потому что в зеркале заднего вида обнаруживается масса. Огромный наезжающий на все и вся «ниссан пэтрол». Откуда он взялся и с какой скоростью летит, если десять секунд назад все было чисто слева, а теперь забито и заполнено, не шевельнуться? Сто сорок? Сто пятьдесят?
Есть, пролетел вперед. Но из-под лесовоза все равно не выскочить, не убежать. В зеркале заднего вида теперь другая тень. Старая «камрюха», привязавшаяся где-то в районе Береговой, все силившаяся держать темп, не просто тут наконец настигла, а пользуясь моментом, перестроилась и начала обходить. Типичное поведение праворучки, в которой ничего не видно: пристроиться за зрячим и на хвосте уйти вперед. Да только не за тем он потянулся, ведь видно сразу, что ничего в «камрюхе» старой уже нет – ни бешеных лошадей «ниссана», ни счастливой звезды ее хозяина. Только и может сделать Игоря да выйти на задние колеса длинного тягача, а впереди на встречной полосе уже нарисовался квадрат междугороднего автобуса.
Игорь бросает газ, освобождая инстинктивно место, чтоб «камрюха» могла вернуться на свою полосу. Встать между ним и лесовозом. Но закусивший удила ее водитель и не думает сдаваться, он продолжает упорно гнуть свое. Пытается обогнать. Вытянуть жилы из хорошо и много уже побегавшего тела. Еще чуть-чуть, еще немного раскрутить несвежий уже движок.
Вспыхивают стоп-сигналы грузовика, теперь уже и он включился в спасение недоумка на много раз б/у япошке. А впрочем, и в свое собственное, и Игоря, и всех, не ведающих горя, там сейчас, в автобусе. Если влетит кто-то в кого-то, да просто заденет, такое будет месиво из четырех транспортных средств, что мама не горюй.
Игорь отчаянно пытается отстать как можно больше. Лесовоз, исчерпав все оттенки яркости своих стопарей, резко берет вправо, вздыбливая всю пыль обочины. И слева едва ли не синхронно стреляют вверх сухая желтая земля и черные камешки. Это в свою очередь взял вправо автобус. И «камри» проскакивает по белому пунктиру разделительной. А через минуту сам Игорь обгоняет груженный лесом доверху и выше «МАЗ» по вновь ставшей невинной и пустой ленте утреннего шоссе.
Все. Но горизонт уже не мягкий, акварельный с чистой водичкой серого и голубого. Какие-то чернила, жирная клякса втекает в поворот там, впереди, на горочке. «Камрюха». Она. Недалеко ушла и быстро приближается. Наверное, каких-то восемьдесят едет, не больше. Поджилки сработали, задним числом вступили в дело, пот выступил во всех местах и сразу, когда дошло, какую кашу едва было не заварил? И бог с ним, главное, чтобы не заслонял неба и седины дальних берез.
Игорь бросает взгляд в левое зеркало, включает поворотник и в легком нетерпении, чтобы скорее забыть всю эту несуразицу, чтобы вернуться в безмятежность утра, чуть раньше, чем следовало бы, метров за тридцать от темно-сливового хвоста, похожего на старый, дорогами помятый чемодан, выходит на левую полосу. Сначала слегка притапливает, потом пожестче, но расстояние до чемодана, легко сжимавшееся в первые секунды, внезапно перестало сокращаться, прозрачный воздух, разделявший две машины, как будто зажелировался и не пускает. Не дает догнать и перегнать.
– Козел!
Он что, внезапно испугался, решил – Игорь его обгонит, прижмет к обочине, и вместе с подоспевшим водилой лесовоза начнет бить? Или же проще, ни за что не хочет уступать самоубийственными трюками полученное преимущество? А впрочем, разбираться некогда, из-за крутого поворота, закрытого плотным подлеском впереди выныривают фары встречной машины. И быстро из пары маленьких ласковых звездочек превращаются в безжалостные шары хищника.
Игорь мгновенно, рывком уходит вправо, ныряет под хвост «камрюхи». Прячется. Стекла ее тонированные и непонятно, что происходит там, где старый, видавший виды чемодан переходит в шершавые, облупленные стойки и крышу салона. Может быть, бред, галлюцинация? Не понял Игорь что-то, или же там, за сельскохозяйственным шиком светонепроницаемой пленки просто не видят его? Не понимают, что мешают?
Хорошо. За поворотом снова пусто и чисто. Практически. Попутный грузовик с прицепом. Но далеко, полкилометра. Можно успеть, и «камри» щелкнуть, и грузовик. И успокоиться, и все оставить позади, вновь раствориться в мягком свете, вновь обрести потерянный автоматизм движений, согласие души и тела. Качели серого и голубого.
Итак, попытка номер два. Проверка. Зеркало, поворотник и третья передача для верности.
Нет, Игоря точно не пускают. Со всей определенностью не дают уехать.
– Козлятина!
Кто там, в темном нутре много раз мятой и битой праворучки? Только что, десять минут назад, лишь чудом избежавшей лобового столкновения и снова нагло провоцирующей ДТП? Свора двадцатилетних обормотов? Любовник, демонстрирующей телке удаль? Мент в штатском, не боящийся расплаты? Человек без нервов, который, едва разъехавшись с автобусом, тут же куда-то позвонил по сотовому или отправил смс: «я сделал это снова, ха-ха-ха» – и даже сбросил скорость, чтоб в кнопки пальцами точнее попадать? Потыкал, похвастался, а теперь снова поймал кураж?
Но ведь безумие. Теперь это уже чистое безумие. Прозрачный воздух затвердел, перестал пускать Игоря на уровне крыла, задней двери «камрюхи», которая летит, стремительно приближается к тому, еще минуту, две тому назад казавшемуся таким невинным, далеким, неопасным прицепу. К попутному грузовику.
– Ну тормози же, сукин сын!
А в ответ самое неожиданное, просто взрывающее изнутри. Гудок. Шутник или лихач ему приказывает, Игорю, освободить полкорпуса. Еще раз. Повелительно и резко. Гудок. И что-то в самом деле лопается. Разум, свой собственный, еще мгновение, секунду тому назад казавшийся таким же спокойным и беспредельным, как равновесие осенних красок, как ширина и глубина прохладных чистых далей, весь, выстрелом, сжимается до бусинки, малюсенькой, тупой дробинки:
– А хрен тебе! Хрен в голову и в зубы! Ты тормози! Урод! Помеха у тебя!
И словно обморок. Пыль, шорох, хруст. «Камрюха», бешеная банка с троллями, не сбрасывая ни км, уходит вправо на обочину, ныряет, как будто в праворукую, родную, каким-то бесом приоткрытую на миг реальность, и так обходит грузовик, успев в отместку, напоследок, прежде чем навсегда исчезнуть, запустить камешек Игорю в пассажирскую дверь. Щелчок, переплавленье всех чувств в обиду, в ненависть, в конечную субстанцию безумия – и отрезвление.
Он долго после всего случившегося ехал за грузовиком с прицепом. Не обгонял и даже не догонял. Без мыслей и без чувств. Соединившись не с красотой, а с пустотою дня. И лишь увидев в Демьяновке у придорожного кафе всю ту же «камри», сливу, тертую и мятую, мирно приткнутую к высокому крыльцу, подумал: «Зачем? Зачем? Кто объяснит? Они неслись и двадцать раз чуть не убились? И двадцать раз были готовы убить других? Чтобы поесть? Чтобы отлить? И только-то? А я? Я почему во всем этом участвовал?»
* * *
Когда это началось? Когда он стал ложиться спать с одним желанием: чтобы не наступило утро? С одной мечтою – не увидеть света. Не услышать дня. Шуршание колес, стук каблуков, чужие голоса. Остаться в тишине и темноте навеки, навсегда, в уже прошедшем, уже сгоревшем, в котором ничего, ничего больше не может и не должно случиться.
Когда само существование, жизнь стала повинностью?
Давно. Очень давно. Задолго до того, как превратился в водилу на межгоре. При позднем Горбачеве? В тридцать пять? Когда казалось, что покупает в каком-то шалом кооперативе свой последний в жизни холодильник? «Бирюсу», в которой никогда не будет ни масла, ни сметаны? Или гораздо позже, в сороковник, к закату Ельцина? Когда впервые от Алки стало пахнуть днем? Когда она с работы стала приходить с румянцем?
Нет. Раньше. Много раньше. Со смертью отца. С которым никогда не был близок или откровенен, но унаследовал большое тело с круглой головой. Характер, склонности, привычки. Которого, по сути дела, и не знал, но безоглядно верил. В отца как в олицетворенье принципа – за труд и честь, за честность и вознаграждение.
Через год или два после того, как отец вошел и уже не вышел из хирургического корпуса Третьей городской, да, кажется, в апреле девяносто шестого или же девяносто седьмого, Игорь бежал из института по Весенней и вдруг остановился, увидев, что нету больше вывески «Техническая книга» на знакомом с детства розовом ракушечном фасаде. Помещение очищено, сдано и в нем меняют рамы и двери.
И сразу вспомнил крупную тень за широким и чистым стеклом ближайшего ко входу витринного окна. Отца, что-то быстро выписывающего у стойки в закутке библиографического отдела. Самому себе открытку. Заказ на книжку из перспективного плана издательства «Наука» или «Высшая школа». И сладкое, детское ощущение того, как это здорово, наверное – вот так вот самому себе готовить послание из будущего, самому себе на год вперед размечать путь из радостей, сюрпризов и лишь одних хороших новостей. Знать заранее и наверняка, что эта бабочка-огонек в тебе будет гореть, играть, всегда найдет, чем напитать и желтизну, и красноту, и голубой цветочный ободок.
И что теперь? Кто так цинично вынес на сквозняк и мокрый асфальт и тени, и мечты? Нагромоздил на тротуаре в виде поломанных, ненужных книжных стеллажей, готовых к погрузке в мусоровозку? И что же делать в этой гулкой, холодной пустоте, лишенной органики, способной холить и прятать светлячки куколок, путеводные огоньки тайн? В безбрежном космосе голой прагматики, в котором вечным казавшийся, неугасимым мотылек уже не передастся никому ни косвенно, ни прямо.
Дочь, сразу же, еще при поступлении в мед, объявившая, что разбираться в человеческих несчастьях, бедах и болезнях она не собирается. Освоит хорошенько науку дерматологию, но врачом в поганом КВД не станет, а заделается косметологом. Со своим салоном, магазином и большою клиентурой. Все внешнее, понятное, отчетливое – ничего неясного, невысказанного, туманного и сладкого, где-то там скрытого внутри.
И совершенно так же вот эта пара аспирантов, которых он сегодня по просьбе шефа, заведующего кафедрой, вызванивал для отчета на кафедральном научном семинаре. Один заносчиво проинформировал, что он принят менеджером по продажам в немецкую компанию и будет всю следующую неделю в командировке в Бохуме, а второй и вовсе объявил, что в институте больше не появится. Родители ему недорого купили плоскостопье и послезавтра он получает военный билет. Освобождение на веки вечные.
Да, именно в тот день у исчезающего на глазах, разломанного и разобранного книжного Игорь впервые очень ясно увидел пустоту. Дыру. Буквально и фигурально. То самое, что после него, в отличие от деда или отца, останется. Пшик. Был и сплыл.
Но в тот момент, тогда еще не ахнул, не окаменел, потому что рядом была Алка. Еще была. И думалось, казалось, представлялось – будет всегда.
* * *
На курсе, в институте он никогда к ней не приближался. Слишком уж яркая это была звезда. Дочь заведующего кафедрой марксистско-ленинской философии Айдара Бакимовича Гиматтинова. Почему она выбрала прикладную кибернетику в политехе, а не историю КПСС в универе, не знала ни одна душа, включая собственную Айдара Бакимовича. Невысокого, очень подвижного человека, так мало требовавшего объема и пространства для своего резинового тела, но голосом, как будто эхом взрыва, заполнявшего любую поточную аудиторию. Его громогласные декламации, обязательный номер программы любого институтского общественного мероприятия, разворачивались перед собравшимися, словно летальный хирургический набор блестящих, ясных и разящих, тогда казалось – прямо наповал, тезисов. Весь словно вывернутый наизнанку, четкий и звонкий, с глазами всегда горящими, как у какого-то особого кота из белки, он был, конечно, полной противоположностью отца, Ярослава Васильевича. Крупного, похожего на стог, рукастого и головастого блондина. Всегда о чем-то своем, принципиально неразделенном думающего.
И точно так же Игорь, ширококостный, округлый, малоразговорчивый, внешне никак не подходил к тому карманному, изящному веретену, которым была невероятно бойкая, фигуристая, с копной смоляных, легкой волной всегда приподнятых волос, Алла Айдаровна. Он, кажется, единственный на курсе не хотел ее и не добивался. Просто не думал о ней, как марсианин не думает о том, что он когда-нибудь к себе подманит и захватит земную спутницу Луну. И вот.
Это произошло на практике после четвертого курса. Несколько лучших студентов потока, в том числе Игорь и Алка, попали на один из самых продвинутых и оборудованных в городе вычислительных центров, ВЦ Южсибугля. Одна неделя дневная смена, одна неделя ночная. Первая была частью обычной жизни, с перфолентами и перфокартами, длинными распечатками и чаем в комнате системщиков с конфетками «морские камешки», вторая открывала желающим всегда днем оккупированный, занятый дисплейный класс с его таинственным и фосфорическим свечением зеленых букв на черных квадратах мониторов. Гипнотизирующую, космическую свободу творить и жить в каком-то невозможном будущем. Ночами Игорь засиживался там, на втором этаже, до острого конъюнктивита. А когда от рези наконец закрывал глаза, откидывался на стуле или ронял голову на стол между двух клавиатур, то словно из иной, рядом сосуществующей галактики, с другого конца длиннющего коридора ВЦ или, быть может, из дальних глубин его первого этажа начинал слышать нечто столь же таинственное и невозможное, как только что оставленный экран, нечто отталкивающее и притягивающее равным образом – обрывки смеха, музыку, короткую чечетку каблуков или пронзительный аккорд осколками внезапно брызнувшего стекла. Нечто чужое, но странным образом возбуждавшее воображение, точно так же, как просверлившие насквозь глаза зеленые буквы на черном безбрежном фоне. В такие странные моменты раздвоенности и неопределенности Игорь сидел, уперев лоб в теплую столешницу или затылок в холодную стену, и ждал, когда пройдет. И то, и это. Перечный туман в глазах и сахарно-ванильный в голове. И снова брался за свое. Но вот в одну из бархатных июльских полночей не вышло.
Дверь класса резко, без предупрежденья, распахнулась, и кто-то звонко сообщил:
– Смотри-ка! Тут! Спит, лапушка, как пассажир на мягком кресле…
Игорь приоткрыл веки. В проеме сходились и расходились две тени. Горячие и остропахнущие. Одна определенно Алла Гиматтинова, вторая, покрупнее, кажется Ирина Моховец. И точно, ее ехидный голос объявил:
– Уважаемые пассажиры, наш полет проходит на высоте десять тысяч метров со скоростью девятьсот пятьдесят километров в час, температура за бортом…
– Сорок градусов, – со смехом подхватила Алка и, юркнув мышкой в комнату, взглянула сверху вниз своими розовыми в красные глаза сидящего.
– Живой! – констатировала громко и весело, и тут же тише, почти интимно, поведала: – Послушай, дорогой, на этот час ты единственный несквашеный двуногий мужского пола на ВЦ, Андрей Герасимов мордой, пардон, в своей блевотине, а рыжий электронщик Дронов под столом. Твой выход, получается…
– Но я… – начал было что-то собирать Игорь. Не то свой разум, не то просто слова.
– Дискуссия по завершенье семинара! – решительно постановила Алка Гиматтинова, и что-то жаркое и клейкое потянуло вверх за ухо большого Игорька: – Пойдем, – вновь после руководящих, рубящих пришел черед негромких, ласковых созвучий. – Какой ты, слушай, мягкий, сдобный и пахнешь словно молоко да хлебушек, и вправду, нет, честное слово, не зря тебя назвали Валенком.
Очнулся Игорь ясным днем, а где – не понял. Все издавало звуки. За распахнутым окном переговаривались листья тополей, подушка, прилипнув к уху, гудела словно раковина, а сверху, над головой противно и отчетливо шуршала и чесалась известка на потолке.
Игорь, собравшись с силами и духом, приподнялся. И тут же увидел Алку. Она реяла, буквально вся вибрировала рядом с широким раскинутым диваном, а в руках держала стакан, по которому стекала на ее тонкие, с маленькими ноготками пальцы свежая морская пена.
– Нет, – пробормотал Игорь, – нет…
– Да, – сказала Алка, – да…
И темные ее соски светились и блестели так, словно не из бутылки, а из них, коричневых, из правого и левого, она ему и налила, нацедила щедро и эту влагу, и эту пену…
– Меня убьют родители, я даже не позвонил…
Алка медленно взяла из его руки мокрый пустой стакан, медленно поставила на тумбочку, медленно развернулась и вдруг резко, сразу двумя руками толкнула в грудь, а после навалившись сверху на него, упавшего навзничь на простыню, быстро и горячо, словно облизывая, заговорила. Прямо в ухо:
– Дурашка, дурачок, да ничего тебе не будет за меня! За меня не будет ровным счетом ни-че-го!
И оказалась права. За этот щедрый дар. За это новое, невиданное, неслыханное сразу и поту-, и посюстороннее. За это счастье, за свободу, за полет, которого не знал никто в его суровом мрачно-лесном роду – ни дед, ни прадед, ни отец, – с него тогда никто, по сути дела, ничего и не попросил. Не взял. В далеком семьдесят девятом все было даром. Просто так. Бери и ешь. И только много, много лет спустя явился счет. И в нем все было, все до копейки сбито, подсчитано и сложено. Предъявлено по полной. Игорю Валенку. Игорю Ярославовичу.
* * *
Генеральный директор ЗАО «Старнет» Олег Геннадьевич Запотоцкий из породы юннатов. Бегоний и фикусов в его кабинете больше, чем деловых бумаг. Но царствует надо всеми, занимая персонально целый угол, гигантская широколистная монстера. Лес лап и лапищ, всегда и неизменно голосующих «за», над зубчатой шапкой которых унылым незваным пришельцем вздернулся и торчит кончик специальной палки, поддерживающей жирный удавий ствол лианы. Унылая жердина, кол, покрытый из эстетических соображений ржавой мочалкой кокосового волокна, на самом же деле первооснова существования всей этой роскоши и хлорофиллового шика.
Во время еженедельных планерок Игорь смотрит на этот рыжий корень, теряющийся в море зеленого, прекрасного, и думает о странностях романтики. О той, что, как вот эта вот лиана надежды и мечты, в семидесятых, в пору его юности, карабкалась по чужеродным палкам первоосновы вверх, старалась неизбывный, голый и циничный рычаг судьбы одновременно и прикрыть, и опереться на него. Алка Гиматтинова, карьере лектора института марксизма-ленинизма предпочитающая будущность преподавателя на кафедре вычислительной техники. Или Олег Геннадьевич Запотоцкий, сын первого секретаря сельского райкома, подавшийся вдруг неизвестно отчего в ученые.
Какой великий и всеобщий самообман. И как прекрасен, и как уместен в его тропическом, безбрежном бархате был их семейный валенковский мотылек. Огненная бабочка с радужными крыльями.
* * *
– Э, нет, любезный, ты не крутись как уж на палке. Давай-ка все по чесноку.
Важнейший воспитательный момент. К ногтю прижать в очередной раз, это во-первых, а во-вторых, еще раз продемонстрировать Гусакову, что никакое его художество не ускользнет от ока генерала. Хитер, пронырлив и расчетлив Полторак, но именно поэтому и не дождется счастья, так и будет всю свою жизнь в «Старнете» шустрить по неудойным школам, жэкам да больницам. Все просто: человек, работающий с наличкой, с темной розницей, с филькиной грамотой вместо документов, должен быть дураком, таким вот точно, как Боря Гусаков, вечно попадающим впросак, вечно у босса на карандаше, всегда прижатым к стенке и видимым насквозь.
– Второй раз за полгода у тебя жестянка! Все из шумахеров не выпишешься?
– Ну какой там, Олег Геннадьевич, на месте разворачивался… Да и вообще, царапина. Пластмасска, бампер… не знаю, каких вам сказок кто наговорил…
Боря в последний раз бросает крысиный взгляд на Полторака, на главного бухгалтера Анну Андреевну, на Игоря, рядом с которым рисует пифагоровы фигуры в пухленьком ежедневнике технический директор Дмитрий Потапов. Все заодно с техническим. Абстрактны, холодны, надмирны. Вычислить информатора, пустившего парашу под порог директорского кабинета, решительно невозможно.
Узкое лицо бедняги, сначала выжатый безжалостно, а позже в камень засушенный лимон, чернеет и мертвеет окончательно.
– Да и, вообще, Олег Геннадьевич, к чему сыр-бор, я же все сделал, устранил, и за свои, за собственные…
Глаза Олега Запотоцкого, уже было наполнившиеся обычным рабочим кисельком, будничной синевой, вновь вспыхивают неподдельной радостью, желтыми чертиками. Какой действительно болван, дубина стоеросовая Гусаков, опять подставился, на ровном месте дал повод боссу еще раз напоследок оттоптаться.
– Ах, за свои… За собственные! А ты рассчитывал за чьи, Борис Евгенич? За компанейские или за мои личные?
Когда Игорь пришел в «Старнет», Олег Запотоцкий чуть ли ни в кабинете-оранжерее, еще подписывая заявление, сообщил, что для работы старая валенковская семейная «шестерка» с пробегом в восемьдесят тысяч не катит.
– Восемьдесят ты у меня будешь в год накручивать. Нужна нормальная новая машина. Получишь, как все, компанейскую ссуду на средство производства. А старое корыто продавай.
За отцовский «жигуль» цвета баклажана выручил восемьдесят. За новый «лансер», серебряный металлик, который Запотоцкий считал единственно достойным своего старшего менеджера по продажам, просили в салоне четыреста двадцать. Триста сорок равными порциями три года высчитывали из зарплаты Игоря Валенка. Так что обещанный Запотоцким полтос в месяц оказался не совсем полтосом. Но, впрочем, и восемьдесят вроде бы гарантированных тысяч километров в год по счастью вылились в более скромные пятьдесят. Склонность чуть прихвастнуть, прибавить, приукрасить, не ударить в грязь лицом, а браво топнуть по жидкой кашице ногой отличали Олега Запотоцкого всегда.
Однажды, уже будучи ка-тэ-эном, необыкновенно насмешил угрюмого Валенка-старшего, добавив к подписи под самой обычной статьей в кафедральном научном сборнике «Лауреат Всесоюзного конкурса НТТМ». Тогда подобное мог вычеркнуть отец. Теперь некому.
Да и надо ли? Поправлять его или прерывать? Ради чего? Пусть говорит, ведет планерку, ничего не может и не должно испортить вторник. День, когда Игорь по праву, на вполне законных основания никогда и никуда не едет. Только от дома и до офиса.
– А это что такое? Игорь Ярославович? – Запотоцкий от изумления даже приподнимает бухгалтерскую справку со стола, подносит к расширившимся чувствительным ноздрям: да, пахнет, пахнет отвратительно. – У вас и дебиторка.
– Не может быть!
– Ну как не может? Факт, – Олег Геннадьевич по своему обыкновению ногтем мизинца выделяет нужную строчку. – Немцы! Немцы не перегнали деньги за прошлый месяц.
* * *
Немцы. Когда это вполне абстрактное понятие стало для Игоря конкретным? Когда и почему он стал додумывать те мысли, которые не мог и не хотел додумывать отец? Прямо из пионерского лагеря под Смоленском летом сорок первого отправившийся в томский детский дом. В Сибирь, чтоб больше живыми не увидеть никогда ни собственных отца и мать, ни старшую сестру Светлану.
Долгие годы, можно сказать всю жизнь, Игорь не сомневался, был уверен – ничего вообще не сохранилось от тех людей, что были его дедушкой, бабушкой и тетей. И лишь после смерти отца, Валенка-старшего, среди бумаг в его столе наткнулся на маленькую коричневатую фотографию с волнистыми, зубчатыми, как у почтовой марки, белыми обрезами. Округлым незнакомым женским почерком на обороте был проставлен только год – 1932. И все.
Дед был типичный Валенок. В просторном темном пиджаке, как-то особенно его круглившем жилете в тон и с галстуком в мелкий горошек. Бабушка в закрытом строгом платье со сборками и полотняным широким поясом, волосы собраны на голове в большой, слегка клубящийся шишак. Сестра отца в очках и с парой легоньких косичек над отложным воротничком. А сам он на коленьях у деда в новых ботиночках и с деревянным самолетиком в руках.
Почему отец никогда не показывал Игорю эту старую, каким-то чудом выжившую, годами лишь чуть подкопченную, поджаренную фотографию? Каких вопросов не хотел? Каких ассоциаций? От чего больного, низкого стремился и хотел избавить, к чему высокому и светлому готовил? И кто виноват, что победило первое, а не второе?
Олег Запотоцкий, сделавший Игоря Валенка старшим менеджером по работе с корпоративными клиентами? Из числа которых едва ли не самый жирный и завидный – «Крафтманн, Робке унд Альтмайер Бергбаутекник»? Или дочь Настя, что, даже уйдя из дома, даже начав самостоятельную жизнь, так и не сняла с гвоздика над изголовьем своего диванчика портретик жениха в блестящей рамке? Так и оставила вечным напоминанием Анатолия Фердинандовича Шарфа. Гестаповца. Пусть даже место его рождения поселок Трудармейская Прокопьевского района Южносибирской области.
* * *
А те немцы, о которых, голову вскинув, взмахнув бумажкой, необычайно удивившись, внезапно вспомнил на совещании Олег Геннадьевич – едва ли не все поголовно родились в Казахстане. Лет десять, может быть, тому назад, пятнадцать все они дружно меняли Союз Республик на Бундес Республику, одно гражданство на другое. И потому еще не отучились говорить по-русски. И снова здесь. Сотрудники ООО «КРАБ Рус», российского подразделения. Активного пользователя беспроводной и Интернет-связи. Всегда и неизменно все делали в срок, и вдруг – на тебе. Цифры в отчете Валенка не сошлись с данными бухгалтерии.
– Доверяй, но проверяй, старое правило, Игорь Ярославович, – мягко журил Олег Геннадьевич.
Игорю было и крайне неприятно, да и вдобавок очень непривычно примерять на себя, пусть на минутку, пусть и по недоразумению, но роль вечного олуха и недотепы Гусакова. Бобки. При том, что, как обычно, он сам отвозил и счет, и акт…
Только с директором не смог увидеться. Вольф Бурке. Единственный из них из всех настоящий. Вольфгангом родившийся, а не переделанный одномоментно из Владислава или же Владимира. Большой любитель одну и ту же остроту выдавать.
– Я русский учил как резервист бундесвера. Готовился от вас отбиваться, а теперь вы от меня защищаетесь, то-ва-рищ, так правильно, да, Валенок?
И, ухмыляясь, шелестел пижонской щетиной. Какое-то, наверно, существует специальное приспособление, особая немецко-фашистская технология для того, чтобы поддерживать круглогодично на лице эту трехдневной свежести поросль.
– Качество, качество, почему вы не можете поддерживать качество услуг вашей компании стабильным, господин Валенок? Вот мы в нашей работе всегда это можем.
На прошлой неделе Вольфганг Бурке воздух чесал своей щетиной не в Сибири, а дома, в Европе. Был в рурской штаб-квартире КРАБа.
– Я разберусь в кратчайший срок, – не желая раздувать явное недоразумение в большой вопрос, быстро сказал Валенок.
– Давайте, давайте, – согласился закрыть на этом совещание Запотоцкий, за что, конечно, Игорь ему был признателен.
Потом, без части таракана слева и цельного бобки напротив, через денек, зайдет к Олегу Геннадьевичу в кабинет, отдельно, и все расставит на свои места, после того как сам для себя узнает и прояснит, что происходит.
Но быстро и легко добиться правды не получилось. В бухгалтерии «Бергбаутекник» ответили, что сожалеют, но документов на оплату не получали.
– Все у директора.
– А он на месте?
– Да.
Но телефон самого Бурке не отвечал. Вместо его деревянного акцента всякий раз после набора номера на том конце отзывался отличный, хоть и механический, русский – «абонент отключил телефон или находится вне зоны обслуживания». Другой наличный телефон, тот, что в приемной Бурке, демонстрировал еще меньше отзывчивости: после пяти долгих гудков без слов и предуведомлений просто громко и сипло начинал свистеть факсом.
«Надо ехать, надо ехать самому», – думал Игорь. И не хотелось, страшно не хотелось. Шахтерский Киселевск, который Крафтманн, Робке унд Альтмайер выбрали для своего русского офиса и сервис-центра – одно из самых безрадостных и тухлых мест во всей округе. Город, в котором трава никогда не бывает зеленой, а снег белым. Где все собаки – волки, а кошки – зайцы. К тому же совершенно непонятно было – когда. Все до одного оставшиеся дни недели расписаны, и все намеченные поездки не на юг, в сторону «Бергбаутекник», а в противоположную – на север: Березово, Анжерка, Мариинск.
Из тупика вывел еще один телефонный звонок, но не исходящий на Киселевск, а входящий на собственную «нокию» Игоря Ярославовича. Директор анжерского машзавода просил перенести встречу на неделю. И так четверг освободился.
Уходя домой, на лестнице Игорь Валенок столкнулся с Борисом Гусаковым. Бобок курил на полутемной площадке. Вид у него был мрачнее мрачного, и даже сигарета, единственная полоска чего-то светлого в его руках, и та была уже на две трети съедена чахоточным процессом тления.
– Будете заезжать сегодня вечером, – спросил Игорь, – или уже нашли, у кого еще перехватиться?
– Какой там, – Бобок махнул рукой, – самого перехватили. Через коленку и по голове.
– А что такое?
– Да по командировкам у меня перерасход. Две тысячи за этот месяц. Не приняли крысы бухгалтерские квитанции из частной гостиницы. Вот и теперь думай, чего же им такого заместо нарисовать.
* * *
Человек бежал прямо на Игоря и кричал:
– Убей и меня, убей! И меня задави тоже! Задави!
Его ребенок и жена лежали на полосе Игоря метрах в двадцати, там, впереди, в снежной кашице. Девятка их положившая, уже после столкновения напрасно и бессмысленно тормозя, вылетела на встречку и перевернулась там, ударившись бочиной в широкую морду троллейбуса. Его рога, утратившие правильность и параллельность, лениво бились над крышей о черные провода и друг об друга. От елки-светофора на ближайшем перекрестке, где пряталась патрульная машина ДПС, скачками, словно курортники в мешках, неслись менты – пара огромных и неуклюжих тел в зимних доспехах и ядовито-желтых жилетах с крестами белых полосок. Вывалился из своего «лансера» и ошалевший Игорь, но двух шагов не успел сделать, как человек, припавший и снова отлепившийся от двух брошенных на дорогу тел, словно нырнувши в темный омут и вынырнувши с уже помутившимся сознанием, вскочил и с ревом бросился навстречу:
– Убей и меня, убей! Задави! Давай!
Проклятая эта улица Ленина в городе Ленинске, ничего и никого не видно ни летом, ни зимой под фонарями, слишком уж далеко и резко отбежавшими от линии симметрии. Надо же было отгрохать длиннейший шестиполосный проспект там, где до сих пор по-деревенски принято дорогу как булку резать, наяривая от магазина к дому по прямой. Но вот конкретно здесь, в этом довольно светлом из-за реклам-растяжек месте, был переход. И хорошо видимый знак. Только не тому ухарю на «жиге» цвета крови с ржавчиной, который продолжал лететь по левой полосе, когда все, начиная с Игоря, две первых полосы, принялись носами упираться в ночь, тормозить, пропуская женщину с ребенком.
Игорь запомнил этот колер еще на светофоре у автовокзала, труху, тонированную вкруговую, с желтыми ластами несоразмерных брызговиков, самолетные пропеллеры, крутящиеся внутри колесных колпаков, и голубые корабельные светодиоды подсветки во всех местах. Металлолом в парше дешевой мишуры и не подумал тыкаться в хвост двух рядов, ждущих зеленого, а просто встал, как чирий, третьим на встречке. Благо такое вздутье позволяло У-образное устройство перекрестка с большою круглой клумбой в центре. Но только резина у трехкопеечного хама такой же шикарной, как все обвесы, не была. Мужичок на серой крепкой «тойотке», стоявший прямо перед Игорем, легко ушел по свету первым и сразу, перестроившись за клумбой, зажег левый поворотник, давая знать, что будет через два десятка метров, там, на разрыве двух сплошных, нырять в межуличный проезд. Лихой ловчила на девятке у него сзади заметался, но все равно остался за серым, ход сбавляющим задком «тойоты» и пропустил волей-неволей всю вереницу тех, кого товарищами, да и вообще себе подобными, как видно, не считал. Ну, уж потом обиду выместил, уж наверстал так наверстал…
Женщина с малышом шла первой, мужичишка ее чуточку задержался на обочине, как-то неловко, по-рачьи, двумя занятыми руками, в одной пакет, в другой что-то невидимое, мелкое, пытаясь, как одной клешней, прихватить со снега санки. Но вот как будто справился, кинулся за своими, и тут же все с таким трудом подобранное уронил. Девятка так поддела мать с ребенком, что оба в воздухе, словно картонные фигурки на одной ниточке, перевернулись, при этом непостижимым, невероятным образом не расставаясь. Даже крутясь и улетая через себя вперед на грязный снег. Черными ледяными искрами врезаясь в горящий, расплавленный мозг Игоря Валенка. Два тела. В воздухе. Может быть и на земле, упав, они и там не разлучились, уже плашмя так и остались с ладонями одна в одной, но Игорю не суждено было этого узнать, хотя он и выскочил из машины. Путь преградил свихнувшийся, ставший снарядом человек.
– Чего остановился? Едь на меня! Убей и меня тоже! Задави…
Так и кричал. Мелкий, но злой и хваткий, как вся тутошняя шахтерня. Готовый рвать зубами, бодать башкой, пинать ногами, а сейчас буквально отрывая рукава куртки, пытаясь закрутить и повалить большого Игоря… Весь мир переполняя свежим, полным пузырей и жизни запахом из пищевода в желудок окончательно и полностью еще не стекшего пива. Потом Игорь увидел на снегу сизую, словно ледышка, банку в лужице разлившегося «Клинского», и понял, что помешало мужику быстрее справиться с салазками. И сохранило теперь как будто бы и на фиг ненужную жизнь.
А ему самому, Игорю, если не жизнь, то руки и ноги оставили, наверное, гаи, менты. Деды Морозы в желтых жилетах кислотной Снегурочки. Вовремя подоспевшие, куда-то отодвинувшие, умело оттеснившие обезумевшего моську, отца и мужа. Бежали от перекрестка вроде бы двое, а тут, на месте, словно размножились. Удвоились. Один из четверых, оставшийся возле Игоря, велел:
– Машину уберите с проезжей части, поставьте у обочины. Вы и вы, на «хонде». Будете свидетелями.
– Да пусть он едет, – сказал хозяин «хонды» гаю, – у меня все на видеорегистраторе… только время будет терять человек.
Гай секунду подумал и разрешил, махнул рукой.
Игорь вернулся в машину, нелепо попытался тронуться, не сняв ручник, потом заглох, совсем по-детски потеряв сцепление, завелся и наконец не столько в руки взял себя, сколько, помогая мозгу всеми мышцами лица и шеи, смог сфокусироваться на дороге и покатил. Совсем медленно, а метров через триста у магазина «Старт» опять остановился. Запарковался, притерся к свежему сугробу и замер, потому что от резкой, спазматической, дыханье перехватывающей, звенящей боли в спине даже не мог упасть ничком на руль. Так и сидел полчаса столбом, пока лицо не стало совсем уже сухим.
Убей меня, убей. Задави. И меня, и меня. Самое простое и легкое решение – всегда самое невозможное и недоступное на этом свете.
* * *
Когда это вошло в привычку? Заставлять себя жить? Утром с зубной щеткой в руках в полумраке ванной собирать день по кусочкам. По крупицам хоть что-то светлое, возможное выстраивать, как маячки за шагом шаг на взлетной полосе ночного поля. Чтобы хоть как-то, хоть зачем-то пробежать, уйти вперед и вверх в черную бездну неба, неотличимого от преисподней.
Наверное, после последней, неудачной, фатальной попытки перевести стрелку. Отвести нечто, накатывающее уже привычно, как страшный поезд. В две тысячи пятом, да, в две тысячи пятом, между ее вторым и третьим, уже последним кодированием, они решили рвануть на Поднебесные. Буквально. Опередить грядущий срыв с его обратной перспективой приближения, когда чем ближе, тем неопределенней и мутнее встречный свет, тем больше рыбьего в глазах, тины и тьмы.
Сначала Алка только качала головой.
– Да как я по горам, да я же тут хожу уже три года, как калека. Ты посмотри на мои ноги.
Действительно, колени из-под подтянутой вверх юбки торчали, как два пухлых кулачка. Под правым, врач уверял, и вовсе киста.
Но Игорь настаивал.
– А мы купим, ну ты знаешь, ну как они, в ортопедической аптеке, бандажи… нет, ну, черт, забыл, эти специальные наколенники…
– Ортезы, – вдруг отозвалась Алка.
– Ну да, ортезы… Самые лучшие ортезы, самые дорогие ортезы…
Слово, как птица, счастливо свалившееся с неба, блеснувшее, как ключ, хотелось повторять. Ортезы. И с каждым новым разом что-то менялось в ее лице. Эта ставшая уже привычной поволока, муть, за которой пряталось неуправляемое, неизбежное на дне, во тьме, рассеивалась. И начинало вдруг казаться, что ничего там и нет ужасного, проклятого, в прекрасной глубине ее души. Нет, если ясность, то все то же. Искра. Огненные мураши.
– Как же мы сразу не додумались, – говорила Алка в аптеке, в специализированном ортопедическом салоне на Красноармейской, где с ней возилась консультантка, открывая все мыслимые и немыслимые упаковки, прикладывая и примеривая.
– Одно лишь плохо, – шутила уже на улице, – опять мне же тебя, слона, тащить, а я-то думала ты наконец-то меня поносишь. Хоть раз-то в жизни.
Это была высшая точка вдохновения и надежды. Нормальная, прекрасная, привычная проекция, в которой он – большой, смешной, неловкий как медуза, а она, миниатюрная Алка, всегда как рыбка, молниеносна.
Но уже на следующее утро гармошка счастья, растянувшись до своего возможного, последнего предела, стала сжиматься. Сама себя стала душить.
– А ты уверен, что Запотоцкий тебе вот так вот, без предварительной договоренности, возьмет и даст отпуск? …А мне сказали Востряковы, что электрички до Лужбы не ходят из-за ремонта полотна уже почти месяц… Ты знаешь, какие предстоят нам траты в сентябре? Ни у меня, ни у Насти нет зимней обуви…
Болото возвращалось, готовилось зачавкать. Тень снова собиралась, густела, ширилась, как после прохода солнца через дневной зенит. Но Игорь надеялся успеть, перегнать и физику, и химию, и астрономию. До самой последней секунды верил, что сумеет. Все держит в своих руках. И с этой мыслью задремал на рюкзаках в зале ожидания Междуреченского вокзала после бессонных железнодорожных суток. Уже у цели. Буквально на секунду отключился лишь потому, что ощущал во сне, как наяву, ее голову у себя на коленях. Да только очнувшись, не нашел ни головы, ни Алки, и потом в полубреду до самой ночи ее искал, пока не обнаружил в каком-то подвале, в кроличьей норе немытой никогда закусочной на Коммунистической. Стеклянную.
– А деньги, откуда ты взяла деньги?
– Деньги? Какие деньги? Нету денег.
– На водку?
– На водку? Это неправда. Водки не было. Какая водка, Игорек? Я пила только портвейн. Один только портвейн и больше ничего… Нет, честное слово… Да и вообще, что ты все меня пытаешь, все спрашиваешь ерунду какую-то, я вот сама хочу тебя спросить.
– Что именно?
– А мы не опоздаем?
– Куда?
– Ну как куда? На электричку. В поход. Который час, скажи, а то я беспокоюсь? – она попыталась встать, и из кармана ее ветровки выпал его, Игоря, кошелек. Пустой.
Сначала она его самого обобрала, ну а потом кто-то находчивый уж ее. Алку Валенок.
* * *
Спустя два года за сходный подвиг, за воровство, ее, старшего преподавателя Аллу Айдаровну, попросили с кафедры вычислительной техники. Долго терпели и жалели. Прощали разводы от ее вечно влажных несвежих пальцев на мониторах и клавиатуре. Прощали разбитые, поломанные вещи, калькуляторы и стулья, сметенные рукой со стола или спиною опрокинутые при падении. Даже пустые бутылки в урне, прикрытые серыми смятыми распечатками. Все выносили, долго. С завидной душевной широтой. А вот за стольник из сумочки молоденькой девицы-ассистентки без разговоров рассчитали. Душевность ведь безразмерна в принципе, особенно общая, чего не скажешь о кармане, отдельном, личном каждого.
– Зачем ты это сделала? Что, жгло тебя? До дома не могла дотянуть?
– А разница, какая разница была бы, Игорек? Ты же мне все равно ничего, специально ни копейки не оставляешь.
– Так что? Это, выходит, ты не в первый раз?
– Нет, просто поймали в первый.
В конце концов она созналась Игорю, что все пропажи последней пары лет, из-за которых второй корпус института прозвали «бермудским треугольником», ее рук дело. Напрасно ловили на входе посторонних в подозрительных плащах и куртках, топорщившихся там, где не надо. Алла Айдаровна Валенок, старший преподаватель кафедры вычислительно техники спокойно, без помех и лишних огорчений, вынесла лисью шапку заведующего кафедрой высшей математики в настежь открытый для пополнения буфета служебный выход.
– И что же ты с ней сделала?
– А тут же продала какой-то бабенке у хозяйственного на Красноармейской. Еще не старая была шапчонка. Вполне ничего еще себе. Даже не слишком воняла.
Вот так. И даже в этом ужасе она была непревзойденной и несравненной. Его Алка. Алла Айдаровна.
* * *
И после этого он перестал бороться. Перестал прятать деньги или носить с собой. Хозяйственный двухнедельный запас купюр вернулся на свое место – между десятым и одиннадцатым томиком Л. Н. Толстого в той комнате, что со времен еще родительских звалась просто большой.
В ее четырех стенах тихонько и незаметно, точно так же как и жила, отошла с этого света мать. Пришла всех раньше, у нее в тот мартовский прохладный день были лишь две лабораторки с восьми часов у первокурсников, сварила борщ и прилегала в прохладной и приятно сумрачной большой на узенький диванчик. Очень любила прикорнуть, украсть часок, по-детски положив ладошку под мягкую, такую теплую щеку.
– Наша мать – ангел, – однажды сказал отец.
И это вспоминалось всякий раз, когда всегдашнее, тихое, фоновое шуршанье эльфов, позвякиванье домовых, журчанье фей в квартире внезапно затихало. Вдруг, без причины и предупреждения, сходило на нет. И сразу становилось ясно, что в ближайшие, блаженные сорок минут никто не должен в доме шевелиться, ходить, шуметь, по телефону говорить или спускать воду в туалете. Тем более ломать дверь. Но ничего иного отцу не оставалось, простой засов, привычно задвинутый в паз изнутри, был равнодушен и к стуку, и к звонкам. Невыносимая, чудовищная тишина. И только редко и тоскливо соскальзывали на ботинки профессора Валенка капли холодной, жирной водицы из пакетика с выданным ему в тот день в институтском столе заказов бразильским бройлерным цыпленком.
Когда же Игорь прибежал домой, вырванный каким-то посланцем деканата прямо с занятий физкультурой, в доме уже не пахло ангелами, а лишь противно, резко, настоем ненужного и бесполезного лекарства, рвотным, желчным духом больницы, который притащили с собой и оставили везде – в прихожей, в коридоре, в комнате – вызванные Валенком-старшим врачи «скорой помощи».
В тот вечер отец все говорил и говорил, не останавливаясь, не умолкая, как никогда ни до, ни после этого. Все повторял и повторял одну-единственную фразу. Два слова. Сидел напротив Игоря за кухонным столом под желтым бра и бормотал, сгибая и разгибая черт знает откуда взявшуюся, как в руки ему угодившую сиротскую серую алюминиевую вилку:
– Боже мой, боже мой…
И даже поломав в конце концов, загнув и бросив на стол кусочки заветренного, белого железа, не остановился. Лишь «боже мой», лишь «боже мой» – и больше ничего. Как будто кланялся или имитировал биенье пульса, уже остановившегося навеки.
* * *
А вот у Игоря лишь вырвалось:
– Вот черт!
Потому что его жена, Алка Валенок, не ангелом была, а бесом. Чертиком, троллем, вспышкой на Солнце. Чудом, непредсказуемым и необыкновенным.
– Твои, – сказала она и поставила на журнальный столик поношенные рыжие ботинки с еще, однако, крепкой на вид рифленой толстой подошвой.
Игорь поднял один и механически посмотрел размер. Действительно его, сорок шестой. Вместо привычных дырочек справа и слева от разреза были крючки. Коричневые коготки.
– А для чего они? – бессильный одолеть одна за другой множащиеся загадки, задал вопрос Игорь.
– Крючки-то?
– Ну да.
– Для быстрой шнуровки. Раз, два и бежать.
– Куда? Ты меня в армию снаряжаешь?
– В горы, дурашка, в горы, – Алка рассмеялась и, быстро приподняв крысиные хвосты шнурков, прижала Игорю к верхней губе. – Какой же ты смешной с усами. Отрастишь?
Потом был перерыв в сорок минут с сопеньем, скрипом дивана, половиц и долгим протяжным «ой» в конце.
А после, как всегда в чем мать родила, она стояла, маленькая и блестящая, посреди комнаты, держа на ладонях, словно бы их взвешивая, огромные несоразмерные ей чоботы и объясняла, – единственный сорок шестой, весь турклуб на уши подняла, пока нашли.
* * *
Они были женаты всего два месяца, и слово «турклуб» Игоря испугало не на шутку. Сколько же их там будет, Алкиных друзей, «в горах», всегда готовых смеяться над ним, таким большим и неуклюжим. Здесь, на равнине, похожим на гору. Во всяком случае, рядом с Алкой.
А нисколько.
– Пойдем вдвоем. Должно же у нас быть свадебное путешествие. Второй, по меньшей мере, категории сложности.
– Второй – это считают как, по трудности подъемов или по сложности ориентирования?
– Боишься потеряться? – рассмеялась в ответ, блеснула глазами кареокая жена. – Пропасть со мной на веки вечные?
А лучше бы. Если уж суждено ему пропасть с ней, то самое бы место для исчезновенья – там, в горах, в Кузнецком Алатау. На маленькой стоянке, на перевале за рекой с названием Туралыг и безымянными озерами. В том тихом месте за большими валунами, где в розово-золотом свете утренней зари он увидел наконец прямо перед собой так далеко и так невероятно близко горы, невидимые, не существовавшие еще вчера, когда сюда поднялись, голодные, усталые, промокшие и стали располагаться на ночевку, полностью скрытые серыми низкими облаками и сизой дымкой. И такими чудесными, волшебными и, что, быть может, важнее всего прочего, лично добытыми после трех дней похода в сыром тумане, дымке и росе показались ему эти черные прекрасные утята, разновеликий выводок, внезапно вылупившийся на рассвете из белой непроницаемой скорлупы, что под безбрежным куполом очистившегося до галактического донца неба Игорь стал звать жену. Громко и дико, как задохнувшийся, впервые воздуха набравший в легкие новорожденный:
– Аллочка! Алла!
Так бы и накликал камнепад, лавину, если бы не Алка. Стремительно из-за полога палатки выкатившаяся и зажавшая ему счастливый рот двумя руками. Да так хорошо и крепко залепила, полуусевшись у него на спине, полуповиснув на подбородке, что Игорь уже не мог ответить на ее вопрос. Смешно и трогательно обжигавший ему холку.
– Ты что, с ума сошел? Рехнулся?
Фантастический, немыслимый, впервые может быть за всю историю их рода, Валенков, заданный, причем по делу, полномочному представителю, наследнику, по мужской линии. Ты что, рехнулся? Нет, просто вырвался. Как эти красавцы-пики, проткнул внезапно родовую скорлупу.
А они и в самом деле оказались Зубьями, эти горы. Большим и Малым Зубом, пиком Юбилейный, а между ними Пилы Тайжесу.
* * *
Куда и как это ушло? Что сделало эти отрывы невозможными? Ее колени или особенности преподавания на общеинститутской кафедре вычислительной техники?
В ней не было, конечно, этого тайного валенковского тигелька, сосуда для переплавки знаний, для вечного превращения сырой руды в чугун, а чугуна – неоднородной ноздреватой черной массы – в блестящую и гладкую сталь. Но было нечто иное, и тоже генетическое и профессионально ценное – великолепный, несомненный артистизм. Унаследованный от отца, от бойкого говоруна и краснобая Айдара Бакимовича Гиматтинова. Способность и желанье обаять, влюбить и повести куда-нибудь. Не важно куда. Лишь бы за собой.
– Баба, сам себе врет и верит всю свою жизнь, – она его не уважала, презирала просто и открыто и этим также поражала Игоря. Самой возможностью оценивать отца. Судить, прикладывать аршин.
– Нет, правда, не знаю, почему вранье не изучают в курсе химии? Типичный процесс замещения воды хлором. Мужчины женщиной, а женщины овцой.
Именно это казалось Алке самым позорным. Перестать быть самой собой. Стать средой.
Ее собственным ответом неутолимой тяге влюблять и нравиться была открытость. Полная противоположность отцовскому приспособленчеству, ловкачеству и пафосу. Стопроцентная, нарочно культивируемая несерьезность, грубоватость и прямота. Так нравившаяся ее студентам и столь неприятная начальству. Но и не более того, всегда только сердившая, но никогда не раздражавшая. Игровая, легкая, художественная. И даже уместная, как проявление того глубинного, краеугольного, чем всегда и по определению отличалось высшее образование от среднего. Вольница, самостоятельность и самоценность, профессорско-преподавательское порто-франко.
– Я, говорит, не понимаю разницы между циклами с проверкой на входе и на выходе.
– А что вы понимаете? – его спрашиваю. А он мне с таким вызовом, ну, знаешь, какой-то лауреат студенческого фестиваля этого года.
– Разницу между тоникой и субдоминантой понимаю.
– Ну и отлично, – ему тогда сообщаю. – И очень хорошо. А ну-ка расскажите, как в до-мажоре строится терцквинтаккорд?
– До-ми-соль, – отвечает.
– А как его обращение?
– Ми-соль-до.
– Ну вот вам и разница между циклом с проверкой на входе и выходе. Где до, там и проверка. Докуда идем и где выходим. Все просто, – стоит, глазами моргает. Продул на своем поле.
– Поняли?
– Понял.
– А теперь пойте.
– Как?
– Ну как, очень просто. Вы же музыкант? На клавишных играете?
– Да, на фоно.
– Ну вот и давайте, для лучшего запоминания, вот эти строчки, эти самые, вам раньше непонятные, эту пару разными способами организованных циклов исполните, пожалуйста, с душой на любой известный вам мотив.
– И что, пропел?
– Да, неплохо получилось. Особенно в виду того, что я ему подпела вторым голосом.
И все это стало ненужным. Красота и неформальность. Отклик в чужой душе. Чисто педагогические победы. Книжки преподавателя, планы занятий, взаимные проверки, баллы, открытые лабораторные и семинары с последующими методическими разборами из нудной, как-нибудь для галки исполняемой повинности исподволь, постепенно, к середине девяностых стали самоцелью.
И, главное, студентам это пришлось по вкусу. Шаблон, формальность, минимум неожиданностей. Институт, он же университет, стал новым поколеньем восприниматься как некий особый подвид супермаркета. Магазин знаний. Нечто такое с витринами и полками, среди которых покупатель всегда прав. И с чувством законной правоты могли нажаловаться, что препод не отвесил знаний просто и степенно, как порцию вареной колбасы, а цирк устроил. Унизил попыткой дать лучше, больше, ярче, предполагающей душевные, сердечные и прочие недоговорные затраты. Как так?
На профилирующих кафедрах, на выпускающих, у Игоря, долго сопротивлялись этому поражению в исторических, доцентско-профессорских правах, пытались гнуть свое, держаться за традиции, а вот всем общеинститутским, обязанным как мясорубка через дуршлаг тупого шаблона формировать, продавливать, пропихивать курс первый и второй, кран перекрыли сразу.
– По сто? – начала предлагать Алка по вечерам в обычный будний день.
– Может быть лучше по бутылке пива?
– Нет, пиво напиток побудочный, а не снотворный. Его пускай хлебают те, кому вставать до света, в полчетвертого. А мы давай накатим то, что не попросится наружу, ни спереди, ни сзади, а ляжет ровно там, где надо, в центре тяжести.
Теперь Игорь регулярно встает до света, не позже пяти пятнадцати. Но ничего на ночь не пьет, кроме стакана молока. И то же самое вместе с ним Алка.
После того как ее выгнали из института за кражу ста рублей, жена Игоря Валенка между запоями спиртного не употребляет.
* * *
Как описать это отчаяние? Жуть полного бессилия, невозможности предупредить несчастье, беду, как ночь, как птица, накрывающую мир слепым, совиным крылом.
Эти странные фары сзади Игорь заметил на повороте улицы Двужильного, там, где она уходит от полной автосалонов и стройрынков полосы в темень еще не освоенной окраины. Обычно автоматически, при одном взгляде в зеркало, по крайней мере определяешь, кто там наезжает слева. Прилипла легковушка, «газель» нахально лезет или нависла пьяная желтизна каким-то идиотом раскочегаренного самосвала. На сей раз весьма решительно и агрессивно к Игорю приближалось нечто странное. Если судить по тени, то большой сарай, если судить по низким плоским фарам ближнего света – обычный автолюбитель на каком-нибудь седане. Но просто так, благодаря естественной разнице в скоростях движения, загадка не раскрылась.
В сотне метров от поворота на арке теплотрассы висели автоматические камеры, и севший совсем было на хвост, уже стремительно наезжавший на «лансер» Игоря объект чуть сбросил и отодвинулся. Расстояние еще немного увеличилось за аркой, здесь дорога слегка загибала за небольшую рощицу, и за сплетением ветвей вполне мог прятаться патруль на серебряной десятке, менты с самым обычным, похожим на митинговый рупор, ручным прибором измерения скорости. Хлебное место, многие простаки, проскочив камеры, немедленно притапливают, а, оп-па, приезжают. Но тот, кто еще минуту назад буквально напирал на Игоря, казался дураком из общей стаи, который просто лезет, прет на рожон, как выяснилось, был хамом вполне циничным и расчетливым.
Большая туша его машины (теперь уже внушительность ее размеров не вызывала ни малейшего сомнения) стала опять резко увеличиваться в зеркале лишь после рощи, на хорошо просматриваемой даже сейчас, в темноте шести часов утра, прямой. Впереди на полосе Игоря неспешно катил внедорожник «тойота прадо», и его можно было бы обогнать, если решительно и резко самому выйти из ряда, но голова и сердце, все в организме подсказывало, что подрезать жирную дуру, стремительно накрывающую левую сторону, ни в коем случае не надо.
Через секунду-две нос ее наконец поравнялся со стеклом Игоря. Низкие, как у легковушки, фары, принадлежали корейцу. Междугороднему автобусу. Здоровому, в два этажа серебряному кораблю, летевшему здесь, в городской черте, под сотню. Ну вот, казалось бы, все и разъяснилось, но ватный и туманный ужас сна, развеявшись, сменился однозначностью яркой галлюцинации. Мимо неумолимо перло огромное, блестящее железо, а вместе с ним прямо на Игоря, словно топор палача, ехала черная створка открытого, черт знает почему раскрывшегося, заднего багажного отсека.
Игорь буквально отпрыгнул, двумя колесами влез на обочину. Здоровенная плоскость проплыла мимо, покачиваясь на уровне крыши «лансера», страшный резак, горизонтальная гильотина. Пронесло, успел, но что… что будет с лениво кочумающим впереди «прадо»? Этому прилетит точно над креслами, разрежет кузов там, где головы и шеи пассажиров. Ну уж водителя-то несомненно.
Внезапный взрыв гормонов, когда угроза твоя собственная, личная, обычно не оставляет места панике. Сверхконцентрация, сверхмотивация все поглощают без остатка. Но вот когда нечто неуправляемое разворачивается с гипнотическою предопределенностью прямо перед глазами, как на экране, как в телевизоре, дыханье порою перехватывает. Самообладание, случается, уходит.
Гудеть, моргать сближающимся дальним светом. Любые глупости, лишь бы разорвать причинно-следственную заданность и неумолимость. Все без толку, хоть мячиком туда лети, хоть молнией. Траектории движения двух транспортных средств, равномерно катящего и обгоняющего, не изменились ни на миллиметр и встреча состоялась. Откинутая словно локоть, створка багажного отсека корейского автобуса въехала острым углом в верхние габариты «Прадо».
Осколки цветного пластика брызнули во все стороны. Высокий угол крыши на глазах скривился и осел, но казнь на месте, воображением давно и в красках нарисованная, не состоялась. Задняя стойка внедорожника согнулась, но не срезалась, не дала створке-секире пройтись по головам будто ножом, коготь автобуса только застрял в чужом железе и, от него пытаясь освободиться, отчаянно дернул за собой «тойоту». Подбитая машина развернулась на сто восемьдесят и встала на обочине. А створка, сорвавшаяся от удара с переднего шарнира, покуда сам автобус останавливался, тащила еще долго по асфальту искристый след.
Когда Игорь подбежал к «тойоте», из ее открытой передней двери торчали ноги водителя. Он что-то искал в темноте между сидений на резиновых ковриках. Потом сполз с кресла, выпрямился, развернулся и, посмотрев на Игоря странными, птичьими глазами, спросил:
– Ты с «лансера»? Фонарик у тебя есть?
– Зачем?
– Да телефон. Я разговаривал как раз, когда та сука наскочила. Хер знает, куда труба выскользнула, не видно ни фига…
– А вы не видели, как я вас предупреждал, сигналил и дальним мигал?
В угольной бездне пустых глаз возникли и поднялись к самой поверхности злые и неприятные огоньки.
– Слушай, земляк, – сказал водитель не разрезанного пополам ножом, а лишь счастливо изуродованного внедорожника, живой, на вид вполне разумный человек, – я на дорожное хамье не реагирую принципиально.
* * *
У каждого своя дорога на Красный камень, в Киселевск. Игорь ездил через Кутоново, Афонино и Дальние горы. Такой путь показал ему в один из самых первых дней работы в ЗАО «Старнет» сам Запотоцкий. Игорь как раз менял машину, а Запотоцкий, считая, что должен сам лично представить немцам, ключевым своим клиентам, нового старшего менеджера по продажам, постановил ни в коем случае дело это не откладывать.
Поехали на «пассате» Олега Геннадьевича. Новеньком черном полноприводном V6 с двигателем 2,8 литра. Круглые, блестящие заводские нашлепки на решетке радиатора и крышке багажника навязчиво напоминали свастику. Кресты на лбу и в заднице.
Олег Геннадьевич был в отличном расположенье духа, гнал всю дорогу и говорил не останавливаясь. Вводил в курс дела. Рассказал о предшественнике Игоря Римасе Рузгасе. Очень веселился:
– Ты знаешь, у меня традиция такая – старший менеджер всегда со степенью, как минимум кандидат. Технических наук или математических…
Рузгас когда-то точно так же, как и Валенок, работал в институте. На кафедре теоретической механики. Но Игорь знал его лишь шапочно, практически не соприкасался, хотя совсем не замечать, конечно, не мог. Уж очень был большим этот Римас Рузгас, не только повыше вовсе не маленького Валенка, но и заметно толще. По-настоящему гора, причем с юности. Впрочем, в плоскости физиологии параллели между своими сотрудниками, бывшими и новыми, Запотоцкий проводить не стал. Все так же посмеиваясь, рассказывал о другом:
– Невероятно хитрая жопа. Два года ждал это свое литовское гражданство, и никому ни слова, молчал как партизан, и только когда приперся уже с заявлением, тогда сознался. Гражданин страны ЕС теперь. Может покласть на всех и облокотиться.
Игорь потом часто думал, как, в отличие от него самого, наверное, радовался Рузгас, катаясь сюда, к немцам. Два года своего опасливого, долгого молчания, должно быть, утешался их видом, как зримым свидетельством того, что может сбыться. Станет и он одним из них. Вражиной.
А сама встреча с руководством «КРАБ Рус» была не слишком долгой и не слишком содержательной. Чуть ли не вся посвящена обсуждению предмета, весьма далекого от связи, – невиданной азалии, стоявшей на окне кабинета Бурке.
– Дает цветы круглый год, – хвастался Бурке, необыкновенно гордый своим кустом, действительно обсыпанным, как фантиками, розовым. – Только совсем малые перерывы есть, когда цветов нет. Но очень небольшие.
– Не может быть, – охал Запотоцкий, – азалия обычно, как раз наоборот, цветет раз в год. А в остальное время голая, в смысле, одни лишь листья. Никаких цветов.
– Так значит вам нравица? Короша? – от радости Бурке язык не контролировал, и вообще смотрел любовно на все вокруг, даже на Игоря Валенка. И было ощущение, что он в порыве внезапно открывшейся душевной широты и полноты накатившего счастья прямо сейчас отрежет Запотоцкому пару-другую молодых отростков на развод. Аккуратно обернет свежие хвостики в салфетку, смоченную разведенным аспирином, в чистый платок уложит и так подарит.
Но ощущение обмануло. Попрощались самым обычным образом, безо всяких сентиментальных отклонений от деловой практики и этики. С одной прочной надеждой на дальнейшее укрепление сотрудничества. И лишь в машине, когда Олег Геннадьевич, уже выезжая со стоянки, от всей души ругнулся, понятно кого имея в виду: «Вот ведь фашист!» – Игорь понял, что не он один бывает минутами наивен и смешон. И может порой искренне верить в возможность абсолютно невозможного.
* * *
Минуя Дальние горы, на том участке, где улица Толстого плавно через Дзержинского перетекает в Маяковского, Игорь увидел толстенького щенка. У изгороди частного дома, что вереницей, как обрывки ниток, соединяют в одно целое заплатки городских районов Киселевска, милая помесь бульдожки с носорожкой, такого же серого от угольной сажи цвета, как снег и небо, ни на кого внимания не обращая, гонялась за своим собственным хвостом. Игорь обрадовался. Он первый раз заметил только что рожденный шарик с ушками возле этой ограды два месяца тому назад. Еще подумал: «Как близко, как опасно, у самой дороги» – и все. Дважды с тех пор здесь проезжал и ни разу больше не видел, как будто бы и это, еще одно нехорошее предчувствие, сбылось. Был песик и не стало.
А вот и нет. Как хорошо. Живой вот и здоровый. И даже больше того. Маленький и жалкий молокососик на слабых ножках превратился за эти пару месяцев в забавного пухлого увальня с толстенькими лапками. Растет, крепчает.
«Скоро, наверное, уже по-взрослому обгавкает», – подумал Игорь, и так от этой мысли стало весело, приятно, как будто невзначай удостоверился в существованье другой жизни, совсем отличной от той, которой сам живешь. Без ЗАО и ООО, бобка и половины таракана, пусть нарисованной углем, но светлой и простой, где лишь одна помеха – хвост. И тот однажды непременно скусишь.
* * *
А в ООО «КРАБ Рус» были большие перемены. Крафтманн, Робке унд Альтмайер, оптимизируя лестницу управления, отозвали в Германию бессменного директора русского сервисного центра и представительства Вольфганга Бурке. И его место в Киселевске занял бывший зам по сервису, наш, некогда карагандинский человек с удивительно подхалимским именем. Словно нарочно составленным из звуков всех трех хозяйских Роберт Альтман.
Этот при встрече продемонстрировал дружелюбие не бундесверовским роботизированным русским, а отчеством.
– Игорь Ярославович? Очень приятно. Роберт Бернгардович.
Но на этом вся теплота и кончилась.
– Мы думаем, Игорь Ярославович, что у вас неоправданно высокие цены при недостаточно высоком качестве.
Любимая песня Бурке. Вся разница лишь в том, что при немецком немце она сопровождала платежи, перечисление денег, и потому казалась законной частью бизнеса, а вот при нашем, карагандинском фрице стала похожа на шантаж, без банковского перевода уже не выглядела чем-то нормальным, принятым в деловой практике солидных людей.
– Ну кто же виноват, Роберт Бернгардович, что вы забрались в такую глушь? Ни один оператор не берется в этом медвежьем углу предоставлять услуги, а мы специально для вас поставили тут рядом на вышке МТСа базовую станцию. Соответственно и цены.
– Нет, это теперь не так, вы не в курсе того, что происходит на рынке связи. В вашем собственном бизнесе.
– А что же именно?
– Мы получили очень привлекательное предложение от «Ростелекома». Работа по обычной, уже существующей телефонной линии. Сплит-система. И цены в разы ниже ваших. Да вот же, сами посмотрите.
И словно желая сейчас же и немедленно снять всякие сомнения, если такие вдруг закрались, в чистоте практических помыслов и верности деловой этике любого руководства европейской во всех смыслах компании «КРАБ Рус» Альтман из папки на столе извлек какую-то бумажку и сунул Игорю.
Это был проспект местной телефонки. Игорь его видел с месяц назад и помнил, что Интернет по проводам на этот промышленный островок у Красного камня «Ростелеком» не будет предоставлять раньше две тысячи девятого или десятого. Еще два года ждать при самом оптимистическом прогнозе.
– Подождите, – сказал Валенок, убедившись, что бумажка та же самая, месячной давности, – это лишь общая часть проспекта, должен быть второй лист, там роспись сроков предоставления услуги по номерным блокам, ваш 72-й через два года.
Лучше бы Игорь промолчал. Лучше бы он предоставил Альтману возможность в калошу сесть самостоятельно, без лишних свидетелей. Лучше бы не присутствовал при этом превращении репы в свеклу. Мгновенном пигментационном взрыве, сделавшим волосяной прибор нового директора «КРАБ Рус», аккуратную подбритую масочку для губ и подбородка, отчетливо пшеничной на буром фоне щек и носа.
– Я разберусь, – наконец объявил Альтман.
– А нам пока заплатите?
Синие глаза тоже очень выразительно смотрелись на ярко-фиолетовом. Это был не воображаемый эсэсовец Вольф Бурке, а самый настоящий каратель из зондеркоманды, только без карабина наперевес.
– О да, конечно, безусловно, мы платим своим партнерам, но только за реальную работу, а не за воображаемую.
– Вы что хотите этим сказать, Роберт Бернгардович?
– Только то, Игорь Ярославович, что с сегодняшнего дня мы будем сравнивать объемы потребления, подсчитанные вами, и те, что насчитали мы, и только после этого решать, нужно ли соглашаться на ваши суммы или нет.
– Ваше право, конечно, а когда ждать результатов за прошлый месяц?
– В начале следующей недели.
Спускаясь по широкой лестнице АБК шахтоуправления «Филипповское», в котором снимал пол-этажа «КРАБ Рус», Игорь ощущал растерянность. На этих ступеньках, на которых он всегда привычно про себя, для бодрости обкладывал Бурке «сволочь немецкая», он вдруг почувствовал, что этого мало. Как-то шутейно, что ли. А с этим новым, не бохумским, а карагандинским, слова как-то иначе должны соединяться. Безо всякого намека на иронию. Причем оба. И немец, и сволочь.
* * *
Черт знает отчего дочь вдруг решила, что это известие Игоря обрадует. Оказывается, ее Шарф, Анатолий Фердинандович, водитель машины скорой помощи, кроме того племянник его же, Игоря, бывшего заведующего кафедрой Евгения Рудольфовича Величко. Сын младшей сестры Елены Рудольфовны.
– Знаешь, их, немцев, тогда всячески притесняли, не разрешали учиться в институтах и вообще прохода не давали… Поэтому у них у всех фамилия матери. И в паспорте у них записано, что они русские. Елена Рудольфовна Величко и Евгений Рудольфович Величко. А так-то, по отцу, они Баумгартены.
Баумгартены. Ах, вот как.
По всему выходило, что дочь стеснялась. Что бы она ни говорила, какой бы ни делала глубоко наплевательский вид, но что-то вроде стыда, неловкости жило в ее душе. У нее, у дочери институтских преподавателей, внучки профессоров, дружок, сожитель – обыкновенный водитель «уазика».
Хорошая родственная связь как будто бы меняла дело. Скрашивала положение. Дядя – бывший коллега, доктор технических наук.
– А мать с отцом, что у него делают?
– Отец – не знаю точно, на шахте где-то, на Северной. А мать медсестра в третьей городской. Операционная медсестра.
А еще Настя при всяком удобном и неудобном случае напоминала, что Анатолий Шарф учился. Год в институте на горном факультете, а потом целых два в меде. И уходил, всякий раз уходил сам, нет, не выгоняли, вовсе нет, а просто какой смысл и для чего тратить пять или шесть лет на забиванье головы ненужной ерундой, которая в нынешней жизни не обещает ни денег, ни общественного положения.
– Ну как же, ты же все своим клиентам любишь рассказывать про свой диплом врача.
– Не только клиентам, я и хозяйке салона при случае напоминаю, но только это все понты. Чему они меня полезному там, в меде, научили, кроме анатомии? А все, что реально кормит, – это результаты курсов. Массаж и мезотерапия.
Да, курсы. Курсы. Игорь помнил. Все эти поездки дочери Насти в Новосибирск, легко отстегивавшие за раз целую треть, а то и половину того, что некогда, до «Старнета», было его доцентской зарплатой. И что в итоге? Она теперь свободна и независима. Живет отдельно, а значит, может не возиться с матерью. И друг у нее, Анатолий Фердинандович Шарф, племянник Евгения Рудольфовича Баумгартена.
Может быть, ей надо было показать ту фотографию, что пряталась в отцовских бумагах? В краеведческом потертом томике с коротким словом «Витебск» на обложке и чередой полуразмытых, словно недопроявленных, незафиксированных ч/б фотографий. Эту. Отдельную. Четкую, резкую. Коричневую с острыми марочными зубчиками? Перевернуть и дать прочесть на обороте цифры года. 1932. А потом сказать: а девочку, вот эту вот, с косичками, звали Светланой. Она могла быть твоей бабушкой. Была, на самом деле. Двоюродной.
И тогда, что бы произошло тогда? Только одно, в любом случае только одно. Мучительное, неизбывное чувство стыда затопило бы все существо. И если бы вернула, просто вернула, лишь головой покачав: «Да-да, ужасно, но ведь такое было время, никто не понимал, что делает», – и если бы прижалась к нему, обняла, заплакала: «Нацисты, гады, изверги», – все было бы еще ужаснее. И дед, отец Игоря, его бы первый за это осудил. Ведь не делился же он сам, Ярослав Васильевич, с Игорем своими снами и кошмарами. Не видел смысла. А вот в чем видел смысл, о чем охотно и с радостью рассказывал – как первый раз после детдома уже студентом наелся до отвала хлеба.
Наверно, славно было бы, невыразимо здорово что-то подобное дочери рассказать. Остаться в ее памяти студентом с белою буханкой среди солнечного томского дня. Но не было буханки в жизни Игоря, счастьем его была Алка. А это принципиально неразделяемые воспоминания.
* * *
Самым поразительным свойством ее всегда, в любой ситуации было отсутствие страха. Страх просто не мог ужиться с ее азартом. Казалось, чувство самосохранения съедалось, как снег на крутой крыше, ветром и солнцем, съедалось начисто неутолимой жаждой чего-то большего. Чего-то сверх того, что уже есть.
А в дочке Анастасии никто никого не ел, никто не соревновался. В ребенке отсутствовали какие бы то ни было противоречия. Так, словно Игорь с Алкой родили не человека, а плюшевого медвежонка, который от родителей унаследовал лишь набивной материал, паклю и вату. И ничего живого. Ни огненную ночную бабочку семейства Валенков, ни гиматтиновских неугомонных солнечных мурашей. Даже внешне ей передалось все самое невыигрышное и невыразительное – кукольный рост мамы в комплекте со сдобной округлостью отца. Скрытность и молчаливость Валенков и потребительское, простое отношение к жизни Гиматтиновых.
Стоит ли удивляться, что этот организм, природой слепленный из того, что папе с мамой казалось в себе лишним, неправильным, ненужным и смешным, не любил или как минимум был равнодушен к родительским пристрастиям. И прежде всего к поездкам в горы. И как только возраст стал позволять отказываться, с шестнадцати, Настя ни разу не ездила туда, где через маленькую речку по снежному, плотному мосту бывает можно перейти и в середине лета.
А последний поход Игорь хорошо запомнил, потому что и Настя, и ее подруга (с некоторых пор вторая девочка, какая-нибудь одноклассница, была обязательной нагрузкой) отказались идти на Большой Зуб. Сказали, что останутся у речки Высокогорной и вместо длинного восхождения немного прогуляются, высоко не забираясь, по склонам этой же долины, посмотрят водопады. Рядом ночевала небольшая детская группа с молодой, крепкой как кукуруза женщиной-руководителем и у них на день был тот же несложный план. Оставить девочек с этой компанией на семь-восемь часов казалось делом нормальным и нестрашным.
Испугались уже потом. На спуске, когда на перевале ХВИ внезапно накрыла дымка, как будто горы, все разом нализавшись озерной синевы, отчаянно закурили, предательское марево, мгновенно сгустившееся до пелены с никакой видимостью. Кузнецкое Алатау известно, если не знаменито, внезапной и совершенно непредсказуемой сменой дождя и солнца, но такое Игорь испытывал впервые. Он видел, как в перевернутом стакане, только Алку да самый ближайший круг камней. Идти нельзя. Пережидать, обнявшись, стоя или сидя.
Так прошел час, потом другой.
– Послушай, Алла, мне кажется, или эта тетка в самом деле говорила, что они сразу после похода на водопады уходят на Куприяновскую поляну?
– Не кажется, именно так она и говорила. Причем два раза, и вчера вечером, и сегодня утром.
– Так что же получается: если мы вдруг до ночи не спустимся, девчонки там останутся одни?
Эх, лучше бы не спрашивал, потому что Алка сейчас же со смешком ответила:
– А может быть они об этом только и мечтали? Остаться без нас. Без нас, двух дураков.
А впрочем, тут же, заглянув в его слишком серьезные, совсем собачьи глаза, утешила:
– Да ладно тебе, Игорь. Две взрослые девушки. Пятнадцать лет. Как-нибудь справятся.
Двенадцать или тринадцать лет тому назад это кольнуло. Расстроило, обидело. А теперь Игорь просто знает – свой собственный ребенок не отраженье и не продолженье. Не яблоко на яблоне, а совершенно отдельный, самостоятельный побег. Бывает, вставший рядом, а бывает и через дорогу. Ни с ним тебе не справиться, ни за него управиться. И оттого, что нечто глухо пульсирует в единой корневой системе, ищет дорогу, то набухает, то засыхает, то камнем делается, то водой, подспудно, постоянно, неизбывно, одна лишь мука. Неразрешимость. Как на вершине Большого Зуба, где каменное вече, собор и сборище больших и малых геологических фигур всех возрастов и видов, сошедшихся, стянувшихся со всей округи, семейного околотка этой части Алатау, для слова главного, пронзительного, всеобъемлющего, которому, однако, в этом оцепененье близости и схожести не суждено родиться никогда.
А дети его и Алку как будто бы и в самом деле не очень-то и ждали. Когда уже в сумерках, можно сказать в темноте, после четырех часов сидения на перевале и долгого спуска они все-таки вышли к палатке у Высокогорной, там как раз вскрыли НЗ – две неприкосновенные банки тушенки – и собирались мясом щедро заправить гречку.
* * *
Почему горы даже в минуты самой большой, нешуточной опасности никогда у него не ассоциировались со смертью, гибелью и безнадежностью? А вот дорога, трасса, даже в сухую, ясную, летнюю пору – всегда и неизменно? В чем разница? А просто. Совсем просто. Там, в дождь и снег, он сам себе всегда был хозяином, а здесь даже под безоблачным, бездонным небом не понимает, что и куда им движет. Зачем и для чего его ведет.
От этого ощущение бессилия. С последующей утратой смысла действий, как своих, так и чужих. Как в безлимитном поединке, шахматном или шашечном, в котором игроки давно не помнят, ради чего и почему собрались, и уж тем более не в курсе фигуры на доске, костяшки, деревяшки, истуканы, вконец замотанные, одуревшие от монотонной чересполосицы белого и черного. Не от того ли люди на дороге так часто засыпают за рулем?
* * *
Надо немедленно останавливаться. Едва лишь клюнешь в первый раз. Мгновенно слепишь и разлепишь веки. Когда от недосыпа мозг начинает черною бабочкой утренних ножниц нарезать реальность на отдельные полоски. Вот только что шел точно по середине чуть серебрящейся, словно из мелкой ночной соли спрессованой полосы, а через секунду едва уворачиваешься от стремительно налетающей на тебя со встречной фары. Безумного глаза без радужного круга и зрачка. Готового взорваться. Проткнутого.
А сам виноват! Клюнул. И начал уходить влево, словно на саночках по маслицу. Надо немедленно останавливаться. Но как? Что, разве будет безопасней узкая бровка, сползающая неверною волной в безбрежность, в полный штиль до горизонта белых предрассветных полей? Не факт. Всего лишь десять километров продержаться. Или пятнадцать. До лукойловской заправки. Там можно съехать с трассы, встать, никому не мешая, у самой дальней бровки большой пустой площадки, задвинуться, словно уменьшившись в размерах до спичечного коробка, невинного, невидного предмета, физически как будто выпасть из реальности, откинуть спинку кресла и заснуть. Пятнадцать минут, двадцать – вполне достаточно. Чтобы немыслимая тяжесть – свинец, который заливает веки, ртуть, что заполняет жилы, черный чугун конечностей и головы – преобразилась в пух-перо. Легкость и ясность приближающегося дня.
Всего-то навсего. Пятнадцать километров и десять минут. Ватно-резиновые опять двадцать пять. Как одолеть их, эти минуты, эти километры? Как не убить себя и неизвестное пока число и встречных, и попутных?
Скорее опустить стекло? И сунуть голову в дыру, навстречу холодным иглам, нос, лоб и щеки жалящим дробинкам синевы? Вдохнуть фисташковую зелень ночного эскимо? Заряда хватит ровно на одну минуту. И снова слезная жидкость делается сапожным клеем. Смежает, сводит веки, губы и маленькие камертоны-косточки в ушах. Все замирает, гаснет и сливается в одно затмение.
Опять ушел с пегого серебра дороги. И только чудом разминулся с зеброй отбойника.
Взять себя в руки. Вынырнуть из безнадежной, лишенной воздуха и жизни монотонности. Поехать поактивней. Резче. Движение. Движение. Догнать и обогнать старую, плоскую «Волгу». Плотно, с ускореньем, с хорошей тягой войти в широкий поворот, и там, на выходе, на горке с размаху сделать китайский грузовичок. И бодро дунуть по прямой навстречу фонарям Демьяновки.
Но мозг предательски отказывается признать главенство мышц. Бусины приближающихся фонарных столбов деревни гипнотизируют, невольно заставляют концентрироваться на чем-то равномерно повторяющемся, чередующемся, тянущемся, и тогда опять дорога начинает уходить из-под машины, плыть, елозить, как ненадежно закрепленная полоска ткани.
Еще немного продержаться. Десять километров. Чуть-чуть. Не останавливаться в деревне, где радужная придорожная нечистоплотность. Свет и движенье. Тени и звуки, которые прогонят сон, едва лишь остановишься, и прекратится мерное покачивание, однообразное наматывание ленты шоссе на черные колеса-катушки. Собраться, точнее расслабиться, ни в коем случае не концентрироваться ни на чем, не фокусировать внимание на движущемся или неподвижном, взгляд, зафиксировавшись, мгновенно створаживает, отключает мозг, нет, вместо этого зрачки должны, как лодочки, качаться и подпрыгивать в набегающих волнах и пене внешнего мира.
Еще раз опустить стекло. Еще раз набрать в легкие «Нарзана», «Шипра», холодной и шипучей смеси утренних кислот и щелочей, морозных минералов. Уже совсем немного. Развязка. Поворот на четырехполоску. Широкую, привольную, заведомо куда как милосерднее и снисходительнее к водителю, чем узкая и гнутая, всегда забитая непереваренным железом трахея старой трассы.
Взрыв снега. Фонтан белых кристаллов, словно от удара электричеством разжавшийся кулак покойника. Веер из мертвых пальцев. И сквозь них на Игоря текла воспаленная, расплавленная желчь горящих фар. Огромный шкаф тягача, протаранив мелкий сугроб на разделительной полосе, шел прямо на него. И никакого шанса на спасение. Справа вдоль обрывающейся круто в овраг обочины тянулся массивный, страшный какой-то особой, железнодорожной несгибаемостью и твердостью, отбойник.
Уснул не Игорь. Клюнул другой. Ушел со своей полосы водила-дальнобойщик, пробил метровый, невысокий сугроб на разделительной и собирался из «лансера» на встречке сделать киндер-сюрприз. Кусочки человеческого мяса внутри клубка, бесформенного кокона из смеси пластика, металла и стекла. Секунда, две, сейчас.
Метров за десять, на расстоянии окоченения крика, створаживанья вопля, огромный плоскомордый «вольвак» внезапно выправился. Невероятно, невозможно, но очевидно, вспахав снежную грядку, взорвав сугроб, стал снова управляемым. Широким, красным рылом-кувалдой вильнул на левую от Игоря полосу и, засыпая шершавым, мелкозернистым, белым, набранным во все неисчислимые щели и пазухи, погребая под ним, заваливая, уже буквально на расстоянии руки от капота «лансера» и сам ушел, и тент увел, свою широкую, свободно вихляющую задницу. Туша и банка разминулись.
Легкий хлопок. И больше ничего.
В осевших слоях обвала Игорь увидел самого себя в зеркале, приплюснутом, прижатом встречной, прошелестевшей, как сотня змей, лавиной к стеклу водительской двери. Черные глаза на синем.
Больше он в этот день не засыпал. Не клевал, не отлетал, реальность стала сплошной и непрерывной, не встряхивалась, как стекляшки в калейдоскопе, от обморока к обмороку. Остались за спиной лукойловская заправка, газпромовская, какая-то «Таежная» с местным разливом, а Валенок все ехал, все гнал свой «лансер», и только где-то между Осинниками и Мысками, когда из тела жила за жилой дрожь уже ушла и чувствовалась лишь легкая, едва заметная на самых кончиках немеющих от долгой скрюченности пальцев, подумал: «Нет, страшно не было. Было обидно. Совсем как Алке».
* * *
Объяснить Запотоцкому ситуацию с немцами с глазу на глаз не удалось. В среду Олег Геннадьевич уехал в Новосибирск и там прокантовался уже до конца недели. Пытался сделать бизнес межрегиональным. И заодно, наверное, всласть напитался духами ботанического сада. Во всяком случае, объявление о выставке цветов и кактусов «Сибирская оранжерея» Игорь мельком увидел в газетке, в которую брезгливому Полтораку завернули некую промаслянную приблуду для клопообразной праворучки его жены, «ниссана микро». Из маленького магазинчика по соседству, где брали заказы на любые запчасти к любой японской рухляди, полтаракана пришел с довольным блеском всех своих бесчисленных веснушек и громогласно объявил, что завязывает таксовать.
– А то повадились. Этого в школу надо. Эту на работу. Все. Птица обломинго.
Нечто, завернутое в газетный лист, само пернатое не напоминало, скорее сустав пернатыми обглоданной собаки. Обычно легковоспламеняющийся Боря Гусаков на этот петушиный вызов никак не среагировал. Угрюмый, он сидел в своем углу и мрачно мучил калькулятор. Клавиши под его пальцами и ныли, и скрипели, и пищали, но нужного результата все равно не давали. Обида и недовольство переполняли Борю, но выплеснуть их по такому поводу, как мелкое пивное полтораковское счастье, он явно считал сегодня ниже своего достоинства.
А Игорь Валенок при появлении довольной жизнью половины рака и вовсе вышел из кабинета. Отправился на первый этаж поговорить еще разок с техническим директором конторы Димой Потаповым о том, откуда все-таки берутся вечные расхождения в объемах трафика при расчетах с немцами.
Весьма корректный, но неизменно ироничный в общении с тем неизбежным злом, что в его службе величалось «торгашами», Потапов, как и вчера вечером и сегодня утром, все с тем же налетом легкого утомления спрашивал:
– Так сколько, вы говорите, расхождение?
– Где-то пятнадцать, двадцать процентов.
– Скорее всего считают только полезный трафик, а мы, естественно, весь, на исходящем порту. Ладно, Шейнис отгул свой отгулял, сейчас нам всю картину разом нарисует.
Увы, Леня Шейнис, маленький чернявый системщик с большими коровьими глазами, оказался никудышным художником. Он только пожимал плечами. Да, был, да, не один раз, да, налаживал, да, смотрел, но к чему они прикрутили в конце концов свой счетчик, сказать не может, хотя согласен, да, очень похоже на то, что где-то у себя на серваке, считают только полезный трафик.
– А если договоримся посмотреть, как у них все, поедете, поработаете с их местным администратором? – спросил Валенок.
Шейнис опять пожал плечами, и это в данном контексте, по всей видимости, означало: да как скажут.
– Поедет, куда он денется, – легко за своего человека постановил Потапов. – Немец – кормилец, как его не уважить, даже если он и болван.
На лестнице, уже поднимаясь на второй этаж, Игорь поймал себя на странном чувстве. Пустой, в общем-то, не разрешивший ни одного текущего вопроса разговор как будто бы его порадовал. Странной созвучностью, нежданным откликом.
Впервые за все время работы в компании Олега Запотоцкого Игорь увидел человека, которого коробило, всякий раз коробило, когда свинцовой пулькой воздух дырявило привычное здесь всем определение. Немцы. Во всяком случае, так показалось, такое было ощущение невидимой, но общей струны. Резонирующей одинаково в большой голове Игоря и маленькой, похожей на фигушку, Лени Шейниса.
* * *
Воздух в кабинете Запотоцкого всегда морской. Искрист и влажен. С того места, где сидит у приставного стола Игорь, в щелку неплотно закрытой дверки антресоли офисного шкафа виден белый бок и синяя аэродинамической формы крышка бутылки-брызгалки. Нет никаких сомнений, что время от времени, разминая ноги и разгоняя мысли, хозяин кабинета оставляет черное кресло с высокой кожаной, пилотской спинкой, встает и ходит по своим тропическим владениям с водяным садово-кухонным пистолетом.
Впрочем, сейчас он неподвижен и весь внимание. Старший менеджер по продажам Валенок подробно обрисовывает ситуацию, сложившуюся в Киселевске на Красном камне.
– Ну и когда, вы полагаете, Игорь Ярославович, от немцев будут вести?
– В начале этой недели, так обещал их новый генеральный, сегодня, завтра, я так думаю. В любом случае, планирую сам завтра позвонить, напомнить, если, конечно, ничего от них не будет…
– А как, вы сказали, зовут этого нового начальника?
– Альтман. Роберт Бернгардович.
– Бернгардович, смотри-ка. Сын писателя-антифашиста Келлермана, большого друга СССР, а так нехорошо себя ведет.
С той стороны стола, где по традиции место мелкой шелупони, Полторака и Гусакова, раздается громкий смешок. С каким-то даже призвуком, словно довольно хрюкнув, свинья вдруг разрешилась вполне членораздельным, человеческим «ну да».
– Вы что-то хотите добавить, Андрей Андреевич? – Запотоцкий быстро поворачивает голову на звук.
– Ну да, ну нет, в смысле того… – что-то слегка мешает Полтораку.
– Да что вы крутите, давайте прямо, тут все свои.
– Я думаю, что если он, так сказать, наш, карагандинский, большой друг СССР, как вы сказали, может быть, надо и подход другой применить… от европейских, так сказать, к нашим, местным, проверенным методам перейти…
Мгновенная неловкость возникает из-за того, что нехорошая мыслишка, неприличное, полуосознанное подозрение, вертевшееся у всех и каждого в голове, где-то на самом донце сознания, всплыло. Пусть самым неясным и косноязычным образом, но высказано вслух. А как же. Собственные методы работы Полторака с учебными и лечебными госучреждениями известны хорошо и подразумевают всегда такую неудобную для бухгалтерии операцию, как обналичивание.
Всех сразу спасает Запотоцкий. Подумав какую-то секунду, уверенно отрезает:
– Нет, нет, это едва ли. Они, фашисты, не такие. Даже карагандинские.
После обеда, спешно уезжая из офиса к какому-то отменно развернувшемуся колбаснику из пригородного Комиссарова, Игорь на лестничной площадке столкнулся с Гусаковым. Борек, мрачно сопевший и дувшийся на жизнь и на судьбу весь этот день, завидев Валенка, преобразился. Так широко и по-товарищески осклабился, что сигаретка едва не выпала из его слишком стремительно распавшегося рта.
– Что, Игорь Ярославович, – спросил он, ловко то ли зубами, то ли языком, то ли всей головой подхватывая скользкий, мокрый фильтр, – теперь падла на ваш кусок разинула роток?
Странная склонность к фигурной, образной речи несложного, как топорище или кочерга, Бориса Гусакова, часто мешала понимать его совсем простые мысли.
– Вы это про сеть мясных магазинов? Вроде бы никто пока не покушается на этот проект.
Улыбка на узком лице Бориса стала такой большой, что сигаретку пришлось подхватить пальцами, а дыму дать волю выходить, откуда сможет, как у мухомора.
– Какой вы добрый, Игорь Ярославович, – ласково, но с явной укоризной заметил Гусаков, – даже и не поняли, что эта курва, Полторак, сегодня в наглую себя на ваше место предлагал.
– Вы думаете?
– Выдумывает пусть кто другой, а я знаю.
* * *
Противно и неприятно было все. И намек половины таракана на то, что чистый, в смысле всяких откатов и темных схем, частный бизнес, которым ведал все эти годы в «Старнете» Валенок, может потерять разом и свою прозрачность, и свою законность. Все то, что до сих пор делало Игоря другим в этой конторе. Как-то увязывало его прошлое, генетику – доцентство и кандидатство – с благоприобретенной необходимостью что-то впаривать и что-то отжимать. И в свете какого-то полуугасшего, легонько детской лампадкой еще теплившегося достоинства, особо противоестественной казалась вот эта, черт знает на какой почве вдруг ставшая произрастать и проявлявшаяся все яснее, отчетливее и навязчивее приязнь Бориса Гусакова. Беспардонного и полуграмотного грубияна, варившегося по шею, по маковку, с головой, всем своим сухостоем, в бесстыдной полукриминальной сфере голого нала и устных личных договоренностей.
Вот только этого Игорю не хватает. Стать здесь кому-нибудь своим. Товарищем. Хотя, наверное, если не хочешь умирать, точнее говоря, еще не можешь позволить себе эту роскошь, другого пути и нет.
* * *
Однажды на Игоря кричал пассажир. Совершенно случайный, чужой человек. Мальчишка. Совсем щенок.
В бухгалтерии завода «Красный Октябрь», прощаясь после обмена актами сверки, главбух как будто с легким оттенком зависти спросила:
– Теперь, наверное, уже домой, в Южносибирск?
– Нет, – невольно в этот самый тягучий, нескончаемый послеобеденный третий час, пришлось ее разочаровать, – сегодня надо еще успеть в «Белон».
– Так вы в Белово? Прямо сейчас? – очки главбуха блеснули, как отворяемая утром форточка в окне напротив. – А моего сына не возьмете?
И что-то еще добавила про девушку-невесту и сломанное транспортное средство отпрыска.
– Это вам по пути, мы как раз здесь рядом, на Дзержинского живем, напротив школы.
И в самом деле, напротив школы на Дзержинского, как вымпел, в красной куртке с белыми рукавами реял молодой человек.
– Здравствуйте, – сказал он, не садясь, а как-то вливаясь в машину, во всю ширь заполняя пассажирское кресло своей коктейльной синтетикой. – Спасибо, а у меня радиатор, блин, потек…
И с этим «блин», не комом, а струей, вязкой, обволакивающей, липкой потекла, не прекращаясь, его речь.
– У вас такого не было? Совсем? Ни разу? А у меня, второй, блин, камешек прилетает только за этот год. Блин, кто бы их заставил песок просеивать…
Слово давило, нанизывалось одно за другим, как тяжелые чугунные диски на гриф неотвратимо набиравшей совершенно неподъемный вес местной подвальной штанги.
– А я-то вначале, блин, не заметил. Пол батя в гараже, додумался, не с тем уклоном сделал, и все стекает, блин, к погребу и…
Точно так же разговаривает собственная дочь Игоря. С тем же тоскливым однообразием используя, где можно и нельзя, все тот же односложный вид словесной пунктуации. «Одна на днях, блин, приходила губы подколоть». И это сходство особо раздражало. Делало невыносимой скороговорку попутчика. Ленинск-кузнецкого молодца с матовым солидоловым слесарским маникюром под ногтями, но в яркой куртке из морского флага и в серой, вязаной, сидевшей на самой бритой макушке шапочке, которую бубликом закатанный до самого предела край мучительно роднил с недоиспользованным презервативом.
– В сервис позвонил, блин, только на четверг берут…
Раздражение росло. Вместо того чтобы спокойно ехать неярким тихим полднем вдоль синих окон и белых сугробов ленинской окраины, а потом мимо заснувших на ногах и на плечах друг друга березок да сосенок старой трассы, час ни о чем не думать, лишь в зеркала посматривать и на спидометр, Игорь все больше и больше терял равновесие. Ненужные, несвоевременные мысли мешались в голове от непрошенного, неприятного соседства с типичным представителем этого поколенья-блин. Поколения дочери. Самоуверенного, бойкого, хозяйственного, одинаковыми простыми категориями мыслящего и после высшего образования, и после среднего или вот вовсе рабочего профтехучилища.
– Хороший сварщик, он был в шараге мастером, когда я там учился, звоню на сотовый, а отвечает его баба, блин, говорит, запил твой Палыч три дня назад…
И чтобы мало Игорю не показалось, привычный поворот с Суворова в длинный, изогнутый, петлящий выезд из города оказался сегодня перегорожен краном. Сразу за ж/д-переездом широкий красный нетопырь на левом повороте воткнул культю стрелы в крышу не вовремя притормозившего автобуса.
Пришлось поехать прямо, по все той же улице Суворова – большой, широкой, но уводившей куда-то в сторону, в стоявший совсем уже на отшибе телецентр с полосатой красно-белой дылдою – ретрансляционной вышкой, чтоб там, среди незнакомых кварталов, по указателям искать выезд на трассу.
И все это помимо раздражения рождало чувство какого-то несносного, мучительного принуждения. Именно того, что за годом год делало общенье с дочерью все более и более тягостным. За ее неширокими птичьими плечами, совершенно так же, как за барабанной молодецкой грудью сегодняшнего случайного попутчика, ощущалась масса. То самое негорючее, воздуха и света лишенное вещество, в котором подыхала, уже практически не трепыхалась газовая, радужная валенковская бабочка и на боку валялись, лапками вверх, уже не шевелясь, не двигаясь, солнечные гиматтиновские мураши.
– Я-то бомблю, ну сам себе хозяин. А она, блин, по скользящему в надзорской мойке…
Бомблю, хозяин, блин, бомблю, бомблю… бомблю, хозяин, блин, бомблю… в надзорской мойке, блин… Воздух в машине становился спертым, тусклым, дохлым, в ноздри не шел, а набивался в рот, словно песок или опилки. Хотелось крикнуть, стукнуть кулаком, плюнуть, чтобы вздохнуть, но закричал не Игорь, а попутчик, буквально заорал и своим визгом, будто содрал коросту кожи, от безнадежности и злобы уже набравшей, наверное, три пальца защитных покровов и слоев. Мгновенно обдал ледяной изморозью возвращенья слуха и зрения:
– Куда вы! У него же преимущество!
Вот черт, конечно. Игорь просмотрел знак. Главная дорога с широкой, никак не обещавшей смены статуса, улицы Суворова сразу же за частоколом густо расставленных стволов небольшой городской рощицы тупым углом проваливалась вправо. И оттуда, из вдруг раскрывшегося всей пастью слепого поворота, т-образного перекрестка, на Игоря, гнавшего прямо, по Суворова, шмелем летел лобастый рыжий самосвал. Глазастой мордой целясь как раз в пассажирский, лишь тонкой стойкой и хилой дверцей защищенный бок «лансера».
Как Игорь проскочил, не вспомнить и не объяснить. Одно лишь осталось в памяти. Судорога в правой ноге, как паровозное дышло, выстрелившей и в пол загнавшей, заподлицо, педальку газа.
– Блин, – тихо вымолвил попутчик. И это было последнее слово, вообще, которое от него Игорь услышал. Если не считать такой же негромкой просьбы уже в Белове остановить возле автобусной остановки.
И так всю жизнь. Чтобы ощутить реальность, весь ужас ее, счастье и неотвратимость, нужно сделать ошибку. Жениться на Алке, или однажды без альпенштоков и веревок полезть от озера Харатс на самую высокую горку Хакасии Старая Крепость. Туда, где за перевалом Козьи ворота скальные останцы, прижатые друг к другу, стоят стеною ряд за рядом вдоль скользкой со снежком тропы, как будто тысячи томов навеки самой в себе закрывшейся библиотеки.
* * *
Фашисты заплатили, но объявили, что так в последний раз. В среду Игорь позвонил Альтману, из чистой любезности, поблагодарить за деньги, и тот, не слишком церемонясь, сообщил:
– Попрошу вас больше не выставлять нам счета по вашим данным.
– Но как же по-другому?
– А очень просто по-другому, мы вам теперь будем каждый месяц сообщать, сколько у нас насчитано, сколько мы реально взяли, и только это вам компенсировать.
– Но подождите, так ведь нельзя.
– Это почему нельзя?
– Ну как же, в договоре у нас есть ясное понятие клиентского порта, и трафик согласно договору определяется и тарифицируется на нем…
Роберт Бернгардович задумался. Похоже, Игорь снова невольно ткнул свежеиспеченного директора «Крафтманн, Робке унд Альтмайер» в самое чувствительное место. В очередной раз намекнул на недостаток внимательности и педантичности.
С минуту, наверное, ничего членораздельного телефонная медь не проводила, лишь где-то между Южносибирском и Киселевском тихонько делали свою работу неутомимые электромагнитные жуки-точильщики.
– А мы изменим договор, – нашелся наконец на той стороне совсем пропавший было тугодум, генеральный директор «КРАБ Рус», – оформим дополнение.
– А может быть, поступим проще? Логичнее и чище?
– Что может быть логичнее и чище прописанного и согласованного в договоре или в дополнении?
– Логичнее и чище была бы общая, прозрачная для всех система учета трафика.
– Вы что-то конкретное готовы нам предложить или вообще рассуждаете?
– Совершенно конкретное, Роберт Бернгардович. Я бы предложил организовать встречу прямо у вас на площадке сотрудников техслужб. Наших и ваших. Поговорят, посмотрят и выяснят, я как-то даже в этом не сомневаюсь, природу и источник расхождений в учете на разных сторонах.
И вновь долгий и непростой мыслительный процесс запустился на той, дальней, стороне линии. Подвох был столь неожиданным и ловким, что даже жуки-точильщики примолкли. Носами острыми и длинными ловили тишину.
– Я обдумаю ваше предложение, – в конце концов коротко буркнул Альтман. Похоже, так и не допетрив в приличиями отведенный интервал молчания, где тут засада.
– Хорошо, – ответил Игорь, – буду ждать звонка, – и, положив трубку в карман, сказал уже себе под нос: – И будет тебе Гитлер-капут, тупица карагандинская.
* * *
У Запотоцкого на подоконнике зацвела орхидея. Осенью какой-то собрат из категории директоров-натуралистов преподнес Олегу Геннадьевичу по поводу или без повода маленький горшочек с какой-то трехуровневой несуразностью. Белые, похожие на опарышей, картофельные усики, словно авоська, держали комочек гумуса, из которой зеленым ландышевым салом выпрастывался веер плотных листьев, на третьем этаже сооружения реяли два тонких бамбуковых прутка с привязанными к ним коленчатыми, тяжелыми и плотными, словно из чугуна, побегами. Три или четыре крупных розовых цветка казались анатомической моделью зева какого-то тропического глотателя кровососущих.
– Асконопсис, – со сладкой нежностью катал во рту изумруды согласных Олег Геннадьевич. Перетирал.
К зиме все розовое и фиолетовое с растенья облетело, но маленький горшочек с белыми червяками и зелеными змейками остался на своем месте. На подоконнике, на солнечной стороне.
– А что, Олег Геннадьевич, разве они не одноразовые? – спросил как-то у Запотоцкого Полторак. – Стоят как самолет, а отцветают за неделю. Ну или две.
– Посмотрим, – в ответ пожал плечами генеральный директор. – Живой ведь, не засох, не сгнил, не съеден дрозофилами, ну, значит, все еще возможно. Поглядим.
И асконопсис не подвел. Логика посланца жарких и влажных субрегионов далеких континентов совпала с представлениями о жизненных силах и законах, усвоенных с младенчества потомком секретаря райкома из сельской местности Сибири. В феврале на толстом зеленом диэлектрике стволов набухли крупные бутоны, и в марте один из них взорвался.
Розовое и фиолетовое снова затрепетало на подоконнике генерала ЗАО «Старнет». И радость этой очередной фикусной победы уже второй день отражалась на лице Олега Геннадьевича, так что говорить с ним было одно удовольствие. Даже о делах.
Собственно, дело было всего одно и очень простое. Немцы согласились на встречу технарей и даже вполне конкретно ее назначили на завтра, на четверг. И вечно занятого Леню Шейниса для выяснения всех деталей давал Потапов, но не давал своих машин. Одна с начала недели на монтаже узла в Мариинске, а вторая именно на завтра заряжена везти второго системщика Данила Бураковского поднимать голос у жирных угольщиков в Ленинске. При том, что собственный «лансер» Игорь как раз сегодня утром загнал менять покоцанное камнями лобовое.
– Ну и какие предложения? – спросил Запотоцкий, сам весь розовый и теплый в ореоле щедро падающего из окна весеннего света.
– Если согласуете, то возьмем такси.
– До Киселевска?
– Ну да.
– И сколько это выйдет?
Игорь сказал. Олег Геннадьевич задумался. Солнышко назойливо светило сбоку, и левый глаз гендиректора был полуприкрыт, как у совы из мультфильма.
– Нет, – наконец, вынесла вердикт мудрая птица, – так не пойдет. Ехать к немцам на такси не комильфо.
– И что же делать?
– Возьмите на завтра мой «пассат», – все также добродушно щурясь, казалось даже подмигивая, предложил Запотоцкий.
– Как это?
– Да проще простого, сейчас вам напишу доверенность. Теперь можно вот так вот, от руки, безо всякого нотариуса.
Когда, договариваясь с Шейнисом, где завтра утром будет его забирать, Игорь сказал, что приедет не на свой япошке, а на машине босса, угрюмый Леня, поднял голову, прищурился, хотя, в отличие от кабинета Запотоцкого, ни солнца, ни тепла не наблюдалось в его узкой норе с окном на север, и что-то странное, но вместе с тем как будто бы понятное и даже очевидное пробормотал:
– А… панцерваген «Нахтигаль»… какой почет…
* * *
И всю дорогу до Киселевска мучительно хотелось уточнить у Шейниса, что он имел в виду. Что значит это «нахтигаль»? Правильно ли его Игорь понимает, чувствует, или не то? Совсем не то.
Но ничего не выходило. Да и выйти не могло. Маленький, даже не мышка, а скелетик от нее, Леня Шейнис, едва лишь юркнув на сиденье рядом с Валенком, немедленно, как из стакана извлеченный первоцвет, свалил головку набок и отлетел. Что ему служило питающей средой бессонной ночью – игра какая-нибудь или в служебные часы под сурдинку загруженный ужастик, Игорь мог только догадываться по мелко подергивавшимся губам системного гуру компании «Старнет». У миниатюрного Лени они были толстые и противные, как два помороженных на лыжне мизинца.
Влез, буркнул «здравствуйте» и после этого лишь шевелит губами, сушеный финик. Везешь, ну и вези. И не на что пожаловаться. Имеет право плевать и игнорировать. Совершенно так же, как собственная дочь имеет право пользоваться Игорем, но самого его и мать в расчет не принимать. Всегда ли в этом мире была и будет такая математика? Или она сменилась совсем недавно, в пору, когда исчезли магазины с книгами, описывающими цифрами то, что никак не описать словами?
* * *
Сам отец никогда ничего об этом не рассказывал. Вся его достойная публичного освещения жизнь как будто бы началась с томского детдома. А до этого… до этого одни осколки. Случайные фрагменты, такие, что остаются в памяти от сна. Разноцветные стеклышки. Ну, например. Дед Валенок любил читать на ходу. Мог идти по улице с газетой перед носом или книгой. А улицы в Витебске горбатые. Вверх-вниз, вверх-вниз, здесь, в Сибири, такого не бывает. Вот и все. Улицы горбатые, а по ним идет с книгой смешной человек. А куда, зачем и почему, никто не знает. А если знает, то не скажет.
Однажды, наслушавшись в школе рассказов про Хатынь, Игорь решил сам завести с отцом разговор. Попытался выведать: не тот ли случай, не подобный ли?
– Нет, ничего такого, – сказал отец, послушав его детский лепет о партизанах и лесах. – Нет, все это было дома, в Витебске. Они просто прятали ребенка. Два года прятали ребенка, пока их немцам не выдал дворник.
Какого ребенка? Почему прятали? Какое в этом могло быть преступление? Понять сказанное никак не помогали школьные уроки мужества. А равно отцовские уроки молчания и сдержанности. И лишь потом, год или два спустя, открылась эта совсем простая тайна.
Однажды мать за ужином стала рассказывать о какой-то студентке со странным именем Лия.
– Я думала, ошиблись в деканате, хотела уточнить, может быть, Лиля, нет, подтверждают, Лия.
– Конечно, – отец вдруг оживился, – все правильно, именно Лия. Лия Нахимсон. Как раз так звали ту девочку, дочку преподавательницы немецкого из витебского техникума, ну ту…
Отец не стал договаривать. Зачем, когда мать уже и так понимающе ему кивнула.
Лия.
И вот об этом хотелось спросить Леню Шейниса. Была ли у него тетя с таким вот именем или, быть может, бабушка? По возрасту, конечно. Наверное, бабушка. Бабушка, которую он, Леня, возможно, видел только на старой фотографии. Однажды. Как Игорь Валенок свою тетю Светлану. Никогда не стареющей, сначала явившейся ему в образе младшей сестры, а теперь и вовсе, если глянуть, то поздней, очень поздней малолетней дочери.
Но ничего не получалось. Удивительно нескладный человек, смахивающий на вылепленного ребенком из пластилина головастика, с жидкой ниточкой тела, но непомерными носом и губами, спал. Покачивался, заботливо прижатый к сиденью ремнями безопасности и ничего-нибудь иного, а именно того, что сам назвал, с намеком или нет, – панцерваген «нахтигаль». И никто не мог объяснить Игорю, ответить на мучивший его вопрос, почему такое должно и может происходить.
А сама машина, шикарный полноприводный «фольк» с двигателем V6 Игорю решительно не понравился. Два часа он пытался приспособиться к европейской эргономике салона, но так и не смог. Так и ехал, не видя как раз тех секторов шкалы спидометра, где 60 и 90. Баранка перекрывала.
* * *
А когда возвращались, ни о каких уже немцах говорить не хотелось. Хотя удачно съездили, можно сказать, одолели. Потребовалось всего лишь навсего каких-то пятнадцать-двадцать минут беседы Лени Шейниса с местным киселевским администратором в присутствии Альтмана и Валенка, чтобы выявилась и подтвердилась совсем смешная вещь. «КРАБ Рус» считает трафик вообще не на портах устройств, а на выходе своего брандмауэра. Очищенную от всего служебного потока одну полезную нагрузку.
– А почему мы должны платить за весь этот, как вы выразились, сетевой мусор? – Альтман по своему обыкновению сейчас же выкатил большие синие глаза на эти новые ворота.
– Да потому, что вы же его сами либо производите, либо вызываете, – отвечал ему Шейнис с ленивым равнодушием, удивительным образом смахивающим на презрение. Говорил он, как радиоточка, ни на кого не глядя, так, будто бы сам с собой.
– Как это, Герман? – не в силах постичь, где его в очередной раз дурят, все больше заводился шеф русского подразделения компании «Крафтманн, Робке унд Альтмайер Бергбаутекник» и обращался к своему, местному, как это у них называлось, «программисту»:
– Это что, намек на то, что кто-то у нас здесь не делами, не работой занят? Закачивает какой-то мусор? Что это мы такое сами производим, к работе не имеющее отношение, ненужное?
– Нет, оно нужное, – бормотал в ответ киселевский самоучка Герман, опасливо при этом поглядывая на изуродованного томским университетом Леню Шейниса и потому, наверное, очень напоминающего недорисованного киборга с подзаводом. – Там разные служебные процессы, Роберт Бернгардович, без которых не могут работать остальные…
– Например?
– Например, служба разрешения имен, ДНС, мы не учли… – пролепетал в отчаянии программист Герман и зарумянился, потому что ему, да и всем присутствующим показалось, что Шейнис на это не губами дернул, а чуть-чуть кивнул. Одобрил, вроде бы, пример.
С этой минуты белое лицо Альтмана начало краснеть. Черт знает почему, процессы осознания чего-либо имели у него черешнево-вишневые корни. В конце концов после получаса дополнительного разбора и ликбеза выхоленная пшеничная эспаньолка на его ставшем совершенно багровым лице начала светиться, как живая.
– Хорошо, – выдавил из себя Роберт Бернгардович в заключение, – мы рассмотрим возможность системы контроля за вами, установим счетчик, как вот предлагает ваш товарищ…
Он так и сказал – «товарищ», и даже сделал при этом легкое движение рукой в сторону Шейниса, по мере выяснения вопроса, его нелепой, пустяковой сути все больше и больше отходившего куда-то в неведомые дали и ставшего к естественному завершению разговора вполне себе астральной чужеродности объектом:
– Установим на входном порту нашего сервера…
– Да, мы переделаем систему, но контролировать вас, да и вообще кого угодно, не прекратим, и не надейтесь… – Альтман еще раз пообещал, уже прощаясь, при этом бросая испепеляющие взгляды на своего Германа, торопившегося как-то жалко, очень по-собачьи, подать большую сырую лапу одновременно и Шейнису, и Валенку.
На улице, когда усаживались в красиво запаркованный перед самым офисом «Бергбаутекник» «фольк» Запотоцкого, зазеркальный Леня внезапно вполне по-человечески фукнул жирными губами и, показав кривые коричневые зубы, сказал:
– А что… врага побили с помощью его же оружья.
– В каком смысле? – не понял Валенок, заводя машину.
– Ну как же, – Шейнис скосил свой крупный, коровий глаз, в котором уже прыгало искрой знакомое бесконечное, лишенное всякого оттенка сочувствия или симпатии неуважение, то самое, с каким лишь полчаса назад даже не поглядывал, а просто воспринимал системщик компании «Старнет» местного гения с именем Герман. – Панцерваген-то, Игорь Ярославович, «нахтигаль». Ведь верно? А дивизия – «Мертвая голова»…
* * *
Дочь позвонила в самый неподходящий момент, как раз когда вертелись на «фольке» в узких проулках Дальних гор. И где-то в этом месиве безобразных у– и т-образных пересечений асфальта с гравийными отводками, а чаще всего просто укатанными земляными колеями, из-за высокого штакетника на то, что называлось улицей Толстого, внезапно выступила белая собака. Большая, грузная, как пьяная от свежесваренного молока корова, она, покачиваясь, сползла с бугра и тупо, мелко потряхивая крупным рылом, двинулась на другую сторону. Тронулась, как по полю, безразличная к тому, что на дороге, справа, слева или спереди. Больная, беременная или же просто без мозгов? Чужая машина и расстояние с гулькин нос не оставляли ни секунды на праздные загадки. Большое счастье, что встречка была свободной. И тут, не раньше и не позже, в накладном кармане куртки очнулся телефон.
Пищала резина, крутился горизонт, а «нокия» спокойно травила свой фирменный вальсок. Как еще один полномочный представитель мира жвачных и самодостаточных, пара тупой скотине на дороге. Удобный радионаушник был забыт в бардачке собственной машины. Может быть, и к лучшему, потому что, когда все обошлось и Игорь смог ответить, выловив предварительно двумя пальцами трубку во внутреннем кармане куртки, дочь ему сказала всего два слова:
– Мама опять…
С самого начала недели все признаки того, что это надвигается и неизбежно опять накроет Алку, из смутных, неопределенных делались все более и более явными. Игорь уже давно до мелочей знал это пограничье с его непредсказуемыми переходами от недовольства всем и всеми к жажде сочувствия, слезливой, бабской, алогичной жалости к самой себе. Внезапные приливы и отливы, метанье, переходы между створоженностью и стервозностью. Дни превращенья Алки в чужую женщину. И затем взрыв…
Иногда, впрочем, уже назначенное, предписанное, неизбежное и не случалось. Как-то бочком, бочком, по краешку, мелкими шажками с оглядкой, с передышками она выскребалась, выцарапывалась из втягивающей, наползающей, накатывающей на нее вязкой трясины и после этого подвига еще держалась месяц или два. Во всяком случае, так было с тех пор, как ее подобрал какой-то левый южносибирский филиал какого-то мифического якобы московского экономико-правового университета. После позорного прощанья с Политехом и пяти месяцев, размеренных не астрономической последовательностью дней, а дергающимся штрих-пунктиром, петляющей цепочкой разновеликих пятен, блевотины и крови от падений ничком и навзничь, Алка старалась не срываться. Держаться в дни занятий, не запивать в контрольные периоды между каникулами и праздниками.
И вот впервые за эти три или четыре года не смогла. Не сдюжила.
– Мама опять…
– Ты была дома?
– Нет, мне позвонила Нелька, мама пришла к ним одолжиться…
Вот как. Соседи уже в курсе. Стремительно. Дома, и в самом деле, перед зарплатой были запасы самые минимальные, но все-таки полторы тысячи укатать с утра и в два часа уже просить на подзарядку – это знакомый, родной стиль. Дочь не ошиблась, мать вдохновилась…
Игорь легко себе представил, как его легкая птичка Алка, после первой ранней пары, с ее латунно-медным вкусом и отсветом, пройдя по зябкой, стылой улице, ныряет в теплый, уже успели с утра надышать, очеловечить, универсам и, потирая подмерзшие ладони, их согревая, а заодно скрывая дрожь, в том барском, дальнем отделе, где пахнет кофе и корицей, стоит и выбирает. «Мартель», vs или vsop. Магический момент черт знает куда ее возносящего актерства, из будней, скуки, невозможности, мгновенно вырывающего лицедейства…
– О, так вы сомелье? Владеете французским? Какая удача. Что вы мне сегодня порекомендуете из аппеласьион халяль контроле?
Часа через четыре она согласна уже будет валять дурака перед обычной разливальщицей самой простой баллонной разбодяжины на углу Весенней и Советского:
– А вы знаете, что в пиве нельзя утонуть?
– Почему?
– Пузырьки выносят любое тело на поверхность. Можно читать газету лежа на пене, как там, у них в Израиле, на Мертвом море. Главное, чтобы пиво было свежее. У вас вот, например, когда завоз был этого вашего эля?
Роскошные, счастливые первые часы и дни отрыва. Вот только денег в доме больше не найти. А книги, которых все еще полно в шкафах, на полках и столах, нести некуда – в городе не осталось ни одного букинистического магазина.
Последнее, что увидел Игорь Валенок на улице Толстого в тоскливой четверти города Киселевска с названьем Дальние горы, был толстый щенок с коротким хвостиком. Старый знакомый. За месяц-полтора с последней встречи он не слишком-то изменился. Такой же крупноголовый, неловкий и смешной, штыб с молоком. Он неуклюже поспешал по встречной обочине, скользя мягкими детскими лапами по серым гладким камням. Меховая пропыленная сарделька карабкалась вверх, туда, где, по всей видимости, стояла и смотрела на него тупыми темными глазами такая же, коровьей масти мать. Живая. Потому что Игорь успел каким-то чудом среагировать и отвести от ее бока блестящее кольцо со вписанными в него зубами. Пауком, составленным из многолапых букв V и W, мучительно похожим на фашистский знак. На свастику.
Живые. Вечные. Посреди дороги. Быть может, они заговоренные? Да, оба, и мать, и вот помет ее. Что чудотворное тут? Серое небо, серая пыль, естественное, цвета не имеющее слабоумие? Собаки, возьмите к себе человека.
Нельзя, ты не один.
* * *
Лечь и лежать, просто лежать. Единственное положение, в котором он свободен. Не связан с миром, не кантуем. Лежать и не шевелиться. И все будет хорошо, потому что лежачих не бьют. Они похожи на покойников и оттого свободны. Свободны совершенно.
Если только не думают. Ни о чем не думают. Если в голове не остается ничего, кроме ваты. Ваты мерной, бесконечной, не знающей разрывов и пересечений, свежей небесной лыжни. Такой, что видишь под собой в иллюминаторе самолета, бегущей от Северного полюса к Южному. Стелящейся, вьющейся, петляющей, пересекающей ухабы облаков, взбивающей молочные снотворные клубы, хвосты, колечки, ныряющей в небесный белый, подбрюшный пух, выныривающей на полупрозрачные, седые птичьи гребни, но никогда не прерывающейся. Все длящейся, и длящейся, и длящейся.
* * *
Выхода не было. Даже после того, как очень быстро, много быстрее, чем это обычно происходило, сменилось соотношенье часов патологического, болезненного возбуждения и наказания, расплаты за него. Уже к полудню она начинала падать и заговариваться. Но самый простой и легкий путь – пройти два квартала и лечь под капельницу в медицинском центре «Ваш доктор» – не принимался.
– Там моргом пахнет, не хочу. Они меня убьют.
В молодости она не страшилась ничего, в той общей трезвости и радости их юной жизни любое море было по колено. Опасности, болезни и, уж тем более, какая-то там смерть просто не существовали в сознании Алки. Она казалась солнечным зайцем, сгустком энергии и беззаботности.
Теперь же, на пятом десятке, Алла Айдаровна боялась всего и вся, а в дни, когда от нее самой несло если и не моргом, то шкафчиком патологоанатома, – маниакально, особенно иголок, шприцев, капельниц.
– Гепатит. Это последнее, чего мне в жизни не хватает. Лишь только это еще во мне не завелось. Ну или не проснулось. Лучше уж сразу молотком по темечку.
* * *
И все равно Алка – это самое лучшее, что с ним случилось в жизни. Кем бы он был, кем бы он стал, если бы не Алка, – нелепым, грузным Валенком, чудаком, читающим на ходу даже не книгу, а так, какую-то листовку, рекламный проспект, поданный ему на улице подростком или стариком? Подслеповатым и рассеянным доцентом, задумчиво сующим ненужную бумажку не в урну, не в ротик мусорного ящика, а в карман? Человеком, для которого самым тревожащим душу звуком, зовущим и будоражащим, был бы шелест тополей, сырое воркование и влажный лепет в гуще крон за окном во время волнообразно накатывающего на город и откатывающего ночного летнего дождя? Гулы и шевеленья того же в сущности масштаба и значенья, что и тревоги, звуки и движенья собственного ЖКТ.
А с Алкой он однажды видел и, что важнее, слышал, как мир кончается. Взрывается и остается целым. Такое чудо в гусиной медной коже и крупных изумрудах пота.
Однажды… однажды Игорь видел, как сходит оползень там, где вилочкой ручейков Малый Казыр вливается в Большой. После обвальной двухчасовой грозы, от грохота и многоводия которой Казыр разбух и стал похож на грязекаменного змея, удава, в чреве которого ополоумел, сошел с ума, весь в грохоте и вое ливня, заглоченный поспешно и не прожеванный рекой зверинец, на склоне над рекою заиграли ели. Зашевелились, задергались так, словно кто-то невидимый, подземный стал щекотать им корни, дьявольским перышком водить под пятками камней и холодить в подмышках дерна. И словно силясь, пытаясь избавиться от неожиданного наказания, огромный язык леса на крутом склоне, метрах в трехстах, не больше, от того места, где они с Алкой прятались в наскоро растянутой палатке, действительно ожил, начал подергиваться, шевелиться, вставать и вдруг, в одну секунду порвав буквально с природой внутренней и внешней, столетиями, тысячелетиями не менявшейся, сложившейся, устойчивой, пошел, поехал, оторвался от материнской непрерывности зеленого, чтобы еще через мгновенье исчезнуть, самого себя перемолоть в грязное месиво камней, стволов и глины, ударившее страшным кулаком речушку в дергающийся, накаченный небесным электричеством до темноты, до мути, до безумья бок.
И там, тогда, на расстоянии протянутой руки до смерти, ему открылось то, что никому из Валенков не открывалось. По-настоящему прекрасное, освобождающее душу и обновляющее кровь всегда бывает страшным. А страшное, как откровение, прозрение, всегда прекрасно и пронзительно. И длится это счастье сопричастности к земле и небу только миг. Всего один. И он у него был. И раз, и два, и снова. И неоднократно.
Момент, когда нежную, трепещущую радужную бабочку валенковской души словно глотала птица. Стремительная, бешенная. Кречет, сапсан. Хватала и уносила туда, куда природа не планировала никогда, не готовила и не звала.
* * *
Утром, когда дождь стих и заиграло солнце, на том скате, с которого сорвался вдохновенно, сам себя кроша и перепахивая, островок леса, сверкали и празднично блестели сотни неисчислимых, открывших мир и небо скальных граней. Как будто кто-то там рассыпал ножи и вилки с нечеловеческого свадебного стола.
* * *
Работать в такие дни необыкновенно тяжело. Все подавляет и раздражает, особенно самодовольство флоры и фауны. Полтаракана цветущих веснушек и гусак вечнозеленых плотоядных потрохов.
Во вторник они опять поцапались. Полторак утром забрал из кассы всю наличность, и припозднившемуся по обыкновению Борьку оказалось буквально не на что уехать в очередную командировку. Или ждать завтрашнего дня, или катиться на свои собственные, а свои собственные в достаточном количестве у Гусакова водились очень редко.
– Ну ты же в городе, – настаивал Борек на праве требовать переуступку, – тебе же все равно, сегодня или завтра.
– Экий ты, умный, Ваня, за меня решать, – не собирались уступать добычу сытые и счастливые полтаракана. – И на сознательность ты мне коленкой не дави. Прикинулся тут пиджачком. Все знают, что тебе только доехать до первой твоей розничной точки, а после уже налика будешь иметь полный карман. По горлышко и выше.
– Так это ж компанейские, да и вообще другая расходная статья…
– Приходная, я бы сказал, – обрадовался неосторожной оговорке Полторак, и мелко, сладко задрожал, от предвкушения того, как вот сейчас прихватит Гусакова за неуклюжий его птичий хвост.
– Да че ты меня ловишь на словах? – взвился Борис и окончательно попался. – Приход, расход, ты сам подумай, как я в командировке буду менять резину, мне это дома, до отъезда надо, сегодня сделать…
– А ты ее чего, Бобок, на компанейские, на командировочные думал поменять? Свою резину на своей машине на бабки Запотоцкого? – веснушки счастливо брызнули с лица полтаракана, подпрыгнули, словно горох на блюде. – А шеф-то в курсе твоих планов?
– Курва ты, а не в курсе, – рявкнул Бобок, вскочил, качнулся всем своим темным суровым сухостоем, но не кинулся на маслом радости облитого обидчика, шагнул к двери и так несчастной хрястнул, что за собой оставил целый рой взволнованно друг в друга тыкающихся, порхающих, кружащихся и медленно оседающих на пол, мучнистых известковых блох.
– Ишь, слез напустил… Резину ему надо поменять. Потерпит. Вот вы, Игорь Ярославович, спокойно шипами до середины мая брякаете, и ничего… Не паритесь…
Да, прав был Гусаков, пытаются, пытаются Полрака и под ним, под Игорем Валенком, почву прощупывать. Ищут, где слабина, где мелко, за что при случае и прихватить не грех. Поддеть.
– Не парюсь, Андрей Андреевич, не парюсь, и вам советую…
* * *
Что-то неладное начинаешь замечать по номерам встречных машин. Они не читаются.
Выезжаешь рано светлым и чистым утром по сухому асфальту. Едешь под мирным бесцветным небом. Мало попутных, не часто видишь фары и на встречной полосе. А если видишь, то все обычное. Росистая, стальная с ночи птичка «мазды» или бычок «тойоты». Рубин «газели» или черный пиленный кварц букв «КамАЗ». Ничего, ничего не выпадает из образного ряда положенного и присущего седьмому часу, началу майского прозрачного дня.
И вдруг на въезде в Панфилово, на взгорочке, за которым деревню стерегущий форпост гаев, – синяя «девятина» со свежей наледью на плашке номера. Бело-голубой мокрой замазкой начисто съеденные буквы и цифры. И сразу же за ней, в самой деревне плоская морда тягача «DAF», в радиаторную пасть которого словно какой-то недоделанный шутник харкнул сырой и липкой овсянкой снега. И все. Больше ничего до самой Демьяновки.
Можно успокаивать себя. Думать, что это просто наваждение, сон наяву. Что-то вроде сибирских миражей, отраженье света близких зим в коротком лете. Можно, но вот свернул на трассу – и уже не получается. На той стороне дорожной штанины, за майским зеленым лампасом разделительной, машины, заплеванные белым, со слепыми, свежеморожеными рыбками номеров, идут уже с завидной регулярностью. Сомнений никаких. Впереди снег. Весенний, плотный, скользкий, синий. Подлейшая из всех физических субстанций.
Снег во второй декаде мая. Мертвечина ноябрьского полнолунья за месяц, всего-то за пять недель до летнего солнцестояния. Июньской непрерывности птичьего гомона и цветочно-цукатных переливов. Снег. И тем не менее, раз в два, три года это случается. На второй волне майских праздников он ложится, очень редко, соплями, молочным кисельком со звездочками в городах, что в большинстве своем в низинках, на равнине, в поймах рек, и неизменно, обязательно на трассе, между Беловом и Прокопьевском, там, где плюс двести метров над плоскодонным уровнем Южносибирска. Бунт, забастовка ясельников и детсадников всего промышленного региона. Километров пятьдесят пересоленной или, наоборот, слишком подсахаренной, приторной до рвоты и потому не съеденной на завтрак манной каши. Нулевое сцепление с дорогой.
А впрочем, у кого как. У осмотрительного и осторожного Игоря Валенка до середины мая зимняя резина. Сотнями мелких прорезей выталкивающая мокроту из точки контакта резины и асфальта, присасывающаяся, льнущая, шипами цепляющаяся за невидимый подкожный ледок наката. И он спокоен. Он даже может обгонять. Аккуратно торить темную колею на нетронутой левой стороне полосы, спокойно обходя долгую череду машин, что настороженно, неверно тянутся ползком по правой. Что-то между полста и сорока.
И радость – хоть в чем-то ты не проиграл, не прогадал и не ошибся. Хоть что-то в этой жизни за тебя, не против и не поперек. В это веришь, на это надеешься, в очередной раз очень, очень плавно, под едва видимым углом входя в холодный звездный студень, предельно осторожно перестраиваясь, заранее, за два, за три десятка метров от зада клопочного «вица», по праву замыкающего очередную мучительно и безнадежно телепающую похоронную процессию.
Машин, наверное, двенадцать, упершихся в длинного бортового китайца с манипулятором. Игорь, занявший правую, вообще не паханную в этом месте полосу, хорошо видит там, впереди, желтую, локтем вверх, руку крана на фоне широкой вишневой кабины «фотона». Вроде бы не старый, блестит на солнце, но почему-то осадился, как-то особо осторожничает, наверное порожний. За ним еще один такой же робкий – и все, коса собралась, растянулась на сотню метров. Но ладно. Сейчас.
Игорь готов. Перестроение закончено. Передние тянущие колеса стоят строго параллельно собственной оси машины. Мягкое нажатие на педаль акселератора, и «лансер» как танк, как трактор, на своих зимних пойдет торить десятисантиметровый слой сизого, одновременно и хрустящего, и чмокающего птичьего молока. И сделает, всех сделает, сначала зародыш черепашки «витц», потом такой же праворукий, но уже широкий, взрослый комодик «эйч-эр-ви», а там увидим, кажется, «шаха»…
Удар. Как будто вырвало кусок переднего моста. И гул, вой, рокот – все сразу вместо привычного простого шипенья равномерного движенья. Случилось что-то, отчего машина не может и не хочет больше ехать. Только сползти к обочине. Зарыться в белый помет – слой снега, упавшего с небес, украшенный сверху ошметками, цветами грязи, откинутой с дороги колесами всех тех, кто здесь не остановился, а проехал. В том числе и той неторопливой нитки разновеликих разноцветных бус, которые нанизала и тянула за собой китайская, желтая с бордовым воровайка. Как медленно она плелась еще мгновение тому назад, и как сейчас же улетучилась, буквально утекла за плавный перелом дороги, оставив Валенка одного, застрявшего в чавкающей, хлюпающей снежной жиже. Как не снесло, не закрутило, удивительно. Просто осел налево и стал жевать холодец мая.
Игорь открыл дверь и провалился по щиколотку в кусающую, жалящую мокроту. Он обошел машину, носком раскапывая снег вокруг колес. Ну, так и есть. Левое переднее пробито, неровный треугольный кусочек бортовины стрельнул наружу, как птичий клюв или язык, заразный, черный. Что же там лежало под ровной рисовой чешуей майского снега? Огрызок металла, скоба, кусок бетона с пальцем арматурины наружу? Надо ли знать, что именно в очередной раз пристегнулось к цепочке неудач, цепочке поражений, упорно, неотвязно слагающихся в приговор. Приговор его надеждам, нелепой вере и смешной любви. Последним их слабым огонькам. Даже в таких, грошовых мелочах. Дебильных. Колеса зимние, предусмотрительность, комфорт жизненной мудрости…
Не нужно. Ни к чему. Достаточно тех ненавистных, неизбывных, мучительных, что он давно себе придумал и назвал. Потеря книг, потеря института, потеря Алки… и немцы, немцы, немцы. Не надо нового. Не надо. Задача – старое забыть.
Игорь снимает куртку и кладет на заднее сиденье. В ботинках хлюпает. Из дальнего угла багажника он выдирает саперную лопатку и, опустив колено в протухшее ванильное мороженое, начинает отгребать белую мерзость от зажеванного, никчемным ставшего переднего колеса. И покуда он этим занят, негромкое сопенье за спиной справа медленно набирает суровость гула, рокота, начинает давить не только на ушные перепонки, но и на все тело, горячо дуть, уплотняя, едва ли не сжижая воздух.
Валенок бросает взгляд назад через плечо и понимает – поздно. Чудовищная фура, огромный капотный «фрайтлайнер» не сбросит, не затормозит, еще секунда, две, и он пронесется буквально в метре-полутора от него, накрыв волной одновременно и града, и дождя. И ничего нельзя сделать. Нельзя даже на белой слепой плашке под радиатором увидеть номер региона. Понять, откуда на тебя летит проклятие и кто следующий. Лишь голову пригнуть, закрыть глаза, и больше ничего.
* * *
Почему вдруг, Игорь не понял. Почему именно в этот мамин отлет дочь стала навещать родительский дом. Разок-другой в неделю заходить, возиться с Алкой, разговаривать, а для него что-то и как-то прибирать, даже готовить.
До этого любая очередная мамина бутылочная карусель всегда была поводом для праведного отторжения. Ненужных слов, чаще всего сказанных по телефону, но иногда случалось и с глазу на глаз. Так было этой зимой. На выходе из каникулярного, можно сказать, предписанного, регулярного Алкиного срыва. Она лежала под капельницей, а Игорь вышел просто подышать. Постоять чуть-чуть на морозце. Слегка отойти от все живое, еще здоровое как будто разлагающей, сжирающей и поглощающей в себе смеси запахов – лекарств и пота пьяниц. Пары несчастных, лежавших вместе с Алкой за белыми ширмами процедурной. Дверь, в нее ведущая, почему-то никогда не закрывалась, может быть, из-за обратного эффекта. Если верхом шел и из-под невысоких потолков на тех, кто ждал своих родных на лавках в коридоре, давил постыдный, горемычный трупно-формалиновый угар, то снизу, полом, к медсестрам, туда, в их преисподнюю, тянулась свежесть воли. Холодок. Может быть.
Игорь долго терпел, но когда с ним начал заговаривать сосед, маленький заветренный человечек, сам пахнущий старой хрущевкой – немытыми носками и прогорклым маслом, не выдержал и вышел. И встретил дочь.
В общем, неудивительно. Салон, в котором Настя работала, располагался на той же улице, буквально через дом от бывшего детсада на первом этаже желтой сталинской пятиэтажки, ставшего ныне специализированным частным медицинском учреждением с названием «Ваш доктор».
– Все еще? – спросила она, коротко поздоровавшись.
– Да все уже, я думаю, – ответил Игорь, – выехали. Через час чистыми пойдем домой.
– Чистыми в смысле кошелька? – дочь зло смотрела на него в упор. Маленькая, кругленькая, беспардонная. Словно и не Игоря ребенок, а того куля с картошкой, что пять минут назад к нему привязывался в больничном коридоре. – Не проще ли…
– Иди, – сказал ей Игорь, – иди, Анастасия, а то клиенты ждут. Ты же не можешь опоздать.
Дочь постояла, медленно изо рта выпуская не слова, а беленькие нечитаемые облачка:
– Ну ладно. Так да так, – и пошла, все свои речи унеся с собой, все разговоры о родителях, что деньги десятками тысяч буквально мечут коту под хвост, когда она и Шарф гваздаются, чтобы с кредитами разделаться на мебель да на машину. Товаркам объяснять пошла несправедливость мира. Или клиентам. Столько обид.
И вдруг стала ходить. Даже подарки принесла. Днем в воскресенье две футболки. Большую черную, икс-икс-эль Игорю и красную эску матери. Алка, всегда поднабиравшая в своих залетах, подопухавшая, немедленно вытащила коммунистического цвета тряпку и саркастически не надевая, приложила плечи к плечам.
– Что, коротка кольчужка? – спросила, поворачиваясь к Игорю. Это был час, когда утренняя мелкая дрожь уже оставляла ее, вернее, Алка овладевала подлой, переводила из постыдного, неуправляемого в нечто как будто бы уже самой инициированное, и потому, наверное, приятное – такое общее покачивание, волнообразность всего, что составляло ее тело.
– Свинья я у тебя, жиртрест?
Игорь знал, надо говорить. Как-то отвлечь жену, куда-то увести, забрать скорее этот обрывок юности, что неизбежно вызовет истерику у жизнь прожившего, больного человека. Игорь все знал, но не мог.
Он смотрел на красную ткань, растянутую Алкиными пальцами, и молчал. На груди в желтом контуре рыцарского щита была все тем же дешевым пивным штампом вытиснена птица с толстенным клювом, мелким хохолком и по линейке расчесанными сверху вниз крыльями. Под птицей желтый едкий хмель лепился в слово Deutschland.
– У тебя точно такая же, – все вечно понимая не так и сикось-накось, быстро сказала дочь, – точно такая же, только черная. Толя специально для вас с мамой привез.
– Откуда? – глупо пробормотал Игорь. – Какой Толя?
– Ну боже мой, папа, что значит какой Толя? Ну мой конечно, Анатолий Шарф, ты ничего и никогда не слушаешь, я же тебе говорила, он ездил на три недели к своим в Аугсбург, позавчера вернулся… Я думала, вам приятно будет знать, что он о вас там помнил… Мама, давай. Пока положим в шкаф, а летом будешь носить, сейчас чего, вечно они при плюс пятнадцати на улице отключают батареи в доме…
Алка послушно возвратила дочке подарок Толи Шарфа. Настя аккуратно сложила на улице, наверное, у вокзала в последнюю секунду приобретенный юбер-аллес и, запихнув в пакет, как-то на удивленье ловко его запечатала. Игорь подумал, что перегарной истерики сейчас не будет. Все обойдется. А вот избавиться от этой нордической чувырлы, орлицы, которая в любой момент может теперь с полки скользнуть и распустить, в нос ему сунуть свои расчесанные крупным гребнем крылья, так просто не удастся.
Если, конечно, Настя и дальше собирается являться. И наводить время от времени порядок в семейном платяном шкафу.
* * *
Во вторник утром Игорь столкнулся в коридоре с Запотоцким. Обычно Олег Геннадьевич по первому этажу не гулял и уже тем более сам лично не наведывался в техническую службу. Если Потапов нужен был, то вызывал к себе. Наверх.
А тут он вышел прямо из каморки админов и вид имел при этом явном сбое всей системы управленческой субординации очень довольный:
– Ты уже видел? – и даже это его вполне обычное без посторонних, с глазу на глаз тыканье показалось сегодня каким-то особенным и даже неожиданным. – Ты уже в курсе?
– Чего?
– Какие лохи эти фрицы!
– Да что случилось?
– Наш Шейнис немцу вдунул свечку, – лицо гендиректора при этих словах внезапно осветилось, как от зажженной кем-то ловко и подобострастно под самым его подбородком спички. – Ночью подломил фашистский сервер и всем сегодня с утра демонстрирует, какой там срач.
Это поразило Валенка. Ему казалось, что Запотоцкий давно и с радостью забыл все то, что умел и знал, в ту пору, когда его настольной книгой был томик Кернигана и Ритчи издательства «Финансы и статистика». Какой-то даже тайной дохнуло в коридоре, обратной стороной Луны. Родною, легкою бабочкой с трепещущими радужными крыльями.
«Да неужели же он что-то может понимать в конфигурациях и логах? Что правильно там и что неправильно, просекать и даже получать при этом удовольствие? Этот холеный выжига и циник, у которого душа не нечто, как у всех, мистическое и непредсказуемое, а точный инструмент для ловли чужих душевных волн, катушечка с магнитиком тонкой подстройки для безошибочной, рациональной, прагматической манипуляции подопытными…»
– Там от Бурке, – продолжал между тем посмеивающийся Запотоцкий, – осталась целая папка цветоводческих мпегов и джипегов.
– И что же? – простодушно поинтересовался Игорь. – Он, Шейнис, вам это все скачал? Сбросил на диск?
– Зачем же, Игорь Ярославович? – Олег Геннадьевич с нежной иронией мента, поймавшего законопослушного водителя на мелком, глупом прегрешении, довольно улыбнулся и наставительно добавил: – Мы же не воры. Верно?
«Ну да, – подумал Игорь, – не воры, только сервак взломали…»
– Вопрос чисто технический, – словно и тут улавливая ход мыслей собеседника, продолжил Запотоцкий. – Статистикой вот с нами захотели меряться – значит, надежным должно быть средство ее сбора и накопления. Согласен?
– Ну да…
– И славно, сейчас Шейнис напишет подробную инструкцию этому их простодырому системщику, что там и как закрыть…
– Герман… – механически уронил Валенок.
– Что Герман?
– Системщика у немцев так зовут. Герман. Герман Капштык.
– Серьезно? – Олег Геннадьевич по-детски, хорошо и чисто рассмеялся. – Надо же, у немцев системщик Герман! Специально, наверное, искали. Три кадровых агентства на ноги подняли. Ни в коем случае не Кольку и не Петьку… Только арийские созвучья… Гер… ман…
Игорю показалась, что в глазах генерального даже вспыхнула звезда теплой слезы, но тут же и погасла, словно внезапной тучкою явилась в голову владельца ЗАО «Старнет» какая-то большая, настоящая, хозяйственная мысль.
– А вот ты знаешь, Валенок, что стоило бы безусловно у этих тевтонов выкрасть? Из чистого человеколюбия, на гуманитарных, оправданных любой моралью основаниях?
– Не знаю, Олег Геннадьевич.
– Азалию. Тот замечательный куст Бурке. Загубит ведь ее, наверняка загубит ваш казахстанский убогий Ганс Фаллада.
– Роберт Бернгардович?
– Он самый.
И странная мысль до самого конца этого дня не давала Игорю покоя.
Как просто все было убить. Покончить с этим. Ведь ничего не стоило и не мешало угрюмой рыбке Шейнису покоцать тексты, данные, программы. Снести к чертовой матери все, что обнаружилось бы в их всем ветрам открытой прусско-баварской сетке, и самый их сервер тоже начисто, под ноль. Освободиться. Но Леня этого не сделал. И он, он, Игорь, тоже никогда бы не решился.
* * *
Есть один месяц в году, когда Игорь готов ездить в Киселевск, в офис «КРАБ Рус», хоть каждый день. Возить им акты и счета-фактуры. Дней тридцать с последней недели июня до первых чисел августа. И не потому, что это самое легкое, самое беззаботное время для водителя. Даже дожди – большая редкость на жаркой вершине лета в Западной Сибири. Сцепление с дорогой и круговой обзор – учебно-показательные. Не едешь, а плывешь в среде специальной, дружественной, особо расположенной принять тебя с машиной и ласково нести. Нечеловеческая, птичья легкость.
И все-таки не в этом дело. Все то же самое можно сказать и про синусоиды холмов между животноводческим Степным и угледобывающей Карагайлой, где воздух в это время обретает такую невещественную, субатомную прозрачность, что хорошо видны зубастые хребты предгорий Алатау. Верблюды, каменные овцы там, на востоке, вдалеке, за сорок, пятьдесят километров от серой трассы. Или о зеркальной сабле Томи, внезапно открывающейся, когда дыханье перехватывает на взгорке у поворота к дачным Шевелям-Сарапкам, где бесконечная сплошная и вечные засады гаев в мареве полуденных теней у дальних, Смирновку стерегущих рощ. Все замечательно, предметы и явленья мира как будто замерли, стоят в каком-то вдохновенном, невероятном возбуждении, словно готовый, спетый хор перед вступительною нотой. Все впереди, все абсолютно.
Да, много замечательного в такое время между Южносибирском и Новокузнецком, но ничего не может сравниться с коротенькой и узкой лентой, отчаянно петляющей полями между березовыми каруселями и хороводами. Пять или шесть километров от Красного камня до АБК шахтоуправления «Филипповское», где пол-этажа занимает представительство компании «Крафтманн, Робке унд Альтмайер Бергбаутекник».
Там, где дорога уходит от однотипных железных крыш поселка местных нуворишей, за скромными, стеснительными березовыми купами, обыденность, с ее расписанностью всего и вся, рассчитанностью и предсказуемостью, просто перестает существовать. Некто безбашенный и бесшабашный земной ландшафт от горизонта к горизонту перекрасил какой-то фосфорической, взрывной гуашью. Мир превратил в лишенный логики и потому счастливый мультипликационный.
Сначала машина влетает в невозможную, невыносимую своею свежестью и искренностью желтизну. В плотную, наваристую пену рапсовых полей. Такую яркую, исполненную такою щедро натертой, горячей солнечной мелюзгой, что, кажется, не небо здесь освещает землю, а миллион цветочных чашечек искриться заставляют завязшие в его бескрайнем море березовые островки и делают прозрачными и осязаемыми нежные брюшки кучевых облаков, зависших низко-низко над лепестковым электричеством. И этот световорот, какое-то иррациональное, второе, третье специальное, данное уже зрячему прозрение, будит подкорку. То бессознательное, нежное и норное, что прячет от всех в себе, как мрачный замок, мозг. В каких-то тайных закоулках, тупичках, карманах – неубиваемую детскую надежду на чудо избавления и спасения. Его предчувствие, ломящее и скулы, и виски, как ягода крыжовника или смородины, которую слизнул с родительской ладони.
И вслед за этим, за секундой сладкого озноба, кисличкою самообмана, когда по логике вещей должно прийти, вернуться, привычное, бесцветное, коровье в своей тупости и неизбывности не чувство – понимание, нет, нету выхода, другого измерения, иной реальности, только дорога, петляющая в желтом, как отрава, поле, пять минут сна наяву и все, внезапно вместо этого второй переворот. Уже полное и окончательное торжество академика Павлова. Неконтролируемое, головокружительное слюноотделение.
Там, где из моря рапса выпрастывается высокая насыпь недостроенной и брошенной железки, за поворотом, за путепроводом, лишь контурно намеченным давно уже простывшим, заветренным бетоном, в глаза бьет другая крайность цветовой гаммы. Сиреневая ошеломляющая чистота. Набегает, расширяется и за серыми колоннами, подпирающими окаменевшие навеки сопли долгостроя, становится всеобщей и необъятной.
Это от края и до края земли, на сколько глаз хватает, цветет кипрей. Сибирский иван-чай. Самый фантастический, самый химический из всех цветов в школьном карандашном наборе, толстенький пряный грифель, который не затачиваешь никогда, поскольку знаешь: нет и не может быть ему, безумному, восторженному осколку радуги, какого-либо применения на белом повседневном свете. И вдруг все вверх тормашками – оказывается, вопреки всему и вся, стрекозье молоко, мед бабочек не просто существует под синим небом обыкновенного и будничного, он торжествует. Марсианский колер праздника затапливает, поглощает и обещает, обещает, обещает что-то в немолчном гомоне кузнечиков…
Похоже, они устроили гонки вдоль этих поющих цветочных стен, сказочных, сиреневых, взрывающих сознание. На узкой дороге с мелкой обочиной и закрытыми поворотами. Две старые «жиги» на скользкой, безо всякого уже протектора резине. Собственно, эти лысые колеса – первое, что увидел Игорь, когда на выходе из неземными огнями играющего полукруга наткнулся взглядом на перевернутый «универсал 2102». На асфальте жирно и ярко черным грифелем мертвых был выведен зигзаг – траектория движения и срыва. Кинетика смертельного кульбита.
При перевороте от удара хлипкие передние стойки схлопнулись и тонкий руль скривился от соприкосновения со вмявшейся в придорожный гравий крышей. Но человеческие тела или их части не торчали в железных тисках цвета молока с чаем. Похоже, и водитель, и пассажир еще в воздухе, в момент отрыва «универсала» вылетели через брызнувший на всю округу зелено-голубою, звездною росою лобовик.
Во всяком случае, впереди, в двух или трех метрах от убитой «жиги», на обочине кто-то лежал. А рядом стояли люди. Три человека, живые и невредимые, должно быть прибежавшие сюда из синей «трешки». Такой же, как и «универсал», старой прогнившей клячи. Брошенной там, дальше, метрах в пятнадцати от места ДТП, с мордой, нырнувшей сходу в буйный, всевластный здесь кипрей, кислотно-щелочное море, наплывшее, не только насевшее сейчас же на капот, но тут же хищно плеснувшееся в темные проемы раскрытых настежь во все стороны дверей.
Накатывая совсем уже остаточным, медленно замирающим ходом, Игорь увидел возле того, кто был распростерт на сером гравии обочины, еще одну фигуру. Какой-то парень покачивался, стоя рядом на коленях. Из-под короткого рукава его разорванной футболки по загорелому предплечью сочилась кровь и срывалась с локтя темными шариками на землю. Широкая багровая ссадина цвела на лице от виска до подбородка. Ему надо было помогать, но ни стоявшие над ним, ни сам землей и кровью перепачканный человек не думали об этом. Все только смотрели. На серое, цвета дорожной мелкой пыли лицо лежавшей навзничь девушки. Вокруг нее не было крови, но и в ней самой, в ее теле, казалось, тоже не было ни капли. Вся она, лицо ее с закрытыми глазами, шея, и руки, и волосы – все, что увидеть можно было, казалось болотно-пепельным. Цвета сварившегося мяса. Она не двигалась и не дышала. И лишь ладонь медленно проходилась по ее как будто бы подернутому тончайшей ряской плесени лицу. Убийца гладил убитую. Крепыш, расквашенный, разбитый ударом об дорогу, который возле неподвижной девушки качался, стоя на коленях.
Никто им не был нужен. Игорь зря притормаживал и зря глазами искал на обочине пятачок, где бы приткнуться. В этом месте дорогой распоротого буйства иван-чая, в этот момент и час, интимный во всех смыслах слова, он был бы здесь столь же бессмысленен и неуместен, как стрекотавшие вокруг на всю катушку полуденные прямокрылые.
И только когда эта нестерпимая своей последней неподвижностью и замкнутостью на саму себя картина простыла в зеркалах, вся скрылась за яркой неорганикой кипрея, Игорь притерся наконец-то к тонким плотным стеблям, зажег аварийку и позвонил ментам.
– На четвертом километре отводки? – уточнил дежурный.
– Да, в поле, – подтвердил Игорь, – тут, рядом с АБК «Филипповской»…
– Знаем, – сказал в ответ усталый гай, – уже послали экипаж, вы третий, кто сообщает…
Третий. Игорь минуту постоял, завелся и медленно поехал. Сквозь то, что теперь казалось просто вязким, тяжелым, бесконечным, как насморк, киселем. Туда, где сквозь редеющие заросли уже белели, поднимаясь к небу, прямые углы зданий АБК, ремонтного завода и круглой, от всех отличной, украшенной лихими красными кольцами трубы котельной.
Катился, словно по инерции, и думал, все время думал о том моменте в жизни всего сущего, может быть самом чистом, самом отчаянном и немом, когда приходит внезапное и ясное, дыханье останавливающее понимание – никто, никто на этом свете уже ничем, никак и никогда тебе помочь не сможет. Ты сам, один, и больше никого.
* * *
На парковке у АБК шахтоуправления «Филипповское» колбасился едва ли не весь наличный персонал ООО «КРАБ Рус» во главе с лично Робертом Бернгардовичем. Предметом всеобщего внимания и интереса было авто со свеженькими номерными знаками. Корейское нечто, спереди похожее на обмылок акулы, а сзади на бритого ежа.
– Здравствуйте, – сказал Игорь, подходя к компании ценителей и экспертов.
– А, это вы… Здравствуйте, здравствуйте, – Альтман не просто обернулся, он улыбнулся широко, приветливо и первый протянул Валенку руку. Физиономия его светилась матово и нежно, как теплый лечебный парафин.
– Ну как вам? – при эти словах директор российского представительства немецкого концерна что-то такое в воздухе нарисовал ладонью, должно быть призванное повторить элегантный контур недорыбы-полугрызуна цвета серебряный металлик.
Игорь подумал, что среди набора непристойно звучащих для русского уха брендов и марок – «ниссан», «пассат» – этот «ссанг-йонг» – что-то особое в своей напыщенной, самодовольной вычурности. Какой-нибудь исконный немец, тот же Бурке, конечно не мог и не должен был, наверное, ухватывать и понимать издевку и насмешку этих свистящих, неизбежно в воображении рождающих шипящие, но Альтман, карагандинский уроженец… Экий, действительно, слепоглухонемой болван…
– Автомат? – с ответною улыбкой поинтересовался Игорь.
– О да, полный пакет, – обрадовавшись встрече с понимающим человеком, от удовольствия зацвел, зарделся Альтман.
– Ваша личная или компанейская?
– Компанейская, кончено.
– Тогда немного странно, – осторожно, ни на секунду не переставая радировать весь обязательный светский объем дружеских чувств, добавил Игорь, – все-таки немецкая компания, и вдруг продукция корейского автопрома?
Разочарование Альтмана ярче всего выразила его русая эспаньолка. Она блеснула.
– Вы, может быть, в сетях и разбираетесь, Игорь Ярославович, а в машинах, как я вижу, нет.
– Из чего это следует?
– Из того, что это на самом деле «мерседес».
– Правда? – так искренне и просто удивился Игорь, что Альтман его немедленно простил и что-то потом долго залечивал про эксклюзивную лицензию и фирменный надзор за качеством.
– Ну что же, поздравляю, в таком случае, – Игорь еще раз пожал Роберту Бернгардовичу руку, – Европа по азиатским ценам – это действительно разумно.
А вот у Бурке был «бимер». Старый, но настоящий, с собачьим хищным носом радиатора и волчьими раскосыми глазами фар. Пригнанный еще из Германии, как часть стартового капитала компании «КРАБ Рус». Такой до капли весь оттуда, что полное название его, казалось, должно было звучать, как-то особо неуклюже и тяжеловесно, не просто «бимер», а «бимервельде» или даже «дас бимервельдештурмбанштюк». Потому что и сам Вольфганг Бурке был настоящим, подлинным «штурмбанштюком», а Роберт Альтман – так, пародия. Недостойная даже и шуточного «опфеля». Консервной банки на колесах «континенталь». «Континентальмайер».
Но почему же тогда, почему, Игорь Валенок, сам пародия на собственного отца, карикатура, ненавидит эту шестую карагандинскую воду на двести лет как волжском, русском киселе, с такою несмешною силой и такою убийственною неизбежностью? А главное – зачем?
* * *
В начале августа тайна внезапно вспыхнувшей привязанности и теплоты открылась. Дочь, Настя, оказывается, решила выйти замуж. За немца. Сменить потешную нездешнюю фамилию Валенок на столь же анекдотическую чужеродную Шарф.
Но это лишь полдела. Полшага. Сама по себе перемена гардеробной классификации вовсе не была смыслом или целью этой затеи. Замужество рассматривалось исключительно и только как средство. Уехать. Уехать навсегда.
Три года все-таки жила надежда, что этот Анатолий Шарф, водитель машины скорой помощи, с двумя немного начатыми высшими образованиями, – какой-то промежуточный, временный вариант. Все-таки детей не было. Не было внуков. Но именно это, отсутствие потомства, как выяснилось, вовсе не аргумент защиты, а в точности наоборот, номер один нападения. Едва ли не основание всему, императив.
– И в любом случае, время рожать, а это можно и нужно делать только там.
– А ты что, собралась?
– Ну, двадцать шесть, чего ж тянуть-то дальше? Блин, пора. Самое время, папа.
Когда она сказала это, Игорь невольно скользнул глазами по ее фигуре. Настя стояла вполоборота, мыла посуду, а Игорь сидел напротив за кухонным столом – лучшей позиции для визуальной оценки и прикидки не придумаешь, но ничего прикинуть, тем не менее, не удавалось. Кругленькая, пухленькая дочка не выдавала своих секретов. Есть уже что-то или нет, само решенье принципиально принято.
И сразу вспомнилось, как это тут же обнаружилось у невесомой, гибкой Алки. Довесок. Кулачок, толкавший ее смуглый маленький пупок вперед, как лампочку. Казалось, он и вправду светится, этот глазочек со складочкой внутри, такой похожей на нить накаливания. И в это верилось, когда в ночи стыд всю свою жизнь перерабатывавшая в смех и безрассудство, пузатая жена легонько терлась о его щеку жарким футбольным подбрюшьем и спрашивала хитро:
– Тебе журнальчик принести на сон, или свисток в игре?
В игре, в игре, конечно, черт возьми…
А между тем, дочь на него смотрела через плечо и усмехнулась. Обыкновенно, как полагается в подобной ситуации по всем законам и правилам естественного распорядка природы и вещей. Со снисходительным высокомерием, с мягким презрением. По-женски.
«Но, черт возьми, – подумал Игорь, – какая разница, какая разница. Алка всегда поглядывала как высшее существо, богиня, а дочка – так, как следует соседке, с неистребимым запахом капусты, пшенки и пригоревшего обеда».
– Мы бы хотели двух, – сказала Настя, – погодков, мальчика и девочку. Ну или как там получится. Но сроки в любом случае, сам понимаешь, буквально поджимают, тележиться не стоит больше. Зимой будем отчаливать.
Зимой… отчаливать… и это декларируется, не обсуждается, не дискутируется. Решение принято. Осталось только довести до сведения всех так или иначе заинтересованных лиц. Что сделано с обычной, привычной для дочери судебно-медицинской прямотой.
– Ах, вот как… а я-то все не мог понять, что случилось, с чего ты вдруг стала захаживать, возиться с мамой, со мной разговаривать… ты хочешь нашего благословения… ты совестишься что ли, не пойму…
– Ой, да причем здесь совесть, папа, блин? – дочь выключила воду, вытерла руки и села напротив Игоря. – Мне жалко вас, вы такие… такие с мамой…
Она задумалась, остановив рассеянный, несфокусированный взгляд на лице Игоря. Но даже и в эту секунду какой-то странной теплоты, какой-то неосознанной, глубинной нежности ее глаза, как и все прочее, были вполне докторские, с зеленоватым бесстрастным хирургическим оттенком, не зря училась, дипломированный специалист.
– Такие неприспособленные, – наконец нашла нужное слово, – такие слабые, нежизнестойкие…
– И ты давно это поняла?
– Давно, – вдруг с вызовом бросила Настя. – Ведь вот скажи вам, предложи: когда устроимся, вы переедете к нам, к детям, к внукам, – ты что ответишь?
– В Германию?
– Да.
– Нет. Никогда.
– Вот-вот. И мама, я знаю, скажет то же самое, хотя как раз ее, быть может, там… там, с их методами… и, кстати, бесплатно…
Игорь вскинул ладони, пытаясь остановить слова. Дочь замолчала. Такая безнадежность, такое глубоко и ясно осознаваемое бессилие, такое родное, близкое осветило ее лицо, что Игорь невольно протянул ей руку. Настя схватила мягкую и влажную отцовскую своей легкой и теплой, как-то нелепо улыбнулась и с гордостью сказала:
– А Тиль уже полгода ходит на курсы немецкого в областную библиотеку, и уже даже ничего, мог говорить там, объяснялся в Аугсбурге.
– Тиль? – не понял Игорь.
– Ну да, свои, они его там так зовут, Анатолий – Тиль, получается.
Игорь внимательно посмотрел на дочку, но поинтересоваться, а как же они там, свои, будут звать ее, Настю, Анастасию Игоревну, так и не решился.
* * *
– Алеша, ты помнишь дороги Смоленщины?
Эти странные, как будто кем-то когда-то посеянные в голове, но потом напрочь забытые слова в памяти Валенка воскресил Запотоцкий. В ту первую поездку к немцам. Совсем давно.
– Почему Смоленщины? – невольно удивился Игорь.
– Ну, просто, типа стишок о могилах у дорог, – слегка подумав, хмыкнул генеральный. – Вишь, сколько их, справа да слева. Любим погонять.
Потом, когда уже за годом год самостоятельно мотался с севера на юг и с юга на север, эта фраза, как приговор, всегда и неизменно всплывала, напоминала о себе, на том же самом однообразном, долгом участке ленты Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк. Какая-то и впрямь здесь аномальная частота прощальных знаков, поминальных вех, отметин между Терентьевской развязкой и Краснобродской.
Есть старые, советские кладбищенские стелы на конус в нищенской пузырящейся чешуе масляной краски с мелкими фото на эмалированных овалах или без них, есть современные железные кресты с ажурными цветками законцовок или однообразные мореного дерева, разнящиеся только набором и количеством разновеликих поперечных перекладин. Как правило, стальные, каменные, деревянные не навязываются, стоят в траве обочин, но попадаются и гордые, с надменным вызовом: вот, например, перед Прокопьевском на самом лбу высокого откоса руль на штыре, а сверху над баранкой приварен мусульманский полумесяц. Но больше всех скромных или назойливых Игоря трогала обыкновенная береза. Беленький одинокий ствол в поле, метрах в тридцати от дороги, где-то между Прямым Устькатом и Устькатским. Нежное дерево, совсем молоденькое, с привязанным к стволу искусственным венком. Грубый, насквозь уже пропыленный зеленый пластик с выцветшей черною лентою-удавом, из-под которой выползли и сдохли на свету мелкие красноватые, давно поблекшие глазки искусственных цветов.
Вот уж действительно: ты помнишь Алешу? Хоть кто-нибудь помнит, один-единственный на белом свете, этого Алешу, простившегося с миром на дороге?
Ну а здесь относительная чистота. Между Грамотеином и Полысаевом. Не больше одного-двух знаков дорожной похоронной геодезии на десять километров. Да и те не разглядишь в дождь. Библейский августовский ливень, что вознамерился, словно стахановец, норму сорока дней всю без остатка влить в узкое горло сорока минут.
Не видно просто ничего. Черные дворники откидывают пузырящееся водное сало с лобовика, как непокорную и мутную, тут же назад спадающую на глаза челку. На заднем стекле вода кипит, взрывается разнокалиберными пузырями, саму себя ежесекундно подъедая и порождая снова. А в зеркалах роса и синева. Не помогает даже включенный зимний обогрев этих ледышек – и правое и левое, оба, рябые и непрозрачные.
И потому свет, набегающий сзади, не отражается, а плывет, текут две солнечные капли среди моря лунных. Крупные, стремительно растут и накаляются. Кто же это может гнать в такую погоду, в этом обвале всего неба, в эпицентре светопреставления?
Есть, конечно, удивительные, штучные автомобили, в механическом паспорте которых в наличии все буквы из земных и марсианских алфавитов ABS, EBD, ESP и даже какие-нибудь ASR, но чтобы при всем этом вооружении не пошли колеса писать по дороге кривые бессвязные каракули из языка мертвых, обязано быть хоть какое-то подобие сцепления. Что-то должно оставаться от трения качения, а в дождь, в кромешный ливень, особенно здесь, на этом куске трассы, с пятном контакта резины и асфальта особенно плохо. Залитая водой, расхлябанная колея, которую годами проминают тяжеловесные фуры, дневные самосвалы с углем и ночные тралы с негабаритом, колеса превращает в крылья.
Удар словно под диафрагму, дыханье перехватывает, и на секунду возникает ощущенье невесомости руля, педалей, всей машины, аквапланирование, мгновение, когда между резиной и асфальтом подушка жидкости. Пузырь. Лягушка. И нужно не дышать, не шевелиться, чтобы прорезав, продавив эту темную ртуть момента, колеса встали, ткнулись в дорожное покрытие, ровно так же, как шли до этого, ни на йоту, ни на градус не отклонились, не ушли ни вправо, ни влево.
А вот у человека, который настигает Игоря, горячим желтым маслом затапливая ладошку левого зеркала, какие-то свои, еще неведомые в этой части водой внезапно накрытой суши и азбука, и физика. Он прошивает стену дождя, словно чугунная шар-баба. Раскидывает струи, как утюг. Прет, все лишнее просто выдавливая из банки пространства. Накатывает и накрывает весь левый бок машины Валенка, капот и лобовое пудовым извивающимся, пенящимся буруном. Обваривает и уходит вперед, за собой оставляя, как след от самолета, спиралью вертящуюся, воронкой разлетающуюся бурю капель, на дне которой то тонут, то выстреливают три черные цифры 777.
Снова увидел Игорь этот номер буквально через пять-десять минут, когда уже из водного бешенства вынырнул в его широкий, плотный, но мелкий, дробный водяной ореол. Лоб в лоб летели, навстречу двигались ливень и «лансер» и наконец-то разминулись. Справа, вдалеке, за полосою леса толстенной, жирною небесною аортой выгнулась радуга, а прямо по курсу в центральную опору виадука вклеился автомобиль. Удар был такой силы, что бетонная колонна вошла между дверями в стальное мясо «Санта Фе» до середины кузова и тут же изогнулась, словно от боли. Как будто разорванный салон, вцепившись, подобно огромной паре челюстей, тысячей мелких и больших зубов в цементную бесчувственную плоть, заставил ее на миг ожить и тут же умереть.
Следом за Валенком остановилась на обочине какая-то «газель», за ней еще и «шевроле авео», но, возмущая лужи и перепрыгивая через куски металла, разбросанные на дороге, как скорлупа фисташек после махаловки в пивной, Игорь первым подбежал к искореженному внедорожнику, насевшему на столб всей массой полуторатонных ножниц. И тут же отпрянул. Буквально ошалев.
За мелкой паутиной растрескавшегося, волною побежавшего стекла, над местом, где должен был бы сидеть водитель, прижатая раскрывшейся подушкой к безнадежно искривленной крыше, торчала мертвая собачья голова.
Потом картина как-то прояснилась. Стало понятно, что овчарка, скорее всего, сидела на месте пассажира и залетела в щель между водителем и лобовым стеклом в момент, когда корейский внедорожник сорвало и закрутило. Влетела в капкан руля и так там и осталась, облепленная белой покойницкой резиной подушки безопасности. Все просто, все в материальных рамках законов классической механики. Но первый шок, воспоминание о нем осталось.
«Так вот кто это все творит, ночами слепит фарами, а среди дня жестоко подрезает. Животные!»
Мост ремонтировали пару месяцев, а когда сделали, на новой стройной колонне объявился маленький венок с табличкой, но только Игорь ни разу так и не остановился, чтобы посмотреть, какие строчки там гравер проел своим резцом в назидание потомкам. Два имени или одно? Собачье или человеческое?
* * *
В субботу Алка неожиданно сказала, что хочет поговорить с родителями Игоря. Это было и странно, и необычно. На кладбище она ездить не любила, как не любила все так или иначе связанное со смертью, небытием. Была лишь неизбежная обязаловка двух годовщин и генеральная уборка в начале мае.
И вдруг внезапно утром выходного дня, вернувшись из киоска с початым «ягуаром», стала будить, прикладывая еще прохладный, влажный бок черной банки к щекам и носу Игоря. Банка елозила и вздрагивала, и ощущенья были крайне неприятными.
– В чем дело, Алла?
– Мне надо что-то сделать, такого со мной еще ни разу не было, понимаешь… Такого еще ни разу не было… Мне срочно, срочно надо что-то сделать…
– Сейчас… сегодня?
– До вечера… до этой ночи… У меня судороги, уже вторую ночь, под утро, всю крутит, рвет, как будто я рожаю, понимаешь, всеми частями тела сразу. Желудком, легкими, глазами, жопой…
– Но что?
– Что-то такое, чего я никогда еще не делала, чтобы… Ну, было как заклятье, заговор, печать…
– А именно?
– Давай на кладбище поедем.
– К твоим?
– Нет, к ним нельзя. Они, ты знаешь, пафосные дураки… Бессмысленно. Хочу к твоим… Они поймут…
Игорь привстал и посмотрел в слипающиеся, страшные мешки со щелочками, за которыми только угадывались давно исчезнувшие, всегда живые, блестящие глаза его жены, и подумал:
«А может быть, оттуда, где заговор, заклятие, печать… Оттуда она захочет, согласится сразу же на капельницу ехать. В “Ваш доктор”?»
* * *
Старое кладбище все заросло. Тропинка натоптана, но справа от нее и слева лианы. Силосное буйство середины августа. Все мыслимые и немыслимые оттенки светло– и темно-зеленого, пересыпанные кашкой мелких цветочков. Белых, сиреневых и желтых. Тем удивительнее то там, то сям, как сблев, размазанные, беспорядочные круги и стрелки черной эмали, прямо по хлорофиллу, по пыльце, как будто кто-то шел, да не один, совсем недавно этой тропинкой, и пауков травил аэрозолем, и комаров топил в шипучем, мгновенно твердеющем тумане краски.
Чуть глубже в дебри, чуть дальше от дороги простую нечистоплотность подростковой дезинсекции сменяет чистая подлость. Два стеклышка с желтыми лицами, два водолазных глаза на древней стеле облиты едкой чернотой. Через три метра еще одно оплеванное надгробье, за ним другое.
– Что это? – останавливаясь рядом, спрашивает Алка, у нее сырые, липкие ладони, – у меня белка, что ли, началась? Черные мыши полетели?
– Нет, – отвечает Игорь, – это не бред, я вижу то же самое, кто-то тут шел недавно и прыскал краской в лица.
– Зачем?
– Не знаю, что-то кому-то хотел доказать.
Игорь замечает, что его собственные руки слегка трясутся. Могила родителей за кленами, за поворотом, но точно так же у тропинки. Правда, на валенковском семейном камне нет никаких изображений. Ни вклеенных, ни выбитых, лишь имена и даты. Больше ничего. Ничего, что побуждает к хулиганскому восторгу. Убийства, мести, безнаказанности? Быть может, пропустили, не высморкались походя на темно-красный с искрой гранит?
Нет, просто расписались. На отцовской, ближней к тропинке стороне, два слова, густо, поперек всего и на прощанье для броскости еще обведены черной удавкой, гусеницей-сороконожкой.
Игорь не знает, что сказать, он стоит у низенькой оградки, и молодая ветка клена тычется ему в грудь, как глупая домашняя собака шершавым носом. Проспавшая все, даже не гавкнувшая.
Между тем шуршанье листьев и стеблей за спиной стихает. И все на свете звуки концентрируются наконец в тяжелое, бутылочное дыханье Алки. Само ее маленькое обрюзгшее тело обозначает себя рядом с Игорем теплом, мелко дрожащим воздухом. Контакта нет, лишь грозовое, электрическое напряжение. И вдруг короткий, судорожный вскрик:
– Нет, мыши! Мыши! Мыши!
И следом, качнувшись, дернувшись, Алка прокатывается головой, плечом по боку Игоря, валится на колени и ее начинает мучительно, жестоко выворачивать в сорную, взволнованную шумом и движением траву.
Под кожей бегают зверьки, живот трясется и полощется, а голова ухает, как будто ниточкой привязана к желудку.
Через четверть часа, может быть полчаса, когда жене стало лучше, Игорь оставил ее на беленькой скамеечке, вкопанной на соседском участке. Вернулся к машине, припаркованной за дорогой, у большого хозяйственного рынка, похожего из-за обилия и беспорядка отделов, закутков, хозяев на лабиринт, и в первой же ячейке купил, не разбираясь, не прицениваясь, какой-то растворитель, губку, ветошь. И еще для Алки бутылку минералки в ларьке у остановки. Тяжелую, холодную.
Вернулся, а жена забылась. И все то время, покуда он возился, тер, драил, мыл, она спала, поджав под себя ноги и голову уронив на низкую жесткую спинку. И горькая слюна сочилась из уголка неплотно закрытых губ, тонкая детская сосулька, то набухающая, то обрывающаяся посередине. А Игорь с липкими, в черных разводах, грязными руками даже не мог встать и гадость эту смахнуть.
Когда Алка очнулась, то тыльной стороной ладони она мгновенно, инстинктивно все убрала сама. На камне же к тому моменту уже ничего не было, лишь сладкая вонь ацетона да черная кайма у ногтей Игоря, которую он все пытался оттереть, но ни черта не получалось.
Алка немного посидела, покачалась и неожиданно спросила:
– А как ты думаешь, они меня простят?
Потом оказалось, что речь шла вовсе не о родителях, Валенках или Гиматтиновых. Имелось в виду начальство ее дурацкого коммерческого псевдоуниверситета. Но даже осознание ошибки, тихая горечь разочарования никак не изменили той искренней убежденности, с какой он сразу, не задумываясь, ответил ей:
– Конечно.
* * *
Вечером это уже не были три четверти бутылки водки. Лишь только стакан вина. А рано утром Алка разбудила Игоря словами: «Ну что, веди», – и они отправились на капельницу. По утренней набережной, в мягких бесформенных клубах вселенского тумана. Едва ли не на ощупь двигались, не видя ничего ни впереди, ни сзади, но дошли.
* * *
А краска вокруг ногтей, угольный ореол не уходил, наверное, неделю.
– Что, Игорь Ярославович, никак ремонт затеяли? – спросил Валенка Полторак, как всегда с какой-то скрытой, еще ему неведомой, но сладкой самой по себе поддевкой.
– Да, что-то вроде этого, Андрей Андреевич.
– Это хорошо, хорошо, – пропели Полтаракана, и на густо конопатом рыле сволочи счастливо стал задваиваться мелкий горох.
– Просто замечательно, когда есть на что, – добавили Полтора рака, значительно додали, клубясь, цветя от вдохновения, от найденного так счастливо нужного развития темы. – Ведь вас Олег Геннадьевич не обижает, ведь так же, не обижает?
– Не обижает, – коротко подтвердил Игорь и просто встал. Всей тучей своих девяноста восьми килограмм навис над утонувшим в офисном креслице, бесформенным и скользким, как сливочное масло, Полтораком.
– Да, да, – встревоженные такой внезапной переменой освещения Полтаракана резко убрали улыбочку, прекрасно дрессированные веснушки на щечках сейчас же перестали размножаться, сверкать и прыгать. Остановились. – Заслуженно, вполне заслуженно… Это я не к тому, это я так, просто хотел…
Игорь не стал дослушивать, куда Полтора рака вывезет запасная кривая и острая сообразительность трясогузки. Взял ежедневник со стола, сжал угол подушечками пальцев с мелкой дробью въевшейся краски и вышел. Совсем уже близко от скользкой, всегда подрагивающей, скребущейся, сучащей всем, чем можно, рыжей материи пронес свое грозное, тяжелое, большое, как куль увесистой и крупной бульбы, тело.
* * *
А еще Алка ему дарила необыкновенное и праздничное чувство чисто физической легкости. Игорю Валенку, с рождения мешковатому, плотному, неуклюжему, всякий раз после возвращения из Золотой долины, после походов на Зубья начинало казаться, что все подошвы его городских ботинок на пружинках. И сам он – закругленный, обтекаемый, необыкновенно правильный, даже изящный аэродинамический объект. Пять килограмм, как минимум, слетало за две недели, а как-то раз и семь.
– Окружность схожденья приблизилась к расчетной, – смеялась Алка, фиксируя успехи самым бесцеремонным, но верным способом измерения. Приклеиваясь утром голым животом к его голой спине, а руки замыкая бубликом впереди. Выходило, как будто бы сошелся узкий аэрофлотовский ремень перед посадкой или взлетом.
– На рейсах нашей авиакомпании курение запрещено в течение всего полета, – счастливо объявляла, – имей в виду!
И через секунду, словно наездница, легко на всем скаку ныряющая с крупа под брюхо цирковой лошадки, уже оказывалась на Игоре, а он менял неизвестно как и почему, но так же моментально вертикальную ориентацию на горизонтальную, под ней. Сидящей сверху, готовой к новым контрольным оценкам и замерам.
И всегда, о чем бы речь ни шла, о диаметре или периметре, о сантиметрах, метрах, миллиметрах, – это было близко. Вплотную, тесно, неразъемно. А теперь, даже когда они оба в порядке, лежат рядом, вместе, под одним широким общим одеялом, между двумя телами пропасть. Черная пустота. И счастье – лишь мысль, сон о самой возможности соприкосновения. Судорожного, молниеносного, как тогда, много-много лет назад на Кие, когда и вес, и габариты Игоря вдруг оказались невероятным, удивительным, спасительным достоинством.
* * *
Все тогда было сделано не так. Не две недели, а всего лишь суббота с воскресеньем. Поездка выходного дня. И не на юг, на небо, в горы, а к северу, к воде, на реку. Где все привычное зеркально отражается. И не вдвоем, а с целой большой компанией. Туристы-водники, какие-то невероятно в себе уверенные люди с кафедры высшей математики. Все уговаривали Алку под сурдинку на заседаниях совета факультета попробовать:
– Детский маршрут… Московка – Макарак… Не сплав, а водная экскурсия… Ну как же можно хотя бы раз в жизни не увидеть Белокаменный плес… пещеры, гроты, водопады… да просто Кию…
Морские волки, черти полосатые:
– Да зачем вам эти жилеты, устанете чесаться при такой жаре и гнусе… река тут шириною в два плевка, а шивер безобиднее стиральной доски…
Наверное, возможно. Когда два опытных, бывалых человека коротенькими веслами легко, непринужденно выгребают, то вправо ухая нос лодки, то влево, между камнями, своею одинаковостью, плотностью, порядком невероятно смахивающими на кнопочки трехрядки. Реки-гармошки, тальянки, немного нервно, с вызовом, но с удовольствием, красиво журчащей, вечно переливающей из пустого в порожнее.
И всем так весело в этой кадрили, лихо заворачивающей между больших и черных лбов, и уже обещание звучит:
– Сейчас пройдем порог и все, вы будете махать лопатами, Игорь и Алла, а то, наверное, стыдно вот так вот пассажирами прохлаждаться…
Под перемигивания, усмешечки, какой-то легкий недобор угла, неточный выбор траектории, пять градусов не в створ, немного лишних сантиметров не туда и скользкий капрон веревки, на которой тянулась, маневры повторяла, привязанная к корме грузовая лодка цепляется за выступ речного камня. От этого лодочку с манатками, мешками, рюкзаками сейчас же разворачивает, и ее плотная зеленая резина наглухо запирает речные узкие воротца, буксировочная веревка, в одно мгновение став якорной, отчаянно дергается и опрокидывает все и всех в весело пляшущую хищную пену.
Вначале Игорь даже и не понял, за что и как схватился, как оказался на ногах и удержался, стоя по шею в шуме и грохоте. Мимо головы ядром пронесся, тут же канув, исчезнув в кривых волнах, чей-то оранжевый рюкзак. Над головой, крутясь зеленым винтом, ахнула темная тень лодки и радостно, явно порожняя, блином запрыгала в сторону берега. И только после этих ошеломляющих, как пушечные выстрелы, самых первых свето– и звуковых эффектов Игорь не столько услышал, сколько увидел, почувствовал сопенье, фырканье и ощутил на шее груз.
Вцепившись тонкими, но жилистыми детскими руками в его широкий, совершенно неспортивный загривок, на Игоре висела Алка. Вода ее трепала и бросала, пыталась оторвать и утопить, как только что все шмотки, паспорта и жратву, но Алка не давалась. Держалась стойко, как флаг на мачте в шторм.
– Где они? Где эти? Ты видишь их? – орали где-то справа, слева, над всей рекой. Перекликались, перекрывая переливы струй и дробное биенье брызг.
Ответить, голос подать не было никакой возможности. Как не было возможности ослабить хватку, освободить хотя бы одну руку, чтобы подать, протянуть Алке.
– Ты как? – беззвучно прокричал ей Игорь. – Ты как?
И по губам прочел: «нормально».
– Нормально! – и вслед за тем улыбка, улыбка, он это видел, улыбка, как неопровержимое, самое точное физиологическое подтверждение неслышимого, но бесспорного «нормально». Можем так час простоять, и два, и три – всю жизнь. Среди всеобщего безумия, на краю пропасти, может быть смерти. Вдвоем.
И никогда, ни до того, ни после, смысл собственного существования, жизни в этом большом и неуклюжем теле, с невидимыми никому бабочками, светлячками в укрытых крепкими костями закоулках мозга, не был так ясен и понятен Игорю. Держать. Что-то невероятно легкое и праздничное. Вечно куда-то улетающее, уплывающее, и только благодаря ему, большому, плотному, устойчивому, не навсегда, не насовсем.
Через час у костра Игорь впервые в жизни испытал острое и непреодолимое желанье ударить человека по лицу. Когда один из горе-водников, расклеив мокрые страницы паспорта Валенка и демонстрируя смытую Кией печать, до полной официальной неправомочности выбеленную страничку, с улыбочкой, подлизываясь, как и все в тот день, весело объявил:
– Да мы вас ненароком развели, друзья. Можете жизнь начинать сначала.
* * *
Еженедельная планерка у Запотоцкого текла на редкость благостно. Очень может быть потому, что утром босс обнаружил у себя на подоконнике над вечной густопсовой зеленью гибискуса сразу два розовых, больших, как блюдца, граммофонных раструба.
В просторном и светлом кабинете Олега Геннадьевича, на солнечной стороне, маленький куст в белом горшочке такие парашюты раскрывал все лето, ни никогда еще два сразу спина к спине на одном стебле.
– Стерео, – удачно и непротивно даже в своем холуйском неизменном желанье как-то начальству подмахнуть по части всякого овса и силоса схохмил Полторак.
– Да, – согласился Запотоцкий, сам розовый, как праздничное платье или туфельки, – уши что надо. И, между прочим, эпином всего два раза за все время прыскал. Можно сказать, все исключительно и только на собственных внутренних резервах. Учитесь, Андрей Андреевич.
Сидящие вокруг стола для совещаний в ответ захмыкали, заулыбались, технический директор Дмитрий Потапов, главный бухгалтер Анна Андреевна Расходнева, неудивительно, то глухое себе под нос, то явное, даже навязчивое нытье Полтаракана по поводу несправедливости зарплатой сетки, да и вообще системы материального поощрения в компании у всех на слуху. Так что щелчок ему по носу, да еще при заходе на подхалимский реверанс, кого же не порадует?
Один лишь Гусаков не проронил ни звука. Только скосил уголек глаза на Запотоцкого, блеснул белками и снова уперся взглядом в столешницу. То ли намек на личное и частное ему особо не понравился, то ли он просто знал, что день ему готовит, и потому судьбу не торопил.
Все без толку, от неизбежного в ЗАО «Старнет» не отгородишься ни подлинным, ни симулируемым аутизмом.
– Да, кстати, – под занавес собрания, ласково обводя руководящее крыло компании пытливым взором, спросил директор, – никто так, между прочим, не обращал внимание, за сколько, ну, например, здесь, в Южке, продаются наши карты доступа?
– Да я не между прочим, а попросту каждый день вижу в табачном отделе универсама, – сейчас же сообщил Потапов. – Сторублевая по сто десять, а трехсот рублевая – триста тридцать. Типа, линейная зависимость.
– Сто двадцать у меня на Радуге и триста тридцать, – без лишней лирики проинформировала Анна Андреевна Расходнева.
– Ну вот, – торжественно объявил Запотоцкий, уже не дожидаясь каких-либо других ответов, – потому что у нас во всех договорах что? Розничное превышение номинальной стоимости не более двадцати пяти процентов. А вот теперь вас удивлю. Был я в пятницу в Гурьевске, проездом, случайно завернули со строителями оптики, – так там сто пятьдесят и триста восемьдесят.
– Ну это наглость просто, – шишак волос на голове главбуха опасно и решительно качнулся. – Мы этому гурьевскому ООО «Игротека» даем аж тридцать процентов скидки с номинала. За то, что медвежий угол. За то, что продвигают…
– И я о том же, – уже просто ликовал директор. – У вас какое будет объяснение такому феномену, Борис Евгеньевич? Вы как-то контролируете исполненье договорных обязательств?
– Самоуправство, – буркнул Гусаков, не поднимая головы. – Я разберусь.
– Очень вас прошу, – язвительно заметил Запотоцкий. – И прямо сегодня, а то разберусь я сам, и не с ООО «Игротека», а с вашими личными играми…
– Это, считай, от сороковника до целого полтоса с одной карты себе в карман… – вдруг вымолвил Полторак; хотел, должно быть, про себя, но от невиданной, волшебной арифметики вышло даже не бу-бу под нос, а громко, вслух…
Взял вдруг и ляпнул.
– Что вы сказали? – мгновенно повернулся к нему Запотоцкий.
– Я? – Полторак зарделся. – Да просто вырвалось, не в тему, извините, так, думал о своем, забылся…
– Мне кажется, уже не в первый раз, – веско заметил генеральный. – Вам надо показаться невропатологу, попить каких-то порошков, не знаю, таблеточек… А то ведь с таким отсутствием самоконтроля не только не сбудется ваша мечта заняться розницей, вы и простые обязанности менеджера по продажам бюджетным организациям не сможете нормально исполнять…
Лицо Андрея Полторака такая залила густая краска, что растворила все его неугомонные веснушки. Он стал лиловым, фиолетовым, недельной выдержки покойником со вспухшей физиономией. Зато сидевший рядом с ним еще секунду назад выпотрошенный и высушенный Бобка Гусаков ожил буквально. И голову поднял, и засверкал очами, и даже какое-то подобие усмешки согрело его мертвенные губы. И никаких сомнений не осталось, что он решит все самым лучшим образом, сегодня же и, без сомнения, вообще полгода воровать не будет, а может быть и больше…
Выходя из кабинета, Игорь еще раз бросил взгляд на удивительный директорский цветник. Не только орхидея, которой с самого начала, с весны, пророчили один миг жизни, продолжала выбрасывать за разом раз новый акварельный зев, но и вот гибискус, взял да и двойную норму выдал. Стерео. Нет, не поспоришь, есть у него талант. Есть. У Олега Геннадьевича Запотоцкого. Простого сына секретаря сельского райкома КПСС.
* * *
С какого момента, с какой минуты все дни его жизни стали одинаковыми, неизменными, как номерные знаки начальственных автомобилей? Игорь помнил еще те времена, когда эти комбинации из виселиц и чисел – Т-три циферки-ТТ – висели на хорошо уже походивших восьмидесятых «ленд крузерах», а ныне это все больше новенькие сотые, «лексусы LX», «RX» и черные, похожие на бронированных жуков-навозников «шкоды октавия». Но то же заиканье, та же заевшая пластинка, ТэТэ, Тэ-Тэ, ТэТэ. А у всякой приближенной, но беспогонной шелупони, в ответ икота ООО, О-три циферки-ОО плюс номер региона. Яйцекладущие. Меняются год выпуска, цвет кузова, модель, а плашки, черное на белом, неизменны. Зимой и летом, весной и осенью. Тир, стрельбище, пистолетное ТТ и бесконечные круги мишеней ОО-ОО.
Когда все это стало символом безысходности, беспросветности? Неумолимости обстоятельств? Несгибаемости линий судьбы? В момент, когда он перестал надеяться, что это временно? Отпустит рано или поздно. ЗАО «Старнет», Запотоцкий Олег Геннадьевич и Половина таракана, равная Полутора ракам. Уйдет, исчезнет, испарится. И вновь к нему вернется спокойное достоинство доцента, кандидата технических наук. Человека, у которого дома есть книги. С закладками в виде открыток, фотокарточек, обрывков газетной полосы, салфеток, ножниц, ручек и карандашей. Меняющихся, чередующихся, вдруг уходящих и внезапно возвращающихся слов и формул, которые питают светящиеся куколки, рождающие огненные мотыльки. То самое, что превращает больших и неуклюжих Валенков, людей на вид ни рыба ни мясо, в волшебников, творящих чудеса, лишь только разреши им говорить. Читать, показывать и объяснять.
Наверное, конечно, все это немота. Осознание ее неразрешимости и вечности свело в конце концов всю жизнь к простому чередованию двух самых незатейливых геометрически, элементарных букв русского алфавита. ОО-ТТ. ТТ-ОО. Все ясно. Все понятно. Но почему и что мешает раз и навсегда смириться с этим? Согласиться?
Ответа нет. И неизвестно, нужен ли он, ответ, на самом деле? Даже ему лично, Игорю Валенку. Игорю Ярославовичу.
* * *
И день за днем, и день за днем плотнее делается, толще белая безвоздушная среда, которая затапливает мозг, как образцово единообразный, густой и плотный слой жира над красным мясом в банке тушенки. Кажется, умер. Спекся, как эта обреченная на вековой анабиоз говядина. Волокна, некогда сжимавшиеся, разжимавшиеся, горы сдвигавшие, моря. Оборваны, порублены, уложены, залиты, запакованы. Круглая банка в идеальной среде без трения может теперь катиться бесконечно, сколь угодно долго.
Но вот не идеальна, не совершенна среда, окружающая водителя, особенно в Киселевске, городе – лоскутном одеяле из районов, райончиков, кусков, кусочков, больших и маленьких плевков всех видов, форм, расцветок, и непонятно отчего, зачем вдруг тормозишь и останавливаешься. Где это, что? Штакетник, кусты сирени и крапивы, ночные искры угольной крошки на дневной земле… И голова щенка, уже изрядной, без пяти минут большой сизой собаки с губами черными и черной пастью немедленно просовывается в открытую водительскую дверь.
Вся ясно, все понятно. Дальние горы… Дзержинского, Толстого или Маяковского, кто разберется в этих горбах и заворотах? Да и не в географии дело чужих равнин, полей и рек, а в психологии, физиологии своей собственной. Просто заметил после полутора– или двухмесячного перерыва эту живую мерлушковую плоть, растущую, мужающую у дороги, и тормознул. Словно товарища увидел или признал. Как это в рюмочной, наверное, бывает у двух всегда сидевших в разных углах завсегдатаев. Время пришло узнать имя друг друга. И род занятий, и беду.
А щенок, большеголовый увалень, между тем толстыми, колбасными передними лапами влез на порожек и морду пыльную, зубастую сует едва ли не в лицо сидящему за рулем Игорю. Почему он такой дружелюбный? С рождения здесь, у дороги? Запомнил машину? Да нет, была другая. Значит, водителя, водителя, однажды объехавшего мать? Безмозглую серую суку?
«Глупости, – думает Игорь, – глупости, какая у него может быть память или беда? Полугодовалого, широкогрудого и крепконого, пахнущего ветром и сажей. Неправильное черное яблоко на шее. Пятно большое и два ассиметрично справа и слева на груди».
«Отмыть, – внезапно приходит в голову простая мысль, – выгнать глистов, привить… Конечно, это так просто, он сам в салон запрыгнет, только помани… И может быть… быть может, это окажется куда сильнее, куда надежнее заклятий и проклятий давно ушедших в небытие людей… живое существо в доме, постоянно, всегда… нечто надежное, такое, что не станет косметологом, не сойдется с шофером-немцем и не пообещает уехать зимой в Германию рожать детей…»
Игорю кажется, что он видит свое отражение не только в холодном масле собачьих глаз, трогательно обведенных темной каймой, но и на мокром медвежьем, прямоугольном, как молоток, кончике носа.
«А если это чья-то собака, чужая, окольцованная… Просто не ездить здесь больше никогда, отныне не вертеться в этих закоулках имени Олега Запотоцкого, а дуть по-валенковски прямо, всегда и неизменно прямо по улице Транспортной, переходящей в Ленина, одно кольцо, второе, и та же дорога на Красный камень…»
Внезапно на другой стороне узкой улицы, словно столкнувшись с поездом, отчаянно скрипя колодками и всеми углами жестяного тела, осаживается под знаком остановки местная маршрутка. И все. Мохнатый бочонок точно порывом ветра относит от протянутой уже к нему ладони. Еще секунду колеблется, еще глядят на Игоря блестящие, как солидол, глаза, но когда в довершение обвала с треском, как будто разрываясь пополам, раскрылась еще и гармошка автобусной двери, срывается. Уже не размышляя, большой щенок кидается прочь, вверх по кособокому плечу обочины. И только там, метрах в пяти, на взгорке, не разжимается клубок, а замирает. Весь слух и зрение.
После того как, дернувшись и взвизгнув в последний раз, маршрутка отвалила, Игорь не уезжал еще минут десять. Молчал и ждал, но пес назад не шел. Должно быть слишком уж ошеломляющей показалась прелюдия к человеческой ласке. Эффект протянутой к мохнатой морде, глазам, ушам руки.
Уже подъезжая к АБК шахтоуправления «Филипповское», Игорь подумал, что с Алкой такое никогда бы не случилось.
– Ты знаешь, – она, бывало, говорила ему с каким-то удивительным недоумением и жалостью, – есть вещи, которое надо делать быстро. Мгновенно и, главное, не думая, совсем не думая, а вот вы, Валенки, вечно в сомненьях, колебаньях, оценках. А так, чтобы раз, два, и все, не размышляя, махом, как это бывает у счастливых, легких людей, – нет, никогда…
– Ну объясни, ну объясни мне, почему ты такой пуд ума… пуд ума и ни фига не пистолет…
«И все-таки однажды… может быть… – решает Игорь, – почему нет, попытка номер два, ведь я маршрут свой не меняю, все так же буду ездить, как показал однажды Запотоцкий… Кутоново, Афонино и Дальние горы… Только с собою взять чего-нибудь съестного, его ведь наверняка прикармливают, что-то дают или бросают вот так же, остановившись у обочины… конечно, иначе чего бы он с такой готовностью кидался в случайную открывшуюся дверь…»
* * *
Когда он перестал интересоваться погодой? Смотреть на Яндексе, Гисметео? Осадки, сила ветра. Дневное колебанье температуры. Когда внезапно стало все равно, как путнику, завязшему навеки в невидимой на карте точке океана, что будет через час, два, десять, завтра или послезавтра? Все то же самое. Несокращаемое, несжимаемое, неизбывное однообразие. Всех мыслимых размеров, форм и наименований.
Когда он даже утром перестал с волненьем подходить к окну? Узнать, увидеть, что там? Дождь, гололед или же ветер, сгибающий, как шеи, верхушки тополей? Давно, очень давно. Тогда, когда в гостинице «Новокузнецкая» еще были коридорные на каждом этаже. В две тысячи четвертом или пятом? Что-то такое, наверное. И он, едва заехав в семь или восемь вечера, после внезапного звонка: «Папа, мамы до сих пор нет дома!» – в двенадцатом часу пошел сдавать комнату.
– Куда вы? Что-то такое прямо срочное? Вон в городе как воет, а на трассе, наверное, вообще пурга.
Пурга, и ночь, и стылая снежная каша вместо дороги от поворота на Костенково до сдвоенных радиовышек на Степном. Сорок километров, которые просто надо преодолеть. Закрыв глаза, открыв, мертвым или живым. Это не важно. Саму необходимость ехать, двигаться нельзя ни отложить, ни отменить, можно лишь выбрать степень риска. Ну, например, не обгонять в тумане.
В таком вот, как сегодня. Всеобъемлющем. Все затопившем после ночи, отменяющей бабье лето, с зябким морозцем на неровной почве и гладкой поверхности реки. Широкой, плотной, темной ленты Томи, которая, кажется, вся в трепетном порыве негодованья от перепадов температуры перешла в пар, как молоко из детской кастрюльки, полезла всей своей водой в небо, облаком стала, но не настоящим, а куриным, слепым и нелетающим. Повисла, застопорилась, расползлась по холмикам, заборам и ветвям, и будет теперь душить парною, сердитой спесью все окружающее до самого полудня, покуда солнце, желтое хамло, не загонит обратно в естественное русло.
Тяжко, дистанцию и расстояние пытаешься оценивать по теням, что возникают в отсветах и бликах от встречных фар. Совсем чуть-чуть. Пять метров, пятнадцать. Теперь все двадцать пять. А здесь, в низиночке, как будто лбом уперся. Стена, из-за которой встречная машина вываливается внезапно, словно соседский молоток, быстрее звука самого удара по гвоздю.
Нет, обгонять решительно нельзя. Но, между тем, именно это, несомненно, собирается сделать тот, кто уже минут десять держится сзади. Догнал, пристроился и быстро заскучал. Так хорошо и просто ехать на чужом хвосте. В створе мерцающих, не тонущих в бездонном молоке, малиновых габаритов. Но скорость… Полтинник, даже сороковник, такая черепашья, слепоглухая осторожность выводит из терпения. Выводит, раздражает, бесит, и это ощущаешь, физически, по тому, как сзади начинают подергиваться, плескаться, желчь фар то вправо утечет, то влево, то прямо на затылок накатится. Сейчас… И точно…
На взгорке, где всегда прозрачнее, где что-то можно различить или хотя бы представить с большою степенью правдоподобия или же соответствия реальности, нервные желтые пузыри сзади резко меняют ряд и начинают жечь уже на встречной. В сизой мутной влаге мимо Игоря проплывает ярко-красный «логан» с белой оренбургской крышей. Плотной, искрящейся в сегодняшнем мороке всех мыслимых оптических иллюзий, и в самом деле как будто бы пушистой шалью-шапкой.
Где-то он, этот «логан», всю ночь стоял, в каком-то открытом и сыром месте, если иней, просоливший всю округу, лег на его крышу не легкой серой пыльцой, а настоящим плотным снежком. Простояла, промерзла «реношка», и вот теперь наверстывает…
Летит. Благополучно выполнил маневр, встал перед Игорем и на спуске, на долгой, длинной прямой оба поплавка уже его габаритов стали быстро тонуть, захлебываться, растворяться в разъедающем все, поглощающем киселе раннего утра. Еще мгновенье, два и даже тень беспокойного «логана», последние искры его огней окончательно доест известковая муть. Проглотит. И хорошо. Игорь останется один. Пускай не в поэтической сливочно-кремовой башне, в глубоком соляном колодце, в едких парах и взвеси, но все равно один. Вне жизни, вне тоски. Людей и дел.
Он совершенно точно не тормозил. Умирающие глаза красных габаритных огоньков «рено» в последнюю секунду не расширились, не вспыхнули отчаянными ваттами. Просто весь иней с его крыши в одно мгновение сотней тысяч брызг прошил пространство. Прострелил десять-пятнадцать метров перед капотом Игоря. Как будто бы машина впереди не с металлическим мертвым препятствием схлестнулась, а с птицей. Сошлась на встречных курсах с огромной, ширококрылой и веером белых перьев засыпала дорогу за собой.
Игорь инстинктивно взял вправо, ушел на обочину и не воткнулся в красный замерший посреди полосы багажник. Встал рядом с человеком, который зачем-то, почему-то захотел забрать у него нечто ему, Игорю Валенку, предназначенное судьбой. Легко, по-хулигански вырвал из рук быструю смерть на дороге.
Остановился, еще раз изумился тому, что не въехал в мертвый зад чужой машины, распахнул дверь, выпрыгнул, выпрямился и увидел чертово месиво в холодной дымке, в белесой пелене мутного дня.
Фура на встречной упала набок и сошлась, скользя плашмя на полосе Игоря, лоб в лоб с «газелью». Потом, уже днем, все тщательно промерившие гаи сказали, что виновата была беленькая «Альмера» ударившая после обгона «газели» фуру в ведущие колеса. Сейчас же в тумане оврага угадывалась только тень неизвестной легковушки со смятой крышей, полузасыпанной каким-то коробочным товаром, прыснувшим из распоровшегося тента длинномера. Багровый «логан» с чистой теперь крышей, так лихо сделавший самого Игоря пару минут назад, заехал со всей дури под угол кузова криво после удара осадившейся «газели» и замер, прямо, ровно на вертеле заднего моста, оставив Игорю то, что и требовалось, то, что только и можно было пожелать – пару-другую метров свободной обочины, до свесившейся на нее, буквально, как белая папаха лихого воина, кабины несчастной полуторки.
Наверное, там были трупы, там были раненые, наверное, надо было бежать в эту кучу, еще горячую от превращения движения в одномоментное крученье, сжатие и разрыв, надо было, ему, каким-то чудом живому и невредимому, но Игорь только отпрянул, отшатнулся, потому что из подлой, дышащей, шевелящейся белой мглы на него надвигалась темная, неверная фигура. Огибая бок безнадежно искуроченной «газели», навстречу шел безумец с канистрой в руке. Второй, свободной, он толкал широкую шину, с хрустом, восьмерками катившуюся по придорожным камешкам. Вся правая сторона лица этого все четче и четче сквозь туман проявлявшегося человека была мокрым куском свежего мяса, а на груди мягкой серой олимпийки дымились бурые живые пятна крови…
– Подожги, – приказал незнакомец, тяжело оседая у ног Игоря, в изнеможении сдавая пост, – подожги…
– Что? – с недоуменьем спросил Игорь. – Там же люди…
– Я и говорю, люди, – устало подтвердил сидящий на земле. – Едут любители… не видят ни хера…
И завалился на бок, упал, даже и не пытаясь как-то рукою защититься, просто воткнулся чистой, нетронутой стороной лица в острые камешки. И тут до Игоря дошло. Ну да, конечно же, не видят ни хера… едут…
И его охватил ужас, дикий, панический страх того, что прямо сейчас из мятной, душащей, струящейся и вьющейся вокруг него пелены на полном бешеном ходу что-то чудовищное вылетит, слепое, безразмерное и разом снесет с дороги, воткнет, впечатает, размажет его же собственным несчастным «лансером» о красное, убитое «рено» или «газель»…
Теряя голову, Игорь схватил упавшую канистру, выдернул зажигалку из полуразжатой грязной ладони и волоком попер тяжелый запасной скат фуры по скользкой, неверной дороге. И только упав сейчас же от непосильного, нечеловеческого упражнения, свалившись прямо на асфальт и онемев, буквально захлебнувшись жутью теперь, как показалось, уже неминуемого и неизбежного наезда на лежачего… пришел в себя…
«Катить, только катить, как это делал тот… тертый водила, мужик, кержак… Скорей, скорей, двадцать, тридцать, сорок метров, достаточно, вполне… На разделительную, для всех, встречных, попутных… без разбора…. на белый пунктир… Вот так… Сейчас… Как зажигать этой пластмасской… Что нажимать…»
Прозрачная жидкость выплескивалась из горловины канистры на резину толчками, словно несвернувшаяся арктическая кровь… Пламя рванулось во все стороны как дикий выдох всей Африки… Игорю опалило ладони и лицо, и вспыхнул рукав куртки… Мгновенным резким инстинктивным движением он сбил огонь о собственную штанину, и это было последнее, на что оказалось способно тело, по крайней мере его правая половина… Все мышцы от плеча до поясницы скрутило и свело… И Игорь опустился, сел на асфальт, точно так же, как полминуты тому назад водитель фуры… Но только не упал лицом на серую, чуть серебрившуюся ленту, а извиваясь, дергаясь всей костно-мышечной системой, вдруг отключившейся, заевшей, отполз… Мучительными, жалкими рывками стащил себя с проезжей полосы на колкий, острый как зубы гравий обочины…
Потом ему много раз говорили спасибо… Все те, кто благодаря желтому огню и черному дыму не въехал в страшную, в тумане нагроможденную до неба гору железа. Остановились вовремя. Затормозили. Игорь кивал, что-то в ответ бормотал, а сам все не мог отвести глаза от накрытого брезентом тела дальнобойщика. Отпавшего, душу отдавшего у его ног. Смотрел и все хотел понять, был ли он в жизни счастлив, этот ни секунды не размышлявший, не думавший, что надо, водитель фуры. Во всяком случае, определенно, смерть его была легка. Легка, быстра и безболезненна…
А вот ему, Игорю, тугодуму, все медленно и трудно решающему, понимающему, такое легко и просто уж точно впереди не светит.
* * *
Алку брали обратно в ее фальшивое высшее учебное заведение, но только лаборанткой. Сидя на кухне и грея красные после улицы пальцы кружкой горячего чая, она говорила:
– По большей части работа та же самая, только платить будут в два раза меньше…
Игорь смотрел на ее молочно-серое лицо, с давно уже привычной парой внезапно проступающих румяных полумесяцев, от центра лба, через глазные впадины, по скулам к подбородку, и думал: «Дело, конечно, не в деньгах…»
В этом южносибирском филиале якобы московского экономико-правового псевдоуниверситета ей давали читать лекции. То, что не позволялось ни ассистенту, ни даже преподавателю без степени в нормальном Политехе, тут в виде исключения или особой милости ей разрешалось. И было счастьем, будило вдохновение, сценическое, родное Алкино. По крайней мере, в начале каждого семестра:
– Ты представляешь, явился сегодня этот тип, который весь месяц не ходил, в чем дело, спрашиваю, да мне не надо, отвечает, способности имею уникальные, другим, де, не чета…
– Точно?
– Совершенно.
– Ну идите, – говорю, – сюда, поднимайтесь к кафедре.
– Зачем?
– Продемонстрируете свою неповторимость.
– Как?
– Самым буквальным образом. Ногу, пожалуйста, поднимите… да-да, любую… можно и правую, конечно, можно… очень хорошо… отлично… а теперь вторую… нет, нет, не так… правую держим, держим, не опускаем… а левую подтягиваем к ней, ап, чтобы параллельно… Как так не получается? Ах, упадете… удивительно! Вот так вот раз – и на пол, если обе сразу… как все, выходит, вы устроены, мил человек, значит учиться тоже следует, как все…
– И что? Сидел потом на первой парте и конспектировал?
– Как миленький!
Потом, конечно, настроение меняло знак. С первыми контрольными, зачетами:
– Такая, знаешь, активная была, глаза горят, вечно вопросы задает… А тут простое дело, многомерные массивы, вы, что, не помните, какой пример, наглядный, повседневный, я приводила вам на лекции… Картонные контейнеры, лоточки для яиц…
Набычилась. Молчит.
– В чем дело? – спрашиваю.
Потупилась, надулась и вдруг выдавливает из себя:
– Я это слово не произношу.
– Какое слово? Яйца, что ли?
– Да, – отвечает. Тихо-тихо. Бог мой, какая дура.
– А есть – едите?
И все равно это была искра, педагогический дивертисмент, который Алку бодрил, держал. Заменял ей на месяц, два, полгода спирт. Перематывал ленту их жизни к несмятой, нерваной, чудесной цветной середине.
– А помнишь, как шли однажды, разувшись, по мху болотца вдоль Улугчула? Что-то сырое, теплое, играет под ногами, как будто бы под нами вдруг оказалась обнаженная полоска земного тела… Пузцо безо всякой одежды, без брони… и мы идем по нему живому, мягкому, босые…
– Ага, пух-чавк, пух-чавк… только, ты знаешь, это было не брюхо, а задница… пастозная задница, по щиколотку нога уходит в мякоть, пружинит, но никогда не тонет, толстая шкура…
– Толстая, думаешь…
– Да, у земли она очень толстая, даже когда голая… Не то, что у людей… А еще я думаю, что это не Улугчул был вовсе, а Малый Хунухузух… И знаешь почему? Потому что в Хунухузухе мы всегда набирали дикий лук… И в тот раз его набрали, много, как две жадины, и он пах… Прямо таки дышал на меня из рюкзака, из-за спины, пух – дунет, чавк – выдохнет…
Запах дикого лука. Сосновой хвои, озерной воды… Сколько других запахов Игорь узнал с тех пор. Когда дунет, вдохнет или выдохнет его Алка, его некогда легкая, быстрая, неугомонная, как бабочка или стрекоза, жена. Как может пахнуть или выглядеть она, Алка Гиматтинова, на втором месяце запоя…
Но сейчас она ничего. Ничего. Только вот слабенькая, после всего едва живая. Сидит и греет тонкие пальцы теплым фарфором кружки с чаем.
– А еще она мне сказала, что время покажет…
– Что покажет?
– Ну, можно ли мне опять что-нибудь дать, кроме практических занятий и, соответственно, другой ставки…
– И что ты думаешь на этот счет?
– Думаю, что все хорошо, время покажет…
– Почему?
– Потому что я хочу, чтобы Настя уехала легко…
– В Германию?
– Да, со своим Шарфом-Гардеробом… Пусть едет с мыслью, что мать завязала… Надолго, крепко, может быть навсегда… Третье кодирование помогло… В конце концов… Пускай легко отрежет, просто, зачем ребенку чувство вины? Это ведь наше, только наше… Твое и мое…
Игорь долго и молча смотрел на нее. На Алкины руки, совсем не изменившиеся, не ставшие ужасными, как, например, ее лицо. С мешочками и ямками, глубокими морщинами, красными пятнами… Нет, тонкие, такие же, с изящными запястьями и острыми, колючими локтями, трогательным, чудесным образом созвучными с отчаянными и резкими, как шрамы, линиями ключиц, смотрел, смотрел, а потом встал… встал и легким движением поднял белку-жену на руки… вместе с кружкой, вместе с выкриком «ты что, рехнулся? Игорь, Игорь!» – и понес ее, понес, держа перед собой, моргая, улыбаясь, плача… а куда, зачем, в маленькой и узкой квартире не объяснить.
* * *
Все-таки Алка не права, не права, иногда он может, научился делать что-то не думая, разом, одним движением, словно счастливый человек.
* * *
Как много любителей обедать или ужинать на дороге. Со своими особыми привязанностями, особо ценимыми закусочными и обжорками. Сколько бы Игорь не ездил с Запотоцким, тот обязательно тормозил возле украинской конторы в Демьяновке с названием «Тарас Бульба». А потом, уже насытившись, все продолжал блаженствовать. До самого Южносибирска, семьдесят или восемьдесят километров, мог восхищаться, какие нежные кусочки сала, холодные, нарезанные аккуратно кубиками, ему всегда подают к борщу в «Тарасе».
– Все один к одному, словно по мерке режут… Как сахар тают во рту…
Однажды Игорь слышал, как заносчивый и высокомерно насмешливый технический директор ЗАО «Старнет» Дмитрий Потапов с неожиданным собачим энтузиазмом и волчьей серьезностью что-то грузил угрюмому скелету Шейнису по поводу блинов, ради которых всегда, оказывается, делает остановку в Колмогорах.
– С семгой… Ты что, какая, Леня, ветчина… Сто граммов семги, сыр, белый чесночный соус с зеленью, и чтобы обязательно дали пропечься, чтоб сыр как следует расплавился… мечта…
Игорь хорошо помнил и знал чистый и светлый киоск «Сибирские блины» у неухоженного, какого-то заброшенного на вид павильона автовокзала на федеральной шумной окраине богом забытой деревни Колмогоры. Особого места на трассе Южносибирск – Новокузнецк, до которого надо добраться, дотянуть, ночью, в мороз, когда уже невмоготу, когда сами собою закрываются глаза, слипаются огни и тени, и мозг становится мертвым куском желе…
Тут можно попросить в одном бумажном стаканчике с дорожной крышечкой-дозатором смешать сразу пару пакетиков. «Нестле» три в одном и просто черный. А кипяточку на три четверти, не больше, и с этим гнать еще полторы сотни. Доехать все-таки до дома. Но есть там Игорь никогда не ел. Он вообще не ел в пути. И не потому, что дорожная пища плоха или опасна, а потому что дорожная. А значит, ненавистна по определению, как белая разметка, километровые столбы, и ночь, и тени, и огни… И только время. Жратва затягивает время, удлиняет тоску и муку неотвратимого движения. Неоконченного…
Но вот сегодня свернул с прямой и встал в Панфилово. Сам. Там, где на южной оконечности поселка ментов и животноводов армянская вотчина. Три или четыре кафе вокруг большой стоянки. «У Мартина», «Васпуракан» и «Скорпион» – мерцают неоновые пружинки-буквы вывесок, под ними хороводы разноцветных фонариков и фонарей, а на земле блестят оставленные возле ночных крылечек теплые машины.
У Алки какие-то вечерние занятия в эту пятницу, и холодильник перед выходными дома совсем пустой, а здесь охотно завернут в лаваш свежий шашлык со сладким луком. Наверно, Алка будет рада, да и сам Игорь не ел с утра. Лишь кофе и печеньем перебивал аппетит, сначала у директора завода в Гурьевске, а потом в Ленинске в СУЭКе.
– Два шашлыка? С собой, посуше? Буквально две минутки, – ласково обещает высокий молодой человек, с черными, блестящими, как будто чем-то звездным смоченными волосами. – Что-нибудь принести пока?
– Чай.
– Зеленый, черный?
– Черный.
«У Мартина» типичный бочковой уют дорожного кафе, сыровато, темновато, но тепло. Народу много, какие-то компании и ровный гомон разговоров, как занавески, ширма вокруг случайно заглянувшего человека. Никому ни брата, ни свата и ни родственника. Тем поразительнее, когда этот плотный кокон чего-то нечленораздельного, мерно гудящего, мушино-комариного внезапно разрывает нечто громкое и неприятно внятное:
– Ба, Ярославич!
У столика Игоря Валенка во влажном, густо надышанном людьми и кухней воздухе придорожной закусочной, качается знакомое кривое топорище Бориса Гусакова:
– Вот так встреча – пальто на плеча!
И в самом деле, кто-то из-за спины кладет на плечи Бори свои ладони, как погоны, и дергает. Пытается забрать и увести:
– Кого ты там опять, чудило, увидал?
– Человека…
Борис лягается, отталкивает тянущего. Бычком, расставив ноги, упирается:
– Да погодите, братаны, идите, ща догоню… – И вдруг, весь засветившись, вспыхнув, счастливо огорошивает и предложением, и самой формой обращения: – А может быть, ты с нами хочешь, Ярославич? Чего? Давай… Гуляем, гостем будешь…
– Спасибо, Борис. Сегодня тороплюсь, никак сегодня…
– Не брезгуешь? – колун, нависший над головой, темнеет, становится острей и тяжелей. – Точно не брезгуешь? Просто не можешь, торопишься сегодня? По чесноку?
– Да, Боря, меня дома ждут…
– Ха, Ярославич, – щелчок, и, вновь загоревшись, блеснув как-то всем сразу, и кожей, и глазами, и капельками слюны на губах, Борис выкатывает радостно: – Ты не поверишь, Ярославич, друг… и меня сегодня дома ждут. Не хило, да, совпало? Ждут, ага. Я же сегодня точки объезжал, здесь, в Ленинском районе, богатый, как Али-Баба.
– Но вам, наверное, Борис, и не надо домой сегодня… не надо никуда… в смысле ехать, за руль садиться…
– Так, а зачем за руль мне? Куда-то ехать? Мой дом-то там… здесь, в смысле, – Борек машет рукой в сторону воображаемой центральной улицы Панфилова с названием Советская. – Я же деревенский, я тутошний, колхозник. Небось не знал… Брат, Ярославич… Я дома, у себя, ну, в смысле в своей деревне… как видишь, тут с дружбанами чаи с лимончиком гоняем… зачем за руль мне, сам подумай?
Действительно.
– А пьяный знаешь кто, блин, ездит? – и, став серьезным в один миг, и будто бы от этого сейчас же невыносимо и трагически отяжелев, Борек присел на лавку напротив Игоря. – Пьяным ездит эта сука, что вечно под меня копает… Ты понял… Да?
– Неужто Полторак?
– Он, через жопу рак…
– С чего вы взяли, Боря?
– А тут и брать не надо. Оно и так в руках, как жир на сале, – Гусаков внезапно вскинул большие темные ладони, свел чашечкой над столом и покачал, как нечто беспокойное, текучее и пахнущее. – Откуда, думаешь, у него, суки, эта хохляцкая фамилия?
– Не знаю, от родителей, наверное, как и у всех…
– От вредителей, Ярославич! От вредителей. Это девичья его бабы, которая из ссыльных, из бандеровцев. Его, жука, в двухтысячном лишили прав за пьяные дела на год, так он, гондон, паспорт сменил – и снова, блин, девочка. Через месяц опять с правами… Все чики-тики… сдал курсант Полторак… Вот точно его хитрой морде только хохляцкой фамилии для ясности и не хватало.
– А как… как его настоящая, родная, вы случайно не знаете, Борис?
– Чего же тут не знать? Тоже мне тайна-майна-вира. Он Щукин. Андрей Щукин – штопанный…
Синее небо молодой ночи казалось промытым до самых донных звезд. До хрустальной, озерной первоосновы. И в этой своей редкой, натуральной ясности как будто бы светилось. Такие мимолетные, такие удивительные мгновенья позднего октября, когда подслеповатый, глуховатый человек вдруг начинает видеть в темноте, как филин, как сова, и слышать, как летучая мышь.
Да, Щукин. Ну конечно. Из непроявленности, из дробной неясности анекдотической, дурацкой смеси – то ли половина таракана, то ли полтора рака, – абсолютно цельным, отчетливым и ясным выкристаллизовался бывший студент, с фамилией не требующей никакой специальной интерпретации. Вне всякого сомненья, Щукин. Мальчишка, первокурсник. Еще не оформившийся тогда, пятнадцать или двадцать лет тому назад, подросток, узкоплечий, легкий, но запомнившийся не этой полудетскостью, пушком на верхней губе, а душком. Взрослым, уже въевшимся, как запах сала, жира, щей в стены столовой. Докучливо услужливый, навязчиво угодливый. Липкий и потный. Вечная ржавчина, рыжий горох на первой парте.
Ночь скоро возмужала и стала бездонно черной, но продолжала и теперь таинственно сиять, волшебным образом светиться изнутри. Вот только Игорь вдыхал не этот запах чистоты и свежести небесных сфер, а луковый, отрыжечный, печеночно-кишечный букет теплого шашлыка. Двух толстых палок, сформованных пеленками лаваша, завернутых в тонкую мраморную бумагу, запрятанных в полиэтиленовый пакет, и все равно пропитывавших, заполнявших собой чистый и черный воздух салона.
* * *
Когда, в какой момент он убедился, понял, что никто и ни за что не может поручиться? Обещать и гарантировать, что его не подведет ни мозг, ни тело. Защитный автоматизм привычки, сноровка, ставшая частью обмена веществ, навык, обыкновенье, оберегающее несовершенную, чего-то ждущую и ищущую душу, как механический, в латы закованный, в скафандре, в каске, фиксированный навсегда в трех измерениях двойник.
Давно, очень давно. Когда после двух или трех лет уже уверенной езды в любую непогоду, днем и ночью, зимой и летом, чуть было не попал в позорное, не объяснимое ничем, немотивированное ДТП на перекрестке Октябрьского и Соборной. На светофоре, после переключенья света, внезапно, резко, завидев впереди за пятачком небольшой площади на съезде к Университетскому мосту какое-то подобье пробки, стал уходить с каким-то дьявольским, бесовским вдохновением из правого ряда через полосу налево к Красноармейскому. Безумная, расстрельная подрезка в момент, когда на красный свет там, на Соборной, от моста к загсу вдруг резко дунул через дорогу по пешеходному переходу мальчишка-велосипедист. Прямо по ходу резко с места взявшего «лансера». И как его, Игоря, среди гудков и визга не стукнули, и как он сам никого там не задел, непостижимо. Проехался, машину уводя от всех препятствий и помех, по углу бордюра своим передним бампером и после этого так по касательной ударил колесо о темно-бордовый гранит, что треснул литой диск.
И хорошо, наверно, весело смеялись, скалились все мимо проезжавшие потом, еще минут, пожалуй, сорок, покуда он, Игорь, придурком в костюме, галстуке, начищенных ботинках работал на людном перекрестке ручным домкратом, катал запаску и гайки крутил.
Инстинктивное, внезапное, взрывное действие – нет, не всегда порыв счастливого. С такой же частотой и неизбежностью это, возможно, импульсивное движенье глубоко несчастного. Самоубийственное. Самое, может быть, человеческое из всех необъяснимых, темных и тайных проявлений людской психики. Никакому животному, птице или рыбе не свойственное. Просто невозможное вне разума, вне чувства, вне любви.
И с тех пор, с того непостижимого, постыдного, прилюдного пассажа какой-то особый, двойной, тройной контроль включился в голове. В мозгу, и без того самим естеством своим, природой и сверх– и заорганизованном, сформировался еще один какой-то строгий периметр, запретная, и днем и ночью просматриваемая, простреливаемая полоса… Ни шага, ни полшага в сторону…
Никаких, ни малейших шуток с ПДД. Строгое, буквально ученическое, до истерических сигналов и морганья сзади соблюдение всех правил, гласных и негласных. И знаки, почему-то именно знаки, внезапно обнаружившаяся способность собирать их разом, быстрым взглядом за сотню метров впереди. И справа, и слева, и те, что прямо над головой, как раз те самые, на проволоках-растяжках, что в точности определяют, какой возможен или невозможен маневр на этой полосе. И зеркала. Вдруг закрепившаяся анекдотическая привычка бросать взгляд в серебряные ложки при любом повороте, даже во двор направо, когда движешься буквально вдоль бордюра, или так кажется, что едешь по самому краю полосы, и в щелку никому другому не влезть, уже никак не уместиться, не втиснуться…
И электрический разряд, молния от кончиков до кончиков пальцев, когда именно там, где места нет и быть не может, впритирку, в каких-то миллиметрах от правого бока машины, со свистом пролетает масса. Серый металлик «скайлайна». Идиотская праворучка. Двумя третями приземистого тела порхнула на широкий придорожный с желтым сохлым колтуном газон и проскочила, в мгновенье, когда сам Игорь еще только решал, притормозить или объехать сходу «меган», в самый последний момент включивший поворотник и резко сбросивший перед броском налево через загруженную встречную. Но увидел. Поймал глазами полторы тонны серого бешенства, в последний миг, азотную кислоту, летящую в зрачки, справа, на расстоянии ладони, и встал как вкопанный. Остановился за «меганом».
И в тот же самый день успел увидеть мотоциклиста, и снова как будто на мгновение ослеп от ужаса и облегчения. Черт одноглазый, двухколесный, откуда перед самой зимой он оказался на проспекте Ленина на левой полосе, узкий как нож, распарывающий надвое пространство? Не едущий со скоростью потока, а падающий, свободно улетающий булыжник в горизонтальном колодце ускорения, составленном из неподвижных, застывших относительного него машин, со своими стрелками спидометров, качающимися в секторе от сорока до максимум шестидесяти. Игорь как раз хотел объехать одного такого, сороковиста на «шахе» без бампера, но руки приморозились к рулю и правая ступня не утопила, а съехала с педали газа, соскользнула, когда буквально за секунду до задуманного банального маневра в водительское левое зеркало как будто врезалась комета, взорвалась желтой сверхзвуковой звездой. И мимо пролетела тень кентавра в полной защитной амуниции, в красно-черной дьявольской кирасе, таких же наплечниках и налокотниках, с блестящим пасхальным яйцом поверх всего, на месте головы. И радость. Снова радость.
Увидел же его, автоматически скосил глаза, чуть не лишился зренья в адреналине стресса, но бок свой не подставил. Не превратил кентавра в птицу, а свою совесть в орган мучительной, ни чем не останавливаемой пронзительной секреции. Значит, зашил это в себе, хоть как-то защитился, предохранился на уроне вегетативного и инстинктивного. Смешное счастье, ложная вера, ровно до вечера того же дня. Когда, подъехав к длинной очереди у светофора на перекрестке Октябрьского и бульвара Строителей и постояв минуту в нетерпении, решил уйти в свободный правый ряд в надежде раньше проскочить за скромным косячком тех, кто уходит вправо, там, где и прямо можно. Захотел чуточку обмануть ленивых и нерешительных.
Сунулся лихо – и обмяк. Откуда, почему и как на правой, еще мгновение тому назад свободной во все стороны души, вдруг обнаружилась «королла», белая, грязная, напропалую дувшая, но все-таки сумевшая не въехать в крыло «лансера»? В последнюю секунду качнувшаяся в сторону газона и замершая, в то время как Игорь дернул свою машину влево, насколько мог, и тоже сник.
Из-за стекла напротив глядели черные глаза. Игорь нажал на кнопку, и холодок полез в салон. Водитель «короллы» сделал то же самое. Такой же кнопкой. И вторая, уже его прозрачная перегородка медленно опустилась. Осенний воздух вечера стал общим.
– Ты че не смотришь в зеркала? – спросили на том конце короткого октябрьского выдоха.
«А ты чего не смотришь на чужие поворотники и вылетаешь, как из засады, из самых дальних, слепых карманов? Ты ж тоже резко перестроился? Махнул, не глядя, у меня из-за спины уже после того, как я начал движение, ведь так, сознайся?» – хотел и мог, и даже имел право спросить Игорь. Но не спросил. Потому что не с постороннего обязан был требовать ответа, не с ним устроить разборку происшедшего, а с тем, который был внутри, которого, казалось, давно уже и жестко контролировал, запер навеки в самом темном, невидимом углу своего мозга, – но нет, вот вырвался и подтолкнул туда, где все ломается и исчезает, пихнул и тут же спрятался, исчез, и не с кем говорить. И так всегда. Необъяснимость и отчаяние. И не понятно, кто же прав? Ты, вол, рассудочный, рациональный, тянущий воз, или другой, в тебе самом скрытый и тайный, так страстно и самоубийственно жаждущий освобождения? Переворота, взрыва…
– Извините, – сказал Игорь, – сам не пойму, как это вышло. Вроде бы пусто было.
И так при этом, надо думать, нелепо, безнадежно выглядел, что тот, в грязной «королле», просто махнул рукой и начал поднимать стекло, отсекать осень.
«Ну что теперь, давай, езжай, освобождай людям дорогу, лох…»
* * *
Чего угодно можно было от фашистов ждать, но только не этого. Лицо большого друга СССР, потомка пролетарского писателя Бернгарда Келлермана, как его однажды назначил и определил Олег Геннадьевич Запотоцкий, светилось в это утро совсем не братским, интернациональным счастьем:
– Да, Игорь Ярославович, вы правильно все поняли, мы прекращаем, в строгом, так сказать, соответствии с пунктом шесть точка восемь вашего договора о предоставлении услуг, его действие, – от удовольствия произносить эти две цифры вслух и главное в лицо, глаза в глаза Игорю Валенку красная репа Роберта Альтмана вся празднично и нежно дымилась свежей росой. Сверкала и блестела.
– Имеем полное на это право, не так ли?
– Да, да, конечно, – Игорь кивнул и, словно механический дурак с мгновенно лопнувшей пружинкой и замирающим теперь внутри маховичком, добавил: – за месяц письменно предупредив…
– Что и делаем, что и делаем, – затрясся радостно, как-то особенно празднично зашевелился, заиграл электричеством русый волосяной прибор на крепкой кирпичной морде с цинковыми жилками. Писательские усы, переходящие в артистическую бородку, торжествовали. И каждый собой довольный волосок в них терся о другой, как ножки заевших, закусавших, забодавших целое коровье стадо мух.
– А на руки, вы насчет соблюдения формальностей будьте спокойны, на руки мы вам дали просто копию, да, копию письма, для сведения, а официальное уже отправлено вам почтой, как и положено, конечно, с уведомленьем о вручении, – счел Альтман таким изящным образом необходимым и обязательным лишний раз напомнить, что ООО «КРАБ Рус» не шарашкина контора из Киселя или из Южки, а европейская компания мирового уровня.
– Да-да…
Об этом офис-центре, который этаж за этажом уже полтора года поднимался в центре Киселевска, на какой-то из планерок говорил Потапов.
– Туда не влезем, Олег Геннадьевич, туда «Ростелеком» затаскивает свое волокно…
Оптико-волоконный кабель, из многожильных обрезков которого кустари-умельцы ваяют на продажу ночнички-дождички, радужные сувенирные фонтанчики на батарейках. А радость, чувство глубокого и полного удовлетворения сварганили буквально на глазах искрящуюся масочку на губы, переливающуюся победным серым, рыжим, голубым эспаньолку директора русского представительства и сервис-центра «Крафтманн, Робке унд Альтмайер Бергбаутекник». Сургучнорожий, из простой, подножной карагандинской глины деланный человек, которого Игорь Валенок с такою легкостью и столько раз в этом году ставил в тупик и загонял в угол, теперь отыгрывался с видимым наслаждением за все:
– Вы сами, Игорь Ярославович, надо вам честно признаться, нам очень, очень помогли принять решение о переезде. Прямо-таки своевременно обратили внимание на то, что сюда, в Большой Южбасский технопарк…
Игорь и забыл, что этот островок в полях за Красным камнем, неэстетичное собрание полу– и недовведенных в эксплуатацию сооружений промышленного назначения, носит такое в будущее устремленное, крылатое название – Большой Южбасский технопарк… Не АБК «Филипповское», не шахтоуправление… вовсе нет… Большой Южбасский…
– …еще по меньшей мере два года, – между тем, сияя влажной мордой и выпуклыми зенками, продолжал самим собою гордый Роберт Альтман добивать Игоря Валенка, – не будет обеспечиваться высокоскоростным Интернетом по проводным линиям. Да. Очень вовремя вы нас предупредили об этом обстоятельстве. Мы занялись вопросом, и теперь к нашему новому офису в центре города и физически намного лучше будет доступ у клиентов, и, так сказать, электрически…
– Это вам «Ростелеком» пообещал или опять ваш собственный системщик Герман? – не удержался и спросил пылающего счастьем Альтмана Игорь Валенок.
И тут, едва лишь прозвучало пушкинское имя программиста ООО «КРАБ Рус», разительная перемена произошла с лицом директора. Оно тотчас же перегрелось, набрякли жилки, почернели глазные впадины, и розовым, кровавым, внутренним окрасило белки, наружу вышло то, что питало и подогревало счастье, торжество и радость дня – ненависть.
– К вашему сведению, Игорь Ярославович, для полной ясности, господин Капштык в нашей компании больше не работает.
– Что так? – Игорь решил, что деликатничать не стоит, жалеть слишком зарвавшегося немца, – хороший был специалист, всегда отстаивал ваши интересы…
– Мы знаем, да… отлично знаем, что он и как отстаивал, когда ваши люди свободно шастали у нас на сервере…
Вот как? И это не осталось тайной. Какой-нибудь долгоиграющий подарок оставил Шейнис? В каких-нибудь конфигах пошурудил. Нечаянно лишил возможности бойкую секретаршу Альтмана ходить по чатам? Нет, вряд ли. Не похоже на него. Скорее всего, сам простодырый Герман Капштык и доложил. Где-нибудь ляпнул, рассказал, каким оригинальным образом решилась проблема с безопасностью, как был закрыт доступ извне. Кто посоветовал и по какой причине…
– Мне кажется, здесь очевидное досадное недоразумение, – очень спокойно, глядя прямо в глаза перекалившемуся, черному Роберту Бернгардовичу, сказал Игорь, – мне кажется, что было бы вернее и прагматичнее с вашей стороны, прежде чем делать скоропалительные выводы и принимать решения, позвонить нам, пригласить на встречу, пообщаться… Во всяком случае мы были, есть и остаемся открытыми для сотрудничества… Если вас качество вдруг не устроит, цены, сервис…
Альтман был так поражен, что его бомба с подломом сервера не взорвалась, даже не пшикнула как следует, не навоняла даже, так ошарашен, что, не сводя мутных от злобы и обиды глаз с лица Игоря Валенка, безропотно принял протянутую на прощанье руку и крепко, с тевтонской четкостью, пожал. А после отпустил.
И ничего… Ничего кроме отвращения не испытывал Игорь, спускаясь по лестнице АБК, проходя стоянкой, садясь в машину. Отвращения к себе, к Запотоцкому, к Шейнису и к волосам. К холеной, аккуратно стриженной одежной щетке под носом начальника орднунга ЗАО «КРАБ Рус». Бракованной, с большой кривой дырой для тонких губ посередине, но все равно при деле, в ходу, в работе.
Точно так же, как и он сам. Игорь Валенок. Бракованный. В разладе сам с собой и с жизнью. И все равно скребущий. Упрямо царапающий по ее поверхности.
* * *
Какое-то время тому назад на гигантской монстере, страстно осваивающей, буквально хавающей, жрущей пространство в кабинете Запотоцкого, появились загадочные емкости. Какие-то культяпки пластиковых бутылок, самодельные высокие стакашки, примотанные пищевым полиэтиленом к зеленому хрящу ствола. Во влажных полупрозрачных объемах этих мензурок, как толстые коктейльные соломинки, томились темные отростки хищной лианы.
«Сок он, что ли, собрался доить из этой холеры? – с непередаваемым, буквально тошнотворным отвращением всякий раз думал Игорь. – Не очень-то похожа на березу эта тварь, даже тропическую…»
Нет, оказалось, эфиопским жизнеутверждающим хлорофиллом заботливый Олег Геннадьевич вполне гуманно решил укреплять коллектив, не внутренне, а исключительно наружно. В начале декабря отростки, дружно давшие корни, были отрезаны от материнского ствола, пересажены в горшки и расставлены на разнообразных окнах кабинетов ЗАО «Старнет». Один такой с первым уже многопалым, хищным листом завелся и в комнате, которую Игорь делил с друзьями, Гусаковым и Полтораком.
Этот молодой, но вездесущий посланец генерального директора произвел неожиданное действие на вечно шумно и громко выяснявших отношения Полтаракана и Бобка. Во всяком случае, в первое утро явления на подоконнике рассады с мощным зубастым листком оба помалкивали. Сидели насупившись, пищали клавишами калькуляторов, шуршали листками ежедневников, щелкали кнопочками шариковых ручек, явно при этом стараясь не коситься и не оборачиваться на неожиданного растительного соглядатая. И лишь направившись куда-то, у самой входной двери, Полтора Рака позволил наконец вопросу, который, надо думать, давно ему не давал покоя, томил и мучил, слететь с языка:
– А что, правду говорят, Игорь Ярославович, что немец-то наш ту-ту? Прислал письмо Онегина Татьяне?
– Телегина! – мрачно сказал ему в спину, в закрывшуюся за частью таракана дверь сельский балалаечник-каламбурист Боб Гусаков. – Наверное, уже успел боссу напеть где-нибудь под сурдинку в коридоре: вот дали бы ему фашистов, как он весной предлагал, не упустил бы гадов…
Игорь не сомневался, что не только в коридоре, под сурдинку, но и явно, на совещании у Запотоцкого Полторак найдет способ напомнить, в связи с письмом большого пролетарского писателя Ганса Фаллады, и о себе, недооцененном Андрее Андреевиче, и о не полном, на этом фоне, служебном соответствии Игоря. Игоря Ярославовича Валенка. Кандидата технических наук. Ха-ха.
Однако Полторак торжественно блестел глазами, но рта не открывал. А Запотоцкий, мичуринец, растениевод, был необычно сух и очень немногословен.
– Ну что же, к сожалению, и такое случается. Лояльность – несвойственная, прямо скажем, клиентам добродетель, захватчикам и реваншистам и подавно…
«Лояльность, да…» – и сразу вспомнилось, как вскинул Запотоцкий брови и громко, с неприязнью фыркнул, когда, рассказывая ему сейчас же по возвращении из Киселевска всю эту дурацкую историю, Игорь упомянул подломаный с благими намереньями сервак.
– Тупые идиоты! Шизофреники все до одного, – сказал тогда злобно Олег Геннадьевич и со стуком всадил остро заточенный карандаш в стаканчик с письменными принадлежностями. Как в Гитлера. Штык или нож.
Сейчас, три дня спустя, он был спокоен, трезв и рассудителен:
– Да и вообще, с учетом того расширения клиентской базы, что произошло за время работы у нас Игоря Ярославовича, ее принципиальной диверсификации, потеря немцев обидная в моральном отношении, но в целом, в номинальном, денежном выражении малосущественная. Не так ли, Анна Андреевна?
Главбух компании кивнула.
– С лета перечисления от них стабильно падали…
– Ну, значит, доктор верный дал диагноз, – под темой с явным удовольствием и облегчением подвел черту Олег Геннадьевич, – отряд не заметит потери бойца.
Но оказалось, с веселой комсомольской шуткой слегка поторопился. Под боком у него, с правой стороны стола для совещаний, из-под могучей донорской монстеры раздался самодовольный вызывающий смешок. Чему-то вдруг очень обрадовался технический директор ЗАО «Старнет» Дмитрий Потапов.
Во время краткой речи Запотоцкого он вел себя довольно необычно. Всегда подчеркнуто корректный, не отвлекающийся ни на что постороннее, внимательный и собранный, он пять минут, покуда звучало резюме директора, с какой-то неуместной радостью, азартно, увлеченно тыкал клювом стилуса в экранчик своего премиального смартфона для миллионеров и придурков «Сони-Эрикссон Р900». И что-то там натыкав, наклевав в конце концов, довольно рассмеялся.
– В чем дело, Дмитрий Васильевич? Вы не забыли на секундочку, где вы находитесь? – с плохо скрываемым, вполне законным раздражением задал вопрос техническому Запотоцкий.
– Да нет конечно, Олег Геннадьевич. Просто вот подтверждают люди, что им не будет никакого волокна. По крайней мере до весны не будет волокна в тот киселевский офис сто пудов.
– Кто подтверждает?
– Гречко, вот смс прислал.
Гречко – бывший сотрудник ЗАО «Старнет», инженер отдела развития, теперь уж года два как работник «Ростелекома». Он в самом деле такое может знать и подтвердить.
– А, вот как, – немедленно сменил свой гнев на милость Запотоцкий, – значит, до лета поработает фриц на самой обычной мокрой меди у себя там, в самом центре Киселевска?
– Определенно, – с ухмылкой во весь рот поддакнул Дмитрий Потапов. – Еще назад к нам прибежит. Проситься будет. Плакать.
И все рассмеялись. Даже всегда готовый к бою, напыжившийся, наглотавшийся гвоздей, иголок, кнопок Боря Гусаков. И тот слегка расслабил стиснутые кулаки и зубы. Типа, знай наших. И такая тоска от этого мелкого праздника мести накатила на Игоря, такая безнадежность. Просто отчаяние.
Оказывается, выходит, есть вероятность, что не развязался. Последней точкой не отбился. И снова, очень может быть, к фашистам будет ездить. И разговаривать с Робертом Альтманом. Робертом Бернгардовичем. И улыбаться, улыбаться, улыбаться.
* * *
Когда, в какой момент и на каких качелях все вдруг перевернулось? На сто восемьдесят. Тайга темного севера наехала на горы светлого юга?
Когда? Когда Игорь стал ждать не наступления утра, а только лишь прихода ночи? Как передышки, паузы, занавеса. Временного отключения жизни. Увольнительной.
Не сразу. Первый год, два, даже три у Запотоцкого он еще думал, что все это – и немцы, и Бобок с Одной второю таракана, и сам Олег Геннадьевич – лишь помрачение мозгов. Какое-то пусть затянувшееся и несмешное, но уклонение, бзик, нечто по сути, по определенью преходящее, конечное. Нечто такое, что непременно имеет линию обрыва, отсечения, после который врач произносит: «На снимке чисто. Поздравляю. Вы здоровы».
Останутся еще надолго стыд, неудобство, дискомфорт воспоминаний, но будут постепенно меркнуть, сглаживаться, исчезать, в установившихся волнах нормального, естественного, единственного от природы свойственного. Студенты, лекции, вопросы, книги.
Чудесный, сладкий запах корешков, их живой хруст. Трепет бумаги, шуршанье, притягиванье к пальцам ушек-уголков. Влекущий и таинственный, как ветер с дальних сопок, веер листов, всегда несущих гусиную кожу строк, столбцов и букв. Объемных, черных, словно личинки всего сущего. Небесного, лесного и речного. Птиц, рыб, животных, гуськом идущих вслед за бабочками. Огненными бабочками с радужными крыльями.
Да, вначале он думал, что просто должен отработать ссуду за машину. Отбить, и все. А потом выгнали Алку, а потом Настя стала учиться испанскому антицеллюлитному массажу, а потом французскому подтягивающему для лица, а потом Алку прооперировали по поводу грыжи коленного сустава, а потом… Потом сами собою накрутились двести тридцать пять тысяч километров за четыре года. Пять раз вокруг экватора. И сто семьдесят восемь на одометре уже нового «лансера». И новая ссуда, отбитая пока еще не до конца. И Алкино кодирование. Бессмысленное. И капельницы… и капельницы… Имеющие смысл. Спасительные. Не реже трех раз в год.
Вот когда, на третьем или на четвертом году превращения преподавателя, учителя в менеджера, продажника, возникло это чувство нескончаемости. Без линии отрыва. Без точки. Без предела. Какой-то медицинской, равномерно, и вглубь, и вширь, насквозь пропитанной, проморенной и вываренной в сером антисептике ваты, в которой нет и не может быть личинок, туфелек и куколок. Живого. Всего того, что обещает будущее. И крылья. Легкие, неутомимые, резные.
Вот это было переворотом. Начало отвращения к движению. Всему тому, что Алка ему открыла некогда, как чудо. С ее вокзалами. Дневными электричками, ночными поездами. Волненье, беспокойство, неуверенность и страх, преображающиеся, переплавляющиеся в безбрежность, безграничность освобожденья от самого себя. От связей, правил и людей. Как Игорь это все любил. И ждал.
А теперь не может. Вечное ночное серебро негатива. Все наизнанку, все наоборот, не так. И зависть. Зависть не к тем, кто вырвался и едет, а к тем, кто завершает путь. Кто видит пристань.
К вот этим людям, например, в междугородном автобусе. Зализанном корейце, голубом, мерцающем восточной карамельной аэродинамикой, с белой табличкою за темным лобовым стеклом – «Новокузнецк». Вот он стоит на той стороне пешеходного перехода, остановленный тем же кровяным, без зрачка глазом, что и Игорь в своем «лансере» на этой. Но какая разница, какое неодолимое, мучительное желанье поменяться местами. Через пятнадцать-двадцать минут они все в этом корейском самолетике без крыльев приедут. Остановятся, отрежут. А Игорь через пятнадцать-двадцать тех же самых минут только начнет по-настоящему дырявить ночь. Оставит за припорошенным слегка задним стеклом своей «японки» последние огни прокопьевского кольца, заправок «Газпромнефть», «Лукойл» и погрузится в черноту без края и конца. До первых светлячков заправки у Степного не меньше шестидесяти километров. А до Южносибирска двести.
Перед самым уходом Игоря, в Политехе – уже давно и безнадежно университете с буквой «Т», техническом, – открыли с помпой кафедру туризма. Кафедру социально-культурного сервиса и туризма. Сейчас из Игоря мог бы выйти неплохой заведующий. С большим двух– или даже трехсеместровым курсом по главной, базовой эгейщине всей жизни. Туризму принудительному, подневольному и в высшем проявлении своем летальному. Стопиццот, как говорит дочь Настя, академических часов. Не меньше.
Блин.
* * *
Как бы они жили, Игорь, Алка, если бы все шло своим чередом? Осталось бы все, как при родителях. Когда смешные, трогательные люди зачем-то искали знаний, стремились почему-то к просвещению. Ценили артистичность, стиль. И полки были книжными, и столики журнальными. И огненные бабочки, и радужные мотыльки над ними, перед ними, везде и всюду жгли. Летали, прошивали зигзагами, пунктиром темноту. Неясность, мрак. И невозможны были, исключены, немыслимы кафедры туризма и сервиса с сервильностью в Южносибирском политехническом, ЮжПИ.
Игорь часто думал об этом. Стал был он разрабатывать старые идеи отца об адаптивных промышленных системах управления или увлекся бы блестящими, но явного, практического выходами не имеющими, чисто математическими фокусами Запотоцкого? Остался бы на кафедре, став доктором, или ушел на Вычислительную технику заведовать? Но точно не был бы деканом. Уж это определенно. Потому что не умел воспитывать, отчитывать, смотреть в глаза и ничего не видеть. Он должен был гореть, пылать от счастья и знаний, чтоб говорить. Все остальные чувства только склеивали губы. Как у любого Валенка.
А впрочем, нет, любым, таким как все, все Валенки испокон века, мешком колхозным, медленно в себе самом сгорающим зерном, целинным пудом он не был бы, конечно. Ведь ему повезло. Невероятно, невозможно, поразительно. Судьба ему дала воительницу, сеятеля, чудо – Алку. Разбрасывателя всего и вся, даже кулей совхозных с белорусской бульбой. Алку Гиматтинову.
Конечно, с ее характером и нравом она бы вряд ли ушла дальше кандидатской. Но точно стала бы всеинститутской звездою СТЭМа, КВНа, большого восхожденья первокурсников на Зубья и сплава всех выпускников вниз по Мрас-Су. Всего того, что тоже было частью и душою исчезнувшего, исправившегося, ушедшего теперь в прагматику, ночь, пустоту сообщества читателей и слушателей. Искателей огня и смысла. И шутки. Прекрасной выходки. Антре – алле.
Если бы она могла шутить, дразнить, дурачиться и эхо было бы правильным, своим, разве нужна была бы водка? Корректирующая жидкость с уничтожающим эффектом. Хватило бы Саян, Алтая, Шории и большой поточной, любой из четырех на выбор огромных аудиторий между третьим и четвертым корпусами. Ступеньки греческого амфитеатра и сцена, как в театре драмы, и больше, много больше, чем в филармонии.
– Ты знаешь, у меня сегодня на лекции вторая группа выиграла у третьей в классики.
– Что, в самом деле прыгали?
– Ну да, а как еще им всем доходчиво и просто объяснить принцип организации последовательных стеков и очередей?
– Ты что, прямо мелом на полу рисовала домик?
– Конечно, там мела, в третьей поточной, завались, месторождение, можно сказать, залежь…
– Но биту, биту-то ты где взяла?
– Прости, пришлось заранее освободить от ваксы твою жестянку…
– Ты шутишь, Алла? Чем же я завтра буду ботинки чистить? Как я пойду на кафедру?
– Моим подолом! Ну или хочешь оближу? Нет, правда… Могу прямо сейчас. Два дня будут блестеть, гарантия от нас, пчел трудовых…
И невозможно было не сдаться, не рассмеяться, не взять ее большими валенковскими ладонями и не поднять, чтобы долго-долго идиотски улыбаться, глядя в ее бесовские, живые, птичьи зрачки своими лошадиными, коровьими… Блестящими и влажными от удивительной возможности преображения в свободное, открытое, летящее… Огонь и свет.
И это было бы счастьем. Счастьем, которому не мог помешать никто. Даже прилипчивый и вездесущий юный аспирантик Величко или, быть может, Запотоцкого – Андрей Андреевич Щукин.
Ну да. Кем бы он стал, когда бы шло, все ехало накатом, не изменялось? Когда бы не было ЗАО «Старнет» и менеджеров по продажам? Стипендиатом, лауреатом, активистом? Помощником заведующего, шестеркой при доцентах? Конечно. Несомненно. Полтаракана всегда и всюду равны полутора ракам. Но Игоря это не трогало бы, не касалось и не волновало.
В другие времена. Когда не было ценника, но была цена. У мимолетного. Слов, стиля и свободы. Доставшихся работой и любовью.
* * *
Снег. Он валил все выходные. И не хотел остановиться в понедельник. Артподготовка наступающего декабря меняла только применяемый калибр. Если вечером в пятницу, когда еще было в районе нуля, на лобовое шмякались, как мокрый поцелуй, снежинки размером с шапку одуванчика, то утром студеного начала недели уже мелкозернистая плотная дробь, как злая и сухая перхоть, царапала стекло. Дороги в городах никто не чистил. Лишь посыпали и только главные. Советский и проспект Ленина в Южносибирске, Курако и Металлургов в Новокузнецке. В неровном, клочковатом месиве, простеганном песочной ржавчиной, «лансер» водило, словно плоскодонку, и на поворотах задние колеса отбрасывали бурунами волны с тем же шуршанием и плеском, с каким борт лодки плотную воду реки.
На трассе было чуть получше. Сразу за прокопьевским кольцом на правой полосе тянулось что-то вроде темного ручейка с зубастою гребенкой белых берегов. Колеса упрямо едущих во тьме и сильный боковой ветер не давали образоваться устойчивому слою снежной смазки, вихляющая асфальтовая полоса перед машиной казалась непрерывной, сцепление с дорогой перестало теряться как дыханье, бублик руля не делался внезапно невесомым, а отзывался на любое движение руки приятным постоянным сопротивлением. Можно было ехать. Прибавить до девяноста, сотни. Спокойно и уверенно, лишь временами слегка парируя заряды бокового ветра, безжалостно и резко раздувавшего плоские, струящиеся скромным мелким бесом по дороге снежные змейки в шарообразных многолапых осьминогов, встававших дыбом, взлетавших дико, чтобы убиться тут же, размазавшись о черный лак капота.
Так хорошо и просто, сам по себе, Игорь ехал километров пять. До первой вертящейся, живой белой стены. Крупяного бешенства без передышки стегавшего небо и землю шалыми рукавами и полами белого савана. Сквозь ослепляющую, дикую круговерть разок моргнул и тут же был проглочен рубиновый уголек заднего габарита. Там, за метущейся сплошной стеной в попутном направлении шло что-то многотонное и многоосное.
Ее всегда нужно бояться. Нечеловеческой, тупой, лишенной смысла массы. Огромных, циклопических размеров фур, таких же многоколесных самосвалов с тяжелыми, брезентом крытыми прицепами, и просто «КамАЗов» – длинномеров, мотающих тяжелыми железными хвостами даже летом днем на чистом и сухом асфальте. Не доверять водилам, сидящим высоко и безопасно. В любое время года в трениках и легких футболках с рукавчиками-крылышками.
Давно, когда и требования такого, ездить со светом днем, еще не было в ПДД, Игорь при обгоне уже включал ближний, чтобы хоть как-то отразиться в задранных к высокой крыше зеркалах. Дать о себе знать. Но снежной ночью цель совсем иная, совсем простая. Сквозь непроглядный, светоотражающий безумный вихрь увидеть контур. Тень того, что впереди. Для этого нужно все сделать наоборот. Решительно и быстро выключить свет, оставив только габариты, и тогда в упавшей полной темноте в отблесках дальних фар самой фуры проступят ее формы. Теперь можно уверенно взять влево и нырнуть в кипящую белую муть. Проткнуть два или три метра слепого вихря и выйти на уровень задних колес большой машины, как раз тех самых страшных жерновов, что и порождают, размалывая и выбрасывая в небо снег, эту непроницаемую стену.
За ней, там, где все видно, ясно и понятно, уже легко. Включить свой свет и аккуратно по снежной простыне левой, ни ветром, ни колесами не очищаемой полосы пройти вдоль длинного, как боевой корабль, грузовика и выскочить на чистое пространство, вернуться на вихляющийся, но надежный ручеек асфальта. И так до следующей попутки.
Игорю попалось таких три. Вообще машин было немного, помимо больших и страшных грузовозов он обогнал еще пяток разнообразных легковушек, метель стихала, на небе стали появляться кристаллы мертвых звезд, а справа и слева проглядывать живые угольки и бусинки далеких фонарей и окон, и начало казаться, что все уже, больше не придется манипулировать со светом собственных фар, слепо нырять в колодец, когда на подъеме у Карагайлы «лансер» внезапно снова уперся в белую, мельничную стену.
Здесь ручеек асфальта резко обрывался, его сожрали соль и сахар переметов, широкие отмели небесного песочка растащило на всю дорогу, и эту колючую хрустящую мелочь очередная дюжина больших колес бросала в топку ночи. Белое пламя лизало отчаянными, злыми языками капот и лобовое Игоря. Ни зги.
Наверное, это уже был последний такой участок, наверное, можно было взять и отстать, набраться терпения, и через километр-другой на лысой, свободной от летающей, шуршащей, горючей пыли полосе пройти очередного монстра-тяжеловеса и забыть, но ждать уже не хотелось. Именно оттого, что он последний, что там на много уже километров вперед просто дорога, просто ночь и легкость наконец, легкость в руках, ногах и голове.
Игорь повернул маховичок на подрулевом рычажке и в опрокинувшихся на него чернилах сразу увидел контуры чего-то совсем темного, широкого, непроницаемого прямо перед собой и узкое с голубизной окошко слева. Туда. Он аккуратно по мягким, предательским ухабам сместился и пошел в атаку. Секунда, две и пелена пробита. Машина вынырнула рядом с тройкой больших и черных небо и землю перемалывающих кругов. Все. Видимость.
Но что это? Там, впереди, где обрывается огромный сарай крытого кузова и начинается красная будка кабины, на полосе Игоря не далекие огни и звезды, а совсем близкие, нервно моргающие припадочные вспышки. Два проблесковых маячка над дымящейся и пенящейся массой огромного сугроба, который прет, неумолимо катит прямо на «лансер».
Снегоуборщик! «КамАЗ» с отвалом, который может все, что хочет. По встречной, поперечной, вдоль и вкось. Справа безразмерная стена огромной фуры с крутящимися близко-близко пудовыми колесами, слева – высокие комки и гребни снежной волны на разделительной, а прямо на машину Игоря идет, накатывается, скребя острою кромкой по асфальту, широкий многотонный нож.
«Неделю будут опознавать машину и водителя, – мелькает в голове, – определять сорта железа и содержащейся в нем биомассы». И все. Дальше работает уже не мозг, а руки, ноги и спина. Они бросают «лансер» в белую неопределенность слева. И съеживаются, скручиваются, сплетаются в ожидании удара по касательной, по краю, заднему бамперу, крылу углом чего-то острого, куском многообразного металла, которыми со всех сторон обвешен танк дорожной службы. Но соприкосновенья нет. Толчка. Переворота. Скрежета. Нож, грохоча, проходит мимо, слегка только заваливая свежим снежком бок развернувшегося и севшего на брюхо автомобильчика. Присыпает комьями, как покойника, и с тем же равномерным перебором звуков соударения и трения уходит в ночь.
Игорь заводит двигатель, пробует двинуться, колеса только проворачиваются в глубоких мягких пазухах. Игорь пытается открыть дверь. Она не поддается. Плотно, как сабля в ножнах, машина сидит в сугробе. Тогда в каком-то необъяснимом приступе паники Игорь начинает искать телефон, в момент броска и остановки слетевший вместе с кронштейном и присоской с лобового стекла куда-то под ноги.
В салоне тесно и темно. Игорь, весь изогнувшись, водит руками по резинке ковриков, пытается что-то несуществующее нащупать, ухватить и вдруг явственно слышит над головою стук. Разгибается и видит за дверью лицо. И только тут соображает, что можно было вылезти, всего лишь навсего опустив стекло. Но теперь мешает уже это лицо. Большая круглая ряха, покрытая рабочим треухом, с парой заячьих, лихо завязанных концами на затылке. Ряха горит, пылает морозным суриком над рыжим защитным жилетом.
– Ну ты и нашел, мужик, время и место развернуться, – весело сообщает белый пар, вываливаясь изо рта дорожной рожи.
За ней, за красной и шершавой, вдали у обочины встречки Игорь видит рыжий «КамАЗ» с ножом. Точно такой же, как тот, что несколько минут назад равнодушно его едва не переехал. Весь в инее. Тот самый? Нет, вряд ли. Одна бригада просто. Один и тот же подрядный коллектив, кооператив, который испытывает Игоря, на прочность проверяет, на крепость, и главное – следит, чтобы не сдох. Не был утрачен до конца эксперимента важный лабораторный материал.
– Ну что ты скис, земляк? – не унимается толстая харя; всё в ней багровых, кровяных оттенков, даже белки. – Собрался вылезать или сам выедешь как-нибудь уже весной?
Игорь кивает. Да, вылезать. Конечно, вылезать. Нет выбора. Весны не будет. Не будет никогда.
* * *
Они решили уехать после праздников. Новообразованная семья Шарфов. В последний раз, быть может, увидеть снег на Новый год. И колобок луны на небе. И вьющиеся вокруг огромной елки на площади Советов лисьи хвосты огней. И серо-голубые ночью углы крыш, закутанные в волчьи шубы долгими метелями. Да. Так постановил глава семейства, водитель машины скорой помощи Анатолий Шарф.
Игорю показалось, что эта задержка, лишняя пара недель, дочь Настю, теперь Анастасию Шарф, а может быть уже Штази, Анти, Зензи, слегка расстроила. В отличие от мужа Тиля, ей, кажется, хотелось поскорее, безо всяких промедлений, увидеть совсем иное. Людей без шапок и бисер огней в бесчисленных щербатых черных зеркальцах брусчатки. Баварское уютное сухое Рождество. Дочь Настя Валенок, смесь белоруса и татарки, оказалась большей немкой, чем чистокровный Толя Шарф.
Конечно, вполне возможно, и даже если все так бы и текло, как при родителях, она могла его встретить. Анастасия Игоревна Валенок, врач третьей городской клинической больницы, скорей всего, даже наверное, кандидат медицинских наук, и водитель машины скорой помощи, а может быть, и доучился бы до фельдшера, тогда, в ту пору уважения к любому слову, как напечатанному на книжной странице, так и выписанному красивым почерком на радужной картонке корочек. Случалось во все времена. Неброская, склонная к полноте, с полной заменой чувства юмора практическою хваткой. Могла бы, безусловно, какая бы над миром ни царила благодать, стать Настей Шарф. Но точно никогда не оказалось бы при этом известно Игорю, что Анатолий Федорович по паспорту на самом деле Фердинандович. И уже тем более никто бы никогда не вздумал сообщать, что вот Евгений Рудольфович Величко – немец. Баумгартен. Да.
Но это не спасло бы Игоря от ненависти к ним. Даже в том чудном, славном мире равноудаленных от любого человека книжных магазинов и библиотек ненависть проросла бы в нем. И ЗАО Олега Запотоцкого и ООО Роберта Альтмана тут ни при чем. Все предопределила коричневая фотография из-за обрезов в острых зубчиках, похожая на марку. Огромную, пугающую, негашеную от неотправленного длинного послания, письма из тьмы, из пустоты, которое он должен был, обязан был восстановить, создать из ничего, из собственного ужаса, неведенья и боли. Восстановить, чтобы прочесть и заучить, твердым железом вырубить в не знающем износа камне.
Нечто вечное, медленно сформировавшееся, окрепшее, заполнившее все, благодаря случайному, необязательному, мимолетному. И тоже письму. Из Витебска. В обычном советском конверте с рисованной маркой. Сверху справа крупно – кому, а снизу мелко – от кого. Слева сверху воздушная акварель «Дом правительства в Минске. Архитектор И. Г. Лангбард». Под ней гнезда для цифр индекса. Пустые, не заполненные. Может быть, поэтому долго плутало? Дом в адресе получателя исправлен другой ручкой. И это тоже, наверное, дело не ускорило. Письмо отцу пришло через полгода после его смерти.
«Здравствуй, Слава! Прости, что так тебе ни разу и не написал после твоего приезда. Это не от мелкости душевной, и меня, и Веру, очень тронуло тогда то, что ты нас всех помнил и смог разыскать. Не писал я тебе потому, что твою просьбу выполнить не мог. Та фотография тебя и Светы с родителями, которая нашлась у мамы Тони Михневич, оказалась единственным сохранившимся снимком твоей семьи. Больше ничего нам с тех пор не встретилось и нигде не нашлось. Зато вчера пришла Тоня и принесла твой собственный похвальный лист за пятый класс. Он случайно нашелся в бумагах Ивана Андреевича, и Тонина мама думает, что его тебе не успели вручить, потому что ты в тысяча девятьсот сорок первом сразу после завершения учебного года уехал в пионерский лагерь в Россию…»
Похвальной грамотой оказался сложенный в четверть лист серой плотной бумаги с параллельным текстом от руки на русском и белорусском. С одной стороны имя отца было привычным – Ярослав, а с другой смешным – Яраслаў.
Получалось, что в одну из своих регулярных командировок в Москву отец сумел каким-то образом завернуть в Витебск. Нашел там одноклассников, своих собственных или своей сестры, возможно даже бывших еще живых коллег деда, и они… они ему дали фотокарточку… какое-то фото тех, кого Игорь всегда хотел, но никогда и не надеялся увидеть… Дедушку, бабушку, папину сестру Свету и самого маленького папу.
С только что прочитанным письмом в руке Игорь пошел к отцовскому столу и сделал то, на что все эти полгода не мог отважиться. Выдвинул ящик отцовского стола, задвинутый еще отцом, вспугнул заветную, волшебно пахнущую чернилами и тушью темноту и начал в ней рыться. И очень быстро среди библиотечных карточек, блокнотов, записных книжек и множества больших конвертов старых и новых нашел то, что искал. В неновом, явно у букинистов когда-то купленном путеводителе «Города Советской Белоруссии. Витебск», под неприлично потертым переплетом, среди готовых разлететься прочь листов едва живого книжного блока – маленькую коричневую фотографию с акульим гребешком обрезов и надписью на обороте «1932».
И глядя на этот обрезок фотографической бумаги, приближая его к глазам и отводя подальше, закладывая его обратно в книгу и вновь выкладывая на стол, все это повторяя за разом раз, и понял Игорь, осознал, что ненавидит их и будет ненавидеть всю свою оставшуюся жизнь, необъяснимо, инстинктивно, генетически, как зверек, животное, ненавидеть всегда – всех тех, кто ничего от этих близких, родных ему людей на свете не оставил, ничего, кроме прямоугольничка, коричневого прямоугольничка с неровными, кусучими краями.
Так? Именно так? Или нет? Другие были бы реакции? Иное ощущение? Если бы, если бы… Если бы…
А вот не уезжать до праздников, немного задержаться, походить еще по снегу, подышать еще морозом – это хорошо, просто отлично придумал Шарф. Ведь это значит, раз они останутся, здесь будут, с нами, Алка сумеет праздники пережить, перетерпеть. Продержится и не сорвется.
Ну да. Ведь это последняя ее надежда обмануть детей. Заставить их поверить в то, что чудеса на свете происходят. Мать может завязать. Раз и навсегда.
* * *
И все же оставалось ощущение какой-то недоговоренности с этим «КРАБ Русом» и все казалось, точка не поставлена и будет еще разговор у Запотоцкого. С глазу на глаз. После того как пыль уляжется, запальчивость пройдет и мысли три раза провернутся. Он еще позвонит. Пригласит, Олег Геннадьевич. И он позвонил.
– Игорь Ярославович, вы в офисе? Очень, очень кстати. Зайдите, пожалуйста, ко мне.
Ну вот. Интересно только, почему «кстати»? Приехал нежданно-негаданно партнер Запотоцкого? Совладелец одной четвертой или пятой бизнеса Антон Корецкий? Какой-то ныне видный менеджер в самой «Системе», большом «МТС», никогда на памяти Игоря не появлявшийся здесь лично, лишь иногда упоминавшийся, в связи с какими-то техническими трудностями, нуждами, каналы дополнительные, место на вышке.
– Ладно, ладно, – мог сказать Запотоцкий Потапову во время совещания, – на той неделе буду в Москве, спрошу Антона, нельзя ли как-то посодействовать…
И все. Но самолеты ведь летают в обе стороны. В Москву и из Москвы. Может быть, кому-то захотелось услышать лично, собственными ушами, почему столько крови стоивший передатчик на площадях МТСа в Красном камне теперь будет простаивать или вообще, возможно, позорно демонтирован.
– А вот и он, именно тот, кто как раз и отдал ваших немцев на сторону…
Игорь не понял, почему «ваших». Не понял, видимо, и потный грузный человек, который из темного хорошего костюма, словно мороженое из шоколадного стаканчика, частично вытек на приставной столик в кабинете Запотоцкого. Нет, это определенно не кто-то из когорты бывших аспирантов отца. И уже тем более не хлыщеватый, лощеный, ловкий Антон Андреевич Корецкий. Человек был возраста, повадок и конституции самого Игоря, только еще крупнее и массивнее. А когда он поднял голову и как-то странно, по-слоновьи задвигал – большою рыжей, словно стараясь одновременно говорить и Запотоцкому на юг, и Валенку на север:
– Ну какие же они мои, Олег Геннадьевич, вы с ними сами, лично начинали, я только подхватил… вел да и все… – Игорь сообразил кто же это перед ним.
Сотрудник и выпускник совсем другой кафедры Политехнического – к. ф.-м. н. Римас Рузгас. Человек, некогда освободивший ему теплое, насиженное место ведущего менеджера по продажам в ЗАО «Старнет».
– Ладно, ладно, – миролюбиво развел тучи Запотоцкий. – Свалили и хрен с ними, с недобитками… Всегда найдутся клиенты еще лучше и приятнее, не так ли, Римас Леонасович?
Получилось весьма двусмысленно, и Валенку показалось, что еще румяное от недавней прогулки по сибирской декабрьской улице лицо Рузгаса стало красным даже в тех местах, куда мороз и ветер обычно не залезают. Но Запотоцкий, как видно, еще не наигрался с бывшим наемным работником и потому весело продолжил:
– В общем вот, знакомьтесь, Игорь Ярославович, владелец собственной турфирмы и заодно пегасовской франшизы, наш бывший инициативный и добросовестный сотрудник Римас Леонасович открывает офисы в городах области. Хотел бы получать от нас услуги передачи данных и междугородной ай-пи-связи. Весьма надеется на скидки. Пойдем навстречу?
Игорь непроизвольно пожал плечами, настолько очевидно было, что в данном случае вопрос решать не ему, менеджеру, а лично генералу. В ответ на это Запотоцкий самодовольно рассмеялся:
– Ну что, дружище Римас, я же говорил тебе, вот и коллега подтверждает, все будет зависеть от объемов. Дашь трафик, продавец забвения и счастья?
Багровый Рузгас вновь начал разрываться пополам, то на Валенка поглядывая исподлобья, то на Запотоцкого, только теперь все делал молча, нелепо мотая большой башкой справа налево и не произнося ни слова. Унижение беглеца и дезертира трудового фронта было полным и достаточным. Лицо Олега Геннадьевича окончательно просияло, и он совсем уже по-дружески сказал:
– Смотри, Леонасович, ты нам каждый месяц загоняешь абонплат, ну, скажем, на пятьсот мег данных и триста минут голоса, со скидкой пятнадцать процентов против стандартного прайса, сделаешь больше – включаем двадцать процентов, а не сделаешь – уж извини. Все наше.
– Триста и двести, – быстро ответил Рузгас.
С этой минуты пошел обычный деловой разговор. Хозяина компании-провайдера услуг связи и совладельца пансионата с видом на море в городе Паланга.
Через полчаса, выходя из кабинета Запотоцкого вместе с литовским гостем и не зная, как вежливо закончить и попрощаться, Игорь спросил:
– Значит, ничего у вас там все в новой стране устроилось, приняла, так сказать.
– Ну как… почему новой? – с каким-то даже недовольством отозвался Рузгас. – Я, знаете, никогда никому здесь не давал себя звать Ромой, тем более Романом Львовичем, хотя мне и намекали, что студентом было бы проще…
– Да я… – начал было Игорь, смутно осознавая, что наступил, сам того и не подозревая, совсем уже куда-то не туда.
– Деда сослали, да, после войны, – игнорируя потуги Валенка что-то смягчить и скрасить, как будто сам с собой разговаривая, Рузгас раздельно продолжал, – но мы всегда знали, кто мы, и что мы, и где наше место. Просто отец вот не дожил, а я сумел… вернулся.
– Хорошо. Хорошо, – сказал Игорь, ловя, как ему показалось, конец этой опасной нити, все ловко завершая, ставя точку, – семья – это отлично. Очень рад за вас.
И тут впервые за все время ненужной, тягостной и долгой встречи большое носорожье лицо Рузгаса осветила неподдельная, искренняя радость. Как будто солнечный лучик пробежал по желтой, металлической оправе его очков:
– О да, тут да… Жена осталась. Не поехала. Гражданство ей не дали, она русская, и мы развелись. Свободен, вы знаете, свободен совершенно, не должен никому и ничего уже семь лет…
Пожали руки у выхода на лестницу.
– Да, думаю, два дня на договор мне хватит, подъезжайте в пятницу подписывать…
И после этого Валенок долго стоял у окна в пустом общем кабинете и смотрел, как во дворе офиса таксист мудрил с толстыми жгутами проводов, спаявших аккумулятор прогретой желтой «волги» и безнадежно задубелого сизого «матиза». Нырял под капот то одной машины, то другой и что-то все время говорил, плел, обещал маленькой, промерзшей совсем уж, казалось, насмерть, девушке.
Игорь глядел во двор и думал, что ничего бы для него не изменилось в жизни, даже если бы и был у него каким-то волшебством и чудом синий, нездешний паспорт на имя Ігара, Ігара Яраслававіча. Потому что он, Игорь, должен. Должен. Отчаянно и безысходно. За то, что было. Было, было и никогда, наверное, уже не будет снова.
* * *
Это был, наверное, первый год работы у Запотоцкого. Игоря попросили равно в восемь утра быть у начальника цеха связи шахты «Распадская». Ехать с ночевкой очень не хотелось. Алка только что вылезла из долго послесессионного запоя, тогда еще она проделывала это самостоятельно, через таблетки и пару суток непрерывного стоянья на коленях в сортире или ванной, отпаиванья чаем, молоком и нового стоянья. Она была слабая, никакая, зато Запотоцкий кипел жизненной силой и пенился энергией. Генерал ходил по кабинету и, пальцами пощелкивая, как застоявшийся танцор-испанец, повторял: «Там люди в золоте купаются, по сто вагонов ежемесячно в Находку гонят… Как, говоришь, он вышел на тебя… “РИКТ” надоел?.. Отлично!»
– Ты поезжай, – сказала Алка, – поезжай. Даже и хорошо, переночуешь, с людьми поговоришь и сразу после обеда будешь дома.
– Ну да. Конечно.
– Сколько из Междуреченска езды?
– Часа четыре. Триста двадцать километров…
– Ну вот. Полдня, можно считать, украдешь…
И как-то Игорь успокоился. И вечер в Междуреченске показался своим и тихим, как в пионерском лагере, свободный час между ужином и отбоем. Советская серийная гостиница «Югус», стандартная пятиэтажка с новомодным длинным навесом над входом а ля «Хилтон» на улице 50 лет Комсомола. На противоположной стороне во всю длину асфальтового пятидесятилетия – узкий рукав парка с дорожками и клумбами и резкий, крутой спуск к реке Усе. Широкой, дружественной, летней. А на реке зеленый остров и скалы дикого, северного берега. С бобриком густого бора сверху и стаями сосен, вцепившихся корнями, как когтями, во впадины и выступы то там, то здесь внизу. Серое и голубое. До самого неба. Легкомысленного и бесцветного.
И, главное, машина под окном. Тот, первый «лансер». Сразу, с порога, с первого дня Игорю на шею повешенная Запотоцким ссуда. Триста сорок тысяч рублей. Эти деньги, что были больше его еще недавней годовой доцентской зарплаты. Нечто, тогда казавшееся безмерным и беспредельным, как ночь и духота. За них, зачем-то и почему-то вверенные, ночуя в «Югусе», он мог не беспокоиться. Машина стояла прямо под окном. В узком и длинном кармане перед крыльцом к боку сучки-гостиницы припали, как сосунки молочные носами, десятка полтора ею во всем Сибирском округе нагулянных ублюдков. Горбатых, плоских, тонких, толстых. Синих, зеленых и серебряных. И черный «лансер» Игоря – один из выводка.
И Валенок смотрел на него сверху из окна третьего этажа, и слышал в ухе спокойный голос Алки, и улыбался:
– Все хорошо. Настя была. Свежий батон приперла из универсама, еще горячий, и сливочное масло. Анжеро-Судженское. Жар батона буду тебе сохранять собственным телом, а вот масло, придется засунуть в холодильник…
А за полоской парка, за рекою, там, где ночь съела скалы и деревья, роились, словно ночные пчелы, огоньки. И клумбы пахли медом. Почти что счастье.
Тем удивительнее яркость и дикость сна, от которого ничего не осталось, кроме огня и ужаса. И звука упавшего балкона. Где, что? На столике в спартанском узком номере пищал и выл брелок сигналки. А контрапунктом ему был целый хор автомобильного нытья и визга за окном.
Среди внезапной какофонии, припав к стеклу, он ничего вначале не мог понять и разобрать. «Лансер» был цел. И рядом с ним, вокруг, не изменилось ничего за два часа вязкого, потного сна. Бордовая компактная «шестерка» справа, а слева длинный, приплюснутый серебряный металлик «марка II» с вареником скругленной задницы, высунутым на дорогу. Шестерка, как и два часа назад, молчала, а «марк» на пару с «лансером» орал, моргая всеми сразу фарами. Еще одна машина вспыхивала молниями чуть дальше, в середине спящего ряда. И ничего. Ничего в ряд вклинившегося, воткнувшегося, въехавшего. Да что за черт?
И тут Игорь его увидел. Явно нетрезвый человек в белой рубашке качался посреди проспекта Комсомола. Бодал башкою ночную пустоту и разводил руками сиреневый свет фонарей. А за ним, за его дальним, левым плечом белое соединилось с красным. Вот что упало, как оторвавшийся балкон хрущевки. На той стороне дороги «тойта премио» по самые свои передние колеса мордой вошла в багажник новенькой «октавии». Удар был такой силы, что праворучка еще метра полтора тащила по асфальту тонну европейского металла, пока не ткнулась в темную задницу старенькой «вектры». Несчастная эта «вектра» не в такт машинам здесь, у гостиницы, внизу, надрывно верещала и что-то кому-то телеграфировала фарами. Звала на помощь.
И не напрасно. Два полуодетых типа уже неслись скачками вниз по ступеням широкого крыльца «Югуса». В шизофреническом, неверном свете фонарей, среди парализующих, мозг выносящих вспышек аварийных габаритов Игорь увидел в руках того, который летел первым, биту. Блестящую бейсбольную кувалду. И понял: сейчас случится самое ужасное. У него прямо на глазах убьют человека, пьяного идиота, разом разбившего три тачки. Свою и две чужие.
Но он не дался. С поразительной, необъяснимой ловкостью эта бессмысленно и тупо еще минуту тому назад качавшаяся посреди дороги тень, нырнула под ноги свирепо набегавших, и начала кататься между ними, отчего посыпавшиеся сверху жестокие удары ложились как попало, руки, ноги, плечи, а головы и не было как будто бы у извивающегося, дробящегося, сворачивавшегося и разворачивавшегося на асфальте ужика с белой приметной отметиной. Игорь почувствовал неудержимый, неумолимый приступ тошноты, кинулся в узкий пенал сортира и там, как Алка, рухнул на колени перед холодной белой вазой.
Когда с мокрым от ледяной воды лицом, с испариной, с дрожащими руками Валенок снова подошел к окну, внизу, на месте боя уже были местные менты. Неместные, два гостя «Югуса», лежали на земле с наручниками на запястьях, а негодяй в разорванной белой рубахе шатался между ними, глумливо скалился, самодовольно то вскидывая над головой, то упуская трофейное орудие убийства. Биту.
– Пидора! – орал он на всю улицу, затихшую, переставшую дико визжать и вспыхивать, лишь только дрожавшую тихонечко, нежно двоившуюся от едва-едва начавшегося смешения сирени фонарей с рассветным серебром. – Пидора!
Игорь свалился на кровать, закрыл лицо руками и попытался разъединить в сознанье день и ночь. Реку с зеленым островом, серые скалы с птицами-деревьями, все то, что он любил во снах и наяву, отрезать от крови, железа и людей, которых не хотел ни знать, ни понимать, ни видеть. Пытался и не мог. Не мог, потому что с некоторых пор, с какого-то проклятого момента любимое и ненавистное стали неразделимы.
* * *
Примерно месяц спустя после очередного ТО механик показал Валенку отметину на заднем бампере. Что-то, какой-то кусочек стекла или металла, перелетев дорогу в ту междуреченскую ночь, рикошетом прошелся, чиркнул справа в самом низу.
– Да чепуха, пластмасска, что ей станется? – сказал механик.
И Игорь согласился. Ничего.
* * *
Не то чтобы не пить. Не пахнуть старался Игорь. Вообще. Но особенно, принципиально, как мусульманин из Прокопьевска, Усят и Барачат, избегал любого соприкосновенья с алкоголем, когда Алка держалась. Однако в этот корпоративный новогодний праздник принял немного. Никакой отговорки не мог придумать, все видели и знали, что на работу Валенок приехал на такси. С утра оставил «лансер» на станции менять лобовое, расколотое еще в конце октября, по первом снежку, посыпанному плохо просеянным песочком. Камень со встречной. Больше месяца, после того как заявился в страховую, ждал новое, и вот теперь очень не хотелось с этими длинными гуляньями так и кататься с дурацким крестом трещин до середины января. Есть очередь на двадцать пятое – согласился на двадцать пятое.
– Вот молодец, – поздравил Запотоцкий, по-своему, как надо, интерпретировав известие о том, что Игорь без колес, – сегодня у меня все будете в отделе продаж друг с другом пить на брудершафт. Крепить командный дух, а то что-то ослаб, такое ощущение. Не дело.
– Я с Игорем Ярославовичем всегда… – быстро сказал Бобок, Борис Евгеньевич Гусаков, и даже посмотрел шефу в прямо глаза. Чего не делал никогда, но тут вопрос был жизни и смерти.
И Запотоцкий ухмыльнулся:
– Борис Евгеньевич, – с ласковым недоумением пожал плечами, – а как же Андрей Андреевич, с ним тоже надо целоваться иногда, по-русски, троекратно, по-мужски. Мы же не немцы тут какие-нибудь. Все свои…
Бобок напрягся. Сегодня утром он как раз в очередной раз жестко сцепился с Одной второю таракана. Большой проект интернетизации школ города, который в администрации с полгода тому назад перехватил Запотоцкий и отдал Полтораку, похоже, действительно понизил продажи Бориных буквально хлебных для него карточек разового доступа. В Южносибирске школьники массово стали переходить на даровую школьную связь.
– Ну вот, – не упустил случай Полтаракана-Полтора рака прокомментировать тенденцию. – По-братски не хотел делиться, Боря, крысятничал, Бобан, а жизнь-то видишь, как точки расставляет…
– Да я тебе расставлю, я так тебе расставлю и точки, и запятые, что вместо морды, рыжий ты фуфлан, будет у тебя один вопросительный знак, а в жопе… в жопе восклицательный… – немедленно понесся по кочкам Боря, и только чудом не дошло до настоящего контакта. В кабинет внезапно заглянул непрошенный главный бухгалтер и своей постной физиономией и постными вопросами довольно быстро остудил пыл невезучего придурка Гусакова.
Теперь же, в кабинете генерального, нашелся дипломат Потапов.
– По-русски, по-нашему, – заметил он, с легкой, ироничной рассудительностью, – нашим продажникам никак нельзя, Олег Геннадьевич.
– Эт почему?
– А разная весовая категория.
Все рассмеялись. Бой Пата с Паташоном, Тарапуньки со Штепселем окончательно принял вид глупейшей шутки. В реальной жизни решительно невозможной из-за своей комической, нечеловеческой нелепости.
Боря остался в дураках и, жалкий, лишь как всегда косил глазами, блинчики быстрых взглядов время от времени пускал поверх недружественной атмосферы, не поднимая головы, не шевелясь. Пытаясь только безуспешно вычислить, кто заложил его начальству в очередной раз.
А Полторак сиял, прямо смотрел на всех и сразу, всем своим масляным, каким-то непристойно подхалимским видом демонстрируя готовность целоваться с кем угодно. На брудершафт и просто по команде генерала. В знак вопросительный и восклицательный. Куда угодно. Но не потребовалось…
После планерки Боре пришлось еще раз теперь уже самому подняться к главбуху и после этого срочно уехать. К шести часам на праздничные общие посиделки к накрытому в клиентском отделе на первом этаже широкому столу он не вернулся.
И может быть от этого, оттого что Борю Гусакова унесла его нелегкая, вечная и неизменная, а Полторак слинял безо всякого принуждения, по своему обыкновению, ловко, как кубик сахара в стакане чая, просто исчез, распался, растворился, оставив только пошлый привкус, без контуров и цвета, сам Валенок остался. Прибился к компании системщиков, людей Потапова, и выпил с ними одну пачку белого испанского вина на шестерых, потом еще одну, а когда завели музыку и молодые люди кинулись скорее перехватывать бухгалтеров, не встал и не ушел. Вдруг повернулся к оставшемуся в уголочке Шейнису и задал вопрос под металлический грохот бумбокса, всем посторонним и ненужным заложивший уши:
– Скажите, Леня, я все хотел спросить… как вы в Сибири оказались? Ваш дед сюда приехал, отец…
– Прапрадед, – ответил Шейнис, не выражая удивления, не изменяя позы, лишь только повернув в сторону Валенка из своего темного угла большие черные зрачки. – Пра-пра не знаю, как даже называть. В семнадцатом веке, говорят. При Екатерине… Большое кладбище есть в Мариинске. Совершенно заброшенное… Ну и по деревням вокруг немало… Бен-Хаимы да Леи с Эльками…
Игорю показалось, что этот странный деревянный человечек с огромным носом и сухим, из одной вяленой кожи телом внезапно улыбнулся. Как будто обозрел с законной гордостью и Мариинск несчастный, и тощую его таежную округу.
– То есть за поколеньем поколенье люди рождались тут и умирали…
– Вроде того, – Шейнис кивнул и снова улыбнулся. Игорь не думал никогда, что он умеет так, тепло и хорошо. Этот не человек, а клещи для колки грецких орехов.
– Тогда скажите, скажите, отчего вы, коренной, сибирский, совершенно здешний, так ненавидите… ну я ведь, вижу… понимаю… – тут Валенок запнулся.
– Немцев? – пришел на помощь Шейнис.
– Да.
– Не знаю, – Леня пожал узкими детскими плечами, воздух кольнул острыми игрушечными косточками, – наверное, это генетическое, вдруг просыпается, само по себе, от фотографии какой-нибудь или письма. Вы знаете, у бабушки сестра уехала после Гражданской в Палестину. И после Отечественной им даже разрешали переписываться. Целая пачка конвертов сохранилась, перевязанная тесемочкой… Отец только все марки отклеил паром…
Письма. Отец. Сестра. Леи с Эльками. Как ее звали? Лия?
Какой-то дурацкий ком уперся Игорю в горло, он глядел на маленького сушено-вяленого Шейниса и, кажется, даже поверил, что сам он, Игорь, внушительный, округлый и большой снаружи, внутри, по сути, в принципе, такой же махонький, смешной и беззащитный червячок с головкой.
– Ну ведь, ведь, если разобраться… все это глупо, Леонид, не так ли… если подумать… ведь это же другие люди. Совсем другие. Не те, что уводили… Почему же мы…
– Нет, те! – вдруг с ненавистью выкрикнул, буквально проткнул слова сквозь музыку, через всеобщее веселье и бардак, внезапно вспыхнувший, в одно мгновенье в глаза и в нос весь обратившийся Шейнис. – Потому… потому что если… если кто-то что сделал раз, и два, и три, и тридцать три, то все… однажды он снова повторит… Вернется на круги своя, как алкоголик… Это не лечится… Это в крови… Как у животных…
И свет погас в голове Игоря.
«Бог ты мой, все собрал… мальчишка… и три, и тридцать три… пурга сплошная, чепуха… как у животных… алкоголики… нашелся, тоже мне, знаток… специалист…»
И вновь попросту неуклюжий посторонний маломерок сидел напротив Валенка. Био-приспособленье для поддержки и ремонта сетей передачи данных. В багровых пятнах нездорового румянца. Чужой, абсолютно чужой субъект нелепо вжался в уголок и пялился оттуда черными глазами.
– Вы думаете? – переспросил Игорь.
– Уверен, – отрезал Шейнис.
Домой Игорь шел пешком. Почти что два часа. Очень хотел, чтобы все вино выветрилось. И кажется, получилось.
* * *
До праздников, пока еще банки работали, Игорь заказал дочери допкарту к своей второй, незарплатной «визе». При всех теперешних заработках, у него не так уж часто бывали лишние деньги, да и просто Игоря раздражало попрошайничество молодой, работающей, двадцати уже семилетней женщины. А тут она сказала:
– Папа, ты знаешь, там, блин, конечно, пособие будет, разные льготы, но вдруг, в том смысле, что доучиваться, может быть, придется, даже наверняка, какие-нибудь профессиональные курсы…
И он подумал: «доучиваться», «курсы» – это ведь что-то свое, понятное, подразумевающее тетради, книги, а значит и валенковских бабочек с огненными быстрыми крыльями. Пусть совсем маленьких, водительские, фельдшерские, языковые, какие курсы-то там могут быть еще, не философские же, у Насти с Толей, но все-таки, пусть однодневки, мотыльки, ничтожные и жалкие, как моль слепая, но все-таки летающие, пусть миг, но, тем не менее, искра в ночи…
– Алла, ты знаешь, я заказал Насте допкарточку к своей, там рай, конечно, земной, и все такое, но вдруг понадобится им помочь, а с карточкой это мгновенно…
Алка кивнула. Насыпала в кофемолку коричневые зерна, похожие на мелкие копытца овечек или козочек из Лилипутии, и долго-долго молола. А потом, сделав из сказки пыль, повернулась к Игорю и, глядя на него с чудесной нежностью, совершенно преобразившей ее измятое, усталое лицо, сказала:
– Боже мой, какой ты у меня трогательно сентиментальный. Оставил все-таки ниточку. Ниточку-веревочку, не отвязал совсем и навсегда…
* * *
И только с ней смысл многого, если не всего на этом свете, стал ему понятен. При том, что было, было до нее однажды как будто тоже самое – туризм, поход, и даже имя не из святцев – Роза. Роза Галямова.
Наверно, можно вспомнить, какой это был год. Семьдесят девятый, наверное. Потому что после второго, в семьдесят восьмом, был стройотряд. Стройотряд, укладывавший бетонную подушку на самой тогда дальней окраине Южносибирска, там, где теперь начало Октябрьского проспекта. И в стройотряде Игорь Валенок сдружился с человеком, фамилию которого тогда и странно, и удивительно было произносить вслух по будничным каким-то, самым обыкновенным поводам – когда поребрик привезут, куда девать обрезки арматуры и кто часы подпишет крановщику. Брежнев. Сережа Брежнев. Он все и всегда знал, поскольку был замом командира.
А еще он единственный в этом отряде с названием «Магистраль», точно так же, как и Игорь, был институтским. Не просто студентом, как все, а именно институтским, папа – доцент с кафедры начертательной геометрии, а мама – председатель студенческого профкома. Через три года вся их семья уехала в Калинин. А в семьдесят девятом, да, точно, в семьдесят девятом, за год до Алки, мама Сережи Брежнева после удачной сессии в награду предложила сыну и его другу две путевки, практически бесплатные, пеший поход по партизанским тропам Краснодар – Геленджик. Когда вся группа собралась в доме туриста у реки Кубань, в ней оказалось четыре сибиряка, несколько московских семейных пар и боевой отряд девчонок из Казани.
И начался поход по каменистым стежкам в лесах густых, как каша. Пять-шесть часов ежедневной жажды, медленно каменеющая спина под рюкзаком и дробью, свинцовыми катышками постепенно заполняющиеся воронки икр до полной чашечки коленного сустава. Но зато ночью сон, такой, что полностью, до капли растворяет тело в нежной теплоте ночи, в безмерном ее океане, тихонько, ласковыми, невидимыми струями едва лишь слышно шевелящими приподнятые полы армейской палатки. И это казалось отдыхом, эти качели общего здоровья: утомленье – сон, усталость – бодрость. И непонятно было, что еще ищет Брежнев. Его топчан был пуст, когда сгущенка наплывающего забытья сладко склеивала мысли Игоря и смежала веки, а поутру все тот же, неразвернутый, в цветочках спальник покоился у изголовья соседской лежанки. И лишь однажды там обнаружился сам Брежнев. И неприятного вида вязкая лужица у деревянной ножки топчана, с которого чашечкой увядшего цветочка свешивалась голова неподвижного земляка.
Это было утро дневки. Еще одной странной бессмыслицы, нарушившей вдруг четкий ритм уже привычных перетоков утомления и расслабления. Большой и неуютный лагерь на сероватой прогалине возле маленькой мутной затоки, в пену которой под шум холодного, крупными пузырями газированного ручья все вчера плюхались. И группа Игоря, сюда притопавшая к вечеру, и партия армян, с обеда уже искавшая здесь приключений. Все кончилось братаньем водки с чачей, и даже к полудню следующего дня лагерь все еще был мертвым. И может быть поэтому такою смелой оказалась Розка? Роза Галямова.
– Какой ты молодец, – она ему сказала, встретив у затоки. – Не то что все эти балбесы. Особенно приятель твой Сережа.
– Да-да, – ответил Игорь, смущенный комплиментом девушки, возникшей ниоткуда, как муха в оконном переплете неподвижного, параличом разбитого дня. Она была в одном купальнике, как все ходили тут, но слишком много было у нее для такой легкости тяжелых женских выпуклостей животика молочным утюжком и баскетбольного седалища.
– Пойдем, – она ему сказала, и что-то как будто бы осмысленное стала заливать про транспарант, плакат, какую-то фигню, которую он в самом деле лихо, под общий хохот и подсказки намалевал волшебной смесью киселя и зубной пасты в первый же день, такое просто выпало заданье в каком-то конкурсе инициации и посвящения, и вот теперь, поскольку через пару переходов финиш, надо бы повторить, чтоб что-то развернуть победно при входе на базу в Геленджике, что-то такое же спонтанное, прекрасное…
– Давай подумаем, придумаем… – повторяла маленькая, похожая на булочку-витушку Розка, но вела за собой, тащила для этого почему-то не в лагерь, а в лесочек, в заросли, в кусты. Кусты царапались, ветви деревьев цеплялись, а узловатые острые корни кололи босые ноги. Игорь не понимал, зачем он лезет в заросли следом за этой девушкой в купальнике. Ее круглая как солнышко спина моталась впереди и только раздражала. А когда мельканье прекратилось и выбрались наконец на узкую зеленую прогалину, раздражать стали живот и грудь, живые, сдобные, блестящие от пота. Игорь не понимал, зачем они ему сейчас и здесь, и главное – так близко.
– Ну вот, – весело объявила Розка и посмотрела радостно ему в глаза. И осеклась. Как будто что-то внезапно поняла, что-то такое вдруг увидела прямо перед собой, отчего тень набежала на ее круглое лицо и взгляд стал темным.
– Да это все случайно было, – быстро пробормотал Игорь, совсем теряясь, – я не художник, не шрифтовик, необъяснимая удача, везенье, не знаю, вдохновение… Нет, зря мы только лезли в эту гущу…
– Я вижу, – сказала Розка, помолчав. А он переминался с ноги на ногу и отражался в ее зрачках противным, толстым, лысоватым мальчиком, невероятно глупым. – Сам выйдешь… сам выйдешь или проводить?
– Сам… да, конечно, сам, – от облегчения Игорь затряс башкой и в безотчетном счастье зачем-то глупо, по-братски чмокнул Розку в лоб, и тут же, резко развернувшись, зашуршал листвой и захрустел ветвями, давая деру. Буквально унося ноги.
Потом он вспоминал не один раз позорные подробности той сцены, свое непонимание вещей простых, совсем элементарных. Чего тогда он испугался и почему всего лишь год спустя без страха, без головокруженья, легко и просто двинулся за Алкой? За теми же, если так вдуматься, открытиями, за той же, в общем-то, свободой? Ведь ничего он, кажется, так тайно, томительно и долго не хотел, не жаждал тогда и через год, как только шанса, случая, возможности вылезти из кокона. Из валенковского картофельного вечного мундира.
И на все это находился лишь один разумный ответ. Боялся, так же подспудно, тайно, что с кем-нибудь случайным, как те кавказские хребты, плакаты зубной пастой и девушки роскошных волжских очертаний, из кожуры, из валенковской оболочки лишь палец высунет наружу, лишь ухо. На четверть лишь освободится, на треть, наполовину. И только с Алкой, да, с Алкой, словно знал заранее, все выйдет так, как надо, полностью и разом.
Простой инстинкт жука-точильщика. Ждущего свою птичку. Свой персональный клюв.
* * *
Как эта тачка ему мешала! Все она делала не так. Именно тогда, когда он нервничал, спешил и торопился. Сначала на правом повороте с Мичурина на Университетский мост комодик «А-стошестидесятого» зачем-то стал пропускать машину, заходящую на мост с той стороны перекрестка слева. Зеленый глаз светофора от изумленья заморгал, и вспыхнул красный.
– Ну что же это такое!
Через прямое, как витринное, но густо заиндевевшее заднее стекло карманного «мерседесика» Игорь не видел, кто же так водит. И злился. Только злился, глядя на три тонкие стрелки вечных фашистских часиков, навсегда замерших одновременно и на без двадцати двенадцать и на двадцати минутах первого.
«Все сразу им подай – и полдень, и восемь вечера, и четыре часа дня».
Он сам не понимал, не мог объяснить силу и глубину своего раздражения. В общем-то дело, если разобраться, вполне обычное. Неопытный водитель в утренней неразберихе. Ну только что на громкой германской марке, точнее на пафосном ее обрубке. И что? Как-то давно уже он нашел способ, смешной и детский, приветы эти игнорировать. Усиливать немецкое, сгущать фашизм, в смешное превращать, в нелепое и вздорное. Опфель, допфель и аудидасхоф.
А тут не получалось. Все-таки «мерседес» пока что редкость на дороге. И обзывало, ихбин-погоняло не сложилось, не оформилось у него заранее, давно, а прямо сейчас, в сильнейшем нервном возбуждении и недовольстве, ничего в голову не приходило. А между тем маленькая глупая коробчонка для лягушонки с трехлучевой звездой на заднице, словно нарочно, все с той же тягостной тупой последовательностью продолжала испытывать Игоря на прочность.
Когда наконец переключился светофор и можно было трогаться, серый обрубок очень задумчиво и плавно зашел на мост, а потом, свернув наконец, начал решать сложный вопрос, правый занять ряд или же левый. Ну а покуда решенье желировалось, устаканивалось в подкорке невидимого Игорю водителя, сама им управляемая косметичка на колесиках, тевтонская шкатулка, торжественно ползла точно между рядов, не позволяя обогнать себя ни так ни эдак.
– Ну что же это такое!
В конце концов мелкая дрянь приткнулась на левый поворот на том конце моста, у светофора на перекрестке Соборная – Октябрьский. Ладно, теперь вопрос решится. Сразу за поворотом начинается широкий и свободный Притомский проспект, и Игорь позабудет эти три лучика в кружке. Обгонит, успокоится. А в следующий раз не за тридцать минут будет выезжать на встречу, а за сорок пять, когда надо в утреннем мороке пробираться по узким коленцам Васильева и Мичурина. Одна нечищеная, а вторая односторонняя.
И с этими мыслями Игорь заглох, когда сменился свет. Раз в год такое с ним случается, и надо же, чтобы именно сейчас, в тот самый момент, когда он так презирал и ни во что не ставил плохого, неумелого водителя на дорогой и глупой немецкой малолитражке. Заглох, не тронулся вовремя и потому маленький «мерседесик» догнал только внизу, когда мелочь пузатая, не включив поворотников, а просто, то ли скользя, то ли сползая, стала медленно, но неумолимо выдвигаться из своего ряда в ряд ускорявшегося Игоря.
– Да что это такое, в самом деле!
Девчонка с колечками на каждом пальце в этой коляске или надутая старуха в парике, нельзя так ездить здесь, где скользко и под горку. Все, хватит. Лучше он опоздает на пять минут, на десять, на пятнадцать, но к черту эту ползучую фашистскую преграду, помеху с серебряными часиками на заду.
Но как-то иначе, похоже, постановили сзади в кофейном, крепко тонированном «авенсисе». Там, судя по всему, ругали уже Игоря, не очень понимая, чего он дергается, не едет по-людски, и когда «лансер» просто сбросил скорость, тень за спиной сердито и решительно сместилась влево и всей шоколадной, темной массой устремилась вслед едущему через строчку, как попало, кнопочному автомобильчику. В глубокий правый поворот рассерженный и злой «авенсис» вошел резко, как будто бы наказывая, подсекая «мерседес», скорей по хорде, чем по окружности закладывая не вираж, а что-то вроде ножевого, распарывающего воздух, дорогу рассекающего хозяйского движенья, и вырвался, ушел на чистую, свободную на сотню метров ленту. Но не успел порадоваться победе и отмщению. На выходе, на скромно и невинно блестящей наледи, пытаясь быстро выровняться, сорвался и полетел, крутясь, вертясь, на встречку. Удар, один, второй и третий. Как будто детские петарды одна за другой хлопнули, подкидывая в воздух снег, стекло, резину и металл. И как огонь, из этого пепла и дыма января огромной плюхой, рыжей тушей лениво вывалился оранжевый «КамАЗ», полкруга описал и встал поперек дороги. Точно по ходу «лансера».
– Приехали!
Игорь успел остановиться за пару метров до бампера, который, словно челюсть, выбросил перед собой на мерзлый, каменный асфальт тяжело замерший самосвал. И рядом с Игорем так же удачно затормозила «гран витара». Почему большая, крепкая «витара», а не искавшая так долго жертву и наконец нашедшая немецкая свинка-копилка, Игорь понял, когда распахнул дверь, встал во весь рост и обернулся. Эта зловредная культя нормального автомобиля, отпрянув от летящего «авенсиса», сама пошла вальсировать, но уже по чистой встречной, словно нарочно для нее освобожденной тараном в хлам расхлеставшейся японки, и теперь мелкая самодвижущаяся немчура невинно жмурилась, поблескивала стеклами, живая и здоровая, на той стороне обочины. Все ту же демонстрируя трехглавую звездочку, но только теперь на редких зубчиках скупого, как гадкая улыбочка, воздухозаборника.
– Ишь ты, везучий, сука, «мерин», – подойдя к Игорю, уже расправлявшему ножки красного треугольника, сказал водитель «гран витары».
«Ну да, конечно мерин, – подумал Игорь, бросая взгляд через дорогу, – дрянь на колесиках, дурацкий, свинский меринбах».
* * *
Он точно знал, что едет на Красный камень в последний раз. И очень радовался, что из Прокопьевска. Обратным ходом заедет, с тыла, с юга, через восточный, панельный район Прокопьевска с названием Тырган, а выезжать будет обычным образом, вперед – Дальние горы, Афонино, Кутоново и дальше, дальше, на север. Прочь. В Южносибирск. Но уже с собакой.
Через неделю после того, как Шарфы, Настя и Толя, уехали, Игорь бесповоротно для себя решил, что заберет в Киселевске уличного белого щенка. Не знал, не думал и не понимал, как будет объяснять такой поступок Алке. И радовался этому. Она ведь не объясняла, отчего настойчиво просила отвезти ее к «твоим», на кладбище. Почувствовала, что надо, и ему это чувство необходимости передалось. И здесь, Игорь уверен был, произойдет что-то подобное. Он инстинктивно к этому пришел, не думая, и Алка все примет и воспримет так же. С необъяснимым пониманием. С нежностью. Как это у них всегда происходило, когда он вдруг решался на что-нибудь неординарное.
И все, словно нарочно, удачно складывалось. Игорь ехал на Красный камень из Тыргана. А значит, толстого белого щенка в мутоновой пороховой шубе он заберет на обратном пути. Самым логичным образом. Дорогою домой. А так-то, пожалуй, нелепо и смешно было бы подкатить с пыльным и грязным увальнем к АБК шахтоуправления «Филипповское» в чистом салоне официального «лансера». Да и вообще, кто знает, как флегматичный с виду сын улицы будет вести себя в первые минуты нежданной и негаданной теплой неволи? Выскочит с лаем, вырвется. Носиться станет бешеным шаром по офисной стоянке между начальственных гладких «ленд крузеров» и разъездных «дефендеров» с грубыми черными калачами запасок на капотах? Нет, если будет цирк, то лучше дома, в Южносибирске. Подальше от чужих глаз. В располагающей, благоприятной, дружественной обстановке.
Отлично поговорив и, в общем-то, договорившись с директором местного рекламного агентства о вариантах возможного обмена трафика на объявленья, статьи и прочие пути и средства продвиженья услуг ЗАО «Старнет» в Прокопьевске, Игорь завернул в первый попавшийся магазин на длинной широкой улице продутого ветрами Тыргана и купил кусок вареной колбасы. Вышел из стекляшки, а на фасаде соседнего дома надпись – «улица Есенина». Прочел и рассмеялся, и стало хорошо. Последние сомнения ушли.
Удача явно и определенно была на его стороне. И человеческая логика, со всей культурно-философской ее подкладкой. Конечно, если кусок «Останкинской» для кражи пса на улице Маяковского в городе Киселевске нашелся сам собой не где-нибудь, а на Есенина в Прокопьевске, значит, все правильно Игорь решил. И верно. Молодец.
Проселок в полях, летом тяжелый, пыльный, вился прекрасным укатанным зимником. Сам не заметил, как долетел до новодельной желтенькой мечети на въезде в населенный пункт Верхний Егос.
«Ну что, давай, напутствуй», – подумал Игорь, глядя на минарет со шпилем, похожий на маяк. И снова улыбнулся. На въезде в Красный камень, через пятнадцать или двадцать километров, его будет встречать еще один пестренький новодел со смыслом – храм с дюжиной разновеликих маковок, красные стены, белые оконца.
«Ну ведь не может быть такое сочетание случайным, такое движение от предков Гиматтиновых к предкам Валенков. От одного благословления к другому».
В храме, должно быть, совсем недавно завершилась служба, и Игорь затормозил на переходе, чтобы пропустить людей. Еще раз он остановился, пропуская самый густой поток спешащих, перед последним новоделом на своем пути – огромным моллом красноярской торговой сети «Алпи». Желто-синий монстр здесь, на окраине Красного камня, вырос буквально за год, на глазах Игоря, стремительно, как в черно-белом фильме под марш «Время, вперед!». Но радости не вызывал. Сразу вспоминалась череда долгих и вязких переговоров с управленцами этой торговой сети, как будто бы хотевших что-то, но не остро, не быстро, в принципе, с прицелом на плохо еще различимое в тумане будущее…
«И хорошо. Надо собраться. Нечего слюни распускать до времени, – сам себя наставлял Игорь. – Все будет хорошо и даже еще лучше, но впереди малоприятных полчаса. Их надо пережить. Немца отрезать, а уж потом веселиться…»
Волшебные и сказочные летом поля рапса и кипрея зимой не отличались одно от другого. Все тот же голубоватый непролазный снег, что по эту, что по другую сторону путепровода железки, на странном исходе девяностых начатого и недостроенного. Предполагалось, что по этой собственной железнодорожной ветке из Европы сюда, в Большой Южбасский технопарк, приедут целые производства. Но вот не сложилось, и даже лояльность месту и идее так долго сохранявшие фашисты и те сматывают удочки. Теперь одно огромное ШУ «Филипповское» будет тут жить и шиковать среди пустующих построек технологического и технического назначения. Ну, уж ему-то некуда с земли деваться, из этого центра притяжения, окружности, по кривому периметру которой шахты, шахты, шахты.
Игорь проехал вдоль длинного пустующего заводского корпуса, так и не заполнившегося машинами и механизмами, и свернул к АБК. В дальнем углу щедро к нему прирезанной стоянки какие-то до странности знакомые люди слонялись вдоль навязчиво и неприятно узнаваемого автомобиля. Цвета серебряный металлик. С контурами недорыбы-полугрызуна. «Ссан-йонг актион».
– Ну что же вы, Игорь Ярославович, не в курсе всем известных фактов. Это же самый настоящий «мерседес», но только ценник при этом азиатский.
Человек, некогда нравоучительно изрекший эти слова, сейчас не выглядел всеведущим и всемогущим повелителем небес и недр. Роберт Бернгардович Альтман без шапки, в одной куртке с башлыком, стоя перед акульим носом своего азиатского «мерседеса» и даже «бенца», то приседал, то выпрямлялся, то что-то рукой показывал на той, не видимой Игорю пока еще нижней стороне хищного носа своей тачки и говорил. А пара человек возле него, в таких же куртках с башлыками, все время норовящими слететь с круглых голов, не в такт, как бы с ленцой, повторяла его движения. То приседали, то вставали перед машиной, к ней то протягивая руки, то опуская.
Казалось, что группа новичков без чувства ритма и без слуха упорно разучивает какой-то танец вроде гопака.
Когда Игорь подошел и поздоровался, Альтман опять сидел на корточках и крепким красным пальцем тыкал в нижний угол бампера. Там было темное пятно, от которого весело разбегались черные трещины. Одна к стаканчику противотуманки, а две другие к скату колеса.
– Ночью не заметили мелкий сугроб? – любезно осведомился Игорь.
– Да если бы, – ответил Альтман, распрямляясь. Он был очень зол, свиреп и красен, и от обиды на весь мир его обычно светлая с рыжинкой эспаньолка сделалась пепельной. – Средь бела дня собаку сбил.
– Когда? – чувствуя легкое головокружение, быстро спросил Игорь.
– Да часа не прошло, – глава «КРАБ Рус» был просто вне себя. – Ехал по Маяковского, не знаю, ну максимум шестьдесят, а он, как куль с углем, прямо с обочины и под колеса – хряк…
– Кто? – Игорь так странно это произнес, что удивленный Альтман на него долго и внимательно смотрел, прежде чем снова удостоить словом.
– Ну я же сказал вам, Игорь Ярославович. Собака. Щенок, не знаю, по виду меньше года, а весу, как в медвежонке, как из железа… Вот, сами видите, что сделал, гад…
Альтман присел еще раз и пальцем потрогал трещину, вскрывшую пластик стрелою к противотуманке.
– Чтоб ей неладно было на том свете, этой дворняге грязной… Десятка, если просто подлатать, а под замену – тридцать.
Потом он снова выпрямился, повернул печную рожу с белым пеплом вокруг губ к Игорю и, наконец заставив себя справиться с эмоциями, особо деланным и показным тоном поинтересовался:
– А вы к нам?
– Нет, – не задумываясь, ответил Игорь.
Механически пожал протянутую руку, вторую, третью. И пошел к своей еще теплой машине. Ехать через Дальние горы, Афонино, Кутоново не было никаких сил. Ушел на кольце к автовокзалу, стадиону, в центр и вдоль по Транспортной до поворота на Усть-Катский. Прочь.
* * *
Ну почему? Почему даже это у него надо отнять? Ночь. Забытье. Полное отключение и отсоединение. Закрытые окна, закрытые двери, закрытые веки. Тройная защита на шесть, семь, иногда целых восемь часов.
Он даже не знает причину. Это не психология с выворачивающими что-то из подкорки снами и это не физиология, насосом кровяным упрямо, мерно раздувающая мочевой пузырь. Это просто пробуждение. В два, в половине третьего. Без повода, какого бы то ни было, воображаемого или осязаемого. В беззвучном мраке. Щелк. В поту и ломке, как после безобразной пьянки. С теми же отчаяньем, безнадежностью и болью, но только без стыда.
Без стыда, без мук душевных или угрызений совести. В пустоте и чистоте. И от этого еще мучительнее, еще страшнее, тяжелее, поскольку все это не объяснимо, не ясно, не понятно, за что, за что же наказание? И почему? Бессонница. Безо всякого Гомера, часов, трусов и парусов. Лишь клещи. Невидимые клещи. Тиски, струбцины. Не выкричать, не выплюнуть, не выблевать. И не умереть.
Только лежать. Лежать как трупу. Вытянув ноги, вытянув руки. Без движенья и мысли. Лежать как мертвому, но от него, счастливого, холодного и беззаботного, в отличие, всем телом ощущая дикое, безумное давление. Внутреннее и внешнее. Ломающее, душащее, пугающее бесконечностью и безысходностью. В полтретьего. Без воздуха. Не видя ничего, не слыша и не понимая.
Ну почему? Ну почему?
Откуда-то из-за окна, из самого глубокого, запутанного и бездонного подземелья ночи, из самой вязкой, тошнотворной ваты тьмы зло и внезапно рыкает машина скорой помощи, просясь под шлагбаум третьей городской. Белая машина с красной полосой. Белые беленые стены больничных коридоров с зеленой до пола отбивкой антисептическим кафелем. И совершенно уже белые простыни. Сероватые, голубоватые, шершавые, пупырчатые, как снег на льду реки в субботу, по которому бежит и вьется бесконечная лыжня. От никогда не замерзающего устья Искитимки к давно и намертво в небо и реку вмерзшим быкам нового моста. Впереди широкая и круглая спина отца в стеганой куртке. Спина качается. Скрипит болонья, постукивают лыжи, мелькают палки, дышит снег…
Как он ненавидел мальчиком эти прогулки между ледяными, одноцветными, вернее не имеющим цвета вовсе, перетекающими из одного в другое небом и землей. И как он счастлив, что они были. Редкие, томительные и однообразные. Да, были, были, были, и теперь… теперь только они, они и больше ничего еще способны перевести его на ту, другую сторону ночи. Туда, на свет. Где разум, по большей части, еще справляется, и тело тоже, с необъяснимостью и бесконечностью ужаса и боли.
* * *
А к немцам ехать все равно надо было. Акты гнали. Счета-фактуры требовали. Прошла неделя, и Игорь нашел в себе силы. Собрался.
И снова начал с глупости. Поехал как обычно. Через Кутоново, Афонино и Дальние горы. И напоролся на мертвого щенка. Грязный, запущенный, сам на себя махнувший Киселевск, не убираемый никем и сам за собой не подбирающий. Плевок на карте, в центре которого кошку, задавленную ночью, затем упорно раскатывают день за днем неделю, две колесами всех видов и размеров до состояния половичка. Тряпочки для ног. Засаленной бархотки.
Белому, толстенькому, с мерлушковым загривком, густо обсыпанным угольным въедливым гнусом, повезло больше. Удар его отбросил на обочину. На гребень небольшого снежного увала все тем же грифельным ветром, тоскливо и однообразно загрунтованного мертвенной серой мутью. Туда, на серый снег, где колеса не могли щенка достать. Могли люди. Но не захотели. Не стали. И он, большой и толстый, лежал окоченевший на смерзшемся, слежавшемся сугробе. Можно подумать, спал.
Да, можно было бы подумать – спит, если б не угольная патина. Ничем не прерываемый слой сажи, укрывший за неделю равномерно все, что не двигалось. Остановилось. Ограду заметенную, сугробчик и воздуха лишенный шар щенка. С колбасами еще смешных и детских лап.
* * *
По офису «КРАБ Рус» гуляли сквозняки и грузчики. Солнечные столбы из распахнутых дверей вываливались прямо в коридор. Внезапно оголенные стены кабинетов стыдливо демонстрировали подтеки разной природы, пятна, выцветшие полосы на офисных обоях и паутину. Очистка помещений завершалась. Но главный бухгалтер, как и обещала, ждала Игоря. В ее угловом, девичьем покое уже не было высоких шкафов с папками и книгами, но стол с бумагами и скромный кубик несгораемого шкафчика на тумбочке, все там, где и всегда, еще давали ощущение убежища. Места, пока что заговоренного от ухарского ветра кругом бушующего бардака.
– Ну что за люди? – в сердцах пожаловалась сухая и бледная, словно из воска сделанная женщина. Она забрала бумаги Игоря, проверила, все аккуратно подколола, сложила в папочку, а затем, вдруг протянув ему чужой какой-то счет, предложила полюбоваться: – Нет, вы скажите, ну где еще такие в наше время находятся?
– Какие?
– Ну такие, что в сумме не выделяют НДС?
Это был счет на бампер для «ссанг-йонга» от какой-то такой ничтожной и малюсенькой конторки, что даже стандартного и вездесущего 1С у них не было. Листочек счета был натурально сделан вручную в ворде или икселе.
– А почему вы-то платите? – удивился в свою очередь Игорь. – У вас разве машины не застрахованы?
– Были, – ядовито заметила фарфоровая женщина. – Но вы же знаете Роберта Бернгардовича…
Она глянула на Игоря затравленно и даже виновато.
– Все у него кругом мошенники и жулики. И потому мы три недели назад разорвали договор на КАСКО со старой страховой, а с новой подписали только позавчера.
«Ах, вот в чем дело, – злорадно подумал Игорь, сразу припомнив Альтмана на корточках перед уродливой машинкой, бормочущего “десятка, если просто подлатать, а под замену – тридцать”, – значит, нашел самого левого левака».
Сумма счета была чуть меньше девяти тысяч.
– Зато какой он у вас рачительный и экономный, сын прогрессивного писателя-антифашиста.
– Кого, кого? – изумилась такому повороту темы даже эта лишенная пигментов женщина, в жилах которой текла, наверное, не кровь, а сыворотка, полупрозрачная, молочная, способная тихо и долго кипеть, шипеть, но не расплескиваться пузырями и не взрываться.
– Простите, – смутился Игорь, – глупая шутка. Не знаю, почему-то вдруг сорвалось. Писатель был такой – Бернгард Келлерман… Любимый автор нашего директора, в школе, наверное, долго проходил…
Главный бухгалтер ЗАО «КРАБ Рус» внимательно и долго смотрела на Игоря Валенка, а он на нее. И странное, совсем ненужное, необязательное понимание возникало и крепло между Игорем Ярославовичем Валенком и это женщиной по имени Вера Петровна Шиш.
– Да хоть бы и Гржимека, – вдруг резко оборвала она на этом взаимный процесс порозовения и покраснения. – От этой рачительности…
Еще секунду-две тому назад Игорю казалось, что взволнованная, растревоженная, раздосадованная бухгалтерша вот-вот ввернет, решится на точное и верное определение «немецкой»… фашистской рачительности, фашистской скаредности… но Вера Петровна не решилась.
– …от этой рачительности, вы знаете… рачительности и экономии, честное слово, один убыток…
И снова стала бескровной, как свечка, огненным мотыльком вспыхнувшая неизвестно отчего и тут же погашенная первым же легким дуновеньем, холодным язычком нечаянного сквозняка. Вера Петровна Шиш, в имени которой и фамилии не было вообще, да и не предполагалось кубиков-слогов хозяйской неразделимой троицы Крафтманн, Робке унд Альтмайер. Ни одного.
* * *
Большая лестница, по которой Игорь поднялся в разоренный офис «КРАБ Рус», была перегорожена огромным неразъемным шкафом. Как-то так неудачно его завели между перил грузчики, что ничего, кроме крика, не ходило теперь и не двигалось между четвертым этажом и третьим АБК ШУ «Филипповское».
– Пойдемте, – предложила Вера Петровна, которая из кабинета вышла вместе с Валенком и направлялась в бухгалтерию шахтоуправления, куда-то на второй. – Это надолго. С той стороны коридора есть маленькая запасная лестница.
И в самом деле, узкие непарадные пролеты, из разряда тех, что этажи соединяют в старых хрущевках, обнаружились в дальнем конце коридора за туалетами. На маленькой этажной площадке прямо на кафельном полу стояли разнообразные цветочные горшки. И лишь один отдельно, по-царски на старом, низком, крашенном грубой масляной краской табурете.
Игорь узнал знаменитую азалию Бурке. Она стала еще прекраснее. Длинные косы ее побегов давно переросли широкое устье горшка и щедро свешивались теперь, кудрявились по всей его окружности волнами гибких, мелколистных прядей, усыпанных, словно волшебными бантами, розовой россыпью нежных, новогодних, елочных цветов. Невероятно. С тех пор как Альтман занял кабинет директора, цветы оттуда были вынесены, и Игорь даже не подозревал, что где-то они полгода или даже больше жили, не скрючились, не высохли, не умерли…
– Что это тут вся ваша красота? – спросил Игорь Веру Петровну с удивительно уместной для главного бухгалтера фамилией. Шиш.
– А куда ее девать? – пожала плечами женщина без крови и воды. – Был у нас, если помните, чудаковатый парнишка Герман, он у себя держал, ушел, я поливала, когда могла, ну а теперь не знаю, может быть, тут кто-то сжалится…
– А если я?
– Что вы?
– Я сжалюсь, – ответил Игорь, – я заберу…
Главбух «КРАБ Рус» посмотрела на менеджера ЗАО «Старнет» с еще большим изумлением, чем в тот момент, когда из его уст внезапно вырвалось загадочное, необъяснимое, черт знает что предполагающее имя Бернгард Келлерман.
– Да ради бога…
И эта была последняя глупость и неудача дня.
Конечно, он помнил давние слова Запотоцкого о том, как здорово и классно было бы выкрасть у немчуры проклятой прекрасный, не оскудевающий розовыми пуговками и фантиками куст. Быть может, самый первоначальный импульс и даже наверняка был связан именно с тем давним: «А вот ты знаешь, Валенок, что стоило бы безусловно у этих грубых тевтонов выкрасть? Из чистого человеколюбия, на гуманитарных, оправданных любой моралью основаниях?»
Но это было бы так по-гусаковки, по-полтораковски… Что-то притырить у клиента, прикарманить и принести в зубах своему боссу. Добычу положить к ногам. Нет, Игорь не мог. Исключено. Но не сходилось ничего, не улыбалось и тогда, когда он думал о доме. Просто о доме. А думал Игорь всю дорогу и всякий раз представлял Алку, так ненавидевшую, презиравшую оранжереи своей матери. Цветы на подоконниках.
– Как за забором ходишь, как в тюрьме… И эти гиацинты проклятущие, как лопнувшие глазки ста тысяч соглядатаев…
Да, пса, собаку, уличного толстого щенка Игорь хотел и мог привезти к себе, домой. Без объяснений, просто так. С полной надеждой на понимание, на понимание душевного движения, не требующего слов… А вот цветок, азалию, зеленого спрута с розовыми нежными присосками на полусотне щупалец… Нет. Никак.
И он оставил гестаповский горшок в подъезде. На подоконнике. Возле почтовых ящиков.
* * *
Почтовых ящиков. Неизменных. Погнутых, потрепанных, исписанных, но тех же, тех же самых, в которых еще недавно, всего лишь пару-тройку десятилетий тому назад отец находил свои заветные открытки из книжного. Журнальные гранки в серо-голубых служебных конвертах. Или издательские верстки в светло-коричневых.
Время, когда книжные полки не на помойку шли, а в комнаты, в дома. И корешки, ряды корешков характер человека открывали. Книги, а не мелодии звонков на телефоне.
Или не открывали? Прятали, лакировали, затушевывали? Игорь внезапно вспомнил старый шкаф в отцовской комнате, который так незаметно и фатально смогла распатронить в своих залетах Алка. Чего там только не было, и в том числе черный толстенный Ганс Фаллада «Волк среди волков» и Келлерман. Конечно, Бернгард Келлерман, зеленая клеенка, «Туннель» и «Город Анатоль»…
Ну да, конечно. Не в школе Олегу Запотоцкому привиделись, не на уроке случайно, каким-то чудом запали в голову эти нерусские компашки, шоблы согласных «лл» и «рнг». В собственном доме. Ввинтились в мозг, залезли, въелись. В то навсегда ушедшее, исчисленное время, когда с людьми, словно домашние животные, в жилищах жили книги. Существовали. И причем одинаковые.
Одни и те же, одни и те же. И за стеклом в солнечном кабинете заведующего кафедрой систем управления, и на открытой этажерке в сумрачном проходном коридоре в квартире первого секретаря сельского райкома.
Фаллада Ганс и Бернгард Келлерман. Они и составляют общее прошлое. А больше ничего.
* * *
Дня через три или четыре он увидел на Алкином лице эту плохую, влажную улыбку, над которой плавают два мертвых рыбьих глаза с сальной радужкой. Предвестник неминуемого.
– Соседка Нелька, ну, знаешь, эта добренькая со второго этажа, сейчас меня держала, не отпускала битых двадцать минут…
– А что такое?
– Чудо, понимаешь. Нам ангелы явили чудо. Конкретно нашему подъезду, дом номер 33 по улице Островского.
– Какого сорта?
– Откуда же мне знать, я не биолог, не растениевод. Нашла она позавчера за своей дверью, прямо в подъезде, какую-то цветущую араукарию. Теперь уверена, что вечно будет жить и здравствовать. И все мы вместе с ней.
– А вдруг?
– А вдруг я у тебя еще сто десять лет пробуду лаборанткой? Лаборанткой в этом богомерзком как бы высшем как бы учебном заведении?
Игорь поднялся. Алка стояла у плиты спиной к нему. Он быстро взял ее за плечи, повернул к себе и ужаснулся. Глаз не было. Две керосиновые бляшки, два слепых пятна качались на желтоватом масле, в смертельной паутине мелких, микроскопических сосудов.
* * *
Почему? Почему, почему они не остались там, в горах? Пусть даже под лавиной, под оползнем, под грудою камней? Или под темною водой? На дне большого омута? В реке? Счастливыми, неразделимыми, свободными? И если не на Зубьях, не в Шории, то там, на Кие?
Или всё вместе, всё сразу. Под медленно, за веком век текущим, тяжелым и шершавым спудом, волнами-валунами каменной реки. Курумника. Где-нибудь на горе Зеленой, горе Курган или Мустаг. Где птицы, легкие, невидимые, окликают, зовут с небес толстых, безухих и бесхвостых зайцев, сеноставок. Пищух, которые им отвечают. Комочки сала, поющие, как соловьи.
Игорь прекрасно помнил, где и когда впервые он услышал имя этого зверька. В Междуреченске на железнодорожном вокзале. Спросонок. Поднявши голову от рюкзака, на котором на мгновенье прикорнул, зажмурившись, зевая. Сильно обросший за две недели. Нестриженый, небритый.
– Смотри, блин, вылитая пищуха, – кто-то сказал рядом. Нетрезвым, наждачной окраски голосом.
– Ты че, совсем, в хавальник, что ли, хочешь, чтоб прилетело… – ответили таким же точно, до звуковых дыр, до шелеста и скрипа протертым клекотом.
Остатки сна слетели, Игорь оглянулся. Две тени удалялись по проходу между фанерными скамейками серого зала ожиданья. Неверные, сгорающие, растворяющиеся в утреннем полумраке. И непонятно было, к кому слова, оставленные ими, относились. К Игорю, к соседу справа или к парнишке на краю ряда, что-то жевавшему. Что-то степенно, осторожно, но решительно выкусывавшему прямо из глубины бумажного кулечка.
– Кто такая пищуха? – спросил Игорь Алку уже потом, уже в электричке.
Она рассмеялась.
– Горный хомячок такой. Толстенький суслик. Как ты, в общем, пушистый, мягкий и… сладкий. Очень сладкий…
И быстрая ее рука ему скользнула под рубаху. В вагоне никого, на счастье, не было, но ведь в любой миг, в любую секунду мог кто-нибудь войти. Пассажир-шатун, идущий по ходу поезда неясно для чего и почему, или же контролер, уверенный, что он везде поспеет, и потому всегда шагающий движению наперекор.
Потом, когда они уже отпали друг от друга и только руки не разъединили, не расклеили, Алка добавила:
– Только они у нас тут редкость. Пищух на Алтае очень много, и в Саянах, говорят, за каждым камнем…
Но они встретились. Все равно встретились. Игорь и этот заяц с такими мелкими ушами и хвостом, что их как будто бы и нет. Где-то у Мустага, за Шерегешем, в местах, где, словно реки черепов каких-то исполинских воинов нечеловеческих каких-то войн, ползут по склонам серые курумники. Буграми, затылками и лбами, бесконечной обветренной, обглоданной, обмытой лентой.
Сначала они увидели маленький смешной стожок под старою сосной. Как храм ацтеков, с тремя ступеньками наверх. Уровень первый – чувственное, засохшие соцветья, ломкие желтые стебельки, уровень средний – рациональный, слегка подвяленные листья да мутные, полуживые глазки цветов, и наконец последний – это небесный купол, что там, не разглядеть, осока, кажется… Свежая зелень.
– Да кто здесь косит? В этой-то глуши. На этом диком склоне, между корней и камней?
– Какой-нибудь зверек.
– Какой?
– Пищуха скорее всего, – сказала Алка, – она таскает сено. Так говорят. Бобры и белки в этом не замечены…
И ровно через десять метров Игорь ее увидел. Маленький меховой шарик с остренькой мордочкой, а в зубах откушенный под корень целый куст поповника – полевой ромашки. Маленький упрямый трудоголик с зеленой ношей, поставив две передние лапки на выступ камня, замер и слушал тишину. Прозрачность и нежность горы и леса.
Игорь и Алка не шевелились. Не двигался и колобок в серой с коричневым оттенком шубке. Возделыватель и собиратель. Он словно не понимал, что это вдруг случилось… вмешалось в размеренный, расписанный, нормальный ход вещей и не дает ему спокойно делать дело. Ритмично, ровно, непрерывно…
Предчувствие звука, как оказалось… внезапно, невидимая, где-то, должно быть, в небесах, на кедре, на сосне, запела птица. Длинная трель, красивый звонкий перелив прорезал воздух. Маленький шарик вздрогнул, выронил мягкие стебли, цветы, листочки, свою будущую зимнюю кормежку, вытянул тельце, обнаружив трогательную коротенькую шейку с мягким коричневым подшерстком, и, сделав губы трубочкой, засвиристел. Ответил птице. Буквально. Такой же точно трелью, песней свободных и пернатых… С земли, с камней…
И птица, конечно же, отозвалась. Буравчик звуков снова позвал с небес. Сюда, сюда… Скорей, скорей… И трепетное горлышко, открывшееся, обнажившееся в нежном меху, когда пищуха вскинула свою головку, тотчас же подтвердило. Сейчас, сейчас… Сейчас, сейчас…
Игорь посмотрел на Алку. Она смеялась. Беззвучно и счастливо.
– Ты помнишь, – прошептал ей Игорь, прямо в лицо, прямо в глаза, – ты помнишь, как пьяные однажды на вокзале сказали мне: «Пищуха»?
«Ну да, конечно… еще бы» – подтвердили карие, безумные, прекрасные, неповторимые… Глаза веселой птицы.
А в приюте вечером заведующий, хмурый и бородатый мужлан, пахнущий старыми ватниками и чесноком, пожал плечами:
– Да нет конечно. Какая еще птица? Это такая же, только другая, пищуха там у вас чирикала. О вас как раз предупреждала… Вы ее просто не увидели, эту другую.
Но Игорь ему не поверил. И недодал наутро сверх денег к положенному за постой еще и призовую бутылку водки. Не заслужил.
* * *
И всегда это лента повторов. То вдруг начинают на каждом километре подрезать большие красные, как ридикюли на колесах, «фиаты дукато». То непонятно что творят «пассаты». «Фольки-проклятые-фонфольки» все черные как на подбор, с каким-то прапорщицким, пошлым щегольством прошитые полоской тонкого хрома по пластику бампера. Или же праворучки всякий раз, когда пристраиваешься за такой на левый поворот, имеют на самодельных вставках, нашлепках и всяких прочих приспособлениях для перехода от японского квадрата к родному прямоугольнику один и тот же чужой номер региона. 22. Алтайский край.
День, словно поток сна с вечным двадцать пятым кадром. Очень замедленная, но действующая модель бреда. Особенно сегодня, особенно сейчас, когда на пассажирском сиденье развалился Полторак. Полтаракана, равные одной целой и одной второй рака.
Игорь и не сообразил, не понял, отчего вчера утром перед еженедельным совещанием все было так мило и по-свойски в кабинете отдела продаж. Андрей Андреевич Полторак не расставлял медвежьи капканы Борису Евгеньевичу Гусакову и мелкие булавки не готовил самому Игорю Ярославовичу. С самым сердечным видом травил гинекологические анекдоты и даже сделал невозможное – заставил ухмыляться мрачного врага Бобка:
– …А вот еще одна такая приходит к доктору, хочу, говорит, типа, чтобы у меня грудь торчком всегда стояла, что посоветуете? А он такой ей: очень просто, ходите все время только на четвереньках…
К чему вся эта сальная благожелательность ко всем и вся, выяснилось после обмена планами у Запотоцкого.
– А вы, Игорь Ярославович, завтра, верно я все понял, в Новокузнецк?
– Да.
– Упасть на хвост к вам, так сказать, любезно не позволите?
Семейные обстоятельства. Специально взял три дня отгулов, с завтрашнего дня и до конца недели, и надо же, сегодня прямо с утра пришлось машину отогнать на сервис. Вот ведь неперка.
– Вторая давно уже плохо ходила, а со вчера и третью не могу воткнуть. Труба. На первой разгоняюсь и сразу на четвертую. На сервисе – неделя, говорят. А мне ни вправо и ни влево – брат тоже уже взял отгул.
– Вы с братом будете?
– Нет, нет, – быстро заверил Полторак, – один я, что вы, брат, я, может быть, не так все объяснил, он-то как раз в Новокузнецке…
Полтора рака смотрел глазами агнца. Но на донце этих зеленых подлых леденцов поблескивала сладкою искрой мыслишка: а что, и мог бы, мог бы, Игорь Ярославович, и на два раза по полтаракана вас уболтать. Вы же сердечный человек. У вас что-то отжать – чистая радость.
Но и один Андрей Андреевич Полторак был едва выносим. И двадцать пятый кадр едва начавшегося дня, этот предвестник вяло текущей паранойи повседневности, был словно нарочно из его самых пошлых грез с поллюцией.
На перекрестке улица Тухачевского – проспект Химиков, где в первых мушках начинающейся метелицы Игорь притормозил у светофора, мимо в еще ночную пустоту, не останавливаясь, на красный, пролетело «паджеро» с номером А что-то снегом полузанесенное КМ. Эта вездеходная серия вдруг ниоткуда, вне логики, порядка появившаяся год или два тому назад, перед самым прибавлением к номеру региона единицы, вскинула тело Полторака, возбудила:
– Как пуля из автомата, – пробормотал он с явной завистью, – и-и-и-ии вжик…
Игорю тоже связь казалась очевидной. Была издавна, с самого начала века несоветской нумерации автомобилей начальственная пистолетная серия Т-ТТ и парная к ней серия кружков-мишеней О-ОО. Кто мог подумать, что этой мерной икотой лирика региональной административно-хозяйственной нумерологии не исчерпала своего убойно-пробивного вдохновения. Где-то было отложено, хранилось еще и автоматное А-КМ, лежало в каких-то там загашниках, и вот, когда парк самодвижущегося превысил все мыслимые и возможные пределы, пошло, поехало и это дополнительное, тяжеловесное, дорогу окончательно превращая в тир, стрельбище, вечную бойню.
– ТТ, конечно, много круче, – между тем развивал тему Полторак, – лучше них только корки прокурорские, это вообще полный отмаз. Но их за бабки не возьмешь, а ТТ можно. Только это миллионером натурально надо быть…
– Миллионером… – с причмоком повторил через минуту.
Второе беспардонное «А-КМ» этого дня на Игоря свалилось через восемьдесят километров. В деревне. В Демьяновке. Только теперь в бредовом двадцать пятом кадре засветился неповоротливый «хайлендер». Он сразу стоял нехорошо, довольно далеко и агрессивно высунув обрубок черного носа с узкой примыкающей дороги на главную, но не двигался, не дергался, не было ощущения угрозы, опасности, наоборот… И вдруг внезапно, словно нарочно подпустив «лансер» метров на тридцать, двадцать пять всего лишь, большой японец черной тяжелой коровой заколыхался на горочке, поехал, покатился и, медленно, вальяжно загребая снег колесами, подставил прямо под Игоря широкий комод своего зада. Хорошо, что скорость перед пешеходным переходом была никакая и обочина свободная… Хоть как-то можно было сманеврировать.
– Четко рассчитано, – с какой-то явной, нескрываемой завистью выронил Полторак.
– Что именно? – не понял Игорь.
– Ну как, – нисколько не смущаясь, продолжил менеджер по работе с бюджетными организациями компании ЗАО «Старнет». – Вы бы всяко оказались виноваты, Игорь Ярославович… Удар сзади, несоблюдение дистанции, а как, чего на самом деле, кто же видел?
– Так вы… вы же со мной в машине, Андрей… Андрей Андреевич… Вы разве не свидетель?
– Да кто же мне поверит? – с искренним изумлением развел руками Полторак. Вернее, растянул ремень безопасности. Сначала подтащил к самой подмышке, а потом другой рукой ловко перехватив, отвел черную лямку вниз к самому паху. – Такие люди… С таким номерами… С ними ведь не спорить надо, а договариваться…
Потрясенный, буквально ошалевший Игорь молчал.
– А что же тут сделать, такое уж у меня место в жизни, – между тем с какой-то ласковостью в голосе, с каким-то особым гнусным смаком не унимались Полтора рака. – Особо не подергаешься… Вам хорошо, вас сам Олег Геннадьевич опекает, а я-то всем чужой…
– И что бы вы сказали? – Валенок грубо оборвал не нужные ему, в мерзкие топи галиматьи и бреда уводящие намеки и откровения Полторака. – Что вы сказали бы ментам? Что все проспали?
– Ну да, как вариант, – по-деловому качнули головой Полтаракана и снова легко, только сморгнув, залебезили. – Приходится вертеться, ну вы ж понимаете, я человек простой, все сам, все сам, папаша у меня шахтер, а мать бухгалтер…
И вдруг с холодной ясностью Игорь увидел, что двадцать пятый кадр этого бреда – вовсе не кадр конкретного, сегодняшнего дня. Ленты ТТ и АКМ. Это байда и дичь всей его нынешней, зачем-то тянущейся, не знающей конца и остановки жизни. Повинность. Вот чем простегано тоскливое бытие. Прошито. Продырявлено. Повинностью.
Зачем и почему везет он Полторака? Зачем и почему сам едет? Вчера, сегодня… и снова… снова потащится куда-то завтра… Зачем ему этот хомут, эта контора, эта машина, в которую может усесться такое невозможное зоологическое уравнение… Полтаракана, равные полутора ракам? Машина… машина «мицубиси лансер», которая могла бы раз и навсегда во всей этой предельно затянувшейся истории поставить точку…
Последнее в этот серенький невинный день, с легкой сухой метелицей на севере и редкой стыдливой моросью на юге, третье уже А-цифры какие-то-КМ Игорь увидел в Новокузнецке. Уже после того, как высадил полтаракана сразу за вонючим мостиком на улице Димитрова. На Куйбышева у гостиницы «Аба», на перекрестке, водитель красного «Х6» решил, что может сделать левый поворот, не дожидаясь Игоря, летевшего по встречке прямо. Какой прекрасный, чистый с формальной точки зрения ПДД финал. У Игоря на спидометре, замерзшем при лобовом ударе, стрелка навечно застынет у риски шестьдесят пять, в то время как у красного «Х6» статья 12 подраздел 13 КоАП РФ «непредоставление преимущества при проезде перекрестков»… И все что надо – чепуха. Просто не шевелиться. Не убирать ноги с педали газа… И внедорожник от бокового удара в заднее колесо перевернется, закрутится волчком на крыше и, вмазавшись в фонарный столб, согнет его и опрокинет на себя… Все правильно и верно, уходя, выключайте за собой свет… гасите… Но чертова повинность, двадцать пятый кадр, необъяснимая обязанность тянуть телегу, жить, и вместо педали газа Игорь вгоняет в пол совсем другую, ту, что заставила, как проволочку в спицах невидимого школьного велосипеда, биться и стрекотать АБС…
Игорь не плакал никогда, и капля, упавшая на руль, была кровинкой. Кровинкой из прокушенной нижней губы.
* * *
Почему? Ну почему? Ответа нет.
Алка ему, конечно, не открыла. В темной прихожей, в которой пахло, как всегда пахнет в такие дни, слюной и потом, Игорь разделся. Медленно, необыкновенно медленно, как будто бы оттягивая обстоятельностью и аккуратностью момент, когда, мягко ступая по половичку, все же придется войти в комнату. Единственное место в доме, откуда пробивался утробный и тоже пахнущий блевотой и мокротой свет.
Горел низкий торшер, под ним на перекошенных, взволнованных как море подушках старой кушетки лежала Алка. Совершенно спокойная и совершенно счастливая. Глаза закрыты и на губах улыбка.
Она как будто бы уже была на том свете. В раю, где нет ЗАО «Старнет» и водки. Где дочка снова Настя, а не Штази и не Зензи. И над Мустагом всходит солнце. Зеленые и голубые вечные полчетвертого июня месяца. Время, когда все спит, включая неизбывный гнус, и только человек способен проснуться и быть счастливым.
Игорь поднял с пола два полуторалитровых пивных баллона. Один был пуст, а во втором что-то еще плескалось, и оттого прозрачный пластик как-то особенно и мерзко пах. Пошел в кухню, механически промыл под краном и тот и другой, смял с треском чистые и сунул оба в помойное ведро. Поднял голову и увидел на столе пустую бутылку из-под водки, стакан, засохший кусок хлеба. Стакан помыл, а остальное вмял внутрь ведра. Последний раз затрещал пластик, и снова дом погрузился в душную вату тишины.
И вонь стала опять ползти на Игоря из всех углов, мешая темноту и полусвет, мысли и чувства, и это больное, перекошенное, патологическое ощущенье счастья как тишины и равновесия, которое одно лишь только и возможно для него и Алки теперь, сейчас, начало киснуть, рассеиваться исчезать…
И чтобы не случилось этого, чтобы еще тянулся миг обмана, еще одна минута забытья и счастья – восхода над бритым самим небом, чистым и ровным Мустагом, зеленые и голубые вечные полчетвертого июня месяца – Игорь кинулся открывать окна. Распахивать одно за другим по всей квартире в февральскую с легким морозцем черноту… И когда ночь бешеной галкой ввалилась и туда, где на кушетке лежала Алка, на смятом коврике, среди разбросанных и вздыбленных подушек, ее глаза раскрылись…
– Ты, – она пробормотала очень тихо. И губы ее приоткрылись, и улыбка на лице, до этого пустая, механическая, словно окрасилась теплом, она осознавала, что это он… он, Игорь, здесь… – Ты, – повторила Алка и тут же отвалилась, снова забылась, потерялась неизвестно где.
А Игорь… Игорь долго стоял перед ней на сквозняке и гладил своими несвежими, с вечными черными ободками водительскими пальцами ее руки с ногтями желтыми, как старый сыр, но чувствовал лишь запах лета – камней, воды и неба.
Ночью у Игоря отчаянно разболелось горло, и он все время просыпался. И чудилось ему, что кто-то ходит по дому. А утром он обнаружил Алку не на кушетке, а на полу у двери в темной прихожей.
– Не поднимай меня, – она ему сказал едва слышно, когда он наклонился. – У меня сердце бьется в горле, прямо в горле, понимаешь… Не поднимай, я чувствую… я чувствую, оно просто порвется…
Через час ее увезла «скорая».
– Вам очень повезло, – несколько раз повторил врач, прощаясь, – сегодня как раз дежурный кардиоцентр.
* * *
И никого не хотелось видеть. Вообще. Но меньше всего – человека, который шел навстречу Игорю. С приветливым лицом, заранее для рукопожатия снимая с руки черную перчатку.
Надо было поехать на машине. Но Игорь решил пройтись, подышать праздничным мартовским воздухом. В единой справочной аптек ему сказали, что лекарство для Алки есть в сто тринадцатой, и он поперся туда, куда все эти годы не ходил, пошел по улице Весенняя к главному корпусу Политехнического и прямо напротив бывшей «Технической книги», из всех возможных на белом свете географических точек и мест, там, где теперь курсы валют красным на черном и банкомат с круглосуточным доступом, встретил Величко. Своего в былые времена научного руководителя, заведующего кафедрой, ну а с недавних пор и родственника. Дальнего. По линии Шарфов – Баумгартенов.
Но об этом не было сказано ни слова.
– Буквально на днях вас вспоминал, – сказал Величко, когда рукопожатие наконец состоялось. – И вас, и вашего батюшку…
– А что… что вдруг?
Евгений Рудольфович Величко не относился к людям, способным различать особенности интонаций, оттенки иронии или сарказма, улыбка у него могла быть только и исключительно знаком доброжелательности, и он с несомненной приязнью старого знакомого ответил:
– Мы же теперь соседи…
Игорь просто напрягся: да неужели же Шарф, породнились и так далее…
– По кладбищу, – со всей возможной прямолинейностью, серьезно и ласково успокоил его Величко. – Три года назад матушку похоронил. Место буквально рядом с вашим, чуть дальше, совсем чуть-чуть, туда, налево, к березкам… Знаете? Вот и хожу теперь мимо могилы вашего отца несколько раз в год… В августе обязательно – у матушки день рождения, а в этот четверг была годовщина…
– Простите, Евгений Рудольфович, не знал, – искренне устыдился Игорь и своих первых чувств при встрече, и самого себя, – примите мои самые искренние соболезнования.
– Спасибо, – сказал Величко. – Спасибо…
И вдруг, немного помолчав, подумав, прибавил:
– Теперь, вы знаете, такие времена, что уж и непонятно, по поводу чего надо бы соболезновать. Чьей-то смерти или, наоборот, чьей-то жизни…
«Да что же это? Зачем? – буквально зверея, закипая, подумал Игорь. – Что за намек такой…»
Но бывший научный невозмутимо, все с тем же приятным выраженьем дружелюбия на узком рыцарском лице, продолжал:
– Вот раньше я просто убивался, если пропадали лекции из-за праздников. Ну вот как сейчас, с этим Восьмым марта. Курс перекраивал, пытался все равно перенести, донести, а сегодня и рад… Пропали четыре часа, и черт с ними… Потому что никому не нужно – ни детям, ни стране, ни самому себе… Вот что ужасно – самому себе…
Он снова замолчал и вдруг с холодным, неожиданным отчаяньем сказал:
– Даже порядок, порядок, понимаете, никому не нужен. Я, грешный человек, вначале радовался и этим планам, и моделям, и баллам, всему… Столько труда вложил, столько работы. Проходит год или там полтора, два, ошибкой объявляется, все заново на новых основаниях… Какие могут быть новые основания, да еще каждые три года? Советской высшей школе восемьдесят лет… а русской триста… И всегда основание было одно – желание студента учиться, а преподавателя учить… Теперь же ни того нет, ни другого… А все потому, что государство, да и общество, само общество не может никак определиться, что же ему потребуется через пять лет. Сто дворников, два слесаря или четыре дипломированных специалиста… И вот, пожалуйста, постановляем, что вместо десяти часов нагрузки на работу с одной курсовой достаточно и двух… Двух, вы представляете. Два часа! Это же только раскрыть ее да оглавление прочесть…
– М-да… – но тут Величко, как будто спохватившись, покраснел и, словно оправдываясь, прибавил: – Так вот и живем… Тут, знаете, невольно, безо всякого кладбища вспомнишь вашего батюшку, ведь золотые были времена, счастливые… И конкурсы, конкурсы – три человека на место…
– Четыре, – неожиданно для самого себе внезапно припомнил Игорь, – в мой год было четыре… на автоматические системы управления в промышленности. Восемнадцать – проходной балл.
– А вы ведь двадцать набрали, все пятерки, отец ваш, помню, был очень горд…
– Случайность, – промямлил Игорь, – везение…
– Везение, да… – Величко кивнул. – Везение… это то самое, чего нам всем давно уже и безнадежно не хватает… везения…
– Ну, может быть, еще бог даст, – совершенно механически, предчувствуя конец этой ненужной, странной беседы и внутренне радуясь освобождению, быстро поддакнул Игорь.
– Нет, – все с той же донкихотской, глупою добротой в глазах, но очень твердо и решительно ответил Величко. – Бог нам ничего не даст. Ничего. Мы это с вами, как два инженера, должны очень хорошо понимать. Очень хорошо.
* * *
И вдруг он понял. Понял, почему отец не хотел думать и помнить об этом. Почему немец Баумгартен, Евгений Рудольфович Величко, мог быть его учеником. Товарищем. Коллегой.
Поколение отца, оно словно все время поднимались, шло вверх, вперед, и потому сбрасывало с плеч любую тяжесть, любой ненужный груз, довесок, чепуху:
– Ну немец, ну и что, зато какая умница, хотя, конечно, и педант…
«А мы, что мы?» – Игорь вспомнил, как несколько дней тому назад, отыскивая Алкин полис, наткнулся в ящике комода на свою полностью выцветшую ваковскую карточку. Синий счастливый штамп был слизан временем до белого картона, осталась только дата, некогда вписанная ручкой, 1987, да крючок подписи. И больше ничего. Как на обороте той, коричневой фотографии. Лишь год. 1932.
Ни запаха, ни цвета, только та самая первооснова, генетика, о которой что-то однажды под шум гулянки плел этот сушеный человечек, переплетенье костей и жил, Леонид Шейнис. Леонид Яковлевич. Самое страшное – ничем не укрытая, не спрятанная, не защищенная простая человеческая кожа.
Плечи, спина и шея, на которые ложится и прилипает все. И тяжесть, и гнусность, и чепуха. В безветрии и духоте бесповоротного, неумолимого спуска вниз. Под землю… Туда, где только нечистоты и надписи на стенах… Надписи…
Внезапный острый приступ злобы заставил Игоря остановиться и даже обернуться. Он уже был у площади Волкова и там, на другой стороне Красноармейской, давно и след простыл профессора, заведующего кафедрой Евгения Рудольфовича Величко. Но слова, им сказанные десять-пятнадцать минут тому назад, отчетливо и ясно звучали, звенели в голове:
– Вот и хожу теперь мимо могилы вашего отца несколько раз в год… В августе обязательно…
В августе! Он был там в августе, он видел эту грязь, эту краску. Конечно. Как же. В августе. Черной нитроэмалью поперек камня. Все видел и промолчал. Ни слова не сказал.
Фашист проклятый. Немец сверхделикатного покроя. Ливонский меченосец. Хрен.
«А может быть, – Игорю показалось, что на дворе не свежий с ветерком март, а жаркий, угарный конец июня, так стало тяжело и нехорошо. – Быть может, в своем упадке и безнадежности, он просто думает, этот Баумгартен, что так и надо? Так и надо?»
* * *
Самым удивительным было то, что в кабинете не оказалось Гусакова. Бобка, в день производственных совещаний всегда приезжавшего раньше всех, являвшегося спозаранку и накрывавшего своей замерзшей, безнадежной тенью весь дальний угол. Сегодня же там жмурился и терся лишь легкомысленный, греха не ведающий солнечный заяц.
Странным было и состояние Полтаракана. Этот-то всегда находился в слегка приподнятом, слегка подвзвинченном настрое готового на все подонка, веснушки его играли, плавали, лоснились, делая рожу подвижной, с неуловимым, вечно ускользающим от глаза выражением лица. Так было и сегодня, но к этой масляной увертливости, животной, всеобщей, торжествующей приспособляемости что-то еще прибавилось.
Вначале Игорь не мог понять, что именно. Мешало внезапное разнообразье посторонних звуков. Кто-то под самыми окнами прогревал машину и время от времени что-то кричал кому-то снизу вверх. В коридоре шумно таскали какие-то коробки в соседний офис. А на столе самого Полторака стонал и хрюкал компактный сканер. И только когда в один момент все разом смолкло, стало понятно, в чем изумляющая необычность поведения менеджера по работе с бюджетными организациями.
Он напевал. Мурлыкал что-то себе под нос, тихо и весело урчал и булькал, как жидкость в клистирной трубке. И в этом было что-то особенно отвратительное, как будто в своем всепобеждающем презрении к условностям и глупым предрассудкам Полторак сделал какой-то новый, откровенный и циничный жест. Штаны снял и ходит теперь по кабинету с голой задницей.
А между тем Бобок был нужен Игорю. В четверг он любезно избавил Валенка от необходимости делать изрядный крюк и по дороге из Осинников заезжать в Гурьевск.
– А я ночую сегодня там, – сказал он Игорю, когда они случайно встретились и перекинулись парою слов на лукойловской заправке у прокопьевского кольца, – если нужно просто забрать договор, так без проблем, чего там, Игорь Ярославович, меня вообще не напряжет. До вторника потерпите?
– Вполне, – ответил Игорь.
– Ну и езжайте себе прямехонько домой, бумажки ваши притартаю, фигня дела.
В четверг на той неделе все было просто, ясно и понятно, а на этой во вторник эхо стало глухим, неверным, умирающим. В пятницу Игорь не смог дозвониться Гусакову, гудки – потом автоответчик, а вчера так закрутился, что и не вспомнил, только сегодня утром, а оно все больше и больше удивляло. До совещания оставалось каких-нибудь минут пятнадцать, а Бобок все не являлся. Не было договора, который ждал любитель победных рапортов Запотоцкий, долгое ожиданье переходило в раздражение, и очень хотелось заткнуть Полтаракана, который все громче и навязчивее дудел в нос.
– Андрей Андреевич, вы не знаете случайно, где Борис? Что-то с утра у него телефон выключен или вне зоны…
– Ну да. Естественно, – гуденье прекратилось, и все веселье и задор ушли в футбол веснушек на круглой морде.
– Простите, почему это естественно?
– Вы что, не в курсе? – от удивленья весь шик и блеск собрался у Полторака вокруг глаз.
– В курсе чего?
– Ну как… вчера Бобка подрезали…
– Подрезали?
– Ну да. Четыре или пять ножевых ранений… Подкараулили в подъезде…
– В каком подъезде, Андрей Андреевич, вы что-то путаете… он же в деревне живет, в Панфилове…
«Экий вы простофиля, Игорь Ярославович, были, есть и будете», – весело сошелся и разлетелся неугомонный золотой горох на сальной физиономии Андрея Полторака.
– В Панфилове, – сказал он сладко. – В Панфилове у Боба жена, жена с ребенком… А здесь он с какой-то клюшкой снимал однушку где-то на Марковцева… Там его и встретили…
– Но кто? За что?
– А помните, он в том что ли еще году кому-то всю бочину бампером содрал… На стоянке у офис-центра на Кирова, хрен знает как выворачивал, проехался по чьей-то тачке и быстро смылся… Ну так вот, хозяин той «нексии» его нашел…
Это было какое-то невозможное, именно что насекомое счастье, рожа-муравейник играла и светилась всеми оттенками кофе и масла, они роились, терлись, разлетались, менялись местами, переворачивались и перекрашивались.
«Вон оно что, – успел подумать Игорь, поднимаясь, – мечта сбылась… освободилось место менеджера по черному налу…»
– Вы что? – вякал задушенно Полторак, которого резким, стремительным движением Игорь попросту выволок из-за стола, поднял за шиворот одной рукой, как гадкую, невыразимо мерзкую зверюшку, и в ярости еще не понимая, куда же зашвырнуть и обо что размазать, держал перед собой.
Зеленые от ужаса глаза животного вдруг вспыхнули спасительным огнем:
– Да вы не поняли, – он взвизгнул, – Бобок живой, он жив, в реанимации Борис…
И снова все задвигалось, зашевелилось на этом мерзком, текучем, маргаринном лице без явной и определенной формы.
«Да как же, как же это все остановить, остановить раз и навсегда?» – в отчаянье не мог придумать Игорь – и вдруг решил, внезапно понял…
Он сжал до хруста жесткий воротник легонькой курточки, на руку накрутил и со всего размаху опустил Полтаракана прямо на горшочек с ростком разлапистой монстеры, святой и драгоценной рассады Запотоцкого, которая каталась и мешалась под ногами с того безумного момента, как Игорь, вне себя от гнева, выдернул мелкую тварь из-за рабочего стола…
Всадил, рассыпал землю, вдавил в широкую зеленую ладонь растения, и тут же, схватив теперь уже за грудки, опять поднял и, глядя в потухшее, окаменевшее, обретшее наконец четкую, восковую форму лицо сказал:
– Я тебя знаю, Щукин! Ты это понял? Я тебя знаю!
* * *
Это был один из тех подлых, предательских дней середины марта, что начинаются с нежной прозрачности и матовой, фарфоровой простоты неба, а заканчиваются метелью. Выезжая из Междуреченска в седьмом часу, Игорь еще надеялся, что это только здесь, в низинке между рек, в вечернем купоросе над головою дерутся и спорят между собой сахар и соль. А там, повыше, дальше будет лучше. Посветлее.
Когда же через час он уходил с атамановского кольца на объездную дорогу со смешным названием Елань, стало лишь теплей и хуже. Крупные бабочки снега роились в свете высоких фонарей, а в темноте между кольцом и переездом и вовсе возникло ощущение того, что «лансер» двигается в гуще супа с большими переваренными ракушками.
Снег лип на дворники, они скоблили, но не чистили стекло, которое буквально на глазах зарастало чертополохом льда. Пришлось в салоне, и без того жарком и душном, включить на полную мощность печку и весь ее пыл пустить на лобовое. Видимость улучшилась, но легче от этого не стало.
Обочина едва угадывалась, знаки крутого поворота или ограниченья скорости либо вообще терялись в бушующей овсянке ночи, либо вываливались слишком поздно, когда что-либо делать, ускоряться или тормозить, просто опасно. Только надеяться на счастье и самообладание.
А оно терялось. Где-то на самых начальных темных горбах Елани какая-то машина упала на хвост Игорю и не отпускала. Километр за километром ее фары, круглые, пустые, как выдавленные огненными пальцами глаза, неотступно следовали за «лансером». Давили Игорю на затылок, звездами жидкого металла плавали в зеркалах, и прожигали сетчатку. Насквозь, до мозга.
И потому Игорь даже обрадовался, когда он где-то, сразу за Муратовом уткнулся в бородатую от снега задницу попутной фуры. Очень удачно, здесь были длинные прямые спуски, за которыми начиналась серия долгих слепых подъемов, если поймать момент и обойти бесконечный сарай, то эта назойливая, приставшая сзади дура с парой неистово горящих паяльных ламп надолго потеряется в ночи. И действительно, пологий и долгий спуск открылся почти сразу, но на нем мерцала где-то в опасной середине желтая брошка, по мере приближенья быстро распадавшаяся на две отдельные пуговицы, правую и левую. Ничего нельзя было сделать.
Зато уже следующий за первым спуск был чист. И в этом не было сомнений, желтая брошка предыдущего надежно обозначила границы видимого и невидимого, можно. Или нельзя? Здесь где-то должны были начаться трехполосные участки, два на подъем, один на спуск, и, соответственно, обгон на спуске запрещен даже при полной ясности и видимости. Но широко тут или узко, в сегодняшней снежной кутерьме не разглядишь, как и знаки, к тому же ночь, и эти фары сзади…
Игорь включил поворотник, очень плавно вышел на перемешанную, комковатую кашу разделительной, перевалил на ровную, хоть как-то наезженную встречную и двинулся вдоль фуры. Все было чисто, впереди в свете фар большого высокого американца угадывались отбойники крутого перелома дороги у самого начала невидимого еще подъема, довольно далеко, все получалось, Игорь успевал…
И тут внезапно, нервно в зеркало заднего вида брызнул резкий свет. На этот раз он не был всего лишь белой жгущей смесью всех сразу цветов спектра, к самоварному, статичному двойному созвездью добавились отдельно красный и отдельно синий, пара взрывавшихся ментовских спецсигналов, бросавших тревожные и злые блики прямо в салон машины Игоря. Так вот кто ехал на хвосте. Попался. Здесь уширение. Знак спрятался за фурой. Короче, все.
Игорь сразу предложил ему тысячу. Кряжистый, пахнущий железом и дорогой гай внимательно посмотрел на купюру, которую Игорь молча положил между рычагом переключенья скоростей и ручником патрульных «жигулей», и равнодушно выудил из папки чистый лист протокола.
– Что, мало? – тихо спросил Игорь, у него были еще деньги, как раз в бумажнике, который он держал в руках, после того как вытащил свои документы.
– Нормально, – ответил гай очень спокойно, – но вот сегодня нам не хватает именно прав. Все остальное мы уже набрали…
Он, этот мент, скорей всего, даже наверное, был ровесником. Красные, морозами поеденные щеки, нос с пыльной синевой в каждой мелкой поре и от бессонницы набрякшие, тяжелые, совиные веки – все это не шевелилось и не двигалось, когда он открывал рот и что-то спрашивал.
– Где проживаете?
Из-под обреза желтого сигнального жилета выглядывали серые погоны – три звездочки, но Игорю, казалось, что там невидимая еще одна, капитанская. Писал он медленно, без вдохновения или азарта, подолгу разглядывая права, техталон, высматривая там, в полутьме, плохо различимые, но нужные для протокола буквы и цифры.
«Ну вот, все ты голову ломал, – между тем думал Игорь, – все не знал, как это кончить. Прекратить. А очень просто, сейчас отнимут у тебя права на год или полгода… и все… свободен. Не нужен будешь больше ЗАО “Старнет”, пока… наше вам с кисточкой… большая радость… Не надо будет объясняться ни с кем, и с Запотоцким в том числе, ни по поводу пропущенной планерки, ни по поводу рукоприкладства, и главное монстеры… Лианы, павшей смертью храбрых… Все кончится. Не надо будет ездить, не надо будет жить…»
– Прописаны там же?
– Да.
Собственные следы возле машины на мокрой обочине напоминали те самые, что оставляет ранним утром первый идущий в центр детоксикации «Ваш доктор». Идущий и кого-нибудь ведущий…
А что он скажет Алке? Прости? Вот ты пыталась, пыталась и не вышло, и я пытался, да, пытался, и все-таки сломался… Прости… Мы оба не смогли… Мы оба кончились… Судьба… Удачно, что вот за машину все выплачено… ничего не должен…
– Меня с работы выгонят, – сам не зная почему, сказал вслух Игорь.
– Ну, может быть и хорошо, – шарик ручки продолжал неторопливо продавливать бумагу, гай писал, – целее будете, а то рискуете не в меру…
– Возможно, – согласился Игорь. – Только жену мне будет не на что лечить…
Шарик внезапно замер над бумагой. Мент повернул тяжелый печеный, мороженный кочан своей головы и посмотрел, впервые, кажется, посмотрел на человека, посаженного рядом с ним на пассажирское сиденье:
– А что с ней? С вашей женой?
«Нет, никогда», – Игорь стал покрываться краской и от стыда, и от мучительного понимания того, как в этот миг нелепо, фальшиво и анекдотически, должно быть, выглядит… Сгорая от униженья и позора, он ничего не видел перед собой и уже, конечно, не замечал, как в свою очередь багровеет к нему обращенное лицо мента и металлические глаза сверлят его, пронзают и делаются от этого черными…
– Водка? – негромко спросил гай.
– Что? – растерялся Игорь.
– Ну, пьет твоя? Так? Пьет?
Все что он мог – это закрыть лицо руками. Но мент не дал ему отгородиться. Совсем оглохнуть и ослепнуть.
– У меня то же самое, – сказал он просто. – Жена и дочка. По маленькой, пока готовят, по маленькой, пока пол моют, по две на огороде… Вернешься – обе в лежку… В лежку… И каждый день так, каждый день…
Теперь они смотрели друг на друга. Глаза в глаза.
– Нет, у меня не так, – Игорь поверил наконец в реальность всего того, что происходит. – Не так… Ни огорода нет, ни пола. Просто запои. По месяцу… Три или четыре раза в год, а между ними – нет… не пьет совсем…
Потом они долго молчали. Оба.
Крупные темные пятна медленно светлели на задубелом, обветренном лице мента, и мелкий пот на лбу блестел как рыбья чешуя.
– Вот что, – проговорил он и показал глазами на то место, между переключателем коробки скоростей и ручником, где еще недавно лежала тысяча, – если ваше предложение остается в силе…
– В силе, – сейчас же ответил Игорь, вынул из кошелька бумажку и снова положил на пыльный пластик.
Гай повернулся к товарищу, все это время скучавшему на заднем сидении, дальний, невидимый до этого погон при этом вылез из-под жилета, и Валенок смог убедиться – да, капитан:
– Иди, отпусти фуру…
– А как же протокол? – спросил Игорь, внезапно испугавшись какого-то особого, невиданного гайского подвоха. – Вы же его уже заполнили…
– Заполнил, – подтвердил мент, – заполнил, да не весь… Не весь, – он ухмыльнулся; не то чтобы его лицо стало приветливым, скорее просто человеческим, стало меняться при движении губ и соответствовать словам, – не выбрал вам еще пункт и описания нарушения не сделал… И хорошо, сейчас поставлю, что вы налево повернули под запрещающий знак у заправки перед Еланью. Согласны?
– И что за это будет?
– Заплатите в сберкассе полторы тысячи, ну или тысячу, как комиссия решит… и больше уже ничего….
– Права отдаете?
– Отдаю.
– Пишите.
* * *
На большой трассе, ближе к терентьевской развязке, мести почти уже перестало, а после Степного дорога просто была сухая, чуть-чуть только блестела в свете фар. Текла, как речка во сне. То вверх, то вниз. Плавно и неторопливо.
Шестьдесят или семьдесят километров тому назад Игорь был в центре Млечного пути, все небо на него свалилось, буквально опрокинулось, упало, а теперь, спустя какой-то час, тот дикий, необъятный и безжалостный космос так отдалился, отлетел, вознеся, что видел Валенок перед собой из белого, блестящего одну Луну да яркую точку Венеры прямо над ней.
Он ехал и думал, что шестьдесят километров тому назад впервые в жизни совершил что-то действительно спонтанное, не рассчитанное заранее, не продуманное в деталях, абсолютно импульсивное, естественное. Он думал об этом и не знал, одобрила бы эту импульсивность Алка. Движение, источником которого не радость была, не счастье или сила, а унижение, позор.
Алка, которая в кардиоцентре, когда он приезжал ее проведать, лишь два слова повторяла: «Мне страшно, мне страшно»…
Да и нужно ли теперь ее одобрение? Ведь не нужно было тогда, много лет назад на Кие, когда она в бурной, бешеной воде просто держалась за его шею. Не нужно было знать и понимать, как же он устоял. И почему остался на двух ногах. Ну и теперь не надо. Не надо ничего.
Просто стоять, сколько получится. Сколько возможно. А как и почему, неважно. Может быть, год, может быть два, может быть три. Как выйдет, как получится, и будет наградой за эти три или четыре года несколько мгновений счастья и покоя вместе. А вместе – это с небом, а вместе – это с первым утренним светом, с черной горой, похожей на раскрытую ладонь, с рекой, в которой однажды вместе надо утонуть… Исчезнуть без следа…
И всякий раз, когда он думал о бесследности, исчезновении, последней точке, он вспоминал дочь. Настю, которая, уехав в январе, за это время прислала одну открытку, два раза позвонила, в самом начале, и денег, и никаких денег ни на какую учебу не просила. Забудет ли она его и мать, как слово «блин», которого нет и не предвидится в немецком языке? Отрежет все бессмысленное, бестолковое, ненужное – и счастье, и любовь, и ненависть… Да, ненависть, начав подъем из этого подвала, из тупика, где только сырость, темнота и надписи на стенах… Да, надписи…
И впервые в жизни Игорь подумал с облегченьем, с радостью о том, что дочь, наверное, никогда, никогда в жизни не увидит его могилу. А значит, никогда, никогда не увидит и не прочтет то, что однажды он увидел и прочел на отцовском темно-красном камне. Черной яркой эмалью.
Ебаный конь.
2013–2015 Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




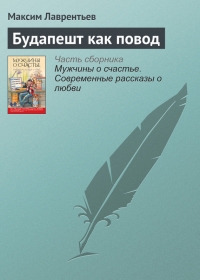
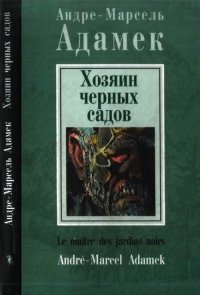







Комментарии к книге «Рассказы о животных», Сергей Солоух
Всего 0 комментариев