Палец на спуске
Стояла невыносимая жара. Запах леса благотворно влиял на настроение папаши Пешека, беззаботно шагавшего по лесу. Он шел, глядя прямо перед собой поверх мшистой земли. Грибов под ногами все равно не найдешь, так как к засухе, начавшейся весной, теперь прибавилась сильная жара. А прямо перед собой можно кое-что увидеть: то березка промелькнет между темно-зелеными кронами сосен, то у просеки пробьется высокая трава цвета теплой охры.
— Боже ты мой, он возвращается! В самый раз! — Бабка-сиволапка, наверное, уронила свою длинную палку от неожиданности, а может, от радости.
— А кто это меня зовет, бабка?..
— Твой сын, безбожник! Твой новый сын! Утром он начал бить ножками, а теперь уже, наверное, появился на свет.
Так и должно быть на самом деле! Матей сразу вспомнил, как матушка Пешкова, когда первая распустившаяся сирень заиграла ему походную песенку, выскочила за ним на околицу и крикнула:
— Вернись до августа, хотя бы на крестины, бродяга ты эдакий!
Матей прибавил шагу. Детей он любит. Любит даже больше, чем линей и окуней, чем молчаливых щук и чавкающих угрей. Он любит их больше белок, дроздов, синичек, куниц и горностаев. У него ведь их уже пятеро, а этот будет шестым.
Почему этот, а не эта? Дочь, сын, дочь, сын, дочь. Кому же сейчас появиться на свет, как не сыну!
Он пошел быстрее, но до дому оставалось еще добрых полчаса ходьбы. Долгими будут для Матея эти полчаса, почти такими же долгими, как и те три беспокойных месяца, когда он кочевал по мельницам всей страны, чтобы скоротать время до уборки. Использовать это время для того, чтобы поправить крышу, перевязать ульи соломенными жгутами, накосить сена или вычистить хлев, ему даже не пришло в голову.
Долгими будут эти полчаса и для матушки Пешковой. Человечек, о котором уже известно, что он будет носить имя своего отца, не только бьет ножками, но и старается поскорее выбраться на свет.
Бабке Толаровой вдруг сделалось не по себе. Она помогла появиться на свет уже сотне детей и сама родила трех дочек, матушка Пешкова тоже уже пять раз рожала, но…
— Не хочу пугать, но мне кажется, что он идет ягодичками вперед.
Итак, матушка Пешкова первая узнала, что это мальчик, а через какую-то минуту бабка торжественно провозгласила, что у него голубые глаза. Мельничиха тут же добавила:
— Как и у его негодного отца!
Матей Пешек дошел до мельницы раньше, чем весть о рождении нового Пешечека разнеслась по деревне, облетев все горницы и спальни, чуланы и подвалы, амбары и тока, и остановилась у Катержины Машиновой, которая в тот же час родила в господской людской.
И у нее родился сын, и такой же пухленький. Но если Пешек получил имя Якуб, то сын Катержины Машиновой стал называться Алоисом.
Однако у Катержины Машиновой не было бабки, и к ней не спешил никакой папаша, пусть даже бродяга, безбожник и негодяй. У маленького Алоисека нет папы. Молодая и рослая Катержина не помнит, чтобы кто-нибудь предлагал ей платок, пряник или тем более карету, запряженную белыми лошадьми. Она не помнит, был ли он солдат, слуга, сам хозяин или какой бродячий священник. Не помнит? Ну и что из этого? В людскую никто из них не зайдет ни сейчас, ни минутой позже, ни в ближайшие десятилетия, и Катержина знает, что людская от этого не станет больше, а солнце не окрасит ее в другой цвет.
Знала об этом и седая Мракотова, которая помогала ей при родах. Знала, поэтому и не сказала ей ни слова. Когда она шлепнула новорожденного по попке и малыш расплакался, она ворчливым голосом проговорила:
— Хорошей судьбы не жди — на дворе очень жарко!
Жара стояла такая, что трудно было дышать, а о хорошей судьбе нечего было и говорить: для обоих младенцев, родившихся в один и тот же день в этой пахнущей медом деревне Бржезаны, судьба была уже уготована: с того жаркого июля 1901 года жить до самой своей смерти такими, какими они есть.
Франц-Иосиф правил уже пятьдесят три года. В Средней Европе длительное время царил мир. Буржуазия, бурно встретившая год, которым началось новое столетие, до сих пор сладко щурящаяся, как в похмелье, была убеждена, что ее положение на земле непоколебимо.
Но сэру Уинстону Леонарду Спенсеру Черчиллю было уже двадцать семь лет, Карлу Либкнехту — тридцать. А Ленин уже эмигрировал за границу и стал главным редактором «Искры»…
В 1901 году типографская краска впервые начала лизать гуманные идеалы Масарика, в которых помимо всего прочего есть такие слова: «Человек от природы слабый, но в основе своей совсем не злой». Что означает «от природы» и что такое «в основе своей»? И какой вообще человек? Якуб или Алоис, появившиеся на свет в мире, схваченном последней судорогой, после которой будет шестьдесят миллионов мертвых и атомная бомба?
Они появились на свет, и им предстояло прожить долгие годы. Из этой вереницы дней, каждый из которых походит на единоборство, никоим образом не исходящее «от природы» или из «человеческой основы», мы хотим рассказать о первом дне — 19 августа 1968 года и втором дне — 20 августа того же года.
ОБ УДИВЛЕНИИ СТАРИКА, ПЕРЕСТУПИВШЕГО ПОРОГ ЯРКО ОСВЕЩЕННОГО ЗАЛА
Старик впервые в жизни вошел в здание, такое чистое, такое красивое от кафеля и алюминия, что инстинктивно замедлил шаг. В полукруге дубовых лестниц он предъявил свой паспорт.
Может быть, этот седой швейцар со строго сжатым ртом, но добрыми глазами не умел читать? Он листал красную книжечку от начала и до конца, рассматривал, сравнивал и размышлял и наконец все-таки решился на что-то. Он наклонился к Якубу, крякнул, потом опять оперся руками о столик, чмокнул и наконец вытолкнул свое решение на кончик языка:
— Пройди в зимний сад, товарищ. Ни пуха тебе ни пера! — И, осмотрев хрустальное королевство своего вестибюля, докончил шепотом: — Не поддавайся им!
Якуб спокойно поблагодарил его и продолжал стоять на месте.
«Почему этот толстяк подсказывает мне, чтобы я кому-то не поддавался? Что это у них тут — вместо земли море, вместо воздуха вода, а вместо жары зима, если они меня в конце августа в зимнем саду ждут?»
— Где они меня ждут?
Человек в униформе еще больше обеспокоился, и его добрые глаза посмотрели куда-то вдаль.
— Ах боже, это будет неравный бой: он плохо слышит!.. — И, как это делают, когда говорят глухим, приложил ладонь ко рту: — В зимнем саду, товарищ!
— Что ты так кричишь?
— Я думал…
— Я тоже… что здесь радиостудия, что здесь нормальные люди. Но этот проклятый зимний сад! Как это может понять обыкновенный человек?
Толстяк за перегородкой успокоился. Выйдя из-за столика, взял Якуба за локоть и подвел его к стеклянной двери.
— Через эту дверь дойдете до лестницы, подниметесь на второй этаж. Вторая дверь с правой стороны. На ней написано: «Красный уголок».
Не мог об этом сказать сразу!
По пути к лестнице, затем на второй этаж и ко второй двери Якуб стряхнул с себя впечатления от незнакомой обстановки, но не от тех быстрых слов: «Не поддавайся им!»
«Что же это, собственно, означает? Тот человек на первом этаже за перегородкой паяц и сумасшедший? Правда, время сейчас странное, некоторые люди начинают терять рассудок. И поэтому я, Якуб Пешек, пришел сюда, чтобы от своего старого и затвердевшего, но честного сердца сказать всем, кто изъявит желание меня слушать, что я обо всем этом думаю.
Они теряют рассудок и сходят с ума. Они теряют разум и душу, потому что душа — это пузырь, который очень хорош для путешествия на небо, или мешок, наполненный воздухом, который не даст опуститься на дно. Душа легче, чем воздух. А разум? Это совсем другое. Разум — это дважды два четыре. Сосчитать можно и звезды, но кому это надо?
Сердце — главное в человеке, потому что без сердца нет ни души, ни разума, а есть только тьма и холод. Старики и старухи в Бржезанах, наверное, знают, почему говорят: сказать для души и сказать от сердца. Ничего удивительного нет, они познали правду. Для души можно говорить, сердце же главным образом для того, чтобы от него говорилось. А разум? Что же это за штука, если ее можно взять в горсть?
Я обращусь к ним от сердца для души, а может, и к сердцу, так как сердце умирает последним».
Когда вчера Якуб поговорил с Йозефом Шпичкой, которого он посетил для того, чтобы тот подбодрил его, уголки рта Шпички опустились, а губы плотно сжались. Йозеф, или Пепик, Шпичка моложе Якуба и понимает, что время сейчас наступило тяжелое. Отговаривать Якуба от его намерения бесполезно. Спасти его уже невозможно. Он всегда был упрямым. И только тогда, когда они прощались, Шпичка сказал:
— Якуб, они заклюют тебя!
Якуб усмехнулся и подумал: «Хорошо, если так. Клевать могут, например, и куры. Было бы хуже, если бы они стали кусаться».
Он оказался у двери, на которой была табличка с надписью: «Красный уголок», взялся за ручку, но, прежде чем надавить на нее, вспомнил, что надо постучать. Стучать будто бы необходимо, этим самым отмыкается последний замок. Для людей из деревни стук в дверь — обряд. Они свои двери не замыкают, а если и замыкают, то опять же потому, что просто так положено делать. Это только город охраняет своих жителей замками и запорами. В деревне знаешь, что тот, чей визит не приветствуется, не войдет. А уходя из дому, замыкаешь дверь и кладешь ключ в щель столба только для того, чтобы в дом не вошел кто-нибудь совсем незнакомый.
Стук в дверь — ритуал. Изнутри до Якуба сначала долетел одиночный смех, а потом шум, как из трактира. Для того чтобы войти в трактир, не обязательно стучать.
Якуб открыл дверь и вошел в помещение. К нему сразу же повернулись около тридцати лиц. Тридцать лиц, и две пальмы, и огромный фикус, и рододендрон, и добрая половина пола у окна, покрытая зеленью, и горящая на потолке люстра, хотя за окном был день и светило солнце…
Растерянность овладела Якубом Пешеком, когда он вступил в этот освещенный зал.
Все сидели на стульях, поставленных, как в кинотеатре, только немного раздвинутых для того, чтобы в возможной оживленной дискуссии каждый мог общаться со своими соседями.
Около стены, примерно в метре от нее, стоял единственный стул, повернутый к залу, а перед ним было двадцать квадратных метров голого пола. К этому стулу и повел Якуба один из присутствующих, который сначала с ним вежливо поздоровался. Якуб сел. Удивление, которое он пережил, входя в зал, сменилось чувством неловкости. «Все тридцать пар глаз уставились на меня. Смотрят на мои брюки из хорошего материала, но уже давно не глаженные. Видят мои неуклюжие ботинки, на которые я и сам не могу смотреть, так как на них, несмотря на то, что я их утром чистил, осталась бржезанская пыль. Смотрят на мои руки, которые неловко лежат на коленях, на манжету моей праздничной белой рубашки, вылезшую из одного рукава. Усмехаются, глядя на мой черный галстук, который наверняка сбился набок в знак протеста против того, что после многих месяцев снова оказался на моей шее».
Совсем позади, рядом с зеленой растительностью, под огромными окнами сидит человек, лицо которого выражает наибольшее удовлетворение. Этот номер со стулом придумал он. Сам он израсходовал половину своей душевной энергии на то, чтобы постоянно наблюдать за своей внешностью, своими движениями, выражением своего лица, так как он боится выглядеть смешным. Наконец-то этот страх принесет ему пользу.
Испуганный Якуб не припомнит, чтобы когда-либо видел что-нибудь подобное. Впрочем, однажды что-то такое было. В концентрационном лагере, где содержались пленные красноармейцы, были обнаружены три картофелины. Допрашивали всех по очереди. Каждый допрашиваемый садился на стул посреди канцелярии, положив руки на колени, лицом к двум эсэсовцам, сидящим за столом в углу помещения.
Только ведь то были враги! Враги насмерть, выродки, оторванные от всего человеческого, как щенок от брюха суки.
А здесь он, Якуб, хочет говорить как раз о жизни, о том, как на нее смотрит он, обычный человек. Якуб не хочет ни с кем спорить, не хочет навязывать кому-нибудь свою веру и свои взгляды. Он хочет только поведать о своем. Сказать от сердца для души.
Не будет ли это недоразумением, Якуб? Они только хотят оказать тебе внимание тем, что вот так, одного посадили на видном месте. Ну, а если и не тебе лично, то хотя бы седой голове да мозолистым рукам.
Поверит ли Якуб в свою собственную ложь?
Поверит… не поверит! Какая разница, если ты висишь на одном мизинчике на ветке вербы, а под тобой течет река невероятной глубины!
Только мечта о справедливости позволила Якубу выдержать весь этот театр, подойти к стулу и сесть без дрожи в коленях и головокружения. Секунд двадцать он сидел неподвижно.
— Пан Пешек, позвольте вас поприветствовать! Вы попросили нас предоставить вам возможность обратиться по радио ко всем людям с тем, чтобы рассказать им, что у вас наболело на душе. Мы демократы и во всем стараемся быть гуманистами. Итак, вы, следовательно, находитесь здесь по собственному желанию. Пожалуйста, можете говорить.
Якуб засмотрелся на лицо человека, держащего речь. Это приятное лицо было милым и симпатичным, с бархатной кожей. Якуб успокоился. Видимо, этот человек не лжет.
Якуб, который до этого сидел, как ящерица в оцепенении, шевельнулся и сказал:
— Сегодня такая жара. У вас не найдется стаканчика воды?
Несколько пар глаз, и прежде всего глаза того человека, который сидел позади всех, почти скрываясь в зелени, прищурились. Стакан воды не поставишь перед гостем на пол. Не ставить же его ему на голову! Да, с этим человеком будет сложнее, чем кажется по его внешнему виду.
Однако здесь Якуба переоценили. В нем заговорил обычный инстинкт.
Но вот руки его легли на столик (столик был найден в соседней комнате), ноги тоже почувствовали себя свободнее. Можно начинать дискуссию.
Но о чем? О чем ему дискутировать с ними, бархатными ягнятами? Ведь он же хотел выступить по радио!
Якуб начал рассматривать присутствующих. Его ничуть не удивило, когда сразу во втором ряду он увидел своего зятя Ярослава Машина. Наоборот, он бы удивился, если бы не встретил его здесь. Но Якуб все никак не мог понять, зачем тут собралось столько народу. Он бросал взгляд на отдельные лица, искал объяснение, но ответ на вопрос уплывал от него все дальше и дальше, так как лица были совершенно незнакомыми.
О чем же ему, собственно, говорить? Может, начать, как в Бржезанах, когда он открывал собрания национального комитета словами: «Ну что ж, товарищи, поехали?»
«Ну что ж, начнем, как в Бржезанах».
Он уже набрал воздуху и прижал язык к небу, чтобы произнести начальное «н», как вдруг его взгляд случайно упал на знакомое лицо, такое знакомое, что в этой чужой обстановке оно показалось ему специально нарисованным. Знакомое лицо, а на нем еще более знакомая улыбка. Улыбка принадлежала старому человеку, такому же старому, как сам Якуб.
— Якуб, пойдем со мной в чулан! — сказал отец Матей, когда матушка полезла на чердак искать походный чемодан. — Я иду на войну. — Якуб в это время послушно сидел, готовый к серьезному разговору, первому и последнему в их жизни. — Иду на войну, и государь император скоро узнает, какой солдат прибыл в его армию, потому что воевать нельзя ни удочкой, ни сетями. Ловить форель на войне тоже не разрешается. Но это к делу не относится. Я иду на войну вместе с твоим братом Карелом. Вилема пока еще не забирают, поэтому он, как и прежде, будет заботиться о мельнице. Все равно на этой рухляди много не намелешь, даже если и будет что молоть… Ну а как же ты, мельничек? Ведь тебе будет четырнадцать! — Рот Якуба сам собой приоткрылся, но уздечка послушания снова закрыла его. В сознании Якуба не укладывалось, что бродячая душа отца может его понять. — Вилем говорил мне, что ты больше живешь у кузнеца, чем дома. Это правда? — Якуб покраснел и опустил голову. — Но кузнецу сейчас не нужен помощник… — Матей замолчал. Надо помолчать немного. Для успокоения совести, так как то, что Матей сейчас скажет, он уже хорошо продумал. — Я говорил с дядей Франтишеком. Он возьмет тебя на «Шкодовку»[1]. Им понадобится каждая рука, и мама опять же будет рада каждому грошу. Договорились?
Лицо Якуба озарилось улыбкой. От дяди Франтишека он знает, что на «Шкодовке» есть печи, из которых железо течет, как вода через их запруду, и машины, которые режут сталь, как нож хлеб, и молоты, которые могут одним ударом расплющить железную болванку толщиной в ствол взрослой березы.
— Договорились!
Матей удовлетворенно похлопал Якуба по плечу. Все же это неплохое чувство — быть главой семьи.
Якуб побежал к Алоису, чтобы рассказать, поделиться с ним новостью о своей победе, которая казалась ему сказочной.
Как же, собственно, получилось, что Якуб так полюбил железо? Когда он еще был Якубеком, вокруг него были вода и деревья, зерно и мука, рыбы и птицы, ночь и день, лето и зима… Надо ли перечислять все это? Такое трудно объяснить. Но дело здесь не в судьбе, просто получилось так, и все.
Однако какая же это победа? Алоис посмеялся над Якубом. Он знал увлечение друга кузнечным делом, но иногда запальчиво возражал, когда Якуб рассказывал ему о чудесах, которые могут делать древесный уголь, поток воздуха и кузнечная кувалда, хотя прекрасно разбирался в этом, так же, как и в своих странных и причудливых снах.
Якуб нахмурился. Впервые он серьезно обиделся на Алоиса.
— А что ты будешь делать? Тебе ведь тоже исполнится четырнадцать. — Глаза Алоиса заблестели:
— Сгружать навоз и запрягать лошадей. Наш кучер тоже, видно, пойдет на войну, тогда я, может, займу его место.
Якуб пожелал этого Алоису от всего сердца, но чего-то все-таки испугался. Алоис ведь хочет, чтобы их кучер ушел на войну… Сразу Якуб это до конца не осознал, но у него возникло ощущение, что все дни, которые он прожил с Алоисом и которых было немало, стали теперь только тем, о чем говорят: «Что было, то прошло».
Алоис разговорился:
— Знаешь, что означает быть кучером, настоящим кучером? Не только свозить зерно, дрова и навоз. Это означает ездить в город. На ярмарку. На станцию. Объезжать хорошие мельницы. И когда господский кучер входит в трактир, в руках у него бич, а на голове — шляпа… Вот!
— Я желаю тебе этого, Лойза! И я также буду рад, если добьюсь своего.
По дороге домой Якуб зашел на кузницу. Она стояла пустая и холодная. Через закопченные окна можно было увидеть черные стены. Якуб разглядел висящие на стене молоты и дуги подков над потрескавшимися мехами.
Остывшая в самый полдень кузница — к несчастью.
И кузнец Якеш собирался на войну. На фоне черной стены кузницы Якуб вдруг увидел странную усмешку Алоиса.
Алоис Машин, который до сих пор сидел наклонившись, глядя на свои сцепленные между колен пальцы, выпрямился.
Якуб улыбнулся. Чуть-чуть, так, что этого не заметили даже те, кто сидел ближе всего к нему. Будто одним рывком с чего-то страшно таинственного было сброшено покрывало, и все стало на свои места. Не было даже необходимости внимательно рассматривать боязливо бегающие глаза, а сегодня к тому же еще жаждущие чего-то необычного.
Он отпил воды и сказал:
— Вон тот человек разрешил мне говорить. Хорошо, спасибо. Но где микрофон?
Несколько человек рассмеялись, большинство же предпочли молчаливо переваривать эту неповторимую неподготовленную шутку.
Молодой человек из первого ряда, который привлек его внимание особым мечтательным взглядом, встал, еле сдерживая смех, но все же уважительным тоном ответил:
— Моя фамилия Фулин, пан Пешек… Это помещение сравнительно небольшое, а цветы делают акустику отличной. Вас хорошо будет слышно и без микрофона.
Однако человек, который ввел Якуба, взмахом руки восстановил тишину на тот случай, если бы молодой человек захотел продолжать.
— Да, ваш вопрос справедлив. Вы просили дать вам возможность выступить по радио. Разумеется, вы будете иметь такую возможность, но у нас здесь существуют определенные обычаи и правила. Все, что идет в эфир, предварительно должно хотя бы немного проверяться. Когда я с вами говорил по телефону, вы отвергли предложение предварительно записаться на магнитофонную пленку. Ну что ж, у вас есть право не доверять нам, мы хорошо знаем, как лучше склеить или вырезать пленку. — Эти слова вызвали веселое оживление в зале. — Но согласитесь, что за передачу по радио несем ответственность мы, хотя ни в коей мере не хотим диктовать вам, что нужно говорить. Мы только хотим узнать это заранее.
У Якуба от этой длинной речи едва не закружилась голова, но он признал, что в общем этот человек прав. Он только подумал: «И для этого вас тут должно быть тридцать человек, и для этого здесь должен быть Лойза…» Но Якуб не сказал ни слова, и человек продолжал:
— По телефону вы говорили, что вы старый коммунист и не согласны с тем, что происходит сегодня. Но, пан Пешек, мы здесь тоже в основном коммунисты. И также кое с чем не согласны. Могли бы вы поподробнее сказать нам: с чем не согласны вы?
Якуб с удовольствием посмеялся бы над этой прелестной формулировкой: «Мы здесь тоже в основном коммунисты», но на это уже не оставалось времени. Шпаги скрестились. Было ясно, что из этой ситуации выкрутиться нелегко, но говорить надо.
— Я скажу это просто. Мне не нравится, что вы клевещете на все, что мы сделали после Февраля, и что вы клевещете на Советский Союз.
Это было сказано столь кратко и четко, что большинству слушателей, к кому относилось это обвинение, стало ясно, что с этим деревенским стариком будет очень трудно завязать дискуссию о сложностях процесса возрождения[2]. К счастью, никакой такой дискуссии на сегодня не планировали.
Человек с приятным лицом проговорил после нескольких секунд молчания:
— Это все, пан Пешек?
— А что, разве этого мало?
— Ну, смотря как к этому подойти. Обвинение серьезное, но вам надо это доказать. Вы действительно уверены, что все обстоит так, а не иначе?
— А как может быть иначе?
В третьем ряду поднялась рука, раздался приятный голос:
— Не согласен с формулировкой! Это нечестно!.. Зачем пан Пешек будет здесь доказывать, что мы клевещем на все, что было сделано после Февраля? Он пришел сюда не для этого и наверняка к этому не готов. Давайте сделаем наоборот и будем говорить конкретнее. Пусть пан Пешек сначала расскажет нам о том, что с того Февраля сделал он сам. Он лично. Уж это он наверняка знает наизусть.
У Якуба неожиданно возникло чувство, что оба косогора, между которыми протекает ручей и на берегу которого стоит его дом, начали постепенно сближаться. У него нет привычки говорить о своих заслугах и даже вообще вспоминать о них. Да и какие это заслуги! К чему его хотят подвести? Почему он должен упорно раздумывать, как при игре в шахматы? Он же хотел высказать от сердца…
Молодой человек в первом ряду выкрикнул:
— Согласен! Кто за это предложение, пусть поднимет руку!
Над головами поднялся лес рук.
Якуб хотел сказать: «А меня не спросите?» Но вовремя понял, что они могли бы расценить это как проявление страха. Он понял, что они специально старались подвести его к этому, и прочитал на их лицах вопрос: струсит или нет?
Под впечатлением этой мысли он сказал:
— Я лично никаких заслуг не имею…
В зале раздался смех, сквозь который Якуб услышал, как молодой человек, представившийся Фулином, сказал:
— Но вас же не просят рассказывать о ваших заслугах…
Первый удар дубинкой. У Якуба потемнело в глазах. Он понял, что таких дубинок у них припасено много. И как раз поэтому он не должен дрогнуть! Стараясь держаться как можно спокойнее, он посмотрел на молодого человека и потом, когда стало тише, сказал:
— А не могли бы вы, молодой человек, быть немножечко любезнее и позволить мне закончить свою мысль?
Молодой человек встал и проговорил, так почтительно склонив голову, что не было бы стыдно даже английскому дипломату:
— Простите, пан Пешек. Договорите, пожалуйста, свою мысль.
Потрясающий театр! Якуб на мгновение даже сбился.
«Я не ждал, что меня встретят с распростертыми объятиями. Я предполагал, что если уж до этого дойдет, то будем дискутировать — возможно, бурно, с употреблением соответствующих выражений. Но это в том случае, если речь пойдет о деле. А они только забавляются. Не могу же я ошибаться. Они все это считают развлечением. Откуда у них такая уверенность, что все на их стороне? Пойму ли я это? Дадут ли они мне возможность это понять?»
— Спасибо, — сказал он сухо и продолжал: — Я лично не имею заслуг, но если говорить о том, что проделано с Февраля, то надо говорить и о них.
«Боже мой, где я? Вот там на меня смотрит Ярослав, сын Алоиса, известный редактор. Неужели он не знает об этих заслугах? Десять лет его статьи начинались словами: «Снова гигантский успех социализма». Да разговариваем ли мы вообще теперь на одном языке?»
Не успел он продолжить, как из зала раздался голос:
— Насколько я понял, вы хотите рассказать о заслугах не своих, а чьих-то еще. Но не это нам надо, пан Пешек. Об этих заслугах мы тоже хорошо знаем. Мы читали и до сих пор еще читаем «Руде право». Рассказывайте, пожалуйста, о себе.
Возможно ли это? Люди вдруг перестали друг друга понимать! Перестали понимать смысл слов, которые произносит кто-то другой!
Ах, как же элегантна и остроумна их речь! А Якуб всю свою жизнь с большим удовлетворением что-нибудь делал, нежели говорил.
— Почему я должен говорить о себе? Я не для этого сюда пришел.
— Но это было бы слишком просто, вам не кажется? Вы хотите критиковать нас, не сказав при этом ни слова о себе. А может, вы не подлежите критике?
В зале снова раздался смех.
Якуб чуть заметно прищурил глаза. Он был убежден, что это специальная задержка, но, если они этого хотят, пусть слушают.
— В партии состою с начала двадцать второго года…
Атмосфера в зале сразу переменилась. Как будто все ждали именно этой фразы. Трудно сказать, как это уловил Якуб. Может быть, по нескольким подсознательным движениям или по особому блеску глаз. В зале раздался голос, который до сих пор не звучал, и напряжение снова резко возросло:
— А как вы попали в партию, пан Пешек? Вас рекомендовал туда граф Чернин или вас приняли потому, что вы выдали своего товарища?
На первый взгляд это были пустые слова. Но Якуб не сдержался. Он встал и крикнул:
— Кто кого выдал?!
— Успокойтесь, пан Пешек. Вы же не на суде. Не тратьте напрасно силы. Здесь сидит пан Машин, и он уже пересказал нам вашу историю, но несколько иначе.
Якуб все еще стоял. Как это тогда произошло? Что они об этом знают?
Якуба призвали в армию за полгода до окончания войны, но возвратился он только через два года. Его уже успели оплакать и похоронить.
— Жить тебе долго, Якубек, — проронила матушка с первой улыбкой, когда слезы унесли воспоминания о Матее и обоих сыновьях и когда была оплакана и радость неожиданной встречи, потому что радость в такие минуты всегда начинается слезами.
По официальным документам Якуб был мертв. Те два долгих года спрятались от чутких ушей жандармского управления, как в могилу легли. О них жандармы не узнали ничего; тайной они остались и для вездесущих соседей.
Сначала ходили самые фантастические рассказы, по которым Якуб был даже предводителем магометанцев. Якуба это только смешило. Он знал, что рано или поздно сплетням придет конец и на них в лучшем случае будут реагировать как на прошлогодний анекдот. Но когда он, как подозреваемый, не мог получить работу, а на «Шкодовке», как бы не понимая, пожимали плечами, это стало омрачать его. Нужны были деньги на существование.
Мельницу матушка продала еще до того, как Якуб ушел на войну. Вернулся он в дом с голыми стенами, грубо сколоченной мебелью да с несколькими курицами на маленьком дворике. Единственные, кто пережил войну без больших потерь, были форели. Хотя они и становились ежегодно добычей деревенских подростков, но в речке не переводились.
Якуб хмурился, по голод от этого не уменьшался.
Однажды он вошел в хлев, где даже пауки не помнили, когда здесь жевали сено коровки, разгреб в углу остатки мелкой соломы, мякину и вытащил единственную вещь, которую принес с войны и спрятал в этом месте. Это была винтовка с обрезанным стволом, завернутая в клеенку, а к ней несколько десятков патронов.
И если в Бржезанах удалось утаить, что было два года где-то далеко за горами, то ни в коем случае нельзя было скрыть то, что происходит здесь в данное время. Вскоре каждый мальчишка знал, что Якуб браконьерствует. Но для разоблачения браконьера мало знать, что он браконьер, его надо еще поймать на месте преступления. У Якуба время от времени на хмуром лице проскальзывала улыбка. О его делах знали, конечно, и лесник, и жандармы. Лесник выполнял свои обязанности, докладывал о чем следовало, но в роли собаки-ищейки не выступал. Жандармы отводили душу крепкими ругательствами и грозными словами. Полагая, что преступник все равно от наказания не уйдет, они предпочитали пить тминную водку в корчме на деревенской площади, а не таскаться по кустарникам и трудной для передвижения местности. И только тогда, когда ядовитое известие облетело всю округу, их кулаки стукнули по столу.
О Якубе начали поговаривать, что он всегда берет с собой в лес только один патрон и никогда не возвращается с пустыми руками. Рассказывали байки, будто его винтовка наделена волшебной силой, потому что была заколдована каким-то шаманом там, в далекой стране, которая зовется Сибирью и в которой на краю света живут одни охотники.
Жандарм, у которого плечо вытерто ремнем винтовки, должен был считать такие речи основанием для подозрений. И Якуба вызвали в жандармерию.
По странному стечению обстоятельств эта весть о Якубе влетела в то же время и в другие уши.
Примерно на километр вокруг Бржезан тянулись общественные и государственные леса. Дальше простиралась холмистая земля графа Чернина. Это был тот самый граф, который в молодости бросал пылкие взгляды на деревенских танцовщиц, с восьми утра и до десяти вечера играл роль демократа, а перед полуночью устало просил отвезти его куда-нибудь. Тот самый, о котором еще до войны шепотком говорил Алоис Машин: граф, мол, — его отец и, если бог даст, сделает из него, Лойзы, кучера. Тот самый, который сегодня стремится участвовать во всех охотах, но который ни разу в жизни не попал в цель, несмотря на то, что имел ружья, инкрустированные серебром и перламутром.
Еще в жандармерии, когда жандармы досыта наругались и нагрузились, Якуб получил приглашение работать у пана графа. Хоть стой, хоть падай, но это так и было. И хотя деревня успокоилась, так как судьба Якуба была уже решена, все при случае были не прочь посмеяться.
Якуб играл роль тени его сиятельства. Если, скажем, граф шел по тропинке, Якуб бесшумно пробирался в чаще леса в нескольких метрах от него. Если граф шел вокруг пруда, Якуб незаметно крался вербами, а если граф стрелял, то в стороне раздавалось эхо. Вскоре граф был провозглашен великолепным стрелком, а Якубу ничего не оставалось делать, кроме как скрипеть зубами. В некоторой степени его утешало то, что он мог с зайцем через плечо или с тушей козы свободно пройти по деревенской площади. Он скрипел зубами, но графская щедрость очень нравилась двум вечно голодным карапузам вдовой старшей сестры.
В один из дней с самого утра было ясно, что приближается буря. В тот день граф пригласил Якуба побродить по лесу. Граф плохо разбирался в погоде и, встретившись с Якубом на старом месте, воскликнул:
— Какой сегодня хороший день!
— Да, — проворчал Якуб.
— Как вас понимать, дан Пешек? — Граф обращался к Якубу на «вы» и относился к нему как к члену семьи. Он видел в этом единственную возможность приблизить к себе этого голодного бедняка.
— Я так думаю, пан граф, что через несколько минут начнется ливень.
Неизвестно почему, но граф искренне рассмеялся.
Охота была неудачной. Духота смазала картину природы, словно залила ее свинцово-серым цветом, и уже в первой половине дня подсказала всему животному миру, что надо лежать, отдыхать и терпеливо ждать хорошего ливня. И все, кроме комаров, бабочек и глупых ящериц, послушались.
Граф был немножко раздражен, но лес и поля так притягивали его, что он не стал сердиться.
— Ну ладно, оставим это, пан Пешек, — сказал наконец граф, когда ноги их уже налились тяжестью, а вокруг не осталось никого, даже юркой белки. Они легли на мох в тени граба. Граф вытащил из сумки завтрак и плоскую бутылку любимой бехеровки. Они поели и попили, и, прежде чем граф выкурил трубку, чтобы отогнать комаров и надоедливую мошкару, раздался первый удар грома, хотя небо над ними было еще чистым.
Где же укрыться? Ни деревень, ни отдельных домов поблизости не было. Охотники забрели в леса, сохранившиеся со времен чешских королей, когда они служили естественной защитой от посягательств завоевателей. До государственной границы еще было много десятков километров, но эти леса, протянувшиеся до самого Пльзеня, на протяжении целых веков чаще слышали грубую немецкую речь, нежели мелодичную чешскую.
Охотники направились назад домой. Но когда тяжелые капли застучали, по дубовым листьям, а потом их шум потерялся в неожиданном порыве ветра, Якуб сказал:
— Домой мы дойти не успеем, надо переждать здесь.
— Но мы же промокнем до нитки.
— Пойдемте, может, найдем какое-нибудь укрытие…
Якуб вспомнил, что недалеко от этого места еще стоит старая, наполовину развалившаяся смолокурня, в которой можно спрятаться.
Дождь перестал, и граф обрадовался этому, но Якуб знал, что через минуту разразится настоящий ливень с ураганом. Он попросил графа прибавить шагу. Как раз в тот момент, когда они, склонив головы, прошли под низким сводом из крошащихся кирпичей и оказались в помещении, своим потолком напоминающем маленькую церквушку, начался сильный ливень с ураганным ветром.
Внутри был полумрак, который немного рассеивался пучком света, проникавшим через треугольное отверстие в потолке. Но все равно сразу же можно было увидеть, что на досках вдоль стен сидят какие-то люди.
Граф немного испугался, но один из сидящих сразу успокоил его, сказав по-немецки, что они лесорубы, работают недалеко отсюда и пришли сюда укрыться от непогоды и грозы.
Граф рассмеялся. Он вообще с симпатией относился к лесорубам. Достав из сумки бутылку с бехеровкой, он пустил ее по кругу. Для графа было приятной неожиданностью встретить здесь людей. В компании бурю всегда пережидать легче.
Правда, присутствующие не очень-то были настроены беседовать с графом, тем более что граф никого из них не знал и они для него были действительно лесорубами.
Но между восемью сидящими здесь людьми находился и старый Эман Шпичка из Бржезан, который за всю свою жизнь не срубил ни одного дерева.
Все внимательно наблюдали за Якубом.
Якуб молчал. Он пытался понять происходящее, анализировал, сравнивал, но найти подходящего объяснения не мог. Однако он молчал. Наконец он решил, что зайдет как-нибудь к старому Эману Шпичке и обо всем расспросит его.
Однако время было более быстрым, чем Якуб.
Спустя два дня все восемь человек, которые во время бури прятались в смолокурне, были вызваны в жандармерию. Оказывается, это были никакие не лесорубы, а стачечный комитет местного завода, члены которого не только готовили стачку, но и совершению серьезно договаривались о том, как быстрее объединить немецких и чешских коммунистов.
Но стачка не состоялась, а немецкие и чешские коммунисты были объединены несколько позже. Осень еще не окрасила в том 1921 году природу яркими красками, как к Якубу пришел старый Эман Шпичка, бржезанский бедняк, который всю свою жизнь проработал на заводе, как и его четырнадцатилетний сын Йозеф.
— Вернулся я из каталажки, Якуб, как видишь. И ты знаешь, почему я там был.
При этих словах Шпички свет померк в глазах Якуба. Вопросы, которые так мучили его после встречи в смолокурне, теперь настоятельно требовали ответа.
Эман Шпичка продолжал:
— О встрече кроме нас знали только ты и граф. Я пришел спросить тебя, Якуб, мог ли граф нас выдать?
— А вы думаете…
— Конечно, Якуб. Кто-то ведь сделал это. Иначе и быть не может.
Сознание того, что на него, Якуба, падает подозрение, делало жизнь невыносимой.
— Граф никого из вас не знает.
— Ты уверен в этом, Якуб?
— Да, уверен.
Шпичка замолчал. Якуб не сказал бы так, если бы сделал это сам. Наоборот, он ухватился бы за эту мысль и старался всеми способами доказать, что это дело рук графа. Никто в организации не верил, что это совершил Якуб. Но как же тогда объяснить происшедшее?
Якуб вдруг ни с того ни с сего вспомнил старую кузницу и длинные щипцы, которыми вытаскивал из огня раскаленное железо. И молоты, которые стучали и стучали по железу, а оно вытягивалось, остывало и, наверное, своим особым голосом кричало от боли.
— А вы думаете, дядя Эман, что я мог бы?..
— Не думаю, Якуб. Никто из нас ни о чем подобном не думает. Но пойми, нам надо знать точно.
Шпичка понял, что он уйдет с тем же, с чем и пришел.
Когда Якуб прощался с дядей Эманом, он думал о своей винтовке, спрятанной в темном углу осиротевшего хлева.
В том году Алоис Машин получил к рождеству королевский подарок. В свои двадцать лет он стал господским кучером. Якуб узнал об этом, когда сидел на пороге и кормил кур. Пастух общественного стада, который прошептал ему эту новость, принес Якубу приглашение от пана графа. Якуб вернул приглашение и сказал:
— Передай пану графу, что я болен.
— А что у тебя болит, Якуб?
— Вот здесь болит, внутри! Как будто там сидит страшный червь.
Посыльный недоверчиво выслушал его и удалился.
Через два часа Якуб стоял на господском дворе и разговаривал с Лойзой Машином.
— Поздравляю тебя, Лойза! Ты уже кучер, а меня до сих пор еще не хотят брать на «Шкодовку». Но это все-таки будет. Пойдем обмоем твое счастье!
Лойза скорчил довольную мину, распряг второго мерина, шлепком ладони по крупу загнал его в конюшню и пошел с Якубом. Не в корчму, а в дом к Якубу, где в чулане на столе стояла бутылка рома, а в постели под матрацем лежала винтовка Якуба.
Они сидели уже продолжительное время. В бутылке содержимого оставалось совсем немного, когда Лойза наконец разговорился. Якуб принес вторую бутылку рома, поставил ее перед Лойзой, потом вытащил из-под матраца винтовку, положил ее на колени и сказал:
— А теперь послушай меня, Лойзик! Если скажешь мне, кто выдал дядю Шпичку и тех остальных, получишь вторую бутылку. Если же ты этого не сделаешь, я застрелю тебя здесь, как паршивую собаку!
Лойза перепугался, стал просить, чтобы Якуб спрятал винтовку, а потом взял бутылку и захныкал:
— Обещали мне, что я стану господским кучером…
Когда он уснул, уронив голову на стол, Якуб запер его в чулане и скрылся в темноте.
Через минуту он постучал в маленькое оконце.
— Кого там черт принес?..
— Это я, дядя Эман. Пойдемте скорее со мной! — Он появился на пороге в пальто, одетом прямо на рубашку. — Вы должны услышать это собственными ушами!
Эман Шпичка улыбнулся. Не представляло большого труда установить, кто их тогда выследил и продал за тридцать сребреников. Он уже давно об этом знал. Но речь теперь шла не об Алоисе. Шпичка оделся, и они пошли.
Лойза еще храпел, подложив под голову руки. Якуб растормошил его и крикнул ему в ухо:
— А теперь повтори все, что говорил мне!
Лойза вытаращил глаза, закачался, не понимая, что происходит.
— Не надо, Якуб, мы уже давно об этом знаем. А ты, Лойза, иди домой и помни: если совершишь еще что-нибудь подобное, все честные люди в нашей деревне отвернутся от тебя.
По дороге к господскому двору Лойза пустил слезу во второй раз из жалости к своей собственной судьбе. В ту ночь он пошел спать на конюшню к своим верным меринам.
Эман Шпичка потом сказал Якубу:
— У людей в районном центре тоже есть ум. Они помогли нам. Мы были рады, когда узнали, что это был не ты. Но того, что ты сделал сегодня, мы не ожидали. Спасибо тебе, Якуб. А что ты думаешь насчет того, чтобы вступить в наши ряды?
Шел декабрь 1921 года. Коммунистическая партия Чехословакии сбрасывала детские пеленки и вставала уже на собственные ноги. К тому времени мы во многом успели проиграть, и жадные взгляды тех, единственным богатством которых было потомство, обращались только на Восток, туда, где пролетарии вели жестокий бой с капиталом всего мира. Только там светилась надежда. Надежда для обездоленных всей земли. Однако она светила только тем, кто воспринимал этот свет. Ведь и Лойза Машин был бедняком. Но мечтал он о другом: ему хотелось заполучить кнут кучера.
О эти странности человеческой души!
Вот так Якуб Пешек вступил в партию. Так, и никак иначе!
Якуб все еще стоял. Постепенно, напрягая все свои силы, он пытался успокоить себя. Он разглядывал лица, на которых застыл вопрос, что же будет дальше, и на которых было написано очевидное и нескрываемое удовлетворение: начинается хорошее представление, как и ожидали. Он смотрел на заносчивые чужеземные растения зимнего сада.
В человеческих ли силах вообще объяснить здесь, как тогда в действительности было? Стоит ли вообще объяснять что-то этим людям? Однако молчание будет твоим поражением, Якуб. Как же ты теперь поступишь? Сдашься этим крикунам? Допустишь, чтобы Алоис Машин сыграл роль героя в этой комедии?
Нет, Якуб не ягненок. Лучшая оборона — это нападение.
— Так пан Машин пересказал вам эту сказку немножко иначе? А не рассказывал он вам также, что три года сидел в тюрьме? И за что он там, собственно…
Ему не дали докончить. Раздался тот же голос, который секунду назад спрашивал о том, как Якуб попал в партию:
— Ведь как раз поэтому он здесь и сидит, пан Пешек. Именно из-за тех трех лет тюрьмы, потому что они служат свидетельством одной из тех вещей, которые вы делали после Февраля и о которых хотели немножко иначе рассказать вы, пан Пешек.
Веселье в зале было неподдельным. Якуб тяжело опустился на стул.
Иногда в голове человека возникают навязчивые идеи. О материальности души, о существовании чудовища в озере Лохнесс, о заболевании раком или о знатном происхождении.
С четырнадцати лет Лойза Машин был убежден, что он сын графа Чернина, и его убеждение укреплялось точно по правилам навязчивых мыслей: полным отсутствием доказательств «за» или «против».
Случались с ним и забавные происшествия, главным образом во время посещений корчмы. Он гордо входил туда в шляпе и с кнутом в руке, потом, выпив несколько рюмок горькой, начинал выдавать самые большие тайны своей жизни: как пан граф тайно принимает его по ночам, как катается и плачет из-за того, что нельзя усыновить его — слишком поздно, так как человек не может стать графом, если когда-либо был кучером.
Время от времени графу доносили, что рассказывает о нем Лойза. Большей частью граф не придавал этому никакого значения и воспринимал все как шутку, в других случаях он только махал рукой и ворчал:
— Такого глупца я бы мог сделать разве что только со своей кобылой Парадиз, но я что-то не припоминаю этого!
Однако пришло время, когда кто-то постучал в дверь домика Лойзы. Испуганный Лойза негромко выругался, но дверь все же открыл. На пороге стоял незнакомец.
— Это вам посылает один человек, которого вы хорошо знаете, — сказал человек, убедившись, что перед ним стоит нужное лицо, и, не произнеся больше ни слова, удалился.
От сильного волнения у Лойзы тряслись руки, в которых он держал сверток. Он хотел окликнуть человека, узнать от него все сразу же, но не сделал этого. Быстро закрыв дверь на замок, он несколькими прыжками добежал до кухни и стал искать ножик, чтобы перерезать тонкий, но прочный зеленый шпагат. Развернув бумагу, он увидел картонную коробку и лист бумаги, на котором было что-то напечатано на машинке. Что сделать раньше? Открыть коробку или прочитать написанное? Никакие слова ни на какой бумаге так не важны, как то, что не только имеет вес и объем, но и что еще можно пощупать руками.
В коробке лежали пять тысяч крон, а под ними рулон листовок, напечатанных мелким шрифтом на тонкой бумаге.
Лойза схватил письмо:
«Уважаемый пан Машин! Пусть прошлое останется прошлым. Придет время, когда мы эти дела устроим надлежащим образом. Сегодня мы должны делать все для того, чтобы это время пришло как можно быстрее. Распространите листовки там, где сочтете удобным, и будьте при этом осторожны. Приложенная сумма денег пусть послужит скромным началом дальнейших возможных выплат за прошлое и будущее. Об остальном узнаете в нужное время от соответствующих людей. Ваш граф Чернин. Мюнхен».
Это было весной 1949 года. Когда в нескольких местах в округе появились первые листовки, Лойзу снова посетил тот самый неизвестный человек. Он даже посидел с ним какое-то время на кухне. Потом он приходил еще дважды, а сам Лойза спустя восемь месяцев после того, как взял в дрожащие руки первую посылку, исчез на три года.
Во втором ряду поднялся пожилой человек и, прежде чем начать речь, представился:
— Меня зовут Зденек Беранек. Я бывший учитель, сегодня — член районного комитета.
Он говорил спокойно, с оттенком снисходительности, которая, однако, с каждым словом перерастала в самонадеянное презрение.
— Судопроизводство пятидесятых годов — это настоящее искусство. Оно предъявляло такие обвинения, которые едва бы мог придумать сам Вальтер Скотт с его безграничной фантазией. Я находился в тюрьме с паном Машином все эти три года. Только мое заключение было вдвое длиннее. Я могу со всей ответственностью заявить, что единственной виной пана Машина тогда было, то, что он является сыном графа Чернина и носит в себе, таким образом, некоторую часть голубой крови. Это большой грех. Кровь должна быть только красной. Не так ли, пан Пешек?
Якуб окинул этого человека холодным взглядом, заметил, как он садится, шепчет что-то соседу, тот отвечает ему, а пан Зденек Беранек самодовольно кивает и прищуривает глаза.
С каких это пор товарищи по заключению решают, виновен или не виновен кто-либо?
Якуб решил, что не скажет в ответ Беранеку ни слова.
Он посмотрел на Ярослава. Тот сначала постарался выдержать его взгляд, но потом отвел глаза и посмотрел на часы.
— А как с твоей кровью, Ярослав? У тебя должно быть голубой крови по меньшей мере на четверть. Тебе это никогда не мешало?
В зале было достаточно много людей, которые поразились тому, как фамильярно этот твердолобый старик, сидящий впереди за столиком, обращается к одному из ведущих и солидных редакторов на радио. Этих людей пригласили сюда только поприсутствовать на спектакле, но времени на обстоятельный инструктаж у организаторов этого спектакля, очевидно, не было. Однако пришедшие сразу поняли, что этот старик, сидящий впереди, задел всех за живое и устроил таким образом большую дисгармонию в их концерте.
Всем стало ясно, что надо что-нибудь сказать и Ярославу Машину, хотя, в плане это было предусмотрено на случай крайней необходимости и на более позднем этапе. Несколько поднятых рук и несколько брошенных слов, которые не давали ясного представления, принадлежат ли они всему залу или только узкому кругу, имели задачу спасти сценарий. Но такой легкой победы Ярослав не хотел.
Ярослав Машин, сын Алоиса и муж Марии, дочери Якуба, уважаемый редактор, поднялся и надолго задумался, прежде чем сказать первое слово. Он уже давно привык к такой паузе в тот момент, когда глаза слушателей следят за его губами. Он уже давно усвоил, что мысль, которая имеет достаточный вес и силу, пока мы сидим и готовимся к ее публичному высказыванию, меняет свою окраску, как только мы встанем, меняет настолько, что мы можем от нее даже отказаться. В такой ситуации необходимо еще раз все быстренько взвесить. Ярослав Машин давно заметил и то, что такие паузы хорошо влияют и на слушателей. Он знает, что крикуны, которые высказывают то, что в данный момент пришло им в голову, не вызывают доверия, если даже и говорят чистую правду.
Однако сегодняшнее раздумье Ярослава Машина перед первым словом совершенно не похоже на все предыдущие. В его голове нет никаких серьезных мыслей. Там только хаос.
— Пан учитель Беранек за одну остроумную реплику пожертвовал серьезным содержанием нашей беседы… — сказал он.
Но в голове его еще стоял шум; беспорядок в мыслях не давал возможности найти точку, вокруг которой можно было бы создавать стройную систему. Да и вообще, идет ли речь о серьезной беседе?
— Не понимаю, почему здесь вообще нужно говорить о крови?..
Странный звук. Как будто завибрировал нож циркового артиста, вонзившийся в доску рядом с виском неподвижно стоящей красавицы. 1949 год, август. Нет, об этом сейчас думать нельзя.
Ярослав провел ладонью левой руки по лбу и кончиками пальцев потер глаза. Сейчас об этом не думать!
Он обвел глазами только ту часть зала, которая находилась в поле его зрения, боясь повернуть голову, чтобы осмотреть весь зал. Никто не возражал против его первых слов. Однако прищуренные глаза присутствующих говорили о том, что с ним не согласны. Все вдруг стали походить на сонных сов. Их как будто не касалось происходящее.
— Позвольте мне высказать сомнение относительно вопроса вступления в партию. Это нереально…
Якуб внимательно слушал Ярослава. Он полагал, что знает Ярослава достаточно хорошо. Ведь тот рос у него на глазах с самого рождения. А кроме того, Якуб познавал его и глазами своей дочери Марии. Он был уверен, что если, здесь и можно с кем дискутировать, так это с Ярославом. Но он чувствовал, что Ярослав в этом обществе, которое теперь притихло, как вода в грязном омуте, как-то странно выделяется. Что случилось?
— Это нереально, потому что в нашу задачу входит то, чтобы выяснить наши позиции и установить, не стоит ли между нами барьер в виде различия терминологии…
Только теперь на некоторых лицах появились ухмылочки. Ярослав, однако, их не видел. Он поймал мысль и искал путь для ее развития. Теперь он сосредоточенно обдумывал предложение.
— Позвольте мне вкратце коснуться самого существенного. При этом я постараюсь не обходить факты, которые здесь уже были сообщены…
Усмехнулся и Якуб. Он уже понял, что скажет Ярослав дальше. Этот добрый человек Ярослав. Этот вечный примиритель.
— Товарищ Пешек — человек из народа. Всю жизнь он был в партии и подвергался за это в свое время гонениям. Сегодня, когда он уже несколько лет находится на пенсии, а мир, как известно, не стоит на месте, товарищ Пешек полагает, что наши стремления после Января не являются правильными. Это одна сторона дела…
Наверное, только две или три головы чуть-чуть приподнялись, чтобы выслушать слова, которые их заинтересовали. Остальные продолжали выжидать.
— Другая сторона… Мы все живем и работаем для социализма и отдали этому уже немало сил. Никто из вас не мечтает, чтобы фабрики и заводы были снова возвращены капиталистам. В этом наши взгляды полностью совпадают со взглядами товарища Пешека. Чем же тогда они отличаются?
Ярослав поднял глаза и осмотрелся. Он уже настолько растворился в своих мыслях, что считал интерес слушателей само собой разумеющимся делом. Почему бы и нет? Ведь в течение многих лет уже своими первыми предложениями ему удается привлекать внимание слушателей всех возрастов. Он достигал этого не только логической простотой фраз, особой и тонкой связью между ними, но и спокойным глубоким голосом.
Однако то, что он обнаружил на лицах и в глазах, которые искоса поглядывали на него равнодушным взглядом, ужасало Ярослава. Еще ни разу не были такими лица его слушателей. Его слушали как будто равнодушно, но глаза говорили прямо и ясно: «Ну давай поговори, поговори еще, послушаем твое выступление, но ты уже говоришь не от нашего имени, ты вычеркнут из наших рядов». А в некоторых глазах мелькнул даже откровенно злобный огонек: «Думай, о чем ты говоришь, иначе мы с тобой расправимся».
Подобные ощущения посещали Ярослава уже в течение нескольких месяцев. Началось это примерно в апреле — мае. Он объяснял все собственной реакцией на огромную ответственность. Одновременно он признавал, что могут быть люди, и они есть на самом деле, лелеющие откровенно враждебные замыслы. Однако уверенность в своих силах не покидала его. Он верил себе. Вместе с тем он не хотел так просто оттолкнуть те идеи, о которых услышал недавно. Они, эти идеи, не давали ему покоя, овладевали им полностью.
Особенно навязчивыми такие настроения стали в последние дни. Ярослав поговорил об этом с дружками, а среди них были и директор, и его заместитель. Так в чем же было дело сейчас?
У Ярослава вдруг возникло ощущение, что он что-то пропустил, что он проспал несколько длинных дней и ночей и люди за это время изменились. Или с них спала какая-то завеса. Он сейчас с радостью ушел бы куда-нибудь, где нет людей. Но он по инерции продолжал говорить.
— …Мы осознали, что нужно что-то предпринять, действовать надо решительнее. Во всяком случае без перемен нам не обойтись. Нет, не обойтись… — Ярослав замолчал, не договорив. Он сам себе не верил! Он побледнел, почувствовав странную, непривычную неловкость.
В тишине неожиданно раздался спокойный и грустный голос Якуба:
— Так, по-твоему, речь идет только об этом?
Как по команде, встали несколько человек и заговорили одновременно:
— Конечно, о другом! Теперь очередь за нами! Вы об этом еще ничего не слышали? Вы действительно не знаете, чего хотим мы и в чем упрекаем вас? Непостижимо…
— И кажется, не понимает этого и пан редактор Машин!..
Ярослав робко осмотрелся. Директор радиостудии, энергично размахивая руками, утихомиривал людей. Спокойная речь Ярослава послужила только для того, чтобы публика набралась духу для решающего наступления.
Якуб сидел и ничего больше уже не слушал. Он смотрел на то, что делалось вокруг него, как на нечто такое, что уже давным-давно прошло. Когда наконец в зале стало тихо, он произнес:
— Могу ли я сказать перед микрофоном?
И об этом было заранее договорено, поэтому возгласов протеста не последовало. Мелькнуло только несколько усмешек.
Якуб встал, и человек с бархатной кожей отвел его в пустой кабинет.
— Вам придется подождать около часа. Мы не имеем права прерывать центральные передачи. Располагайтесь здесь удобнее, а когда подойдет время, за вами придут.
Оставшись в одиночестве, Якуб решил, что ради этой минуты, когда он будет говорить по радио, он забудет обо всем, что здесь говорилось. Он начал подбирать слова для своего выступления.
Директор радиостудии, человек с бархатной кожей, вернулся в зимний сад, где остались несколько человек. Он подошел к Ярославу, который стоял рядом со своим отцом:
— Прости, но ты сам видел, что по-другому поступить было невозможно. — И сразу отошел к другой группе.
Ярослав устало улыбнулся. Улыбался и Лойза Машин, но и его улыбка была далеко не победная. От поразительного непостоянства и неуверенности, сквозящей из глаз, что характерно для взгляда преследуемого щенка, Лойза уже никогда не избавится. Итак, по его улыбке можно было понять, что он удовлетворен только частично и что его жизнь, полная обид, лишений и унижений, оплачена не полностью. Жизнь, которая определилась с самого начала, но которая не имеет смысла.
— Поговорим в другом месте, — сказал Ярослав, и они вышли из помещения.
КОГДА ЛЕТЧИК НЕ СЛЫШИТ ФАЗАНОВ
Еще мальчиком Вацлав заметил, что бывают дни, когда все валится из рук. Напрасно потом ищешь причины, напрасно вспоминаешь, когда на прошлой неделе ты совершил ошибку, которая, как в задаче со многими неизвестными, проявляется в самый последний момент. Причину все равно не найдешь и в конце концов придешь к мысли, что такой неудачный день по закону логики не должен был наступить.
Но есть и такие дни, которых ожидаешь со страхом и о которых хорошо знаешь, что они будут выделяться, словно старый ботинок, повешенный на белой стене. Таким отвратительным днем, ожидаемым с тупой безнадежностью, для Вацлава был вчерашний день. С утра и до вечера он открывал и закрывал двери кабинетов врачей-специалистов. Ни один из них не произнес хотя бы одно слово, которое могло бы обеспокоить. Но из сотен осмотров и контролей, которые Вацлав пережил, он научился слышать и то, о чем не говорят: неожиданный взгляд от прибора на лицо Вацлава, немного затянувшийся рассмотр кардиограммы, необычное молчание при виде ничего не значащего слова. Ни один из этих серьезных людей не скажет ничего лишнего — только результаты, выданные прибором или сделанные на основе собственного умозаключения. Но Вацлав хорошо знает, что когда имеется в виду организм военного летчика, то и небольшое отклонение от нормы, которое не имеет названия, которое и слова-то не заслуживает, означает больше, чем это могут понять люди, рожденные ходить по земле.
Начальник штаба майор Марван взялся за ручку управления самолетом в последний раз в тридцать пять лет. Вацлаву Пешеку тридцать девять. В последнее время у него несколько раз случалось головокружение, а сердце при этом сжималось от страха. Это никогда не продолжалось больше секунды, но за секунду самолет пролетает четыреста метров. Секунда может быть в четыреста раз длиннее смерти.
Консилиум высказал свое решение. Через неделю осмотр будет повторен.
Через шесть дней после этого момента Вацлав может в последний раз сесть в самолет. Может! Что означает это слово? Приученный мыслить по-военному, мозг Вацлава уже давно отвык к односложным приказам примешивать чувства и пустые надежды. Вацлав уже прочувствовал, что словечко «может» имеет длину как раз шесть дней.
О здоровье, конечно, беспокоиться нечего. С болезнями, из-за которых летчика снимают с летной работы, на земле можно жить до ста лет. Человек просто не замечает, что у него не все в порядке. Но как будет жить летчик? Куда же деть эти прожитые до сих пор двадцать лет?
Сегодня Вацлав идет на работу пешком. Из военного городка до контрольно-пропускного пункта два километра, оттуда до штаба — еще два километра. Он хочет поразмышлять, а при ходьбе, как известно, хорошо думается. Только вот голова какая-то пустая и открытая, как проветриваемая квартира, в которой побывали заядлые курильщики. Мысли мечутся, некоторые из них выпрыгивают будто из настежь открытых окон. Вацлав начинает думать о жене Милене и о том, каким сегодняшний день будет для нее, так как Милена уже сейчас, в эту минуту, уезжает в районный центр на осмотр к пожилому врачу-гинекологу, а соседки, наверное, и завтра будут шептаться о том, почему эти двое при таких-то деньгах не имеют детей. Вацлав вспоминает о том, что во второй половине дня он будет руководить подготовкой к завтрашнему летному дню третьей эскадрильи. Боже мой, может, это будет последний летный день. Как всегда, будет сидеть в теплушке и командир, пряча зажженную трубку в левом кармане комбинезона, и ждать команды со стартового командного пункта для посадки в самолет. А так как Вацлав уже долго не был у своего отца Якуба, в голове у него мелькнула мысль, которая подействовала на него как резкий крик летучей мыши — сколько же за это лето всего произошло! Перед глазами всплыл образ сестры Марии, муж которой в последнее время все чаще и чаще выступает по радио… Мысли прыгают, но нет, это не размышление…
Подойдя к контрольно-пропускному пункту, он, держа руку у козырька фуражки, выслушал рапорт дежурного, и впервые в жизни ему стало смешно от слов заученной фразы: «Ничего чрезвычайного не произошло». Откуда и до каких пор простирается смысл этих слов? Он вдруг осознал, что впал в меланхолию.
Дежурный некоторое время щурил на него сонные глаза. Утром все выглядят одинаково, раскачиваются и плывут во времени. Примерно в три часа ночи прерывается ниточка, которой они связаны с часами и нормальным ходом жизни, и они начинают плыть. Остается только ожидание конца службы и несколько заученных служебных действий. Если же случится так, что заместитель командира полка, которому положено докладывать, как и командиру, улыбнется, то не остается ничего, кроме как начать пробуждаться. У некоторых людей один какой-нибудь глаз бывает утром заспанным. Дежурный заморгал сначала левым.
— Ты выглядишь так, словно тебе хочется спать, — сказал Вацлав, и дежурный сразу сменил стойку «смирно» на положение «вольно» и откинул автомат назад.
— Товарищ подполковник, Франта Черни, например, может прохрапеть свои два часа. А я сегодня вообще не спал.
— Заботы?
— Куда там! Фазаны, товарищ подполковник. — Второй глаз тоже проснулся, и на дежурного нашло вдохновение: — Едва рассвело, как эти сволочи нарушили всякий покой. Кричали здесь повсюду, как скоты. А вечером! Уже на улице темень, а они все кричат!
— А белки?
— Целая стая. Но те хоть не орут…
Аэродром протянулся в длину и ширину на километры, и там, где на его территории росли деревья, частенько появлялись белки и фазаны. Там, где есть лебеда, чертополох, низкий кустарник и лопух в местах свалок, всегда можно обнаружить фазанов. Сюда, в место рева и свиста двигателей, пыхтения пламени, они собираются со всей округи из-за ничем не нарушаемого спокойствия и удобства: еще ни один самолет не повредил фазана, а людям здесь не до них. Их крики действительно напоминают язвительный хохот.
Не успел Вацлав отойти от КПП на десять шагов, как услышал за своей спиной топот и оглянулся. Дежурный поднял шлагбаум, под которым по асфальтированной дороге пробегает капитан Мартинек в спортивном костюме. Он машет рукой вместо приветствия улыбающемуся дежурному и Вацлаву и бежит дальше.
Мартинек — лихач! Лихачом называют его и командиры, и повара. Он живет в районном центре в четырнадцати километрах от аэродрома. Когда ему хочется — а такое бывает два раза в неделю и зимой, и летом, — он бежит на работу на своих двоих. Вацлав видит, как размеренно мелькают его тапочки, смотрит на его костлявую, немного сгорбленную фигурку и представляет его лицо с галчиным носом и девичьими губами. Он ловит себя на мысли, что завидует Мартинеку. Завидует его открытому характеру, неуемной энергии, легкости, с которой Мартинек покоряет небо, завидует его энергии и даже неудачам и срывам, из-за которых в тридцать пять лет он еще ходит в капитанах.
Как же это было в том, шестьдесят пятом году? Он влетел в грозовую облачность и словно попал в мыльную пену, Несколько секунд растерянности… Что значат сейчас односложные возгласы людей на земле, когда вокруг тебя беснуется водопад, когда вокруг тебя извиваются молнии и ты не знаешь, где земля, а где небо?! Для следующих секунд хорошо только то, что от земли, которая тверда и которая так любит все притягивать к себе, тебя отделяет еще тысяча метров. Стало быть, время пока есть. И вдруг, как это часто бывает в воздухе, вокруг тебя спокойствие, мир, а над тобой синее небо. Куда же тебя занесло теперь, капитан Лихач? Внизу земля. Но чья это земля? Каждая ее пядь кому-то принадлежит. Слава богу, внизу Влтава. Однако непорочная Влтава не виновата в том, что она течет с юга на север, как и Рейн. Слева и справа покачивают крыльями два «старфайтера» с черными крестами на фюзеляжах. Сдайся, капитан Мартинек, они ведь способны понять, что гроза не разбирается в политике. Сдайся, но держи ухо востро. Он отвечает: «Хорошо, я заблудился, враждебных помыслов не имею, ведите меня». Взлетно-посадочная полоса аэродрома бундесвера уже освобождена, они ожидают важного гостя. Лихач идет на посадку. С запада на восток. Он хорошо знает, что сопровождающие его самолеты еще сделают несколько больших кругов, прежде чем им будет разрешено пойти на посадку. Один круг — километров, пятнадцать, не меньше. Хватит ли этого? В ста метрах над землей Лихач дал полный газ, и, прежде чем хозяева опомнились, он на своей любимой девятнадцатой был уже над Шумавой. А потом, когда Мартинек установил связь со своими, он немного изменил курс и пролетел над своей родной деревней, что недалеко от Сунище, да так низко, что в домах все стекла повылетали.
А что делать командиру? Представить летчика к награде или наложить взыскание? Он предпочел не выдвигать Мартинека на присвоение очередного звания. А голубые глаза Мартинека будут и дальше оставаться невинными, как тень под каштаном.
Так в чем же, собственно, он завидует Мартинеку?
В том месте, где кончались сосны и начинались здания, Вацлав увидел рыжую белку. На всем пути от КПП он и разу не услышал крика фазана. «Они, видимо, на завтраке», — подумал Вацлав и смирился с тем, что сегодня он не избавится от меланхолии.
В здание штаба он вошел с черного входа и сразу направился в свой кабинет. Там он просидел в абсолютной тишине минут двадцать. Большинство товарищей из соседних комнат придут только после девяти часов. Вокруг чувствовалась приятная уравновешенность. Послышались скрипучие сонные шаги — это может быть дежурный или его помощник. Только такой бывает их походка после бессонной ночи… Отдаленный возглас без чувства и со странной артикуляцией — это пришел командир, и дежурный подает команду входа: «Встать, смирно!..» Оживленная болтовня, сопровождаемая скрипом песка и камешков под ногами, — это прошла мимо окна группа солдат срочной службы.
В этой спокойной обстановке Вацлаву казалось, что он преувеличивает драматизм своего положения. Он ведь не первый, в чьей герметической кабине раздастся в последний раз: «Взлет разрешаю!» Правда, эта команда в последний раз может прозвучать несколько раньше, чем он ожидает. Чего ему будет недоставать? Он не будет летать, но следующие двадцать лет пройдут в занятиях с выпускниками летного училища. Он станет для них чем-то вроде живого памятника, который еще начинал на «лавочкиных» и «ильюшиных» и даже налетал несколько часов на трофейном «мессершмитте».
Ничего себе утеха! Словно соска малышу! Кислый, недозревший крыжовник.
Вацлаву послышались слова, сказанные его отцом Якубом в то время, когда Вацлав надумал поступать в училище: «Для защиты Родины потребуются самые сильные». Это были первые месяцы после Февраля. «Я хочу делать что-нибудь нужное. Я здоровый и сильный. Эти руки могут сделать столько, что на десятерых хватит!» — говорил сын. А отец отвечал: «Иди!», тихонько проговаривая слова, смысл которых давно уяснил для себя: «Иди, еще долго будут нужны для защиты Родины самые сильные». Он вспоминал о своей винтовке, завернутой в клеенку и спрятанной в сарае под бревнами.
Может, все это тогда было несколько иначе и свой вес имели, очевидно, другие слова. Но Вацлав, хотя прошло двадцать лет, хорошо запомнил этот эпизод. Однако что значат слова, если человек старится и все, что он сделал, подобно опилкам, сыплющимся в грязь из порванного мешка?!
— Я бы тоже согласился. Работы никакой, а денег куры не клюют! — сказал недавно Вацлаву какой-то курортник-тракторист. Это было, когда он урвал себе пять дней отпуска. Никакой зависти, ненависти, злобы. Тракторист приятно улыбался и через пять минут уже играл с Вацлавом в мариаш[3]. С какой стати ему ненавидеть Вацлава? А Вацлав даже был еще благодарен ему за снисходительность, так как на улицах в это время бродили группки людей, у которых вид военной формы вызывал интенсивный прилив желчи и которые уже основательно истрепали свои языки скандированием лозунгов о дармоедах.
В кабинет шумно и без стука вошел ефрейтор Полачек. Он остановился в открытых дверях и начал топтаться на месте.
— Входи и закрой дверь!
— Товарищ подполковник…
— Да закрой же! Кто сегодня летает?
— Первая эскадрилья.
Водитель штабной машины ефрейтор Полачек давно уже пришелся по вкусу Вацлаву за свою бесхитростную дерзость, за способность всегда знать, где что делается, и за то, что чувствовал себя на службе как рыба в воде. Ефрейтор Полачек был для Вацлава своего рода адъютантом и доверенным лицом.
Вацлав кивнул. Свист двигателей на старте и высоко в воздухе был ровным, спокойным. В первой эскадрилье большинство пилотов — недавние выпускники училища…
Потом, однако, он вопросительно посмотрел на ефрейтора. Дело в том, что в этот момент с неба долетели трели, сопровождаемые оглушительными звуковыми разрядами. Это мог быть только капитан Мартинек.
Ефрейтор ударил себя по лбу:
— Все ясно! Облетывает триста двадцатую.
— Да, верно.
Потом Вацлав вытащил из сейфа материалы для подготовки к завтрашнему летному дню. Полеты были намечены на вторую половину дня. В третьей эскадрилье, командиром в которой Вацлав, летают старые асы. В основном на них лежит вся ответственность за охрану государственных границ. Завтра будут проводиться учебные полеты, если, конечно, погода будет летной. После многих часов нахождения в боевой готовности и полетов с ракетами учебные полеты напоминают прогулку. Сегодня и завтра — почти половина из шести отпущенных дней.
У Вацлава вдруг пересохло во рту. Ему казалось; что он умрет от этой жажды, если вот сейчас, сразу, не сядет в самолет. Целых пять дней он уже не сидел в нем! В другое время он бы был счастлив каждой минуте тишины и спокойствия, а сегодня у него возникло такое чувство, будто он напрасно отпустил на волю стаю прекрасных бабочек, которые не скоро возвратятся, так как зима будет долгой.
— Если меня будет кто-нибудь искать, я на стартовом командном пункте, — сказал он ефрейтору Полачеку и то же самое крикнул дежурному, выходя из здания.
«Сесть в самолет просто так, ни с того ни с сего, конечно, невозможно. Побуду хоть на СКП. Там человек может все десять пальцев погрузить в небо и мягкими подушечками на их кончиках прощупывать воздух. Привыкай, что эта вышка будет твоим последним, но верным окном в небо. Его у тебя никто не отнимет. Ни через шесть, ни через тысячу дней».
Капитану Мартинеку до приземления оставалось три минуты, когда Вацлав забрался на вышку стартового командного пункта. Руководитель полетов подполковник Кршиванец махнул Вацлаву рукой и развалился во вращающемся кресле. Краем глаза он поглядывал на стекло, на другой стороне которого сержант постоянно наносил и снова стирал положение самолета Мартинека. Вацлав бросил взгляд через его плечо и недоуменно осмотрелся. Все машины первой эскадрильи стоят на земле. В воздухе только Мартинек. Для его посадки подполковник Кршиванец очистил аэродром и небо. В помещении тихо: никаких команд, никаких разговоров.
«Зачем они разыгрывают это представление?» — подумал Вацлав. Он стоял за спиной удобно устроившегося и как будто не присутствующего здесь Кршиванеца, но не говорил ничего, зная, что подобные моменты меньше всего подходят для расспросов.
В громкоговорителе прозвучал запрос, и подполковник Кршиванец ответил в маленький микрофон, который держал, как коробку спичек:
— Разрешаю!
Через секунду сквозь стеклянные стены донесся свист, и справа над горизонтом появилась черная, быстро увеличивающаяся точка. Подполковник Кршиванец встал, рукой заслонил глаза от солнца, хотя верхние голубые жалюзи из фольги были опущены, подошел прямо к стеклянной стене и сухо сказал:
— Слава богу, шасси в порядке. — Потом повернулся, взял микрофон и громко, чтобы слышали присутствующие, произнес: — Пусть теперь молится, недотепа! — Он приложил микрофон к губам и скомандовал: — Садись, все в порядке!
В ответ он услышал ворчание.
Вацлав не спускал с самолета глаз и только крепче сжимал губы. Он понял, что машина, которая несется к бетонной полосе, сейчас облетывается после ремонта. Шесть тонн сложных приборов и металла! Сержант у матового стекла не видит землю, но он не следит и за своим цветным «небом», а уставился куда-то в неизвестность. Телефонистка сняла наушники и прижала их к груди, а у руководителя полетов, хотя внешне он напоминает рыбака, у которого не клюет, на верхней губе появились капельки пота.
Самолет плавно и мягко приземлился на все три колеса и начал тормозить. Руководитель полетов не может перенести свое настроение на летчика, когда тот находится в воздухе, и говорит почти спокойно:
— Быстро осмотри самолет и бегом, повторяю, бегом ко мне! — И только после этого следуют строгие и быстрые приказы, устанавливающие нормальный летный день первой эскадрильи.
— Что, собственно, произошло?
Кршиванец повернулся к Вацлаву и удивленно приподнял брови.
— Я думал, ты идешь из теплушки и знаешь об этом. Его вдруг повело вправо. — И подполковник раздраженно пожал плечами и развел руки.
К вышке подкатил газик, из него выскочил Мартинек в летном комбинезоне и побежал наверх. Он встал перед подполковником по стойке «смирно», и в этот момент все присутствующие по выражению его лица уже знали, что этот неприятный инцидент полностью лежит на совести самого капитана Лихача, и никого другого.
Точно и без лишних слов он доложил о том, что случилось. Вацлав не знал, что и думать, а Кршиванец только крутил головой. Правый топливный бак, видите ли, немножечко смялся. Капитан, однако, одним духом выпалил и причину этого происшествия, так как не пережил бы того, если бы кто-нибудь подумал, что он хочет что-то скрыть.
— Я немного превысил перегрузку, товарищ подполковник.
— Какая была перегрузка?
— На пять с половиной.
Минуту стояла тишина. Допустимая величина перегрузки равнялась пяти. Ошибка Мартинека понятна. Но все чувствовали, что Мартинек сказал не все. Потом уже, в положении «вольно», он произнес ясно и сурово:
— Это был, наверное…
— Мы разберем это после обеда на предполетной подготовке. Готовься к разбору, — сказал Вацлав и вышел.
Потом он сидел в своем кабинете. Вацлав был даже доволен, что произошел этот случай. Чем больше он будет заниматься работой, тем меньше времени останется у него на раздумья.
Он начал просматривать материалы, как вдруг в кабинет вновь влетел ефрейтор Полачек.
— Товарищ подполковник, вашего отца зовут Якубом? Включите радио! — Сам он держал в руке включенный на полную мощность транзистор. Быстрая музыка в исполнении духового оркестра словно отсчитывала секунды.
— Что происходит?
Ефрейтор стоял у двери, невольно оттягивая назад руку, как будто держал не приемник, а ручную гранату.
— Передали, что через несколько секунд мы услышим прямую передачу из студии…
— Черт возьми, что мы услышим?
— Пенсионера Якуба Пешека, который попросил разрешения выступить по радио.
Вацлав недоуменно посмотрел на приемник. Разумеется, он не имел никакого понятия ни о том, что в последнее время происходит в отцовской голове, ни тем более о том, что в рамках подготовки к передаче проделала с ним целая группа редакторов и приглашенных свидетелей в зимнем саду районной радиостудии.
Музыка кончилась, зазвучал четкий голос знакомого комментатора:
— Уважаемые радиослушатели! Как мы вам обещали минуту назад, предоставляем слово пенсионеру Якубу Пешеку. Он попросил нас разрешить ему сказать несколько слов по радио. Почему бы и не предоставить ему такую возможность? Цензура у нас уничтожена, свободное слово победно прокладывает себе путь, пусть каждый скажет то, что он думает. Мы ведь демократы. Почему бы не выступить и пенсионеру Якубу Пешеку, который, как мы установили минуту назад, единственный в этом государстве хорошо знает, что нам делать и каким путем идти нашей республике. Дело в том, что пенсионер товарищ Пешек является, так сказать, заслуженным членом партии. Уважаемые радиослушатели, прежде чем микрофон был включен, мы узнали, что товарищ Пешек безоговорочно одобряет то, что до недавнего времени на нашей территории совершенно необоснованно находились войска чужих армий. Мы узнали, что товарищ Пешек в пятидесятых годах был членом так называемых продовольственных комиссий, а поэтому он, естественно, согласен с тем, что у нас необоснованно было ликвидировано мелкое частное производство.
Вацлав перестал понимать смысл слов и предложений. Он повернулся к дверям. Ефрейтор стоял, опершись о дверной косяк, и испуганно смотрел на подполковника. Но вот на лице его появилось укоризненное выражение: не надо было диктору об этом говорить!
— …Мы узнали, что товарищ Пешек в пятидесятых годах энергично основывал единые сельскохозяйственные кооперативы теми методами, о которых сегодня мы хорошо знаем, что они не имели ничего общего с законностью. И вообще мы узнали много интересных вещей: например, что, мягко говоря, односторонние методы партийной работы, которые не допускали творческой инициативы, методы, осужденные великим Лениным, для товарища Пешека являются святыми и не подлежащими критике. Ну что ж, это еще не значит, что мы не можем дать слово товарищу Пешеку. Послушаем, что он скажет сам. Включаю микрофон.
Вацлав судорожно сжал пальцы и смял бумаги, которые лежали у него под руками. Отец сейчас не слышит ни одного слова из этой комедии, покорно сидит у микрофона совсем в другом месте и, как его проинструктировали, смиренно ждет, когда загорится красная лампочка.
Но с этого момента, независимо от того, что отец скажет, он станет для всех знакомых и незнакомых представителем самых наиболее опасных догматиков. Независимо от того, что он скажет, его уже никто не поймет. Для крикунов там, за забором, это будут бессодержательные и даже ненавистные фразы.
Чем являются те метры и миллиметры при посадке, когда мимо тебя несется земля, как ураган, а ты не можешь моргнуть и легкими движениями, будто гладишь любимую женщину, устремляешь тонны стали в единственно правильное направление? Чем? Являются ли они вообще той глубиной безопасности и уверенностью, той, наконец, единственной уверенностью в этом нервозном мире, которая еще позволяет летчикам иногда засмеяться? Есть ли еще какая-то уверенность? Хотя бы здесь, в этой закрытой и непоколебимой машине боевого полка?
Голос отца зазвучал спокойно и уравновешенно, но Вацлав заметил, что он волнуется.
— Товарищи! Мне шестьдесят семь лет. С двадцати лет я связан с Коммунистической партией Чехословакии. Я не убежден, что мы все делали наилучшим образом, но все это мы делали ради лучшего будущего рабочего класса.
Вацлав вдруг испугался, дойдет ли вообще теперь отец до дому. Как раз сейчас, в эту минуту, он ставит себя в положение тех, на которых обрушиваются «2000 слов»[4].
— …С волнением я слушаю тех, кто говорит о свободе. И не нахожу ответ на вопрос, как можно говорить о свободе и при этом клеветать на Советский Союз, на тот Советский Союз, который нам эту свободу принес… Я слышу разговоры о возрождении и не понимаю. Из тех людей, которых я знал, уже реабилитировано несколько таких, которые не гнушались использовать даже оружие против честных строителей социализма. Я пять лет был в концентрационном лагере, узнал там коммунистов всех стран, узнал и советских людей. Я прошу вас, не разваливайте нашу партию! Давайте сохраним верность заветам Готвальда идти вместе с Советским Союзом…
Речь Якуба была в два раза короче предыдущего редакторского вступления и в пятьдесят раз короче «подготовки» в зимнем саду.
Якуб дойдет до дому. Сегодня по крайней мере. Наверное, потому, что его лицо будет в высшей степени спокойным и чистым, и никому из прохожих не придет в голову, что он прошел мимо человека, который не верит в чехословацкое чудо 1968 года.
Вацлав встал, бесцветным голосом поблагодарил ефрейтора и задумчиво проговорил:
— Если меня кто-нибудь будет искать, я у командира.
До кабинета командира всего двадцать шагов, пятая дверь. По пути он встретил начальника штаба майора Марвана. Они поздоровались, как всегда, взмахом двух пальцев. Только тогда, когда за Марваном закрылись двери, Вацлав остановился и огляделся.
Ему показалось, что в глазах майора он обнаружил незнакомый блеск, который появляется в том случае, когда разговариваешь с собеседником, который тебя не понимает, который не знает твоего языка, одним словом — с иностранцем. До сих пор еще ни одно слово не омрачало взаимоотношений офицеров. Коридоры штабных зданий, очевидно, во всех армиях мира темны. Может, незнакомый отблеск со стен отразился в глазах майора? Но почему только сегодня? Почему не три и не девять лет назад?
Вацлав понял, что его охватила та неуверенность, которая уже в течение нескольких месяцев связывала его и не давала возможности выразить свои мысли.
Он постучал в дверь и вошел.
— Товарищ полковник, на завтра…
— Садись! Как ты расцениваешь то, что опять натворил этот Лихач?
Специально говорит о чем-нибудь другом? Из динамика на зеленом сейфе доносится музыка. Вацлав продолжал стоять.
— Товарищ полковник, я прошу предоставить мне отпуск на завтрашний день.
— Что так вдруг?
— Мне надо поехать к отцу. Как можно быстрее.
Полковник Каркош невозмутимо смотрел на Вацлава. По его взгляду нельзя было определить, о чем он думает. Пальцы полковника играли связкой ключей и дюралюминиевой печатью. Полковник бросил взгляд на голову Вацлава, на поблекший потолок и люстру с матовыми лампочками.
— Садись, Вацлав!
Мысли его порхали, как стрекозы над камышом в поисках подходящего стебелька. В тот момент, когда Вацлав сел, он бросил связку ключей на стекло на своем столе, встал и нервными шагами стал мерить расстояние от стола до окна.
— Во время войны такой летчик-лихач стоил бы целого батальона!
Вацлаву уже было ясно, что командир очень внимательно выслушал всю радиопередачу. Но почему этот старый фронтовик обходит главное, как барышня лужу? У него перед глазами поднятый палец. И почему именно у него? Ведь он и Вацлав в последнее время отлично понимали друг друга.
— Наверное, — сказал Вацлав, имея в виду Мартинека-Лихача.
Командир сел за свой стол. Он отодвинул связку ключей и сплел пальцы рук.
— Зачем нам все это нужно?
Вацлаву пришло в голову, что во время войны такие слова командира имели бы для провинившегося серьезные последствия.
— Я должен его наказать, — продолжал полковник разговор с самим собой. — Начиная с завтрашнего дня он четырнадцать дней не сядет в самолет.
— Какое сегодня число? — взволнованно спросил Вацлав. Как раз сейчас у него проявилась странная особенность памяти: он держит в голове рабочий план всего месяца, помнит индивидуальные программы летчиков, но иногда не может вспомнить, какое сегодня число.
Командир с некоторым удивлением ответил, что сегодня девятнадцатое августа.
— Завтра у Мартинека боевое дежурство, — сказал Вацлав с абсолютной уверенностью.
— Тогда с послезавтра. А сегодня он отвезет почту на мотоцикле в Баворов. Я ему покажу перегрузки!
Вацлав, услышав это, улыбнулся, так как мысль командира о том, что он наказывает Мартинека полетом на «дельфине», была сама по себе смешной. Мартинек с радостью летал бы, например, и в корыте, если бы это было возможно.
Неожиданно командир ни с того ни с сего сказал:
— Знаешь, что четырнадцать дней назад говорил мне Васил Беднар?
Вацлав понял, о чем идет речь. Командир находился в то время в отпуске, который каждый год принципиально проводит в Свиднике. Как говорится, среди друзей. Но почему он об этом заговорил именно сейчас?
Занятый своими мыслями, командир быстро-быстро заморгал. За это моргание его в полку прозвали Наседкой.
— Уже тогда за Дукельским перевалом мы сделали приличное кладбище. Похоронили погибших фрицев. Мертвый есть мертвый… — Он остановился и, как люди, которые, будучи чем-то отвлечены, забывают о своих словах, снова спросил: — Знаешь, что мне говорил Васил Беднар?
Вацлав только выжидающе молчал.
— В июне там была делегация из Западной Германии. Немцы хотят поставить своим большой памятник. Памятник! Погибшим немцам. Вроде как героическим защитникам Дуклы…
Вацлав все еще молчал. Как пережить этот момент?
— Что об этом говорят ваши друзья? — наконец спросил он, надеясь, что полковник будет хотя бы говорить без пауз, глубоких, как колодец.
— Мои друзья? Они не могут говорить ни о чем. Ждут решения высших органов. Это живые. А те девяносто тысяч мертвых, к счастью, об этом, не знают.
Вацлав встал. Он знал, что ему лучше промолчать, но вместе с тем сознавал, что не может сдержать слов, видимо, потому, что он действительно стареет.
— Почему вы мне об этом говорите? — спросил он. — Почему вы мне об этом говорите здесь? И почему вы говорите мне об этом именно сейчас?
Командир смотрел Вацлаву прямо в глаза.
— Я предоставлю тебе отпуск, но не с завтрашнего дня. Езжай к отцу прямо сейчас. И… передай ему привет от меня. Обязательно!
В дверях Вацлав обернулся:
— Сегодня я должен был проводить предполетную подготовку. Ее мог бы провести мой заместитель майор Дворжак.
— Хорошо. Я присмотрю. Иди-иди!
По дороге к контрольно-пропускному пункту Вацлав не услышал крика ни одного фазана.
ДЛЯ САМООТРЕЧЕНИЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДЯТ ОТЦЫ
Особый звук! Как вибрация ножа циркового артиста возле виска неподвижно стоящей красавицы.
Там, в чересчур ярко освещенном, зимнем саду, после вопроса старого Якуба Пешека о количестве голубой крови в жилах Ярослава Машина еще нашел силы предложить не брать это во внимание. С той минуты этот звук преследует его. В мозгу снова всплыла дата: 20 августа 1949 года.
Если бы даже он хотел забыть, не думать об этом, каждый шаг отца, шелестящий рядом с Ярославом, будет ему об этом напоминать. Уже тогда он знал, что не избавится от этого до самой смерти, что это отвратительное чувство будет возвращаться к нему, как некоторые неприятные сны.
В тот день заканчивались каникулы Ярослава после первого курса института, и на другой день он должен был ехать в Прагу, чтобы оставшееся свободное время посвятить подготовке к третьему семестру. К учебе он относился с большой ответственностью, первый курс завершил успешно и был горд своими успехами. Ярослав был сыном кучера. Отец его родился и вырос в людской. В то время Алоис о своем графском происхождении уже не говорил — очевидно, потому, что уже находился в таком возрасте, когда люди еще замечают комичные моменты в своей жизни.
Ярослав ждал дома отца. Позже он собирался пойти проститься с Марией. Хотя на следующий день ожидались спешка, трудная работа и собрание в институте, у Ярослава возникло приятное чувство покоя и безмятежности. Это чувство было ему хорошо известно с мальчишеских времен. Сначала он его не осознавал. Целыми часами ездил на старом велосипеде по деревенской площади и ни о чем не думал, а потом садился в одиночестве под кривым грабом на самом высоком холме над деревней, смотрел на изгиб недалекой реки, безмятежно улыбался, наслаждаясь красотой природы.
Если бы Ярослав в тот день 20 августа 1949 года вспомнил об этих своих мальчишеских причудах, он стыдливо улыбнулся бы и махнул рукой. Но он не мог бы не признать, что все это так и было.
Он ждал отца, чтобы поговорить с ним накануне своего очередного отъезда на несколько месяцев. Только вместо отца на пороге появились два человека в форме органов государственной безопасности, один в гражданской одежде, а за ним Якуб Пешек, тогдашний председатель сельского национального комитета. Гражданский, вежливо извинившись перед Ярославом, показал ему бумагу, разрешающую сделать обыск квартиры. Коротко он объяснил, что пан Алоис Машин арестован и, стало быть, не вернется. В квартире была найдена коробка с пятьюдесятью тысячами крон и некоторым количеством листовок, напечатанных на тонкой бумаге, которые в последние месяцы появлялись во многих районах.
У Ярослава задрожали колени и закружилась голова. Он побежал за Якубом Пешеком, присутствовавшим при обыске в качестве официального лица, но в здание МНВ войти не решился.
— Товарищ Пешек… — Он уже давно перестал называть его дядей Якубом. — Что это значит?
— Не знаю, парень. Они пришли ко мне и сказали, что я обязан присутствовать.
Ярослав не произнес ни слова и вышел за ворота.
А Якуб, вернувшись домой, обо всем рассказал Марии. Она знала, где надо искать Ярослава. Он неподвижно сидел под грабом и смотрел туда, где их извилистая река делает поворот. Он ничему не искал объяснения, не старался убедить себя, что это ошибка.
Он взял Марию за руку. Ярослав едва не плакал. А Мария была расстроена, как могут расстраиваться только женщины.
Ей было восемнадцать лет. Через несколько дней у нее начинались занятия на подготовительных курсах педагогического факультета. К этому времени Мария была уже мастером по пошиву женской одежды. Во время войны о гимназии ей и мечтать было нечего, так как ее отец сидел в концентрационном лагере. Поступить на курсы ей посоветовал брат Вацлав, который с лета 1949 года учился в летном училище.
— Ты за это не в ответе, Ярослав, — сказала она. В эту минуту она видела его насквозь. Рассудительный парень, который никогда не злится, блондин с мечтательными глазами и глубоким голосом, привлекавший ее необычно серьезными идеями. — Ты здесь ни при чем!
Уже в этом первом предложении, которое должно было его успокоить, Ярослав почувствовал всю тяжесть своего положения. «Ты за это не в ответе!» Так будут говорить или по крайней мере думать все, с кем он будет общаться. «Ты здесь ни при чем!» Какое милосердие! Твой отец? Да. А ты? Тебя, Ярослав, мы знаем… надеемся, что знаем хорошо. Милосердие, ни в коем случае не принципиальная позиция, которая выразилась бы одним словом: «Невиновен!»
А сколько будет таких, как Мария? Или таких, которые вообще ничего не скажут?
С сознанием всего этого жить невозможно. Ярослав не сможет так жить. На всех собраниях и дискуссиях он отличается тем, что всегда стремится устранить всякие неясности. Он человек спокойный, вежливый, но не допустит, чтобы спорный вопрос не стал абсолютно ясным, как дважды два — четыре. Самым большим его отступлением в этих случаях была констатация: «Это пока что непознано, следовательно, касается обеих сторон». Он часто и с удовольствием дискутирует, но дело, которое вгрызлось в наше собственное сердце и сознание, являет собой нечто совершенно иное. А будут ли те, другие, которые обязательно станут дискутировать, будут ли они искать правду по формуле «дважды два — четыре»? Придут ли они таким образом к выводу, что он невиновен?
Мария понимала, что утешением Ярослава не успокоишь. Она, наверное, хотела сказать, что никогда не покинет его, что бы ни произошло, но ей казалось, что Ярослав этого не поймет. Он был сейчас перед ней весь как на ладони, и она чувствовала разницу между своей жизнью и жизнью Ярослава. Мария с детских лет после смерти матери вела домашние дела, всю войну заботилась о вечно голодном Вацлаве. С возвращением отца забот в доме прибавилось. Якуб будто хотел возместить годы бездеятельности, и Мария не только варила обеды, готовила ему завтраки и колдовала над рвущейся одеждой, но и должна была внимательно слушать отцовские рассуждения и сетования, так как все, что он делал или хотел сделать, он всегда вслух обдумывал дома.
А Ярослав? Ладить со своим сумасбродным отцом всегда было для него нелегким делом. Словом, его жизнь напоминала езду по кругу на старом велосипеде.
Мария знала, что теперь будет происходить с Ярославом. Чувствовал это и Ярослав и боялся этого. Он не выносил таких ситуаций, когда за него решали другие.
Расставание их было грустным.
Через несколько дней в Праге Ярослав пришел к решению, как ему поступить. На первом же после каникул комсомольском собрании он потребовал, чтобы его вопрос был вынесен на обсуждение комитета. Там он с грустью, а временами с сожалением поведал о том, что случилось, и под конец несколькими бескомпромиссными фразами решительно отмежевался от всего, что касалось его отца.
Мог ли он сделать что-нибудь еще? Всю жизнь страдать из-за причуд своего неуравновешенного отца, в поступках которого главную роль играло стремление избавиться от чувства неполноценности и обиды? Или он должен из-за какого-то мистического кровного родства солидаризироваться с тем, о чем вообще ничего не знал и с чем бы, разумеется, не согласился?
Ярослав без каких-либо трудностей окончил учебу и через некоторое время стал редактором. В это время учительница Мария уже была его женой…
Ярослав уже несколько лет жил в панельном доме неподалеку от здания радиостудии. Когда они с отцом входили в дверь, Ярослав близко перед собой увидел глаза отца. В них была та же заносчивость, которую Ярослав заметил с самого начала беседы в зимнем саду. Однако с такого близкого расстояния в них можно было различить и еще кое-что. Оттенок страха! Этого вечного убогого страха, из-за которого глаза отца Ярослава напоминали глава преследуемого щенка. Ярослав понял, что сегодня, когда старый Якуб был наконец осмеян, отец боится Якуба больше, чем когда-либо. Якуб был осмеян. Но был ли он повержен?
Ярослав горько усмехнулся. Ведь основная речь шла не о Якубе. Побежденным сегодня оказался он, Ярослав. Но сегодня это только выявилось, а побежден он уже давно.
Он с восторгом приветствовал процесс «возрождения», которому нужны были такие люди, как Ярослав Машин, потому что он был человеком серьезным, интеллигентным и достаточно образованным. Но все эти свои качества Ярослав, к сожалению, не мог оценить по заслугам и применить в современной жизни. А между тем шла борьба и выигрывал в ней тот, кто разобрался во всех сложностях современности. Ярослав же в последнее время совсем потерял себя как личность. Ему как будто не хватало дыхания. Все, что он говорил, было не то. Но понять, что происходит, он не мог. Сейчас он уже догадывался, где совершил первую ошибку. Прочитав статью «Две тысячи слов», он только махнул рукой. Это не его стиль. Он так и не понял, чего от него хотели.
Якуба Пешека сегодня в зимнем саду надо было только высмеять и заставить замолчать. Философия Ярослава была тоже не более чем смешной.
Они поднимались с отцом по лестнице на четвертый этаж. Ярослав устал быстрее, чем он мог предположить.
Старый и страшный Якуб Пешек, который был сегодня осмеян, — очевидно, единственный человек, кто правильно понимает сущность современной обстановки.
Некоторые мысли и понятия уживаются рядом. Кто и при каких обстоятельствах их высказал?
Когда Ярослав вошел в квартиру и пропустил впереди себя отца, он снова пристально посмотрел ему в лицо и вспомнил, что сказал отец, вернувшись после трех лет пребывания в тюрьме.
Отец тогда похлопал Ярослава по спине и сказал:
— Правильно ты, парень, сделал. Видно, урок отца пошел тебе впрок.
Вспомнившееся было кошмарным сном, да и только.
Мария сидела на кухне у все еще включенного радио, хотя отец кончил говорить уже почти час назад. Сначала она просто потеряла способность нормально рассуждать. Слова отца звучали в ней, как шипение пара, уходящего из труб центрального отопления.
— Папа! Отец Якуб! Этот вечный бунтарь!
Мария сидела на кухне у играющего радио, но не воспринимала звуки, несущиеся из динамика. Она думала об отце, вспоминала о прошлом.
— Не нравится мне все это, Мария. В партии больше администрирования, чем настоящей партийной работы. Все секретари теперь с высшим образованием, на работу с людьми у них не хватает времени… — сказал ей как-то отец.
Это было год назад. За два года до этого он отказался от своей высокой должности и теперь работал только в местной партийной организации в Бржезанах вместе с Йозефом Шпичкой. Но он хорошо понимал, что идет партии на пользу, а что во вред. Свои мнения Якуб высказывал всегда и везде, невзирая на личности. Не может быть, чтобы теперь Якуб потерял остроту мысли, рассудительность!
А с другой стороны, отец ведь уже стар. Семьдесят лет не за горами. Не потерял ли он ясность ума? У него не было никакого образования, умным он был от природы и имел богатый жизненный опыт. Может ли такой разум уйти? Или, наоборот, он с каждом годом становится глубже? Особенно у Якуба, который хоть и стал немного медлительнее, но все же может еще заткнуть за пояс любого молодого.
Но несмотря на это, выступление Якуба по радио принесло несколько иной результат, нежели он сам ожидал. Мария никак не могла избавиться от мысли, что он сделал это напрасно. Она представила себе злорадный смех некоторых своих коллег по работе: «Какие слова! Любим Советский Союз!» Но что, если есть люди, которые хотели услышать именно такие слова? Именно по радио, и им нисколько не мешает, что Якуб перед выступлением был осмеян.
Мария ощущала странную тяжесть; ей казалось, что эта тяжесть от одиночества, которое она так часто испытывает в последнее время. Она выглядела какой-то одинокой в веселой и оптимистически настроенной компании коллег-учителей, среди которых были такие, которые решили, что у них уже выросли крылья. Другие предпочитали молча улыбаться. Но единства среди учителей не было.
Не обращался ли Якуб именно к ним?..
Звякнули ключи, дверь отворилась. Мария пошла встречать Ярослава. Она была удивлена, когда увидела рядом с мужем и его отца Алоиса. Тот сразу же озарился улыбкой:
— Марушка, дитя мое золотое!..
Ярослав только дольше обычного задержал взгляд на Марии; потом оба кивнули головой.
В ту же самую минуту двумя этажами ниже Гавличек решал важный для себя вопрос: зайти ему к Машину или не надо? Уже больше часа он не мог прийти к определенному решению. Подобное с ним случалось часто, особенно тогда, когда он пристально рассматривал собеседника. Товарищ Гавличек был управдомом. Первое время такой изучающий взгляд на самом деле оказывал действие на людей. Потом соседи узнали, что его взгляд является скорее визиткой, нежели проявлением чувств. Товарищ Гавличек некогда был вхож в высшее общество. Офицер по призванию, он до периода протектората дотянул только до капитана. Уйдя на пенсию, он любил, когда его называли паном капитаном. Этот человек был трижды женат и три раза овдовел. В жены он всегда брал еврейку с каким-нибудь доходным делом и домом, расположенным недалеко от центра. Завистливые коллеги распускали о нем ехидные слухи, что прежде, чем жениться, его офицерское величество всегда узнавало, достаточно ли богата его будущая жена.
Однако в общем пан Гавличек был настоящий чешский добряк и патриот. Когда у него уже не стало возможности содержать роскошную квартиру на втором этаже отделанного мрамором дома, он обменял ее на квартиру в панельном доме и за свою самоотверженность и доброту, а также за свою рассудительность получил место управдома еще до увольнения в запас. С некоторых пор, отсидев полгода за какие-то выкрики в трактире, он не говорит больше ничего такого, что кто-нибудь мог бы истолковать по-своему. Иногда даже казалось, что он радуется, если, обращаясь к нему, кто-либо называет его товарищем.
Несколько минут назад пан Гавличек внимательно выслушал всю радиопередачу — и редакторское вступление, и исповедь Якуба Пешека, — зная, что Якуб — отец пани учительницы Машиновой. А так как в последнее время управдом слышал несколько комментариев и рассуждений редактора Машина, и это были совершенно иные речи, нежели та, которую он услышал несколько минут назад из уст близкого родственника редактора Машина, Гавличека теперь распирало желание бросить все и навестить соседа. Чтобы, так сказать, все стало на свои места.
Мучился он, конечно, просто из врожденной деликатности и, галантности. С самой первой минуты он знал, что зайдет к Машиным. Он не стал ломать голову, придумывая повод для своего визита. Квартиросъемщики уже давно привыкли к визитам управдома, так как шустрость вчерашнего владельца трех домов в сочетании с заботливостью сегодняшнего управдома просто неодолима.
— Не помешаю? Могу ли я к вам на минутку?
Всякий раз, когда произносились эти слова, тело товарища управдома само по себе принимало определенную форму. Руки наполовину опущены к бедрам, на полпальца спрятаны за старческими бедрами, позвоночник изогнут, словно при больной пояснице, голова покачивается, как у кивающих псов, что ставятся в кабине автомобиля перед задним стеклом.
— Проходите и садитесь, пан Гавличек!..
Продолжительный и изучающий взгляд управдома остановился на Алоисе.
— Познакомьтесь, пожалуйста. Отец! — Ярослав указал на Алоиса. — А это пан Гавличек, наш управдом.
Час назад пан Гавличек слышал по радио выступление Якуба Пешека — отца пани учительницы Машиновой. Когда-то, в старые времена, каждый порядочный женатый человек имел двух отцов, а не отца и тестя. Здороваясь за руку с Алоисом, управдом был убежден, что перед ним Якуб Пешек.
Испытующий взгляд на этот раз был необычно долгим. Потом «кивающий пес» сказал:
— Я зашел просто так, немного поговорить. Несколько минут назад я слушал радио.
— По этому поводу не мешало бы и выпить, верно? — спросил Алоис, кивнув на стол, где уже стояли три рюмки и почти полная бутылка виски из запасов Ярослава.
Пан Гавличек не мог поверить своим глазам. Неужели этот человек, который сейчас выпил и аппетитно причмокнул, тот самый революционер, который час назад говорил, словно священник? А теперь?! Он берет бутылку, снова наливает и произносит: «А теперь и вторую, чтобы мы не хромали». Очевидно, этот сумасшедший думает, что час назад он гениально выступил по радио, и теперь по этому поводу хочет заложить за воротник.
Мария принесла тарелку с палочками к пиву и вину, а Алоис сказал:
— Как говорят, бог любит троицу! — И опять разлил виски по рюмкам.
Пан Гавличек перевернул в себя содержимое третьей рюмки тем особым способом, в котором уже только один отведенный и торчащий к потолку согнутый мизинец говорил о бывшем офицерском этикете и элегантности, и потом проговорил вкрадчиво:
— Могу ли я вас, пан Пешек, спросить кое о чем? Только что вы говорили о них, но мне не совсем понятно…
Ярослав удивленно взглянул на управдома и не мог не улыбнуться. Алоис вытаращил глаза и расхохотался. Уже давно он так не смеялся. Да разве не засмеешься от такого?!
— Это не Якуб Пешек, пан Гавличек! Это мой отец, Алоис Машин.
В это время зазвонил телефон. Ярослав встал и вышел в прихожую. Он поднял трубку и почувствовал, что за его спиной остановилась взволнованная Мария.
В комнате между тем происходило великое братание. О существовании Алоиса Машина и о главных этапах его жизненного пути управдом Гавличек знает уже много лет. Дело в том, что в многоквартирных домах происходят интересные вещи: очень часто при вселении там сходятся люди, которые никогда в жизни раньше не встречались, и через несколько недель оказывается, что мир очень тесен. Хороший знакомый жильца с первого этажа оказывается хорошим знакомым, например, пана Клоучека с пятого этажа, и сеть сведений о жизни какого-либо лица расширяется.
Время, когда людям становилось стыдно смотреть друг другу в глава из-за того, что кто-то из них на какое-то время становился страдальцем, уже прошло. Теперь, наоборот, казалось, что тот, кто провел в тюрьмах хотя бы небольшое время, становился почти героем. Поэтому достаточно было нескольких слов, чтобы оба старика поняли друг друга и крепко обнялись…
Ярослав держал телефонную трубку и почти все время молчал, кивая головой, как будто слушал сообщение прогноза погоды. Он повернулся так, чтобы и Мария могла по возможности что-нибудь услышать.
То, что услышала она, было отвратительно. И произнесено это было каким-то странным тоном. Временами тон был дружелюбным и веселым, но потом сразу же без какого-либо перехода он срывался в злобные выкрики.
Ярослав без слов положил трубку.
— Аноним? — спросила Мария.
Ярослав вздохнул. Те времена, когда ругательств позволяли себе только анонимы, уже, очевидно, прошли.
— Координационной комитет. Выдергивали друг у друга трубку, — сказал Ярослав. — Каждый хотел поговорить.
— А чего они, собственно, хотят?
— Я должен им дать понять, что с тем, что говорил Якуб, не имею ничего общего.
— А что будет, если ты этого не сделаешь?
Марии было понятно, что ничего подобного Ярослав сделать не может, но вид мужа говорил о том, что ему сейчас тяжело. Ведь еще не прошло и двух часов после того, как он хотел примирить обе стороны, найти и на той, и на другой недостатки и выделить то общее, что объединяет эти две точки зрения. Он, собственно, не делал ничего такого, что бы могло заслужить такие грубые окрики из координационного комитета. Может быть, это из-за речи в зимнем саду? Интересно, как бы вела себя Мария, если бы была там?
Он пожал плечами:
— Не знаю, что они предпримут, если я этого не сделаю. Я просто не в состоянии представить себе такое.
Из комнаты до них долетел громкий смех. Они переглянулись и пошли к гостям…
Как только Ярослав с Марией вошли, Алоис встал с рюмкой в руке (те несколько минут, пока супруги отсутствовали, он не терял времени даром: бутылка была уже почти пуста), поднял вторую руку и торжественно начал:
— Все, что я теперь скажу, будет моими и только-моими измышлениями. Дело в том, что пан Гавличек не хочет быть… нескромным, правильно я говорю, пан Гавличек? — Он заговорщически засмеялся. — Пан Гавличек совершенно определенно сказал, что это позор. Я имею в виду выступление Якуба. И я, Алоис Машин, спрашиваю: что сделает Ярослав Машин, чтобы не было этого позора? Я, Алоис Машин, говорю, что мой сын Ярослав Машин знает очень хорошо, как надо поступить, чтобы избежать позора, потому что он уже научен жизнью. Как говорится, что пожнешь смолоду… — Он опять довольно рассмеялся, не докончив предложения.
У Ярослава возникло желание закричать: «Отрекаюсь от всех вас! И здесь, и на радио, сегодня и навеки!» Но он молчал. Он чувствовал себя как испуганная кошка, загнанная под диван.
Снова характерный звук ножа, воткнувшегося в доску возле виска…
Он заставил себя улыбнуться, показывая, что считает все это шуткой, потом встал и вышел на кухню. Мария пошла за ним. Он сел на стул между холодильником и столом и засмотрелся на газовую плиту. Мария стояла опершись о кухонный шкаф и глядя на Ярослава.
Неожиданно тишину на кухне нарушил следующий телефонный монолог, долетевший к ним из коридора:
— Это вы, пан учитель? Хорошо, что вы дали мне свой телефонный номер. И очень кстати, что вы дома. Я уже обдумал ваши слова и хочу предложить вам такой план. Что, если бы вы завтра во второй половине дня приехали в Бржезаны? Это совсем недалеко отсюда, меньше часа езды автобусом. А я между тем обежал бы всех тех, о ком вы говорили… Конечно, они обязательно будут, я уже все обдумал. Встретиться можно в пивной…
— С кем это он говорил? — спросила Мария, когда Алоис кончил говорить и со смехом ушел в комнату.
— С паном Беранеком.
— Кто это?
— Бывший учитель. Шесть лет провел в тюрьме. Теперь член районного комитета.
— Как с ним познакомился твой отец?
— Он тоже был в радиостудии…
Пройдет некоторое время, прежде чем новая действительность врежется в сознание Марии.
РАДУЖНОЕ ИНТЕРМЕЦЦО
Якуб сидел за столом у окна, вертя в руках длинный костяной мундштук. Тонкая густая тень падала от мундштука на стену, и, как только она исчезала, Якуб снова поворачивал его так, чтобы тень появилась. По ней Якуб следил за временем. Некоторые люди не знают, что солнце быстро бежит по небосводу, а порой даже скачет. Если внимательно и терпеливо следить за границей света и тени, то можно даже невооруженным глазом заметить плавность этого движения. Стоит только немного засмотреться на противоположный склон, как граница света и тени сделает резкий скачок.
Земляника на противоположном склоне холма уже наливалась соком и тяжелела, наклоняясь к земле. Она словно впадала в сон. Якуб знал, что несколькими шагами выше, напротив ручья у небольшой скалы, он нашел бы первую ежевику — признак того, что осень уже готова постучать в дверь.
Бржезаны при этой летней суматохе остаются такими же, какими были всегда. Только разрытая земля означает, что действительно что-то случилось. Деревня выглядит вполне нормально. Но Якуб умеет хорошо слушать, и ему не надо прикладывать ухо к скале, чтобы узнать, что в глубине земли под камнями стало сухо и что колодцы тоже скоро начнут высыхать.
Только теперь Якуб спрашивает себя, чего, собственно, он добивался своим выступлением, чего он от этого ожидал. И только улыбается. Нет, решительно это не был заранее и основательно продуманный ход игрока на шахматной доске. Нет, ум, конечно, не играл здесь главной роли. Но человеческое сознание — это далеко не один только ум.
Якуб не упрекает себя за, то, что поступил именно так. Но какой это имело результат? Чего он ожидал и что из этого получилось?
Совесть у тебя, Якуб, чиста. Но откуда тогда чувство неуверенности и неудовлетворенности? Откуда взялось это мутное, потрескавшееся зеркало, в котором расплывается щедрая богатая природа и появляется бесплодная почва?
Как будто все это было страшно давно…
Засмотревшись в окно на побеленную стенку, Якуб забыл подвинуть свой костяной мундштук за тенью. В голове его была удивительная пустота. У него было такое чувство, что вообще ничего не случилось, что все волнения напрасны, что все это бессодержательно и ничтожно.
Ему захотелось вздремнуть. Толстая такса Якуба вылезла из ящика, стоявшего рядом с печкой, приплелась к хозяину и легла под столом на его комнатные тапочки. Якуб положил голову на руки, лежащие на столе, и перестал раздумывать. Он прислушивался к собственному дыханию. Он отдыхал в дремоте.
Неожиданно Лесан под столом тявкнул один раз. Это означало, что кто-то стоит у ворот. Якуб поднял голову, выпрямился и глянул в окно. Опершись одной рукой о забор, у ворот спокойно ждал почтальон Кабоурек. Прищурив глаза, он осматривал палисадник Якуба и всю чепуху, которую старик там выращивает на потеху всему селу: черный корень, арнику, а также несколько кустов картофеля, будто бы для украшения.
— Заходи, Войтеш! — крикнул Якуб с порога, и почтальон Кабоурек улыбнулся, хотя то, о чем они будут разговаривать, было далеко не смешным. По этому «Войтеш» еще пятьдесят лет назад можно было сразу узнать, из какой деревни происходит тот, кто так смешно шепелявит. Сегодня уже все перемешалось, а у Якуба это осталось скорее всего как странная наследственность от своего отца-бродяги.
— Я несу тебе телеграмму, Якуб.
Ну вот еще! Якуб оказался в такой ситуации, когда не знаешь, что делать. Он уже давно пришел к выводу, что телеграммы — это дурацкая бессмыслица, потому что она ничего никогда не убыстряет, а только нервирует человека. Как бороться против такой вот цивилизованной извращенности? Просто не обращать внимания.
— Ну давай заходи, Войтеш. Сначала мы немножко поговорим.
Почтальон Войтех Кабоурек — личность прямо-таки удивительная или курьезная. Ему уже почти восемьдесят, и по профессии он учитель. Всю жизнь он учил в Бржезанах, был учителем и Якуба Пешека. Когда же в семьдесят лет его после продолжительной волокиты все же отправили на пенсию, он неожиданно быстро начал хиреть. Через несколько месяцев он был почти при смерти. Тогда Кабоурек решился на отчаянную попытку вгрызться остатками своих зубов в жизнь. Он нанялся на службу помощником почтальона. С того времени вот уже пятый год он обходит Бржезаны и два соседних села, по три километра ежедневно. Войтех женился на своей бывшей ученице, шестидесятилетней вдове, которая готовит ему любимые кушанья. Он выпивает перед сном две рюмки тминной водки и молодеет.
— Я говорю, несу тебе телеграмму.
Он прошел на кухню, снял свою пожелтевшую соломенную шляпу и положил телеграмму на стол рядом с костяным мундштуком Якуба. Затем сел на стульчик у плиты и начал почесывать Лесана за ушами.
— Телеграмма? От кого?
— Вацлав…
Нет, ни одно оружие против телеграммы не поможет. У Якуба тряслись руки, когда он хриплым голосом читал телеграмму. К счастью, в ней оказалось только несколько слов:
«К вечеру приеду, никуда не уходи. Вацлав».
Якуб отдышался. Он хорошо знает, что телеграмма, и именно от Вацлава, может содержать неприятное известие. Слава тебе господи, ничего страшного не случилось, он здоров. Но зачем тогда эта телеграмма? Вацлав никогда не писал напрасно.
— Не знаешь, что бы это могло значить?
— Кто же тебя, дедушка, учил читать? Это означает, что Вацлав приедет к вечеру и ты должен быть в это время дома. — Якуб сердито дернул плечом. — Наверное, он тоже слушал твое выступление. — Кабоурек уже давно не считает нужным сглаживать свои высказывания или делать к ним плавный переход. — Ты совершил отменную глупость.
— Ты слышал?
— Да.
— И по-твоему, это было глупостью?
— По-моему, нет. Мимо меня эти вещи скользят как вода по камню, обросшему мхом.
— Так для кого тогда?
Кабоурек засмеялся:
— Пан заведующий прямо фехтовал печатью, и, если бы ты в то время оказался у него под рукой, он тебя проткнул бы ею.
— Тот, пожалуй, да…
— Ладя Цвекл кричал на всю пивную, что проучит тебя.
— Этот тоже может. От него, трактирщика, такое слышать не удивительно. А кто был еще в пивной?
— Я точно не знаю. Новый учитель, — так Кабоурек называет его уже девять лет, — полагает, что речь идет об абсолютном непонимании смысла времени…
— А почему ты говоришь, что я совершил глупость?
Кабоурек посерьезнел, задумался и перестал чесать Лесана. Тот оглянулся и облизал ему все пять пальцев.
— Мы уже старые деды, Якуб… — Он не стал договаривать: Якуб его хорошо понял.
— Я буду говорить до тех пор, пока я жив! Деды! Ты, может, и дед. А я еще кое на что способен!
— Я верю тебе. Только уж очень они озлоблены. — Он встал. — Пойду.
Они быстро распрощались. Трактирные речи и действия заведующего почтой Якуб выбросил из головы. Солнце уже висело над кривой сосной, росшей на склоне холма. Надо было подумать о том, как встретить Вацлава.
Так было заведено: если приезд Вацлава оглашен, Якуб обязан подготовить встречу. Грибков на столе не будет. Этим летом на них неурожай. Ползать по противоположному склону и собирать землянику, которую Милена очень любит, Якубу не хочется, а малина растет далеко.
Как будто сегодня ему был отмерен каждый шаг.
Как будто вообще все шаги ему уже были отмерены.
Такие мысли время от времени посещают каждого человека. Для молодого они могут послужить толчком, а для старого — горькой расплатой. Якуб никогда не уклонялся от таких мыслей, и как бы ни была горька его расплата, а он принадлежит к тем обычным людям, которые лучше помнят то, что им не удалось. Говорят, человек умирает, а дело его остается. Ну а что, если человек остается, а дело его рушится?
В такие моменты в голову может прийти все что угодно.
Что, если вытащить свою браконьерскую винтовку? Не помешало бы жаркое из испуганной косули. Что бы по этому поводу сказали пан заведующий почтой и Войтех Кабоурек? Что Якуб снова браконьерствует?
Когда же он стрелял последний раз?
В голове у Якуба словно под дуновением ветра чехардой понеслись годы, события двадцативосьмилетней давности. Тот вчерашний день, чистый и точный, как гравировка по стали, не пожелтел еще до сих пор.
В тот день он шел с товарищем по Пльзеню. Они спешили, их пути вскоре должны были разойтись. Шесть лет они не были дома.
Якуб и его товарищ подошли к перекрестку на городской окраине. Сверху от кладбища по Пражскому шоссе приближалась необычная процессия, и любопытные уже собирались на тротуарах. Шли примерно полторы сотни немецких военнопленных, в большинстве своем пожилые люди, среди которых несколько десятков женщин в военной форме. Это были расчеты зенитных батарей, расставленных на холмах вокруг Пльзеня. Процессию сопровождали американские солдаты с карабинами наперевес, выгодно выделяющиеся на серо-зеленом фоне гитлеровцев. Трудно сказать, что произошло в этот момент в голове товарища, шедшего рядом с Якубом. Может быть, всплыло какое-нибудь воспоминание из бухенвальдской жизни, которое мучило его, или побеспокоил осколок под кожей, а может, задела случайная схожесть лица или он ощутил неожиданный прилив чувства свободы и мщения. Якуб сделал несколько шагов по направлению к пленным и плюнул в лицо одному из пленных. В тот же миг ближайший американский солдат взмахнул своим карабином и сильным ударом свалил друга Якуба на землю. К счастью, главный удар пришелся в плечо. Приклад скользнул к уху, и из него потекла кровь. Когда процессия скрылась из виду, направляясь к мосту через реку, товарищ уже поднялся на ноги, растерянно улыбаясь и благодаря всех, кто помог ему встать.
Неизвестно почему, но у Якуба с того времени остался неприятный осадок на душе.
Во второй половине дня, после небольшой задержки при переходе из американской зоны в советскую, он пришел домой. Его радостно встретили. В старом сарае он при помощи долота и молотка вытащил свою браконьерскую винтовку. Дома не удивились его неожиданному желанию пройтись вверх по ручью.
Там, где между склонами кончается долинка, по которой уже сотни лет течет ручей (трудно поверить, чтобы эту долинку, расположенную прямо посреди неожиданно взметнувшегося холма, проделал только он), начинается равнина с просторными полями и лугами, которая, как калач-леденец, разделена ровно посередине рядком лип и шоссе. Первая из лип находится от Якуба в нескольких десятках шагов. Якуб оперся о камень, омывая который устремился в узкую ложбинку ручей, и хорошим прицельным выстрелом засадил пулю в потрескавшийся дорожный знак, висевший на могучем стволе липы. Долго стоял Якуб с закрытыми глазами, держа палец на спуске. Едва смолкло эхо выстрела, как раздался грохот и на дороге появился танк.
Он подъехал прямо к Якубу и остановился. Наверху откинулся круглый люк, появилась черная голова.
— Это ты стрелял?
— Да, я, батюшка! — Якуб заботливо хранил в памяти те несколько русских слов, которые он выучил в конце первой мировой войны.
Черная голова удобно легла на руки, сложенные на танковой башне, как будто это был плюшевый валик в театральной ложе, и внимательно посмотрела на Якуба.
— А зачем ты стрелял? Это запрещено!
Якуб поднял повыше свою винтовку и протянул руку по направлению к танку.
— Ты хочешь взять мою винтовку? Я — рабочий класс и без винтовки буду словно олень без рогов!
Черная голова несколько секунд оставалась без движения, потом человек рассмеялся. Рука сорвала замасленный кожаный шлем, и из башни вылез длинноногий парень. В течение нескольких минут продолжались соревнования по стрельбе. Мишенью служила пустая канистра, так как стрелять в липу парень не разрешил. Якуб выиграл соревнование с большим преимуществом и за победу получил полные карманы патронов. Закир Измайлов, так звали парня, был кавказцем. Через несколько месяцев, прощаясь с Якубом, на своей фотографии рядом с автографом он нарисовал вершину Эльбруса и парящего орла…
В тот солнечный ясный день Якуб выстрелил в последний раз. Было бы смешно отправляться сейчас браконьерствовать. Смешно! «При мысли об этом у меня даже желудок запрыгал», — пробурчал Якуб и начал торопливо обуваться.
По его движениям Лесан понял, что они пойдут за калитку, и начал бить своей короткой лапой по ботинкам Якуба. Вскоре они вышли со двора и отправились вверх по ручью.
Неожиданно Якуб подумал, что местность вокруг ручья совсем не меняется. Он ходит сюда пятьдесят лет и каждый раз набирает или новые почки, или цветы, или букет пожелтевших листьев. В природе все закономерно: одно время сменяется другим.
Однако Якубу вдруг показалось, что это постоянство, эта регулярно повторяющаяся одинаковость смеется над ним. День клонился к закату. Местность вокруг Якуба выглядела мертвой, как поверхность Луны. Мысли о том, что дело рушится, в то время как человек, создававший его, еще живет, его уже не волновали. Эти мысли — частица постоянного кругооборота, и от них никуда не уйдешь. Однако сейчас кругооборот остановился. Незаметно и сам по себе. Остановился, очевидно, в тот момент, когда Якуб забыл подвинуть свой мундштук по солнцу. Он остановился, и старые бабки начинают говорить, что близок конец света.
Поскольку человек вступает в жизнь, не имея обдуманного плана, и бежит в том направлении, откуда его притягивает магнит, называемый целью, он не может даже на закате дней своих подвести черту своей деятельности. Собственно, сделать это он может, но зачем? Зачем нужны такие подсчеты, которым он научился, когда увидел, что пришло время подведения итогов? Ведь до сих пор же он жил? А что, собственно, такое этот магнит? Может, это обычное стремление к жизни? А какая же тогда разница между человеком и скотиной?
Ах, Якуб! Ты не философ, ты никогда им не был. Месяц на небе не выкрасишь, а ручей течет только потому, что почва имеет наклон. Нет никакого смысла искать здесь истину!
В 1950 году, когда Якуб находился на длительной партийной учебе, он услышал, что человечество развивается по спирали и, только пройдя большой круг, попадает на то же место, только немножечко повыше. Якуб тогда разочаровался:
— Что же это за чертовщина такая? Почему вы тогда ничего не предпринимаете, если знаете об этом… если это правда?
Все сидящие в зале рассмеялись, а лектор серьезно спросил:
— А что предложили бы сделать вы, товарищ Пешек?
— Я?
Минуту стояла тишина, потом лектор произнес:
— Дело в том, товарищ Пешек, что это сказал Карл Маркс.
Якуб сел. Он не стал говорить, что он бы, например, взял эту спираль за концы и растянул бы ее, чтобы она стала прямой, как натянутая проволока, и тогда все пошло бы быстрее.
Нет, Якуб, ты не философ. Но не кажется ли тебе, что эта спираль вдруг оборвалась? Натягивал ты ее, натягивал, Якуб, и вдруг — бац! В руках у тебя уже нет ни спирали, ни проволоки. Руки твои стали свободными!
Может, кажется тебе бессмыслицей и то, что ты идешь сейчас за форелью, чтобы встретить Вацлава, а главное — его жену Милену?..
Ах, Якуб! И кто тебя научил брать на себя все грехи людские? Ты уже не в том возрасте, когда стоило тебе встать и пойти туда, где трудно, на место испытания, как грехи мира сразу начинали бледнеть.
Якуб оперся о камень, омываемый ручьем, устремляющимся в долину, о тот самый камень, который служил ему опорой при первом выстреле в свободной Чехословакии. Он оперся о камень и стоял, пытаясь понять, почему ему сегодня хуже, чем когда-либо в прошлом.
Вероятно, только некоторые журналисты да патетически настроенные учителя верят в заманчивую сказку о том, что есть люди, которые идут за свои убеждения на смерть без всяких колебаний. Только они нам упорно преподносят в качестве примера то, что не существует: человека, которому все ясно и который поэтому на своем пути всегда добивается успеха. Такой тип человека мог возникнуть только в их слабых душах, потому что к такому человеку можно быстро привыкнуть, с ним легко жить, с ним и сам чувствуешь, что становишься сильнее.
Как хорошо знает Якуб моменты слабости! Он испытал ее в первые дни в лагере, а потом были еще многие другие такие дни, которые большей частью приходили неожиданно, как куриный мор… В такую минуту, когда не найти соломинки, за которую бы можно было ухватиться, хотя нет воды, в которой человек может утонуть, когда нет ничего, кроме пустоты и страха за жизнь, люди молчали и собраний по этому поводу не проводили. Письма, полные воли и решительности, пишутся только для преодоления своей слабости. Такие моменты, как правило, утаиваются. Но они существуют. Их больше, чем это можно себе представить. И как раз они дают необъяснимую силу той решительности, которая появляется у человека, словно развернувшийся цветок над замерзшей землей. Потому что неуверенность и страх — это как волк, гриф и гиена: они все сжирают и уничтожают. Но потом все же может пробиться новая жизнь, если она еще есть. Если она еще есть!
Да, минуты слабости и нерешительности хорошо известны Якубу!
Пятидесятые годы! Свирепствовала холодная война, и строгость смела улыбку с лица всей страны. Но был ли другой, лучший путь? Совершались, конечно, и ошибки. Партия вела себя, как мать, которая в страхе за своих детей слишком туго заматывает свивальник. Но укажите нам другой, лучший путь! Укажите нам его, но только такой, чтобы на другом конце его не было миллионов мертвых!
Тогда сомнения компенсировались действием. Партия выступает всегда в нужный момент, и нет никакой надобности уяснять, что мир — это спираль. Чем больше была мука от неуверенности, тем сильнее потом разгоралась жизнь.
Но сегодня?
Тогда везде была партия. А сегодня? Есть еще партия? Неужели Якубу суждено дожить до полного одиночества?
Говорят, что жизнь многолика и переменчива. Однако ничтожество и смерть так же многолики и переменчивы. Якуб, возможно ли такое, что ты впервые в жизни оказался один? Может, это оттого, что ты стал старым? Смерть как будто начинала посматривать на него.
Он прикатил два валуна и сбросил их в узкое русло потока так, чтобы они образовали преграду. Просветы между камнями он закрыл кусками дерна и стал ждать, пока озеро наполнится до краев, чтобы потом, когда вода снова сбежит, собрать из мелких луж форелей. Он снова оперся о камни, на этот раз сбоку, так как вода хлынула на открытое пространство и через минуту достигла бы его щиколоток.
А потом он неожиданно испугался, когда уловил слова, донесшиеся до него справа:
— А что, если они подохнут в то время, пока ты тут спишь?
Медленно (у одних людей реакция от испуга убыстряется, а у других замедляется) Якуб повернулся на голос. Рядом с Якубом улыбался Пепик Шпичка.
Пепик Шпичка был сыном Эмана, того самого, который когда-то давным-давно спросил Якуба: «А что ты думаешь насчет того, чтобы вступить в нашу организацию?» Взбалмошный и сумасшедший Пепик Шпичка был лет на шесть моложе Якуба. Однажды на собрании Якуб заявил ему прямо в лицо, что он не товарищ, а авантюрист, на что Пепик, рассмеявшись, ответил, что тем не менее остается другом Якуба.
— Что ты здесь делаешь? — спросил его Якуб.
— Твои куры сказали мне, что ты пошел вверх по ручью. — И он сделал «бабку», то есть выпятил подбородок вперед, а потом наверх и нижней губой коснулся кончика носа. Он умел это делать еще в школе, и учитель Кабоурек говорил, что у него или выбита из сустава челюсть, или же эта особенность дана ему самим богом.
— А почему ты пошел за мной?
— Захотелось, приятель, вот и пошел!
Если бы Пепик знал, что вся эта болтовня не только не забавляет Якуба, но и утомляет его! А чего еще от него можно ожидать? Еще не прошло и десяти лет с того дня, когда Якуб, вернувшись с собрания, не смог попасть домой, так как кто-то сменил ему замок. Пока Якуб раздумывал, над забором возникла голова Пепика и до него долетел голос:
— Ты член районного комитета партии. Пока не достанешь обещанный комбайн, домой не попадешь. В сарайчик я тебе принес охапку сена. Ну, спокойной ночи!
В тот раз Якуб был готов убить Пепика. Но тот предусмотрительно не пришел домой ночевать. Шпичкова дала Якубу ключи от его собственного дома, и Якуб в течение месяца выбил комбайн.
— Так зачем ты сюда пришел? Хочешь подлить масла в огонь?
— А чего же еще, старик. Кто-нибудь уже подлил?
— Если ты намерен убеждать меня, что я сделал глупость, то лучше исчезни!
Пепик Шпичка уже на третий срок был избран председателем партийной организации.
После января он сначала увлекся, полагая, что все, что делало руководство, было правильным. Однако уже в апреле он приумолк и в течение двух месяцев не провел ни одного заседания комитета. И только в июле он начал мыслить немного иначе.
— Ворчи, сколько хочешь! Но я тебе только скажу, что обошел половину членов комитета. Завтра мы собираемся. Из-за тебя! С одной стороны, получишь положенную трепку за то, что сделал это без нас. Хотя ты со мной и договаривался, но все равно надо было подождать решения комитета. Но с другой — мы собираемся для того, чтобы сказать тебе, что мы с тобой согласны. Во всяком случае, мы пятеро. Ну а теперь можешь себе глазеть в свою лужу хоть до завтра.
Он помахал рукой около козырька кепки и ушел.
— Грубиян! Получишь, видите ли, трепку!
И цветы вокруг Якуба стали словно позванивать, а вода, которая тихо, без бульканья собиралась в запруде, начала отсчитывать время.
Через несколько минут Якуб пособирал своих форелей, среди которых были и те три, которых он сам посадил сюда в позапрошлом году.
Уже десять минут Ярослав сидел между холодильником и столом, молча глядя на газовую плиту. Мария, опершись о шкафчик для сушки посуды, казалось, наблюдала за Ярославом. Но ее взгляд, обращенный на безразличное, застывшее лицо мужа, проникал куда-то дальше, гораздо дальше этого знакомого лица. В той дали в теплых тонах рисовалось нечто такое, что в последние годы было почти забыто. Это был склон холма напротив окон родного домика, это были простые и в то же время такие милые лица соседей, а может, это была связка лука, висящая на балке у двери. Марии вдруг стали бесконечно дороги эти полузабывшиеся образы. Они помогали ей обрести уверенность.
Ярослав поднял взгляд от плиты на Марию, пробежал по ее бедрам и плечам и остановился на глазах. Ему казалось, что она думает о том же. Но слова были еще далеко. Они приближались и уже были готовы сорваться с языка, но прежде, чем они прозвучали, в прихожей снова зазвонил телефон, да так громко, что они даже испугались.
Мария подошла к телефону первой. Ярослав шел за ней. Алоис только приоткрыл дверь комнаты, махнул, словно оправдываясь, рукой и снова исчез.
Мария спокойно стояла у аппарата и в необычной для себя манере только тихо поддакивала и кивала головой. На ее губах играла усмешка. Затем она без единого слова положила трубку и рассмеялась. Ярослав слышал такой смех всего лишь несколько раз за все те почти двадцать лет, что они живут вместе.
Затем они опять так же расположились на кухне, как и перед телефонным звонком: Ярослав между столом и холодильником, а Мария — около сушильного шкафа.
— У меня тоже есть свои заботливые друзья… — Только теперь это была совсем другая улыбка. — Звонил заместитель директора школы…
О чем он говорил, нетрудно было догадаться. Ярослав вдруг с мучительной болью подумал о том, что надо оградить Марию от оскорблений.
Как договорить все те начатые предложения и недосказанные слова? Чувство стыда закрывало им обоим рот.
Вацлав хотел ехать сразу после того, как послал телеграмму. У него было такое чувство, словно он должен отца от кого-то защищать, охранять. Потом, однако, он просидел дома целый час в кресле перед погасшим экраном телевизора (Милена еще не вернулась из города от врача). Он был как тот глупый черт из сказки, которого хитрый портной липкой лентой приклеил к стулу. Слыша голос отца, Вацлав сразу пришел к выводу, что надо что-то сделать. Когда отец кончил говорить, он решил, что поедет к нему в Бржезаны. Вацлав не безрассудный человек, но за двадцать лет службы в армии он понял, что в жизни бывают случаи, когда действие, пусть даже несовершенное, лучше, чем пустое и долгое раздумье.
Дома Вацлав смекнул, что при выступлении отца должен был присутствовать и Ярослав. И как это ему раньше не пришло в голову? Желание немедленно навестить отца сразу же пропало. Представление о том, что разъяренные группы людей будут осаждать отца и возникнет необходимость защищать его собственной грудью, было, конечно, наивным и смешным. Он размышлял о том, кому и какую пользу принесло выступление отца. Чему оно способствовало? Одновременно Вацлав спрашивал себя, что делать дальше. Поставить перед домом отца вооруженную охрану? Написать на избе: «Прикасаться запрещено»?
Ведь все это уходит куда-то в совершенно другую сторону, вот что самое ужасное. А Ярослав должен был присутствовать при этом!
Наконец Вацлав встал и набрал номер Ярослава.
В эти минуты Ярослав и Мария все еще находились на кухне. Внутренне оба содрогались, хотя слова пока что между ними проскакивали только самые обычные. Это приносило некоторое облегчение, но отдаляло серьезный разговор. Обоим хотелось говорить о старом Якубе. Однако они чувствовали, что все слова будут напрасными до тех пор, пока они не поймут, что, собственно, происходит. Тем не менее минута, когда все окольные пути будут отрезаны, а Ярослав и Мария смогут приблизиться к правде, была уже близка.
Телефон в прихожей зазвонил в третий раз. Они только покрутили головами. Трубку взял проворный Алоис.
— Кто звонит? А, здравствуй, Вацлавичек! Как ты там поживаешь?.. Конечно, здесь, оба попрятались куда-то, как мышата…
Мария Машинова вырвала у него трубку, Алоис заюлил, не зная, как оправдать свое любопытство, и скрылся в комнате.
Вацлав, конечно, не ожидал, что в квартире Ярослава ему ответит Алоис Машин. На какое-то время он растерялся, не зная, что сказать, и, видимо, поэтому неожиданно решил:
— Через полчаса я буду у вас.
Мария не спрашивала зачем. Все было и так ясно.
В кухне Ярослав спросил:
— Не пойти ли нам в комнату, пока отец не хватил лишнего?
— Если захочет, все равно напьется, — задумчиво ответила Мария. — И он напьется, потому что пьет за чужой счет. — Думала же она, однако, о другом.
Ярослав молчал.
Спустя минуту Мария продолжала:
— Твой отец ничего не понимает.
— Почему ты так думаешь?
— Он ведет себя так, будто выиграл миллион.
Ярослав улыбнулся. Он снова увидел вечно испуганные глаза отца и почувствовал его судорожную бодрость, которой старый Алоис всегда прикрывается.
— Боюсь, что он понимает больше, чем ты думаешь. Даже, может, больше, чем мы оба вместе. Или, по крайней мере, больше, чем я!
— Ты действительно не понимаешь, Ярослав?
Ярослав встал, подошел к окну и засмотрелся на пустынную улицу. Он делал так, когда хотел что-нибудь написать и раздумывал, еще не решаясь взять карандаш.
«Я ведь не говорю правду. А между тем все понимаю. И уже давно. Ничего в этом плане не меняет и то, что еще в первой половине дня я выглядел как… Чувствовал я одно, а вел себя совсем по-другому. Но почему все это случилось именно со мной?»
Он отвернулся от окна. Его лицо заметно побледнело.
— Что с тобой, Ярослав?
— Мария! Сегодня утром я действительно был против Якуба!
Мария только теперь поняла, что она, собственно, еще не знает, почему здесь так неожиданно появился Алоис.
— Что же там у вас происходило утром? Вы оба были там, но по радио выступал только папа…
— Со вступительным словом выступил редактор Галирж.
— Это было самое ужасное, и я…
— Я знаю. Но отца позвал туда кто-то другой. Я даже не знал…
Молчание. Затем Ярослав продолжал:
— Примерно то же самое, что говорил Галирж, происходило и утром. Это была… подготовка…
Снова наступило молчание, короткое, но бездонное. Потом Мария спросила:
— И ты был на их стороне? На стороне того редактора?
— Нет, Мария, не был… Но тем не менее я был против Якуба. Как раз потому, что я ничего не понимаю.
Мария пристально смотрела на Ярослава, и в ее глазах был страх. Нет, она боялась не за Ярослава. Его она уже хорошо знает. Знает, что Ярослав не лжет. Но она также знает, что он не любит вставать на ту или иную сторону, что он любит искать пути, которые примиряют противоречия. Если Мария оживит в памяти речь того редактора и слова своего отца, она сумеет хорошо представить, где примерно между ними находился Ярослав.
Нет! Ярослав все понимает, хорошо понимает. Но он боится! Он, собственно, потому против Якуба, что не был целиком на его стороне. Следовательно, все это зашло уже слишком далеко… А сейчас вопрос уже встал ребром: так или иначе! От этого в ее взгляде появился страх.
— Что будешь делать, Ярослав?
В ушах Ярослава зажужжали слова отца Алоиса: «Мой сын знает, что надо сделать, чтобы избежать позора… мой пример научил его…» И если Мария не вкладывала в свой вопрос именно такой смысл, Ярослав его понял так. Неужели опять придется прибегать к такому примеру? И снова нож завибрировал рядом с виском.
А потом он, видимо, хотел улыбнуться, но в результате получился только тяжелый вздох. Он произнес с грустью в голосе:
— Боюсь, что сегодня я уже вообще ничего не могу делать.
У Марии все внутри загорелось. Но она верила ему. Ярослав докончил мысль:
— Координационный комитет, тот твой заместитель директора… да и отец — все они хотят от меня того же самого. Только сегодня, Мария, я бы сделал это против своей воли. В данном случае я не могу это повторить. А что самое ужасное… сегодня… — Он запнулся. К его глазам подступали слезы. Усилием воли он сдержал их. — Это начинает попахивать… — Ярослав хотел сказать «кровью», но он уже давно научился зачеркивать сильные слова. — Я боюсь! — договорил он и склонил голову.
Вацлав оставил Милене у зеркала в прихожей записку, в которой сообщал, где он и когда вернется, и сел в «эмбечку»[5]. Он ехал по городу в направлении радиостудии. Улицы были наполовину пусты: наступил период летних отпусков. Бросалось в глаза большое количество стоявших и проезжавших мимо машин с западными номерами. Но все это на фоне возбужденности Вацлава создавало у него впечатление оцепенения, усталости. Улицы словно были залиты прозрачным студнем. Нигде уже не видно столиков, на которых велся сбор подписей под воззванием «Чиерна-над-Тисой — наша большая победа», а следующая волна давления только еще готовится. Тишина перед сменой погоды. Четырнадцатый съезд состоится уже через пару недель.
Неожиданно Вацлав осознал, что еще ничего не ел. Он свернул в узкую улочку к кафе. В помещении было полно народу, стоял невообразимый шум. Он расслышал несколько немецких гортанных выкриков. За ближайшим столом двое молодых людей в грязных свитерах, говорившие по-французски, ели рогалики, макая их в соус. Вацлав вышел на улицу. Через полчаса он будет у Марии, как и обещал, а вечером поест у отца в Бржезанах, поубавит немного его запасы сыров и копченого мяса.
Мария настороженно ждала дверного звонка. Она хотела сама встретить Вацлава.
Неожиданно у них в комнате взметнулась волна непонимания. Пан Гавличек, офицер в отставке, ни с того ни с сего начал утверждать, что все офицеры — дармоеды, а старый Алоис, который уважение к военной форме считал составной частью хорошего воспитания, начал защищать офицеров всех времен.
Вот в эту атмосферу и попал Вацлав в форме подполковника военной авиации.
Пан Гавличек моментально встал (он все же пил не так безрассудно, как Алоис), приложил растопыренную ладонь к плеши и скомандовал:
— Смирно! Докладываю, что и среди офицеров есть исключения. — Потом, словно по мановению волшебной палочки, он расслабился и совершенно трезвым голосом (хитрая лиса!) заговорил: — Я догадываюсь, что вы Вацлав Пешек, товарищ подполковник. Я же дотянул только до капитана. Могу вас заверить, хотя я и говорил здесь, что офицеры — дармоеды, среди них мне известны два исключения! Вы и я! — И он засмеялся теперь уже пьяным голосом.
Вацлав с удивлением смотрел на происходящее. Рядом с ним стоял бледный Ярослав.
Алоис тоже попытался встать, но это ему не удалось, и он остался сидеть в таком положении, в каком и упал на стул. Свою неудачу он компенсировал так:
— Вацлавичек, быстрее иди к нам! Здесь у нас отличная компания. Знаешь, как я тебя люблю, дорогой мой. Ты за всю жизнь не сделал никому плохого! — И его голова бессильно упала на грудь.
— Что здесь происходит? — удивленно спросил Вацлав.
— А что бы тут происходило? Ничего. Получили бутылку, и вот, пожалуйста.
Мария надменно откинула голову и отвела Вацлава на кухню. Через секунду туда вошел Ярослав.
— Едешь к папе? — спросила она Вацлава.
— Еду.
— Привези его! Пусть погостит несколько дней… — Она запнулась и быстро начала соображать. Было совершенно ясно, что старый Алоис будет спать здесь. — Скажем, у тебя.
— А зачем?
— Завтра в Бржезанах будет какое-то собрание.
— Какое собрание?
Пока Мария искала ответ, за нее ответил Ярослав:
— Боже мой! Ведь это все вздор!
— Собрание проводит Алоис. По поводу Якуба. Тебе ясно, что из этого может получиться? В Бржезанах достаточно людей, которые с удовольствием сделают отцу неприятность. Вацлав, ты должен воспрепятствовать этому!
Алоис проводит собрание! Этот нализавшийся Алоис! На таком собрании, наверное, ни у кого ноги не онемеют. Вацлав усмехнулся. Мария разгадала его мысли.
— Не смейся, Вацлав. Туда поедет также какой-то деятель комитета. Чтобы тебе было известно, среди них есть и головорезы.
Слова, которые Ярослав, будучи напуганным, не мог произнести, совершенно просто и доступно высказала Мария. Ярославу пришло в голову, что уже не впервые он видит, как Мария (и, вероятно, большинство женщин) гораздо разумнее его поступает в напряженных ситуациях.
— Думаю, что ты преувеличиваешь, Мария, — сказал Вацлав. — Это ведь просто невозможно, чтобы нечто подобное… у нас…
Когда накануне Вацлав сидел перед выключенным телевизором, у него были такие же мрачные мысли, как у Марии. Но теперь он был спокоен. Прошло уже какое-то время, он проехал по тихому, почти безлюдному городу. А кроме того, некоторое облегчение принесло ему то, что он представил почти смешную картину охраны деда Якуба, который никогда ничего не боялся и скорее сам раздавал удары, охраняя других, когда это было необходимо.
— Что же вообще можно сделать? Как этому воспрепятствовать?
— Я ведь говорю тебе: увези его, пусть несколько дней отца не будет в Бржезанах.
Вацлав на мгновение задумался:
— А как ты думаешь, что он сам скажет по этому поводу?
Мария поняла. Якуб с этим никогда бы не согласился. Вацлав добавил:
— Выступая сегодня, он знал, на что идет. А мы хотим его куда-то… на несколько дней… А что потом, Мария?
Ни у кого не нашлось ни одного слова. Воцарилась тишина, и только из комнаты доносились звуки, как с другого света.
После долгих томительных секунд Мария наконец сказала:
— Передай папе привет. И предупреди его хотя бы, что против него что-то замышляется.
Вацлав медленно ехал по городу, а затем по открытой местности. На него перешла оцепенелость окружающей атмосферы. Тишина, спокойствие.
К отцу он едет совершенно напрасно… Теперь он окончательно понял смысл неожиданного выступления отца по радио.
Пусть теперь говорят что угодно… Это пришло в голову Вацлаву, когда он слушал выступление. И сейчас он знает, что есть ситуации, когда не имеет значения, как что-то говорится. Бывают ситуации, когда важно уже то, что человек встал, подал голос, чтобы люди заметили: я здесь, вот я какой. А вы испытывайте совесть, если еще можете.
Он, собственно, напрасно едет к отцу, но тем не менее он должен туда ехать, чтобы побыть с ним несколько минут. Чтобы они были вместе. И чтобы передать привет от Марии.
САМОКАТ
Капитан Мартинек числится в третьей эскадрилье. Сегодня утром он поднялся в воздух, так сказать, вне очереди. Это был испытательный полет. Войдя в теплушку, где сидели лейтенанты — выпускники училища из первой эскадрильи, он почувствовал себя человеком с нечистой совестью.
Ребята украдкой посматривают на него, не решаясь начать разговор. Разумеется, они знают о его утренних эстрадных представлениях на пятикилометровой высоте и о драматическом уходе со сцены с помятым баком. Они также знают, что во второй половине дня на предполетной подготовке третьей эскадрильи к завтрашнему летному дню этот случай будет подробно разбираться.
Капитан Мартинек, по существующим правилам и заведенным обычаям, подробно расскажет, что случилось, и с хирургической точностью и хладнокровием разберет и свою ошибку. Это совсем не будет походить на самокритику на собрании. Разбор будет чрезвычайно ценной наукой для остальных, менее опытных летчиков, для которых подобный проступок мог бы означать незамедлительное свободное падение шести тонн металла с высоты пяти километров. Только после этого серьезного служебного разбора Лихач начнет оправдываться. Во всех предполетных подготовках принимают участие летчики всех трех эскадрилий, несмотря на то, что подготовка касается только некоторых из них. Из-за этого случая с Мартинеком все выпускники с большим нетерпением ожидают предполетную подготовку к завтрашнему летному дню.
Однако она будет только после обеда; сейчас же капитан Лихач, стараясь успокоиться, топчется в теплушке, где ему совершенно нечего делать. Ему нужно выговориться. Он просматривает чертежи на ватманской бумаге, покрывающие все свободное пространство между окнами, старается разобрать: вот на этом рисунке даны параметры катапультирования, на том — таблицы расходования топлива во время полета, примитивная карта с толстыми красными линиями обозначает зону тренировочных полетов полка… Все это он знает назубок…
При чем здесь он, если эту алюминиевую сигару сделали из бракованного материала? Каждый дурацкий мост через вонючий ручей рассчитан на троекратную перегрузку по сравнению с расчетной. Но инженеры делают бак с расчетом на допустимую нагрузку! Переступишь на волосок — и вина ляжет на тебя! Он и переступил на волосок.
— Черт возьми, почему это помещение называется теплушкой, если здесь такой холод?!
Хватит ли этого для преодоления стены молчания?
Ответил поручик Сова, известный тем, что, когда он не летает, а для новичка он летает хорошо, он любит говорить о женщинах и вещах, связанных с ними.
— Это, видимо, потому, что здесь всегда много ребят и никогда не было ни одной женщины.
— Наверное, ты прав, — проронил Мартинек, желая тем самым прервать самолюбивую усмешку Совы над собственной шуткой, — я уже летаю восемнадцать лет, но женщин среди летчиков еще не встречал.
— Все это так, — ответил остроумный Сова, — но если бы здесь собирались балерины, то это помещение не называлось бы теплушкой.
Остальным ребятам эта болтовня пришлась явно не по душе, но, так как молчание было нарушено, поручик Алеш спросил с достаточной для выпускника училища смелостью:
— А что у вас случилось с тем баком, товарищ капитан?
Наконец! Но не может же Мартинек сразу дать понять, что именно об этом ему и хочется говорить.
— С каким баком?
Поручик Алеш понял, что его вопрос был слишком прямым.
— Как вы вообще узнали, что его развернуло?
«Умный парень, — подумал Мартинек. — Хотя здесь все ясно как день. Дело в том, что летчик в «миге» не видит из своего самолета почти ничего. Полковник Каркош однажды сказал, чтобы мы не забывали о том, что мы, собственно, наполовину космонавты и не только потому, что у нас скорости высокие. Когда он начинал летать, он видел не только плоскости, но и киль самолета. Этой возможности у нас теперь нет. Поэтому надо больше думать!»
В громкоговорителе заворчало, двое ребят поднялись, взяли свои шлемы, провели ладонями по шлангу, торчащему из левого кармана, и ушли. Пришла их очередь.
— Как я это узнал? Меня повело чуточку направо. Все было в полном порядке, только повело меня немножко направо, и все…
— А если бы бак был отогнут книзу? Если бы при приземлении он зацепил за землю?
Именно эту возможность имел в виду утром руководитель полетов, когда у него под носом выступили капельки пота.
— Ну и что? Я бы как-нибудь через него перепрыгнул. Но книзу бак отогнуться не мог.
— Вы знали об этом точно?
— Еще бы! Думать надо! При тяге вправо у тебя ничего не может отогнуться книзу.
Поручик Алеш покрутил головой и вздохнул. Через полчаса ему предстоял самостоятельный полет.
— Дело в том, что человек никогда не может точно знать, что может случиться, — продолжал Мартинек, — но, если что-нибудь случается, он должен знать, что же, собственно, произошло. — Немножко приободрившись, он бросил интригующе: — Вот зайдет как-нибудь сюда начальник штаба Марван, так вы его спросите, как он однажды узнал о том, что с ним случилось. — Он сделал паузу и дождался своего.
— А вы не могли бы нам об этом рассказать?
— Могу, конечно. Катапультирование на высоте сто метров. Теоретически — это отчаянная попытка без всякой надежды на спасение. Его как-то немножко подкинуло вверх, и парашют раскрылся в тот момент, когда Марван уже копал носом картошку. Удар о землю оказался не смертельным, но радости от этого было мало. Минут десять он лежал без сознания. Когда он пришел в себя, то увидел, что над ним стоит паренек в соломенной шляпе, тормошит его и кричит: «Кто за это будет платить? Кто за это будет платить?» Марван огляделся и увидел, что его пятнадцатая снесла крышу прелестного домика неподалеку. Так он узнал, что случилось, и снова потерял сознание.
По теплушке пронесся хохот. Тот, кто не знает этих парней и их профессию, наверняка подумал бы, что хохот был слишком грубым. Но дело в том, что отношение к жизни и смерти у летчиков несколько иное, нежели у обычных людей. Ни в этом, ни в каком другом подобном помещении никогда не прозвучала шутка по поводу случая, который действительно кончился трагически. Однако если человек выберется из этой переделки живым, то это всегда рождает шутки. Это один из способов хоть немножко приостановить появление преждевременной седины.
— А как было, товарищ капитан, с тем трактором?..
Мартинек сделал непонимающее лицо.
— О вас говорят, что вы однажды пролетели под трактором.
— Чепуха это, грубая ложь, и вообще… Вы прекрасно понимаете, что под трактором пролететь нельзя.
Он позволил улетучиться своему в совершенстве разыгранному возбуждению, а ребята ждали. Они знали, что объяснение все равно последует.
— Действительно, я был ниже метров на двадцать того трактора. Но клянусь, я не пролетал под ним.
Речь шла об одной из проделок Мартинека, о которой командир узнал не от кого другого, как от главного врача районной больницы.
Примерно в сорока километрах от аэродрома тянется прелестная длинная и ровная долина, по которой течет романтическая речушка. Между аэродромом и долиной возвышаются несколько холмов, так что долина находится вне доступности радаров. При отработке полетов на минимальной высоте Мартинек выбрал этот район. Для МиГ-19, потолок которого достигает двадцати километров, понятие «минимальная высота» заключает в себе совершенно иной смысл, чем, скажем, при полетах на тренировочных самолетах в Свазарме. Только для Мартинека полет на минимальной высоте означает полет низко над землей. Он пролетел над этой долиной на высоте едва ли двадцати метров и проделал это упражнение три раза в течение тридцати минут. При последнем полете на склоне над собой он увидел едущий без водителя трактор. Кинув взгляд на местность, заметил и тракториста, испуганно убегающего к лесочку.
Мартинек признался в этом только тогда, когда позвонил врач психиатрического отделения, чтобы узнать, правда ли то, что им постоянно повторяет один из членов сельскохозяйственного кооператива, которого они никак не могут вывести из шокового состояния. Больной твердит, что реактивный самолет трижды пролетел под его трактором.
Это был один из трюков, из-за которых Мартинек до сих пор ходит еще в капитанах. Поэтому он не очень любит о нем рассказывать.
Поручик Алеш понял, что нужно переменить тему, и хотел уже было попросить рассказать о какой-нибудь из шести встреч Мартинека с нарушителями воздушных границ. Но в это время из громкоговорителя донеслось:
— Капитан Мартинек, немедленно явитесь к командиру полка!
Это плохо.
— Сегодня все очень плохо, — прошептал Мартинек. Он надеялся, что его случай будет разбираться на предполетной подготовке к завтрашнему летному дню. Вслух он проворчал несколько скомканных фраз, потому что, когда вызывает командир, случайно выскочившие слова не должен понимать даже тот, кто их произнес, и вышел.
Командир после доклада Мартинека не сказал, как обычно: «Садитесь, товарищ капитан». Наоборот, он сам поднялся со стула и встал возле стола. С минуту они смотрели друг на друга, и Мартинек мысленно в который уже раз повторял: «Что за день сегодня, черт возьми?» Потом полковник Каркош неожиданно сказал:
— Ну, когда же ты поумнеешь, чудак-человек? Вольно!
Мартинеку вдруг стало смешно. На последнем родительском собрании перед каникулами, куда он направился по настоянию своей не менее смелой и прямолинейной жены, его семилетнего сына приводили в качестве отрицательного примера. Дело в том, что дома мальчику было самым суровым образом приказано никогда не лгать. На вопрос учительницы, когда он перестанет лгать, он ответил после небольшого размышления: «Простите, я еще точно не знаю». Учительнице, которой до пенсии оставался только один год, это показалось неслыханной дерзостью. А как на подобный вопрос должен ответить летчик — капитан Мартинек? Лучше всего не отвечать.
Полковник продолжал:
— Сколько же можно грозить и напоминать? На этот раз придется сделать небольшой перерыв. Хотя бы на четырнадцать дней. Поскольку у тебя завтра служба, то наказание вступит в силу с послезавтрашнего дня. А чтобы ты испытал еще раз хорошую перегрузку, отвезешь сейчас этот конверт командиру в Баворов. На «самокате»! На стартовом командном пункте об этом знают. — Он посмотрел на часы: — Через пятнадцать минут чтобы колеса были на отрыве!
— Есть!
Капитан уже набирал воздух на «Разрешите идти?», когда полковник остановил его рукой и дрогнувшим голосом, как говорят старики, сказал:
— Передай ему, старому солдату, привет. И скажи, что я с удовольствием с ним поговорил бы за рюмкой водки.
Мартинека это растрогало.
— Есть проблемы, товарищ полковник? Поверьте мне, я не хотел утром этого делать!
Полковник словно очнулся:
— Да, вот от таких, как ты, я и поседел раньше времени.
К стартовому командному пункту Мартинек шел уже в хорошем настроении. О физических ощущениях нечего и говорить. Этот парень с выступающими лопатками и весом семьдесят килограммов еще может в любое время пробежать стометровку за одиннадцать и восемь десятых секунды. Он уже думал о том, что через минуту сядет в «самокат» и полетит, как жаворонок. Он всегда радуется какому угодно полету в каком угодно самолете. И здесь, таким образом, командир ошибся, полагая, что этим наказывает Мартинека.
Вот отстранение от полетов — это хуже. Все знают командира как человека, который свои решения никогда не меняет, а если и случается, что принимает слишком суровые решения, то делает потом все для того, чтобы облегчить выполнение такого приказа. Облегчить, но не изменить. У Мартинека, однако, в таких неудачах всегда находится что-нибудь утешающее, что позволяет ему легче переживать горькие минуты. Сегодня таких утешительных моментов два. Он заедет на расположенный неподалеку специальный аэродром для планеров и разрешит наконец пари с начальником, заслуженным и уважаемым человеком, которое заключалось в том, что он сможет приземлиться на «орлике» на носовой платок. А второй? Может быть, произойдет что-нибудь такое, что заставит командира отменить свое решение. И хотя ничего подобного еще не случалось, но все же на это можно надеяться.
Когда он забрался на вышку, подполковник Кршиванец набросился на него:
— Где ты болтаешься? Через десять минут ты должен взлететь. А через сорок пять минут кончаются полеты. Не думай, что мы будем здесь из-за тебя торчать до вечера!
В помещение для переодевания Мартинек побежал бегом, а через пять минут он уже сидел в газике, который и отвез его на другой конец взлетно-посадочной полосы к приготовленному «дельфину». По пути он бросил взгляд налево, на площадку аэродрома, где перед маленьким зданием для персонала боевого дежурства застыли два дежурных самолета. Там он будет сидеть завтра всю вторую половину дня, а потом четырнадцать дней — перерыв.
Ребята болтались вокруг машины. Прапорщик Нахтман, старый друг Мартинека и сосед по дому, ответственный за заправку топливом, сказал совершенно серьезно:
— Не хотите ли, товарищ капитан, хотя бы одну дополнительную емкость на правую плоскость?
Мартинек махнул на него перчаткой, но потом, однако, встал по стойке «смирно» и выпалил:
— Нет! Повесьте лучше колокольчик на руль на тот случай, если по дороге мне повстречаются коровы!
Солдаты срочной службы у бензозаправщика смеялись и жалели, что через несколько секунд он улетит.
Дальше никакого театра уже не было. Капитан Мартинек залез в кабину элегантного самолета, который летчики за его относительно маленькую скорость любя называют «самокатом», а прапорщик Нахтман отошел к «мигам», на которых летали летчики первой эскадрильи и которые надо было дозаправить. Мартинек включил радио.
— Я — Сорок второй. Прошу разрешения на запуск двигателя.
— Запуск разрешаю!
Самолет задрожал. В течение положенного времени прогрева Мартинек несколько раз проверил показания приборов, тормоза и руль управления. Это делалось заученными автоматическими движениями, и жена капитана переживала иногда веселые минуты, когда Мартинек влезал в свою «эмбечку» и проделывал в кабине какие-то неуловимые движения, ища рычаги, которых не было.
Все было в норме.
— Я — Сорок второй. Прошу разрешения занять место на полосе.
— Подожди тридцать секунд. Садится Четыреста шестьдесят третий. Понаблюдай, он садится здесь у нас впервые.
Четыреста шестьдесят третий — это поручик Алеш, который полчаса назад в раздевалке так рассудительно беседовал с капитаном Мартинеком. На посадку он шел хорошо. Правильно нашел точку первого соприкосновения с землей. Только, когда он сел, переднее колесо оставалось еще метрах в трех над землей и самолет несся с поднятым носом, как ракета на пусковой установке. В течение этих двухсот метров подполковник Кршиванец успел сказать в микрофон:
— Хорошо, теперь немножечко притормози! — А потом добавил уже для себя: — Дать бы тебе под зад! (Пока машина не остановится, никогда никому нельзя говорить, что он что-то сделал плохо. Для этого будет достаточно времени потом. Прикрикнешь на кого-нибудь, начнет кувыркаться.)
Четыреста шестьдесят третий наконец с шумом опустился на переднюю стойку и начал замедлять бег. Мартинек нажал на кнопку микрофона:
— Я посмотрел. Спасибо. Могу теперь я?
— Как вы запрашиваете, товарищ капитан?
Мартинек послушно и точно по правилам запросил разрешение.
Остановившись в начале взлетно-посадочной полосы и поставив самолет на тормоза, он проверил работу двигателя на максимальных оборотах, затем запросил разрешение на взлет.
— Взлет разрешаю!
Расстояние, необходимое для разбега, он сократил метров на сто пятьдесят. Подполковник Кршиванец внимательно наблюдал за ним с вышки и, улыбаясь, кивал большой головой. Как умеет работать этот парень!
— Докладывает Сорок второй. До свидания! Переключаю связь на Баворов.
Это было последнее, что услышали на вышке с «самоката» капитана Мартинека. Он еще не совсем исчез из поля зрения, когда стартовал следующий «миг» с поручиком и за «дельфином» перестали наблюдать. Через несколько минут он выйдет из зоны тренировочных полетов, а в Баворове его приведут на посадку.
Вокруг капитана Мартинека распростерлось приветливое небо. Все села и города он огибал, чтобы можно было лучше видеть под собой, а если обнаруживал маленькую человеческую фигурку, то махал крыльями. Полет в самолете вызывает особые ощущения, и так будет всегда, пока существует человечество. Капитан Мартинек с удовольствием осознает это. Однажды он взял к себе на дачу четырехлетнюю дочь соседа Нахтмана. В лесу эта малышка всякий раз, когда видела упавшее дерево, повторяла: «Ах эти дети! Ах эти дети!» Только позже Мартинек узнал, что девочка была впервые в настоящем лесу, а поскольку она знала только городской парк, то упавшее дерево было для нее делом рук плохих детей. Но через два дня она бегала по лесу словно обезьянка. Почему бы и нет? Человек жил в лесах тысячи лет. А сегодня уже известно, что дети могут быстрее научиться плавать, чем говорить. Все возможно! Но воздух? Не существует ни одного вида млекопитающих, которые бы могли летать (летучих мышей Мартинек относит скорее к насекомым), не говоря уже о более близких к человеку животных. Этим можно объяснить, почему абсолютное большинство людей не считается с тем фактом, что человек летает. Это воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Люди предпочитают смотреть соревнования мотоциклистов, нежели на летающий самолет. Однако те, которым факт полета запал в душу, не избавятся от этого волшебства до самой смерти: видишь крыло, тяжелое, как кирпичная стена, в нем находятся топливные баки, сложные стальные механизмы, системы управления и так далее, над ним и под ним — пустота, и только при столкновении с ветром оно дрожит. Однако ты знаешь, что воздух, проносящийся над крылом с большой скоростью, почти незаметной кривизной крыла настолько разрежается, что создает мощную подъемную силу. Чудо! Площадь крыла у МиГ-19 составляет двадцать пять квадратных метров. И поднимает оно шесть тонн. На каждый метр шесть мешков картошки. Чудо! Творение природы и человека.
Капитану Мартинеку в общем все равно, на чем летать. Хотя нет. Иногда, а это бывает достаточно часто, он сам себя ловит на мысли о том, что когда-то, в 1910 году, летающие аппараты тоже назывались самолетами. Может быть, поэтому он так любит планеры. Из-за их поразительно маленькой скорости — уже при скорости шестьдесят километров в час трехсоткилограммовый планер держится в воздухе. И из-за той необычной тишины, которой на земле не бывает. И здесь услышишь бесчисленное множество звуков: протяжные, как звук молочных струй, ударяющих в дно подойника, время от времени о крыло будто шлепается мокрая тряпка и таинственный гном что-то бормочет, будто учит французский. Но в общем — это тишина.
В Баворове капитан Мартинек вручил командиру запечатанный конверт и передал ему просьбу полковника Каркоша. Затем он перебросился несколькими словами с подвернувшимися ребятами и полетел домой.
И опять тишина, которая удивляет и пугает.
Капитан Мартинек стиснул сильнее, чем нужно, ручку управления, и это было проявлением его минутного испуга.
Дело в том, что он осознал, что уже несколько секунд его окружает абсолютная тишина.
Автоматическими движениями он попытался снова запустить двигатель.
Один раз, второй… «Дельфин» не планер, но это и не МиГ-19. Капитан осмотрел местность под собой и одновременно несколькими фразами сообщил о сложившейся ситуации и передал свои координаты. Он вспомнил о своем споре, что приземлится на планере точно на носовой платок. Ну что ж, попробуем сделать это на «самокате». Выпрыгнуть? Не имеет смысла! Что потом можно сделать из груды исковерканного металла? Внизу появился зеленый прямоугольник ровного поля. Скорее всего это клевер, так как часть прямоугольника немножко светлее: видимо, уже скошена и убрана. Под углом, который необходим для планирующего полета этой машины, он дотянет точно до ближайшей светлой части поля. Нескошенная часть послужит естественным тормозом в последней, более медленной фазе приземления.
Просто, как таблица умножения. Лихач Мартинек способен производить и гораздо более сложные расчеты. А рука у него никогда не дрогнет. Точно в заранее предусмотренном месте он выпустил щитки-закрылки и улыбнулся: теперь только осталось на том темном месте положить носовой платок. (Будучи мальчиком, Мартинек лучше всех в деревне катался на самокате.)
Мартинек приземлялся примерно в десяти метрах от дороги, за которой начинался прямоугольник выбранного им поля, сначала на два основных колеса. Если сопротивление будет большим, чем он рассчитывает, то значительную часть скорости погасит приземление на переднее колесо и возможность кувырка этим самым уменьшится. Он опять улыбнулся. Скорость после приземления, как он и ожидал, была почти нормальной. А оглушительное дребезжание, напоминавшее стук картошки, сыплющейся по деревянному желобу в погреб, дребезжание, которое через колеса передавалось от неровной поверхности поля всему самолету, могло бы испугать какого-нибудь гражданского, но только не капитана Мартинека.
Со скоростью, при которой уже ничего не могло случиться, «самокат» Мартинека въехал на нескошенную часть поля. Остается еще преодолеть то темное место (вероятно, более увлажненное, с сочными растениями), и можно будет заслуженно закурить сегодня уже третью сигарету из пяти, которые Лихач разрешает себе выкуривать в день.
Однако неожиданно машина была брошена вправо и перевернулась два раза по диагонали между крылом и фюзеляжем. Она осталась лежать в перевернутом положении, а в нескольких метрах сзади на земле лежали оторванные консоли.
К обломкам самолета устремились люди, работавшие на поле неподалеку. Не добежав до самолета, один человек отделился от группы и повернул назад, к селу.
КОГДА ЧТО-НИБУДЬ ОЧЕНЬ БОЛИТ
За бутылкой хорошо поговорить о том о сем. В любое время дня найдется несколько «политиков», которые убеждены, что они своим длинным языком помогают мировой дипломатии, забывая о зрелом колосе, разминаемом в руке.
Вся их красноречивость, однако, получила неожиданный оборот, когда на деревенской площади остановилась «шкодовка», из которой вышел Вацлав.
— Вот это да! — Люди прильнули к окнам. Подъехать к самому дому нельзя: там, между домиком и склоном холма, едва хватает места для ручья и тропинки. Поэтому Вацлав вынужден был оставить машину здесь.
В ту самую минуту, когда дискуссионный кружок прильнул к окну, в пивную вошел Пепик Шпичка. Он искал членов комитета и хорошо знал, что заведующего почтой Ванека и нового учителя Ержабека он найдет здесь.
— Что, приехал его превосходительство князь? — крикнул он от прилавка, где заказывал пиво.
Они оглянулись на голос и рассмеялись, так как такие шутки случаются не каждую минуту: на Вацлаве золота наверняка больше, чем это бы себе позволил князь, а потом — это Вацлав, тот самый Вацлав, отец которого дал такую прекрасную основу для еще более прекрасных разговоров.
Шпичка выглянул из окна и, хотел он этого или не хотел, тоже улыбнулся. А потом раздался голос заведующего почтой Ванека:
— Ну вот он уже здесь. Забеспокоились!
— Ты знаешь, что он должен был приехать?
Ванек, гордый своей почтовой осведомленностью, усмехнулся:
— И даже боялся, как бы старик никуда вечером не убежал.
— Ты распечатываешь письма, Милослав? — испуганно спросил учитель Ержабек.
— Это была телеграмма. Я ведь ее сам принимал.
— Неважно! — загремел Шпичка. — Болтать об этом все равно не следует!
— Но-но-но!
— Знаешь что? Давай-ка выйдем на минутку.
Все присутствующие удивленно подняли головы. Такое предложение в каждой нормальной деревне еще и сегодня означает то же самое, что и прежде: выйти на улицу, чтобы дать по носу. Только голос Шпички звучал нормально и сухо. Потом он добавил:
— И ты, учитель, тоже.
Стало ясно, что комедии не будет.
В пивной, разумеется, стали раздумывать.
— Что за тайны он хочет им сказать?
— Умеешь считать? Так посчитай!
— Ты это к чему?
— После обеда он обходил членов комитета. Эти ведь тоже члены!
— Стало быть, будет собрание.
— И речь пойдет о Якубе.
— Как ты об этом узнал?
В то время, как Пепик Шпичка говорил перед пивной обоим членам комитета о том, что решил созвать собрание, и объяснял, какая будет повестка дня (Ванек и Ержабек относятся к четверке, которая непременно будет возражать, если вообще не отвергнет), в пивной Ладя Панда наклонился к уху Франты Ламача и сказал:
— Я ничего не знаю, но сосчитай! Сколько их в комитете? Девять. Кого Пепик обежал сначала? Вокача, Гавлену, Шмида и Вондру. Все четверо — его верные единомышленники. Вместе с Пепиком их пятеро. Потом он пошел к Якубу. А теперь пробует, не удастся ли ему случайно расшатать кого-нибудь из этой более слабой четверки. Спрашиваю тебя: с какой стати он действует именно так? Из-за кого? Увидишь, что говорить будут о Якубе, о том, что комитет этот поступок Якуба вроде бы одобрил. Иначе он не созывал бы собрания таким образом.
Ладя Панда моргнул и одновременно победоносно приподнял бутылку. (Пусть себе некоторые думают, что в деревне живут одни дураки.)
Маленьким и острым, как бритва, ножиком Якуб разрезал брюшко форелей, выдирал внутренности, но хвосты и головы оставлял. В этом деле он знает толк. Форели, которые он принес, могут быть приготовлены только одним способом: посолены, слегка обвалены в муке и пожарены на сильном огне в масле с добавлением нескольких зерен тмина. Голову и хвост не едят, но они, как и мука, помогают рыбе до последней минуты сохранять первоначальный вид и до некоторой степени и свою природную окраску.
Он с нетерпением ждал того момента, когда Милена будет на кухне своим глубоким голосом перекрикивать шипение масла на сковороде, а Якуб и Вацлав будут спокойно болтать в комнате и делать вид, что не слышат ее. Он замечтался, а потом неожиданно опомнился, поняв, что к нему пришло хорошее настроение. «Что же это за чертовщина? Минуту назад у тебя было такое ощущение, будто на тебя падают скалы и разверзается земля, а теперь ты чистишь рыбу, гладишь спинки форелей. Признайся, что по-мальчишески ожидаешь, как эта безжизненная, нежная масса дернется в руке и превратится в вербовую веточку. И вот у тебя уже хорошее настроение. В твои-то годы менять настроения, как апрель погоду!..»
А почему, собственно, нет? Минуту назад Якуб прогнал дьявола слабости, пораженчества и безнадежности. Дьявола, который, по рассказам мамы-мельничихи, умеет принимать разные обличья. Якуб помнит, что ему эти разные обличья как раз очень нравились. А может, такое избавление от дьявола и есть та самая малость, что желает в жизни каждый человек? Но нет! Якуб слишком хорошо знает, что именно эта обычная вещь, это избавление от дьявола неуверенности и слабости — самая большая награда, которую нигде и ни за что не купить.
Якуб с нетерпением ожидает приезда Вацлава и Милены, потому что знает: приедут они напрасно. Нет никакой нужды следить за старым Якубом, хотя он и может иногда отколоть номер из-за своего упрямства. Но все-таки хорошо, что они приедут, так как необходимо посоветоваться, как жить дальше.
Закончив свое кулинарное дело, он разложил рыбу на чистом полотенце строго в ряд, голова к голове, потом принес пучок крапивы, все хорошо завернул, ополоснул руки и вышел на порог.
Уперев руки в бедра, Якуб горделиво осмотрелся. Лесан удивился этому. Хозяин никогда не делал подобных вещей. Пес вышел вслед за ним, осмотрелся, не происходит ли что-нибудь такое, о чем он не знает, и обиженный, хотел уже возвратиться. Тропинка вдоль ручья была пустой и мертвой. Пес уже начал с трудом поворачиваться (между ногами Якуба и дверью было мало места), как вдруг заметил необычный блеск и тявкнул один раз.
Якуб увидел Вацлава чуть раньше, чем Лесан. Глаза Якуба находились на большей высоте. Да и зрение у него лучше. Он был в недоумении. Почему, собственно, он решил, что с Вацлавом приедет и Милена? Ведь в телеграмме было сказано: «Приеду. Вацлав». Он поднял руку и замахал ею. Вацлав сделал то же самое.
Ему оставалось пройти еще несколько шагов до калитки, когда его обогнал подросток Пепичек, внук Йозефа Шпички. Словно стараясь перекричать лай Лесана, мальчишка кричал во все горло:
— Дядя Пешек, пойдите посмотрите, на поле лежит разбитый реактивный самолет!..
Вацлав подбежал к мальчику и схватил его за плечо.
— Какой самолет?
— Ну, реактивный самолет, серебристый.
— А где летчик?
— Его уже увезли.
— Как он выглядел?
— Не знаю, я пришел позже… — Он вырвался и побежал назад.
Вацлав смотрел через палисадник на отца, но не мог вымолвить ни слова. В его голове вертелась единственная мысль. «Летчика уже отвезли, наверное, он еще жив…»
Якуб выбежал на улицу, бросив, лишь «Пошли!». Они поспешили к лугу.
— Можно туда проехать на машине? — спросил Вацлав.
— Можно, — ответил Якуб.
Это все, что они сказали друг другу по дороге на площадь. Вацлав, конечно, знает, где находится луг, но за истекшие двадцать лет могло произойти столько перемен из-за перестроек и мелиорации, что прежние детские «прерии» и «саванны» преобразились до неузнаваемости.
Садясь в машину, Вацлав почувствовал, что кровь стынет в жилах. Бржезаны находятся как раз около их части. Может быть, этот летчик все-таки дотянул самолет, а потом у него с испугу одеревенели руки и ноги… Ну, а из МиГ-19 его не вытащить живым.
Когда съехали с шоссе на проселочную дорогу, Вацлав впился глазами в ветровое стекло. То, что лежало впереди кверху брюхом, было самолетом «дельфин».
В первый момент он почувствовал облегчение. «Почему, черт возьми, мы больше переживаем за этих юнцов, чем за стреляных воробьев, способных сделать во много раз больше?» И тут он вспомнил о Мартинеке, которого утром встретил у проходной. Почти наверняка это был он. Вацлаву вдруг стало очень жаль Мартинека. Что с ним будет дальше?
Вокруг обломков самолета уже столпились человек пятьдесят любопытных. Тут же находился вахмистр Шмид из бржезанского отделения корпуса национальной безопасности. Вацлав направился прямо к нему. Шмид, отдав честь, начал, запинаясь, докладывать:
— Товарищ подполковник! Летчик капитан Мартинек… двадцать минут назад эвакуирован с переломом руки и ушибом головы. В остальном все нормально, шутил и… говорил что-то непонятное.
— Что же он говорил?
— Товарищ подполковник… он сказал, что это пакость, что у самолета испортились насосы… Вот я теперь охраняю, пока не придет комиссия. — Вахмистр тоже улыбнулся, заметив усмешку на лице Вацлава.
Сломанная рука! Это самое лучшее из всего, что могло произойти. И голова цела, ее, видно, не повредил. Но как, собственно говоря, это могло произойти? Вацлав огляделся. По примятому клеверу и следам на пашне легко можно было определить направление падения самолета. Какое тут падение! На расстоянии добрых четырехсот метров ясно просматривались три следа от шасси вплоть до того темно-зеленого места в пятидесяти метрах от обломков самолета. Совершенно очевидная и типичная вынужденная посадка. Вон до того места! Вацлав побежал туда. Вступив в заросли старого, густого, засоренного бурьяном клевера, он сразу же наткнулся на позабытую ржавую ограду. Не совсем позабытую, однако, если судить по тому, что не один, видно, год сенокосилки объезжали ее и оставляли нетронутой. Вацлав усилием воли подавил в себе злость и попросил вахмистра очистить поле от людей, пока не приедет комиссия.
Затем он отвез отца на площадь.
— Мне нужно побыстрее назад. Понимаешь?..
Якуб согласно кивнул. Тихо урчал мотор. Несколько минут они сидели молча, хотя думали об одном и том же: сейчас они похожи на людей, которым нечего сказать, но для разговора не хватило бы и целых суток.
— Завтра здесь должно состояться какое-то заседание, — произнес наконец Вацлав.
— Да, заседание комитета. А откуда ты об этом узнал?
— Нет, другое. Созывает его дед Алоис…
Якуб улыбнулся.
— Не смейся, у них есть… — Вацлав не договорил. Что у них на самом деле есть: злые языки, острые зубы или желание кусаться? Он этого не знает.
Якуб спокойно ответил:
— Не надо это драматизировать, Вацлав. Я ведь здесь дома.
Больше они ничего не сказали. И это было к лучшему. Они понимали друг друга, все было ясным, лишние слова были ни к чему.
Якуб положил руку на колено Вацлаву:
— Ну, передавай привет Милене!
— Приеду, как только немного освобожусь.
— Надеюсь, что это будет раньше, чем через полгода! — усмехнулся отец, вылезая из машины. Он совсем забыл про выпотрошенные форели, завернутые в крапиву и чистое полотенце.
А Вацлав, выехав на шоссе, довел скорость до ста километров, а на государственной автомагистрали — до ста двадцати. Он не любил, когда жизнь вдруг подбрасывала проблемы, которых не ждешь.
При первом взгляде на Мартинека Вацлав успокоился: тот сидел на кровати, помешивая кофе правой рукой. Левая рука его покоилась в гипсе, на голове была повязка. Отнюдь не калека на костылях.
— Как у тебя с головой? — спросил Вацлав, подходя к кровати, и, когда Мартинек с улыбкой ответил, что удар был совсем незначительным, чтобы получить сотрясение мозга, началась обычная беседа посетителя с больным.
— Ничего себе незначительный! Крылья на полметра врезались в землю!
— У меня не такие уж острые ребра.
Он отпил кофе, причмокнул языком и посмотрел на Вацлава. Взгляд его был печален, но в глазах светилась необычная мягкость, скорее даже нежность, а может быть, и благодарность за такой «пустяк», что он остался в живых и не превратился в калеку. Вместе с этим в его взгляде угадывался и немой вопрос.
— Судя по тебе, через месяц будешь сидеть в самолете.
— Надеюсь, — ответил капитан, улыбнувшись. Не эта мысль вертелась в его перевязанной голове. Он высказал ее вслух сам: — Если только меня к нему подпустят…
— Что ты еще подумал?
Капитан промолчал, снова отпил кофе.
— Четыре происшествия за последние два года, — продолжал он, — да сегодня еще два. Сам не понимаю, как возможно все это натворить.
— За последнее происшествие ты не отвечаешь.
— Как это понять? — спросил летчик, и глаза его вдруг заблестели.
— Я был там сегодня. До приезда комиссии. Там находится заброшенная ограда, которую ты не мог заметить. Если бы не это, тебя бы еще и наградили за сохранение машины и мастерски выполненную вынужденную посадку.
— Вот видишь, как мне не повезло! Увидит ли эту ограду комиссия?
— Это… — Вацлав запнулся, но закончил уверенно: — Само собой разумеется!
И каждый подумал при этом, что все будет зависеть от состава комиссии.
Они молчали. Вошла сестра и подала Вацлаву кофе, который попросил ее принести лечащий врач, надпоручик. Вацлав спросил капитана, надо ли что-нибудь передать жене, друзьям.
— Да она и сама приедет. Вот-вот появится. Сам увидишь, как будет меня чистить. А в полку расскажи, что мне вся эта история очень неприятна. Весьма неприятна, но я тут ни при чем. А завтра утром я должен был заступить на дежурство…
— Это тебя пусть не волнует.
— Кого назначишь?
— Сам пойду.
— Почему именно ты?
Вацлав помолчал, а потом, похлопав Мартинека по здоровой руке, ответил с улыбкой:
— Открою секрет, который ты будешь иметь возможность разболтать после своего возвращения. Через пять дней иду на свалку, поэтому хочется последний раз принести пользу.
Сейчас, если бы это было возможно, Мартинек отдал бы Вацлаву в знак благодарности свою переломанную руку в гипсе. Хотя бы на этот месяц, пока ему придется жить надеждой. «Прямо какая-то комедия! Я сотворил с машиной три сальто-мортале, а этот спокойный старикан, который за свою жизнь не обидел, наверное, и мухи, идет теперь в запас».
— Значит, за это дежурство я должен буду отплатить тебе с процентами!
Иной реакции Вацлав не ожидал, хотя и был признателен летчику за то, что тот не стал его утешать. Вообще говоря, этот Мартинек тоже уже старый служака.
— Пока срастается твой мосол, я быстро подготовлю тебе в помощники одного поручика, чтобы ты не надрывался на дежурстве!
— За это тебе большое спасибо!
Сдержанно улыбнувшись, они крепко пожали друг другу руки.
Разве нельзя сделать так, чтобы люди всегда находили общий язык?
ДВА МАЙОРА
Вацлав подъехал на своей машине прямо к зданию штаба и поспешил к командиру. В кресле возле круглого столика в углу комнаты сидел незнакомый майор. Полковник Каркош представил:
— Майор Некуда из Враницы. — (Во Вранице располагался вышестоящий штаб.)
Поздоровавшись, румяный майор с постоянно откинутой назад головой снова уселся и жестом пригласил Вацлава сесть в другое кресло. Вацлав на секунду замешкался, вроде бы по рассеянности. На самом же деле у него возникло недоброе предчувствие. Ведь не совсем обычное явление, когда гость, пусть даже из вышестоящей инстанции, предлагает сесть местным товарищам. Мельком взглянув на командира, Вацлав понял, что тут что-то не так. Полковник Каркош сидел, опершись локтями о стол. Пальцы его рук были сплетены, указательными пальцами он сдавил губы, а суставом левого среднего пальца свернул в сторону нос. В его глазах играли иронические огоньки.
— Вы тут впутались в хорошенькую историю, товарищ подполковник. Авария «дельфина», самого надежного самолета в мире! Не так ли?
Вацлав посмотрел на майора, вспомнил опасения Мартинека насчет комиссии, потом взглянул на командира. А командир усмехался.
— Допустим, так! — ответил Вацлав сухо и уставился на галстук майора.
Майор покраснел, вытянулся, придал лицу строгое выражение и через несколько секунд встал. Видно, ему показалось, что он чересчур низко вознесся над землей. Пройдя до двери, а потом обратно, он изрек:
— Я надеюсь, вы понимаете, что теперь не до шуток?
Вацлав подумал: «Что у него за тон?»
— Садитесь, товарищ майор, — сказал он и вдруг подумал: «Что этот тип знает о ситуации, когда не до шуток?» Он вспомнил печальный и одновременно благодарный взгляд Мартинека. И тут же перед глазами возникла постоянно хранимая в памяти доска из красного плексигласа, находящаяся в комнате боевых традиций. Когда приходит время, на доске вырезают тонким резцом новые фамилии и даты и покрывают буквы золотистой краской. За тринадцать лет на доску занесено четырнадцать имен тех летчиков, которые пали при защите границы и суверенного воздушного пространства.
Майор, судя по всему, понял, что здесь неподходящее обществу для дискуссий, к которым он привык в своей современно оборудованной канцелярии в старинном здании во Вранице, поэтому он сделал попытку свести весь разговор к шутке.
— А почему я должен сесть? Вам не нравится, если кто-то стоит? — произнес он, опираясь ладонями о свое кресло и натянуто улыбаясь.
— Мне не нравится, когда становится не до шуток, а некоторые в это время паясничают.
Командир испуганно взглянул на Вацлава. Тот зашел слишком далеко! Сейчас майор разозлится, и начнется ненужная свалка… Правда, майор Некуда уже в течение нескольких лет избегает прямых столкновений как черт ладана. Почувствовав, что Вацлав как-то выбит из колеи, майор решил проявить милосердие.
— Вы переутомлены. Я понимаю. Тем более такое происшествие, после которого можно потерять голову. Я, конечно, не сержусь на вас за бестактность. — Майор уселся в кресло, обдумывая, как продолжать разговор дальше.
А Вацлав решил не говорить больше ни слова. «Зачем, собственно говоря, я впутался в этот разговор? Я пришел к командиру. Этот ментор меня не интересует. Подожду своего времени».
Еще один неожиданный гость появился на аэродроме — майор Винарж. По прибытии он сразу же представился полковнику Каркошу, предъявив удостоверение работника государственной безопасности. В немногих словах они обо всем договорились, и теперь майор ходил по части вроде бы без определенного плана и цели: побеседовал с людьми, ответственными за горючее, заглянул в их документацию, встретился с капитаном-метеорологом, задал несколько обычных вопросов работникам технической службы, потом зашел в диспетчерский зал и попросил прокрутить несколько магнитофонных записей. Предварительное заключение по поводу случая с капитаном Мартинеком становилось простым и ясным: обычный случай без каких-либо нежелательных осложнений.
Наконец майор Винарж остановился возле здания штаба в небольшой березовой рощице. Здесь его собеседником стал сержант из числа студентов-выпускников. Сержант был застигнут врасплох — он не знал, как себя вести: то ли пожаловаться на вечно пересоленный суп, то ли завязать разговор о влиянии кибернетики на так называемую болезнь цивилизации, то ли, может быть, прощупать, что этот майор думает о Франце Кафке. Не зная, на что решиться, сержант повторял лишь одни и те же ничего не значащие слова: «да», «может быть», «вообще говоря», показывая своей улыбкой, что он понимает иронические намеки майора. И в тот момент, когда майор, надеясь развязать как-то язык сержанта, задал последний вопрос, к ним подошел разболтанный ефрейтор, щелкнул указательным пальцем по фуражке — что, видимо, означало приветствие — и молча остановился, с невинным выражением лица глядя на беседующих.
Майор Винарж на минуту сжал губы, но тут же взял себя в руки. Не теряя все-таки надежды заставить сержанта заговорить, он задал вопрос:
— А как вы считаете: виноват ли капитан Мартинек в аварии?
— Откуда мне знать, товарищ майор? — ответил сержант с улыбкой.
И тут ясно и четко прозвучал голос ефрейтора, которого никто не спрашивал:
— Конечно, он ни в чем не виноват, товарищ майор!
Майор Винарж сделал вид, что только сейчас заметил ефрейтора:
— Вы хотите мне что-нибудь сообщить или у вас есть что-то другое?
— Так точно, товарищ майор.
— Вы что, не знаете, как положено в таких случаях обращаться?
— Знаю, товарищ майор, но забыл…
Майор отпустил сержанта, а потом спросил ефрейтора:
— Как это понимать?
— Я хотел сказать, что отвык, товарищ майор.
Майору ничего не оставалось, как только усмехнуться. Укреплением дисциплины здесь, в конце концов, занимаются другие.
— Ну, и в чем заключается ваша информация?
— Собственно говоря, это не информация. — Майор почувствовал, что терпение его на пределе, но промолчал. — Я специально вас искал, товарищ майор. Хочу вам сказать, что подполковника Пешека нельзя дать в обиду!
Майор на какой-то момент растерялся. Сдвинув брови, он удивленно взглянул на ефрейтора: «Что за комедия? Откуда этот ефрейтор знает, что я приехал сюда в основном из-за Пешека?» Но он тут же овладел собой.
— Я не понял, почему вы обращаетесь ко мне.
— Дело в том, что после аварии к нам приехали два человека, каждый сам по себе, с разными целями. Тот майор очень расстроил товарища подполковника, и теперь товарищ Пешек сидит в своей комнате, как убитый. И вот я обращаюсь к вам… извините меня, товарищ майор! — При этих словах ефрейтор вдруг стащил с головы фуражку и начал молча ее комкать. — Стало тихо. Майор размышлял. Ефрейтор выдавил: — Я рискнул, товарищ майор. Рискнул, сказав себе, что вы — лучше того. Вы — работник госбезопасности, а тот, возможно, только политрук.
— Откуда это вам известно?
Ефрейтор Полачек с уверенностью ответил:
— Я это знаю!
Оставив без внимания эту тему, майор спросил:
— А тот другой майор оскорбляет подполковника?
— Я знаю только, что он как-то странно его расспрашивал, говорил о выступлении старого Пешека по радио… Насчет этого столько всяких разговоров вокруг товарища подполковника! А теперь еще тот майор!
Майор Винарж вновь был удивлен. Этот парень, видно, не понимает, каких серьезных вещей коснулся.
— Вы… вы сами слушали эту радиопередачу?
— Да.
— Вы… согласны со старым паном Пешеком?
Ефрейтор Свободник заколебался, но ответил честно:
— Этого я пока не знаю, товарищ майор. Но товарища подполковника в обиду не дам.
Майор Винарж подал ефрейтору руку со словами:
— Благодарю вас, товарищ ефрейтор, но за ваше поведение вам не миновать бы гауптвахты.
Расставаясь, они понимающе улыбнулись друг другу.
Бессильная злоба овладела майором Винаржем. Два месяца назад он и майор Некуда были направлены из Праги на периферию. Но если майор Винарж с ответственной должности пошел с понижением на дивизию, то майор Некуда получил повышение: из незначительного винтика его сделали одним из руководящих работников западной области. В обоих случаях к этому делу приложил руку некий известный генерал.
Разве мог майор Винарж поступить иначе после того, как пришло донесение о чрезвычайном происшествии и от товарищей из политотдела он узнал, что в полк срочно выезжает майор Некуда?.. Быстро ознакомившись с имевшимися материалами, Винарж установил, что заместителем командира полка работает его однокашник по училищу Вацлав Пешек, с которым они не виделись пятнадцать лет, сын того самого Якуба Пешека, выступление которого майор недавно слушал по радио с замиранием сердца. После этого Винарж вызвал служебную машину и отправился в дорогу.
Но что может предпринять майор Винарж теперь, когда, по всей вероятности, майор Некуда уже развернул свою опасную деятельность?
Минут двадцать он ходил в одиночестве, размышляя. Потом заглянул к Вацлаву, но его кабинет по-прежнему был пуст. Встретившийся в коридоре ефрейтор Полачек сообщил, что подполковник Пешек уже уехал, скорее всего, домой. Винарж решил ехать к нему.
Почему Вацлав сидел некоторое время назад в своем кабинете, по выражению ефрейтора Полачека, как убитый?
Перед этим в кабинете командира полка разговор продолжался следующим образом.
Майор Некуда: Вы уверены, товарищ полковник, что это чрезвычайное происшествие с капитаном Мартинеком не является следствием каких-либо… ненормальных политических взаимоотношений в вашем полку?
Полковник Каркош: Позвольте, товарищ майор, уточнить, что вы подразумеваете под «ненормальными политическими взаимоотношениями»?
Некуда: Тогда начнем с другого вопроса. Я работаю в политическом отделе вот уже два месяца, и у меня создалось впечатление, что ваш полк не интересуют происходящие в мире события.
Каркош: Интересуют, товарищ майор, интересуют. Только мы толком не знаем, что творится у нас дома, в Чехословакии.
Некуда встал, но тут же сел, бросив мимолетный взгляд на сидевшего в безразличной позе Вацлава.
— Вы говорите именно то, что я и ожидал здесь увидеть и услышать.
Наступила пауза.
Некуда: Вы не хотите это как-то пояснить, товарищ полковник?
Каркош: Мне казалось, что разъяснять начнете вы.
Некуда: А что я должен разъяснять?
Каркош: Конечно же, то, что происходит в Чехословакии.
Некуда: Ах так! Вы тут не знаете, что происходит в Чехословакии! — Он встал, заложил руки за спину и начал покачиваться на носках. — Тогда я вам об этом расскажу. Чехословакия стоит на пороге самой замечательной эпохи в своей истории, но некоторые консерваторы вставляют ей палки в колеса. — Он оглянулся на Вацлава. Видно, он забыл лишь о том, что тот не переносит, когда люди стоят. — Вы этого не знаете?
Каркош: Извините, но я что-то не понимаю. Что вы подразумеваете под «самой замечательной эпохой»? Вы решили наконец покончить с мировым капитализмом?
Вацлав обернулся и взглянул на командира. Ему не поверилось, что тот способен на подобную иронию.
Некуда: Я подразумеваю под этим то, что мы в состоянии наконец стать ведущей силой в Европе независимо от какой-либо внешней силы. И не разыгрывайте меня!
Каркош: Нам только неясно, как все это увязать с аварией самолета.
Некуда (раздраженно): Зато это связано с некоторыми безответственными речами по радио…
Вацлав встал, и Некуда с опаской сделал несколько шагов назад. Вацлав подал Каркошу руку.
Пешек: Товарищ командир, я пойду проверить готовность к завтрашнему дню. Наши планы изменились. Не беспокойся, я обо всем позабочусь.
Из кабинета полковника Каркоша Вацлав пошел к себе в кабинет, где и сидел, «как убитый». Потом он побывал на вышке, в диспетчерском зале, в подразделениях. Лишь часа через два отправился Пешек домой, думая о том, что завтрашнее боевое дежурство вместо капитана Мартинека, по всей видимости, будет его последним дежурством.
Милена возвратилась из города позже, нежели рассчитывала. Около часу дня закончился ее визит к врачу, после чего на несколько часов она стала легкомысленным человеком. Надо сказать, что легкомысленное поведение ее носит специфический характер. Чтобы оно прекратилось, ей достаточно сказать себе одно только слово: «Пора!» Привлекательность этой игры состоит в том, что ее никогда не загадываешь заранее. Сигнал к ее началу должен созреть сам собой.
А дело было так. Старенький доктор остался вполне доволен. Он улыбался, смеялся, покачивал и крутил своей кудрявой головкой.
— Так, сударыня, — он принципиально применял это обращение, вкладывая в него точно отмеренную порцию иронии, — мне кажется, вы наконец преодолели переходный возраст, а вместе с ним и ваше хроническое воспаление, приобретенное в холодной вокзальной кассе. Я думаю, что скоро мы с вами встретимся в конце коридора. — Там находилось родильное отделение.
Оказавшись на улице и проходя по парку перед клиникой, Милена еще ничего не ощущала. Бывает у человека так, что долгожданное радостное известие он в первый момент не приемлет, словно не слышит его. Только за парком, на центральной улице, Милена поняла, о чем говорил доктор. Рядом с трамвайной остановкой она увидела очередь за мороженым. Разноцветный зонтик над автоматом сбился в сторону, и все это сооружение вместе с очередью напоминало огромного головастика с пестрой головой и сморщенным хвостиком. Милена встала в конец очереди, превратившись на минуту в последнее звено этого коротенького хвоста. И тут ей вдруг захотелось порезвиться и попрыгать, подобно рыбке, из стороны в сторону, чтобы продвинуть немного вперед всю эту змейку, а вместе с ней и пеструю голову.
Одному господу богу, однако, ведомо, почему она этого не сделала, хотя имела на то веские причины. Стоящие впереди нее тоже имеют причины делать и то и другое, тем не менее ведут себя спокойно, стоят, ожидая своей очереди. Размышления на эту тему, а также ушедшие два трамвая, пока до нее дошла очередь, вылились в коротенькое слово: «Пора!» Ушли два трамвая. Значит, пройдут еще двадцать! Вот лижешь мороженое, словно маленькая девочка, а потом еще чего-нибудь захочешь. Впервые Милена почувствовала жар в груди, спазмы сдавили горло.
Времени впереди еще достаточно, еще когда будет школа, первый класс — побеленные стены, вымытые парты, девочки в синих юбочках, некоторые ребята уже в длинных брюках. На столе букеты. Милена глубоко вздохнула. Несмотря на холод от мороженого, жар в груди не проходил, а, кажется, становился сильнее.
А что, если поплакать? Нет, лучше быть веселой!
Милена не подозревала, что, вернувшись домой, она не застанет Вацлава, не узнает, что он с большой поспешностью поехал к отцу. В тот момент, когда голос папаши Якуба раздавался в эфире, заставляя многих слушателей радоваться или злиться, как раз закончился осмотр и она беседовала со стареньким доктором. И было хорошо, что она не слышала выступления Якуба. В последнее время она невольно стремилась быть занятой прежде всего самой собой. Она не особенно утруждала себя раздумьями. После девяти лет горьких разочарований от раздумий было мало толку. У Милены все заботы концентрировались на Вацлаве. Пани офицерша превосходно знает не только все тяготы воинской жизни, но прежде всего особенности характера своего мужа. Она пользуется этим умело, как хороший художник: если наступает день, минута, даже секунда, окрашенные слишком ярко в зеленые тона, надо добавить немного красной краски, и тогда любой скажет, что видит перед собой пример гармонии, поскольку зеленый и красный цвета дополняют друг друга. В подобных делах Милена была волшебницей. Ведь так поступает самый опытный художник, когда у него не хватает одной из основных красок (например, голубой — цве́та нашей планеты).
Для Вацлава Милена была и женой и ребенком. Но ее трезвый ум уже давно подсказал ей, что это лишь временное явление. Как долго сохранится такое положение, сказать трудно. Некоторые люди могут прожить так до самой смерти. Милене иногда очень хотелось, чтобы Вацлав, придя однажды домой, позабыл бы о ее существовании, не обнял при встрече, даже слегка оттолкнул ее от себя и сразу же помчался к детской кроватке.
А сегодня старенький доктор сказал, что через некоторое время они встретятся в конце коридора.
Милена шла к центру города, подолгу останавливаясь перед каждой витриной и вполголоса называя вещи, которые она собиралась купить еще сегодня или вообще в этом году. Другие покупать ни к чему («Какое нахальство предлагать людям такую дрянь за деньги!»), некоторые вещи уже есть дома, или об их покупке надо подумать. У легкомыслия есть свои способы проявления. Поэтому естественно, что после двух часов взбалмошной беготни и осмотра абсолютно ненужных вещей, после двух часов ребяческих волнений по поводу предполагаемых покупок Милена сначала зашла в кафе и выпила сливки с ананасом («Теперь у меня есть право на всякие желания»), а затем по дороге на вокзал купила Вацлаву за четыреста крон большое серебряное кольцо с черным камнем. Ей казалось, что этот день обязательно надо как-то отметить, чтобы навсегда оставить в памяти. Кроме того, ей думалось, что Вацлаву нужно именно сейчас и именно вот такое кольцо.
Домой приехала она к вечеру, примерно в такое время, когда обычно возвращается Вацлав. Условленной записки возле зеркала не заметила. Выпив крепкого чаю с сухариками, Милена забралась на тахту возле окна. Косые лучи солнца осветили ее фиолетовые носочки. Сжавшись в комочек, она быстро уснула.
Разбудил ее звонок. Милена села. Это был не телефон. «Кто это мог прийти?» Багряные отсветы вечернего солнца скользили по окнам. Вацлава дома еще не было.
В коридоре у дверей перед ней оказался незнакомый майор.
— Извините за беспокойство… А товарищ подполковник…
— Он еще не приходил. — Волосы у Милены были немного взлохмачены, глаза заспанные, отчего казались испуганными.
— Жаль, Очень хотелось бы с ним поговорить. Мы старые друзья еще по училищу.
— Он наверняка в полку. Иначе вернулся бы домой.
Майор с некоторым сомнением в голосе проговорил:
— В полку?.. Но там товарища подполковника нет. Я потому и решился приехать сюда. Извините… — С этими словами он собрался уйти.
— Как нет? Проходите, я сейчас вам его разыщу. Мы еще посмотрим! — Милена иногда с удовольствием играла роль решительной жены.
Однако, пригласив майора посидеть в кресле и поставив перед ним рюмку и бутылку водки, она вдруг ощутила тревогу. Вацлава нет ни дома, ни в полку! Значит, случилось что-то неожиданное, серьезное и плохое. Только в таких случаях Милена ничего не знает о Вацлаве. Это одна из их добрых старых привычек: насколько возможно, всегда говорить друг другу, куда уходишь, где находишься, когда вернешься домой. Вацлав однажды в шутку назвал это практической реализацией формулы о том, что свобода является осознанной необходимостью.
Набрав по телефону привычный номер, она через минуту сообщила майору:
— Он ушел из полка примерно час назад. По-видимому, пошел в город навестить в больнице капитана Мартинека.
Взглянув на телефон, Милена почувствовала облегчение: главное, что с Вацлавом ничего не случилось. Ефрейтор Полачек сообщил об аварии «дельфина».
— Видно, мы с Вацлавом где-то разминулись, — произнес майор.
Милена налила рюмочку и предложила майору выпить:
— Вам можно: вы не летаете. А у нас такая бутылка стоит по полгода.
— Что, Вацлав воздерживается?
Милена улыбнулась, вспомнив, как на прошлый Новый год — тогда Вацлаву дали полных два дня отдыха — они гуляли после полуночи по городку и Вацлав у каждого, кто выглядывал из окна, выпрашивал огурчик закусить.
— Какое там! Но он подсчитал, что каждая минута полета стоит десяти часов полной трезвенности.
Майор Винарж сочувственно покачал головой, пригубил водку и спросил:
— А вы откуда знаете, что я не летчик?
— Потому что я вас не знаю.
Каждого нормального мужчину такая логика должна бы рассмешить. Но у майора была особая профессия, поэтому он взглянул на Милену с удивлением. Ему хотелось, видно, еще что-то сказать, но он заметил, что Милена пристально смотрела куда-то вверх.
Взглянув в, ту сторону, майор увидел, что на стене — вырезанные с фотографии лица, к которым примитивным образом подрисованы тела с крылышками. Даже человек с фантазией не сразу скажет, что там изображено: птицы, призраки, самолеты или летучие мыши.
— Что вы не летчик, я узнала не только по вашей форме, но и по тому, что не нашла вас на том снимке.
Майор внимательно посмотрел на Милену. «Сажает меня в кресло, ставит водку и еще устраивает экзамен», — подумал он.
— Мы действительно знакомы с училища. Но на этом снимке меня не могло быть. Училище я не окончил, поэтому и не стал летчиком. Но этих ребят я могу вам назвать.
Он начал перечислять, начиная с верхнего ряда, но выяснилось, что он переоценил свою память: пять фамилий не мог вспомнить. Но каждому он дал краткую характеристику. Окончив, майор удовлетворенно улыбнулся. Милена тоже была довольна — проверка получилась отменной. После этого она спросила:
— Товарищ майор, а зачем вы, собственно говоря, к нам прибыли?
И тут майор подумал, что он совершенно ничего не знает ни о Вацлаве, ни о его жене. Ничего, абсолютно ничего. Ведь если сегодня, 19 августа 1968 года, сказать о ком-нибудь, что он коммунист, разве это что-то объяснит?
Он смутился, не зная, что ответить, на что решиться. Старое чутье подсказывало ему, что Вацлав остался таким же, как и Якуб. Перед Винаржем внезапно разверзлась чудовищная пропасть неопределенности человеческих взаимоотношений. Пауза слишком затягивалась, и он, глядя в глаза Милене, сказал:
— Я пришел навестить старого друга по училищу, и больше ничего.
Несколько секунд было выиграно.
Как узнать, что в конце концов является решающим фактором. Ведь некоторые люди, в течение многих лет считавшиеся неустойчивыми, незаметными, выполняют партийные поручения как не самую приятную обязанность. А теперь даже они отвергают этот разгул дезинформации. Те же, кто не находит сил отвергнуть его, выражают сомнения и следят за тем, как бы не клюнуть на приманку. Но есть и такие люди, кто в течение многих лет были прочной опорой партии, а теперь вдруг все забыли. Призрак так называемого чехословацкого «свободного социализма с человеческим лицом» превратил их в безвольное «болото». Есть люди, которые начинают волноваться, когда им приходится расписаться у почтальона. За всю свою жизнь они прочитали, может быть, пару книг, но зато четко, пусть и упрощенно, представляют смысл происходящих событий и ведут себя в полном соответствии со своими представлениями. Встречаются и такие малообразованные люди, которые ни в чем не разобрались и пускаются в авантюры, думая, что им все ясно. Другие всю жизнь поддерживают марксистско-ленинскую теорию, но тем не менее слабо разбираются в происходящих событиях, в то время как иные люди с образованием понимают суть событий и ведут себя в полном соответствии со своими представлениями. Вот почему трудно сказать, какой критерий является решающим при оценке того, кто какую позицию займет. Тут не играют роли ни классовый принцип, ни степень образования, ни положение в обществе, ни прошлое, ни взгляды того или иного человека на будущее.
Майор Винарж отлично понимает, что силы, развязавшие всю эту отвратительную кампанию и дирижирующие ею, имеют предельно ясные классовые позиции. Профессиональное чутье, доступ к важным документам и круг друзей уже давно позволили ему сделать неоспоримый вывод: речь идет об атаке против революции. И сейчас он об этом не думает. Приходится размышлять над вопросом: какова та причина, та сила, которая толкает в лагерь правых людей, искренне верящих в то, что они борются за социализм, и какова причина, заставляющая стоять людей на левых позициях с той же верой в дело социализма?
Майор смотрел на Милену, на живого человека, сидящего перед ним на расстоянии вытянутой руки, на человека почти незнакомого, и с удивлением думал, как архисложно все-таки устроены люди. Это особенно чувствуешь в такие, как теперь, дни. Он подумал, как тяжело будет работать с людьми потом и как смешно и мелко будут выглядеть те люди, которые попытаются работать с народом и вести его за собой, хотя в силу различных причин сами оторвались от народа. Решающее значение не может иметь какая-то одна жилка или нерв. Решающее значение имеют все жилы и нервы, мозг и желудок, кости и мышцы — словом, все в человеке. Только все, вместе взятое, определяет жизненную позицию человека.
Майор почувствовал головокружение.
А Милене казалось, что между ними находится некий непреодолимый барьер. Она продолжала спокойно сидеть, углубившись в размышления о причине своей нервозности и возбуждения. Это всегда помогало ей успокоиться. Как бы невзначай она долила рюмку майора. Но тот вдруг встал и, извинившись за вторжение, начал раскланиваться.
— Что сказать Вацлаву, когда он вернется?
— Я завтра приду к нему.
Когда захлопнулась дверь, Милена обнаружила у зеркала записку Вацлава. Чувство тревоги еще больше охватило ее, и она позвонила ефрейтору Полачеку.
От него она с изумлением узнала обо всем: о выступлении Якуба по радио, о поездке Вацлава к отцу, о приезде двух майоров. Полачек лишь не мог сказать, где сейчас находится подполковник Вацлав Пешек.
Милена пожалела, что поддалась днем легкомыслию. За каждый миг счастья человеку приходится сурово расплачиваться…
А майор Некуда отказался ночевать в полку, хотя ясно дал понять, что на следующий день намерен продолжать свою работу.
Он уехал в областной центр, чтобы переночевать у знакомого капитана.
А причина была одна — сорокапятиминутный разговор с Прагой. С кем он говорил? Об этом не узнал даже капитан, оставивший его в комнате наедине с телефоном.
Вацлав вернулся домой примерно через час после ухода майора Винаржа. Ефрейтор Полачек испытал угрызения совести, когда Вацлав зашел в канцелярию. Полачек ведь уже сказал сотруднику госбезопасности, а позднее и супруге подполковника, что он якобы ушел. Чтобы как-то загладить вину, ефрейтор предложил отвезти Вацлава домой. (Он забыл, что, хотя Вацлав и пришел рано утром пешком, его «шкода» уже давно стояла возле штаба.) В ту минуту самое приятное для Вацлава было бы пройтись до дому пешком, чтобы немного прийти в себя после такого нелегкого денечка.
Ему удалось по приезде сосредоточиться только на одном вопросе, который он задал жене прямо с порога: что оказал врач?
В конце концов, сейчас лишь этот вопрос имел какое-то значение.
Но как это часто бывает, когда муж задает жене один-единственный вопрос, она сразу же забрасывает его сотней своих. Про врача она ответила коротко, что есть надежды. Сама она уже глубоко прочувствовала все это, к тому же в ее возбужденном состоянии трепетное волнение перед таким счастьем оказалось сильнее, чем она ожидала. А затем Милена засыпала мужа вопросами: про дедушку Якуба, про катастрофу «дельфина», про майора Винаржа, про то, где Вацлав был сейчас, если ушел давно из части, почему ничего не сказал…
— Это… целая… программа!
И это было все, что Вацлав смог ответить, переодеваясь в прихожей. Милена пошла на кухню готовить ужин. Заглянув туда, Вацлав хотел сообщить ей, что завтра заступает дежурить вместо Мартинека, но промолчал. Он сообразил, что сделал ошибку. Ему следовало бы разложить все по полочкам и рассказать по порядку, если уж сама Милена была не в состоянии размотать этот клубок.
Такие же мысли занимали и Милену. К трем словам, произнесенным Вацлавом с расстановкой и вроде без смысла, не требовалось добавлять ни единого звука. Все им стало ясно: они научились понимать друг друга с полуслова.
Милена поступила так, как обычно делала в подобных случаях: предоставила дело времени. Через несколько минут тучи рассеются и дождь прекратится.
А Вацлав вновь (в который уже раз!) разозлился на себя, как это было, когда он сегодня миновал проходную. Разве справедливо взваливать на плечи Милены даже частицу своих чисто служебных забот? Это было бы просто хамство. Но в то же время он понимал, что супруги, которые живут счастливо, иногда бывают несправедливы друг к другу. Стоит задеть другого за живое, и вроде бы станет полегче. У каждого человека бывают моменты, когда он не в духе, и тогда проще всего сорвать злость на самом близком человеке! Но, как говорится, пока кукушка прокукует, все уже будет позади.
Милена принесла ужин, и за столом Вацлав сказал:
— Завтра после обеда заступаю на дежурство вместо Мартинека.
Она улыбнулась. Объяснение произошло раньше, чем она ожидала. Стало легче. Милена по своему опыту знала, что ее ожидает накануне заступления мужа на боевое дежурство. Когда небо безоблачно и светит солнце или луна, когда стоит полный штиль, Вацлав бьет баклуши: разгуливает по квартире и напевает песенки, берется за никому не нужные дела. На улицу не идет, даже в киоск за газетами не идет — ему нужно отдохнуть и сосредоточиться. Одним словом, все идет хорошо. Зато бывает трудно, когда все вокруг утопает в тумане, сильный ветер валит электромачты или тучи окутывают местность до самой земли. Вацлав тоже распевает, смазывает скрипящие двери, перевешивает картины на другое место, а потом ни с того ни с сего скажет что-нибудь обидное.
Милена долго не могла понять этого, найти связь одного с другим. Она стойко переносила такие моменты. Со временем ей стало понятно самочувствие боевых летчиков. Сидишь часами в дежурной теплушке, пьешь кофе, ждешь второй завтрак, прислушиваясь к охрипшему голосу дежурного офицера и выглядывая временами из окна. За сверкающими фюзеляжами дежурных самолетов просматривается взлетная полоса — кусочек ленты, натянутой среди чертополоха и лебеды, пригодный, кажется, только для детских забав. А дальше ничего не видно — ни горизонта, ни вышки. Видимость — около пятидесяти метров. Если чужой самолет приближается к границе, то занимаешь место в самолете, надеясь на благоразумие другой стороны. В противном случае ты просишь разрешения на старт, и у руководителя полетами прольется не один пот, прежде чем он даст в микрофон команду на взлет. Он знает, как и летчик, что в такую погоду взлететь еще с грехом пополам можно, но как сесть? На запасной аэродром? Там и черт ногу сломит. Тогда на третий? Там можно сориентироваться, но в случае какой-нибудь пустяковой неполадки остается одно — катапультироваться.
Сколько раз в течение месяца Вацлаву приходится смазывать скрипучие двери? Готовясь к разлуке, он хотел бы испытать побольше земных забот. Правда, ему известно, что это неосуществимо, он не склонен к сентиментальности. Но при этом скрещиваются, словно шпаги в поединке, два чувства: любовь к жизни и к Милене и долг идти, если потребуется, на смерть в условиях мирной жизни. Вот почему у него и срываются иногда обидные слова. Значит, сегодня Вацлав вновь накануне дежурства.
Но ведь сегодня на улице нет ни тумана, ни бури, да и завтра погода обещает быть отличной.
Иногда в человеческой душе разыгрывается буря почище, чем в скверную погоду, когда хозяин собаку во двор не выгонит. Человеку некуда податься, он должен сам справляться со своими мыслями.
Только поздно вечером, когда пришло время ложиться спать и день со всеми заботами подходил к концу, Милена почти все рассказала мужу о приходе майора Винаржа, а своем испуге и затруднениях после того, как она иногда не могла найти Вацлава.
О визите к доктору она не стала рассказывать, ограничившись парой слов, произнесенных при появлении мужа. Она также промолчала о том, что купила Вацлаву кольцо с черным камнем.
Вацлав, испытывавший к Милене чувство благодарности за ее спокойный повествовательный тон, в таком же духе рассказал ей о событиях прошедшего дня, постаравшись при этом сгладить все шероховатости, поскольку день кончался и ничего уже нельзя было изменить. Поэтому, пожелав друг другу доброй ночи, оба спокойно заснули.
Итак, наступил вечер 19 августа 1968 года.
Удивительный это был вечер.
Всю свою жизнь много лет подряд Якуб вставал в четыре часа утра. В половине пятого подходит к перекрестку автобус, в половине шестого он уже приезжает в город, без десяти минут шесть подходит к проходной. Уйдя на пенсию, Якуб встает на рассвете зимой и летом. Зимой, конечно, спит чуть подольше, а летом вскакивает уже в третьем часу. То выйдет на улицу, а то пройдет вверх по речке. Утро — это начало дня, а если говорить о вечере, то он бывает не только тихим, но и преждевременным, скучным и утомительным. Утро приходит всегда ко времени и приносит спокойствие. Оно излучает силу благоразумия.
Своей привычке Якуб не изменил и сегодня. Встав, он медленно, лениво одевается, бесцеремонно отталкивает своего пса Лесана, у которого к старости осталась лишь одна смешная собачья привычка — беспричинно всему радоваться. Якуб выходит из дому, хлопает калиткой и направляется вверх по речке. А такса уже несется впереди него метрах в десяти и, обнюхивая землю, выбирает самые протоптанные места, минует торчащие камни, корни и старый валежник. Брюхо Лесана почти волочится по земле.
Таких тихих рассветов, без шума автобуса, у Якуба было бесчисленное множество, фактически все теперь было позади, но Якуб все помнил. Их трудно перечислить и назвать конкретно, но он их знает, как курица своих цыплят: иногда в памяти возникает проказливый озорник, а то болтливый мужичок, а потом вдруг вспомнится целая стая гусей со страшными клювами, заметившая в небе ястреба.
Именно по таким деталям Якуб помнит все свои рассветы, хотя и сам себе в этом не отдает отчета. Когда захочется, он вспоминает со всеми подробностями.
Помнится, однажды привез он домой радиоприемник. До полуночи возились, устанавливая во дворе антенну, а чуть свет повернули ручку, и вся кухня наполнилась тихой оркестровой музыкой. Казалось, даже кастрюли на полках прислушиваются к впервые раздавшимся здесь звукам.
Помнит Якуб, как пропал ежик, которого он принес шестилетнему Вацлаву и который прибегал к сыну чуть свет. Потом ежик исчез, и через много недель его нашли мертвым в углу сарая в стиральном баке, куда он упал и оттуда не смог выбраться. Вацлав тогда кричал, что пробил роковой час, и никто не знает, где он услышал это выражение.
Приходит на память и еще один рассвет — построение на плацу в Бухенвальде, когда с первыми лучами солнца низко над их головами пролетел чудесный аист.
Помнится… помнится… помнится… Так можно было бы вспоминать без конца.
Якуб быстро повернул обратно. Утро стояло тихое в задумчивое. Но у него росло предчувствие, что сегодня будет пахнуть жареным.
В кладовке он с огорчением увидел завернутую в крапиву форель, про которую вчера совсем забыл.
БЛАГОСЛОВЕННОЕ ОЗАРЕНИЕ
Самыми мучительными минутами для Алоиса в этой и без того несладкой жизни бывают ранние пробуждения после состоявшейся накануне сильной попойки.
Алоис принимается лихорадочно вспоминать, какой чепухи он по пьянке наболтал, что натворил, кого оскорбил. Его бросает от этого в пот, и ему становится противно жить на свете. Алоис обретал уверенность лишь в состоянии опьянения. Он знает, что на следующий день будет ползать на коленях перед воображаемым ангелом — судьей и презирать самого себя. Знает, что за минуту хмельного счастья приходится дорого расплачиваться, но сил покончить со злом не находит. И только возраст да привычка притупляют это противоборство, делая жизнь более или менее сносной, ибо возраст и привычка приучают оправдывать и жалеть прежде всего самого себя.
Так было у Алоиса всегда. Но что это? Алоис, очнувшись от сна, увидел, что он спал на тахте в гостиной у Ярослава. Однако на этот раз после обычных угрызений совести и покаянных мыслей он испытал на душе облегчение. По мере того как воспоминания о вчерашнем дне обретали ясность, он все больше успокаивался. Алоис не находил в своем поведении ничего такого, что заставило бы его кланяться и молить прощения, наоборот, в нем нарастало блаженное и приятное, пусть еще и незнакомое чувство: стремление завершить удачно начатое дело.
В предрассветных сумерках он оглядывает комнату и, убедившись, что в ней никого нет, закуривает сигарету. В голову приходят новые мысли. Вчера по телефону он обещал обойти некоторых людей, на которых можно положиться. Уверял, что такие люди найдутся. Какой ужас! Сейчас это обещание, данное им с такой легкостью пану Беранеку, показалось не таким уж простым. Но спасительная мысль о том, что у него есть влиятельный союзник (может быть, даже шеф) и что действует он не ради себя, а как составная часть чего-то общего (чего именно, не имеет значения!), принесла ему успокоение. Алоис даже заулыбался. Сквозь сигаретный дым на потолке ему видятся лица бржезанских жителей.
Алоис ухмыльнулся, ведь на каждом из этих лиц при первом взгляде можно было увидеть отметинку, оставленную усилиями Якуба Пешека. Вот Ладя Панда. Он вступил последним в кооператив, и то только после того, как Якуб затаскал его в органы госбезопасности якобы из-за подливания в молоко воды. Агроном Бурда, ставший членом их комитета, помнится, при создании кооператива получил самый плохой участок земли наверху возле леса. А заведующий почтой Ванек? Тому вовек не забыть, как Пешек осрамил его перед всей деревней, когда он втюрился в молодуху Кучерову, а потом и перебрался к ней. А старый Вондра? Этот до последнего вздоха будет помнить, как Якуб заставил его сдать ружье и охотничий билет, чтобы склонить к вступлению в кооператив.
Алоис Машин закуривает новую сигарету и продолжает с улыбкой смотреть на потолок. Ведь и Пепик Шпичка, бывший самым преданным союзником Якуба, без конца с ним спорил. «Зачем меня позвали вчера на радио? Потому что я кое-что помню». Вот именно! Но в этих расчетах Алоису чего-то не хватало. Трудно сказать определенно, чего именно, но его трусливый характер подсказывал: всей этой кучи фактов, которые хранит его память, будет недостаточно, чтобы вломиться в дом к Якубу и крикнуть: «Вылезай, будем тебя судить!» И не потому, что грехи Якуба были малозначительны (сколько горя и слез, страха и угроз принесли они в Бржезанах!). Просто Алоис не был уверен, что проклятое время уже не внесло свои коррективы.
Тот же Бурда, на словах дававший клятву отомстить, вот уже десять лет работает агрономом (неизвестно, сколько времени он состоит в партии) и даже получил кое-какие медали. Заведующий почтой Ванек и его жена за прошедшие годы произвели на свет и воспитали двух детей, оканчивающих ныне школу. Ладя Панда по-прежнему еще не в ладах с политикой, но все контакты с милицией возникают только в тех случаях, когда из-за бешеной езды на шикарной «Волге» приходится доставать удостоверение водителя. А старый Вондра через какой-нибудь неполный год снова заимел два ружья.
Алоис встал, услышав в соседней комнате чьи-то шаги, вздохнул, понимая, что придется еще как следует подумать, так как не просто схватить Якуба за жабры. Нелегко это будет, черт подери! Но старые мозги Алоиса продолжают шарить по закоулкам, ища какую-нибудь зацепку. Его не покидает уверенность, что он вот-вот что-то придумает. Ведь в конце концов нет людей без грехов, таких грехов, которые не бледнеют от времени и которые можно выставить на суд людской.
…А в соседней комнате Ярослав внимательно смотрел на Марию, спящую спокойным сном. А почему бы ей и не поспать, ведь сейчас каникулы, дети в санатории.
Он приготовил завтрак, а потом проводил отца до автобусной остановки.
Алоис, попрощавшись с Ярославом, стоял на автобусной остановке. Солнце уже поднялось высоко, но люди, стоящие на остановке, имеют сонный вид. Так что можно и самому прикрыть глаза и заполнить время ожидания мыслями о будущем.
Людская душа, говорят, нежна, как мясо моллюска. Вот почему люди стремятся прикрыть ее прочной броней. И беда тому человеку, чья броня дает трещину. Ведь только спрятавшись в прочную скорлупу, можно помечтать о чем угодно. Например, о том, как Алоис станет генералом, а шеренги войск будут слушать его речи. Можно помечтать и о других любопытных метаморфозах в судьбе, особенно если имеешь хоть чуточку власти и можешь повлиять на чужие судьбы.
Алоису почудилось, что приближается его собственный час правды. Когда придет эта долгожданная минута, Алоис будет вести себя спокойно, рассудительно, достойно, с чувством ответственности. Он поступит так же, как недавно вел себя в передаче телевидения тот самый чертовски симпатичный блондин. Он скажет о том, что уже каждый давно знает, но о чем нельзя было говорить. Он расскажет, как его унижали, как наплевательски относились к его способностям, опыту и уму. О делах всего общества он не станет говорить: об этом, слава богу, уже сказано достаточно. Он расскажет о себе, и всякий, кто услышит его, не удержится от слез…
Однако пан Беранек приедет в Бржезаны после обеда. Алоису предстоит еще много поработать и передумать. Конечно же, в первую очередь надо бы это самое дело провернуть до обеда, и тогда Алоис почувствовал бы себя как в раю, тогда все несправедливости были бы перечеркнуты. Но что, собственно говоря, надо провернуть до обеда? О чем идет речь? Конечно, о деле Якуба!
Алоис сделал несколько нервных шагов, ругая себя за то, что легкомысленно тратит время. Но если бы заранее знать, какие решения созреют в голове! Еще утром в постели он обдумывал, как подступиться к этому делу, но сразу разве придумаешь, ведь никто его таким вещам не обучал.
Алоис остановился и начал внимательно всматриваться в окружающих его людей, дома, проезжающие автомашины. И тут он заметил мужчину, подходившего к остановке: невысокий, коренастый, широколицый, в зеленом костюме, на лацканах пиджака — серебристые веточки ели, на шляпе — никелевый значок с оленем, а за ним торчат перышко сойки и пучок шерсти выдры. Возле его ног, обутых в шерстяные чулки, увивается рыжая собачонка-такса, на спине висит небольшой рюкзак… Но все это для Алоиса неважно! А что там еще на ремне через правое плечо? Эту вещь Алоис отлично знает! Он, как зачарованный, всматривается: плоский чехол наподобие крестьянского сапога, а внутри — охотничье ружье!
Алоис победно улыбается, достает из кармана бумажник, находит в нем листочек, читает, а потом аккуратно прячет его…
Вот это идея! Прямо озарение! Нет, не хватит терпения до обеда промолчать об этом. Он идет к перекрестку и садится в трамвай. Следующий автобус в Бржезаны идет через два часа, так что времени хватит.
Почти сорок лет ждет он этого часа расплаты. Почти сорок лет носит в душе чувство страшного унижения после того случая, когда Якуб наставил на него винтовку и заставил во всем признаться. И эта простая идея ведь могла не прийти ему в голову!
Алоис застал пана Беранека как раз в момент, когда тот собирался уходить из дому. Но пан охотно задержался и с большой радостью выслушал сообщение Алоиса о том, что этот самый консерватор, догматик Якуб Пешек незаконно, не имея разрешения, хранит дома винтовку. Беранек глубокомысленно и вместе с тем не без удовольствия одобряет предложение Алоиса придать сегодня же этому факту необходимое общественное звучание.
«Если мы говорим о морали и законности, значит, за них надо бороться!»
И пан Беранек в добром расположении духа отправляется на заседание своего комитета.
По стечению обстоятельств всего лишь в нескольких шагах от автобусной остановки, где Алоис испытал великое озарение, на квартире своего друга капитана все еще нежится в постели майор Некуда. За рюмкой вина и глубокомысленными рассуждениями о мировой политике они засиделись до глубокой ночи. Капитану надо было рано утром уходить на службу, его жене на работу, а миссия майора Некуды в данный момент заключалась в том, чтобы размышлять.
Вчерашний день не принес ему успеха, но майор Некуда не думает сдаваться. Перед ним поставлена четкая задача, снова подтвержденная во время продолжительного и отнюдь не официального вечернего разговора с Прагой: по возможности изолировать от политической жизни полка подполковника Пешека, который, видимо, вовсе не намерен отмежеваться от бредового выступления своего отца. Вчерашний день не принес успеха, но майор Некуда не только не пал духом, но, наоборот, испытывал чувство удовлетворения. В полку практически не существовало никакого политического влияния. Конечно, это самая подходящая почва для утверждения влияния сильной личности, которой не потребуется больших усилий, чтобы завоевать полк на свою сторону. Все дело в том, что такой личности в полку нет. Не так-то сложно будет уменьшить или даже совсем устранить влияние подполковника Пешека, так как ему самому, видимо, не все ясно. Не сложно. Допустим. Но как это сделать конкретно, практически? Одними разговорами вряд ли тут добьешься чего-нибудь.
Майор Некуда не спеша перебирал в памяти события вчерашнего дня: «С утра неприятность с баком, днем будто бы случайная авария «дельфина», потом исчезновение подполковника Пешека… А куда, собственно говоря, он так поспешно укатил? Он, видно, думает, что мне неизвестна причина спешки. А как тогда проходила подготовка к полетам? Ведь именно он должен был руководить подготовкой. А он уехал. Ничего себе порядочки!»
Майору Некуде вдруг стало ясно: если кто и несет какую-то вину, пусть даже косвенную, за чрезвычайное происшествие, так это подполковник Пешек, покинувший часть в момент, когда…
Майор Некуда с улыбкой начал одеваться. Интересно, что там скажут на аэродроме, когда он вернется туда? Он, предвкушая удовольствие, радовался.
Вилем Штембера и Ярослав — одногодки. Они вместе ходили в школу, и если бы потрудились покопаться в памяти, то установили бы, что примерно около полугода просидели за одной партой. Отец Вилема был разнорабочим. Ярослав никогда не знал, где он работает. Видел его всего несколько раз, но запомнил надолго: это был человек атлетического телосложения с прекрасными черными волосами и черными глазами, в которых, однако, навсегда осталось неискоренимое выражение смирения. Такое же выражение было и в глазах его сына Вилема.
В четвертом классе, еще во время войны, Вилем прекратил свои попытки пробиться в лучшую часть общества. В его глазах осталось то же проклятое выражение покорности. Он дотянул до четвертого класса, что было тогда успехом, а потом исчез.
Год назад Ярослав встретил его в коридоре областного радио и поразился происшедшей в нем перемене.
Ярослав вошел с улицы одетый, в пальто и шляпе. Вилем остановил его и внимательно оглядел. Ярослав узнал Вилема только потому, что он теперь поразительно походил на отца. То же атлетическое телосложение, черные волосы и глаза. И даже отцовское выражение глаз! Удивительная перемена!
— Что ты здесь делаешь? Пришел посмотреть на это осиное гнездо? Надеюсь, перед тобой здесь никто не в долгу? — произнес Вилем и рассмеялся отрывчатым зычным смехом, который так не вязался с его благородным обликом.
Ярослав удивленно смотрел на Вилема, не зная, как расценить его слова: это насмешка, слишком замысловатая ирония или просто глупость?
— Ты работаешь здесь? — спросил Ярослав.
— Что-то вроде этого. А ты зачем у нас?
По-видимому, Вилем не знал, что Ярослав вот уже пять лет известен как редактор радио, делающий успехи.
— И кем ты тут работаешь? — продолжал Ярослав.
— Так, дрянь. Надо рвать когти из этого захолустья.
— Что, репортер?
— Да, спортивный. Пока… — Теперь Ярослав вспомнил, что уже слышал о нем. — Я считаю работу здесь только своего рода трамплином. Видишь ли, мне хочется досмотреть на мир, побыть среди людей, побольше узнать, — продолжал свою мысль Вилем, — так что больше недели я вряд ли здесь пробуду.
Откуда вдруг взялась у него эта тяга к знаниям? Из четвертого класса он, мягко говоря, ушел как раз из-за слабо выраженного интереса к этому самому познанию. Ярослав решил задать прямой вопрос.
— А сколько ты знаешь иностранных языков? Ведь для спортивного репортера, который хочет посмотреть на мир, это…
— Когда уеду, тогда и научусь, — перебил Вилем и, сочтя, что он уделил чересчур много времени бывшему товарищу по учебе, заторопился: — Ты извини, мне надо идти. В этой голубятне полно ненужной работы. Если что надо будет, заходи. Комната сто первая.
Вилем, по всей видимости, так никогда и не узнал, что Ярослав трудится в этой же «голубятне» этажом выше, так как через месяц расстался с радио. Во время второго или третьего репортажа (к счастью, ему было поручено краткое вступительное слово) он наговорил такой чепухи, что даже случайные слушатели, не знакомые со спортом, от удивления ахнули. Карьера Вилема на этом закончилась.
И вот теперь Ярослав совершенно неожиданно столкнулся с ним, когда, проводив своего отца к автобусу, спешил на работу. В горле у него пересохло, и он завернул в небольшое, но солидное кафе близ здания радио. Сюда он иногда ходил пообедать. Здесь были хороший стол, доброе крепкое пиво и ко всему этому — обходительный хозяин, который мило улыбался даже в том случае, если посетитель заказывал просто стакан газированной воды. Именно это и заказал Ярослав.
Часы показывали начало десятого; в зале было пусто. Ярослав сел у дверей, рассчитывая сразу уйти. Но, прежде чем принесли воду, вошел Вилем.
— Будь здоров, дружище, я тебя издали увидел. Я здесь на контроле. — С этими словами Вилем уселся рядом с ним. По всему было видно, что ему тяжело не только носить свой собственный вес, но и шевелить языком.
Хозяин принес стакан газированной воды, снисходительно улыбнулся и, кивнув Ярославу, произнес:
— Пан Штембера работает в тресте ресторанов кладовщиком. Ему надо знать, сколько где числится подносов, салфеток… Ответственная работа! — Повернувшись, он быстро скрылся.
Вилем потянулся было за ним тяжелой рукой, но того и след простыл. Тогда Вилем разразился монологом:
— Эта жизнь, дружище, скоро кончится, потому что… — Тут он огляделся, повращал глазами и, нагнувшись к Ярославу, схватил его за плечо: — Потому что мне хочется пожить! Жить, а не существовать! Хочу жить! Разве я не человек? Человек! Имею право на жизнь? Имею! Могу жить? Не могу! Хотел с женой поехать в Югославию. Можно было бы и в Болгарию. Могу я в Югославию? За эти две идиотские тысячи в месяц? Не могу! — Какая-то посторонняя мысль сбила его с толку: он тупо уставился на скатерть в надежде, что вновь ухватит нить разговора, и вскоре продолжал: — Вот пройдет этот проклятый август, и я стану человеком. В сентябре еду в Прагу, дружище. Но не думай, я тебе не скажу, куда. Это тебе не удастся из меня вытянуть! В Прагу не каждому дано попасть. Единственное место в этой дряни, где еще можно пожить… Пан Совачек! Два грога!
Ярослав дал знать появившемуся хозяину, что на его долю выпивки приносить не надо. Тот кивнул и елейным голосом проговорил:
— Мне все равно, пан кладовщик, но у вас с собой автомашина…
Вилем сердито махнул рукой, и хозяин удалился.
— Это называется автомашиной! — показал Вилем на видневшийся за окном старый черный «тудор» с красным верхом.
Ярослав молча встал, заплатил в кассу и вышел. Ему стало еще хуже, чем до прихода в кафе, несмотря на выпитую воду. Он почувствовал еще большую жажду и опустошенность, а от этого и еще большее отвращение к самому себе… «Разве я не человек? Человек! Имею право на жизнь! Могу жить?..» — звучали в ушах слова Вилема. Разве можно, чтобы все это было настолько глупо, примитивно, ничтожно? Ярослав презирал себя, ибо чувствовал, что жизнь идет мимо него, а он бездействует. Хуже того! Он не знает, что нужно делать. А всего хуже то, что он не знает, предпринял бы он что-либо, если бы знал, что делать, или нет.
Ему пришла в голову мысль, что люди, подобные Вилему Штембере, способны на все. Они, конечно, имеют право на жизнь. А сколько таких людей? Сколько? Это ему неизвестно. Он знает, что подобные люди были, есть и будут. Но неужели они всегда так кричат о себе?
Ярослав, который жил до сего времени спокойно, умеренно, был доволен самим собой и не допускал мысли, что могут наступить изменения, вдруг почувствовал опасение, как бы не произошло что-нибудь такое, от чего перехватит дух. А теперь, мучимый неизвестностью и страхом, он не знал, что делать.
ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ
В помещениях одного из небольших клубов было уютно и спокойно. На стенах все еще красовались лозунги, плакаты и проекты оформления майского праздника студентов. Вскоре после этого события студенты разъехались в разные стороны, а люди, обосновавшиеся в клубе, не имели никаких оснований что-либо менять в его оформлении. За три прошедших месяца на стенах ничего не устарело: ни призыв к отмене изучения марксизма в качестве обязательного предмета, ни некоторые высказывания Масарика. Все еще сохранял силу майский лозунг: «Дубчек — это наш Яношик»[6]. Пожалуй, устарел только один транспарант, надпись на котором сделалась сейчас загадочной: «Поставьте точку, уберите Клечку!» Дело в том, что этот Клечка, работавший в отделе вузов обкома КПЧ, теперь уже снят с поста за консерватизм.
В такой обстановке собрался на заседание областной комитет. Присутствовали все члены комитета — 21 человек. Заседание было объявлено секретным. На повестке дня стоял всего один вопрос, не считая дискуссии.
Председательствующий — старый политикан из числа бывших социал-демократов — открыл заседание следующими словами:
— Время сорвало все покровы, мир будет преображен…
Решив утром начать сегодняшнее заседание этой видоизмененной цитатой, он пожалел, что не является ее автором. А мог бы стать им! Он уже написал три книги, причем одна из них оказалась с автографом Бенеша. Это был курьезный случай! 1 мая 1946 года Бенеш должен был выступать в городе от имени социал-демократов. Теперешний председательствующий, желая похвалиться тогда выпуском в свет своей новой книжки, протянул ее Бенешу. Всегда остроумный и притворно радушный, Бенеш расписался на книге, полагая, что у него просят личный автограф.
Председательствующий сделал небольшую паузу.
— Я признателен членам нашей комиссии за проделанную ими работу, результаты которой мы все вместе сегодня обсуждаем. Речь идет о тщательно выверенном списке лиц, которые своими действиями, поведением и навязыванием азиатских методов загубили наши лучшие годы. Это список лиц, которые в грядущие дни и недели не могут уже быть ни чем иным, кроме как препятствием для выполнения нашей миссии. Поэтому мы будем не только брать их на учет, но и следовать за ними и… — Здесь он ухмыльнулся и стукнул всеми десятью пальцами по столу, добавив лишь словечко «Ну!». (Он ведь тоже гуманист!)
Каждый член комитета получил по несколько страниц списка. Вместе со своей группой он был обязан позаботиться об этих людях. Группы во главе с членами комитета были созданы практически на нелегальной основе. Забота о занесенных в список лицах должна была заключаться в том, чтобы непосредственно перед съездом КПЧ и во время его работы не выпускать ни одного из этих лиц из своего поля зрения, а если вдруг кто-то из них выскажет по поводу съезда и его решений отрицательное мнение, тогда разрешается делать все. О том, что подразумевается под словом «все», не говорилось. Но всем уже давно прекрасно известно, что битье стекол — самая безобидная детская шалость. (Ведь в печати как бы мимоходом уже появились несколько сообщений о таинственных ящиках, в которых якобы было найдено неизвестно кому принадлежащее оружие!)
Разговор поначалу развивался медленно, его приходилось подстегивать, словно юлу, чтобы она не перестала вращаться.
— Можно узнать, сколько всего человек в этом списке?
— Можно. Пока пятьсот двенадцать.
— Говоришь «пока», значит, список неполный.
— Вопрос: все ли там коммунисты?
— С ума ты сошел! Если некоторые коммунисты могут идти вместе с нами, то логика подсказывает, что в списке есть и так называемые беспартийные.
И так далее.
Потом попросил слова пан бывший учитель Зденек Беранек:
— Меня интересует, есть ли у кого в списке Якуб Пешек из Бржезан. У меня его нет.
Вначале показалось, что собравшиеся рассердятся на пана Беранека, поскольку у каждого из сидящих здесь есть на примете свой собственный «избранник», но не все они пока попали в список. Однако все дисциплинированно молчали, чтобы не обременять заботами весь комитет.
А пан Беранек держал пока главный козырь в кармане.
— Если вы не знаете, кого я имею в виду, то я скажу: это тот самый деятель, который вчера в обед выступал по радио.
Несколько голов с любопытством повернулись к выступающему.
— Я лично, — продолжал Беранек, — находился на радио уже с утра, меня пригласил один добрый знакомый. Там с этим Пешеком в порядке подготовки пришлось побеседовать. Слышал ли кто-нибудь, что он потом говорил по радио?..
Добрая половина присутствующих помнила выступление и поэтому проявляла интерес к этому делу.
— Вот видите! И если вы думаете, что это просто болтливый придурковатый старик, то вы ошибаетесь. Сегодня утром один честный гражданин из этого села сообщил мне, что товарищ Якуб Пешек, дававший нам добрые советы, как жить, является обычным антигосударственным элементом! — Любопытство аудитории пан Беранек тут же удовлетворил: — Дело в том, что этот старикашка до сих пор необоснованно и противозаконно хранит винтовку, которую использует в браконьерских целях.
Часть членов комитета сжали кулаки, а пан Беранек опросил согласия на то, чтобы ему разрешили с несколькими уже подготовленными людьми сегодня после обеда конфисковать эту винтовку.
Все были согласны. Но председатель подчеркнул, что их согласие пока еще не носит законного характера, на что пан Беранек возразил:
— Именно поэтому попробуем в этой дыре уже сегодня. Мы увидим, что будет предпринято и найдутся ли люди, которые встанут на его сторону.
Некоторые члены комитета с тревогой посмотрели на пана Беранека. Подобная акция, если ему повезет (а почему бы и нет?), серьезно повысит и укрепит вес и положение этого незадачливого учителя, отправленного на пенсию. И они стали раздумывать, как бы не отстать от пана Беранека.
По дороге на радио Ярослав не почувствовал облегчения. Наоборот, его настроение еще больше упало, когда он подумал, что в будущем ничего хорошего его не ждет. Он протиснулся через приоткрытые железные ворота, поздоровался со швейцаром. На лестнице на второй этаж он встретил редактора Фулина. Шел десятый час, то есть настало время в первый раз сбегать в расположенный напротив радиокомитета «Шанхай».
— Почему ты не был на совещании? — спросил Фулин и внимательно взглянул Ярославу в глаза. Он с трудом скрывал свое любопытство, пытаясь замаскировать его свойственным ему ироническим тоном.
Ярослав удивился, но внешне сохранил спокойствие. У него не было особого желания вступать в разговор с Фулином. Тот рассмеялся:
— Не хочешь ли ты сказать, что не знал о совещании?
— Что тебе от меня надо?
— Чтобы ты пошел со мной выпить пива. В этой пивнушке иногда можно услышать занятные вещи.
Еще вчера Ярослав не пошел бы распивать пиво вместе с Фулином. Дело в том, что Фулин был известен как циничный мерзавец, способный оболгать любого человека. Делал он это с особой лихостью, находя, видимо, в распространении сплетен удовольствие. До сих пор ему все сходило с рук. Обычно люди хотят знать, что о них говорят другие, и тут Фулин проявляет твердость характера: он всегда говорит только правду, Ярослав полагал, что узнает от него важные, возможно, решающие новости. Так оно и случилось.
— Я знал, что тебя не позвали.
«Вот, значит, как далеко зашли со мной дела! Вот куда я докатился!» Недовольство Ярослава самим собой принимало циничные формы, хотя раньше он просто не переносил подобных мыслей.
Когда бокал крепкого двенадцатиградусного пива звякнул о поднос, глаза Фулина засверкали. Он вытер края бокала ладонью, после чего с удовольствием сделал несколько глотков.
Ярослав смотрел на него усталым взглядом. Ему сделалось еще тоскливее. Фулин — способный человек и редактор. Владеет несколькими иностранными языками, которые, по правде говоря, сам не знает, когда изучал. С другой стороны, в свои почти тридцать лет он казался конченым человеком. Говорили, что он много пьет. У Ярослава же сложилось впечатление, что дело обстоит иначе. Фулин начал пить после того, как понял, что из всех его качеств люди больше всего ценят не талант, а умение видеть их насквозь и смело говорить об этом. Он, видимо, чувствовал, что грань между подлинными ценностями и ничтожеством подобна волоску…
Ярослав потер щеки ладонью. Откуда только берутся такие мысли!
— Ты совершил ошибку. Вчера оказался не на высоте, — без обиняков заявил Фулин.
— А что, по-твоему, должен был я делать?
— По-моему? Ну, дружище!.. — Он произнес это так, словно Ярослав свалился сюда с луны. — Ты должен был утереть нос своему тестю, понимаешь, тестю! Именно в этом все дело. А ты начал говорить в примирительном духе. — Фулин замолчал, и глаза его потухли.
Нового пока он ничего не сказал. Все это Ярославу известно. Это еще вчера стало ему ясно. Именно поэтому он чувствует, что грань между подлинными ценностями и ничтожеством… Ярослав снова потирает щеки. Фулин, конечно, не все сказал.
— Сегодня, дружище, уже не время для примирений. Все уже. Вчера у тебя оставался последний шанс.
— Как тебя понимать?
— Так, что утром тебе надо было прийти на совещание.
— Вы меня не пригласили.
— Вот именно!
Наступила пауза. Оба сделали вид, что говорить больше не о чем.
— Директор надеется, что ты меня проинформируешь сразу же после совещания? — спросил Ярослав.
— Меня это не интересует. И, как мне кажется, директора тоже.
Почему этот человек создан для того, чтобы люди его ненавидели? Ярослав, прищурившись, рассматривал лицо Фулина, с которого никогда не сходила ироническая усмешка. Человек, говорящий только чистую правду!
Уйти бы сейчас далеко-далеко, где нет не только людей, но даже камней.
Ярослав вспомнил, как вчера сказал Марии, что он, в сущности, выступил против Якуба. «И вчера же меня списали со счетов за то, что я не выступил против Якуба». Он вспомнил о приступе страха во время вчерашнего разговора с Марией на кухне и вновь подумал: «Какая же судьба ожидает тех, кто провинился больше меня?»
По иронии судьбы Фулин тут же дал исчерпывающий ответ на мучивший Ярослава вопрос. Он неожиданно вытащил из нагрудного кармана блокнот и постучал им по столу.
— Знаешь, что здесь весьма тщательно записано? — Он громко рассмеялся. — Двадцать имен и столько же адресов. Все это — неблагонадежные делегаты съезда.
Усмешка исчезла с лица Ярослава. Он жадно глотнул пива, и в его глазах снова появилось сонное выражение, которое еще вчера заметил Якуб, Помолчав, он тихо добавил:
— Мы им подпортим жизнь. Сами увидят, какие они подлецы. Им станет стыдно за самих себя.
Ярослав подумал, не числится ли он первым в этом списке, хотя и не является делегатом съезда. «Станет стыдно за самих себя…»
Он посмотрел на блокнот, потом взглянул в лицо Фулину. Не понять, доволен тот или настроен против. Грань тоньше волоска.
— А о чем шла речь на этом совещании?
— Да вот об этом самом, — громко рассмеявшись, ответил Фулин. Он опять похлопал блокнотом о стол и спрятал его в карман.
Они допили пиво, и Ярослав подумал о предстоящих ему бесконечных минутах, когда он не будет знать, что делать дальше. Может ли быть что-нибудь тяжелее? Он будет мучаться от мысли, стоит ли вообще что-либо делать. Или еще хуже: когда он сделает что-то, не будет ли это для других безразлично?
Вацлав долго не мог избавиться от неприятного осадка на душе после того, как жена застала его утром за приготовлением чая. Ничего особенного в этом не было. Проснулся он на час раньше обычного времени, когда Милена встает на работу. К нему вновь вернулись тягостные размышления, и он, решив, что все равно уж не заснет, поднялся. Тем более что до обеда он будет дома — надо готовиться к дежурству. Вернувшись из ванной на кухню, Вацлав увидел там Милену, которая стояла перед плитой с кипящим чайником и укоризненно качала головой. Обычно завтрак готовила она. Так повелось по молчаливому обоюдному согласию уже с тех пор, как они поняли, что если впереди обычный спокойный день, то приготовление завтрака доставляет Милене особое удовольствие, а Вацлаву нравится торжественный момент, когда жена ставит перед ним на стол поднос с чашками и тарелками.
Милена с улыбкой покачала головой. И все, больше ничего не произошло. Но у Вацлава появилось ощущение, будто он остался перед ней в долгу. Это чувство усилилось после ухода Милены на работу. Ему казалось, что он допустил в чем-то промах, упустил нечто важное: в первую очередь, надо было с женой проститься, хотя к разлукам они уже привыкли.
Непонятно, откуда возникло это чувство? Что это за странное, необычное состояние? Вацлав, конечно, помнит, что впервые испытал его двенадцать лет назад.
Тогда была объявлена готовность номер один. Она застигла его за ужином в одном из уютных кафе областного центра. Перед ним на столе лежал лишь один прибор. Подошел надпоручик из другой части и шепотом произнес несколько слов. Оставив двадцать крон, Вацлав вышел на улицу. Пока там царило полнейшее спокойствие. Он перебрал в памяти время отправления ближайших автобусов и поездов и тут же решил, что ожидать попутной военной машины не имеет смысла. Не было даже уверенности, что попадется попутная гражданская машина. Поэтому он решительно направился к вокзалу, чтобы уехать с очередным поездом.
Город, как обычно, был окутан тишиной и сумраком, но все вокруг — дома, ограды, тротуары, улицы, казалось, отражали то, что творилось в душе идущего человека. У Вацлава появилось предчувствие, что должно произойти что-то страшное. Улицы были наполнены какими-то особыми звуками, а свет фонарей словно излучал необычную энергию. В такие минуты человек многое замечает и запоминает. Именно в такие минуты, случается, неожиданно осветятся ярким светом такие вещи, которые обычно кажутся будничными.
Миновав мост, он взглянул тогда на часы и решил зайти в буфет выпить чашку чая с пирожком. Стоявшая перед ним девушка уже получила заказ и медленно пила сок из своего стакана. Услышав слова Вацлава, заказавшего скромный ужин, она быстро оглянулась. Ложка звякнула о дно стакана, чай выплеснулся на блюдечко с сахаром. Посмотрев на чай, она снова повернулась к Вацлаву, оглядела его лицо, форму. Позже она говорила, что ее привлек голос Вацлава; ей показалось, что голос-знаком ей с детства, но, чей он, не могла вспомнить.
В буфете больше ничего не произошло. Правда, Вацлав несколько раз оглядывался, но видел только спину миниатюрной девушки, да мельком частицу лица и кончик носа. В тот раз он видел именно миниатюрную фигурку и только много позднее с удивлением установил, что девушка ниже его всего на полголовы.
Когда девушка, даже не оглянувшись, ушла, Вацлав усмехнулся. До отхода поезда оставалось одиннадцать минут. Он стоял спиной к доске с расписанием поездов и смотрел по сторонам. Работали две кассы. Вацлав подошел к ближайшей, но там горел какой-то холодный свет, и он перешел ко второй. Однако там кассира не было. Появилась полная женщина и попросила его подождать, пока она сдаст смену. Вацлав хотел было отойти, как в окошечке появилась та самая девушка, которую он встретил в буфете. В течение нескольких минут они поболтали о пустяках, но Вацлав успел узнать, где живет девушка.
Через некоторое время он упаковывал чемоданы, собираясь неизвестно на какой срок в командировку. И вот тогда его охватило странное чувство разлуки, сопровождаемое угрызениями совести: рядом с тобой был человек, а ты прозевал, остался перед ним в долгу.
Письмо девушке Вацлав написал только после возвращения. Получилось оно невыразительным: от минутного разговора с девушкой в памяти почти ничего не осталось. Пожалуй, осталась лишь одна мысль о том, что человек не должен отталкивать от себя хорошее, ведь его не так много на свете. Ответ на письмо пришел через три недели. В нем было три строчки — вежливых, но без обещаний и обязательств. На вокзал Вацлав отправился лишь через месяц, но с этого времени они стали встречаться почти ежедневно, а еще через год сыграли свадьбу.
Вацлав смотрит в окно. Перед его глазами выстроились, словно поставленные на века, удивительно холодные и тоскливые квадраты панельных домов. Но он не замечает их: он целиком погрузился в воспоминания. И вдруг Вацлав поймал себя на том, что уход в прошлое всегда считал признаком наступающей старости. Ему импонировало будущее, а не прошлое, а следовательно, мертвое.
Но что, собственно говоря, нас ждет? На что должен равняться человек?
Ему кажется, что он сейчас обнаружит свою ошибку, и это его немного успокаивает: действительно, зачем надо было столько времени думать о далеком прошлом, когда есть по-настоящему животрепещущие вопросы?
Кажется, вчера Милена сказала, что есть надежда. Кудрявый старенький доктор, вылитый святой Петр, если бы не носил очков, таких вещей не говорил. Это был тот самый доктор, который столько лет покачивал головой и грустно бормотал о том, что такие случаи нынче встречаются все чаще. Сказываются цивилизация, нервные напряжения, спешка и суета.
Вчера Милена даже не рассердилась за то, что им не удалось поговорить об этом. Скорее всего, не о чем было говорить. «Есть надежда» — этим все сказано. Но теперь-то Вацлав понимает, что, хотя и появилась надежда, нельзя ограничиваться просто парой слов — строгих, в порядке информации.
Вацлавом овладело желание одеться и выйти на улицу, чтобы поскорее увидеть Милену. Он готов был бежать прямо в тапочках и халате, взять в магазине самообслуживания корзинку и, проходя мимо кассира, сказать ей:
— Мне нужно было тебя увидеть, прямо сейчас, ты мне нравишься. — И тут же уйти.
Но перед полетами он не имел права ходить по магазинам. Вацлав с горечью улыбнулся: «Что же я делаю, разве это подготовка, сосредоточение?» Ему пришло в голову, что в этот момент все-таки есть возможность как-то побыть поближе с Миленой, Он зашел в спальню и выдвинул нижний ящик шкафа. Здесь находится Миленино царство, ее собственность и частица ее наивности. Тут ее личные сокровища, которыми должна обладать каждая женщина, и, если вы их не замечаете, значит, они наверняка спрятаны в каком-то тайнике. Тут находятся волшебные сокровища, в общем-то не имеющие никакой ценности, а иногда и смысла, но их она рассматривает, беседует с ними, потому что они как бы говорят ей, что она женщина и ребенок. Здесь лежат браслеты, серьги, давнишние флакончики духов, которые она по разным причинам решила не открывать, массивные обручальные кольца, фирменные часы с двустворчатыми крышками — память о родителях, куча памятных вещей о ее детстве и о том времени, когда девушки засматриваются в зеркало и у них перехватывает дух от блаженного предчувствия, что они станут женщинами. Несколько предметов хранились только потому, что они напоминали о приятных или значительных днях ее жизни.
Вацлав не решился что-либо трогать. Он смотрел и наслаждался.
Потом ему показалось, что среди этих вещей лежит что-то постороннее, не имеющее к ним отношения. С самого краю, на кучке цветных бус, лежала коробочка, прикрытая помятым чеком, на котором можно было легко прочитать вчерашнюю дату и цену 400.00. Чек Вацлава не удивил. Пани кассирша Милена любит прятать различные ценности. Неясно было, почему этот официальный документ лежит тут и почему на нем стоит вчерашняя дата.
Вацлав открыл коробочку и увидел внутри серебряное кольцо с черным камнем. Примерив его на правый безымянный палец, он понял, что кольцо предназначено ему. Зная характер жены, Вацлав представил себе, почему она вчера купила кольцо.
Он подумал, что минута, когда он сегодня глубокой ночью вернется домой, будет радостной для них.
Подумал он сейчас и о том, что чувства разлуки, тяжелого расставания, когда человеку кажется, что рядом с тобой был человек, а ты его не заметил, эти чувства охватывают человека только в том случае, если безобразия творятся где-то далеко-далеко и не касаются нас. Ведь были у них с Миленой времена и потяжелее, но такого чувства, как в 1956 году, больше не бывало. И тогда окружающий мир казался враждебным прежде всего потому, что человек чувствовал себя в нем бессильным.
Вацлав с грустью положил коробочку с кольцом на прежнее место.
Достаточно ли будет этих двух слов Милены «есть надежда» для того, чтобы он вывез на своих плечах свалившийся на него груз? Настанет ли такое время, когда не будешь себя чувствовать таким бессильным?
Майор Некуда, по всей видимости, до сих пор не усвоил, что судьбы людей капризно подчиняются одному удивительному закону: бывает так, что делаешь что-нибудь с неохотой, даже против своей воли, а дело-то в конечном счете оказывается интересным, но бывает и наоборот — ждешь чего-нибудь с нетерпением, а потом испытываешь разочарование.
Не найдя полковника Каркоша в его кабинете, Некуда направился к начальнику штаба майору Марвану. Но там уже сидел майор Винарж и шла неторопливая дружеская беседа.
Некуда не знал еще, что по аэродрому со вчерашнего дня ходит еще один посторонний майор. В противоположность Некуде майор Винарж внимательно следил, насколько это было возможно, за каждым шагом Некуды. Ведь в каждом полку столько майоров, что просто фамилии и должности ни о чем не говорят. Вначале Некуда подумал, что майор служит в полку, но после первых же слов понял, что майор Винарж — тоже гость, по-видимому, оставшийся случайно член комиссии, которая вчера своевременно прибыла в полк, провела расследование аварии Мартинека, оформила соответствующий документ и отбыла.
После нескольких минут бессодержательного разговора майор Некуда стал с нетерпением ждать момента, когда он возьмет в свои руки вожжи, как следует стеганет ими и направит упряжку, подобно искусному возчику, туда, куда ему хотелось, то есть подполковник Пешек ударится головой о стену.
Наконец в удобный, по его мнению, момент он произнес:
— А как вы расцениваете безобразия, происшедшие вчера в вашем полку?
Сказав это, Некуда замолчал: надо было подождать, пока кто-либо из присутствующих не выскажет какой-то точки зрения. Но чувство собственной безопасности подвело его. После короткой паузы он добавил:
— Не кажется ли вам, что три чрезвычайных происшествия в течение одного дня — это слишком много?
В ответ, как и следовало ожидать, прозвучал вопрос:
— Почему три? Нам известны только два.
Некуда усмехнулся. Пока все шло хорошо. Он ожидал именно этого вопроса, сам заставил его задать. В этом сказалось его умение вести дискуссию. И, полный уверенности в себе, Некуда ответил:
— Третье ЧП — недисциплинированность подполковника Пешека. По неизвестной причине он вчера покинул часть. Без всяких на то оснований. И как раз в то время, когда ему следовало бы руководить подготовкой к сегодняшним полетам!
Майор Винарж про себя усмехнулся: наконец-то этот гусь проговаривается! Кажется, он высказал правду. Дело не в аварии самолета и не в помятом баке, а в подполковнике Пешеке! А точнее говоря, в его отце Якубе и выступлении старика по радио. Спасибо вам, товарищи из политуправления округа! Теперь-то я за ним присмотрю. Интересно, что он предпримет.
Начальник штаба майор Марван после слов Некуды вначале расстроился, понимая, что за такие беспорядки и ему не поздоровится. Но Марван был пусть не летающей, но стреляной птицей. Он подавил в себе злость, опустил глаза и спокойно ответил:
— Действительно, подполковник Пешек уехал неожиданно и не по плану, но он действовал при полном одобрении со стороны командира полка.
Некуда понимал, что сейчас ему не стоит высказывать замечание в адрес командира полка. Он не может, допустим, заявить, что из-за таких глупостей, как всякая там болтовня по радио, старших офицеров из части отпускать не положено. Поэтому майор решил ответить таким образом, как привык это делать в последнее время в своем дискуссионном клубе:
— Допустим. Однако командира полка здесь нет, чтобы все это подтвердить.
Но его словесный трюк не удался. Напротив, после этого майор Марван потерял всякое уважение к гостю и тем не менее спокойно произнес:
— Одним словом, кругом беспорядки! — И с любезной улыбкой на лице продолжал: — Кто вас вообще уполномочил, товарищ майор, проверять правильность решений нашего командира? Насколько мне известно…
В этот момент вошел командир полковник Каркош.
Все три офицера встали. Полковник махнул рукой, хотя присутствие двух посторонних майоров ему не понравилось. Было бы неплохо оставить их в положении «смирно» и заставить доложить, что здесь они делают, о чем рассуждают и вообще, что им тут нужно.
На помощь ему пришел майор Винарж, сохранявший в течение предыдущего разговора полное молчание.
— Вы пришли как нельзя кстати, товарищ полковник. Майор Некуда пытается тут убедить нас в том, что вчера у вас произошло три ЧП. Причем третьим он считает ваше согласие на отъезд подполковника Пешека из части в то время, когда ему полагалось руководить подготовкой к полетам.
Боясь проиграть, майор Некуда был вынужден, не попросив разрешения говорить, перейти к прямой атаке.
— Действительно, где находился ваш подполковник Пешек? Неужели его отъезд был так важен? Глубоко сомневаюсь. Если вы всегда так поступаете, тогда нет ничего удивительного в том, что у вас одна авария следует за другой. — Прижав правую ладонь к груди, он продолжал: — Я уполномочен вышестоящими органами проверить все это на месте и навести порядок. Прошу вас, товарищ полковник, собрать днем — скажем, часов в пятнадцать — совещание на надлежащем уровне. Вы согласны?
Полковник Каркош, в обращении с людьми человек простой и открытый, после этих слов вспомнил о том, ради чего он вот уже двадцать восемь лет держится за жизнь. Жизнь без родных людей, потому что нацисты казнили его жену и троих детей, когда он шел от Бузулука до Праги. Он подумал о боях на Дукле и произнес:
— Нет.
Полковник не посчитал нужным давать какие-либо пояснения. Майор Марван поправлял в это время складки на брюках, а майор Винарж безучастно разглядывал часы.
— Разрешите узнать почему? — спросил наконец майор Некуда топом петуха, оказавшегося в плотном окружении кур.
— Во-первых, если вас уполномочили вышестоящие инстанции, то я об этом должен был бы знать. Я полагаю, что вы не первый день в армии, товарищ майор. Во-вторых, подполковник Пешек вскоре заступает на боевое дежурство. Если вам не ясно, что это означает, я вам скажу: у нас боевое дежурство заключается в охране западной границы и суверенного пространства от империалистических нарушителей. Все остальное для нас имеет второстепенное значение. Для нас, товарищ майор, все остальное имеет второстепенное значение. Вы поняли меня, товарищ майор?
Майор Некуда от злости позеленел:
— Хорошо! Но я надеюсь, что вы выполните мое пожелание. Крайний срок — завтра, то есть двадцать первого августа, товарищ полковник. Мне необходима ясность. В противном случае я буду вынужден доложить, и тогда не исключено, что сюда приедет более многочисленная группа, которая, видимо, будет более любознательной.
Полковнику Каркошу захотелось крикнуть: «Проваливай!», но он, вроде бы невпопад, только и проговорил:
— Вы можете идти, товарищ майор…
Майор Винарж долго раздумывал, прежде чем решил, что было бы неправильным оставить Вацлава Пешека в неведении. Хотя Вацлав и заступает на дежурство и ему не следует волноваться, но он, в конце концов, не ребенок.
Когда майор встретил его накануне дежурства, они радостно похлопали друг друга по плечу. Винарж извинился за вчерашнее вторжение на квартиру Вацлава, а потом рассказал о миссии майора Некуды и о любопытной беседе в кабинете начальника штаба.
Вацлав поблагодарил и если и проявил некоторое удивление, то не потому, что у него зашалили нервы, а оттого, что пятнадцать минут назад существенную часть этой беседы изложил ему сам полковник Каркош, а затем отдельные пикантные детали всей истории пересказал ефрейтор Полачек, который второй день, как хорек, ходил по следам Некуды в полку и в штабе.
Около половины одиннадцатого утра в бржезанский трактир вошел заведующий почтой Ванек. Хотя он около часа специально ждал, чтобы не оказаться первым, трактир был еще пустым. Не беда! Настало великое время, и дела в маленьком почтовом отделении и без него идут своим чередом. Разве он виноват, что среди ящиков, полок, телефонов и барьеров ему плохо думается? А подумать есть о чем. Вчера перед трактиром Пепик Шпичка сказал ему:
— Ищи свое место, чернильная душа, и не воображай, будто тебе, если у тебя сегодня улыбка до ушей, достаточно будет твоих слов, чтобы наша песенка оказалась спетой. Подумай, на чьей ты стороне. Времени для этого у тебя немного.
Ванек знает, что Шпичка способен в течение дня наговорить целую кучу подобных фраз, но он умеет и молчать, и тогда уж не вырвешься из его цепких лап.
Но с чего, собственно, Ванек должен начать свои размышления? Может быть, с того, что он тоже принадлежит к интеллигенции? Весной, когда он впервые осознал это и подписался на газету «Литерарни листы», ему казалось, что туман над бржезанской речкой рассеивается и, словно в сказке, появляются очертания Градчан[7]. Да, тяжелая задача, сам черт не разберет!
Вскоре в трактире появился Ладя Панда, разодетый на этот раз, как пижон. Но толку от этого мало, с ним о дельных вещах все равно не поговоришь.
Минут через пятнадцать пришел учитель Ержабек. Сейчас еще продолжались каникулы, и этот черт здорово устроился, вроде старого холостяка: заявится в трактир часов в одиннадцать, закажет зельц с луком, и вряд ли кто возьмется утверждать, что у него хватит сил просидеть до обеда без пива.
И сейчас учитель выпил первую кружку до того, как подали зельц. Потом стал аккуратно отрезать по небольшому кусочку, сосредоточенно накладывал на них колечки лука и молча жевал.
О, как хотелось Ванеку узнать, что говорил Ержабеку вчера возле трактира этот жук Шпичка! Впрочем, для чего Ванеку все это вдруг понадобилось? Ванек был зол сам на себя. «Во-первых, что особого Шпичка мог сказать учителю? Наверное, все то же самое. Ну, а если и сказал что другое, так на то он и учитель. Хотя вряд ли этот Шпичка способен на многое. Во-вторых, и это главное, с какой стати Шпичка так меня занимает? Почему я вообще принимаю всерьез этого болвана, который даже считать как следует не умеет?»
Шпичка, конечно, умел считать. По примеру своего отца он по окончании школы работал на керамической фабрике, где ежедневно через его руки проходили тысячи облицовочных плит. Но после недавних выборов эта профессия опротивела Шпичке.
Совет национального комитета и комитет партийной организации имели в своем составе по девять членов. Но, как это часто бывает на селе, избраны в эти органы были одни и те же лица. Один человек был только членом национального комитета, а другой — только комитета партийной организации. На совместном заседании, таким образом, присутствовали одиннадцать человек. Шпичка, как председатель, руководил совместным заседанием. Вначале с нетерпением, а затем и с раздражением он ожидал, пока соберутся эти одиннадцать человек.
Только после проверки по списку было установлено, что присутствовать-то должно десять человек.
Вспомнив об этой истории, Ванек усмехнулся, но усмешка исчезла с его лица так же мгновенно, как и появилась.
Пока пан учитель глотал кусочки зельца, в зале никто не появлялся. Но стоило ему, звякнув прибором, положить его согласно принятому в городах и усвоенному им обычаю в положение «еда окончена», как двери раскрылись и в трактир вошел совершенно чужой человек.
Дело в том, что бржезанский трактир помимо местных старожилов иногда, посещают два вида посетителей: «чужие» и «совершенно чужие». «Чужой» — это гость, которого местные жители попросту не знают. «Совершенно чужой» выделяется среди посетителей, словно белая ворона; в этом случае все начинают ломать голову, зачем он сюда попал, по какому недоразумению здесь очутился.
«Совершенно чужой» гость, появившийся в трактире, остановился у дверей, любезно и как-то неуверенно улыбнулся, оглядывая присутствующих. Затем он судорожно кивнул головой, подошел к свободному столику, стоявшему между теми двумя, за которыми сидели Ванек и Ержабек, и повернулся лицом в их сторону. Положив шляпу возле пепельницы и стопки подставок под пивные бокалы, он произнес:
— Здравствуйте!
Ванек и Ержабек переглянулись и ответили гостю кивком головы, после чего тот сел.
— Что милостивый государь желает заказать? — раздался голос трактирщика. После такого обращения простым пивом не отделаешься: это было бы признаком невоспитанности.
«Совершенно чужой», только что произведенный в «милостивого государя», почувствовал в желудке приятное ощущение, словно туда попал изысканный розовый мускат. «Милостивый государь» вспомнил о тех временах, когда шампанское лилось рекой, а гости неслышно гуляли по пушистым коврам в его апартаментах с камином и их голоса звучали приятно и приглушенно, поскольку стены были обиты буком. Он вспомнил о временах, когда мог произносить вслух любые мысли и идеи, и это всякий раз приводило окружающих в восторг, хотя он не раз проверял их, заведомо говоря глупости. Они восторгались им, потому что он был богат. Воспоминания о прошлом вызвали головокружение, ведь ему уже не верилось, что он когда-нибудь снова этого дождется. Он, конечно, не предполагал, что трактирщик Ладя Цвекл величает «милостивым государем» каждого деревенского мужика.
Так вот, «милостивым государем» на этот раз оказался уполномоченный домового комитета пан Гавличек. Еще вчера вечером он решил про себя, что поедет в Бржезаны, чтобы посмотреть на местных чудаков, может быть, помочь своему новому приятелю Алоису, а главным образом для того, чтобы побыть за городом. Ведь сколько времени он никуда не выезжал!
— Что бы вы порекомендовали мне, пан главный официант?
Такое обращение буквально ошеломило трактирщика, ведь он отродясь не слыхивал, чтобы его так называли. Он расплылся в улыбке, решив достойно продолжать весь этот спектакль.
— Есть у меня в запасе превосходный коньячок, милостивый государь.
Гавличек дернул было руку, чтобы проверить, хватит ли у него в кошельке денег, но тут же вспомнил, что там целых две сотенных.
— Значит, три порции. Пардон, я ошибся, нас ведь тут четверо. Четыре порции!
Заведующему почтой и учителю ничего не оставалось, как сделать вид, что эти слова к ним не относятся, что речь идет о каких-то иных людях, Сидящих за другими столиками. Но пан Гавличек не позволил им долго изображать из себя безучастных лиц.
— Видите ли, мне у вас в Бржезанах нравится. А скажите, пожалуйста, пан Машин еще не возвратился?
Хитрющий Ванек отлично знал, что на подобные вопросы посторонних людей отвечать не рекомендуется, но это было бы невежливо. Поэтому он прибег к единственно возможной, весьма распространенной и проверенной форме ответа:
— Пан Машин? А почему он должен возвращаться? Разве он уехал?
Учитель Ержабек добродушным голосом добавил:
— С утра он здесь не бывает, но раз отсюда не уходил, значит, не может и возвратиться.
Ванек бросил на него беспокойный взгляд: этому учителю тоже следовало бы о чем-нибудь спросить, а не начинать сразу с поучений. Правда, положение можно еще поправить.
— Вы знакомы с паном Машином?
То, что Машин вчера уехал из Бржезан, было известно. Но Алоису каким-то чудом удалось утаить от всех цель и адрес своей поездки, так что приходилось лишь спокойно ожидать выяснения этих вопросов. Все равно, не пройдет и двух часов, как все станет известно, иначе и быть не может.
Появление в бржезанском трактире пана Гавличека придало, однако, всей этой истории оттенок зловещей таинственности, но вместе с этим предвещало и скорую разгадку.
Важно только не испортить дело. Впрочем деревенские жители намного лучше по сравнению с горожанами разбираются в человеческих взаимоотношениях, в предвидении всех зигзагов их жизни. Поэтому Ванек сразу почуял приближение крупных и необычайных событий.
Пан Гавличек, напротив, все еще пребывал в состоянии полнейшего благодушия. Ему было известно, что Алоис Машин скоро должен возвратиться в Бржезаны, и все. Но он не подозревал, что за минуту до его прибытия на автобусную станцию пан Алоис, прочитав на бумажке адрес пана Беранека, ушел на трамвайную остановку.
Итак, пан Гавличек представлял собой первую ласточку этой великой весны, вроде бы случайно залетевшую в Бржезаны, чтобы вместе со слетавшимися на помощь ему ястребами превратить весну в суровый декабрь.
— Да, конечно, мы знакомы с паном Машином, хотя встретились только вчера. Это очаровательный господин.
Ванек улыбнулся. Слово «очаровательный» вызвало в его сознании образ принарядившейся старушки.
— Так вы идете к нему в гости?
И тут пан Гавличек понял, что его подвергли допросу. Ему самому вся эта история тоже показалась удивительной: только вчера познакомились, а сегодня он идет к нему в гостя, не зная, вернулся тот домой или нет…
Отпив коньяку, он сначала посмаковал его, чтобы насладиться им, а потом подробно и с большим старанием рассказал обо всем: о том, что они пережили вчера вместе с Алоисом Машином, о том, что Алоис рассказал ему. Он сообщил, что сегодня к обеду из областного центра в Бржезаны прибывает очень важное лицо, а до его прибытия пан Машин обязан обойти своих знакомых и пригласить их на совещание. Необходимо будет наконец-то установить, кто на чьей стороне стоит, а также разоблачить и вывести на свет божий этого Якуба Пешека.
Обо всем этом пан Гавличек добросовестно рассказал. С первых же слов он обрел приподнятое расположение духа, поддержанию которого способствовало то, что он не обращал внимания на окружающих, не видел, как они относятся к его речи, какой отзвук она находит у слушателей. Пан Гавличек вновь почувствовал себя словно в своем кругу, где остроумно перемывались косточки «чужих» людей или строились прогнозы насчет их дальнейшей судьбы, но делалось это так тонко, что достаточно ему было шевельнуть пальцем, как все наговоры на человека забывались и к нему вновь можно было обращаться, надев личину друга и товарища.
Пан Гавличек забыл о том, что время, текущее в эти приятные для него минуты, отсчитывает свои секунды безотносительно к его расположению духа. Разбалтывая вещи, сути и значения которых он не совсем понимал, он был похож на жалкого, глупенького чижика, звонко распевающего песни.
Все его три слушателя (трактирщик Цвекл тоже стоял в оцепенении возле пивного крана и жадно ловил каждое его слово) быстро привыкли к необычному тону речей пана Гавличека, но все более приходили в удивление от их содержания. Тут уже не пахло высокой политикой, при которой — в промежутках между двумя посещениями туалета — творятся чудеса и которая венчается звоном бокалов. Тут нет такого приятного волнения, которое вызывают происходящие где-то события, когда мы можем давать столь прекрасные советы и даже искренне возмущаться и отводить себе душу жалобами, что к нашему голосу не прислушались. Нет здесь ничего похожего и на футбольные матчи, где можно вволю накричаться, забравшись в самые последние ряды.
Все, о чем рассказал пан Гавличек, все предсказанные им события будут происходить именно тут, в Бржезанах, и они вовлекут в свою орбиту каждого жителя. Каждому придется, хочешь или не хочешь, раскрыть свою душу, показать, чем он дышит, а самое скверное — придется что-то делать.
— Вот почему меня удивляет, что пана Алоиса Машина до сих пор здесь нет.
Этими словами пан Гавличек завершил свою речь, и в комнате установилась тишина. Его речь таила в себе признаки недобрых событий, которые рано или поздно должны произойти.
Трактирщик Цвекл начал хлопотать возле пивного крана, заведующий почтой Ванек и учитель Ержабек, словно сговорившись, сделали вид, что рассказ гостя интересно было послушать, но относился он не к ним, а к кому-то другому. Эта картина снова повергла пана Гавличека в изумление, но он промолчал.
Всем находившимся в трактире, как и всем отсутствовавшим, оставалось совсем немного времени, буквально считанные часы, чтобы подумать или хотя бы бегло осмотреться вокруг и нащупать что-то нужное.
Времени для отступления или для выбора совершенно новых путей уже не было.
ПАЛЕЦ НА СПУСКЕ
Войдя в теплушку, где в углу на койке отдыхал майор Носек, Вацлав сразу же попросил дневального принести чашку кофе. Затем он сел и запрокинул руки за голову. Когда прошло минут двадцать, Вацлав снова крикнул дневального — упитанного русоволосого солдата в блузе с короткими рукавами — и спросил, где же кофе. Тот небрежно встал в стойку «смирно» и пролепетал, что он идиот и совсем об этом забыл. Менее чем через минуту кофе был готов.
Майор Носек на эту сцену никак не среагировал. Как обычно, он лежал на спине на своей плоской кровати без подушки, вытянув руки вдоль туловища, и смотрел в потолок. В таком положении он был способен лежать часами. Летчики, заступающие с ним на дежурство, готовы были биться об заклад, что он будет весь день молчать или, наоборот, без умолку болтать. Под этим подразумевалось такое настроение майора, когда он примерно через каждые полчаса изрекает одну-две мысли, причем в форме риторического вопроса. Желающие задумывались над этими вопросами, а нежелающие пропускали их мимо ушей. Таким образом майор Носек философствовал до тех пор, пока не наступало время его старта.
«Сегодня он, видимо, будет молчать», — подумал Вацлав, и это было бы ему кстати. Все его попытки избавиться от чувства неуверенности оказывались успешными только тогда, когда он оставался один. Стоило выйти из дому, увидеть людей, небо, как опять начинал трещать затылок.
— Представь себе, что в центре Африки, на равнине, возвышается гора, на которой лежит вечный снег, Называется она Килиманджаро, — произнес майор Носек и, не меняя позы, удивленно покачал головой.
Вацлав взглянул в его сторону и продолжал молча помешивать горячий кофе. Теперь, когда он находился среди друзей, в привычной и близкой его душе обстановке, можно было во всем разобраться и понять суть происходящих событий.
«Прежде всего возникает вопрос: какую цель преследует этот странный майор? Почему он делает вид, будто открывает для нас Америку?» Тут Вацлав еще раз оглянулся в сторону майора Носека, и его взяла зависть оттого, что тот может вот так спокойно лежать и не принимать близко к сердцу все, что было, есть и еще случится. Непонятно, впрочем, и безразличное отношение майора Носека к тому, что о нем думают другие. Возможно, это способ самозащиты? Ведь есть немало людей, которые охраняют храм своей души тем, что наглухо запирают все входы в нее. Ну, а майор Носек, возможно, делает то же самое, поступая наоборот.
Вацлав подумал, что сейчас можно было бы спросить об этом самого Носека, но не стоит тратить слов. Носек продолжал лежать, словно мумия, думая, видимо, теперь о полярном сиянии.
Вацлав встал, чтобы немного пройтись.
— Пойду погуляю. — Он остановился у входа, на грубо сваренной металлической решетке, при каждом шаге издававшей скрип. Открывшаяся перед ним знакомая картина принесла успокоение: впереди в десяти шагах стояли готовые к старту самолеты, а дальше, за бетонной полосой, обросшей по краям лебедой, идет на посадку учебный самолет МиГ-19; в пятидесяти метрах от него с противоположной стороны к стоянке машин с горючим подруливает еще один самолет. Все идет, как обычно, так что можно продолжать разбираться в своих мыслях. Ведь летчик, заступивший на боевое дежурство с неразберихой в голове, как правило, плохо выполняет; свой долг, а нередко и губит сам себя.
И тут Вацлав понял, что все идет как по маслу. Сделала свое дело привычка: если пришел на дежурство не в духе, посиди пару минут в уголке теплушки или выйди, не ввязываясь в разговоры, на крыльцо и постарайся навести в мыслях порядок. А если и это не помогает, проси заменить. Самолет стоит миллионы крон…
«Итак, во-первых… — Вацлав прислонился к дверям, скрестив руки на груди, и стоял, наблюдая, как струится горячий воздух за рулящим самолетом. — У тебя что-то шалит сердце, и через четыре дня со службой придется расстаться. Но это ты вчера уже обдумал, не будь сентиментальным. Во-вторых… — В это время как раз шел на посадку учебный самолет «дельфин», и Вацлаву вдруг пришло в голову, что вчера все дела сложились благополучно, а руку можно сломать и во время отпуска. — У Милены сейчас самый серьезный момент в ее жизни, а мне не пришлось быть рядом. Но разве возможно вообще находиться с ней? К тому же я еще буду с ней сегодня вечером, завтра, всегда. Мое волнение можно понять, но оно излишне. В-третьих, майор Некуда… Да пошел он к черту! В-четвертых, отец Якуб. Вчера все было, видно, в порядке. Отец казался немного грустным, но был спокоен. Ведь ему приходилось бывать в ситуациях, которые были во много раз сложнее. Почему тогда я хожу такой напуганный, словно монашенка во время грозы! Постой, но какое имеют значение сейчас все эти рассуждения об отце, что он был спокойным, что ему приходилось бывать и в более сложных ситуациях… Разве в отце Якубе дело?» — И в его голове опять началась карусель, раскалывая ее на части, и этому не было видно конца.
Дверь за спиной Вацлава открылась, и появившийся солдат в блузе с короткими рукавами, нехотя приняв положение «смирно», доложил, что товарища подполковника просят к телефону. Ему было ясно, что в данном случае дело не касается его боевого дежурства: для этих целей в теплушке установлено несколько аппаратов и мегафонов.
Трубка лежала на столике возле упитанного солдата рядом с чашками из-под кофе. Увидев подполковника, перед которым он несколько минут назад проштрафился, солдат схватил трубку и подал ее офицеру. После этого он вышел на улицу, чтобы не присутствовать при разговоре.
— Я слушаю.
— Это ты, Вацлав?
Ясно, что речь пойдет не о служебных делах, иначе командир полка Каркош так бы не обратился к нему.
— Да, я. Случилось что-нибудь?
— Слушай меня внимательно. Я знаю, что ты на дежурстве, но ты не новичок. Я не могу промолчать… Только сейчас мне позвонили…
Наступила пауза. Были слышны лишь какие-то неясные звуки, скорее всего, позвякивание ключей полковника.
— Выезжаю к тебе. Ничего особенного, собственно, не случилось. Если вдруг поступит сигнал, пусть вылетает майор Носек.
Вацлав снова вышел на улицу и прислонился к двери. Никогда еще командир не звонил ему на дежурство по личному вопросу. Да и другим не звонил. Тем более никогда лично не выезжал из-за этого. Да еще в такое время! Позвонили! Видно, по телефону этого не объяснишь. Говорит: «Ничего особенного, собственно, не случилось», а сам едет сюда!
Пан Беранек приехал в Бржезаны не после обеда, как рассчитывал, а с обеденным автобусом, поскольку выполнял четкое задание, а это не только возвышает человека, но и побуждает его к действию.
Таким образом, в трех подошедших один за другим автобусах прибыли три светила: в первом приехал пан Гавличек, во втором — Алоис Машин, а в последнем — пан Беранек.
— В какое время народ собирается в трактир?
— Сразу после обеда. Потом люди уходят кое-что сделать по дому, а к вечеру собираются снова.
Этот диалог пана Беранека с Алоисом позволял ему начать свои дела сразу после обеда.
— А как люди? — спросил пан Беранек.
— Вот на это времени немного не хватило.
Но на Алоиса пан Беранек не мог сердиться, так как тот приехал раньше условленного времени, а Алоис, наоборот, запоздал. А жаль. Пану Беранеку хотелось, чтобы люди были уже собраны. Ну ничего, это можно поправить. Сейчас они сидели вдвоем на кухне у Алоиса, не подозревая, что совершили ошибку, не зайдя сначала в трактир.
Дело в том, что в эту минуту там сидел в одиночестве пан Гавличек и с удовольствием поедал восхитительный гуляш. В это же самое время перед трактиром и по всей деревне начали развертываться удивительные события.
Заведующий почтой Ванек и учитель Ержабек, выслушав тираду пана Гавличека, тут же вышли. Он им выложил все, но они не знали, что ему ответить. Тем не менее, пока Ванек добирался до своей почты, он успел проинформировать всех жителей в южной части деревни. Учитель, путь которого оказался намного короче, поговорил, правда, всего с двумя гражданами из западной части деревни, но те хорошо знали методы действия «тихой почты», или передачи по цепочке. Об остальной части деревни позаботился трактирщик Цвекл. Поскольку пан Гавличек был не из местных, он вообще не обратил внимания на исчезновение Цвекла, и то обстоятельство, что его обслуживает симпатичная пани Цвеклова, ни о чем не сказало ему.
Ни один из этой троицы не был способен быстро и основательно все обдумать; для этого требовалось побольше голов. Такие головы нашлись, и в них завертелись, закрутились мысли — крупные и мелкие, незначительные и глобальные, в зависимости от того, кто и как смотрел на окружающий мир.
Первым сделал свое заключение Ладя Панда. Он посылал всех поцеловать то место, которое никак не назовешь некультурнее. Такая реакция была вульгарной и эгоистичной, но далеко не самой скверной в эти времена.
В противоположность Панде его коллега по работе в кормовом цехе Франта Ламач сразу смекнул, что наступил его час, час героического подвига. Он ненавидел Якуба Пешека вдвойне. Во-первых, за то, что Пешек не упускает случая, чтобы не позлословить насчет американского флага, вытатуированного на левой руке Ламача и оставшегося на память об участии в «странной войне». А главным образом потому, что еще в те времена, когда Франта был единоличником, Якуб заставил его платить аренду за собственный дом. А Ламач относился к тому типу людей, которые всякое проявление благодарности считают страшным оскорблением. Кроме того, он пришел к выводу, что собственный дом не имеет никакой ценности, а в Америке или в Швеции их может иметь каждый человек, причем с цветниками и бассейном. Ламач считал, что теперь наступило время расплаты.
Заведующая отделением фирмы «Еднота» Билкова, одна из неблагонадежных членов районного комитета, очень испугалась, узнав, что новый курс нынешней политики упирается в деда Якуба. Да, в комитете она действительно неблагонадежная. И все только потому, что родилась она в городе, выписывает из-за границы несколько журналов мод и считает себя образованнейшей женщиной. По этой причине она иногда голосует иначе, чем подсказывает ей рассудок. Ее двоюродная сестра была осуждена на два года за растрату. Подозрение пало и на Билкову, но дед Якуб за нее заступился, и это спасло ее. Он поверил человеку и, как потом было установлено, оказался прав. Вот почему она встревожилась, отвергла все намеки и в конце концов решила защищать Якуба. Если ее попросят. Да-да, попросят!
Королевская метаморфоза (назовем таким образом ту перемену, когда из слизистой гусеницы как по волшебству вдруг появляется изумительной красоты бабочка) произошла, однако, с агрономом Бурдой. Бурда — член парткома, имеющий правительственные награды (а в прошлом — крупный кулак, в свое время последним вступивший в кооператив).
Метаморфоза была тем более неожиданной, что назревала она долго и незаметно. Пепик Шпичка из-за вечного молчания и апатии Бурды считал его неблагонадежным. На заседаниях парткома Бурда обычно сидел без движения, словно изваяние. Создавалось впечатление, что он спит. Но в его голове зрели свои мысли. Как истинный расчетливый кулак, он действовал не торопясь. Как у истинного кулака, кулацкая жила прорастала в нем постепенно, но во всей своей силе и во всю ширь, так как он сумел собрать воедино свое кулацкое нутро, принадлежность к коммунистической партии и свои награды.
Когда настало время сбросить маску, для него это не составило особого труда, ведь перед ним был яркий пример в лице бывшего кулака, а теперь министра сельского хозяйства. Бурда почувствовал, как за спиной у него вырастают крылья.
После разговора с учителем Ержабеком, позволившего составить представление о температуре бржезанского политического климата, Бурда напыжился, маска слетела и из-под нее свету явился не кто иной, как адмирал. Он сам решил прийти в трактир к половине второго, а потом видно будет, что делать. Этот срок каким-то чудом стал известен всем заинтересованным лицам.
Известно, что учителя всегда умели оценить прекрасное, поэтому сцена превращения седой куклы в бравого адмирала так его очаровала, что он увидел в Бурде скорее интеллигента, чем деревенского мужика. В те дни такое признание многое значило. Ведь становилось все более очевидным, что интеллигенция относится к элите общества. И весь смысл «процесса возрождения» сводился именно к тому, чтобы эта элита пришла к руководству. Учитель Ержабек был твердо убежден, что это произойдет в рамках коммунистического общества.
Учитель Ержабек, конечно, пойдет в трактир к половине второго.
А Ванек семенил к своей почте окольными путями. У него было такое чувство, словно он должен вручить телеграмму лично его величеству королю. Наконец-то события разворачиваются!
Но Ванек, будучи много лет режиссером и руководителем местного кружка самодеятельности, обладал особой чувствительностью к подлинной роли основных действующих лиц в любом спектакле. С этой точки зрения, ему что-то не нравилось во всей этой истории. Трудно сказать, что именно, да и некогда пока подумать как следует. На совещание в трактир он, конечно, пойдет. О времени сбора он узнает, лишь придя на почту. Но все-таки ему что-то не по себе.
В эти бурные полчаса произошло непредвиденное событие. Ни Якуб Пешек, ни Йозеф Шпичка, ни другие члены районного комитета пока совершенно ничего не знали. А потом местный «телеграф» заработал с такой скоростью, что усилия Ванека, учителя и трактирщика оказались превзойденными, причем не без участия молодого Франты Вондры.
А произошла следующая малопонятная история. Трактирщик Цвекл забежал по пути к старому Вондре, который не сможет присутствовать на обеденном заседании, поскольку вот уже второй год не ходит. Однако, как старый и умудренный опытом человек, он мог бы сказать свое веское слово.
Цвекл постучал Вондре в окно, лихорадочно обдумывая, что ему сказать. Он понимал, что этому угрюмому старику не скажешь то, что он рассказывал по крайней мере уже трижды. Но когда старый Вондра, встав с постели, приплелся к окну и открыл форточку, Цвекл проговорил как ни в чем не бывало:
— Пан Вондра, после обеда к нам приезжает какой-то парень, чтобы разобраться в старых грехах. В них замешан Якуб Пешек. Вы не хотели бы кое-что рассказать этому парию, ну, например, как Пешек конфисковал у вас ружье, хотя сам тайком хранит винтовку?
Если Алоису Машину нужны были часы раздумий и нечеловеческие усилия для понимания всего происходящего, то трактирщик Цвекл, который регулярно слушал радио и обладал задатками доносчика, разбирался в делах играючи.
Старый Вондра долго смотрел в лицо Цвеклу, а потом ответил:
— Слушай, Ладислав, оставь ты лучше это. Когда валят дерево, бывает, что оно подминает под себя и лесоруба. Дерево-то уже срубленное, а лесоруба тоже поминай как звали. Лучше брось это!
— Ну, как знаете.
Цвекл расценил этот ответ, как старческий бред Вондры, которому уж больше ничего не осталось. Поэтому он тут же о нем позабыл.
Но старый Вондра не забыл. Был он человеком суровым и ворчливым. В свое время, будучи крестьянином-бедняком, он имел корову, трех коз, поросенка и гектар каменистой земли. Он всегда любил лес и увлекался охотой. Он, конечно, не забыл, как Якуб отобрал у него ружье, но не забыл также ни одного дня прожитой жизни.
Улегшись в постель, старик подождал, когда придет обедать сын, и все подробно рассказал ему.
Случилось так, что как раз в этот момент, когда в половине второго в трактире пана Цвекла стали появляться один за другим гости и вроде бы случайно усаживаться за длинным столом, чтобы дождаться прибытия из областного центра крупного деятеля, в доме Якуба появился первый неожиданный гость.
— Дедушка, вы ни о чем не догадываетесь? — Молодой Вондра заглянул к нему на кухню.
Перед Якубом на столе стояла тарелка с недоеденными вареными овощами. Якуб спокойно доел их, а затем ответил:
— Нет, а что случилось?
— Пока ничего, но примерно через час к вам придут гости.
Вондра еще не кончил рассказывать, как появился вахмистр Шмид. Он снял ремень, сунул пистолет в карман брюк и стал молча слушать Вондру.
Когда рассказ был окончен, Шмид произнес?
— Вот здесь мы их и подождем, дедушка. Сейчас они как раз собираются в трактире. Раньше чем через час готовы не будут. Горлопанов там хватает. А Пепик Шпичка должен с работы подоспеть. Дома его ждет записка. Так что спокойно доедайте, а потом сходите за своим ружьем. Когда они придут, оно будет уже моим. Ясно?
Якуб улыбнулся. Его ружье! Кусок ржавого железа. Он невольно вспомнил деревянную, грубо сколоченную и выкрашенную пирамиду, в которой под номером девятнадцать стоял его автомат, когда Якуб был членом народной милиции на заводе «Шкода». Теперь уже давно, с тех пор, как Якуб ушел на пенсию, автомат принадлежит другому человеку.
А кому этот автомат будет принадлежать сегодня вечером или завтра?
Ярослав уже давно сидел в своем кабинете, пытаясь придумать, как оттянуть наступление чего-то важного, суть которого была ему неясной.
Потом он оставил в покое бумаги и попросил машинистку из соседней комнаты приготовить кофе. Она была любезной и предупредительной девушкой. Словно ничего вокруг не происходит. Ну, а что в действительности произошло?
Помешивая кофе, Ярослав неторопливо искал хоть какую-нибудь зацепку, которая помогла бы ему избавиться от неприятностей.
В стеклах стоящего напротив книжного шкафа Ярославу чудились фигуры опозоренного, но спокойного и выдержанного тестя Якуба, комичного, но жалкого и несчастного отца Алоиса, рассудительной и преданной жены Марии, липкого товарища Гавличека, деятельного и холодного шурина Вацлава, ненавистного и презираемого, но до изнурения правдивого редактора Фулина, отвратительного Вилема Штемберы, который стремится подольше прожить, сам не зная зачем… «А зачем, собственно говоря, живу я сам? До чего я дошел! Такое впечатление, что я превратился в старую развалину и присутствую на чьих-то похоронах».
— Что ты делаешь, Ярослав?
Эти слова вырвались у Марии после того, как дед Алоис крикнул, что его сын — весь в отца, голова у него варит и он не допустит позора!
Ярослав уперся локтями в стол и закрыл ладонями глаза.
«Где я совершил ошибку? Что сделал плохого? Кого оскорбил? — И тут он понял до удивления простую вещь: его обманули и подвели. — Я хочу справедливости, а они собирают в записные книжки адреса. Я хочу гуманности и человечности, а они говорят о голубой крови. Я хочу быть человеком, а они оскорбляют даже Марию, у которой ничего в жизни не было…»
В его голове мысли начали сталкиваться, путаться, лезли какие-то слова, которые приходилось отбрасывать, отталкивать.
«У меня осталась только совесть, моя чистая совесть… Но чистая совесть означает прочно стоять на чьей-то стороне. Это давно известно, еще с 1949 года. Вставай и сейчас! Другого выбора нет».
Это были последние слова, пришедшие ему в голову и побудившие к действию.
«Сегодня, сейчас же я должен переговорить с дедом Якубом!»
Немного подумав, Ярослав снял телефонную трубку и набрал номер директора студии.
— Товарищ директор, разрешите мне после обеда уйти с работы.
Директор злорадно усмехнулся. Он знал, что нервы у Ярослава Машина не выдержат. В трубке послышался добродушный голос директора:
— Разумеется, Ярослав, все мы уже достаточно издерганы…
Ярослав тут же направился в гараж, где стоит его машина.
Стулья вокруг квадратных столиков в трактире Цвекла сегодня пустуют: посетители, приходящие обычно отдохнуть после обеда, теперь либо уселись возле длинного прямоугольного стола с правой стороны, либо совсем не пришли. И последних было большинство: народ в деревне в основном осторожный. Утро вечера ведь мудренее.
Пану Беранеку это только на руку. К сидящим вместе с ним за длинным столом он может обратиться с любым вопросом. Всего сидели семь человек: пан Гавличек, Алоис Машин, агроном Бурда, Франта Ламач, учитель Ержабек, заведующий почтой Ванек и, наконец, трактирщик Цвекл, целиком возложивший, конечно временно, свои обязанности на жену.
По мере появления гостей Алоис представлял каждого, а потом на ухо рассказывал пану Беранеку биографические данные. Все шло как по маслу, именно так пан Беранек себе это и представлял.
Но вот он встал и произнес:
— Господа… — Это прозвучало как приглашение к танцу, поскольку можно было действительно уловить вопросительную интонацию. Он немного помолчал, раздумывая.
Его представление о деревенских жителях всегда характеризовалось пренебрежением и включало два компонента: запах навоза и душевную ограниченность. Этот горожанин, в сущности, немного побаивался деревенских жителей за их особую твердость, основательность, удивительную стабильность. И чтобы прикрыть свой страх и презрение, пан Беранек решил выступать перед ними в самом высокопарном духе.
Он говорил о смысле эпохи, о демократических традициях и величии народа. Говорил от всей души о таких вещах, о которых его слушатели (даже учитель Ержабек) не смогли бы рассуждать. Потом он перешел к освещению регрессивного влияния последних двадцати лет на все те прекрасные особенности чешского человека, о которых перед этим шла речь. Он умышленно несколько раз повторил слово «регрессивный», будучи уверенным, что большинство присутствующих не понимает его значения. Поэтому придется его разъяснить. Когда же значение иностранного слова разъясняется, всегда остается оттенок научной объективности, то есть как раз то, чего и добивался пан Беранек. Это впечатление останется и тогда, когда он начнет приводить конкретные примеры.
Он говорил о том, что могли бы сделать, но не сделали. Делал сравнения с другими странами, бывшими когда-то отсталыми, а теперь идущими впереди. Он говорил о том, что нет такой жизненной проблемы, которая за двадцать лет была бы решена. Говорил о долге перед народом восстановить справедливость. И все это взволнованным голосом заботливого главы семейства, от всей души, словами, которыми никто из присутствующих не смог бы так свободно оперировать.
Потом он спустился на землю деревни Бржезаны. Присутствующих поразило его знание некоторых местных проблем (о них он час назад узнал от Алоиса Машина). Всех взволновало его заявление о том, что вчера он присутствовал в студии во время разговора с Якубом Пешеком перед выступлением того по радио. Восхитила блестящая оценка этого выступления — без острых выражений и грубых намеков. Говорил лишь о двусмысленных словах, о догматизме, о нежелании бывшей знати отказаться от своих давно уже утерянных позиций, До этого момента он обращался ко всем от чистого сердца.
А потом пан Беранек заявил:
— Вы не сердитесь, господа, но я слышал, будто у вас был случай, когда у человека забрали ружье только за то, что он не хотел вступать в кооператив. Кроме того, я слышал, и этому абсолютно не хочется верить, что это ружье забрал именно тот самый Якуб Пешек, которого все мы знаем и который до сего дня тайком хранит дома не какой-нибудь замызганный дробовик, а военную винтовку. Это действительно правда, что я говорю?
Поворот в стиле, и содержании речи был хорошо рассчитан. Теперь надо было заставить слушателей немного устыдиться того, что они по-рабски терпели свою забитость. Устыдиться, чтобы почувствовать неодолимое стремление исправить это положение.
Правда, к этому моменту остались только шестеро слушателей, настроенных в желаемом для пана Беранека ключе. У седьмого мысли в голове пошли в другом направлении. Этим седьмым был Ванек. Шесть человек теперь начали думать о том, что подобных вещей они больше не потерпят. Они не стали бить себя в грудь, восклицая: «Что же мы натворили?» Нет, свойство человеческого характера состоит в том, что человек не переносит чувства собственной вины и в любом случае начинает лихорадочно искать главного виновника на стороне. «Действительно, в чем мы виноваты? Только в том, что в собственном гнезде вырастили кукушку, пригрели змею на своей груди. Прохлопали мы. Поэтому необходимо отомстить и свести счеты».
Кулаки грохнули по столу. Пан Беранек ковал теперь железо, пока оно горячо.
— Свести счеты? Разве мы не среди своих?
Решение уже витало в воздухе. Его высказал Франта Ламач:
— Пошли к Якубу! Винтовку он обязан сдать!
Шестеро мужчин вскочили со своих мест, позабыв расплатиться.
Встал и седьмой, заведующий почтой Ванек, и извиняющимся тоном сказал, что ему нужно возвращаться на почту, потому что телеграф не ждет, а почта — это душа жизни общества. В его голове не прекращалась путаница.
По дороге на почту Ванек почувствовал, как им овладевает страх. Такое чувство обычно появляется тогда, когда спадает пелена с глаз и вещи предстают в ином свете. Этот страх вызывает стремление к действию.
Ванек начал думать по-другому уже в тот момент, когда остальные сжимали кулаки. Но случилось это не потому, что смысл речи Беранека противоречил его убеждениям, а вследствие того, что Ванек, будучи режиссером местной художественной самодеятельности, отлично разбирался в подлинном значении основных действующих лиц в любом спектакле, А главным-то образом потому, что Ванек по своему характеру был похож не на ягненка, а на быка и не нуждался в поводыре, который указывал бы, куда ему следует, а куда не следует идти.
Он начал задумываться уже тогда, когда узнал о прибытии из областного центра какого-то деятеля, который поможет им тут разобраться. Но тогда он просто задумался, не понимая, что это ему не нравится. Видимо, и сейчас он еще не до конца это понял, но мысли его шли в таком направлении: мы здесь в деревне всегда охотно ведем всякие разговоры, в том числе о конфискованном и укрываемом ружье. Но все это происходит обычно в своем кругу, и за такими разговорами люди попивают пиво. Если иногда и звучат резкие слова, то все равно дальше брошенного в соседские окна камня дело не идет.
Что все-таки на уме у этого чужестранца? Когда смысл этого вопроса дошел до сознания почтмейстера Ванека, он понял причину своего беспокойства — оно исходило от слова «чужестранец».
Удивительная карусель! Ведь всем известно, что у Якуба винтовка хранится еще с 1920 года и до настоящего времени, хотя после 1945 года он ни разу из нее не выстрелил. Несмотря на то что иногда по его адресу раздавались ругательства: «Пусть он издохнет или подавится!», а иной раз ему были готовы выцарапать глаза, никому не приходило в голову выдать его властям. Такого не было даже в годы гитлеровского «протектората»!
Предубеждение Ванека в отношении Якуба в течение многих лет состояло в том, что тот чересчур долго и много командовал. Это не нравится людям. Чехословацкая весна родила в душе Ванека, как и в душах многих других людей такого типа, представление: «А теперь командовать будем мы! Теперь я, теперь, так сказать, все мы стали хозяевами своей судьбы». И Ванек о себе лично думал, что в случае необходимости сумел бы управлять и командовать.
«Но ведь Якуб-то свой, деревенский, он живет среди нас, пьет воду из наших колодцев и пиво в нашем трактире, и пусть катятся к черту все, кто не понимает этой истины! А этот умник — чужак чужаком!» Ванека словно осенила мысль, что дело тут вовсе не в седом Якубе и его ржавой винтовке. Он вдруг совершенно ясно осознал, что если и должен властвовать на их бржезанской навозной куче новый петух вместо Якуба или Шпички, то им никак не может быть какой-то чужак со стороны, а только люди вроде, например, учителя Ержабека или же, наконец, его самого, Ванека. А почему бы и нет?
Придя на почту, он захлопнул за собой двери и закрылся в своей канцелярии, показавшейся ему на этот раз собачьей конурой.
Вацлав не удивлялся тому, что с полным безразличием смотрит на небо, вместо того чтобы с волнением ждать командира и лихорадочно думать, что же могло случиться. Таков один из крайних способов, к которому прибегают летчики, чтобы хоть на несколько минут обрести необходимое им равновесие: пусть все летит к дьяволу, главное, что трава зеленеет, воздух прозрачен, а земля круглая! Летчики отлично знают, что такое состояние долго не сохранишь, и поэтому взаимно следят друг за другом, чтобы никто не злоупотреблял столь простым приемом. Это было бы началом конца. Но бывают ведь и иные ситуации…
На шоссе появляется газик, совершает полукруг по бетонке, соединяющей обе полосы, и подъезжает к дежурному помещению. Из машины, сгорбившись, вылезает полковник Каркош. Кивнув головой Вацлаву, он заходит в помещение и усаживается в комнате, где на полках аккуратно уложены кислородные приборы и герметические шлемы. Разговор полковник начинает без вступления:
— Звонил некий Ванек, заведующий почтой в Бржезанах… — Тут он останавливается, чтобы привести свои мысли в порядок. — Солдат, живущий в неведении о происходящем, — плохой солдат. Недобрые вести угнетают человека, а правда придает силу. Лучше знать неприятные вещи, чем жить как безмозглая овца. Так вот, он позвонил и сообщил, что несколько минут назад какой-то приехавший из города человек, сопровождаемый группой людей из деревни, вышел из трактира, где они больше часа совещались. Все они направились к твоему отцу Якубу. Идут они туда, чтобы отобрать у него винтовку, которую он будто бы хранит тайком, и заодно свести с ним счеты. — Помолчав минуту, командир тихо произнес: — В Америке это называется судом Линча.
Вацлаву было известно, что Алоис Машин на сегодня назначил какое-то совещание. Но об этом ли идет речь?
— Хочешь, тебя подменят? — сухо спросил полковник.
— Давно он звонил?
— Прошло около десяти минут.
— Когда они вышли из трактира?
— Сказал, что несколько минут назад.
Вацлав готов был попросить снять его с дежурства, чтобы он мог выехать как можно быстрее в Бржезаны. Минут за 30—35 можно добраться. Наверное, еще не будет поздно. Но удерживала его лишь одна мысль: сумеет ли он в Бржезанах действовать разумно?
— Что же это делается, командир? — произнес он, и в его голосе прозвучали не страх и волнение, а печаль.
Каркош бросил на Вацлава продолжительный взгляд и ответил, вздыхая:
— Мерзость! Больше ничего не знаю, ничего.
Вацлав понимал, что, как старый, опытный и дисциплинированный солдат, он должен уметь владеть собой в любой обстановке. И он уже был готов изложить просьбу о снятии с дежурства, как вдруг раздался звук сирены.
Теперь было поздно делать что-либо.
За пять минут до этого сигнала два веселых парня уселись в двухместный истребитель, стоящий на аэродроме в нескольких десятках километров от Мюнхена. Им была поставлена любопытная задача: пролететь немного на восток и оценить ситуацию. В стране, куда они должны лететь, происходят сенсационные вещи. Они летят, чтобы взглянуть на эту страну сверху, так как из окон «мерседесов» на нее вот уже несколько месяцев смотрят туристы истинные и мнимые. Летчикам сказано куда лететь, и все. Цели своего полета они не знают. Впрочем, летчикам об этом говорится не всегда.
Они не знают (и знать не могут), что в район их аэродрома незаметно прибыло несколько особых групп, в которых, правда, людей немного, зато страшно много автофургонов с различной вычислительной и электронной техникой. Они не знают, что в ста километрах южнее аэродрома уже давно начали передвижение несколько танковых дивизий. Они не знают и того, что господа из тайных служб и генеральных штабов ухмыляются, поскольку некоторые чехословацкие военные чины начали разбалтывать военную тайну, в том числе по пражскому радио и телевидению.
Всего этого не знали два веселых летчика. Они лишь догадывались, что сегодняшний полет не будет прогулкой. Да и какой тогда смысл туда лететь? На прогулки ездят девчонки из пансионов. А они боевые летчики!
Им отдан приказ пролететь по треугольнику Железна Руда, Пльзень, Будеевице, Железна Руда. Лететь с возможно малой скоростью. В случае встречи не сопротивляться, в крайнем случае симулировать неисправность приборов и потерю ориентации.
Цель этого полета, о которой им, конечно, не сказали, состояла в том, чтобы прощупать морально-боевое состояние зенитных и авиационных частей чехословацкой армии, а в конечном счете и ее командования.
Перед тем как идти, возникла идея, что подходить к дому Якуба следует по одному, чтобы не привлекать внимания. Высказал ее Франта Ламач. Ему больше всего нравились необычность и исключительность всего этого дела, которое никому до сих пор не пришло в голову и которое в прежние времена нельзя было провернуть. Теперь же нежданно-негаданно это стало возможным. Поскольку у вето было собственное представление об огромной свободной стране, флаг которой когда-то вытатуировали на его левой руке, он почувствовал, что всем им сейчас не хватает автоматов с укороченными стволами и черных масок на глазах.
Придет время, когда в Бржезанах будут вспоминать о событиях этого дня и люди станут качать головой, приговаривая, что ничего подобного не было, что кто-то все это выдумал. А сейчас отец двух детей, примерный глава семейства Франта Ламач потерял голову и подобно пацанам готов был играть в разбойников и полицейских. С той лишь разницей, что у детей не бывает огнестрельного оружия. А Франте Ламачу до него было в тот день рукой подать.
Пан Беранек идею Ламача отверг, заявив, что его интересуют противоположные результаты. Ему нужна полная гласность, так как основной их целью является зондаж того, как далеко можно сегодня идти, с чем общественность смирится, к чему присоединится или же, в противном случае, насколько проявит решимость дать отпор.
Пан Беранек, наоборот, остался недоволен тем, что не имеет возможности, скажем, при помощи местного радиовещания обстоятельно проинформировать обо всем жителей деревни. Как прирожденный горожанин, он думал, что они ни о чем не знают (трактир был пуст, пока они заседали). Он не предполагал, что если вчера Ладя Панда мог раздумывать насчет причины созыва Шпичкой на сегодняшний день заседания парткома, то и теперь не так уж трудно догадаться, какие вопросы разбираются на их встрече.
Когда вся процессия вышла из трактира, на улице не было ни единой живой души, в том числе в окнах. Но через каждую щель за ними следили. Идущие в составе процессии местные жители конечно же отлично это знали, а потому шли молча, с достоинством, чуть-чуть сзади. Тем самым создавалось впечатление, что их кто-то куда-то ведет.
Этого не знали пан Беранек и пан Гавличек, которые шли во главе группы и вели непринужденный разговор:
— В этом ресторанчике делают поистине великолепный гуляш.
— Это очень просто объяснить, дружище. Ведь они тут живут единой семьей. Попробуйте-ка предложить кому-нибудь гуляш не того качества! Ха-ха!
И ни единого слова о том, куда и зачем они идут. Вся эта процессия, два участника которой восторгались гуляшом, а остальные шли молча, чем-то напоминала кошку, крадущуюся к курятнику и больше всего боящуюся хозяйского дробовика. В самом деле, одно дело лежать да теплой печке и теребить свой хвост, а другое — оторваться от господского стола и идти рисковать своей шкурой.
Эту особенную атмосферу первым почуял пан Беранек после того, как они распрощались перед трактиром с Ванеком и отправились к дому Якуба. Однако это насколько не вывело Беранека из себя. Рано или поздно такое могло случиться. Подобные обороты дела как раз и обсуждались в комитете. Все выступавшие по собственному опыту знали и прямо говорили, что народ — это стадо и полагаться следует только на самих себя. Исходя как раз из этой стадности, стихийности и подверженности толпы вспышкам трусости, они уже давно сделали принципиальный вывод, что вся власть держится на оружии.
Таким образом, Беранек первым заметил спад настроения у членов делегации, но он только улыбнулся и сделал беззаботный вид. Его ничто не могло удивить или застать врасплох. Завтра он проинформирует оперативную тройку своего областного комитета. Какие бы события ни произошли, материала, о чем говорить, накопилось уже достаточно. Сегодня работа проведена с группой людей, завтра это дойдет до сознания всей деревни, а послезавтра никто не удивится, когда запоет петух и наступят совершенно иные времена. То, что сегодня еще ползет со скрипом, как кошка возле курятника, завтра пойдет со звоном шпор.
Если пан Беранек был в состоянии во всем разобраться и сохранить спокойствие (плох тот командир, который, поднимая взвод в атаку, не думает, что на душе у солдат), то Алоис Машин растерялся. Какой-то внутренний инстинкт подсказал ему, что приближается опасность, после того как ее заметил пан Беранек. Но у Алоиса не было за спиной областного комитета, и он был в неведении относительно того, от чего, собственно говоря, зависит их успех или неудача.
— Убей меня дьявол, но мне кажется, что мы идем на похороны! — сказал Алоис и рассмеялся, так как произнесенное им вслух слово «похороны» еще больше его напугало.
Пан Беранек, остановившись, подождал Алоиса и с усмешкой проговорил:
— А вы, уважаемый друг, видимо, думаете, что мы идем на крестины?
Такой ответ пришелся всем по вкусу. Засмеялись все, и вместе с ними смеялся и Алоис. А потом с ухмылкой сказал:
— В сущности вы правы. Но я одного не могу представить: что мы скажем Якубу, когда придем к нему. — И подумал, будет ли вообще этот бирюк дома.
Пан Беранек взял Алоиса под локоть и обернулся ко всей колонне:
— Это дело предоставьте мне. Разговор начну я сам. А затем вы скажете то, что вам покажется нужным и подходящим.
Когда они вступили на перекинутый через речку мостик, дорога через который вела к усадьбе Якуба, они увидели, что на площади остановилась голубая машина и из нее вышел человек в темных очках.
— Пресвятая богородица! Да ведь это Ярослав! — крикнул Алоис и замахал сыну рукой. Вся процессия остановилась, ожидая редактора Машина.
Ярослав озадаченно смотрел на кучку людей. Хотя он вчера и слышал, о чем говорил отец по телефону с паном Беранеком, тем не менее его удивило такое количество собравшихся. Узнав среди них уполномоченного пана Гавличека, Ярослав с отвращением сплюнул и махнул отцу в ответ рукой.
Не успел он закрыть дверцу машины, как рядом остановилась еще одна машина, и из нее сначала вышел юноша, увешанный микрофонами, а за ним… звукотехник Маршалек и редактор Фулин! Увидев Ярослава, Фулин со спокойной улыбкой сказал:
— Смотрите-ка! Ты мог бы и с нами поехать.
Ярослава взяла злость:
— У меня нет в кармане блокнота с адресами.
Фулин ответил, кивнув в его сторону:
— Его и у меня нет. Все начнется позже. Сегодня просто идет эксперимент.
Ярослав подумал, известно ли о поездке директору студии, но решил махнуть на это рукой. Теперь это уже не имело значения.
Все мысли, размышления, впечатления и настроения сразу же растаяли как туман. Командир, не говоря ни слова, уехал. По привычке, отработанной за многие годы, Вацлав быстро стал одеваться. Сирены еще ничего не значат. Они попросту извещают, что по другую сторону границы в установленной зоне безопасности появился самолет. Такое бывает часто. В большинстве таких случаев через несколько минут дается отбой. Но при одевании об этом не следует думать. В положенное время Вацлав был готов. Майор Носек стоял перед приборами и спокойно следил за сигналами. Вацлав побежал к самолету, а майор Носек стал одеваться.
Весь полк знал, что самолет приближается к границе.
Вацлав произвел внешний осмотр машины, на что ему хватило шести секунд, и взобрался по железной лесенке в кабину. В последующие минуты летчик и самолет приготовились к старту. Такое бывает несколько раз в неделю, и, как правило, светлая точка на экране возле границы поворачивает назад. После этого следует отбой тревоги.
Повернет или не повернет на этот раз? Вот что волнует Вацлава, но он гонит мысль об этом прочь. Надо проверить все, что положено, внимательно следить за каждым словом в наушниках и запоминать их. Прежде всего следить за местоположением и направлением полета самолета и сразу же определять возможные варианты встречи, атаки, маневрирования. Для военного летчика мира не существует. Он отдыхает только в паузах.
Светлая точка на радаре безостановочно пересекла воображаемую линию границы. Раздалась команда, и Вацлав вырулил на старт. После взлета самолет взял курс на Железну Руду. Там он окажется раньше, чем опомнятся непрошеные гости. Приходит информация, что летят они необычно медленно, но в пределах возможностей реактивного самолета. Поступают доклады от пограничников. Самолет опознан, вызывает удивление отсутствие у него какого-либо стремления скрыть свой маневр. Неясно, провокация это или экипаж выполняет «обычное полетное задание.
Но это Вацлава не интересует. Маршрут и цель для него ясны.
— Ярославик, ты здесь очень кстати!
Ярослав заставил себя улыбнуться и пожать руки незнакомым людям.
Пан Беранек, стискивая его правую руку, с усмешкой произнес:
— Откровенно говоря, после вчерашней встречи я не ожидал увидеть вас здесь, тем более с паном редактором Фулином…
Ярослав сдержался, чтобы не отступить от своей старой привычки не торопиться с ответом, и лишь слегка кивнул годовой. Он сразу же понял, что Фулина, очевидно, позвал сюда пан Беранек.
А Беранек продолжал:
— Вчера у меня сложилось впечатление, что… что вы всю эту историю чересчур близко принимаете к сердцу.
Ярослав хотел ответить, что он приехал не с Фулином, что цель приезда у него совсем другая, но папаша Алоис, внимательно следивший за словами пана Беранека, перебил сына:
— А меня ничуть не удивляет, что Ярослав приехал. Мой сын Ярослав весь в меня! Так ведь, Ярослав?
Ярослав хотел повернуться и уйти. Он мог, например, пойти к машине, сделав вид, что позабыл там что-то, а потом поехать через косогор. В таком случае он был бы у Якуба раньше их… Но раздавшийся смех отца словно приковал его к земле.
Пан Беранек успел сказать:
— Ты действительно приехал кстати.
По его усмешке Ярослав понял, что прибыл он в самую последнюю минуту. В разговор вмешался агроном Бурда:
— И вы думаете, что Якуб после вчерашней истории станет говорить в микрофон?
— А мы заставим его сказать что-нибудь в микрофон! — отозвался Франта Ламач.
Нет! Вот теперь Ярослав уже никуда не уйдет. Это было бы бегством. Там, у деда Якуба, будет самое подходящее время сказать, почему он оказался здесь.
По аэродрому пронесся звук сирены, и все заняли положенные места. Два человека тоже встали со своих стульев, хотя им приказа никто не давал. Эти двое были то самые майоры, оказавшиеся в гостях в полку.
Майор Некуда в этот момент сидел у замполита полка майора Левого и высказывал ряд предложений, замечаний, рекомендаций. Большинство из них носило отвлеченный характер, и майор Некуда прекрасно сознавал это. Но что поделаешь, если он не научился говорить с людьми, если не может, глядя человеку прямо в глаза, спросить, как он смотрит на тот или иной вопрос, с чем не согласен? Он пытался разговаривать и таким образом, но эти беседы превращались в своеобразный экзамен, который не развязывал людям язык, а, наоборот, заставлял их молчать. Сегодня он беседовал степенно, и хотя все это напоминало опереточный дуэт, он все же стремился выжать какой-то результат. Вся беда в том, что майор Левый уподоблялся медведю: когда говоришь ему — слушает, а спросишь — отвечает, но сам же не сообразит высказать свое мнение относительно тех или иных прогнозов майора Некуды или его предположений. Майор Левый не отличался быстротой ума, однако сразу же понял, что Некуда пытается «насобирать фактов».
«Слава богу!» — подумал Некуда, когда раздалась сирена. Он вскочил, наспех попрощался и выбежал из здания штаба. Майор Левый про себя ухмыльнулся: наконец-то избавился! Осмотревшись, Некуда увидел приземистое строение с лесом антенн на крыше и стоящие возле здания крытые автомашины. Туда он и направился.
В момент тревоги майор Винарж сидел в буфете за кружкой пива и разговаривал с коренастым ефрейтором. Тот ел рубленый бифштекс с горчицей.
— Что, обед плохой был или подгорел?
— Сегодня был укропный суп, ну а я… я очень разборчивый, товарищ майор, люблю теплый бифштекс с корочкой…
Майор посмотрел на ефрейтора, и в этот момент раздался сигнал. Винарж встал, похлопал по плечу ефрейтора и направился к вышке. Ему было ясно, что сейчас генштаб переселится туда.
Между тем майор Некуда шел к приземистому зданию, не зная еще, что там находится. Иначе он прибавил бы шагу, так как это здание с лесом антенн называлось залом. Это был мозг всего аэродрома, нервный центр информации и связи по всем каналам. А майор Некуда был пехотинцем и ни за что на свете не признался бы в том, что находится на аэродроме впервые в жизни.
В узком коридорчике, ведущем в зал, перед ним появился обыкновенный сержант и деликатно выпроводил его на улицу.
Через две минуты полета Вацлав слился с машиной в единое целое. Он был частью самолета, мозгом самолета, единым целым с машиной. Он внимательно осматривает приборы в кабине, следя одновременно за небом, выслушивает поступающую информацию, дает четкие ответы. В это время в другом самолете ожидает команды и майор Носек. Команда может поступить только от руководителя полетом с вышки, но все зависит от обстановки вокруг Вацлава. Поэтому он так внимательно слушает каждый звук в наушниках, как и все остальные, отвечающие за полет.
Вацлав точно знает месторасположение самолета-нарушителя. Ему совершенно ясно, что тот идет прямо на Пльзень. Теперь надо подумать и рассчитать. Через минуту он будет к нему ближе всего, а еще через тридцать секунд их маршруты пересекутся, и тогда самолет окажется уже позади. Достаточно довернуть влево на семь градусов, как можно встретиться лоб в лоб. Но такой вариант Вацлав отбрасывает. Он выбирает вираж к востоку, тогда через полторы минуты можно выйти в бок противнику. Свое решение Вацлав докладывает на вышку, и дежурный руководитель подполковник Баштырш дает согласие.
Самолет накреняется, небо и часть неподвижного горизонта с левой стороны начинает, словно в огромной карусели, убегать под крыло. Вацлав всматривается в показания компаса и доворачивает машину по направлению. Затем переключает внимание на осмотр воздушного пространства вокруг самолета и в передней полусфере. Да, в десятые доли секунды можно послать смертоносный снаряд. Он видит кнопки, похожие на кнопочки звонков у ворот семейной дачи. Эти кнопки приводят в состояние высшей боеготовности всю электронную систему пушек и ракет под крыльями самолета. Вацлав взглянул на кончик ручки управления самолетом, где на расстоянии двух сантиметров друг от друга расположены спусковые кнопки пушек и ракет.
Вдруг он понял, почему нарушитель летит так медленно и прямо на Пльзень. Позднее ему покажется, что он сходит с ума. Он подумал о том, что некоторые типы истребителей способны нести и малые тактические атомные бомбы. Вспомнилась где-то вычитанная и понравившаяся мысль, что самые крупные трагедии происходят на пустом месте, спокойно и естественно, и всегда с той стороны, откуда их вообще не ждешь.
Он заставил себя отбросить эту мысль. Между тем пространство вокруг него и закрытая туманом земля внизу утратили резкие очертания. Природа представилась суровой, как миллионы лет назад, когда солнце боролось с туманом, вода с сушей, а живые существа в этом котле просто существовали и трепетали перед тем, что произойдет завтра.
Пепик Шпичка ворвался в комнату Якуба в тот момент, когда процессия инквизиторов, перейдя мостик, ступила на тропинку. Придя домой, он, не снимая фуражки, выслушал от жены, что здесь происходит, и сразу же бросился к Якубу. Он увидел, что процессия идет по площади к речке, повернул назад и успел перебежать через косогор.
Вместо приветствия он заулыбался, так как не ожидал увидеть у старого Пешека Вондру и вахмистра Шмида. Тут же у него родилась идея. Сообщив, что процессия уже поднимается вдоль речки, Пепик сказал:
— Будет здорово, если мы оставим Якуба одного, а сами спрячемся в соседней комнате. Там мы преспокойно послушаем, как они будут куражиться…
Процессия тем временем приблизилась и находилась примерно в тридцати метрах от дома Якуба.
Алоис Машин произнес:
— Так мы все зайдем в дом? Мне кажется, мы там не поместимся.
С замечанием Алоиса пан Беранек согласился. Он и сам подумывал об этом. Для него было очень важно, чтобы в дом не ввалились Ламач и Бурда. Он боялся, что они прямо с порога начнут хамить, а это не входило в его планы. Поэтому он решил, что первым в дом войдет он как несущий за все ответственность, следом пан Алоис Машин, затем пан учитель как представитель интеллигенции, а потом, конечно, уважаемые господа из радиостудии.
Ярослав кивнул головой и промолчал, когда пан Беранек слегка взял его под локоть и с улыбкой произнес:
— Я надеюсь, пан редактор, что вы дадите возможность говорить главным образом мне и вашему отцу. Дело, видите ли, не в том, что я вам не доверяю, а в том, что вас не было на нашем совещании в трактире и вы не знаете о наших… решениях. — Это слово он произнес с ухмылкой.
«Дело не в том, что я вам не доверяю»… Ярослав только теперь раскусил Беранека. «Он мне не доверяет. Ишь ты! Ну а я скажу, что следует. Только так!»
Подумав об этом, он промолчал. Там позади, в том, что именуется прошлым, Ярослав уже ничего не видел. Пустота. А впереди был дед Якуб. Там была неуверенность, но были и надежды.
Ярослав почувствовал, что принял правильное решение.
Майор Некуда оказался на улице. Вокруг были дороги, тропки, скверы, площадки. Подумав, что он снует, словно курица, Некуда замедлил свой бег и пошел, важно вышагивая, неизвестно куда. Дела идут своим чередом, а он бесцельно ходит. События развиваются без его участия. Черт бы их побрал!
В это время майор Винарж пришел на вышку и наклонился к начальнику штаба Марвану, который прибыл сюда чуть-чуть раньше и уселся возле лестницы. Марван жестом поприветствовал его, и они вместе стали следить за развитием событий.
В обоих помещениях вышки, там, где находились руководитель полета и помощник и где располагались связисты и специалисты по звукозаписи, как всегда, царило полнейшее спокойствие. В отличие от обычных полетных дней на этот раз цветной карандаш ефрейтора рисовал на матовом стекле лишь две линии — Вацлава и нарушителя. Руководитель полета произносит только позывные, и то лишь изредка, скорее для контроля. Иногда слышится голос майора в готовом к вылету самолете в конце аэродрома. Бегут секунды, а никаких изменений нет. Все присутствующие следят за движением обеих точек на матовом стекле, одна из которых движется по прямой линии, а другая по дуге, но обе идут на сближение. В момент, когда точки соединяются, руководитель полета подполковник Баштырш спокойно оборачивается и с нескрываемым удовольствием говорит стоящим позади офицерам, словно объявляя шах:
— Теперь он сидит у него на пятках. — Подполковник тут же склоняется над своим столом и почти прижимается носом к микрофону.
А Вацлав в это время прижимает свой самолет к земле, сообщив, что подойдет к нарушителю снизу. Почему он это делает, неизвестно. Подполковник на вышке старается это понять, его мозг лихорадочно работает, но объяснений не находит. Баштырш молчит, потому что Вацлав с того момента, как он увидел противника, становится главной фигурой боя, теперь только он может принять единственно правильное решение. Но Вацлав тоже молчит, так как ему самому трудно объяснить предпринятый им маневр.
Подполковник Баштырш понимает, что заместитель командира полка и один из опытнейших летчиков Вацлав Пешек не стал бы совершать сумасбродный маневр, а поэтому предупреждает майора Носека, чтобы тот был готов к старту.
Вацлав прижимает «миг» к земле. Он твердо решил, сам не зная почему, зайти чужому самолету снизу. Да, плохо подготовился подполковник Пешек к сегодняшнему дежурству. Виноваты события в мире. Вот и сейчас в его сознании всплыли воспоминания о последних днях второй мировой войны, когда небо закрывали стаи гудящих бомбардировщиков, а они прятались в погребе, потому что деревни в окрестностях Пльзеня уже сильно пострадали от бомбардировок.
А сейчас на Пльзень идет самолет, который, возможно, несет с собой атомную бомбу. Как представить себе подобную чепуху в наши дни, когда наступил прочный мир, когда народы все более сближаются друг с другом, чтобы сплотиться в дружную семью?! Это же невозможно, чтобы сейчас какой-то самолет готовился сбросить на город бомбу!
А отец Вацлава, который во время войны находился в концлагере, возможно, как раз в этот момент стоит перед судилищем уголовников только за свою верность Советскому Союзу. Да, и это называется прочный мир!
Неужели об этом не знают в Советском Союзе? Не знают, что в Чехословакии начали судить людей за то, что они не оказались предателями под давлением брани об «азиатских методах»? И кто даст гарантию, что первые признаки разложения в одном из социалистических государств не будут использованы в целях развертывания тотального наступления против социализма во всем мире? Кто гарантирует, что вот этот самолет, к которому приближается Вацлав, не играет роль первой ноты в предстоящем страшном военном концерте?
Вацлав прежде всего солдат. Он прекрасно помнит слова военной присяги. В тот момент, когда он поднимает голову и видит над собой брюхо чужого самолета, в его голове проносятся две мысли. Первая: «Сегодня 20 августа 1968 года, 14 часов 59 минут». Вторая: «Если в эти минуты должна начаться третья мировая война, то я сделаю все для ее предотвращения, пусть я один, но я не так уж беспомощен. Я сижу в своем МиГ-19, держа палец на пуске».
Как раз в это время в помещении вышки появляется майор Некуда. Сюда он попал в самый ответственный момент всей операции совершенно случайно. Блуждая по аэродрому, увидел высокое застекленное здание, возвышающееся над местностью, словно цапля над своим гнездом. На память пришел какой-то фильм; он понял, что из этого здания руководят стартами и приземлением самолетов, и направился туда.
Местные офицеры кивнули ему головой, а майор Винарж помрачнел. Некуда постоял в нерешительности несколько минут у дверей, но сознание важности собственной персоны и выполняемой им миссии вернуло ему самоуверенность. Он медленно приблизился сзади к подполковнику Баштыршу, решив, что этот человек здесь главнее всех.
Когда Алоис Машин звякнул засовом на воротах дома Якуба, пес Лесан неприветливо залаял, но Якуб ладонью левой руки дал ему знак замолчать.
Послышался вежливый, почти робкий стук в дверь.
— Войдите!
Дверь отворилась, Алоис просунул в нее голову и произнес:
— Можно, Якуб?
— Я же сказал, входите.
Незваных гостей это немного удивило. Значит, Якуб о них знает и ждет их? Гости во главе с паном Беранеком и радиотехником скучились в кухне. Техник держал в руках круглый микрофон с такой важностью, будто это был королевский скипетр.
Якуб сидел за столом лицом к окну, повернувшись спиной к гостям. Пан Беранек минутку подождал. Ярослав, стоявший позади всех, отступил на шаг назад и снова оказался в сенях, но через открытую дверь ему все было слышно и видно. Позади переминался с ноги на ногу пан Гавличек.
— Пан Пешек, вы не сердитесь за наш визит?
Якуб молчал, глядя через окно на Бурду и Ламача, которые стояли на улице, озираясь по сторонам.
Пан Беранек скривил левый уголок рта и продолжал:
— Ну, если вы, пан Пешек, сердитесь, то я прошу вас не делать этого. Нам хотелось бы с вами немного поговорить.
Якуб обернулся к нему и окинул взглядом фигуры стоявших.
— А вы кто такой, уважаемый пан? — Он спросил так, хотя со вчерашнего дня помнил лицо и речи этого человека.
В глазах пана Беранека появился лиловый блеск, и он, усмехнувшись, вытащил удостоверение личности.
— Меня зовут Зденек Беранек. Я член районного комитета. В вашу деревню мы прибыли совместно с представителями нашего радио, чтобы увидеть тут кое-какие ненормальные явления, а вас, пан Пешек, мы просили бы оказать нам содействие.
Пан Беранек придавал слишком большое значение моменту своего представления, полагая, что это производит на людей сильное впечатление. Действительно, впечатление он производил, да только не на всех.
Якуб относился к числу тех, кто не поддается на подобные приемы, а тем более на словесные выкрутасы. О и улыбнулся и, оттолкнув протянутое к его носу удостоверение, произнес:
— Я знаю вас. Знаю и то, что написано в документе. Хочу одно только спросить у вас: что вам нужно?
В глазах пана Беранека вновь появился лиловый блеск.
Тут раздался треск, напомнивший звук грома после яркой молнии. Посыпались осколки разбитого стекла.
Вацлав приблизился к вражескому самолету. Сейчас он находился в таком положении, что кабина чужого самолета просматривалась сбоку. Он внимательно вглядывался в две темные фигуры за стеклом кабины, и ему вдруг показалось, что рядом с круглыми головами, как по команде, появились две темные полосы, движущиеся из стороны в сторону, — это экипаж непрошеных гостей попросту машет ему, приветствует его, а сам ни на йоту не меняет своего курса.
Через мгновение Вацлав был под иностранным истребителем. Он хотел бы получше рассмотреть его, но только что увиденная картина вызвала в нем приступ бешенства.
«Значит, я шут и негодяй? Может быть, они считают меня мальчишкой? Видите ли, они мне машут, поздравляют меня! Летят прямехонько над чужой землей и приветствуют меня, словно туристы, которые сидят в «мерседесе» и проезжают в горах мимо туземца, восседающего на осле!.. Разве ради этого я прожил жизнь? Ради этого я поседел? Ради этого в тридцать девять лет ухожу с летной работы? И такая жизнь имела бы смысл?»
Вацлав не знал, что в то время уже готовились к вторжению в Чехословакию. Не знал, кто такой Беранек, компаньоны которого как раз в эту минуту разбили окно в доме его отца. Он не знал, как, впрочем, не знали и летевшие над ним два летчика-истребителя, что группировки войск иностранных держав уже начали постепенно передвигаться в сторону западных границ Чехословакии.
Вацлав — не политик, он просто солдат. Он отлично помнит слова принятой им присяги. В голове пронеслась мысль о 90 тысячах погибших боевых товарищей полковника Каркоша. Сейчас он знал твердо только одно: они хотят из его отца Якуба сделать негодяя. «Со мной этого не выйдет! Отец, Милена, за вас!»
Как-то во время одной из бесед со студентами Якубу задали вопрос: «В чем, по-вашему, смысл жизни?» Якуб тогда сначала замялся. Он ведь не философ, и на такие вопросы ему отвечать трудно. И вдруг ему пришла в голову мысль, что можно выкрутиться. Он ответил:
— А вам не кажется, что вопрос лучше поставить так: а какая жизнь имеет смысл?
Студенты были поражены, и один из них спросил, а какая же жизнь имеет смысл? Якуб ответил уверенно: «Та, которая помнит, благодаря чему она существует», «Благодаря чему же?» — последовал очередной вопрос. «Благодаря двадцати миллионам жертв советского народа», — ответил тогда Якуб, и это показалось студентам слишком простым ответом. Но именно в этой простоте многие из них почувствовали особую силу этого факта.
Есть на свете истины простые, как ночь и день, которые не годятся в качестве темы ученых диспутов, но тем не менее они существуют. Они так же просты, как жизнь и смерть.
— Слушаю, — ответил подполковник Баштырш. Теперь решение зависело от Вацлава. И подполковник добавил: — Попытайся дождаться одобрения свыше!
— Есть!
Этот короткий диалог означал, что Вацлав принял решение уничтожить нарушителей, если они не подчинятся его командам.
Подполковник Баштырш, конечно, знал, что и без его вмешательства подобная информация от летчика, выполняющего боевую задачу, вызовет быструю ответную реакцию. По линиям связи пойдут доклады в высшие инстанции. При оценке действий во время операции весьма важно будет потом знать, имелось ли одобрение сверху. Но и так всем хорошо известно — и на аэродроме, и в верхах, — что основную ответственность, а в десятые доли секунды и целиком всю ответственность несет тот, кто сидит за штурвалом и держит палец на пуске.
Между тем иностранный истребитель не только не изменил маршрута, но и не повысил скорости.
В доме Якуба три окна: одно — в «салон» с супружеской кроватью, которая вот уже многие годы расстилается лишь для проветривания, другое — на кухню, где Якуб, как знает читатель, спросил пана Беранека, что ему нужно, и третье — в комнату, в которой старый Пешек спит и хранит необходимые вещи.
Именно за этим последим окном, волнуясь, топчется Пепик Шпичка (молодой Вондра и вахмистр Шмид в это время внимательно прислушиваются к разговору на кухне) и сжимает кулаки, стараясь взять себя в руки, чтобы не схватить стоящую у цветочной тумбочки грибную палку Якуба и не наброситься с нею на этого негодяя Ламача. Что, собственно, еще нужно этому болвану: на заготовке кормов он зарабатывает по три с половиной тысячи крон, купил новую легковую машину, имеет десять овец с бараном, что дает дополнительный годовой доход в двенадцать тысяч… Дом — как игрушка, добрая жена…
Шпичка задумался и даже не заметил, как подошел очень близко к выцветшей оконной занавеске.
У Франты Ламача в течение последнего часа тоже не выходят из головы несколько назойливых мыслей: «Мой американский флаг означает свободу, мой дом — пустяки, Якуб — большевистская крыса!» Взгляды Франты Ламача и Пепика Шпички встретились. Они узнали друг друга и поняли, о чем каждый из них думает.
Ламач считал, как, впрочем, и все остальные, что Якуб будет дома один. Поэтому, увидев Шпичку, он пришел в ярость и угрожающе замахал руками. Шпичка не выдержал. Он отодвинул занавеску, открыл окно и крикнул:
— Черт возьми, катись отсюда, болван, пока я тебя чем-нибудь не огрел!
Ламач нагнулся за камнем.
Бурда, поняв, что происходит, попытался остановить Ламача, но не смог.
Шпичка в последний момент прихлопнул окно, но отскочить не успел. Раздался звон разбитого стекла, посыпались мелкие осколки.
В зал пока поступает печальная информация о том, что связь с верхами установить не удалось. «Попытайтесь еще раз!» — раздаются команды.
А летчики самолета-нарушителя готовы были обидеться: мы тут летаем вроде как друзья и никому не угрожаем, а он хочет прижать нас к земле, словно каких-то злодеев. Видно, парень не из воспитанных. Повернем назад или позволим заставить затащить себя в их стойло? Но это только в крайнем случае. По всему видно, что этот боевой парень к тому же порядочный плут. Сначала наблюдал за нами снизу, а теперь, смотри-ка, всячески избегает попасть нам на мушку. Действует вполне серьезно, с ним шутки плохи. Лучше повернуть. А пока дело терпимое. Положение еще не критическое, пусть не воображает, что мы удираем.
Описав крутой вираж, Вацлав пронесся метрах в двадцати над чужим истребителем. Когда позже будут анализировать этот маневр и просматривать фотопленку, все станут качать головами, но Вацлав попросту промолчит и не даст никаких пояснений. Ведь это его последний вылет, и пусть никто не думает, что чехословацкие летчики были слабаками. Чужой истребитель закачался и беспомощно нырнул вниз метров на двести. Дивочак сказал бы в этом случае: «Такие штучки мне по нутру, тут ты подрезал им крылья».
— Ах ты негодяй!
— Ну и дает!
Примерно так прозвучали восклицания двух летчиков после того, как они стабилизировали положение своего самолета.
Однако обоим стало ясно, что спектакль кончается.
— Шутки в сторону, давай полные обороты!
Чужой самолет начал набирать скорость, одновременно повернув на юго-запад.
— Собираются удирать. Жду двадцать секунд!
Вацлав приготовил ракеты для пуска. И, немного помедлив, решительно зарядил все три пушки. Все равно терять нечего — или пан или пропал!
«Вы летите над страной, которая для меня является родиной. Назад не уйдете!»
— Оперативный дежурный будет на линии с минуты на минуту, — услышал подполковник Баштырш сообщение об очередной попытке выйти на связь.
Что же делают оперативный дежурный и его помощники? Завтракают? Совещаются?
Подполковник Баштырш только махнул рукой. «С минуты на минуту!» А у Вацлава всего двадцать секунд!
Если бы все это услышали военные из тех штабов, откуда поступил приказ о проведении полета истребителя, они с удовлетворением потирали бы руки: насчет командования, видимо, дела обстоят благополучно, а вот связь хромает. И они с оптимизмом стали бы посматривать в сторону востока.
— Связь установить не удалось, все теперь зависит от тебя! — крикнул подполковник Баштырш.
— К чертям! — ответил Вацлав и все свое внимание сосредоточил на собственных действиях.
Потребуется еще несколько секунд, прежде чем чужой самолет достигнет такой же скорости, с какой летит Вацлав. Его самолет на большом вираже в течение всех этих секунд будет не только сближаться с самолетом-нарушителем, но и иметь время, чтобы взять его на прицел.
Ракеты и пушки готовы.
Вацлав уже отбросил все ненужные мысли. Сейчас он целиком слился с машиной, стал ее составной частью, ее мозгом.
— Что здесь творится? — вдруг взвизгнул майор Некуда.
Подполковник Баштырш, у которого нервы были не менее напряжены, чем у Вацлава, вздрогнул.
— Речь не идет, конечно, о боевом столкновении! Вы ведь не думаете стрелять! Немедленно прекратите это! — крикнул Некуда.
Баштырш почти инстинктивно нажал кнопку микрофона и сказал:
— Момент!
И больше ничего. А потом он почувствовал желание схватить этого майора за воротник и выбросить его из окна. Но это было уже ни к чему. И никому не было бы интересно узнать, что с языка майора Некуды готов был сорваться крик: «Ведь там же люди!»
Вахмистр Шмид вылетел как пуля, ворвался в соседнюю комнату и закричал на всех, кто, онемев от удивления, стоял на кухне:
— Так дело не пойдет, не пойдет, не пойдет!.. — При этом он левой рукой рубил воздух, а правой придерживал торчащий из кармана пистолет.
Пана Беранека больше напугало неожиданное появление человека в форме, чем звон разбитого стекла, поэтому в первый момент он не сумел сориентироваться.
Вахмистр перевел дыхание и уже более спокойным голосом громко произнес:
— Этого еще не хватало! Очистите помещение! Немедленно!
Пепик Шпичка тут же протиснулся между стоявшими людьми и выбежал на улицу. Можно было подумать, что приказ вахмистра относился прежде всего к нему. На саном деле Шпичка приказа даже не расслышал. Он следил через разбитое окно за Ламачем, ощущая лишь шум в своей голове, а потом бросился на улицу, чтобы выполнить свое обещание. Выбежал он без палки, забыл про нее, но Ламач знал, что кулаки Шпички не будут к нему милосердными. Поэтому, не мешкая ни секунды, Ламач пустился наутек, словно перепуганный мальчишка. Шпичка остановился только на другом берегу речки, продолжая грозить кулаком вслед удиравшему Ламачу.
Этих нескольких минут, пока все наблюдали за Шпичкой и Ламачем, было достаточно, чтобы прежде всего пан Беранек оценил обстановку и успокоился. Он осознал, что произошло нечто большее, чем он ожидал. Гражданин напал на гражданина, сосед пошел против соседа. Пока вооруженный камнем. Он испытывал чувство удовлетворения и нетерпения. Завтра в комитете эти события вызовут удивление. Теперь главное состоит в том, чтобы достойно завершить начатое здесь дело.
— Вы извините, но данный инцидент не имеет к нам отношения. Что-либо подобное нам даже во сне не снилось…
— А к кому он тогда имеет отношение? — спросил молодой Вондра, тоже испытывавший чувство возмущения от всей этой сцены.
— Я сказал, чтобы все покинули помещение! — повторил вахмистр.
— Но, уважаемый юноша, мы ведь ничего не сделали…
Тут вперед протолкнулся Ярослав, который испытывал такие же чувства, как и Вондра. Якуб с удивлением поднял голову. Ярослав сказал:
— Я полагаю, нет, я убежден, что мы должны были…
Никто уже не узнает, что хотел Ярослав сказать. Спустя много времени, уже дома, он поймет, что в той ситуации многое зависело от одного лишь слова. Он хотел высказаться от своего имени, а произнес «мы».
Пан Беранек оттолкнул его и заговорил:
— Правильно! Оба пана редактора и их микрофоны являются достаточным доказательством того, что мы ничего не совершили. Тон пана военного представляется, по меньшей мере, необдуманным. Мы ведь даже не сказали еще о причине нашего приезда…
— И не скажете! — крикнул возвратившийся Пепик Шпичка. — Вы хотели отобрать у Якуба винтовку. Это нам хорошо известно. — При этих словах Алоис Машин изумленно взглянул на пана Беранека: «Нас кто-то предал, но кто?» — Вот эта винтовка, — и Шпичка вынес ее, — но она принадлежит нам. Товарищ вахмистр найдет ей применение, только он уполномочен решать подобные вопросы. А вы выбросьте из головы даже мысли о винтовке…
Нервное возбуждение, вызванное случаем с окном, улеглось.
— Да что вы здесь рассказываете? — Пан Беранек понял, что следует начать отступление и оставить винтовку в покое. — Мы попросту хотели подискутировать, побеседовать, ведь это считается нормальным среди людей, а у пана Пешека в таких делах имеется опыт…
До этого момента Якуб только присматривался. Он переводил взгляд с одного человека на другого, сравнивал, обдумывал, оценивал. Но когда пан Беранек так нахально вылез со своей клюквой, когда Якуб понял, что здесь происходит обычный спектакль, не имеющий ничего общего с поисками правды, он решил поставить точку.
Ярослав пытался еще что-то сказать, но тут Якуб встал, протянул руку к своей винтовке, и поскольку его движения на фоне предыдущей возбужденной сцены были на удивление спокойными, то все замолчали, а Пепик Шпичка подал ему ружье в руки. Якуб обхватил его двумя руками и направил дуло в пустой угол.
— Эта винтовка принадлежала колчаковцу по фамилии Бобров. Из нее он убил двенадцать красноармейцев. А потом эту винтовку завоевал я во время боев за революцию. И ее мне снова вернул в руки в мае сорок пятого года танкист Закир Измайлов. Это моя винтовка, и хватит вам об этом говорить! — Помолчав немного, он посмотрел на пана Беранека, потом на Алоиса и твердо сказал: — А вы, кто бы вас ни послал, вы винтовку у меня не возьмете. Не удастся!
Оглянувшись, Якуб увидел Ярослава и добавил: — Ярослав, твой отец Алоис всегда был штрейкбрехером. Он им и остался. Но за тебя мне больно! Меня огорчает, что ты здесь. Как ты это объяснишь Марии?
В течение всего времени пребывания в этом доме Ярослав чувствовал себя словно в каком-то тумане, находился в состоянии полного оцепенения. «О чем здесь говорят? О винтовке Якуба? Колчак, звон разбитого стекла! Где же я?» Последний вопрос Якуба привел Ярослава в совершенное замешательство: «Ведь он не спрашивает, почему я здесь, чего я хочу. Как я это объясню Марии, вот что его интересует, а я для него не существую! »
На память пришли собственные слова, сказанные вчера Марии: «Я действительно был против Якуба…»
Ярослав попытался что-то произнести, но в это время откуда-то издалека послышался голос его отца Алоиса:
— К-как он это объяснит Марии? Н-нечего ей объяснять! Она от те-тебя уже вчера отреклась. — Алоис заикался от злости, его так и распирало от нее.
Якуб напряженно смотрел ему в лицо.
— Отец! — закричал Ярослав, но Алоиса было не остановить:
— По-твоему, я штрейкбрехер! Пусть! Да только дело приняло другой оборот! Теперь Мария не хочет терпеть позора!
В голосе Алоиса желаемое перепуталось с действительностью. Он не был уверен, что вчера это происходило на самом деле (они много болтали на эту тему с паном Гавличеком, да и голова уже была забита всякой всячиной), но сейчас он оказался в цепких и всесильных объятиях лжи.
Якуб прокричал тоном, не терпящим возражений:
— Лжешь!
А из сеней, куда протиснулся уполномоченный домового комитета пан Гавличек, раздался его писк:
— Я свидетель, я слышал это…
Якуб направил дуло своей винтовки в живот пану Беранеку и произнес таким тихим голосом, что у присутствующих мороз пошел по коже:
— Уходите, иначе буду стрелять!
Люди попятились назад, толкаясь выскочили в сенцы, а на улицу выходили уже степенным шагом.
Только Ярослав остался на месте. Теперь дуло винтовки нацелилось на него.
Прошли какие-то доли секунды. Ярославу хотелось, чтобы Якуб нажал на курок.
Якуб закрыл глаза.
Ярослав медленно повернулся, раздумывая, куда ему теперь идти.
Алоис остановился в углу огорода Якуба возле кустов бузины и крикнул:
— Подожди до завтра! Я тебе покажу штрейкбрехера! — И быстро зашагал прочь, почувствовав какой-то страх перед произнесенным им словом «завтра».
В тот миг, когда Вацлав был готов нажать на кнопки пуска ракет, первый пилот чужого истребителя словно почуял на спине холодок и неожиданно бросил самолет влево. В наушниках Вацлава прозвучало одно слово: «Момент!»
Такая команда всегда потрясает летчика, но не успел Вацлав подумать о том, что скоро наступит время, когда он не будет слышать никаких команд, как цель исчезла.
«Отец, Милена, за вас!»
Над землей раздались громовые раскаты. Это Вацлав нажал на кнопки своих пушек. Он понимал, что только эти раскаты символизируют собою мощь и силу.
Почти у самой государственной границы Вацлав повернул свой самолет назад.
ЗАВТРА
В канцелярии командира полка Каркоша офицеры ожидали возвращения Вацлава. Такое довольно необычное совещание сразу же после приземления самолета было устроено по настоянию майора Некуды.
Он потребовал собраться еще на вышке. Когда ему объяснили, что, собственно, происходит, он начал в изумлении озираться по сторонам. Теперь ему было абсолютно ясно, что в этом полку каждый действительно творит то, что ему заблагорассудится. Даже может вмешаться в международные дела.
В комнате находились командир, сдавший дежурство подполковник Баштырш, начальник штаба Марван и майор Некуда. К ним присоединился и майор Винарж.
Вацлав не спешил. Он неторопливо переодевался.
Майор Носек вновь разлегся на своей кровати без подушки и поглядывал то на заступившего на дежурство капитана Шимека, то на Вацлава. Ему показалось, что Вацлав переодевается чересчур медленно, и он усмехнулся:
— Не торопись, старина! Еще не пришло время, чтобы медведь разозлился и шлепнул лапой по лисице-злодейке.
— Это что, цитата?
Носек сел.
— Не знаешь разве, дружище? Это сказал некий Эзоп.
— А кто подразумевается под медведем?
— Ну, допустим, наш старик.
— А когда, по-твоему, придет это время?
— Откуда я знаю? Может, завтра, а может, послезавтра.
Якуб продолжал сидеть в том же положении, в каком был в момент бегства непрошеных гостей, с винтовкой в руках, глядя на то место, где недавно торчал живот пана Беранека, а потом стоял Ярослав.
— Якуб! — позвал его Пепик Шпичка, и они уселись, на этот раз все вместе, на кухне.
— Ну что?
— Ты еще не веришь?
Несколько секунд Якуб сидел как оглушенный, но постепенно пришел в себя, поставил винтовку и со вздохом произнес:
— Верю… не верю!.. Откуда я знаю, что там такое было, и как сейчас обстоят дела, и что будет завтра?!
Шпичка вздохнул. Он боялся за состояние Якуба, зная, что этот старый человек очень переживает за свою дочь Марию.
— Что будем делать, Якуб? — спросил Вондра.
— Сегодня должно состояться заседание комитета. Так ведь? — произнес Якуб, чувствуя, что все становится на свои места.
— Конечно, через полчаса. Интересно: придут ли Бурда и учитель?
— С ума ты сошел!
— Сегодня много не сделаешь!
Наступила тишина. Якуб подумал и снова заговорил:
— Слышал, что кричал Алоис? Подожди до завтра! За себя-то я не боюсь. Но они не будут сидеть сложа руки. Насколько мне известно, сегодня на повестке дня стоял мой вопрос. Так ты этот пункт вычеркни и включи следующий. Члены комитета, я вас спрашиваю: кто готов с нами поехать завтра в Прагу?
Шпичка, Вондра и Шмид с удивлением взглянули на Якуба. Вондра и Шмид не привыкли к выходкам старых людей.
— Почему в Прагу, Якуб, и к кому? — спросил Шпичка.
Якуб улыбнулся.
— К Советам. Побеседовать и узнать, не придет ли опять нам на помощь Закир Измайлов.
На его лице застыла улыбка; в глазах промелькнуло воспоминание о далеком прошлом.
— Почему вы стреляли, товарищ подполковник? — первым задал вопрос майор Некуда, когда Вацлав появился в комнате и уселся в кресло. Майор, видимо, хотел еще раз выдавить слово «почему», но запнулся.
После краткого раздумья Вацлав спокойно ответил:
— Потому что я солдат.
Ответ вывел Некуду из равновесия.
Послышался голос командира Каркоша — такой же серьезный и требовательный тон, как у Некуды, но с оттенком насмешки:
— Почему ты, солдат, не поразил цель?
Вацлав утомленным взглядом посмотрел сначала на одного, потом на другого. Майор Винарж сидел и улыбался.
В разговор снова вступил Некуда:
— Зачем вы стреляли, если тот самолет не проявил никаких враждебных намерений, более того — послушно повернул назад?
Взгляд Вацлава уперся в бегающие глазки майора Некуды.
— Вы правы. Никаких враждебных намерений. Скорее наоборот. Могу вам даже сообщить, что они довольно дружелюбно приветствовали меня.
Некуду передернуло. Ему показалось, что Вацлав хочет поставить его в глупое положение. Но выражение лица Вацлава оставалось серьезным.
— Так скажите, ради бога, почему вы стреляли? Вам известно, как теперь это будет истолковано? Это может послужить причиной серьезных политических осложнений. Майор резко обернулся в сторону командира полка. — А представьте, что было бы, если бы он еще поразил цель!
— Эти политические осложнения я предоставляю распутывать вам, товарищ майор, — сказал Вацлав.
После этих его слов Некуда подскочил в кресле, словно ужаленный:
— Но отвечать будете вы!
Вацлав спокойно поднялся:
— Только завтра, товарищ майор. Сегодня я очень устал. — И, повернувшись к командиру, сказал: — Товарищ полковник, разрешите мне отправиться на отдых после дежурства. А чтобы этот пан не подумал, что я хочу уйти от ответственности, прикажите наложить на меня домашний арест, тогда я завтра наверняка буду в его распоряжении. К тому времени он, вероятно, выяснит, почему я стрелял, — тут он не удержался и улыбнулся, — в наших миролюбивых друзей.
Каркош даже бровью не повел:
— Согласен. Считайте, что я отдал такой приказ. А вас, товарищи, я благодарю за участие. Завтра продолжим.
Они пока еще не знали, что наступил конец. Баштырш, Марван и Винарж продолжали сидеть. Некуда с хмурым видом поднялся. В дверях Вацлав задержался и бросил через плечо:
— Завтра сводите товарища майора в наш музей боевых традиций…
Так окончился день 20 августа 1968 года, вошедший в историю. Больше уже ничего не произошло ни с Якубом Пешеком, ни с его сыном Вацлавом и дочерью Марией, ни со всеми остальными, с теми, что кажутся каплей в море по сравнению с той небольшой ложбинкой на земле, что зовется Чехословакией.
Так закончился день, и куранты на башнях всего мира готовились возвестить о наступлении дня завтрашнего.
Якуб встал, как всегда, с рассветом. В августе солнце уже любит поспать, и в Бржезанах миновало уже два месяца после самого долгого дня. Однако утро по-прежнему казалось летним.
Он натянул свои огородные штаны, манжеты которых были похожи на кору старой акации, надел выцветшую синюю блузу и вышел во двор. Он осмотрел оставшиеся грядки картофеля (бо́льшую часть он выкопал среди лета, когда картошка еще была размером со сливу, а цветом напоминала свежее масло), вытащил две белые редиски, обмыл их и начал есть. Затем Якуб зашел за угол дома, где на двух грядках буйно росла клубника — лакомство для двух сыновей Марии.
Взглянув на ягоды, он слегка улыбнулся. Якуб совершенно успокоился после вчерашних событий; этому особенно помог телефонный разговор с Вацлавом.
Вацлав позвонил в Бржезаны сразу же, как пришел домой. Ванек побежал к Якубу и встретил его буквально в нескольких шагах от почты, когда тот вместе со Шпичкой и Вондрой шел на заседание партийного комитета. Пока возвращались на почту, Ванек успел сообщить, что он вчера уже звонил Вацлаву. Якуб молча улыбнулся: кое-кто в последний момент сворачивает с пути предательства. Якуб окончательно успокоился, когда услышал рассказ сына о дежурстве, особенно его слова о том, что Алоис Машин действительно соврал (Вацлав разговаривал с Марией, и об этом не было сказано ни слова). В заключение они договорились, что Якуб приедет к Вацлаву при первой же возможности.
Якуб заботливо осмотрел ягоды, а потом взглянул на часы. Вчера комитет решил послать Якуба и Шпичку вдвоем в Прагу в качестве делегатов. До встречи со Шпичкой на автобусной остановке было еще более часа. Время есть, чтобы разыскать свой праздничный костюм и галстук.
В тот момент, когда он нагнулся над грядкой с огурцами и молодым салатом, раздались крики и стук в окно. Якуб сразу узнал соседа Рыбаржа, который подобно кукушке выкрикивал:
— Якуб, Якуб, Якуб!
Якуб вернулся к дому и спросил, в чем дело.
Рыбарж стоял одетый в форму железнодорожника. Видимо, он только что возвратился с работы.
— Включай радио, быстрее! Танки! Танки!.. — И он заторопился, чтобы сообщить эту новость дальше.
Якуб остался стоять как вкопанный. Танки? Какие еще танки? Как это понимать? Словно боясь увидеть страшную картину, он медленно, большим усилием воли заставил себя повернуть голову в западную сторону. Танки — это могло означать начало войны! Еще не стих голос Рыбаржа, как в сознании Якуба начала биться мысль: «Это невозможно! Это глупости! Но Рыбарж всем известен как вечно заспанный ворчун, который никогда в своей жизни не говорил больше, чем следовало…»
Само слово «война» звучит так, что ни с чем другим не сопоставишь. Якуб застыл на месте.
Когда быстро перелистываешь иллюстрированную книгу, одна картинка сменяет другую, и ничего не видишь, ничего не прочтешь. Так было и с Якубом. А потом сознание стало яснее. Вспомнились возбужденные лица, злые выкрики: «Вы бросили людей в тюрьмы, вы делали это после Февраля!» Клевета и выпады по радио и телевидению. Совершенно непонятные выступления работников центрального комитета партии. Партия на грани разложения! Лиловый блеск в глазах пана Беранека. Слухи о списках коммунистов, в которых против каждого нарисован уличный фонарь. Слухи о тайных складах оружия. Слухи ли только? А самоубийства честных коммунистов, которых затравили…
Значит, контрреволюция подняла голову и открыто перешла в наступление?
Якубу это было давно известно, но только сейчас он почувствовал чуть ли не каждым нервом, что она не ограничится только разговорами и руганью. Она будет убивать! Почувствовалось ощущение пустоты, о котором старики говорят: «Смерть постучалась».
«Не верю!»
Включая радиоприемник, Якуб вспомнил вчерашние слова Вацлава по телефону: «Нахожусь, отец, под домашним арестом… за то, что выполнил долг воина чехословацкой Народной армии и выполнил требования присяги…»
По радио раздавались звуки государственного гимна, после чего взволнованный женский голос произнес: «Граждане, это последние минуты, когда вы слушаете свободное чехословацкое радио. Русские занимают радио!»
Якуб сначала не понял, но, сообразив, улыбнулся:
— Закир Измайлов пришел вовремя!
Но не торопись, Якуб! Твоя улыбка преждевременна. Правда, не потекут потоки крови, как это было двенадцать лет назад в Венгрии и как это будет еще долго и везде, где на плесени вырастают ядовитые грибы. В Чехословакии не будет сосед стрелять в соседа, и с этого момента Чехословакия не станет, подобно коварному шарику на рулетном столе, метаться из стороны в сторону, чтобы азартные игроки могли делать ставку и гадать, куда он прибьется.
Всего этого не будет. Однако только сейчас начинается борьба за человека, за его будущее и за дело социализма, и в течение многих еще недель вокруг тебя, Якуб, будут происходить удивительные вещи.
Ярослав несколько дней будет сидеть дома, как барсук, посинев от страха. В такой же степени он будет бояться «защитников» радио, которые устроят в скверике у входа баррикаду в надежде посмертно вписать свои имена в анналы истории. «Героический» майор Некуда в течение двух недель будет отсутствовать на месте своей службы, а потом станет оправдываться тем, что не было связи. Имена майора Винаржа и полковника Каркоша, как и многие другие, будут написаны на углах с призывом ликвидировать их как «коллаборационистов». Ванек поглупеет еще более и будет кричать на всех перекрестках, что он уничтожил список подписчиков на газету «Литерарни листы», чтобы их не могли схватить (а в списке значилось всего два человека: он сам и учитель Ержабек).
Будут происходить и другие удивительные события, и каждый человек начнет в те дни новую жизнь, чтобы из этих отдельных волокон в конце концов снова сложилась судьба всего народа.
А как ты сам, Якуб?
В эту минуту ты уже знаешь, что вместо Праги ты поедешь тем же автобусом в областной центр, а потом заскочишь к Вацлаву. Ему ты отвезешь свою форель, которую давно пора положить на сковородку. Наверное, ты представляешь, что в автобусе будет необычно тихо и люди боязливо станут выглядывать в окна.
Но ты еще не знаешь, что когда выйдешь в городе из автобуса и пойдешь пешком на вокзал, то увидишь советский танк. Ты еще не знаешь, что, подойдя к танку, заведешь на своем сибирском диалекте разговор с молодым танкистом. Вначале тот удивится и будет страшно вежливым. А когда поймет, зачем ты возле него остановился, то рассмеется, потому что ты назовешь его Закиром Измайловым, а его зовут Сашей Буздогором.
И ты, конечно, еще не знаешь, что как раз в тот момент, когда танкист рассмеется, мимо вас на огромной скорости промчится легковая машина, раздастся выстрел и пуля, отскочив от брони танка, вопьется тебе в плечо.
Вы успеете лишь заметить, что это была черная машина со светло-красным верхом, однако никогда не узнаете, что в ней сидел пьяный Вилем Штембера, всегда стремившийся пожить за чужой счет.
И в те дни будет немало людей, которые поймут, что таинственная спираль истории опять дала о себе знать, демонстрируя неумолимость своего движения перед теми, кто хотел бы повернуть ее вспять.
Примечания
1
«Шкодовка» («Шкода») — комплекс заводов, расположенных в городе Пльзень. — Прим. ред.
(обратно)2
Действия контрреволюционных антисоциалистических сил в Чехословакии в 1968—1969 гг., направленные на отход страны от социалистического пути развития, правые демагогически называли процессом возрождения. — Прим. ред.
(обратно)3
Мариаш — карточная игра. — Прим. ред.
(обратно)4
«2000 слов» — контрреволюционная платформа антисоциалистических сил, служившая прямым руководством к насильственным действиям и разрушению социалистического строя в Чехословакии. — Прим. ред.
(обратно)5
МБ — марка автомобиля, выпускаемого в городе Млада-Болеслав. — Прим. ред.
(обратно)6
Юро Яношик (1688—1713) — словацкий народный герой, легендарный защитник бедных. Казнен панами в Липтовски-Микулаше. — Прим. ред.
(обратно)7
Градчаны — Пражский кремль. — Прим. ред.
(обратно)








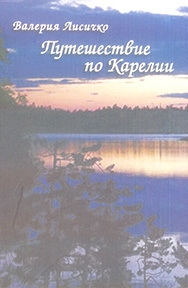
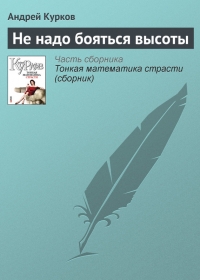

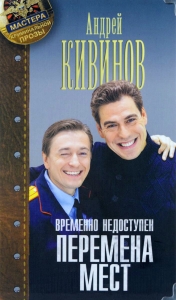
Комментарии к книге «Палец на спуске», Збинек Кованда
Всего 0 комментариев