Альберто Моравиа Аморальные рассказы
Кармен
«Это самое»
Дорогая моя Нора, знаешь, кого я недавно встретила? Диану. Помнишь ее? Она была вместе с нами в колледже французского женского монастыря. Та Диана, которая росла без матери, скончавшейся при родах, единственная дочь неотесанной деревенщины, хозяина земель в Маремме[1]. Мы всегда о ней говорили, что она так холодна, так бела, так чиста и здорова, с ее белокурыми волосами, голубыми глазами и фигурой фарфоровой статуэтки, что хоть и могла бы в будущем нарожать целый выводок ребятишек, все равно осталась бы фригидной и бесчувственной женщиной, из тех, что никогда не могут познать любовь.
Интересно, что воспоминания о Диане относятся к самому началу наших с тобой отношений, а они, в свою очередь, связаны с поэзией знаменитого Бодлера, которую тогда, в приюте, мы вместе открыли, но сегодня, как и прежде, расходимся в ее трактовке. Стихи «Проклятые женщины. Ипполита и Дельфина». Помнишь?
Вместо того чтобы читать гуманные стихи Виктора Гюго, которые нам рекомендовали добрые монахини, мы, прячась, читали «Цветы зла», с увлечением и тем страстным любопытством, которое свойственно девочкам-подросткам (нам обеим было по тринадцать). Известно, что подростки всегда способны к поиску чего-то такого, неведомого: пойди туда, не знаю, куда, но в конце концов куда-нибудь, да приходят. Мы с тобой уже тогда были подругами, очень близкими, может быть, больше чем подругами; хотя, конечно, еще не возлюбленными. И почти неизбежно для нас из множества стихотворений Бодлера (есть нечто фатальное и в чтении) выбрали и остановились на «Проклятых женщинах». Помнишь?
Честно говоря, открыла эти стихи тогда я, и, читая тебе вслух, объясняла их значение, особо задерживаясь на, так сказать, «особенных» местах. Их оказалось два. Первое в строфе: «Мой поцелуй летуч и легок, шаловливый; / Он, словно мотылек, порхал бы да порхал, / А если бы не я, любовник похотливый / В неистовстве бы всю тебя перепахал. / И по тебе могла проехать колесница / Жестоких алчных ласк подковами коней…» И второе в строфе: «Будь проклят навсегда беспомощный мечтатель, / Который любящих впервые укорил / И в жалкой слепоте, несносный созерцатель, / О добродетели в любви заговорил»[2]. Как видишь, в первой строфе превалирует гомосексуальная любовь, такая деликатная и чувствительная, по сравнению с гетеросексуальной, такой брутальной и, вместе с тем, — такой обыкновенной. Во второй — земля освобождается от нравственных сомнений, при которых не известно, как поступать с любовью. Должна сказать, что, объясняя тебе эти стихи, я сама не до конца понимала смысл обеих строф, но все-таки достаточно, чтобы выделить их среди им подобных; они были поддержкой мне в моей страсти к тебе. Сказать по правде, сейчас я вполне осознала эту страсть, но тогда она меня смущала.
На самом деле, сначала моя страсть была направлена на Диану — на нее, на первую, я обратила внимание. Как, может быть, ты помнишь, каждый раз, накануне экзаменов, проходивших рано утром, все ученицы, обычно приходившие в интернат только на учебное время, оставались на ночь в приюте. Диана была одной из них, и в дни, когда она ночевала в приюте, мне хотелось, чтобы ее кровать стояла рядом с моей. Нет, в собственных чувствах, требовавших своего, — и я им подчинялась, — я больше не сомневалась, хотя, клянусь тебе, такое было со мной впервые. Однажды ночью, после долгого и тоскливого ожидания, я встала с постели, одним прыжком достигла кровати Дианы, подняла одеяло, забралась под него и прижалась к ней. А она, не сопротивляясь, расслабленно обняла меня, как змея, неторопливо обвивающая своими кольцами ветви дерева. Конечно, Диана проснулась. Но то ли по своему вялому и пассивному характеру, то ли, возможно, немного из любопытства, она притворилась, будто продолжает спать, предоставив мне делать все, что я хочу.
И скажу тебе правду, как только я осознала, что Диана согласна, я почувствовала сильнейшее влечение, как голодный, что не может насытиться: мне хотелось до смерти ее зацеловать и заласкать. Но почти сразу я установила некий порядок и начала легко прикасаться губами ко всему ее безответному телу (она неподвижно лежала на спине), сверху донизу. От рта, которого я едва касалась, — на самом деле, зачем мне лгать? — я шла к «другому рту», — к груди, которую я обнажила и обцеловала каждый миллиметр; от груди к животу, где мой язык, как влюбленная улитка, оставлял длинный влажный след; от живота вниз-вниз, вплоть до последней и главной цели моей «прогулки». Я взялась обеими руками за ее колени и широко развела ноги. Диана продолжала делать вид, что спит, а я с жадностью набросилась на родник моей любви и ни за что не остановилась бы, если бы бедра ее мускулистого молодого тела конвульсивно не сжались, как капкан, на моих щеках.
Однако тогда мою храбрость ограничивала неопытность. Сейчас-то уж я, после оргазма моей любовницы, прошлась бы и обратно, от полуоткрытой розовой раковины к животу, от живота к груди, от груди ко рту, и, после такого неистовства, отдалась бы ласкам и нежным объятьям. Но тогда я была неопытна, не умела любить и, кроме того, боялась бдительных монахинь или какой-нибудь бодрствующей ученицы. Минуя ноги Дианы, я выползла из-под ее одеяла и в полной темноте вернулась к себе в постель. Тяжело дыша и ощущая во рту вкус чего-то сладкого, я блаженствовала.
На следующий день меня ждал сюрприз, что я могла бы и предвидеть, если бы учла настойчивость, с какой первая в моей жизни любовница притворялась спящей. Увидев меня, Диана повела себя как обычно и весь день сохраняла не враждебный, не взволнованный, а абсолютно безразличный вид. Пришла ночь; мы снова укладывались, одна около другой; часом позже я покинула свое ложе и залезла в постель Дианы. Но на этот раз мощная спортивная девица бодрствовала. Как только я легла под ее одеяло, она сильным толчком выпихнула меня, и я оказалась на полу.
В эту минуту меня озарило. Твоя кровать тоже стояла рядом с кроватью Дианы, но с другой стороны. Почему-то я решила, что прошлой ночью ты не могла не видеть, а тем более не слышать, суматоху моей шумной любви, и теперь ждешь меня. Таким образом, я точно знала, к кому мне идти, и перебралась к тебе, как на условленное свидание. Как я и предвидела, ты меня не оттолкнула. Так началась наша любовь.
Вернемся к Бодлеру. Мы стали любовницами, но с некоторыми, так сказать, ограничениями, к которым ты, всегда немного колеблющаяся и испуганная, меня призывала. Ты меня просила об условии, и я, чтобы сделать тебе приятное, приняла его — мы должны были предаваться ночным утехам только в двух местах: при редких ночевках в приюте или в моем доме, когда твоя мать, светская красивая вдова, уезжая из Рима на уик-энд со своим любовником, разрешала тебе ночевать у меня. Вне этих мест нашим отношениям надлежало оставаться целомудренными. Условие я приняла, но кое-что, для тебя очень важное, тогда ты мне не объяснила. Со временем я поняла: тебя преследовал призрак морали, о которой говорил Бодлер, и для того чтобы снять с себя чувство вины, ты хотела, чтобы между нами все происходило, — и в моем доме, и в приюте, — как бы в одном и том же сне, который мы обе увидели одновременно.
Но все равно ты так никогда и не привыкла к нашим отношениям, никогда всем своим существом не приняла такой образ жизни как естественный и постоянный. И здесь я бы хотела процитировать еще раз Бодлера, который в другой строфе дает точное описание твоего поведения по отношению ко мне. «И слезы крупные в глазах, и полукружья / Бровей, приверженных заманчивой мечте, / И руки, тщетное, ненужное оружье, / Все шло застенчивой и нежной красоте. / Дельфина между тем на стыд ее девичий / Смотрела с торжеством, в нее вперив зрачки, / Как хищник бережно любуется добычей, / Которую его пометили клыки».
По-твоему, я была Дельфиной, тираном, «на стыд ее девичий / Смотрела с торжеством», а ты — Ипполитой, бедным созданием, потрясенным моим желанием, «добычей», помеченной моими «клыками». Эта причудливая идея вызывала в тебе непреодолимый страх, прекрасно описанный Бодлером: «Вот-вот я упаду под натиском страшилищ / И черной нежити, внушающей мне жуть; / Куда б ни кинулась я в поисках святилищ, /Кровавый горизонт мне преграждает путь». Это все, разумеется, поэтом сказано в романтической манере, как было принято в ту эпоху, но довольно хорошо отражало твое стремление к так называемой «норме», неотступно преследовавшее тебя все два года нашей любви.
Любопытно, что это стремление приняло в тебе форму нетерпимого отношения к собственной девственности. Я тогда тоже была девственницей, впрочем, слава богу, остаюсь ею и до сих пор, и никогда не испытывала никакой нетерпимости по отношению к этому естественному состоянию, совершенно не мешающему мне быть личностью, мало того — полноценной женщиной. Ты же, наоборот, помнишь? — всегда была убеждена, что что-то тебе мешает жить полно и свободно; и это что-то ты связывала со своей девственностью, от которой, как ты говорила, тебе не освободиться никогда, если наши отношения будут продолжаться. Кстати, именно поэтому я вспомнила обидевшую меня тогда твою фразу: «Вот состарюсь рядом с тобой и стану печальной, как старая дева, живущая только с женщинами».
Однажды Диана, с которой мы остались подругами и по окончании колледжа, пригласила нас с тобой провести уик-энд на ее вилле в Маремме. Мы поездом доехали до Гроссето[3], Диана и ее отец ждали нас с машиной на вокзале. Высокий, тучный, бородатый отец Дианы своим видом напоминал табунщика; он был в красном пальто-казентино[4], бархатных брюках и яловых сапогах. Диана же была одета чуть более по-городскому: на ней был белый свитер и зеленые брюки для верховой езды, заправленные в черные сапоги. На дорогу, вверх и вниз по голым холмам, ушел примерно час; был ветреный зимний день, и солнце грело не слишком. В конце концов по ответвлению от главной дороги мы поднялись на вершину холма к усадьбе, к богатой, как и ожидали, вилле.
Вокруг усадьбы был не сад, а площадка, сплошь утоптанная, как загон для тренировки лошадей. Самих лошадей, которые своими копытами привели в такое состояние эту территорию и сейчас паслись на лугу, ты заметила сразу. Как только Диана и ее отец появились, лошади со склона поднялись, подошли и окружили нас, как домашние собаки.
Диана и ее отец, приласкав и погладив лошадей, попросили нас подождать их в доме — им надо было съездить к арендаторам. И когда они, оседлав лошадей, уехали, мы пошли посидеть в гостиную у огня большого камина.
Помнишь? Ты тогда, после долгого молчания, мне сказала:
— Видела Диану? Свежая, бело-розовая, чистая, настоящий образец физического и нравственного здоровья.
Мне вдруг стало обидно за этот, явно обращенный ко мне упрек, и я тебя спросила:
— Что ты хочешь этим сказать? Я тебе мешаю быть такой же физически и нравственно здоровой, как Диана?
А ты ответила:
— Нет, я сказала не это. А только то, что мне хотелось бы быть такой, как она, и что в каком-то смысле я ей завидую.
Довольно скоро Диана с отцом вернулись. За обедом мы ели бифштексы по-флорентийски, поджаренные на каминной решетке. После кофе отец Дианы ушел, а мы поднялись в спальню на третьем этаже отдохнуть. Лежа втроем на огромной супружеской кровати, мы болтали. Не буду задерживаться на пересказе разговоров на общие темы. Однако хорошо помню, что в какой-то момент ты начала говорить о том, что тебя в это время занимало больше всего: о девственности. Тут выяснилось нечто необычное: спокойным и ясным голосом Диана объявила, что она с этой проблемой справилась, и уже несколько месяцев как потеряла девственность. Ты со скрытой завистью спросила ее, как она это сделала, кто был тот, кто помог ей? Она наивно ответила: «Кто? Конь». Удивившись, ты воскликнула: «Но извини, конь — не слишком ли большой?» Диана рассмеялась и объяснила, что конь — это лишь посредник в деле лишения ее девственности. В действительности же, было так: однажды во время бешеной скачки на лошади, в момент одного из резких подскоков, о происшедшем ей «сообщил» острый и болезненный укол в промежности. По возвращении домой, она нашла на трусах пятна крови. В общем, хотя и не сразу, она поняла, что лишилась девственности. И теперь в седле она может шире расставлять ноги.
После этой поездки в Маремму, в наших отношениях все стало очень быстро меняться. Возникла некая неловкость; ты стала часто встречаться с адвокатом с севера, красивым мужчиной за сорок, и я тебя больше не видела — ты старательно меня избегала. К этому времени колледж мы уже закончили, и твоя мать, расставшись с любовником, проводила выходные дни дома, вместе с тобой. Прошел год, и ты объявила мне о предстоящем замужестве. Три года спустя, всего в двадцатилетием возрасте, ты с мужем рассталась, из-за «несходства характеров», как мне сказала твоя мать по телефону. Ты переехала к матери; я возвратилась в твою жизнь, и мы вернулись к прежним утехам, так же скрытно и с той же максимальной осторожностью. Наконец, после двухлетней тайной любви, мы сбросили маски и стали открыто жить вместе, в том доме, в котором счастливо живем до сих пор.
Теперь ты хотела бы знать, почему я примешала к нашей истории Бодлера и Диану? Сейчас я тебе скажу: в основном потому, что ты по-прежнему отождествляешь себя с Ипполитой, как с абсолютно подневольной рабыней, и не перестаешь видеть во мне Дельфину, то есть жестокого тирана, и продолжаешь видеть в нас, может быть, отдавая дань своему мазохизму, двух проклятых женщин. На самом деле все не так. Мы нисколько не прокляты; мы — две смелые женщины, спасшиеся от вечного проклятия. Ты спросишь: от какого проклятия? И я отвечу: от рабства перед фаллосом, то есть мы спасены от ложной «нормы», которая, как теперь, после твоего злополучного замужества, ты хорошо знаешь, может быть только плодом воображения.
Вернемся к Диане. Мы не виделись с ней два года. И вот мне представился случай столкнуться с такой парой женщин, которым больше всего подходит бодлеровский эпитет «проклятые». Ты, должно быть, знаешь, что Диана уже долгое время живет не одна: у нее связь, по-видимому, похожая на нашу, с некоей Маргаритой, которую я никогда не видела, но с которой ты, как мне кажется, знакома, и однажды, не помню по какому случаю, говоря мне о ней, назвала ее «ужасной». Ты скажешь: хорошо, она — ужасная женщина, но ты сама говоришь, что ее связь с Дианой, по-видимому похожа на нашу; причем тут проклятие? И я тебе отвечу: погоди, я ведь сказала — «по-видимому, похожа на нашу»; в действительности же, я поняла, что Диана и ее подруга остались более чем верными членопоклонницами. Но не буду спешить с рассказом. Тебе достаточно знать, что их порабощение силами слепой и жестокой мужской агрессии достигло уже невероятных размеров, той темной области, в которой нет ничего человеческого.
Теперь я тебе объясню, как я это открыла. А было вот что. Однажды, после твоего отъезда в Соединенные Штаты, я получила письмо со штампом местечка, расположенного неподалеку от Рима. Сначала я посмотрела в конец письма и увидела подпись Дианы, только потом прочла его. Оно было коротким: «Дорогая, бесценная Людовика, ты всегда была ко мне добра. И теперь, попав в трудное положение, я тут же вспомнила о тебе, о такой порядочной и умной. Да, только ты одна можешь понять меня, только ты одна можешь спасти меня. Я тебя прошу, умоляю, помоги. Без тебя, я чувствую, мне не справиться, и я буду проклята навеки. Живу я в деревне, недалеко от Рима. Приезжай ко мне, хотя бы под предлогом, что мы однокашницы, но сейчас же. Значит, до скорого. Твоя Диана, которая все эти годы никогда тебя не забывала».
Должна тебе сказать, что это письмо у меня вызвало странное ощущение. В моей памяти постоянно живут стихи Бодлера, подвигнувшие нас на долгие разговоры о проклятии. И вот теперь Диана в своем письме употребила это слово «проклята» по отношению к себе, усилив его безнадежным «навеки». Слово такое сильное, много сильнее, чем в стихах Бодлера, написанных в другую эпоху; оно не просто сильное, но и не соразмеряется с любовными отношениями, будь они даже несчастливыми. Конечно, я могла бы сказать также, что Диана написала «проклята» потому, что не решается прекратить связи с «ужасной» Маргаритой. Но в этом слове есть что-то большее, чем досада от невозможности избежать невыносимое любовное рабство; что-то темное и малопонятное.
В общем, я тут же позвонила Диане в деревню. Послушалась ее совета, сделала вид, будто хочу организовать так называемую «встречу друзей после долгой разлуки», и незамедлительно получила приглашение к завтрашнему обеду. Следующим утром я села в машину и отправилась на виллу Дианы.
Приехала я немного раньше назначенного времени. Через распахнутые ворота проследовала по лавровой аллее и остановилась у красивой двухэтажной виллы, на открытой площадке ухоженного итальянского сада с зелеными клумбами и посыпанными гравием дорожками. Не успела я нажать на звонок, как дверь распахнулась, и на пороге объявилась Диана, будто она сидела в вестибюле, как в засаде, дожидаясь моего приезда. Она выглядела несколько оригинально: на ней был красный купальный костюм, точнее — из-за жары — лишь красные трусики, и сапоги, того же цвета.
Скажу тебе правду, присмотревшись, я невольно вздрогнула от удивления: так она изменилась. Глядя на нее, я вспомнила ее прежний облик и поразилась тому, какие в ней произошли перемены. Куда-то исчезла особая округлость ее форм: вместо большой груди — пара едва заметных сосков, вместо круглого и выпуклого живота — втянутая впадина с двумя выступающими тазовыми костями, ноги, прежде мускулистые, выглядели сухими палками.
Но больше всего изменилось лицо: бледное и изнуренное, с глубоко запавшими, огромными от общей худобы, глазами, под которыми видны явные признаки бурной жизни; рот, когда-то естественно красный, теперь неудачно увеличен помадой цвета герани. Весь ее облик говорил об угасании. Я бы сказала: она выглядела не столько худой, сколько «убывающей», как сгорающая свеча. Диана весело сказала: «Людовика, наконец-то! С рассвета жду тебя!» А теперь я уже и голоса ее не узнала — помнила его звонким и серебристым, а стал он хриплым и низким. Она закашлялась, и я увидела в ее длинных пальцах зажженную сигарету.
Мы обнялись. После чего каким-то шальным тоном, который никак не совпадал с безнадежным содержанием и срочностью ее письма, она сказала:
— Маргарита уехала, вот-вот вернется. А пока пойдем, я покажу тебе дом, и начнем мы с конюшни. Там великолепные лошади. Тебе ведь нравятся лошади, да?
Не ожидая ответа, она прошла впереди меня через сад, с одной аллеи на другую, к длинному и низкому зданию, которого по приезде я не заметила. По линии окон особой формы я догадалась, что это и есть конюшня. Диана шла медленно, опустив голову и время от времени поднося сигарету ко рту, будто задумалась о чем-то весьма важном. Наконец она сказала:
— Здесь шесть лошадей и один пони. Лошади чистых кровей, ничего общего с теми, что у моего отца. А пони — просто чудо.
Мы приблизились к дверям конюшни и вошли. Я увидела длинное узкое прямоугольное помещение с пятью стойлами с каждой стороны. В шести стойлах держали лошадей, которыми гордилась Диана: две белые, одна пегая и три гнедых. И хоть я мало что понимаю в лошадях, но заметила сразу, что они очень красивые. Статные и лоснящиеся, они стояли в чистых, покрытых блестящей майоликой стойлах, и производили впечатление роскошных. Останавливаясь перед каждой из лошадей, Диана называла имя, отмечала особые качества и гладила; но все это как-то рассеянно. Затем она подошла к пони, которого из-за его малого роста я не сразу увидела, и сказала четко и легко: «Этот — мой самый любимый. Подойди, посмотри». Она вошла в стойло, и я с любопытством последовала за ней.
Светло-коричневый, как лань, с белыми хвостом и гривой, пони стоял спокойно, будто размышляя над чем-то и занавесившись от чужих взглядов. Диана принялась расхваливать красоту пони и, не замолкая ни на минуту, стала гладить его. У меня появилось странное ощущение, будто Диана говорит просто так, скорее для того, чтобы, слушая ее, я смотрела на пони, потому что это было важнее слов. Вполне естественно, что мой взгляд остановился на ее длинной и белой руке с тонкими пальцами и пунцовыми ногтями, которой она поглаживала вниз-вверх подрагивающий бок пони. Таким образом, от меня не скрылось, что с каждым поглаживанием она опускала руку все ниже и ниже, к его животу. Тем временем, с какой-то странной поспешностью, почти истерично, она продолжала говорить; но я не слушала ее, да уже и не очень-то слышала. Наоборот, будто внезапно оглушенная, я смотрела на ее руку, которая сначала медленно и неуверенно, а потом все более оживляясь, с непонятным мне намерением, теперь уже подбиралась очень близко к глубокому, прикрытому каштановой шерстью, паху пони. Еще два-три поглаживания — и ее рука почти механически резко сместилась вниз, откровенно прикоснулась к солопу и, после мгновенной нерешительности, обхватила его пальцами.
В эту минуту, будто освобождаясь от временной глухоты, я вдруг услышала:
— Он — мой самый любимый. Не буду от тебя скрывать, что мне нужно еще кое-что тебе сказать, но сейчас не знаю как. Ему, скажем так, отдаю предпочтение, потому что именно с ним происходит «это». И для «этого» я здесь. Из-за «этого» я и написала тебе.
Она еще ближе придвинулась к пони. И я не сразу поняла, что она намерена делать, но затем довольно отчетливо различила: ее рука была подведена под живот пони и двигалась вверх-вниз. И мне стало ясно, что Диана стимулирует пони, хоть в это трудно поверить. А между тем, она, не переставая, говорила, будто своим голосом аккомпанировала ритму движений.
— То, что я называю «этим», не столько о нем, сколько о том, что Маргарита и я делаем с ним. О пони я могу сказать, как говорят некоторые женщины: «он — мой парень, мой мужчина». К тому же Маргарита не устает мне повторять, что нет никакой, даже незначительной разницы между ним и мужчиной, совсем никакой. Ну-да, его голова, тело, ноги — другие, отличаются от мужских; но там у него устроено точно так же, как у мужчины, разве что размер другой, много больший, что, как говорит Маргарита, не является дефектом, напротив, в некоторых случаях ценнее. Не стыдись смотреть на него; скажи мне — разве это не настоящая красота, скажи, правда ведь он красив?
Внезапно пони встал на дыбы и протяжно заржал. Диана была к этому готова и стала ласково поглаживать и, приговаривая, успокаивать его, а я вышла из стойла. Должно быть, выражение моего лица минуту назад было достаточно красноречиво, я вдруг услышала, как Диана, прервав поток слов и обращаясь к пони, тихо пробормотала:
— Прочь, не возбуждайся, свинья ты этакая.
А потом, совсем другим, каким-то умоляющим голосом она позвала меня: «Людовика!»
Я уже уходила, но, пораженная ее тоном, остановилась и услышала:
— Людовика, я тебе написала, потому что попала в западню, именно в настоящую отвратительную западню, из которой только ты можешь меня вытащить.
— Сделаю все, что смогу, — растрогавшись, промямлила я в ответ.
— Нет, Людовика, не то что ты сможешь вообще, а вполне определенное: вытащи меня отсюда, и сегодня же.
— Если хочешь, можешь уехать со мной.
— Но, Людовика, тебе придется быть настойчивой, потому что я — подлая, трусливая, и в последний момент могу повернуть назад.
— Хорошо, буду настойчивой, — слегка заскучав, ответила я.
— Пообедаем, потом я попрощаюсь с Маргаритой, и ты меня увезешь, — продолжила она, будто уговаривая саму себя.
Я промолчала и первой вышла из конюшни. Диана догнала меня в саду, крепко схватила за руку и опять заговорила. Но я не слушала. Помнила только то невероятное и, тем не менее, логичное ее утверждение, по которому «пони был ее мужчиной». Многие женщины порабощены мужским членом, а в случае Дианы я обнаружила то же самое в карикатурном виде — как чудовищное и, вместе с тем, пародийное подтверждение так называемой «нормы», к которой ты когда-то стремилась. Выходит, что Диана и ее подруга соединились уже не по любви, как мы с тобой, а для поклонения вечному фаллосу, символу разрушения и рабства, явленному им в образе пони.
Потом я вспомнила нашу полемику по поводу поэзии Бодлера и сама себе сказала, что Диана и Маргарита — те самые «проклятые женщины» и есть, о которых говорит поэт, а не мы с тобой, как ты упорно полагала в минуты сомнений и плохого настроения. Вспомнив завершение стихов: «Вы, проклятые, вы, бездомные, дрожите / От человеческой безжалостной молвы, / В пустыню мрачную волчицами бежите / От бесконечности, но бесконечность — вы!» — я окончательно уверилась в том, что это относится не к нам с тобой, никакие мы не «бесконечность» и не жертвы, а напротив, к этой несчастной Диане и ее «ужасной» Маргарите. На самом деле, они — жертвы самих себя, потому что не смогли противостоять мужскому началу, и, более всего, потому, что делали вид, что любят друг друга, чтобы глубже спрятать свое извращение. Но таким образом этой презренной комедией они осквернили чистую и нежную любовь, которая могла бы сделать их счастливыми.
Тем временем Диана сказала:
— Поеду и буду жить с тобой какое-то время. Маргарита подумает, что мы любим друг друга и оставит меня в покое.
— Нет, не со мной, не о чем даже говорить. И потом, убери-ка ты свою руку с моей, — почти взбесившись, ответила я.
— Почему все так жестоки со мной? Даже ты, — пожаловалась Диана.
— Не могу забыть, что совсем недавно ты этой самой рукой делала «это». Но как ты могла?
— Маргарита меня заставила. Однажды она даже шантажировала меня.
— Как шантажировала?
— Или я буду делать «это», или мы расстанемся.
— И что же? Это ведь и был подходящий момент, чтобы уйти.
— Тогда мне казалось невозможным оставить ее. Я ее любила и думала, что это так — каприз, и будет всего один раз.
— А где Маргарита?
— Да вон она, там.
Я подняла глаза и только тогда увидела Маргариту, вспомнила, как ты ее назвала «ужасной» и стала всматриваться, будто ища подтверждения твоего мнения. Да, Маргарита действительно была ужасна. Она стояла под портиком виллы. Высокая, дородная, в клетчатой рубашке, в белых тенисных брюках с большой пряжкой на ремне и черных сапогах. Не знаю почему — может быть, вызывающей позой, — она мне напомнила отца Дианы, каким я его увидела в тот раз в деревне. Я рассматривала ее лицо. Под копной темных и курчавых волос необычно узкий лоб надвинут, как шлем, на два маленьких, глубоко запавших, пронзительных глаза. Маленький курносый нос и тонкие, но выпяченные губы — все это напоминало морду большой обезьяны. В общем, гигантша, атлетка, чемпионка по женскому рестлингу, какими их показывают по телевизору: схватит соперницу за волосы, ударит в лицо, опрокинет и танцует на ее животе.
Когда мы подошли, она приветствовала меня так сердечно, что мне это показалось притворным и неискренним:
— Ты — Людовика, правда? Добро пожаловать в наш дом, чувствую, что повеселимся, как подруги. Я сразу об этом подумала, едва тебя увидела; добро пожаловать, добро пожаловать.
Да и голос ее выдавал: он был похож на голос человека, внешне приветливого, но где-то в глубине души холодного и властного.
Естественно, мы обнялись, и я с изумлением отметила, что Маргарита попыталась гостеприимное объятие превратить в любовный поцелуй: ее выпяченные влажные губы упорно переползали от моей щеки ко рту. Насколько было возможно, я отворачивала лицо, но она крепко сжимала меня в своих мощных руках, таким образом я не смогла избежать того, чтобы кончик ее языка не коснулся уголка моего рта.
Бесстыжая и довольная, она отстранила меня и сказала:
— Можно узнать, где вы были? В конюшне, конечно! Диана тебе показывала своего любимца, этого белого пони, да? Красивый, да? Но входите же, все готово, все готово!
Мы вошли в дом. Вот мы и в гостиной, устроенной якобы по-деревенски: черные балки на потолке, стены побелены, камин облицован, мебель массивная и темная, но современная. Стол, один из тех длинных и узких, которые называют «трапезными», уже сервирован на три персоны. Словом, общую картину ты представляешь. Не буду рассказывать о наших разговорах за столом. Говорила, в основном, одна Маргарита, и, как бы исключая Диану из беседы, обращалась только ко мне. О чем она говорила? Да как сказать? — так, в общем, ни о чем, о вещах малозначительных. Но иногда, улавливая момент, она давала мне понять о чувстве — в самом деле ошеломившем меня из-за неожиданности и непредвиденности, — которое несколькими минутами раньше, казалось, уже начала питать ко мне. Она пристально смотрела на меня своими маленькими запавшими глазами, сверкающими и как будто воспалившимися, похожими на глаза неизвестного мне похотливого животного, а под столом ее ножищи зажали мою ногу в тиски. Она уже дошла до того, что протянула свою большую руку, и, правда, с извинениями, взялась за амулет, что я ношу на шее, успев заодно погладить мою грудь: «Как красива наша Людовика, не правда ли, Диана?»
Диана не ответила; ее большой рот скривился в гримасу печального недоумения; она отвела от меня глаза и повернулась к камину.
Тогда Маргарита, внезапно озверев, спросила ее:
— Скажи что-нибудь, я ведь обращаюсь к тебе, почему ты не отвечаешь?
— Мне нечего сказать.
— Ну-ка, тварь, скажи и ты, что Людовика красивая!
Диана посмотрела на меня и машинально повторила:
— Да, Людовика красивая.
Во время этой неловкой сцены я старалась высвободить свою ногу из ножищ Маргариты, но мне это не удавалось: нога будто попала в капкан; в ту самую «отвратительную» западню, о которой говорила в конюшне Диана.
Обед был вкусным: сырокопченый окорок с дыней, бифштексы, приготовленные на углях, и десерт. После десерта Маргарита сделала то, что обычно делает тамада в конце банкета: она трижды постучала вилкой по столу. Мы с Дианой с удивлением на нее посмотрели. Тогда она сказала:
— У меня есть важное сообщение. Объявляю теперь же, в присутствии Людовики, чтобы она могла подтвердить, что я говорю серьезно. Значит так, я объявила о продаже дома, и это вступает в силу, начиная с сегодняшнего дня.
Я смотрела не на Маргариту, а на Диану, для которой, очевидно, это заявление и было сделано. Она, еще больше скривив рот, спросила:
— Что значит: объявила о продаже дома?
— Поручила агентству, и в завтрашней римской газете объявление будет напечатано. Продам всю собственность, включая земли вокруг дома. А лошадей — нет, не продам.
— Перевезешь их в другой дом? — как-то автоматически спросила Диана.
Маргарита немного помолчала, как бы подчеркивая особую важность своего сообщения, а потом объяснила:
— Моим новым домом будет квартира в Милане. Но, с одной стороны, не так уж она велика, чтобы можно было в ней разместить семь лошадей. С другой, я их очень люблю, и мне будет неприятно думать о том, что они перейдут в чужие руки. Следовало бы отпустить их на волю, но, к сожалению, это невозможно. Значит, я их убью. И вообще, они — моя собственность, что захочу, то с ними и сделаю.
— Убьешь? Каким способом? — спросила Диана.
— Самым гуманным — застрелю.
Воцарилось долгое молчание. Во время этой паузы, скажу я тебе, моя дорогая, мне пришло в голову по поводу заявления Маргариты вот что. Я поняла, что оно фальшиво и беспочвенно, то есть в нем содержалась всего лишь некая игра между Маргаритой и Дианой. У Маргариты не было ни малейшего намерения продавать дом и, тем более, убивать лошадей; да и Диана не верила, что ее подруга может сделать это всерьез. Но Маргарите, по какой-то ей самой известной причине, нужно было угрожать Диане, а Диане, по той же самой причине, нужно было показывать, что она верит в эту угрозу. Поэтому я не очень удивилась, когда Маргарита продолжила так:
— Вчера утром Диана мне сообщила, что намеревается вернуться к своему отцу. И поэтому я решила продать дом и убить лошадей. Но если Диана изменит свое намерение, вполне возможно, что я ничего этого делать не буду.
Последняя реплика была явным предложением Диане поразмыслить. Должна признаться, что я взглянула на Диану с некоторым беспокойством. Несмотря на то, что мне вроде бы было ясно, как я уже говорила, что это только словесная баталия, все же я надеялась на то, что Диана в конце концов найдет в себе силы освободиться от Маргариты. Увы, я была разочарована: моя надежда не оправдалась — Диана опустила глаза и произнесла:
— Но я совсем не хочу, чтобы лошади погибли.
— Ах не хочешь! Не хочешь и все равно решила уйти; значит, хочешь! — казалось, Маргарита забавляется, издеваясь.
Не знаю почему, скорее от изумления, но мне захотелось вступить в их игру:
— Извини меня, Маргарита, но это не совсем точно: все зависит не от Дианы, а от тебя. Во всяком случае, то, что касается лошадей.
Любопытно, но Маргарита не обиделась. Она приняла мои слова как согласие на другую игру, на ту, что она пыталась затеять со мной.
— Тогда скажем так! Дорогая Людовика, все зависит от тебя, — несколько двусмысленно предложила она.
— От меня?
— Да, от тебя. Если ты готова, хотя бы на время, занять место Дианы, я не продам дом и не убью лошадей. Но ты должна ответить теперь же. Если ты мое предложение принимаешь, сегодня же поезжай в Рим и собирай вещи, а Диана, воспользовавшись этим, может уйти отсюда.
На мгновение я даже испугалась, но Маргарита, обращаясь ко мне, тут же сгладила неловкость:
— Ладно, скажем, я пошутила. Но мое приглашение все равно остается в силе: ты мне симпатична, и я хотела бы, чтобы ты переехала сюда, — будет здесь Диана или нет. — А потом, повернувшись к Диане, сказала: — Ну, Диана, ты все еще мне не ответила…
Должна тебе сказать, моя дорогая, что в тот момент, когда Диана, казалось, окончательно поверила, что лошади останутся живы, я поняла — теперь уже опасность угрожает мне. Диана смотрела на меня огромными запавшими голубыми глазами, будто не понимая внезапного моего прозрения, а потом решительно сказала:
— Лишь бы лошади не погибли, я готова делать что угодно.
— Не что угодно, а «это самое»! — уточнила Маргарита.
На этом месте, моя дорогая, я было решила вмешаться, с тем чтобы вырвать Диану из когтистых лап этой «ужасной» Маргариты. Но решение свое не выполнила. По двум причинам: прежде всего потому, что, вмешавшись, после нешуточного приглашения Маргариты, боялась, что буду не в силах спасти Диану, разве что слишком дорогой ценой — а именно, заменив ее собой; во-вторых, потому, что в эту минуту я ненавидела Диану больше, чем Маргариту. Да, Маргарита — монстр, окончательно и бесповоротно; но Диана еще хуже, и именно потому, что она, на первый взгляд, лучше: человек она неверный, слабый, трусливый и ненадежный. Ты можешь сказать, что на это мое суждение о ней, вероятно, неосознанно, повлияло воспоминание о моем неприятном опыте с нею в интернате? Возможно. Но ненависть — чувство сложное и обычно зависит от разных причин, никогда не бывает, что ненавидишь только в силу одной из них.
Таким образом, рта я не раскрыла. Увидев, как Диана затравленно и пугливо смотрит на Маргариту, я не удивилась, когда она, тяжело вздохнув, подчинилась:
— Ладно.
— Что «ладно»?
— Сделаю так, как хочешь ты.
— И именно сегодня?
— Да.
— Сейчас?
— Оставь меня хотя бы на какое-то время, дай обед переварить, — несколько грубовато запротестовала Диана.
— Согласна. А теперь пойдем отдыхать. Ты, Диана, иди в спальню. А я провожу Людовику в ее комнату и потом приду.
— Проводить могу и я. Ведь это я ее пригласила.
— Хозяйка дома — я, и провожу я!
— Но я бы хотела поговорить с Людовикой.
— После поговоришь.
В результате этой перебранки произошло вполне предсказуемое: подавленная и растерянная Диана поплелась к той двери гостиной, за которой, вероятно, была другая часть дома, с выходом на первый этаж. А мы с Маргаритой поднялись на третий этаж. Маргарита, шедшая по коридору впереди меня, открыла дверь, и мы вошли в небольшую комнату в мансарде с наклонным потолком и одним окном. Мне было неловко уже от одного того, с какой настойчивостью Маргарита стремилась проводить меня, однако моя неловкость возросла, когда я услышала, что она закрывает дверь на ключ.
Я тут же возразила:
— Почему, зачем ты это делаешь?
— Потому что эта тварь вполне может внезапно войти и начать надоедать нам, — не смутилась Маргарита.
Я промолчала. Маргарита подошла ко мне вплотную, легко и непринужденно обняла за талию. Мы стоим, почти в обнимку, под низким потолком мансарды, и Маргарита продолжает говорить:
— Она ревнива, но хотя бы раз могла и не ревновать. Она мне все рассказала об интернате: как ты ночью приходила к ней в постель, как она делала вид, что спит. Мне пришла в голову одна идея относительно тебя — естественно, приятная. Да, ты — в сотни раз лучше, чем я представляла. И более того — в сотни раз лучше этой твари Дианы.
Чтобы прервать это тяжелое для меня объяснение в любви, я ее спросила:
— Почему ты ее называешь тварью, вот и недавно за столом тоже так называла?
— Потому что это так и есть. Капризничает, возмущается, а кончается все и всегда одним и тем же: соглашается и лепечет «да». И не перестает обманывать своим ханжеством: думает только об одном, ты понимаешь о чем, а все остальное для нее ничего не значит. Например, лошади. Неужели ты веришь, что если бы завтра я их убила, она бы испытывала ту боль, о которой говорит? Никогда. Она просто хотела показать тебе, какая у нее чувствительная душа. Тварь, она и есть тварь. Надоела она мне. Ну, что ты решила?
— О чем ты? — откровенно удивилась я.
— Принимаешь мое приглашение жить здесь, для начала, скажем, пару месяцев?
— Но здесь Диана, — возразила я, чтобы как-то протянуть время.
— Устроим так, чтобы Диана ушла, а ты займешь ее место. — Немного помолчав, она продолжила: — Недавно я говорила, что убью лошадей. Но чтобы она решилась уйти, для начала хватило бы убить пони.
— Только что ты угрожала убить пони, чтобы помешать Диане оставить тебя. А теперь ты грозишься убить его для того, чтобы она ушла! — не удержалась я от комментария.
— Тогда я не хотела, чтобы Диана уходила, и знала, что достаточно одной угрозы, чтобы заставить ее остаться. Но для того, чтобы она ушла, нужно сыграть всерьез. Убью пони, уйдет и она.
Маргарита набросилась на меня, прижалась и стала целовать в шею и в плечи. Пытаясь высвободиться из ее рук, что мне никак не удавалось, я разозлилась:
— Чего ты от меня хочешь?
— Того, что Диана не может мне дать и никогда не даст, — настоящей любви.
Уверяю тебя, что в эту секунду Маргарита испугала меня. Одно дело слышать такое от тебя, другое — от гигантши со свинячьими глазками и мордой обезьяны.
И я возразила:
— Но я уже люблю другую.
— Какая разница? Я о тебе знаю все. Ее зовут Нора, да? Привези ее сюда; приезжайте обе жить со мной.
Тем временем она подталкивала меня к кровати и неуклюже одной рукой задирала мою юбку. А ты знаешь, как часто, особенно летом, я ношу ее на голое тело. Ее рука добралась до промежности, схватила всей пятерней за волосы на лобке и с силой потянула, ну точно как сделал бы грубый и похотливый мужик. Я закричала от боли и оттолкнулась от нее. В эту минуту раздался стук в дверь. С блестящими от возбуждения глазами Маргарита грубо приказала мне не открывать. В ответ я пошла к двери и открыла ее. На пороге стояла Диана и прежде чем заговорить, смерила нас обеих взглядом. Потом сказала:
— Маргарита, я готова.
Мгновение Маргарита не могла вымолвить ни слова: она была взволнована и тяжело дышала.
Наконец с силой она вытолкнула:
— Не спится?
— Я была все это время здесь, — тряхнула головой Диана.
— Где «здесь»? — удивилась я.
— Здесь, в коридоре, сидела на полу и ждала, когда вы кончите, — не глядя на меня, тихо ответила Диана.
Клянусь тебе, я на секунду возненавидела ее, такую трусливую и такую неверную: когда я приехала, она умоляла меня увезти ее, а теперь, свернувшись калачиком, как собака, у двери, ждала, когда мы «кончим»!
Обращаясь к Диане, Маргарита порывисто сказала:
— Ладно, идем.
А затем, повернувшись ко мне, произнесла:
— Мы договорились. До скорого.
Они ушли, а я бросилась на кровать, чтобы после стольких волнений действительно отдохнуть. Но через несколько минут я поднялась и подошла к окну: почему-то я была уверена, что что-то увижу, хотя и не предвидела заранее, что именно. Ждала я довольно долго. Из окна открывался простирающийся за виллой парк. А в его глубине — большой бассейн с голубой водой, окруженный высокой живой изгородью из подстриженного самшита. Самшитовая изгородь на середине прерывалась и обтекала водоем с обеих сторон, вдали виднелось длинное и низкое строение, вероятно, с раздевалками и баром для аперитивов после купания. Я смотрела на бассейн, и он мне казался похожим на театральный задник: скоро здесь должно было бы что-то произойти. И действительно, через какое-то время издалека, из той части территории, где находилась конюшня, вышла небольшая процессия и вот уже пересекала парк.
Первой шла Диана, в купальных трусах и красных сапогах, и вела за уздечку пони. Он послушно и медленно следовал за ней, морда его, покрытая длинной гривой, уныло клонилась к земле, будто он на ходу размышлял о чем-то. На нем был венок из красных цветов, как мне показалось, из роз, из тех простых, что с одним рядом лепестков. Следом, держа пони за длинный белый хвост обеими руками, как держат шлейф сюзерена в торжественных церемониях, выступала Маргарита. Я пронаблюдала за тем, как они прошли прямо в туннель между двумя высокими самшитовыми кустами и исчезли. Затем, уже за кустами справа, они появились вновь, но видны были только головы женщин.
Тут, как в театре, началось чередование действий и созерцания. Диана, первая, наклонилась туда, где стоял пони, и ее голова исчезла. Голова Маргариты осталась на виду, она склонилась: очевидно, она смотрела на происходящее внизу. Примерно через минуту внезапно показался пони, и, как это уже было в конюшне, он встал на дыбы, его голова и передние ноги появились над самшитом. Через мгновение он исчез. Прошли бесконечные минуты, затем над кустами возникла голова Дианы, а голова Маргариты, в свою очередь, исчезла. Теперь Диана рассматривала происходящее внизу, но пони больше не вздыбливался. Потом опять объявилась Маргарита; теперь были видны головы обеих женщин, одна против другой. Казалось, Маргарита что-то выговаривает Диане: я отчетливо видела, как Диана в знак несогласия качает головой. И тут Маргарита подняла руку и, положив ее на голову Дианы, стала давить, как бывает иногда на море, когда в шутку притапливают человека в волне. Но Диана не сдавалась. На какое-то время там все замерло. Потом я увидела, как Маргарита ударила Диану дважды по щекам; голова Дианы начала медленно опускаться и вновь исчезла. И я отошла от окна.
Не спеша — потому что знала: обе женщины заняты их «этим» — я вышла из комнаты, спустилась на площадку и вышла в сад. Обрадовавшись своей машине, стоявшей у входа, я села в нее и уже через минуту катила по дороге в Рим.
Теперь ты у меня спросишь, зачем я тебе рассказала эту, в общем, мерзкую историю? Отвечаю: из раскаяния. Должна тебе признаться, что в ту минуту, когда Маргарита стояла рядом со мной в мансарде, у меня было искушение уступить ей. И я бы на это пошла: именно потому, что она вызывала у меня отвращение, именно потому, что я ее нашла, как ты говоришь, «ужасной», именно потому, что она меня просила занять место Дианы. Но память о тебе, к счастью, никогда не оставляет меня. А когда Диана постучала в дверь, то вообще все было кончено, и соблазн я преодолела. Я стала думать только о тебе и обо всем том добре и той красоте, что ты вносишь в мою жизнь.
Ответь мне поскорее.
Твоя Людовика.
К «неведомому Богу»[5]
Всю эту зиму я частенько встречался с медсестрой Мартой, с которой познакомился несколько месяцев назад в больнице, где оказался с горячкой, которую подцепил, вероятно, в Африке, когда в качестве приглашенного специалиста разъезжал по тропикам.
У маленькой, аккуратной Марты, с большой головой и коротко стриженными темно-рыжими курчавыми тонкими волосами, разделенными прямым пробором, круглое лицо девочки. Но девочки бледной и помятой, будто бы преждевременно созревшей. Любопытно, что из-за задумчивости и озабоченности в больших темных глазах и из-за дрожи губ, с частым опусканием уголков рта, к выражению детскости на ее лице добавлялась боль, или даже некоторая мука. Последняя ее особенность: голос — он у нее сипловатый, и говорит она, как деревенщина.
Однако Марта не вызывала бы любопытства, в какой-то степени даже чувственного, если бы, пока я болел, не вела себя, скажем, странно для медсестры. Короче говоря, каждый раз, когда Марта перестилала мне постель или покрывала меня одеялом, или что-либо проделывала с моим телом в силу его естественных надобностей, она меня гладила. Эти краткие, беглые, будто тайные поглаживания всегда приходились на пах. Но они были в некотором смысле безличными, то есть чувствовалось, что ко мне самому они отношения не имеют, а касаются лишь конкретной части моего тела. Она ни разу меня не поцеловала. И было ясно, что ее действия могли относиться к любому другому больному, случись ему занять мое место.
Однако во всем этом была какая-то тайна, разгадкой которой я настолько заинтересовался, что, уже выписавшись из больницы, позвонил Марте и попросил о свидании с ней.
Она сразу же согласилась, но с одной оговоркой:
— Ладно, увидимся, но только потому, что ты, по-моему, не такой, как другие, и внушаешь доверие.
Эта оговорка показалась мне фальшивой попыткой сохранить лицо; однако, как я понял позже, слова ее оказались правдой.
Свидание проходило в так называемом внутреннем зале кафе, расположенного в квартале, где жила Марта. Она сама мне на него указала, сопроводив словами, настоящий смысл которых я не сразу понял:
— Внутренний зал всегда пустой, там мы будем вдвоем.
Признаюсь, что у меня возникло подозрение, что в темном и пустом внутреннем зале кафе Марта, может быть, возобновит свои странные атаки на мое тело, как это было в больнице. Но только я сел в темный угол напротив нее, тут же понял, что ошибся. Пока я ей объяснял, как мне приятно ее видеть, потому что ее присутствие в больнице помогло преодолеть тяжелый период в моей жизни, изрядно скрасив его, она сидела, прислонившись к стене, и смотрела на меня с подозрением.
Наконец, склонив голову, строго сказала:
— Чтобы не терять времени зря, предупреди меня сразу — ты пришел сюда, чтобы продолжить то, что было в больнице? Этого не будет, я ухожу.
— А почему в больнице — да, а здесь — нет? — без обиняков спросил я.
Прежде чем что-либо ответить, она долго на меня смотрела. Потом брезгливо процедила:
— К сожалению, ты относишься ко мне так же, как остальные. Но в тебе есть нечто внушающее доверие. Почему в больнице — да, а здесь — нет? Потому что здесь мне не хватает атмосферы больницы. Здесь это было бы неприличным.
— А в чем состоит «атмосфера больницы»?
— Атмосфера больницы, ну как объяснить? Врачи, монахини, запах дезинфекции, металлическая мебель, тишина, болезни, выздоровление, смерть. Но чтобы далеко не забираться, скажу: факт, что больной в постели и укрыт одеялом с простыней, а значит, нельзя делать некоторые вещи, не иначе как поверх простыни, этот факт тоже создает атмосферу больницы, — объяснила она несколько нетерпеливо.
— Простыня? Не понимаю.
— Ты, я думаю, помнишь, как нежно я тебя гладила, но всегда поверх простыни и никогда обнаженного, — теперь она совсем освоилась и свободно заговорила о наших отношениях.
Я почему-то сказал:
— Простыня часто служит для обертывания трупов.
— Только не в моем случае. Простыня для меня — часть больницы.
— То есть?
— Она мне напоминает, что я — медсестра, что я в больнице для того, чтобы делать приятное больным, однако, не переходя границы, то есть через простыню. Здесь же, в этом кафе, совсем другое…
— Ты об этом уже сказала.
— Кроме того, я живу рядом. Может, тебе вздумается расстегнуть брюки, чтобы я тебя погладила поверх трусов? Что за гадость!
— Прошу прощения, но дело в том, что ты мне нравишься. Давай так: в ближайшие дни ты придешь ко мне домой, я сделаю вид, будто болен, лягу в постель и завернусь в простыню, — из интереса к экспериментам сказал я.
— Твой дом — не больница.
— Ну, хочешь, я скажу что мне нужны анализы, и меня снова положат в больницу. Только с уговором — ты иногда, хоть ненадолго, будешь приходить ко мне в палату, — настаивал я, чтобы разговорить ее.
— Да ты с ума сошел? Почему ты все приземляешь?
— Я уже тебе сказал: я в тебя влюблен. Вернее — в твой порок.
— Какой еще порок? Мне нравятся эти прикосновения к члену больного поверх простыни по причине… и в этом нет ничего порочного, — парировала она.
— По какой причине?
— Ну как я могу тебе это объяснить? Скажем, я своей рукой хочу удостовериться и даю почувствовать больному, что, кроме болезни, там все еще есть жизнь, она есть и готова…
— Готова к чему?
— Можешь не верить, но в моем поглаживании всегда есть вопрос. И как только я получаю ответ, то есть чувствую желаемый отклик, дальше не продолжаю. И никогда не довожу больного до семяизвержения. И в чем тут порок? — будто самой себе, проговорила она.
Я задумался: все ее объяснения были темны и невнятны, однако сомневаться в их искренности не приходилось.
И наконец я сказал:
— Значит, картина такая и никакой другой: с одной стороны монашенка с крестом на груди; с другой — врач с термометром, а посредине — завернутый в простыню больной, члена которого тайком касаются, трогают его и гладят. Не такая ли картина получается?
— Да, картина, как ты выражаешься, такая.
— И этого… касания тебе достаточно?
— Несомненно, да, учитывая, что я никогда ничего другого не делала.
После разговора об «этом» и других подобных вещах, мы расстались, как говорится, хорошими друзьями и с невысказанной готовностью встретиться еще. И на самом деле, мы встречались еще не раз и всегда в том же кафе. Больше она не объясняла, почему это делает, а предпочитала рассказывать разные истории, где всегда происходило что-то более или менее одинаковое. Видно было, что ей нравится об этом рассказывать, и не столько, может быть, из своего рода бравады, сколько чтобы лучше разобраться в себе самой.
Вот, например, одна из историй:
— Вчера я подавала судно одному тяжелому больному. Среднего возраста мужчина, некрасивый, плешивый, усатый, с гадкой и блудливой рожей, скорее всего, лавочник, женатый. Жена, настоящая ханжа, торчала у него в ногах и молилась, торопливо перебирая четки. Я приподняла одеяло и простыню, подсунула судно под его тощую задницу, подождала, когда он освободится, вынула судно и пошла опорожнить в туалет, потом вернулась, чтобы поправить постель. Был вечер, жена, как обычно, в ногах, молится. Поправив постель, покрывая его одеялом, я улучила момент и с размаху, как бы невзначай, нажала рукой на то самое место, чтобы он хорошенько почувствовал свои гениталии, и шепнула ему на ухо: «Вот видишь, скоро поправишься». А эта дубина неотесанная, ехидно прищурясь и на что-то намекая, в ответ: «Если для тебя — то, конечно, поправлюсь». Затем, глянув на молящуюся жену, крикнул, чтобы она заткнулась, а то своими молитвами наведет на него порчу.
— Ну так что, он потом выздоровел?
— Нет, он умер сегодня ночью.
— Но как же ты могла такое делать с безнадежным, да еще и гадко блудливым типом.
— Представь себе, что там, куда я положила руку, у него ничего нездорового не было. Может, когда-то в молодости…
В другой раз она пришла сильно взволнованная и сразу заявила:
— Сегодня ночью я ужасно испугалась.
— Почему?
— Да есть один больной… жутко симпатичный молодой человек тридцати лет; от таких сила жизни исходит простая и грубая, как от какого-нибудь конюха, или скотника. Лицо широкое и мужиковатое, взгляд открытый и веселый, нос орлиный, рот чувственный. Спортсмен, чемпион — не знаю, в каком виде спорта. Только после операции и страшно мучается, но не жалуется и держится молодцом. Тишайший больной — ни слова, ни звука. Напротив него на стенке вечно включенный телевизор, и он его смотрит, все время переключая каналы. Нынче в три часа ночи зовет меня, и я нахожу его в темноте палаты, как всегда, по включенному телевизору. Подхожу к нему, а он что-то бормочет сдавленным голосом, знаешь, как бывает при сильной боли, когда не могут ничего толком объяснить: «Прошу вас, пожалуйста, не могли бы вы взять меня за руку, а я буду представлять, что со мной мать или сестра, — вдруг это мне поможет, и я меньше буду мучиться».
Молча беру его руку, он сжимает ее изо всех сил; судя по этому судорожному пожатию, он и вправду изрядно мучается. Так, рука в руке, мы молча и неподвижно смотрим телевизор — показывали какой-то фильм про бандитов. Прошло несколько минут; чувствую, как он сжимает мои пальцы все сильнее и сильнее, будто отмечает каждый раз обострение боли. Вдруг я подумала — с чего не знаю, — что могу как-то облегчить его муки, и прошептала ему: «Может, чтобы не болело, хочешь чего-нибудь поласковее?» И будто самому себе, он повторил: «Поласковее?» Я подтвердила: «Да, поласковее».
Он помолчал; я высвободила из его руки свою, сунула ее между одеялом и простыней и положила на его член. Он сразу откликнулся и тем местом, и всем телом; моя ладонь ощутила вздутие, похожее на букет свежих цветов, завернутых в целлофан. На мой шепот: «Так легче?» — он ответил: «Да». Глядя на мерцающий свет экрана в темной палате, я медленно и потихоньку начала водить ладонью по кругу, не грубо, а нежно и деликатно. И тогда, знаешь, что мне почудилось? Будто под простыней собрался клубок только что отловленных осьминогов, живых, все еще мокрых и скользких от морской воды, и они закопошились.
Я непроизвольно воскликнул:
— Как странно!
— Было ощущение живой силы и чистоты. Что может быть чище и жизнеспособнее существа, только что поднявшегося с морского дна? Не знаю, понимаешь ли ты меня. Это чувство было таким сильным, что я только и сумела прошептать ему: «Хорошо, да?» Он промолчал, не мешая мне действовать. В таком роде продолжалось какое-то время еще…
— Извини, разве не прекраснее и искреннее было бы откровенно сбросить простыню и…
— Нет, я совершенно не хотела снимать простыню. Видишь ли, снять простыню было бы предательством всего того, что означает для меня больница, — заупрямилась она.
— Понял. И что было дальше: он кончил?
— Ничего подобного. Мы продолжали еще несколько минут, а потом он начал повторять: «Умираю, умираю, умираю», я струхнула и, поспешно сняв руку, помчалась за помощью. Пришли старшая медсестра, ночной врач, монахини и другие врачи; сняли с него одеяло и простыню: левая нога у него посинела и распухла, стала толще правой в два раза — начался флебит. Пришедшие испугались еще и потому, что он жаловался на холодные и бесчувственные ноги; знаешь, что это значит? Естественно, я вся так и обмерла, а потом сказала себе, что это моя вина: скорее всего, не без моего участия кровь, которая теперь больше не циркулировала, вся прилила к тому месту, где была моя рука.
— А дальше что было?
— Ну, флебит взяли под контроль. Сегодня утром я вошла в палату, он посмотрел на меня, улыбнулся и этим освободил меня от угрызений совести.
В следующий раз она мне рассказала историю, немного смешную и страшную одновременно.
— Со мной в больнице произошел жутко неприятный случай, — так она начала.
— Какой?
— Больной хотел, чтобы я стала его женой, и грозился устроить скандал, если я не соглашусь.
— Кто такой?
— Ужасный, некрасивый мужик, хозяин ресторана, откуда-то с юга. Он поступил с разбитым коленом; потом ему отняли ногу. Два дня он был в жару и пошел весь пятнами. Потом его лицо покраснело, отекло, будто вот-вот лопнет, — казалось, это уже агония. Перестилая ему постель, я решила наплевать на то, что у него одна нога, и протянула руку туда, где простыня просто вздулась горой. Это было сильнее меня, не смогла я противиться соблазну, а такого вздутия мне не приходилось видеть никогда. Теперь представь, что я почувствовала: два больших и твердых, как у быка на случке, яйца и нечто, толщиной с хорошую трубу, дергающееся, как возбужденная змея. Он дремал, но тут сразу проснулся и, обращаясь ко мне, пробормотал: «Валяй, они тебя ждут», или какую-то другую гадость в том же духе, так, что меня чуть не вырвало. Однако ж, как я тебе уже сказала, это было сильнее меня, я снова пала — всякий раз касалась его поверх простыни, чтобы еще раз ощутить, что все было, как всегда, на месте, хотела вновь почувствовать великолепие яиц и необычную громаду его члена. Странно, но он совсем замолчал, похоже, размышлял над тем, что бы еще сказать. И действительно, однажды он мне заявил, что хочет на мне жениться; сказал, что богат и будет меня содержать, как королеву, что у меня будет всего вдоволь. Представь меня замужем! И за таким мужланом!
— Но ты же должна будешь когда-нибудь выйти замуж.
— Замуж я никогда не выйду, — посмотрев на меня, уверенно ответила она.
— Но ты — молодая женщина, и тебе нужна любовь.
— Ох, мне хватает того, что я делаю: ведь я это делаю для себя. И не нуждаюсь я в замужестве. Сожму ляжки, потру одну о другую — вот и вся моя любовь.
Мне захотелось задать ей вопрос, правда, несколько бестактный, но все-таки я решился:
— А ты… девственница?
— Да, и буду всегда. Сама только мысль о любви, какую мне предлагает этот хозяин ресторана, приводит меня в ужас. Не стоит он моей девственности.
— Ну, и как же ты выпуталась?
С лукавой улыбкой, сморщившей ее бледное личико девочки, с которой плохо обращаются, она объяснила:
— А я ему сказала — пусть уезжает к себе на юг, и, как только будет возможно, я последую за ним; поклялась, что мы поженимся, когда он покинет больницу; а вот фиг ему!
— И все равно ты продолжала его трогать, касаться его?
— Да я ж тебе говорила: это сильнее меня. Не вижу никакой связи между ним и его гениталиями. Больной — ну, как сказать? — хранитель чего-то такого, что ему не принадлежит, и похож на солдата, которому дали оружие для сражения, но оружие-то не его.
— А чье?
— Не знаю. Иногда я чувствую, что это принадлежит какому-то неведомому богу, другому, конечно, не тому, чей образ носят на груди монашки.
— Неведомому богу?
Я удивился, но не смог удержаться и рассказал ей кое-что из Деяний святых Апостолов, то есть о визите св. Павла в тайный афинский храм, посвященный «неведомому Богу».
— Как бы то ни было, присутствие неведомого бога я чувствую только в больнице, нигде больше. А мужчины в трамваях, прикасающиеся ко мне, мне противны, — выслушав меня без особого интереса, сухо сообщила она.
— Если бы ты влюбилась, все изменилось бы.
— Почему?
— Потому что, если сбросишь простыню, сможешь встретиться с неведомым богом лицом к лицу.
— Бог прячется. Разве кто-нибудь когда-нибудь его видел? Не верю я в чудеса, — взглянув на меня, как-то загадочно ответила она.
После этой встречи, как ни странно, мы не виделись довольно долго. Она обещала звонить и не звонила. Но вот однажды утром она объявилась и назначила мне свидание в том же кафе. Ожидая меня, она сидела в тени; мне показалось, что по лицу ее растеклась странная смесь глубокого потрясения и покоя.
Она начала сразу:
— Я убила человека.
— Да что ты такое говоришь!
— Именно так: я убила мужчину, которого полюбила.
— Ты полюбила мужчину?
— Ты же сам мне говорил, что я должна влюбиться, чтобы посмотреть в лицо богу, который прячется под простыней. Вот это и произошло: я влюбилась в парня двадцати лет, сердечника. И с ним, как с другими, я начала с касаний, а потом случилось что-то странное. Внезапно, может быть потому, что он был таким же умным, как ты, и я постоянно чувствовала, что он меня во всем понимает и оценивает правильно; я впервые увидела в этих касаниях нечто извращенное. Вот я и решила снять простыню.
— Что такое? Метафора? Говоришь символами? — не удержался я от некоторой иронии.
Она обиженно на меня посмотрела.
— Простыня не только символ больницы; она была и вещественным препятствием. Скажи сам, как можно любить мужчину при разделяющей простыне? Так вот, в одну из ночей, при включенном телевизоре, свет которого в темноте палаты дрожал сильнее обычного, смеясь сумасшедше-высоким голосом, он сказал, что я никогда не посмею снять простыню. Это привело меня в ярость. Как снять завесу с лица того бога, о котором ты мне говорил? Сделать такой шаг, клянусь тебе, было для меня, как прыгнуть в пустоту, во тьму. Внезапно он сам скинул с себя все, и я бросилась на его обнаженное тело.
При ярком свете экрана телевизора, в глубокой ночной тишине госпиталя все произошло в несколько минут. Наклонившись лицом к его бедрам, я почувствовала, что прощаюсь с больницей и всем, что она означала для меня, навсегда. Потом огромный фонтан его семени заполнил мне рот, я отшатнулась, бросилась в туалет, чтобы сплюнуть все дочиста. Обратно вернуться в его палату мне не хватило смелости, поэтому я пошла в свою комнату, легла и проспала до рассвета.
Проснулась я оттого, что монахиня меня трясла и спрашивала — как могло случиться, что я с дежурства ушла спать и проспала до сих пор. Я ответила, что мне было плохо. Наверное, монахиня мне не поверила, может, она интуитивно кое о чем догадывалась. Вдруг она сказала, что молодого парня-сердечника нашли мертвым. И добавила: «Одеяло и простыня у него были сдернуты к коленям — наверное, он пытался встать».
Ужаснувшись и не зная толком, что говорить, я некоторое время молчал. Наконец попытался поддержать ее:
— Вполне возможно, что он умер вовсе и не по твоей вине.
— Нет, по моей, я уверена. Только перестав работать медсестрой, я поняла — где надо было остановиться, чтобы не делать больному плохо, а я была женщиной, не знающей границ собственной любви, и убила его, — опустив голову, сказала она. И помолчав немного, она сообщила: — Из больницы я уволилась и теперь работаю в институте красоты, там все-таки одни женщины. — Затем философски заключила: — Была умелой, добросовестной медсестрой и — порочной, а стала здоровой, нормальной женщиной и — убийцей.
Женщина в черном пальто
Все, как четыре года назад, в день их бракосочетания: стол облагорожен английским бело-голубым фарфоровым сервизом, бокалами богемского стекла с ножками из слоновой кости, серебряными солонками. На столе — те же розы в вазе зеленого стекла; та же скатерть и те же красные с белой вышивкой салфетки. Наконец, под тем же косым лучом солнца, падающим через окно, фарфор, серебро и хрусталь отливают таким же блеском. Но вместе с тем все основательно изменилось. В эту минуту, как ему кажется, он становится скорее предметом воспоминаний, призраком, а не человеком из плоти и крови. Кажется ему так потому, что, по сравнению с тем, что было четыре года назад, между ним и его женой все по-другому. А сейчас, за столом, они вновь тихо и вежливо обсуждают наболевший вопрос: почему она уже больше года отказывает ему в близости? Жена со странной нежностью объясняет: да она его любит; да, она знает, что он ее любит; да, между ними была дивная физиологическая гармония; да, к этой гармонии хорошо бы вернуться; но она, по крайней мере сейчас, ничего подобного больше не чувствует. Почему? Причин нет, но это так, — и все.
Входит кухарка со вторым блюдом — курицей по-мароккански. Это блюдо некоторым образом связано с началом их близости. Рецепт они привезли из Марокко, где проводили свадебное путешествие. Рецепт простой: курицу разрезают на небольшие куски и тушат на медленном огне, добавив, примерно по килограмму лимонов и оливок, чтобы мясо курицы пропиталось их соком. Кухарка предлагает сначала жене, потом ему; каждый берет и, уткнув голову в тарелку, начинает есть, однако разговор не прекращается.
Внезапно случается непредвиденное. Жена издает приглушенный крик, подносит руки к горлу и, зайдясь натужным кашлем, вскакивает, роняя салфетку на пол, сметая рукой тарелку и столовые приборы, затем выбегает из столовой и мчится внутрь квартиры. Он бросается за ней, еще не до конца понимая причины происшедшего.
Она вбегает в спальню и, все еще прижимая руки к горлу, кидается на постель. Непредвиденное — это острая куриная косточка, вонзившаяся ей в горло. Но то, что вскоре произойдет в отделении скорой помощи, нельзя назвать непредвиденным, ибо это он предвидит, пока следует за ней, — в больнице жена умрет, как говорится в подобных случаях, не приходя в сознание.
После смерти жены в их доме, в их бывшем общем доме, он остается один и живет, как обычно: ходит каждый день в архитектурную мастерскую, возвращается домой, чтобы поесть, выходит по вечерам с друзьями и так далее, и тому подобное. Спит один, выходит один, ест один, никто его по утрам, когда он уходит на работу, не провожает, никто его по вечерам, когда он возвращается, не встречает.
Одиночество его угнетает еще и тем, что оно не того рода одиночество, от которого обычно избавляются в компании. Это одиночество — непоправимо; только один человек мог бы спасти от него — жена, а она умерла. Да, он один, и постоянно себя спрашивает — что ему больше подойдет: прогнать прочь мысли об ушедшей жене или примириться с вечным трауром и медленно опускаться в бездонную болотную топь? В конце концов неизбежно одерживает верх второе.
Для него начинается период мрачный и в то же время тревожаще чувственный. Тоска по жене у него выражается рядом ритуальных действий: он любуется платьями, развешанными в шкафу; касается одного за другим предметов ее туалета; или, включив воображение, смотрит на все «ее глазами» и в том числе из окна спальни на уходящую в даль аллею. Последнее ему помогает перейти от фетишистского созерцания к желанию галлюцинаций: прислушиваясь к тишине дома, он надеется различить голос жены — так, словно она разговаривает с кухаркой на кухне; или по вечерам, пока укладывается, тешит себя надеждой увидеть, как она, опершись о подушки, сидит на постели и читает.
Незаметно ожидание «явлений» жены превращается для него в надежду на ее «возвращение». Он надеется, что жена позвонит в дверь; он пойдет открывать, увидит ее перед собой, а она скажет, что забыла ключи. Она вечно все забывала: даты, предметы, события. Или: она звонит из аэропорта с просьбой приехать и забрать ее — у нее не было привычки предупреждать его ни о дне, ни о часе возвращения из путешествий. Или еще того проще: она в гостиной слушает музыку — так было всегда, когда она ждала его возвращения из студии к обеду.
Наконец, идею «возвращения» сменяет идея «обретения». С мрачной надеждой «обрести ее» он принимается ходить по улицам, посещает общественные места и салоны. А вдруг она появится там, перед ним, и будет делать что-нибудь совсем обыденное, как это всегда бывает с теми, кто есть на самом деле и никуда не исчез. Так он жаждет вдруг обнаружить ее рядом с собой — то, например, в вагоне метрополитена, то на Испанской площади, куда приходит за какими-нибудь покупками.
Эта фаза «обретения» длится дольше, чем фаза «возвращения», более того, она кажется бесконечной. Потому что «возвращение» — это только для особых случаев; между тем, «обретенной» можно оказаться в каждый момент и в любом месте. Практически любая молодая женщина между двадцатью и тридцатью годами, высокая блондинка, не очень худая, запросто может обратиться ею, особенно если смотреть сзади и издалека. Так в нем все глубже укоренялось убеждение, что жена — да, умерла, но каким-то образом через перевоплощение, воскрешение, в другом облике, — могла бы явиться вновь. Однажды он посмотрит в лицо встретившейся женщине и воскликнет:
— Ты — Тоня?!
— Да, это я, почему бы мне не быть собою, — ответит она.
— Но ты же — призрак.
— Ничего подобного. Дотронься до меня, погладь. Я — Тоня из крови и плоти.
Естественно, что болезненность этих фантазий от него самого не ускользает. И каждый раз он думает: «Я схожу с ума. Если так будет продолжаться, я ее, конечно, разыщу. Но может настать момент, когда я превращусь в сумасшедшего, который верит только в собственные галлюцинации». Однако страх сойти с ума не мешает ему надеяться разыскать жену. Более того, этот страх добавляет остроты. Конечно, он найдет ее — и именно потому, что это невозможно.
В конце концов, чтобы развеять траурную атмосферу, он решает поменять обстановку и отправиться на Капри. Ноябрь, мертвый сезон; на острове никого; он останется один на один со своими воспоминаниями, со своим горем. Будет прогуливаться, фантазировать, размышлять. В общем, будет отдыхать и стараться восстанавливать растраченную энергию. Потому что его навязчивая идея — это только нервное расстройство, причиной которого является физическая ослабленность.
Итак, он едет на Капри, где, как и предвидел, проводит дни в полном одиночестве: почти все гостиницы и рестораны закрыты; ни одного туриста, только аборигены. Но это его одиночество отличается от римского. В Риме он был одинок в силу обстоятельств, а здесь будет одиноким по собственному выбору.
На острове он ведет упорядоченную жизнь: встает поздно, идет на первую прогулку, обедает в гостинице, вечером прогуливается второй раз, возвращается в комнату почитать, ужинает и затем в полупустом салоне гостиницы смотрит телевизор. По окончании передач отправляется спать.
Это однообразие сопровождается постоянной тоской по жене; правда, его тоска теперь принимает другую форму. Будто смерть сняла с воспоминаний эротический покров, который он ярче всего запомнил во всех подробностях с того еще времени, когда они с женой бывали близки. Эти воспоминания не отличаются от тех, что бывают у юношей и часто заканчиваются онанизмом. Он же ограничивается тем, что мысленно любуется отдающейся женой, без какого-либо собственного физического участия. Кроме того, он начинает бояться впасть в некрофилию: женщины его юности, думая о которых, он онанировал, были живыми; онанизм тогда был всего лишь воображаемым продолжением нормальных физиологических отношений. Но онанировать на умершую? — не приведет ли это его именно к той болезненной нереальности, от которой он хотел убежать, отправившись на Капри?
Чаще всего он вспоминал первый эпизод их счастья, первую вспышку любви. Как-то весенним днем они случайно встретились на городской улице с бутиками. Она искала майку, он — музыкальный диск. Они оба изумились этой случайной встрече и обрадовались ей, а кое-что в этот момент стало для них решающим. Этим кое-чем был острый взгляд, полный желания, который будущая жена бросила в самую глубину его зрачков. Взгляд ее был как стрела, уверенно пущенная в цель и достигшая ее.
Он сразу спросил:
— Хочешь, займемся любовью?
Не произнеся ни слова, она согласно кивнула.
— Пойдем домой?
— Нет, хочу сейчас, — удивив его, ответила она тихо.
— Сейчас? Где?
— Не знаю, но немедленно.
Он осмотрелся — на этой улице, кроме магазинов, были лучшие в городе гостиницы — и сказал:
— Если хочешь, можем пойти в гостиницу. Сомневаюсь, конечно, дадут ли нам комнату, если увидят, что мы без багажа. Твоя правда, чемодан нам надо купить…
Она долго смотрела на него, а потом сказала:
— Нет, никаких гостиниц, пойдем со мной.
Взяв его за руку, она, не колеблясь, свернула в первый попавшийся подъезд, а там направилась прямо к лифту:
— Обычно двери с площадки последнего этажа на террасу нет. Если вход открыт, займемся любовью там. Если нет, то на площадке, туда тоже никто не ходит, — сказала она, не глядя на него.
Она стояла к нему спиной и смотрела на дверь лифта, а когда будущий муж приблизился к ней, завела руку назад и с силой сжала его член. Лифт остановился, они вышли на площадку и увидели, что вход на террасу закрыт.
Жена сквозь зубы проговорила:
— Здесь.
Он увидел, как она наклонилась, одной рукой взялась за перила лестницы, другой подняла пальто до поясницы. В полутьме площадки засветились ее белые, овальной формы, полные, напряженные и блестящие ягодицы. Он подошел поближе, будто желая убедиться, удастся ли ему поразить цель с первого раза, и почувствовал, как немедленно и мощно отозвалась его плоть. Жена, опершись о перила, сквозь висящие белокурые волосы следила за тем, как он войдет в ее розовую щель. Две большие губы ее щели все еще были слипшимися, будто замерли и дремали. Он протянул руку и, желая разъединить их, осторожно, двумя пальцами, как лепестки цветка, раздвинул. Затем он ввел свой член, как в распустившуюся и блестящую от желания розу, как в рваную открытую рану, в глубине которой виднелось что-то розовое и живое. Что это, вагина или хирургический разрез? Он был поражен этим видением: впервые он видел женские гениталии так близко; ведь до сих пор он занимался любовью, лежа в постели, обнявшись, тело к телу, глаза в глаза. Шок от увиденного длился всего мгновение. Затем первым же толчком он пронзил ее до самого сердца; жена, согнувшись и держась обеими руками за перила, задвигала бедрами.
Теперь та раскрытая, неровная, влажно сверкающая и кроваво-красная, как рана, роза остро напомнила ему ее живое тело, и он представить себе не мог, что оно сейчас разлагается в глубине могилы, это казалось ему невозможным. Он читал где-то, что после смерти первой разлагается именно эта часть тела, то есть гениталии; и все его существо с ужасом содрогнулось от дикой мысли. Нет, он не хотел представлять себе сокровище своей жены таким, каким оно стало теперь. Он хотел его видеть таким, каким оно было тогдашним утром, там, на площадке дома по виа Венето, живым и полным бесконечного желания.
Постепенно эта мысль породила другую. Может быть, он уже не встретит больше свою жену, хотя это и не исключено, но уж точно когда-нибудь вновь увидит подобную вагину. Достаточно будет, как говорится, подыскать блондинку между двадцатью и тридцатью годами, стройную, неполную, с очень белыми и овальной формы ягодицами. Они станут любовниками; однажды он ее попросит нагнуться к перилам, взяться за них и поднять повыше подол. Тогда там, внизу, под ягодицами, он раздвинет двумя пальцами губы, как лепестки цветка, и вновь увидит перед собой, за миг до соития, открытую рану. Все будет просто и легко: не станет больше мрачного наваждения, наступит вновь обретенное счастье. Ведь если невозможно заменить лицо, женские гениталии, вообще-то говоря, — когда некоторые другие особенности схожи взаимозаменяемы.
Да, в конце концов, он может остановить на улице, здесь, на Капри, первую попавшуюся блондинку и убедить ее отдаться ему, точно в тех же обстоятельствах, как жена тогда утром в Риме, в доме на виа Венето. Таким образом, теперь тоска по жене, совершенно безотчетно и незаметно, превращалась в тоску по той малости, что у жены была общей со многими другими женщинами ее возраста и сложения.
Естественно, он сознавал, что переход его ностальгии по конкретному существу в фетишистскую одержимость одной из слизистых оболочек сулит ему выход из положения: придет забвение, утешение, замена, потому что похожую вагину найти легко. Значит, можно утешиться, скажем так, мысленным превращением ее мертвого секси в мистический и очаровательной символ женственности. В жизни жена была уникальной и незаменимой, — теперь же стала символом. Любуясь ее гениталиями, он рассматривает что-то, отделенное от самой личности; от этого «нечто» жена, пока жила, вольна была его отлучить, но другие женщины, со своей стороны, теперь могут ему это «нечто» предложить.
Однажды ночью на Капри ему приснился сон. Ему снилось, что во время обычной прогулки по виа Трагара он следит за таинственной женщиной, которая чем-то похожа на его жену. Она в черном пальто с капюшоном; у жены незадолго до смерти было такое же. Как и жена, эта женщина — блондинка, ее длинные волосы рассыпаны волнами по плечам. Кроме того, у нее походка жены; она идет неуверенно, задумчиво, покачивая бедрами. В конечном итоге, все решают голые ноги; поверх сапог ему видны ее светящиеся белые икры, чего никакие чулки имитировать не могут. Теперь он вспоминает: если жена не надевала чулки, это означало, что она голая. Такая у нее была привычка: она надевала пальто, шубку или довольно широкий и теплый плащ, а под ними часто ничего не носила; говорила, что чувствует себя так свободнее и увереннее.
И в то утро на виа Венето, когда она наклонилась над перилами и высоко подняла пальто, под ним ничего не было. Он может подтвердить, под пальто она была голой, вся — сверху донизу, до черных, на высоком каблуке, сапог с красными отворотами.
Во сне, со всей решительностью мужчины, знающего чего он хочет и не сомневающегося в успехе, он преследует женщину, которая так похожа на его жену. Не для того ли он в кармане крепко сжимает короткий отточенный нож? Э нет, на этот раз ей не убежать: игра на виа Трагара закончится у Бельведера Фаральони, а там тупик, и женщина станет его добычей.
Эта прогулка по виа Трагара отличается одной особенностью: во сне она прерывается в глухом переулке, что, когда он просыпается, его удивляет. В реальности глухой переулок в его прогулку не входит, поскольку маршрут продолжается вокруг острова, вплоть до «Природной арки». Но во сне он в глухой переулок поверил, как в свое время, в реальной жизни, жена, пойманная в ловушку, верила, что другого выхода, кроме как выйти замуж, нет.
Сон продолжается: женин на и он, следуя друг за другом, в конце концов доходят до площадки Бельведера. Женщина, будто по молчаливому сговору с ним, сразу подходит к парапету, опирается на него, заводит руку за спину и поднимает пальто до талии — точно как сделала жена в то утро на верхней площадке дома на виа Венето. Он с радостью приближается к ней, чтобы выпростать член из брюк и приступить к проникновению. Увы — разочарование! Ягодицы и бедра женщины представляются его глазам закрытыми какой-то белой матовой безжизненной оболочкой. Там, где он ожидал различить щель, ее не было — только ткань наглухо закрытого корсета. Без колебаний он вынимает нож из кармана и, спокойно и точно, разрезает корсет — снизу до самой талии. Теперь он доволен: сквозь разрез корсета видно открытую, с бледно-розовыми краями рану от ножа и более глубокие, тоже открытые, кровавого цвета части тела. Но в ту минуту, когда он приближается к ране для соития, сон прерывается.
Днем от этого сна осталось, в основном, воспоминание о женской фигуре в черном пальто, задумчиво идущей по пустынной улочке. Поэтому, когда следующим вечером он прогуливается в направлении Бельведера и видит далеко внизу женщину в черном пальто с белокурыми волосами, рассыпанными по плечам, он сразу же верит, что это женщина из его сна. Да, это жена послала ему сон, чтобы предупредить его: во время прогулки по виа Трагара он встретит ее в облике женщины в черном пальто.
Обрадованный этой мыслью, он ускоряет шаг и старается нагнать незнакомку. Ночь теплая и влажная; морской ветер размеренно качает фонари; женщина — то на свету, то в тени. Кажется, что она шагает медленно, однако непонятно, как ей удается сохранять одну и ту же дистанцию между ними, конечно, до тех пор, пока он ее не нагоняет на площадке Бельведера Фаральони. Как и во сне, она подходит к парапету и смотрит вниз, в темную пропасть, из которой поднимаются невероятных размеров черные тени двух больших скал. Как во сне, он подходит к ней очень близко, почти касаясь своей рукой ее руки. Он понимает, что ведет себя, как сумасшедший, но некая загадочная уверенность помогает ему: он абсолютно убежден, что женщина не оттолкнет его. Делая вид, что любуется панорамой, на самом деле он украдкой оглядывает ее. Она — молодая, возможно, одного возраста с женой, да и лицо почти то же: выпуклый лоб, немного ввалившиеся, голубые и холодные глаза, курносый нос, пухлый рот и немного скошенный назад мягкий подбородок. Да, очень похожа на жену, во всяком случае, ему этой похожести хочется.
Вдруг естественно и легко она говорит:
— Я знаю, что сегодня ночью приснилась вам.
Как он и предвидел, женщина не удивляется и не отталкивает. Поворачивается к нему, оглядывает с головы до ног и еще раз спрашивает:
— Так, да? И что же я делала?
— Если хотите, расскажу. Но вы должны пообещать, что не обидитесь. И более того, не подумайте, что я пользуюсь сном как предлогом для знакомства. Я бы и так подошел к вам. У меня несчастье — я потерял жену, которую очень любил. Вы похожи на нее. Даже не увидев сон, я бы заговорил с вами.
Женщина ограничивается только:
— Ну, хорошо. Тогда расскажите мне сон.
Он, совершенно не смущаясь и не упуская ни одной детали, спокойно и точно пересказывает сон. Она внимательно слушает и потом говорит:
— Все это могло бы быть, за исключением одной детали.
Он заметил слова «могло бы быть» и, разволновавшись, спросил:
— Какой?
— Я не ношу корсет.
Тон женщины интимный, сообщнический, почти вызывающий. Он на нее смотрит и видит в ее глазах странную смесь достоинства с отчаянием и призывом — будто для того, чтобы дать ему понять, что знает, чего он хочет, и она не оттолкнет его, мало того, — готова угодить ему.
Все еще опираясь о парапет, женщина тихо говорит:
— Теперь расскажите мне о своей жене. И скажите, чем я на нее похожа.
Внезапно он начинает сильно волноваться и не может вымолвить ни слова. Затем выдавливает:
— Вы на нее похожи внешне. Боюсь, что вы похожи и еще чем-то, — тем, что в последнее время отдалило нас друг от друга.
— Не понимаю.
— Моя жена за год до своей смерти отказала мне в близости.
— Почему?
— Не знаю, а теперь уж и не узнаю. Она говорила, что у нее нет желания. А потом умерла.
Мгновение женщина молчит. Затем с внезапной жесткостью комментирует:
— Кто знает, чего именно она хотела от вас. Возможно, чего-то вроде того, что приснилось вам этой ночью.
Удивленный и обрадованный проницательностью женщины, он говорит:
— Да, и я сам хотел бы от нее именно этого. И это было, не во сне, наяву: около двух лет назад.
— Как! Вы это делали здесь, у этого парапета?
— Нет, на площадке одного дома по виа Венето в Риме, однажды утром, когда мы впервые встретились.
— На площадке? На последней, где выход на террасу?
— Откуда вы знаете?
— Потому что я похожа на вашу жену не только внешне.
— Вам тоже нравится делать так, стоя, повернувшись спиной, как в моем сне?
— Да.
Он молчит, потом решается и спрашивает:
— И ты пойдешь на это со мной?
Она смотрит ему в лицо с непонятной гримасой: в ее чертах и чувство собственного достоинства, и обида, и страдание. Потом бормочет:
— Да.
— Не откажешься, как она?
— Нет.
— И сделаешь это прямо теперь?
— Да, теперь же, но не здесь.
Мгновение она молчит, затем продолжает:
— Пойдем в гостиницу. Да, ты не заметил, что мы живем в одной гостинице? А я на тебя уже обратила внимание, так что не очень удивилась, когда ты заговорил со мной.
Он с облегчением принимает тон разговора и спрашивает:
— А почему я тебя никогда не вижу в ресторане?
— Никогда туда не хожу, ем в номере, — сухо отвечает она.
Тогда он пугается, вдруг обнаружив, что по каким-то ему не известным причинам у нее испортилось настроение, и с тревогой спрашивает:
— Ну, а как же мы будем?
На этот раз она, уже как соучастник, предлагает:
— Ты видел, что каждый номер имеет балкон, выходящий в сад. На всех балконах решетки. Сегодня ночью я приду к тебе в номер, выйду на балкон, возьмусь руками за решетку, а потом мы сделаем то, что вы с женой делали на площадке того дома на виа Венето.
Произнеся это, она выпрямляется и уходит.
Ничего не соображая, он следует за ней и говорит:
— Я только боюсь, что на самом деле ты не придешь.
Сам не знает, зачем сказал эту фразу. Может быть, для того, чтобы внести ноту реальности в то, что все еще держит его больше во сне, чем в жизни. Она ничего не отвечает, но, как только они выходят с площадки и проходят на виа Трагара, она останавливается, обхватывает руками свое горло, расстегивает воротник и на мгновение распахивает пальто. Он видит, что под пальто она абсолютно голая.
Женщина спрашивает у него:
— Тебе не кажется, что я и телом похожа на нее?
Странно, может быть, он ослеплен сильным волнением, но ему ничего не остается, как заметить и вправду совпадающие детали: та же грудь, низкая, но плотная, тот же живот, упруго закругляющийся над лобком, те же на лобке волосы, короткие, кудрявые и, как у блондинок, почти рыжие. И кровеносные сосуды, едва заметные на прозрачной коже бедер и груди, — все напоминает ему жену.
Женщина, запахивая пальто, спокойно, но с вызовом спрашивает:
— Теперь веришь, да?
— А ты вот так вот и ходишь, голой?
— Торопилась, здесь на Капри тепло, я завернулась в пальто и вышла.
С этой минуты они больше не разговаривают, а торопливо шагают, на расстоянии друг от друга, будто и вовсе не знакомы. У нее обычный, инстинктивно вызывающий шаг; она идет, глядя в землю, будто размышляет. А он посматривает на нее украдкой, почти не веря их соглашению. Кроме того, его крайне заботит: как она сможет взяться за балконную решетку, если решетка вся покрыта колючими вьющимися растениями? Он долго обдумывает что делать. В конце концов решает очистить от растений середину решетки. Но как? Нужны садовые ножницы, а их у него нет; значит, надо купить. Тайком он бросает взгляд на часы и видит — остается всего двадцать минут до закрытия магазинов.
Он обращается к женщине:
— Когда придешь?
— Сегодня ночью.
— Да, но в котором часу?
— Поздно, около полуночи.
Он хотел бы спросить — почему так поздно? Но, торопясь в магазин до закрытия, только сообщает:
— Мой номер одиннадцать, на третьем этаже.
— Знаю: когда ты просил сегодня утром у портье ключ, я стояла у тебя за спиной.
Они уже перед воротами гостиницы.
Он берет ее за руку:
— Ты заметила, что до сих пор не сказала мне, как тебя зовут?
— Таня.
Жену звали Антонина. Он думает: «Тоня и Таня, почти одно и то же».
— Этого не может быть!
— Чего именно?
— Ничего — до сих пор не могу понять, существуешь ли ты на самом деле, глазам своим не верю, — смущается он.
Впервые она ему улыбается; гладит его лицо и, бросив «до вечера», убегает через ворота в сад гостиницы.
В большой спешке, поскольку боится, что магазины закроются, он поднимается по той улице, которая ведет к городской площади Капри. Куда идти знает: как-то раз, под высокой аркой подходя к площади, он попал в узкий и темный переулок. Хозяйственный магазин там. Входит и, мимо ящиков с железками и коробок, полных ножей, ножниц и прочих режущих инструментов, идет прямо к продавщице, стоящей за прилавком.
— Мне нужны садовые ножницы.
— Маленькие или большие?
— Средние.
Он возвращается в гостиницу, поднимается в номер, и, зажав в руке ножницы, сразу выходит на балкон. Уже ночь; в темноте он рассматривает растение и видит, что наверху стоит бетонная кадка, с которой оно спускается, рассыпаясь, по решетке. Но ведь чтобы женщина могла легко опереться о нее, недостаточно срезать ветки, покрывающие решетку, нужно убрать также и часть ящика. Перед тем как приступить к тяжелому неприятному и, в общем, сумасшедшему делу, он чуть колеблется. Но в воображении возникает образ опершейся о перила женщины в пальто, поднятом до пояса. И он с жаром принимается за работу. Прежде всего срезает самые высокие ветки и веточки, затем освобождает перила и старается сдвинуть ящик. Новая проблема: куда их девать, чтобы не попались на глаза и чтобы женщина не поняла, что эти перила очищены специально для нее, с умыслом, во имя его навязчивой идеи? В конце концов он решает сложить ветки и веточки, насколько это возможно, в глубину балкона, чтобы потом вынести. Смещает ящик, и в эту минуту раздается телефонный звонок.
Подбегает к ночному столику, бросается на кровать, берет трубку, подносит к уху и сначала просто ничего не слышит. Или лучше сказать, сначала не понимает ни слова. Кто-то в трубку рыдает, стараясь сказать хоть что-то, и не может. Он кричит: «Алло, алло!», и наконец сквозь непрерывные рыдания слышит голос женщины, которая, задыхаясь, говорит:
— Извини меня, прости меня, но я не приду, потому что мой муж умер всего месяц назад. После того как ты мне сказал, что твоя жена умерла, а я похожа на нее, мне захотелось заменить тебе ее, а ты бы заменил мне мужа. Но поняла, что не могу, не могу, извини меня, прости меня, но не могу, совсем не могу.
И, продолжая рыдать, она много раз повторяет «не могу»; потом сухой щелчок — общение прервано. Он еще минуту смотрит на трубку, затем кладет.
Теперь он не двигается, размышляет. Значит, женщина — вдова, и вдова, так сказать, «безутешная». Какое-то время ей казалось, что с ним она способна будет предать память о муже; на то же очистительное предательство, собственно, претендовал и он. Но потом она уже не смогла пойти на это. Таким образом, двое мертвых оказались сильнее двух живых — и он, и женщина, каждый, остался со своим покойником. Эта мысль вызвала в его душе отчаяние. Он видит себя в нерасторжимой связке со смертью, и уже больше не от тоски по жене, а от невозможности продолжать собственную жизнь без нее. То есть тот, кто связан со смертью, не может любить и бессилен в любви к другой женщине. Он, как и Таня, не мог предать свою покойную половину. После этого вывода поиски женщины, похожей на его жену, вдруг приобретают для него совсем другой смысл. Ему приходит на память эпизод из приключенческого романа для юношей: как один моряк убил другого, и убийцу, обвязав крепко веревками, живым, бросили в море. Вот и он так же, как тот моряк: связанный веревкой памяти со смертью, будет идти на дно жизни, падая от одного возраста до другого, вплоть до…
Теперь ему кажется, что он вот-вот задохнется. Он поднимается с кровати, идет в ванную, раздевается и встает под горячий душ. Неизвестно почему, пока он стоит под душем, им завладевает надежда: раскаявшаяся женщина внезапно постучит в дверь. Дверь открыта, она могла бы войти в комнату тайком, незаметно для него объявиться в ванной и смотреть, как он, голый, поворачивается под душем, а потом подойти к нему и взять в руку его член, как это сделала жена на площадке дома на виа Венето. Пораженный этим видением, он резко закрывает воду, стоит, не вытираясь, смотрит на низ своего живота и видит, как его член потихоньку начинает подниматься, набухать и увеличиваться, но, еще не отвердев, уже вздрагивает от небольших, едва заметных пульсаций, каждая из которых настолько мощна и спонтанна, что указывает на тревожное и настойчивое желание. Тогда ему ничего не остается, как подвести ладонь под яички, от которых вроде бы и идет сила, подстегивающая член. Он забирает в ладонь тяжелую мошонку, как бы взвешивая ее, затем поднимает руку к члену, охватывает его, как кольцом, двумя пальцами и сжимает. «Что я делаю, — говорит он, — онанирую?» И тут же выходит из душевой кабины, надевает купальный халат, идет в комнату, бросается на постель и закрывает глаза.
Потом он устремляет взгляд на балкон и на ту часть перил, которую освободил от растений. И представляет: женщина в черном пальто выходит на балкон, приближается к перилам, наклоняется вперед, заводит руку назад и поднимает пальто до пояса. Но вид белых ягодиц в обрамлении черного пальто, длится не больше мгновения. Затем незнакомка исчезает. И все начинается сначала: женщина выходит на балкон, склоняется к перилам, заводит руку назад и… Новый наплыв, новое, точно такое же видение. Эта сцена повторяется много раз, но никогда не выходит за рамки движения назад руки, поднимающей пальто. В эту минуту будто все между ними туманится, видение тускнеет и пропадает. Внезапно он стряхивает с себя оцепенение от этого навязчивого повтора, открывает глаза и видит, как его член, твердый и гордый, раздвинув полы халата, торчит в состоянии полной эрекции. Почти ничего не соображая, он идет к окну, раздвигает шторы и выходит на балкон.
Перед ним четкие силуэты деревьев на фоне черного неба, на котором угадываются белые, разорванные вечерним сирокко, тревожные и вместе с тем неподвижные облака. Он берет в руку член, охватывает его ладонью, и, следуя за выступившими кровеносными сосудами, медленно разминает пальцами его кожаную оболочку, доводя до предела наполненность и синеву. Мгновение он смотрит на член, который качается и, почти незаметно, пульсирует вместе с кожей лобка, потом сжимает его у основания, поднимает, опускает, вновь поднимает и вновь опускает. Теперь его рука идет вверх и вниз в точном и замедленном ритме, каждый раз останавливаясь для того, чтобы испытать сопротивление головки, которая, кажется, должна вот-вот вскрыться, — она уже лиловая, набухшая, блестящая; и рука вновь идет вверх и вниз.
Наконец приходит оргазм, а он, продолжая неподвижно смотреть на эти облака, почти белые и уже плохо различимые, чувствует боль, точнее — жгучую боль, доставляющую наслаждение. С каждым содроганием из члена выбрасывается обильная сперма, изливаясь потоком, стекает по руке, ползет к низу живота, и ему ничего не остается, как уподобить излияние спермы небольшому извержению вулкана. «Да, — внезапно приходит ему в голову, — это нынешнее извержение жизни слишком долго готовилось и наконец прорвалось. Оно не касается ни его жены, ни женщины в черном пальто, как извержение вулкана не имеет отношения к полям и домам, которые испепеляет». В конце концов, как при извержении, последний выплеск спермы, и в тот же миг судорога оргазма толкает его к перилам, сперма выстреливает в даль, как будто нарочно брошенная в пустоту ночи. Тогда он понимает, что овладел сейчас не женщиной из плоти и крови, но чем-то бесконечно более реальным, хоть и бестелесным.
Потом он стоит и смотрит на деревья и на небо. А значение события этой ночи он объясняет себе так: жена умерла, и их любовь умерла; он освободился и воскрес. Теперь он не будет больше разыскивать жену, или женщину, похожую на нее; вдова в черном пальто своей абсурдной верностью, своей болезненной верностью, его вылечила. Размышляя так, он смотрит на белые облака, как-то неуверенно подвешенные к черному небу, а тем временем, кончиками пальцев он снимает с живота превратившийся в пленку кусочек застывшего семени.
Дьявол не может спасти мир
Кто я? Не старый черт и не мелкий бес, а просто дьявол, очень старый дьявол. Но поскольку известно, что последние сто лет я больше посвящал себя научному прогрессу, который привел к бомбе в Хиросиме и всех великих ученых века, одного за другим, начиная с Альберта Эйнштейна, озадачил вопросом о цене их собственных душ, вы, должно быть, согласитесь со мной, что я — дьявол, который кое-чего стоит.
Кто-то, вероятно, скажет: да мыслимо ли, чтобы такой человек, как Эйнштейн — по общему мнению, сущий ангел, — мог продать душу тому, кто считается врагом человечества? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к психологии, а значит, к так называемому духовному творчеству, вдохновленному дьяволом, или, может бьггь, не им? Вы когда-нибудь слышали, чтобы поэт отказался опубликовать собственные стихи? Чтобы художник разрезал удавшееся ему полотно? Так же и с учеными. Ни один из тех, кто вступал со мной в тесный контакт, не желал затем отказываться от собственных открытий, несмотря на то, что со временем всем становилось ясно: эти открытия носят абсолютно дьявольский характер. И Эйнштейн, к сожалению, не был исключением. Он хорошо понимал: его изобретение прямо ведет к чему-то чудовищному и непоправимому, но, я вас уверяю, осознание этого ни на секунду не отягощало его совесть, даже когда дело касалось добра и зла. Самое большее, на что он был способен, — стараться не думать о плодах своего открытия. Собственно, потом так все и произошло: он сложил ответственность за предполагаемые и неизбежные катастрофы на плечи других ученых, развивших его открытие, обрушил на головы правителей, которые этими открытиями воспользовались.
Однако в этих соглашениях дьявола с учеными не все шло гладко. Были умники, которые, когда приходила минута расплаты, отказывались платить долг; были и другие — они выторговывали себе дополнительный успех, власть и славу; и, наконец, были такие, что старались меня запутать, считая, будто сумеют обвести вокруг пальца самого дьявола. Но был и впрямь единственный, уникальный случай — Гвалтиери, ему-то я как раз хотел простить долг. Вот истинная история этого опыта.
Кто не знает Гвалтиери? Кто не видел хотя бы одну его фотографию? Пожилой, но моложавый человек: высокий, худой, элегантный; с завораживающим, суровым и, вместе с тем, улыбающимся лицом; с проницательными глазами под черными густыми бровями, с серебристыми волосами, величественным с горбинкой носом и надменным, аристократическим ртом. В довершение к этому портрету следует добавить мягкий голос и чрезвычайно обходительные манеры. Этот необыкновенный человек выделялся уже в студенческие годы, когда я впервые подошел к нему с намерением просить его подписать роковой контракт со мной. Я узнал о нем от другого физика, профессора Пальмизано, продавшего мне душу, однако, не достигшего большого успеха из-за его невероятной и патологической лени. Умирая, Пальмизано сказал мне:
— Мне хуже: я сам себя осудил. Но я хочу тебе порекомендовать Гвалтиери, моего лучшего ученика, на самом деле, потенциального гения, который, если пойдет на сделку с дьяволом, будь уверен, перевернет, взбаламутит сонную и спокойную науку.
Такая рекомендация вызвала у меня острое желание познакомиться с Гвалтиери. Я долго колебался, все выбирал — как. В каком облике я смогу явиться перед ним, кем представиться? Товарищем по учебе? Инженером с новыми остроумными решениями, способными восхитить профессионала? Влюбленной женщиной? И остановился на последнем. Если нет ничего другого для успешного совращения, предпочитаю превращаться в женщину, чтобы искушать желанием соития, часто неодолимым.
С этой идеей я и начал следовать за Гвалтиери повсюду, куда бы он ни шел. Представлялся ему — то студенткой университета, где он преподавал, то замужней женщиной в каком-нибудь салоне или просто в гостях, куда была вхожа и она, то проституткой на углу улицы, где он жил. Женщины, в которых я обращался, были исключительно красивы и старались всеми способами дать понять Гвалтиери, что готовы доставить ему удовольствие. Но Гвалтиери, тогда еще тридцатилетний молодой человек, не удостаивал их даже взглядом, выказывая полное равнодушие, и это ему давалось легко: что называется, женщин он просто не замечал.
Я уже был в отчаянии от того, что никак не могу подойти к нему, когда в один из особо душных летних дней встретил Гвалтиери в месте, о свидании в котором и помышлять не мог, — в городском саду. Он сидел на скамейке с закрытой книгой в руках и, казалось, внимательно наблюдал за чем-то. Я принял облик хорошо сложенной темноволосой девушки. Сажусь напротив и смотрю на него в упор, однако же довольно скоро замечаю, что его взгляд направлен совсем на другое. Он, не отрываясь, смотрит на группу девочек от двенадцати до пятнадцати лет, играющих неподалеку в «классики». Известно, что у дьявола отменное чутье. Достаточно было увидеть, как Гвалтиери остекленевшими глазами смотрит на девочек, которые в игре нет-нет да открывают ноги почти до колен, чтобы догадаться в чем дело и чтобы понять не только, в кого мне имеет смысл превратиться, но и найти способ, который заставил бы его немедленно подписать дьявольское соглашение, — это оказалось делом нетрудным.
Встав со скамейки, я вошел в лесок, сменил там облик (ух, дьявол способен на многое), превратился в двенадцатилетнюю девочку с круглой кудрявой головой, с едва намечающейся грудью и длинными мускулистыми ногами. Вот и я! Включаюсь в игру и платье поднимаю повыше, чтобы легче было прыгать. Я — дьявол и знаю, что мои методы часто некрасивые, грубые, не по мне тонкости и неопределенности. Поэтому и удивляться нечего: платье задираю, соответственно, много выше необходимого; добавлю, что под платьем у меня ничего не было. Гвалтиери немедленно отмечает мою наготу — фиксирую это по тому, как он поспешно уткнулся в книгу, лежащую у него на коленях. Чуть позже отхожу от играющих и направляюсь к нему. В абсолютной правильности своего поведения я не сомневаюсь — по первому же взгляду Гвалтиери, брошенному на меня, понимаю, что попадаю в десятку.
Подхожу к нему, в руке у меня общая школьная тетрадь, в которой на первой странице готическим шрифтом (увы, я все еще не мог отказаться от своих старых привычек: по происхождению я — немец) написан обычный мой договор. И типично девчоночьим наглым голосом говорю: «Вот, коллекционирую подписи. Распишетесь в моей тетради?» — и одновременно кладу перед ним контракт.
Он посмотрел сначала на мои голые ноги, потом в лицо; долго вглядывался, пытаясь понять мои намерения, затем спросил:
— Милая, чего ты от меня хочешь?
— Да вот, коллекционирую подписи. Хочу, чтобы и ты поставил свою подпись в моей тетради.
— Давай посмотрим.
Дала ему тетрадь, раскрытую на странице контракта. Он взял ее. Для начала, будто намекая ему на свое желание, я притворилась, будто у меня чешется в промежности, и стала чесать ее сквозь платье. Он еще раз бросил на меня острый взгляд и вернулся к изучению тетради. И тут текст соглашения будто вспыхнул перед его глазами; однако отмечу — ни один мускул на его лице не дрогнул. Он прочитал, потом еще раз перечитал и спросил:
— Значит, ты хочешь мою подпись?
— Да, пожалуйста.
— А что ты дашь мне взамен?
Думаете, в этот момент мне было просто? Более, чем логично, было бы предположить, что в ответ он услышал: я, мол, согласна доставить тебе удовольствие в том месте, в тот момент и тем способом, каким тебе угодно. Э нет, именно нет. Я был здесь не для того, чтобы поощрять его в порочных наклонностях, которые, впрочем, он вполне мог удовлетворять и сам, не продавая мне при этом душу. Нет, я хотел большего — хотел сделать его одним из вершителей судьбы мира. Это и было, кратко и очень точно, изложено в тексте контракта (не существует единого образца, каждый «индивидуализирован»). И в ту самую минуту, опустив глаза в тетрадь, он, несомненно, понял абсолютно все. Тем душным летним днем в обычном городском саду перед ним, должно быть, разверзлась бездна. И он, зажмурившись, бросился головой в эту пропасть, готовый промерить ее бездонность.
Он повторил:
— Итак, можно узнать — что ты дашь мне взамен?
И получил на это вполне откровенное:
— Все, что захочешь.
Тогда он крайне холодно сказал:
— Пока прошу только ручку для подписи.
Роюсь в сумке, нахожу школьную ручку, протягиваю ему. Он решительно расписывается, возвращает тетрадь, потом поднимает на меня глаза и язвительно произносит:
— А теперь тебе нет смысла стоять передо мной. Иди, иди играй. И послушай, пожалуйста, впредь надевай трусы.
Это как раз то самое, что говорят дьяволу, когда он обращается в девочку. Мне не надо было повторять дважды; выпалив одним духом: «Спасибо за подпись и до свидания, до скорого», возвращаюсь к группе моих ровесниц.
Таким образом, подписав соглашение, Гвалтиери, за тридцать лет упорного труда, вдохновляемый и поддерживаемый мною, стал одним из самых известных ученых мира. Кроме того, несмотря на славу и богатство, он продолжал преподавать в римском университете. И я знаю почему. Скажем так — из-за ненасытного интереса к женской натуре. На его лекции всегда ходило много студенток, на которых он производил неотразимое впечатление своей суровостью и нежностью одновременно. Но никогда и ничего не доносилось до меня о его любовных отношениях с ученицами. И я знал причину его корректности. На самом деле Гвалтиери должен был преподавать не в университете, где студенткам обычно больше девятнадцати лет, а в средней школе, где учатся двенадцатилетние девочки, подобные тем, за которыми он подсматривал в городском саду. Этому тайному желанию мешал уровень его преподавания, его слава. Но, представляю, сколько раз он, должно быть, в душе завидовал более заурядным коллегам, которые могли работать с девочками младших классов, еще не достигшими половой зрелости!
Существует правило — никогда не нарушать отношения с дьяволом. Тот, кто подписал с ним договор, то есть должник дьявола, не должен был видеть контракт более двух раз: первый, когда подписывал, и второй, когда платил долг, в миг своей смерти. Однако дьявол, если возникнет у него такой каприз, вправе шпионить за своей жертвой в любом подходящем для случая облике. Должен признаться, что Гвалтиери интересовал меня не только как профессионал, но и как человек. Был он от природы высокомерен, а это, положа руку на сердце, никак не сочеталось с должностью слуги дьявола, в которой он оказался с момента подписания соглашения. В этой связи вспоминаю один эпизод. Первое время, гордясь своей победой, я следил за постоянно растущими успехами Гвалтиери. Как-то вечером я стоял рядом с ним в облике официантки в ресторане, где коллеги давали банкет в его честь.
Кто-то его спросил:
— Послушайте, Гвалтиери, вы, случайно, не подписали контракт с дьяволом?
И он очень спокойно ответил:
— Нет, не подписал, но готов подписать.
— Почему?
— Потому что у дьявола теперь знаний меньше, чем у человека. Скорее уж я заключу с ним договор, а не он со мной. То есть не он мне будет диктовать условия, а я ему.
Представляете, он мне хотел ставить свои условия! Мне?! Такая самонадеянность вывела меня из себя; в конце концов я посчитал своим долгом найти слабое место у этого человека, который, кажется, сознательно хотел пренебречь тем фактом, что своим громким успехом обязан мне, и только мне. Я решил умерить его тщеславие каким-то особенно дьявольским способом. Правда, тогда я чуть было не засомневался — кто из нас двоих больше дьявол. Стоит только найти слабое место у презренного человеческого создания, тогда проще простого, как говорится, поставить его на место. И тут меня осенило: как же мне не пришло в голову, что слабое место Гвалтиери не безмерные амбиции, а его особая эротическая склонность, которую я использовал, чтобы выманить подпись под договором и которая привела меня к мысли: ему нравятся девочки, да-да, но не настолько, чтобы их он ставил выше успеха. Одним словом, хоть я и использовал секс для подписания соглашения, оно, в свою очередь, относилось больше к науке, чем к сексу. Однако я не забыл ни долгий и пронзительный взгляд, который Гвалтиери бросал тогда на голые ноги девочек, чей облик я принял, ни, тем более, его фразу: «И послушай, впредь надевай трусы». И в память о нашей первой встрече, которая, в сущности, инициировала нашу связь, я взял за правило менять облик.
Однажды вечером, после очередной лекции, жду Гвалтиери в университетском саду. На этот раз я обернулся взрослой женщиной лет пятидесяти, на вид простой и серьезной, одетой в темное, но с броским и сомнительным гримом. Гвалтиери шагал, опустив голову и погрузившись в размышления.
Я преграждаю ему путь и говорю:
— Профессор, на одно слово.
Он останавливается и, глядя на меня, произносит:
— Извините, не имею удовольствия быть представленным, я тороплюсь, поэтому…
Немедленно его прерываю, понижаю несколько нарочито голос и обращаюсь к нему на «ты»:
— Когда узнаешь, что я хочу сказать, перестанешь торопиться.
Подняв брови, он спрашивает:
— А кто вы такая?
— Та, кто тебя знает и хочет доставить тебе удовольствие. Подожди, послушай: ей одиннадцать лет, она непорочна, ее мать уже согласна. И она в твоем распоряжении по этому телефону, — и даю ему бумажку с номером.
Внезапно с ним происходит нечто, похожее на приступ острой сердечной боли, — у него перехватывает дыхание и каменеют ноги. Остолбенев, он машинально берет бумажку, открывает рот, колеблется, потом спрашивает:
— Мать согласна?
— Гарантировано.
— Девственница?
— Конечно. Ты придешь и лишишь ее девственности своим большим членом.
Он внезапно густо краснеет, будто его оскорбили, пробует отреагировать достойно, но ограничивается:
— И это номер телефона?
— Точно, я у этого телефона практически двадцать четыре часа в сутки. Позвони, приходи, девочка в десять минут будет готова.
— С матерью?
— Конечно, с матерью.
Кажется, что он мучается, и мысли его вертятся вокруг матери, продающей свою дочь, как вокруг чего-то заколдованного и непостижимого. В конце концов он кладет бумажку с номером телефона в карман и, не прощаясь, уходит.
На этот раз я был совершенно уверен в успехе своего предприятия, потому что знал, как несколько неожиданных и решительных слов, произнесенных в нужный момент, в таких, например, случаях, как с этим Гвалтиери, могут сломать сопротивление любого и самым безжалостным образом. Но я ошибся. Ни завтра, ни в следующие дни Гвалтиери не позвонил. Таким образом, я зря потратил свое время, но выжидал, поскольку дьявол может все: скажем, превратиться в старую отъявленную сводницу и выслеживать в университетском саду знаменитого и уважаемого профессора, чтобы предложить ему свой товар, — а это вам не фунт изюма.
И все же очевидное и глубокое смятение Гвалтиери перед предложением сводницы подтвердило, что я на правильном пути: дело только в настойчивости. Теперь я подумал о другой трансформации, на этот раз более точной. Знал, что Гвалтиери паркует машину около своего дома в старом квартале города. Однажды вечером я принял облик девочки тринадцати лет. Открываю дверцу машины, влезаю и сворачиваюсь калачиком на заднем сиденье. Хотите знать, в каком виде? Сейчас скажу: кроме треугольного кусочка материи, прикрывающего лобок, на мне ничего не было. Гвалтиери садится, заводит мотор; тогда я встаю и закрываю ему глаза обеими руками:
— Догадайся, кто я.
Он не вздрагивает и не удивляется, а тут же включается в детскую игру:
— А кто ты?
Отвечаю, растягивая слова, мерзким голосом, каким говорят вполне определенные девчонки из низов:
— Мамка выгнала меня из дома, потому что я обозвала ее жирной. Ну, и куда мне податься? Вот я и спряталась в твоей тачке. Я же тебя знаю, знаю, кто ты, вижу тебя часто, как ты тут проходишь, ну я и решила, что ты меня не прогонишь.
Он молчит; поднимает руку к зеркалу заднего вида и, направляя на меня, восклицает:
— Да ты — мальчик!
Встаю на ноги и снимаю трусики:
— Да какой там мальчик! Посмотри-ка хорошенько: мальчик, да?
Он долго и с удивлением смотрит, потом говорит:
— Да, правда, ты — девчонка. Ну-ка, вылезай.
Тут же протестую:
— Мамка меня выгнала из дома голой и сказала: уходи, и пусть тебе подарит платье какой-нибудь мужик, из тех, кто тебе платит. А ты не можешь купить мне платьице?
— Нет, выходи.
— Не выйду, мне стыдно ходить голой.
Он молча выходит из машины, открывает дверь, хватает меня за руку и вытаскивает из машины, как выковыривают из раковины моллюска. Садится в машину и уезжает.
И тогда я понял — нужно придумать что-нибудь другое: такого человека, как Гвалтиери, не удастся провести ни в облике клячи-сводницы, ни маленькой проститутки. О своей грубости я пожалел — слишком уж был самоуверен. Нужно искушать тоньше, изощреннее, скажем даже, более дьявольски. Поразмыслив об этом еще немного, сам удивился, как это я не подумал раньше о первом, что должно было прийти мне в голову.
Гвалтиери женился довольно поздно на женщине много моложе его; потом он с ней расстался. У них есть дочь одиннадцати лет, которая живет поочередно то у матери, то у отца. Она из тех девочек, которых обычно называют настоящими красавицами. От нее исходит странное очарование неосознанной еще, а потому сильно возбуждающей сексуальности. Значит, я должен был — именно с помощью Паолы, так звали дочь, — искушать отца, для чего Гвалтиери, в свою очередь, должен был влюбиться в дочь.
Другими словами, я должен вынудить его к кровосмешению, к которому даже дьявол относится с неприязнью, потому что на сексуальные отношения между родителями и детьми — разве что к тому есть особенные и благоприятные условия — наложено строгое табу, против которого ничего не попишешь. Но в данном случае специальное, особо благоприятное условие соблюдено: Гвалтиери привлекают девочки. Кроме того, высокомерного человека, для которого именно это табу в некий момент могло стать не препятствием, а, скорее, стимулом, искушала бы любимица. Дело за девочкой. Кое-кто хотел бы знать, как дьявол может «разжечь» девочку одиннадцати лет? Тут как раз все было очень просто. Однажды летним утром я довольно быстро принял облик самой банальной белой бабочки, которых называют капустницами. Порхая, влетел в открытое окно спальни девочки. Вот и она: прекрасная Паолина погружена в сон, абсолютно голенькая, раскинула ноги, сбросив с себя из-за жары простыню. Пролетая по комнате, в конце концов сажусь на лобок спящей, именно туда, где едва намечается тайник ее тела — секси-инфант, уже заявившее о начале полового созревания. Проходит всего один миг, но именно в этот миг мне удается внушить одиннадцатилетней девочке хитрость, волю и желание тридцатилетней женщины.
Мое присутствие «сработало». В этот день, почти сразу после обеда, «вдохновленная» Паола берет книгу по математике и тетрадь и решительно направляется в кабинет отца. Не постучав, она входит и говорит отцу, читающему за письменным столом:
— Папа, ты обещал проверить уроки, вот я и пришла.
Не подозревая ничего худого, Гвалтиери отвечает, что готов, и указывает ей на стул рядом с собой. Но Паола ему говорит:
— Лучше я сяду к тебе на колени, так мне будут виднее.
Она взбирается к отцу на колени и устраивается на них лучше некуда. Долго ерзая и примащиваясь на его коленях, якобы, чтобы ей было удобнее смотреть в тетрадь, она своими ягодицами чуть прихватывает член отца. Но это не все: Гвалтиери, осуждая дочь за эти будто бы непроизвольные телодвижения, мог бы в тот момент еще избежать искушения, попроси он Паолу слезть с его колен. Тогда я делаю так, чтобы Паола дала ему понять, что шалит намеренно. И это было самым трудным на моем долгом поприще: дать понять Гвалтиери, что Паола делает это специально, но одновременно, чтобы он не осознал, что она вытворяет это по заказу. Таким образом, я продолжаю в том же роде: Паола ерзает, умащивается на отцовских коленях и — наконец-то! — ей удается окончательно «прихватить» Гвалтиери. Она вдруг замирает, будто прислушивается к тому, что чувствует. И занятия могут начаться, но теперь уже совсем в другой атмосфере, абсолютно отличной от той, что обычно окружает хорошего отца, проверяющего уроки маленькой дочери. Паола невнимательна и задумчива, неестественно для себя неподвижна и при этом как-то крайне непоседлива. Голос Гвалтиери прерывается, что явно означает его глубокое смятение. Тем временем, пока длится урок, я не бездельничаю и, для создания атмосферы трагического отказа от табу на кровосмешение, напускаю на город страшную грозу.
Темные и неподвижные облака опустились на колокольни, на купола и крыши римских домов, будто на лоб, нахмуренный из-за тяжелых дум. В кабинете становится темно; отец и дочь инстинктивно прижимаются друг к другу, руки одного становятся продолжением рук другой. Гвалтиери, еще не осознавая толком что делает, подливает масла в огонь: он нежно поглаживает дочь. Какое-то время Паола его не останавливает; затем, тяжело задышав, нетерпеливо берет его руку и откровенно переносит ее в нужное место. В последней попытке воспротивиться Гвалтиери свободной рукой включает лампу. Тогда Паола соскальзывает с его колен и предлагает:
— Хватит уроков. Давай поиграем. Я пойду прятаться, потом, когда я спрячусь, позову тебя, и ты будешь меня искать.
Гвалтиери готов: теперь он согласился бы искать ее даже в преисподней. А Паола, по моей подсказке, добавляет:
— Найдешь меня — можешь не дотрагиваться. Просто позови по имени — мы же с тобой в квартире одни.
И после этих слов, которые, по существу, были настоящей провокацией, она поднимается и на цыпочках убегает.
Гвалтиери остается сидеть за письменным столом, взявшись за голову обеими руками. Этот жест отчаяния ему помогает. А вот через минуту и ожидаемый крик:
— Я спряталась. Иди искать.
Тогда он встает из-за стола и поспешно покидает кабинет. Тут я вновь вмешиваюсь: раздразниваю грозу. Гашу весь свет в квартире; в тот же миг организую вдалеке хриплый, утробный и на редкость долгий гром, а затем слепящие артиллерийские разрывы и пулеметные очереди молний, которые ярко и нереально освещают прихожую, где Гвалтиери уже шарит между складками занавесок. Молния гаснет, гром вдали затихает; в тишине темной квартиры слышится только широкое и дробное шуршание дождя, обрушившегося на город.
И тут опять слышится крик Паолы:
— Почему ты меня не ищешь?
Гвалтиери, по-видимому, уже понимает: среди грома и молний должно что-то случиться, и он на ощупь переходит из прихожей в гостиную. Надо заметить, что устройство гостиной как нельзя лучше соответствует моему плану — табу на кровосмешение должно рухнуть и обернуться невероятным шабашем. Гостиная и вправду напоминала средневековую крытую галерею с большими арочными окнами. Если кровосмешения не произойдет, то разве только из-за грозовых помех — молний, грома и дождя, которые убедят Гвалтиери, что сама природа противится его грехопадению. И то правда, что если кто-то иной на его месте не осмелился бы на такое, то он, одержимый дьяволом, пытался раздуть в себе последние угольки решимости.
Гвалтиери ощупью входит в гостиную. Можете поверить, что к этому времени Паола завершила все свои приготовления и включила лампу, чей ненавистный свет пылал уже, по меньшей мере, полминуты. За эти полминуты там, в глубине гостиной, Гвалтиери видит Паолу, лежащую на софе в позе пресловутой «Обнаженной Махи» работы Гойи (ну, я ведь дьявол эрудированный): обе руки заложены за голову, крошечные грудки торчком, живот втянут, ноги сдвинуты. Она абсолютно обнаженная; единственное отличие от знаменитой картины — и я об этом позаботился — пухлые бледные губы ее неоперившегося секси-инфант хорошо видны, и его взгляд упирается прямо в них. Свет гаснет, и становится наконец темно. Теперь я жду, когда Гвалтиери набросится на дочь. Заранее знаю, что произойдет: в эту самую минуту Паола рассеется туманом в руках отца, и ему ничего не останется как кусать подушки софы. В этом, на самом деле, и заключается суть дьявольских наваждений: они должны быть реальными только до определенного момента, скажем, до исчезновения зримых образов, как при пробуждении. А после этого остаются лишь фантазиями смущенного ума.
Но меня ждал сюрприз. В темноте я вдруг услышал взрыв язвительного, дикого хохота Гвалтиери, а затем и его слова:
— Гойя! Гойя в моем доме! Нужно сохранить воспоминание об этом явлении. Надо запечатлеть мою маленькую герцогиню д’Альба. Теперь замри. Папа будет тебя фотографировать. И снимать я тебя буду не в искусственном освещении, а при вспышках грозовых молний!
Сказано — сделано. И пока я выхожу из ступора, Гвалтиери уже ищет в шкафчике фотоаппарат, а затем, продолжая заливаться дьявольским смехом, начинает снимать лежащую на софе обнаженную дочь, как объявил заранее, под «мои» молнии. Он снимает и снимает без конца. Дальнейший рассказ бессмыслен, ибо Гвалтиери из-за страсти к фотографированию теряет недавнюю склонность к инцесту. А потом, от греха подальше, он велит дочери одеться и вернуться к урокам. От злости я на полураскате останавливаю грозу. Гвалтиери возвращается в свой кабинет, а я терплю поражение и оставляю поле боя.
Вы поняли? В последний момент, вместо того чтобы приступить к делу, Гвалтиери избрал путь созерцания. Он прибег к древнему трюку, именуемому творчеством. И тем самым он обвел меня вокруг пальца, пользуясь в качестве фотовспышек молниями «моей» грозы. Сильно заскучав, я немедленно обезвредил Паолу, снял с нее груз преждевременной похоти и снова дал ей возможность впасть в дремоту детской невинности. Что до Гвалтиери, то я решил больше не искушать его. Наш договор истекал через два года, поэтому мне ничего не оставалось, как ждать полночи фатального числа и возвращения мне долга. Отсюда и результат — за несколько дней я склонил Гвалтиери принять предложение американского университета, и он уехал преподавать в Соединенные Штаты Америки.
Кто-нибудь может сказать: дьявол, а так быстро пал духом. Чувствую, надо объясниться. Как я уже указывал, в действительности, факт, что Гвалтиери отдавал предпочтение амбициям, мешал мне — особенно после грозовой ночи — снова соблазнять его, используя склонность ученого к девочкам. Нельзя служить двум господам. Одинокий молодой человек, не уверенный в своей судьбе, которого я встретил в летнем городском саду, все еще метался между честолюбием и сексом. Прося Гвалтиери подписать контракт в школьной тетради, я рассматривал его сексуальность только как способ для достижения моей цели, и, кроме того, понимал, что в тот момент его честолюбие преобладало над всем остальным в его жизни. Не в силах освободить в себе животное, Гвалтиери в то уже время ставил превыше всего собственное честолюбие, не грозящее обернуться отравленными уколами совести. Большой ученый не мог проводить время в покушениях на честь девочек. Таким образом, в тот самый миг, когда Гвалтиери поставил подпись в тетради, он спасся, но потерял себя навсегда.
Почти два года я не интересовался Гвалтиери. Из Америки до меня доносилось эхо его невероятных успехов, но удовольствия мне это не доставляло, что может показаться странным, поскольку он как-никак был моим созданием. Обычно, — в ожидании когда же, наконец, можно будет отправить должника на вечные муки ада, — я внимательно слежу за успехами каждого, кто заключил со мной соглашение, и не могу избавиться от чувства гордости, подобно искусному ремесленнику, создавшему идеальное творение. С Гвалтиери было иначе: я чувствовал, что привычное удовлетворение мастера вытесняется неким раздражением и разочарованием.
Почему? В конце концов, после долгих размышлений, я пришел к единственно возможному заключению: я влюбился в Гвалтиери. Кому-нибудь придет в голову: а-а, гомосексуальная страсть! дьявол же — мужчина. Ничуть не бывало. Дьявол может быть и мужчиной, и женщиной, быть и гетеро-, и гомосексуальным. И как можно было бы уже заметить, дьявол может стать, среди прочего, и вовсе кем или чем угодно, бабочкой, например. В случае с Гвалтиери, я — женщина, бесповоротно женщина. Избегаемый и отвергнутый им в облике, принятом мной с оглядкой на его порочную склонность, я влюбился в него и будто обрел вторую природу. Я стал женщиной, я полюбил Гвалтиери, и мне теперь совершенно неинтересны его безумные амбиции и головокружительные успехи. Я и раньше, предъявляя ему роковой пергамент, хотел, чтобы мы стали любовниками, хотел этого любой ценой.
Последний год, из двух оставшихся, был на исходе; теперь или никогда — вдруг решил я, — последую за Гвалтиери в Америку, хоть раз еще попытаюсь соблазнить его до того, как предстану перед ним в своем натуральном дьявольском облике, чтобы потребовать выполнения контракта. Однако оставалась проблема с выбором нового образа. Гвалтиери преподавал в А-ском университете. Я понимал, что не могу ходить на его лекции в облике одиннадцатилетней девочки, как, казалось бы, было необходимо. Оставалось предстать зрелой женщиной. И все же, нужно было, чтобы Гвалтиери нашел во мне, женщине, нечто от девочки, соблазнявшей его в прошлом. Я ломал себе голову: женское тело с круглым девичьем лицом? Распахнутые глаза, челка и мелкие черты лица? Маленькие ручки, маленькие ножки? Едва наметившаяся грудь? А ниже? Как у всех? По длительном размышлении, я отбрасывал все версии, одну за другой: почти все женщины имели, по меньшей мере, один из перечисленных признаков, но ни по одному из них нельзя было принять женщину за девочку.
И вдруг я кое-что вспомнил. В ту ночь, когда я почти довел Гвалтиери до инцеста, я заметил на стене его кабинета, над письменным столом, большую фотографию в рамке. Вероятно, этот снимок Гвалтиери сделал во время путешествия на Восток. На фотографии была молодая женщина — камбоджийка, малайка или японка, одной рукой она взяла за руку девочку, другой поддерживала на голове большую корзину с фруктами. Рука, воздетая к корзине, подняла передний край единственной ее одежды — куска ткани, обертывающего тело, — и напоказ оказалось выставлено интимное место. Это было невинное секси девочки: лобок, не покрытый волосами, и пухлые нижние губы, тогда как половая щель у нее была, как у взрослой женщины: бледная, продолговатая и уходящая в глубокую тень между ног. Обнаженный, выпуклый зарубцованный «шрам» впечатлял не столько сам по себе, сколько в контрасте с тем, что женщина была уже матерью.
Пока Гвалтиери исправлял задание по математике, я смотрел на эту фотографию; и у меня возникла мысль — это секси-инфант было похоже на мою интимную часть, а Гвалтиери, вне всякого сомнения, увеличил и поместил в рамку данную фотографию единственно за своеобразие такой детали во взрослом женском теле. И было понятно, что, вообще-то, другого интереса фотография не представляла, — заурядный снимок, какие туристы делают тысячами, путешествуя по Востоку. Так что прояснить следовало одно: сделана ли фотография случайно или же специально увеличена, обрамлена и повешена на стену? Я склонялся ко второму: так и вижу, как Гвалтиери щедро расплачивается с малайкой, а потом просит ее попозировать, с девочкой за руку и корзиной, полной фруктов, на голове. Да, я представил себе тот момент: ткань, подобно легкой завесе, приоткрывается, и именно настолько, чтобы без труда разглядеть неприкрытое секси-инфант, изумляющее и захватывающее своей детскостью в сочетании с совершенно зрелыми размерами. Для такого, как он, открыть подобную аномалию — женщина с девичьим секси — наверное, было так же ценно, как для филателиста приобрести редкий экземпляр давным-давно разыскиваемой марки.
Только тогда я догадался, что Гвалтиери притягивают не столько сами девочки, сколько их секси, и только они, своим цветом, формами и устройством. И больше того, как ни странно, можно было подумать, что именно контраст между взрослым телом и детским секси составляет для него особое лакомство. Вполне возможно, он и на старуху бы польстился, имей ее секси эти свойства. Вот примерно так объяснял я одну из многочисленных фотографий, представших моему взору тогда, в грозовую ночь в кабинете, когда я, опустившись на колено, целился мысленным объективом в центр «моего» тела.
Да, прочь сомнения! Таким образом, исходя из вышеописанного, я превратился в женщину, не очень молодую, чуть старше тридцати, высокую, абсолютно сформированную, за исключением гениталий. Им суждено было оставаться детскими, только неестественно большими, с бледными, безволосыми, пухлыми губами. Правда, я добавил низкую, мягкую, почти материнскую грудь, узкие бедра, маленький зад, длинные и стройные ноги. В довершение, вспомнив фотографию малайки, я придал своему лицу азиатские черты: чуть раскосые, но, правда, лишенные монгольского разреза глаза, небольшие нос и рот, черные и гладкие волосы. К тому же, логически рассуждая, в Штатах азиатов пруд пруди: так что я напомню Гвалтиери малайскую фотомодель и, в то же время, не очень-то буду бросаться в глаза. И последний штрих: я должен быть достаточно сведущ в материях, которые преподавал Гвалтиери. Я считал, что должен очаровать его двумя аномалиями: невиданным секси и неслыханной образованностью.
Очень довольный своим обликом, я полетел в Америку и, после долгого путешествия, приземлился в аэропорту А., выстроенного посреди пустыни. Штат, в котором находится А., знаменит ядерным центром, где постоянно проходят эксперименты по ядерной физике, а университет, правду сказать, — ничто иное как фиговый листок на этом сраме.
Появившись в аудитории на первой лекции семинара Гвалтиери, я села в первый ряд. Именно в эту минуту он объявлял тему семинара: перспективы развития новейших открытий. Название звучало многообещающе. После лекции, на которой рассматривались основные вопросы, подойдя к Гвалтиери, я представилась. Сразу выяснилось, что я для него никто — обычная студентка. Улучив момент, когда он был один, я заговорила с ним на научном языке, с глубочайшим, не в пример другим ученикам, знанием предмета.
Речь шла о моих наблюдениях, смысл которых был понятен не более чем трем-четырем ученым в мире. Тут Гвалтиери вздрогнул и из-под черных бровей с удивлением уставился на меня. На вопрос, в каких университетах я до сих пор училась, я ответила, что, мол, посещала Токийский. Изумление, в которое я его вогнала, мне понравилось; теперь мне не затеряться среди остальных студентов. Но это только начало. Теперь каким-то образом нужно устроить так, чтобы он в меня влюбился; и это при том, что было ясно: добиться желаемого можно только прямым предъявлением моего сверхъестественного, редкостного, неимоверно беззащитного секси.
Дело было нелегким. Как подступиться? Конечно, проще всего — взять да и выставить напоказ свою интимную аномалию. Но, сказать по правде, хотелось, по крайней мере поначалу, сыграть роль прилежной и невинной студентки, ибо я все еще надеялась избежать откровенного стриптиза, обойтись обычными уловками, какими женщина старается привлечь мужчину, которого любит. Как уже было сказано, я сидела в первом ряду, не сводила с него глаз, давая ему понять, как безмерно я в него влюблена. Однако Гвалтиери не проявлял ко мне никакого интереса, по крайней мере, к той части моего тела, что предназначена для всеобщего обозрения. Для него я оставалась грациозной азиаткой, одной из многих его учениц, уверенной в себе и до удивления образованной, но и все! Что делать?
Снова и снова я подходила к нему с вопросами по его лекциям. Но теперь, когда первый шок от моих исключительных знаний прошел, Гвалтиери, что обнаружилось почти сразу, вместо того чтобы увлечься мною, начал меня избегать. Я много раз себя спрашивала о причинах такого его поведения. Паника перед чувством, которое он видел в моих горящих нескрываемым обожанием глазах? Или робость перед моей образованностью? После долгих размышлений, я сказала себе, что Гвалтиери, должно быть, привык к тому, что студентки в него влюбляются, это льстит его самолюбию. И тем не менее, он нашел повод прекратить наши ученые беседы, — он-де не все понимает. Спора нет, из всех его студиозусов я — самая знающая и яркая ученица, не потому ли он старался держаться от меня подальше? В конце концов Гвалтиери сам объяснился со мной.
Это произошло в разгар семинара. Лекции с каждым разом становились все труднее и запутаннее. И в то же время, у Гвалтиери, очевидно, проявлялось необычное настроение — что-то между буйством и меланхолией. Он был резок и печален, нетерпелив и мрачен одновременно. Нужно отметить, что главная и гнетущая мысль, чем дальше, тем больше мучила его. Естественно, я хорошо знал, какова эта мысль: совсем уже скоро, едва ли не через неделю, должен прийти конец нашему контракту, я предстану перед ним в истинном образе и сыграю наконец свою игру. Но странно, у меня возникло ощущение, что его угнетает не только наш договор; что-то было тут еще, совсем другое. Но что?
Вдруг лекции о перспективах развития современной науки приняли характер фантастический и, одновременно, катастрофический; по крайней мере, для меня, единственной, среди всех его студентов, способной понять, куда клонит Гвалтиери. Может быть, оттого, что он теперь уже говорил скорее о другом и загадочно, или оттого, что, выстраивая свои объяснения, отказывался отвечать на вопросы, многие студенты перестали посещать его лекции. Жесткие манеры и мрачные разговоры, а главное, расстройство и рассеянность профессора, озадачивали. К концу семинара в этой довольно большой аудитории нас осталось совсем немного. В первом ряду — одна я, а позади, на двух-трех рядах, вразброс, не более дюжины студентов.
Внезапно, во время особенно захватывающей лекции, на меня нашло озарение. Гвалтиери говорит так потому, что намекает на свое особенное открытие, которое сам он еще до конца не осознал. Значит, никто, кроме него, не знает об этом открытии; никто, в результате, не может понять его, кроме меня. Этот день надо было взять на заметку. Вернувшись домой, я попыталась сложить воедино мало понятную головоломку его выводов. От того, что мне стало понятно, я остолбенела. Помню, что в тот миг, подняв голову от стола всего на секунду, я внимательно посмотрела в окно на серую и холодную пустыню, в небе над которой умирало красное, как огонь, солнце. Затем, снова склонившись над вычислениями, я еще раз тщательно их проверила и в конце концов убедилась в том, что моя первая догадка было правильной: на самом деле Гвалтиери говорит о Конце Света. Такова, и только такова, была перспектива развития новейшей науки, — вот чему он посвятил семинар.
Теперь мне стала ясной скрытая драма Гвалтиери, по крайней мере, сердцем я ощутила это. Оказавшись под угрозой потери души, он пришел к катастрофическим выводам и по отношению ко всему человечеству. Одна катастрофа была связана с другой. На самом деле, если бы Гвалтиери не заложил душу, он не сделал бы этого открытия; и именно оно привело его к оценке личной катастрофы, а теперь уже провоцировало и катастрофу глобальную.
Это сердечное, чисто человеческое сочувствие вдруг подсказало мне, что в моей дьявольской натуре есть нечто, скрывавшееся до сих пор: я здесь больше не для того, чтобы обольщать и укрощать Гвалтиери, используя его порок, а потому что — уже в мужской своей ипостаси — полюбил его. И открыл я это, вспоминая любовное и абсолютно женское чувство сострадания, с которым глядел на стоявшего на кафедре, исполненного мрака и отчаяния профессора. Мне хотелось оказаться рядом с ним, погладить его по голове, обнять, успокоить нежными словами.
Но любви мешало сознание собственной ограниченности: люби не люби — все равно остаешься дьяволом. Я уже говорил, что знал заранее: в тот самый момент, когда Гвалтиери, поверив наконец в мою любовь, обовьет мое тело и проникнет в меня, я растаю, как туман на солнце. Когда все еще мне хотелось наказать Гвалтиери за высокомерие, использовав его тягу к девочкам, и улетучиться прямо из его объятий, я воображал — какой это стало бы издевкой над ним, как подошло бы моей дьявольской природе. Но теперь, когда я открыл, что люблю его, мне не оставалось ничего другого, как честно признать, что это было бы насмешкою не над ним, а над собой. Оконфузиться на вершине близости — нет, это невозможно себе представить. Кроме того, как мне потом пугать его своими устрашающими личинами, как банальным, безжалостным способом вынимать из него душу? — нет, лучше не надо! Жалкая награда, и лучше бы ее вовсе не было: я уже не хотел его душу в другой жизни, я хотел его здесь, в этой, где бы мы жили вместе! Последнее желание, однако, было плотским, типичным для человеческой натуры, но против него отчаянно протестовал мой разум.
Так, уверенность, что я превращусь в дым в миг решающего сближения, теперь вообще не влияла на мое чувство к Гвалтиери. Зная, что никогда не смогу соединиться с ним плотски, я ежесекундно чувствовал к нему мощный порыв физического влечения; и почти надеялся — да-да, на чудо! — что адские правила подразумевают единичные исключения, хотя бы в этом случае.
И на что же могла опираться надежда, такая, в каком-то смысле отчаянная, как не на любовь? На ту самую любовь, что вначале призвана была служить мне для ловли Гвалтиери, и в сети которой, как теперь мне стало ясно, попал я сам? И я решил воплотить то, к чему пришел в своих заключениях: принудить Гвалтиери назначить мне свидание вне университета, и лучше в его доме.
После лекции, на которой ко мне пришло озарение, я не задумываясь подошла к нему и тихим голосом доверительно спросила:
— Судя по последним лекциям, мне показалось, что вы пришли к окончательному выводу: дальнейшее развитие науки прямо ведет к Концу Света! Вы ведь именно это имели в виду, не правда ли?
Меня поразила его внешность: он осунулся, выглядел изнуренным, грозные брови тревожно нависли над глубоко запавшими и налившимися кровью глазищами; нос еще больше стал похож на орлиный; щеки ввалились, и весь он напоминал хищную птицу с взъерошенными перьями, враждебную и готовую наброситься на любого, кто осмелится подойти.
Он сердито ответил:
— Ничего я не имею в виду. Выражайтесь яснее.
— И тем не менее, то, что вы хотели сказать, понятно. Однако, исходя из нескольких посылок нельзя прийти к одному-единственному неоспоримому выводу.
— К какому?
Он так прохрипел свой вопрос, что я предпочла ответить так:
— Для дальнейшего выяснения этого вопроса я бы хотела увидеться с вами наедине, и лучше в вашем доме.
— В моем доме? Это невозможно! — раздражился он.
— Но почему невозможно? Все возможно для нормальных людей.
Он жестко сказал:
— Послушайте, я не понимаю, чего вы добиваетесь. Увы, я не влюблен в вас, и думаю, что этого никогда не произойдет.
— Вы абсолютно уверены?
— Ищите любовника среди студентов, раз вам так сильно хочется. А меня прошу оставить в покое.
Последние слова он почти выкрикнул; к счастью, все уже ушли, и мы были одни. Я посмотрела на пустые ряды аудитории — казалось, они меня подталкивали к полной откровенности. И на секунду у меня возник огромный соблазн задрать юбку, едва прикрывающую мои ноги, и, как обычная сучка, или кошка, предложить ему взять меня сзади, прямо тут, у кафедры. Это нестерпимое, страстное желание длилось всего секунду; потом, войдя в цивилизованные рамки, я решилась ограничиться объяснением в любви. Но что-то из той животной, а значит, в общем, невинной жажды, должно быть, осталось в моем тихом и смиренном голосе:
— Я люблю тебя, и только тебя.
Вероятно, Гвалтиери растрогался и внезапно успокоился. Он поднял руку, погладил меня по щеке и спросил:
— Ты правда любишь меня?
— Очень!
— Не думай об этом больше. Я не готов, и не о чем тут говорить.
Я осмелела и решилась сказать:
— У меня есть основание думать, что тебе может понравиться одна физическая особенность моего тела. В следующий раз я найду способ ее тебе предъявить. И если то, что ты увидишь, тебе понравится, я прошу тебя, опусти глаза в знак согласия — вот так, — и я медленно опустила веки.
Озадаченный и заранее взволнованный, он мгновение смотрел на меня, а затем отеческим тоном сказал:
— Ты странная девушка.
Взяв его руку, я поднесла ее к губам, страстно поцеловала и, торопливо попрощавшись: «До завтра», убежала.
На другой день после обеда, перед тем, как пойти на вечернюю лекцию, я открыла шкаф, чтобы подобрать камбоджийскую одежду: курточку и легкие брюки из черного материала. Взяв ножницы, иглу и нитки, я распорола шов спереди почти до промежности и вновь вшила молнию, которую предварительно выпорола. Теперь молния едва держалась; достаточно чуть приспустить ее язычок, и мой плотный, упругий живот молодой женщины вырвется из тесного плена брюк наружу, высвобождая вслед за собой сверхъестественно незрелое секси. Идея была такова: сесть, как обычно, в первый ряд и в подходящий момент спустить молнию, разведя одновременно полы курточки, как занавес на спектакле моего секси. Таким образом, в течение всей лекции Гвалтиери будет созерцать эту удивительную и притягательную для него часть моего тела, которой днем раньше я хвалилась, обещая продемонстрировать ему.
С самого начала лекции я заметила, что Гвалтиери в смятении. Он говорил сдавленным голосом, фразы произносил медленно, разбивал их слишком долгими паузами, и не столько потому, что не знал о чем говорить, сколько от невозможности сосредоточиться на собственных словах, потому что думал о другом. Содержание лекции меня не интересовало, я смотрела на него: мне было важно встретить его взгляд в тот миг, когда он опустит глаза, увидев блеск моей наготы. Гвалтиери говорил, подпирая голову рукой, и его взгляд был устремлен в конец зала. Потом — внимание! — он выпрямился, повернулся и взял стакан с водой. Все! Тяну вниз молнию, спускаю брюки, живот на свободе, и, раздвинув полы курточки, я ложусь, развожу широко ноги и выставляю напоказ ничем неприкрытое секси. Понятно, что при этом, почти горизонтальном, положении моего тела бледный и пухлый «шрам» моего секси со всей его неестественной длиной, от промежности и почти до самого пупка, прекрасно виден Гвалтиери.
Это секси было, по сути, тем же самым, что тридцать лет назад заставило Гвалтиери расписаться в моей тетради в городском саду; тем же, что ему предлагала в университете сводница; тем же, что маленькая проститутка тринадцати лет, спустив трусики, показывала ему в автомобиле; тем же, наконец, что его дочь с большим удовольствием и так долго позволяла ему фотографировать в разгар организованной мною в Риме грозы. Это было секси, о котором он мечтал всю жизнь, а его обостренное самолюбие постоянно мешало ему наслаждаться им наяву, разве что во сне. И вот, этот несравненный и мучительный предмет, цель самых тайных желаний Гвалтиери, ему предлагают — и как раз в то время, когда терять ему больше нечего, следует только принять и радоваться.
Я знала, что никто из оставшихся за моей спиной студентов меня не видит; поэтому смело и довольно долго, насколько было возможно, держала открытым «занавес» моей курточки. Я было уже подумала приласкать свое секси рукой, как порой делают девочки, безотчетно и непристойно возбужденные. Пока я опускала ладонь с живота к промежности, я посмотрела вокруг и вдруг обнаружила, что дверь в зал приоткрыта, и сквозь щелку за мной шпионят два сверкающих глаза. В тот же миг я посмотрела на Гвалтиери: он стоял и пил воду; мне с моего места было хорошо видно, что его глаза смотрят вниз, значит, веки, в знак нашего договора, он опустил.
Ах, как впечатлительна женская натура, даже в случае, когда это переодетый дьявол. Увидев два следящих за мной сияющих глаза, я обмерла: обычную для меня уверенность и неуязвимость сменили неловкость, стыд и страх. Тогда я сама себе сказала: «помни, ты — дьявол». И все равно мною владели ощущения молодой женщины, которая знает, что, пока она слишком рискованно кокетничает, за ней подглядывают. А когда дверь распахнулась и рыжий парень в джинсах и клетчатой куртке, с небесного цвета искрящимися глазами, вошел и сел рядом со мной, страх перешел в панику.
Естественно, едва увидев знак согласия Гвалтиери, я поторопилась брюки застегнуть. Но тут же поняла, что слишком поздно. Мой сосед написал записку, открыто передал мне, и я вынуждена была ее прочесть. Блистая студенческим жаргоном, он похвалил то, что я показывала Гвалтиери, затем безапелляционно пригласил меня подождать его за дверью. Положив записку в карман, я с замирающим сердцем посмотрела на Гвалтиери: лекция закончилась, и он уже собирался. Порывисто поднявшись со скамьи, я подошла ближе, чтобы остановить Гвалтиери в ту минуту, когда он будет сходить с кафедры, и прошептала:
— Спасай, я в отчаянии — этот рыжий тип меня видел.
Гвалтиери мгновенно понял, посмотрел на студента, который уже поднимался со скамьи, и сказал мне:
— Уходим вместе, возьми меня под руку и постарайся говорить со мной.
Я заговорила с притворной живостью:
— Профессор, какая великолепная лекция! Можно задать вам один вопрос?
Мы шли под руку; и мне было приятно чувствовать, что, хотя бы в знак соучастия в тайном сговоре, он прижимает мою руку к себе. Не глядя на меня и как бы небрежно, он сказал:
— Вопросы задаю я. Ты такая там от природы или?..
— Или что? Я с детства такая. И осталась до тридцати лет точно такой, какой была в восемь.
— А как же волосы, удаляла что ли?
— Удаляла? С чего это? У меня сроду не было ни одного волоска.
Мы вышли в коридор. Рыжий парень с небесно-голубыми сияющими глазами внезапно преградил нам путь:
— Профессор Гвалтиери, эта девушка — моя. Пожалуйста, отпустите ее, мы приглашены сегодня на ужин.
Я истерично завопила:
— Неправда, не будет никакого ужина!
Парень растерялся, но продолжал настаивать: он взял меня за руку и потянул к себе:
— Давай, давай, мы поссорились — это верно, но теперь все в порядке; пойдем, попрощайся с профессором и пойдем.
Он сильно сжал мою руку и уставился прямо мне в зрачки своими горящими, расширенными, чуть сумасшедшими глазами.
Я упорствовала:
— Все вранье, я тебя никогда в жизни не видела.
Его маленькое треугольное лицо напряглось, широкая мускулистая шея окаменела. В конце концов, исключая Гвалтиери из диалога и обращаясь только ко мне, он тихо сказал:
— Между прочим, я только что тебя очень хорошо разглядел.
На этот раз вмешался Гвалтиери, чуть фальшиво, но со всем своим авторитетом:
— Послушай, тут какое-то недоразумение, это — моя дочь, и она действительно не знакома с тобой. Как, кстати, и ты не знаком с ней. Можешь сказать, как ее зовут?
Парень с маленьким лицом и широкой шеей ничего не ответил. Но его глаза говорили за него. И было понятно, что он хотел выкрикнуть правду — мол, застал меня с голым секси перед мужчиной, который теперь назвался моим отцом. Однако, в итоге, как юноша воспитанный, не хулиган, он процедил сквозь зубы: «хорош отец!» и отстал. Гвалтиери с силой потащил меня к выходу. Несколькими минутами позже мы уже бежали через пустыню к машине; солнце садилось, на горизонте пылал закат.
Гвалтиери вел машину молча, как-то уж очень сосредоточенно, и мне казалось, что он напряженно о чем-то думает, а прийти к единственно возможному выводу так и не может.
Наконец он сказал:
— Кстати, этот студент не знал твоего имени. А теперь до меня дошло, что и мне оно неизвестно.
Мне стало дурно. Конечно у меня было имя в паспорте, который надо было предъявлять в американском аэропорту. Но вдруг я сама поняла, что забыла его, и сказала первое пришедшее на ум:
— Зови меня Анджелой.
Между прочим, это имя говорило о том, что есть на самом деле: ведь дьявол — падший ангел, изгнанный с небес.
Он ответил серьезно, будто самому себе:
— Нет, я буду называть тебя Мона[6].
— Почему Мона?
— На венецианском диалекте так называют то место, которое ты мне показывала на лекции. И еще к этому слову можно приставить Де-, то есть Демона. Кстати, здесь, в Америке, много женщин с именем Мона.
Я переспросила:
— Демона, почему Демона?
— Или Мефиста, — ответил он.
Выходит, он все понял. Или старался угадать, подозревая, более чем на законном основании, суть дела. На какое-то мгновение я себе представил, что бы произошло, если бы я ему признался, что я — дьявол. Узнай это, Гвалтиери, наверное, пришел бы в ужас от того, что за очаровательной женской внешностью прячется вызывающий отвращение старый козел из преисподней (так с незапамятных времен меня изображает человечество; на самом же деле, я — дух и могу, как никто другой, превращаться в кого угодно), и ни за что бы не принял моей любви; той единственной и невозможной любви, к которой я всеми силами стремился. Таким образом, я сразу решил не признаваться и обманывать во всем:
— Что за идея? Почему Мефиста? Не понимаю.
После недолго молчания, он ответил сквозь зубы:
— Потому что ты — дьявол. Если такое допустить, то всё становится проще.
Что он хотел обозначить этим «всё»? Фатальное разоблачение в уже приближающуюся полночь, или нашу близость?
Я сказала:
— Знаю, почему ты принимаешь меня за дьявола. Откровенно говоря, на твоем месте я подумала бы то же самое.
После долгой дороги по пустыне, мы доехали до большой, залитой асфальтом площадки. Здесь было светло, как днем: мощные фонари с высоких опор освещали эту бескрайнюю и, в общем, пустынную площадь. Несколько припаркованных машин, подъемный кран и пара военных американских грузовиков — это все, что стояло на ней. В глубине площади неясно угадывались закрытые ворота и ограда из колючей проволоки, контуры которой терялись во тьме уже наступившей ночи. Гвалтиери направил машину в тень и затормозил подальше от ослепляющего света фонарей. Он погасил фары, включил свет в салоне машины и повернулся ко мне:
— Скажи, а по-твоему, почему я думаю, что ты — дьявол?
— Почему? Да, потому что тебе кажется, что только дьявол способен искушать тебя таким невиданным секси.
Из-под густых бровей он скосился в мою сторону:
— Да, это так: то, что ты мне показала, несомненно, дело рук дьявола.
Я сделала вид, что не понимаю:
— Да что ж такого дьявольского в женских гениталиях?
Он рассудительно объяснил:
— Дело в том, что только дьявол мог знать о моей особой эротической склонности.
Откровенно рванувшись к нему, я обвила его шею руками и зашептала ему в ухо:
— Если это доставит тебе удовольствие, можешь думать, что я — дьявол. А на деле, я — только бедная и очень, очень счастливая девушка, оттого, что в эту минуту я рядом с тобой и нравлюсь тебе.
Поцеловав его в ухо, в висок и в щеку, я стала искать языком его губы. Но он упрямо отворачивался. Тогда я прошептала:
— Хочешь взять меня здесь, в машине? Я сейчас снова покажу тебе то, что так взволновало тебя на лекции. Вот, смотри, погладь, это для тебя, твое.
Я в полном смятении и уже не понимаю, что говорю. Меня трясет от желания и одновременно от сокрушительного отчаяния, ибо знаю же я — нельзя нам с Гвалтиери сближаться: буквально в это мгновение я исчезну как дым. Однако желание оказалось гораздо сильнее отчаяния; к тому же, появилась странная надежда, что я сумею нарушить основной закон, которому подчинялся до сих пор.
И ухватив брюки обеими руками, я расстегнула молнию, не забыв развести полы курточки. Потом, насколько позволял салон машины, я легла, раздвинула ноги и страстно зашептала:
— Вот смотри, тебе понравится; ну, хочешь, посади меня сверху и войди в меня.
Со странной надеждой и отчаянием я ждала, что он посадит меня на свои колени. Нет, наоборот, он нежно меня отстранил, положил свою руку мне на живот, но не погладил, как мне хотелось, а для того, чтобы застегнуть молнию. Это ему не удалось: мешал распирающий узкие брюки живот.
Внезапно он сдался:
— Ладно, оставь как есть. Пока я говорю, буду смотреть, и, возможно, это придаст мне смелости.
Во как завладело им неутоленное желание, ставшее источником его трагедии! Сидя поперек сиденья, чтобы он мог видеть меня, полураздетую, сколько захочет, я подбодрила его:
— Смотри на меня, смотри. О чем ты хочешь сказать мне? И почему для этого нужна смелость?
Какое-то время он молчал, а потом, указав рукой на пустынную площадку, через которую в эту минуту спокойно просеменило какое-то животное, собака или шакал, начал:
— Ты знаешь, где мы? Напротив забора вокруг территории, где было взорвано последнее ядерное устройство. Теперь, дьявол ты или нет, но ты должна знать, что привез я тебя сюда для того, чтобы сказать нечто очень важное о себе: я тесно связан с тем, что в этом месте творится.
Очередной раз сделав вид — мол, не понимаю, о чем он, — я произнесла:
— Как это может быть, чтобы такой всемирно известный ученый, как ты, верил в дьявола?
Будто сомневаясь в своих словах, он ответил странно и как-то двусмысленно:
— Понятно, что я не верю; как можно верить в дьявола?! Но многое в реальной жизни заставляет думать, что он существует.
Я постаралась снизить напряжение:
— Что «многое»? Уж, не то ли, например, что я догадалась, насколько тебе нравится безволосое секси? Ладно, я-то догадалась, а теперь, похоже, представился случай — поиграть в догадки и тебе.
— Да, прежде всего, самое дьявольское состоит в том, что ты с абсолютной точностью догадалась о моем, скажем так, эротическом предпочтении. Которое, если уж быть честным, не просто безволосое секси, а, скорее, самое нестоящее секси-инфант. Но разговор пойдет не о сексе, а совсем о другом.
— О чем, о другом?
Он осмотрелся: собака, или шакал, как будто и не появлялись, освещенная площадка пуста, и вокруг никого — тихо.
— Другое там, — и он показал на ворота и забор, — даже если во мне все безнадежно запутано и связано с этим тоже, — тут он указал на мое обнаженное секси, — а поскольку ты поняла, скажем, это совмещение, эту неразбериху… надо бы вернуться — лет, эдак, на тридцать назад.
Я его подстрекнула:
— Ну так вернемся на тридцать лет назад.
Теперь Гвалтиери заговорил, будто сам с собой:
— Если ты — дьявол, как это мне кажется, то ты можешь подтвердить правду моих слов: только дьявол ее знает, только он мог бы ее опровергнуть. А если ты не дьявол, а только влюбленная в меня девушка, то, наверное, сможешь оценить мое признание; во всяком случае, ты — первый человек в мире, кому я рассказываю об этих вещах.
Так Гвалтиери начал, и довольно скоро передо мной развернулась вся история его внутренней жизни, с далекого отрочества до сегодняшнего дня. Он говорил сухо и спокойно, как настоящее научное светило. Но несмотря на привычку к холодной точности научных доказательств, — теперь, когда он старался осветить панораму всей своей жизни, в которой не было ни покоя, ни порядка, ни рацио, — голос иногда его выдавал. Передо мной предстала жизнь человека, который с детства имел дело с удовлетворением двух одинаково насущных потребностей: славы и секса.
Этот человек с течением времени стал специалистом в обеих, так сказать, ипостасях, о которых вы теперь знаете. Кстати, Гвалтиери сказал мне, что его тайная склонность впервые проявилась с двенадцатилетней девочкой, никак не связанной с сатаной, с дочерью его консьержа, которая неоднократно поднималась к нему в квартиру, чтобы принести почту. Между двадцатилетним студентом и двенадцатилетней девочкой возникли любовные отношения, которые, если верить Гвалтиери, не носили порочного характера: страсть вообще к девочкам овладела им позднее. Отношения с этой девочкой, не омраченные угрызениями совести, — наоборот, к большой радости обоих, — длились всю зиму. Потом девочку отослали к дедушке с бабушкой в провинцию, и он остался со своей ностальгией по чему-то такому, если говорить коротко, очень похожему на отношения, которые, наверное, были между Адамом и Евой до того, как их изгнали из Эдема.
Естественно, он искал повторения прошлого опыта, но результаты этого поиска оказывались настолько мерзкими и отвратительными, что после них он сам себе клялся никогда не повторять подобных экспериментов. Сколько раз, прежде чем окончательно отказаться от желания, Гвалтиери пытался проникнуть в Эдем любви с девочками? — он не сказал. Ограничился наброском, в самых общих чертах и довольно смутно, о двух-трех подготовленных встречах, то есть произошедших не так, как в первый раз, а через посредничество одной из сводниц, чей облик я сам принимал, чтобы подступиться к нему в университете. Эти сваливавшиеся на него, так называемые «встречи» так унижали его и приводили к такому глубокому отчаянию, что он подумывал о самоубийстве. Но с собой он не покончил, а продолжал жить с обеими страстями: с амбициями, пока еще не нашедшими подходящей отдушины, и постоянно подавляемым желанием, от которого его тело отказалось, при том что уже носило статус искушенного.
Все шло так до той минуты, пока в городском саду я не застиг его подсматривающим за девичьими ногами; это его поведение красноречиво показывало, что самоподавление и самоотречение могут, в некоторых случаях, стать стимулом и приправой к искушению. Любопытно, что версия Гвалтиери о нашей первой встрече приближалась к моей. Он сказал, что провокации девочки так его глубоко измучили, что он вдруг решил: если искусительница к нему приблизится, он избавится от сомнений и окончательно забудет свою фатальную страсть. Понятно было, что он имел ввиду и конец амбиций, но, как он сам подтвердил, в тот период, что правда, то правда, увидеть среди играющих девочек обнаженное секси девчушки для него было важнее всех открытий Альберта Эйнштейна.
Тем не менее, это совмещалось с сознанием того, что он может погубить себя навсегда. И когда девочка положила перед его глазами тетрадь с дьявольским соглашением, он почувствовал облегчение: лучше быть осужденным на вечное проклятие, если в это входит удовлетворение собственных амбиций, чем в здешней жизни оказаться прикованным к обнаженному девичьему секси. Это объяснение, как я уже говорил, совпало с моим: и я был убежден, что амбиции в тот момент победили секс, и более всего потому, что контракт обеспечивал Гвалтиери абсолютную уверенность в исполнении всех его профессиональных надежд.
Затем он добавил:
— Остается сказать, что я подписал соглашение в момент слабости, на грани падения. Причем слабость и падение были спровоцированы уже не перспективой научного успеха, а, скорее, видом детского секси, так похожего на твое.
Тут следует дать важную информацию: как именно он подписывал дьявольский договор. Значит так, дьявол должен дать знать своей жертве границы самого пакта, который подписывается, показывая текст четкими буквами наверху, в заголовке, и на самом листе бумаги. Но случается, когда при чтении контракта, вдруг из-за какой-то одной из многих тайн договора между дьяволом и человеком, запись исчезает, будто текст нацарапан выцветающими чернилами, тогда осужденный на самом деле подписывает пустой лист. Если хочется узнать, почему так происходит, можно ответить: скорее всего потому, что желание нанести ущерб осужденному на муки ада подразумевает полную свободу его собственного выбора, сколько бы ни длились его сомнения, или видения, или, как ему, возможно, покажется, сновидения.
Так было и с Гвалтиери. Он сказал, что в момент подписания контракта ему почудилось, что сам текст со страницы пропал. Но он тут же подумал, что это не должно повлиять на его решение. Лучше сказать так: если у него и были галлюцинации, то их наверняка спровоцировало то, что он назвал собственным падением. Еще точнее — он хотел, во всяком случае в ту минуту, чтобы его амбиции превалировали над сексом, только так он мог бы спастись от судьбы, которая вызывала у него отвращение и желание избежать ее во что бы то ни стало.
Увидев еще тогда его сомнения — подписывать ли договор, — я спросил, доверился бы он дьяволу в полной мере даже при условии, что тот может принять облик натуральной азиатки. Он сделал вид, будто не услышал моих обманчивых излияний по поводу наших отношений, и объяснил, что тогда уже чувствовал — дьявол существует, и он действительно подписал договор ради своих научных исследований, которыми потом успешно занимался в течение тридцати лет. Да, а тот факт, что сатанинская девочка принесла на подпись контракт с обещанием успеха и славы, но при этом выставила напоказ обнаженное секси-инфант, доказал ему, что дьявол, в добавление к неопределенной сексуальной направленности, вечно стар и немощен. Однако последний вывод не совсем верный: сегодня в самых дерзновенных научных исследованиях преобладают дьявольские силы.
Он продолжил:
— Поскольку ты уже знаешь о свидетельствах, доказывающих существование дьявола, я расскажу теперь о моей жизни с самого начала, то есть с того момента, когда я решил стать ученым. С юности меня тянуло к науке, а также, как ни странно тебе может показаться, к поэзии. Последнее тоже имело отношение к честолюбию: мне хотелось стать вторым Леопарди, вторым Гельдерлином. Тем не менее, я поступил на физический факультет университета. Правда, потому еще, что противоречий между поэзией и наукой не существует: в древности, например, поэты были одновременно учеными, а ученые поэтами. И действительно, написав массу стихов, я понял о творчестве нечто фундаментальное и очень важное. Хотел бы пояснить: каждый раз, как мне казалось, что я написал стихи не хуже обычного, я довольно быстро соображал, что это произошло потому, что, пока я писал, я был не один. Рядом со мной, и в этом я абсолютно уверен, я замечал присутствие той таинственной сущности, которую иногда называют вдохновением, но я предпочел бы обозначить словом «демон». Это он был внутри меня и диктовал стихи; это он был тем, кто заставлял меня переходить от холодных размышлений к страстным эмоциям, выплескивающимся в поэзию. На этом месте ты меня спросишь: «А на самом деле, стихи-то были хорошими?» И я тебе отвечу: они были лучшими из того, что я мог. Но мое лучшее было всегда худшим по сравнению со стихами настоящих поэтов. Вообще-то говоря, замечу: демон опекает как хороших, так и плохих поэтов. Не будем говорить о существе поэзии. Присутствие демона заставляет писать только такие стихи, на какие ты только и способен — и не более того.
— В общем, они были плохие?..
— Наверное, да. По крайней мере, можно думать и так, потому что наступило время, и я ради науки забросил поэзию. Однако, как я уже сказал, поэзия была мне очень полезна: я догадался о существовании и службе демона.
— Вернее, дьявола.
— Погоди, пока что скажем — демона. Теперь перехожу к дьяволу. Значит так, стихи из моей жизни исчезли, и я со всей страстью посвятил себя физике. Получил грант, уехал в Соединенные Штаты и стал лучшим учеником знаменитого Стейнгольда. Он был очень старым человеком, к тому же евреем, и, поскольку был евреем, много читал Библию. Однажды, в разговоре о нашей профессии, он произнес сакраментальную фразу:
— Теперь уже, и это понятно по многим признакам, Бог — бессилен, власть перешла к дьяволу.
На мой вопрос: как он, глубоко религиозный человек, может говорить такое? — он ответил:
— Видишь ли, если бы Бог имел власть, он хотя бы на миг остановил прогресс, а прежде всего, ту отрасль науки, которой мы с тобой себя посвящаем.
Мне хотелось узнать больше; но он отговорился заключительной фразой:
— Бессилие Бога может оказаться и знаком его силы. Бог сдался своему бессилию, согласился на гибель человечества и оставил работу дьяволу.
— Большой пессимист твой Стейнгольд.
— Не очень, после всего этого он продолжал верить в Бога. Между прочим, я не верю ни в Бога, ни в дьявола — а только в самого себя. А со Стейнгольдом мы больше ни о Боге, ни о дьяволе не говорили. Его семинар через год закончился, я вернулся в Рим и продолжил страстно заниматься экспериментами по ядерной физике. И никогда больше не думал ни о Стейнгольде, ни о его словах. Но мне хочется рассказать еще о своем первом открытии, — потом их было множество, — с которого началась моя известность. И вот почему. За время работы над ним я понял, что каждый раз, как только мой мозг делал скачок от размышлений к собственно открытиям, первое, о чем я начинал думать, с ностальгией и вожделением, это о давних случаях моих отношений с девочками. Как ни странно, я гнал эти призраки, возвращался в кабинет и чувствовал, как демон, вернее, дьявол опять меня толкает на творческий скачок. Да, несомненно, демон действовал, сначала редко, потом все чаще и чаще, заодно напоминая мне о моей сексуальной нетривиальности. И еще: неужели не очевидна взаимосвязь между отречением от секса и научным творчеством? Между тем, что является сутью моего падения, и тем, что представляет предмет моей славы?
В этом месте мне захотелось прервать его:
— Однако ты еще не сказал мне, как демон стал дьяволом.
— Очень просто. Я далеко продвинулся в исследованиях, позднее вылившихся в финальное открытие, — кстати, о нем я говорил на этом семинаре, правда, несколько загадочно.
И вот к чему я пришел: весь научный прогресс последнего столетия — с точки зрения пользы для человечества, что на самом деле, как я уже говорил, единственное, ради чего стоит жить, — носит полностью негативный характер. Наши открытия сами по себе поразительны, но только для нас самих, поскольку технологическое приложение их целиком направлено на окончательное уничтожение человечества. Когда эти открытия кажутся полезными, как, например, разработка новых источников энергии, можно быть уверенным, что эта самая польза могла бы быть получена другими способами. Саморазрушающий характер научного прогресса имеет, однако, и живительную силу, которая выражается в положительном результате, то есть в знании о все большем приближении к истине.
Так случилось, что многие ученые, приходя к завершению своих исследований, пренебрегают практическим их применением. Сами они оправдываются собственным ощущением уверенности в правильности главного пути развития науки, и дальше этого идти не намерены. Практический эффект изобретений их не интересует. Им, кстати, больше интересуются главы государств, министры, генералы и т. п. Но я-то как раз хорошо помнил формулу Стейнгольда о бессилии Бога, уже подтвержденном фактически, и о силе дьявола. Исходя из этого, я был вынужден прийти к единственному заключению: демон, бывший рядом со мной в моих экспериментах абсолютно саморазрушающего характера, этот демон не мог быть никем иным, как только старым дьяволом, много раз описанным в прошлом врагом человечества, существующим до сих пор. Да и научное развитие, непосредственно ведущее к Концу Света, не может быть ничем, как произведением дьявола. Между прочим, с одобрения Бога. Таким образом, возвращаясь назад, я повторюсь: да, я не верю в дьявола, но признаки его существования я встречал.
Немного помолчав и совсем не к месту, он добавил:
— Дьявол меня осыпал милостями. Все говорит о том, что, согласно сатанинской логике, он явится не позднее этой полуночи.
Такое неожиданное заключение меня обескуражило:
— Извини, причем тут эта полночь? Почему дьявол должен явиться именно в эту полночь, а не через год?
Он вполне серьезно ответил:
— А потому, что именно в эту полночь исполняется ровно тридцать лет, как я встретил дьявола и, в обмен на его милости, продал ему душу.
— Ну, не всерьез же ты говоришь. Сначала сказал, что ни в Бога, ни в дьявола не веришь, а только в самого себя. Теперь обнаруживается какой-то абсурд: ты продал душу дьяволу. Где во всем этом логика?
— Тем не менее, это так. В нескольких строках в тетради девочки из городского сада было написано, что соглашение продлится тридцать лет. Сегодня ночью эти тридцать лет кончаются.
Это было правдой. В контракте говорилось о тридцати годах, то есть достаточном времени, чтобы сделать карьеру.
— Эта девочка была никем другим, как девочкой. Получается, что и соглашение, и тридцать лет, и полночь — все это только плод твоего воображения.
Он объяснил:
— Даже если я все и вообразил, важно ли это? Мне хотелось сказать главное: объективно дьявол не вне меня, а именно внутри. Результат, правда, один.
Сам того не сознавая, Гвалтиери в это мгновение был максимально близок к проблеме моего дьявольского существования, к тому факту, что в момент соития я превращаюсь в дым. Как и мечты, вдохновленные желанием. Как воображение, толкающее к онанизму.
Я убежденно сказала:
— Дьявол ни вне, ни внутри тебя. Не думай больше о дьяволе; согласись на жизнь.
— То есть на твою любовь, не так ли?
Он вздохнул и продолжил:
— Во всяком случае, если бы дьявол вновь явился предо мной в облике девочки, то на этот раз, хоть и осужденный на проклятье, я, не колеблясь, сошелся бы с нею, но с одним условием.
— С каким?
— Прежде всего, продлил бы соглашение на следующие тридцать лет. И кроме того, дьявол должен был бы направить меня на путь, противоположный тому, которым я шел до сих пор.
— На какой?
— Ну, как сказать? На путь открытий, которые неизбежно спасали бы человечество от катастроф. Нельзя об этом говорить легкомысленно. Но если все-таки и говорить, то я привез тебя сюда, к воротам в заборе вокруг ядерного полигона, специально.
Разволновавшись до полусмерти, я поняла к чему он ведет, и со смятением в сердце сама себе сказала, что он меня шантажирует: «Или ты принимаешь мои условия, или я не принимаю твою любовь».
Сделав вид, что не заметила его слова «специально», я сказала о том, что касалось меня:
— Будет тебе. Ты же правильно считаешь, что дьявол может все, за исключением того, что в обиходе зовется «добром». Разве ты не понимаешь, что спасать человечество — это как раз именно то, что дьяволу не под силу?
Я сосредоточилась и, почти готовая к тому, что запрещалось всю жизнь, сказала:
— Ладно, дьявол способен делать абсолютно все, включая добро.
— Да кто тебе это сказал?
— Ты мне сказал.
— Я? При чем тут я?
Внезапно он ткнул пальцем мне в грудь:
— Ты — дьявол, да — дьявол, это уже вне всякого сомнения, только дьявол мог знать, что я сойду с ума от чудовищного устройства твоих гениталий. Но теперь у меня есть предложение. Ты меня любишь, и я тебе скажу: или продление соглашения и вытекающая отсюда перемена карьеры под знаком добра, или никакой любви; я ведь на контракте: ты берешь мою душу, и человечество катится к катастрофе.
Ах, какие мечты вспыхнули в моей голове. Да, это правда, шепнула я себе, дьявол ничего не умеет делать, кроме зла; но дьявол, влюбленный с такой силой, возможно, способен сделать и добро. Случилось бы чудо! Но дьявол должен верить в чудеса, иначе какой он, к черту, дьявол?
Отчаявшись, но, одновременно, полная надежд, я сказала:
— Я не дьявол, а бедная девушка и, как ты правильно говоришь, влюбленная в тебя. Попробуем на деле — что это такое, и тогда ты увидишь, что я не дьявол.
— Как это я увижу?
Мне не хотелось говорить правду, то есть что с дьяволом нельзя сойтись, он неизбежно превращается в дым, поэтому в ответ он получил:
— Увидишь в полночь, когда поймешь, что никакого дьявола, пришедшего по твою душу, здесь нет.
Теперь я говорил вполне серьезно. Отдамся ему, соглашусь с продлением на следующие тридцать лет; буду жить с ним все эти тридцать лет, вдохновляя его на благие открытия во имя человечества. Что мне стоит? И чтобы удовлетворить сжигавшее меня желание, я мысленно добавил: смогу делать и добро.
Странный восторг вдруг овладел им:
— Ну уж, нет! Я хочу именно дьявола. Мне пришла мысль, что под личиной такой грациозной девушки скрывается старый вонючий козел. Хочу любить его, и только его. Не знаю, что может мне подарить бедная девушка, влюбленная в меня. Займусь любовью с ним и провалюсь в преисподнюю.
Осмотревшись в страхе — вокруг пустая асфальтированная площадка, — я решилась и бросилась ему на шею с криком:
— Да, я — дьявол, дьявол, но я люблю тебя. И теперь, когда ты знаешь это, возьми меня, и будем это делать во имя Бога, я чувствую, что на этот раз может произойти чудо, а потом мы будем счастливы вместе всю жизнь.
Гвалтиери не сказал ни слова. Наши губы соединились, наши языки встретились, наши руки потеряли контроль: моя рука извлекла из его брюк невероятно большой и твердый член, его руки разделили обнаженные и пухлые губы моего секси-инфант.
Я прошептала:
— Посади меня сверху.
Извернувшись в тесном салоне машине, насколько это было возможно, я села верхом к нему на колени, и, тяжело дыша, прошептала в его ухо:
— Сожми меня, возьми меня всю. Чувствуешь: я — женщина, чувствуешь мое тело, видишь, что я — не туманный мираж?
Говорю, а сама порывисто двигаю вперед бедрами, нацеливаю на него секси и накрываю им его воспаленный член. Еще один толчок, и, пока наши губы тают в поцелуе, его член глубоко пронизывает мое влагалище. Вздыхаю с облегчением, чувствуя себя реальной, из человеческой плоти, свой живот, а не дым, в который сейчас обращусь, чувствую и его член, тоже реальный, тоже плотский — не дым. Неистово изворачиваюсь своими узкими бедрами на его бедрах; руки вокруг шеи, голова моя на его плече, глаза смотрят на площадку, едва различимую сквозь заднее стекло. Потом мой взгляд падает на собственную руку, лежащую на его плече, и я вижу стрелки часов — наступила полночь.
В этот миг с неописуемым ужасом чувствую, что начинаю исчезать. Против моей воли и несмотря на то, что мое мучительное желание реально, я осознаю, что становлюсь неосязаемой материей, из которой сделаны мечты и фантазии. Часть за частью мое тело начинает растворяться: сначала голова, шея, руки и грудь, потом ноги и бедра. В конце концов ничего, кроме моего невероятного девичьего секси, бледного и безволосого, все еще набухшего от неудовлетворенного желания, не остается. Я становлюсь похожей на те кольца дыма, которые заядлые курильщики выпускают из сигары. Раскрытое секси уже готово к приятию семени из возбужденного члена Гвалтиери, затем, постепенно и нехотя, отделяется и оно, а член сиротеет. Теперь между коленями моего любовника и в его руках нет ничего, кроме слабого дрожащего пара, который мог бы исходить и из перегревшегося радиатора. И Гвалтиери, страдая, с изумлением смотрит на вздыбленный из брюк собственный член, который сотрясается прерывисто и бурно, извергая из себя семя струями, одну за другой.
Так и есть: дьяволу дозволяется делать все, за исключением добра. А кто надеется овладеть дьяволом, в конце концов обнимает пустоту.
Шрамы на память
Марко сел на постели и посмотрел из полумрака на спину спящей жены. Ее спина была белой, даже слишком белой, и светилась какой-то густой белизной, как часто бывает у зрелых блондинок. Жена спала, свернувшись калачиком, и ее спина, согнувшаяся под предельным, пусть и округлым углом, производила впечатление силы и принуждения одновременно. И еще, — подумал он, — сейчас это тело, изнуренное сном, кажется символом унижения и поражения.
Осторожно спустив ноги с постели, голый по пояс, в пижамных брюках и босиком, он на цыпочках пошел в студию. Просторное помещение с наклонным потолком и громадными окнами ровно освещалось дневным светом. Марко сразу снял с мольбертов три картины, которые писал в эти дни одновременно, чтобы внимательно и скрупулезно рассмотреть их. На всех трех было изображено одно и то же: женский торс, разрезанный внизу по середине бедер и выше — по талии. Вздутый живот выступал и выглядел тугим, как барабан; продолговатый пухлый лобок имел форму сливы, был разделен красной, цвета цикламена, щелью полового органа и, на двух картинах, лишен волосяного покрова. На третьей картине лобок был покрыт волосами, и каждый, один к одному, волосок четко выделялся на глянцевой, как целлулоид, белизне кожи.
На всех трех картинах справа на животе был заметен белый шрам от аппендицита. Он внимательно рассмотрел картины и остался недоволен: из желания хоть что-то изменить в этом привычном женском торсе, который рисовал годами и всегда одинаково, он в третьей картине написал волосы на лобке, и, в результате, неудачно. Эти волосы были такими черными и грубыми, что придавали картине оттенок реализма, а реалистичной ей быть не следовало. Неожиданно он взял лезвие для бритья, служившее ему для заточки карандашей, и дважды, сверху донизу, прошелся по полотну, разрезав его крест накрест. Сколько денег он потерял, уничтожив законченную картину, подсчитывать не стал, пренебрег и собственным авторитетом на рынке. Рассердившись, Марко бросил лезвие и пошел в гостиную.
В отличие от панорамы на дюны, открывающейся из окон студии, отсюда был виден пляж. От сильного ветра качались редкие желтые тернистые кусты, у кромки моря, под облачным небом, устало громоздились зелено-белые волны. Еще дальше, на горизонте, море окрасилось в синий цвет, и бесчисленные, идущие длинными рядами волны поднимались и опускались, сливаясь друг с другом. Некоторое время вглядываясь в морскую даль, Марко барабанил пальцами по стеклу и спрашивал себя, зачем он рассматривает море? Потом пошел к дивану, сел и замер, уставившись в закрытую дверь. Ни о чем не думал, просто ждал, знал наверное, что сейчас произойдет. И на самом деле, довольно скоро, с подчеркнутой пунктуальностью, дверь медленно открылась, и на пороге появилась девочка.
— А мама где? — осторожно спросила она.
Марко подумал, что такой вопрос могла задать только взрослая женщина, желающая остаться один на один с любовником.
Потом ответил:
— Мама еще спит. А что тебе нужно от мамы?
— Не хочу, чтобы она видела, как я беру пирожное, — ответила девочка.
Ответ ее был, как всегда, уклончивый и двусмысленный. Слово «пирожное» могло означать сладость, но не только: этим могло быть и совсем другое, столь же привлекательное и запрещенное. Наблюдая за девочкой, он увидел, как она прошла мелкими шажками в глубину гостиной, к буфету, на котором мать обычно прятала коробку с пирожными. Девочка подтащила к буфету стул, влезла на него, привстала на цыпочки и подняла руку. При этом ее слишком короткое платье задралось чуть ли не до талии, обнажив длинные и мускулистые ноги, несоразмерные с остальной короткой частью тела.
Он не понял: девочка нарочно показывает ноги или предоставляет ему нечаянную возможность полюбоваться ими? В конце концов он решил, что девочка неосознанно провоцирует его. А что же тогда относится к осознанному в поведении, свойственном ее возрасту?
Наконец девочке удалось снять большую круглую коробку, она прижала ее к груди и открыла крышку. Вынув одно пирожное, сунула его в рот, зажала зубами, потом закрыла коробку, встала на цыпочки и вновь заголила ноги, старательно засовывая коробку на место.
Марко отечески предупредил ее:
— Осторожнее, можешь упасть.
— Ты же за мной смотришь; если я упаду, виноват будешь ты, — ответила она, как всегда, двусмысленно.
Затолкав коробку на буфет, она спрыгнула и, все еще держа пирожное в зубах, подтащила стул обратно к столу. Только теперь откусила кусочек. Не спеша подошла к Марко, села напротив него и спросила:
— Теперь поиграем во что-нибудь?
— Во что? — спросил Марко, делая вид, что не понял, о какой игре идет речь.
— Почему ты спрашиваешь — ты же прекрасно знаешь во что, а притворяешься. В американские горы.
— Сначала покончи с пирожным.
Наверное, она хотела объяснить, почему так торопится играть: должно быть, у нее были разумные доводы. Но ответила она уклончиво:
— Съем после игры.
— Почему не сейчас, до игры?
— Потому что мама может прийти с минуты на минуту.
— Разумнее было бы пирожное съесть теперь же, разве нет?
Девочка посмотрела на него с удивлением:
— А знаешь, ты — упрямый? Кроме того, эта игра маме не нравится.
Марко удивился ее благоразумию. Однако он не был уверен, что девочка действительно понимает то, что говорит. Поэтому он сказал:
— Но маме не нравится и то, что ты воруешь пирожные.
— Маме ничего не нравится.
Марко понял, что лучше не доводить до конца разговор о том, что жене нравится, а что нет, и вяло согласился:
— Ну, давай играть.
Он увидел, как девочка, быстро поднявшись, положила пирожное на стол и подошла к нему. Но вдруг, будто засомневавшись, она остановилась:
— Да, но ты играешь не так, как мне нравится.
— Как?
— Эта игра называется «американские горы», поэтому ты должен мне давать падать вдоль своих ног до самого низа, до самого низа. Если бы у тебя были ноги длиной сто метров, я бы ничего не говорила. Но у тебя ноги, как у всех, короткие. И что за американские горы могут быть, если ты одну руку держишь перед собой? Я почти сразу падаю донизу — и до свидания, американские горы.
Это правда: она садилась к нему на колени, Марко их немного поднимал; затем с радостным криком она скользила вдоль его ног, вниз-вниз, пока не сталкивалась с лобком отчима. После неизбежного и в каком-то смысле непроизвольного удара следовала секунда другого, сугубо телесного контакта, который, наоборот, надо было предотвратить, тем более, что на самом деле он-то и был для Марко желанным. Художник чувствовал с абсолютной ясностью, что девочка во время удара стремилась — и ей это удавалось — соединить его половой орган со своим. Не было никаких сомнений: ее губы смыкались на его возбужденном члене и на мгновение сжимали его. Эта близость подкреплялась внезапным и одновременным сокращением мышц бедра обоих играющих.
Разгорячившись, девочка снова взбиралась к нему на колени, как рыцарь в седло, задирала платье повыше, чтобы чувствовать себя свободнее, и произносила:
— Давай сначала.
Он включался в игру, и все повторялось сначала, без каких-либо изменений: триумфальный крик, во время скольжения вдоль ног она губами захватывает его член, затем следует сокращение мышц бедра. Игра повторялась и повторялась, и заканчивалась только тогда, когда девочка говорила: «я устала». Она действительно выглядела усталой: от напряжения под ее узкими и коварными синими глазами появлялись большие темные круги.
Уже несколько дней они играли только так. Первое его смятение прошло; он уже привык. Мог бы, конечно, прервать игру, если бы не возникшее желание понять: она ведет себя так намеренно или неосознанно? Этот финальный контакт между их гениталиями был для нее безотчетным, порождением темного инстинкта, или осознанной шалостью дерзкой кокетки? Поиски ответа на эти вопросы принимали характер навязчивый и мучительный. Таким образом, при многократном повторении игры он каждый раз неизменно надеялся прояснить для себя ситуацию. Впрочем, было непонятно — удастся ли ему получить достоверный ответ. Девочка «убегала» от него, как переменчивая бабочка, улетающая именно в тот миг, когда рука вот-вот готова схватить ее. В конце концов он понял, что ответ на вопросы он сможет получить при соблюдении одного из двух условий: либо он делает вид, что согласен играть — только играть; либо на смену игре придут прямые и необратимые отношения между ними.
Вчера он решил окончательно отказаться от поисков однозначного ответа — пусть это и грозило оставить непроясненным сам предмет расследования, — начав в последний миг выставлять руку, препятствуя полному (насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах) контакту.
А теперь девочка поставила его перед неизбежным выбором: играть, как того хочет она, то есть она будет хватать своими губами его член, или вообще не играть. После некоторого размышления, она наконец высказала свою претензию, но, похоже, только для того, чтобы услышать, что он ей на это ответит.
— Я согласен играть, но отныне и впредь хочу играть именно так: свою руку буду класть между тобой и мной.
Девочка сию же секунду, ну точно, как проститутка, договаривающаяся с клиентом, решительно отрезала:
— Тогда я больше не играю.
Марко решил разъяснить:
— Я кладу руку между тобой и мной потому, что ты нечаянно можешь меня ударить и сделать мне больно.
Это его объяснение девочка восприняла всерьез и, в свое оправдание, с обычной двусмысленностью спросила:
— Больно? Почему будет больно?
— Эти части тела — самые чувствительные. Разве ты не знаешь? Сделать больно там очень легко.
— Настоящая правда в том, что тебе не хватает смелости, — с внезапной и жестокой откровенностью сказала девочка.
Марко подумал: вот она и попалась, может, теперь опомнится. И любезно переспросил:
— А для чего, по-твоему, мне не хватает смелости?
Несколько поколебавшись, она уклончиво и не без сарказма ответила:
— Да для того, чтобы испытать небольшую боль в чувствительных местах.
Потом, немного помолчав и переходя на фальцет, передразнила его:
— Будь осторожна, ты можешь сделать мне больно в чувствительных местах.
Помолчала еще и вдруг совершенно неожиданно бросила ему в лицо:
— Знаешь, кто ты на самом деле?
— Кто?
— Сексуальный маньяк.
Это уже оскорбление, подумал Марко, вдобавок и брошенное с намерением обидеть; и, тем не менее, он заметил в голосе девочки некоторую неуверенность и непонимание смысла произнесенных слов.
— А по-твоему, что это такое — сексуальный маньяк? — не замедлил он спросить у нее.
Девочка смущенно на него посмотрела; ясно — ни сном ни духом. Марко очень тихо сказал:
— Вот видишь, не знаешь.
— Да, не знаю, но так о тебе всегда говорит мама. Раз она так говорит, значит, это правда.
Делать нечего, подумал Марко, девочка более ловкая, чем он: опять ускользнула от него. И примирительно произнес:
— Ладно, поиграем еще как ты хочешь. Но это в последний раз. Больше я не хочу.
— Молодец, так-то лучше; увидишь, я не сделаю тебе больно, — обрадованно произнесла она.
Затем она приподняла платье и, усаживаясь верхом на его колени, подняла сперва одну ногу, потом другую, бесстыдно, но без осознанного вызова оправила платье и сказала:
— Ну, ты готов?
— Давай.
Девочка заскакала с победным криком, затем заскользила вдоль его ног.
При «спуске» Марко хватило времени представить, будто с высоты птичьего полета, непрерывную череду событий, которые будут происходить с девочкой до самой ее старости: живя рядом с ним, она растет, взрослеет, становится его любовницей, и между ними навсегда исчезает то, что вот-вот произойдет сейчас.
Теперь он понял, что истина всех этих дней состояла в бесконечном, неограниченном — пока не осуществится — искушении обоих. Вполне возможно, что девочка хотела только играть; но игра состояла и в том, что он должен был вести себя так, будто это вовсе не игра. И это соображение, точнее озарение, пришло к нему только теперь.
В тот самый миг, когда бедра девочки прикоснулись к его бедрам, он сунул руку, чтобы разделить их. А она сразу слезла с его колен и закричала:
— Так не считается, не считается. Я с тобой больше не играю.
— А с кем ты будешь играть, если не со мной?
— С мамой.
Таким образом, она продолжала ускользать от него; ему это казалось даже в те мгновения, когда она, прижимаясь к нему, ставила его в неловкое положение.
Он пришел в раздражение:
— Играй с кем хочешь.
— Да, а ты — трус.
— Потому, что я боюсь, что ты мне сделаешь больно, так да? Ладно, я боюсь. И что из того?
Но девочка, уже задумалась о другом. Внезапно она предложила:
— Сыграем в другую игру.
— В какую?
— В прятки: только чур ты будешь меня искать. Я спрячусь, ты закроешь руками глаза и не откроешь, пока не скажу.
— Хорошо, будем играть в прятки, — вздыхая, согласился Марко.
— Я пошла прятаться. Не смотри! — убегая, прокричала девочка.
Он закрыл руками глаза и стал ждать. Прошло бесконечное время, каждая секунда казалась целой минутой. Вдруг он почувствовал у своего рта губы и чужое легкое дыхание, смешивавшееся с его. Он продолжал держать руки на глазах, а те губы начали осторожно прикасаться к его рту, двигаясь из стороны в сторону, справа налево: постепенно и расчетливо они увлажняли и постепенно открывали ему рот. Он подумал, что на этот раз нет никаких сомнений: девочка — монстр с преждевременно развитой и извращенной сексуальностью, а их «любовная интрижка» превращается уже в самую настоящую, мало того — неизбежную. Тем временем губы отодвигались и придвигались, и теперь чужой язык метался в поисках входа в его рот. В конце концов плотный и острый язык легко форсировал вход между его зубами и целиком проник внутрь. Не открывая глаз, он бросил руки вперед и ощутил не хрупкую спинку девочки, а большие и полные плечи своей жены.
Тогда он открыл глаза и откинулся: прямо перед ним в раскрытом халате стояла жена. Виден ее живот, такой знакомый, — из тех, что он рисовал на своих картинах: белый, выпуклый, напряженный и вытянутый, с белым шрамом после удаления аппендикса справа внизу. Был виден и безволосый лобок. Он поднял глаза. Жена наклонилась — ну прямо голова Аполлона со свешивающимися белокурыми волосами, с большим носом, капризным и увядающим ртом, — лицо ее выражало удовольствие.
Спустя мгновение она серьезно спросила:
— Почему ты руками закрывал глаза?
— Играл с девочкой.
— У тебя было такое странное лицо, что мне захотелось тебя поцеловать. Я поступила плохо?
— Напротив.
Он обнял жену, опустился лицом к ее животу, поцеловал в пупок — и его заполнило неистовое и грубое желание. Он почувствовал, как жена нежно гладит его по голове, тогда он оторвался от нее, откинулся назад. Жена запахнулась и спросила:
— Где девочка?
— Не знаю. Она пошла прятаться, теперь я должен ее искать.
Почти в этот самый миг издалека раздался крик, отозвавшийся эхом по всей квартире. Марко попытался подняться. Жена его остановила:
— Оставь ее там, где она спряталась. Послушай, что вы тут делали — играли в американские горы, да?
— Откуда ты знаешь? — удивился Марко.
— Я стояла за дверью и подслушивала. Вот что, если тебе не трудно, ты должен мне пообещать, что вы больше никогда не будете играть в эту игру.
— Почему?
— Потому что в этой игре неизбежен физический контакт. Знаешь, что мне сказала девочка?
— Что?
— Она мне сказала: «Марко вечно хочет играть в американские горы. А я не хочу, потому что он меня трогает. Но он настаивает, и я играю, чтобы сделать ему приятное».
Марко готов был воскликнуть: «какая лгунья!», однако воздержался, подумав, что жена ни за что ему не поверит. И, несмотря на свое раздражение, он сказал:
— Будь спокойна, я не буду играть с ней ни в эту, ни в какую другую игру.
— Почему? Ты должен играть с ней — у нее же нет отца. И ты должен стать ей отцом.
— Ты права, буду ей отцом, — смирился Марко.
Жена, положив руки ему на голову, вдруг произнесла:
— А знаешь, этот поцелуй вызвал у меня желание. Давно уже ты меня так не целовал. Хочешь?
Марко подумал, что не может отказаться от такого приглашения. Жена взяла его за руку, повела через гостиную к дверям; оттуда по темному коридору ввела в полумрак спальни. Она сняла халат, бросилась на разобранную постель, легла на спину; сразу раздвинула ноги и, согнув их, ждала, пока он снимет брюки. Ему пришлось, что называется, стимулировать себя, имитировать страсть, которой он не испытывал, вернее, не испытывал к этой женщине. Он грубо бросился к ее нескладным и очень белым ногам.
Вдруг, как на зло, звонкий голос девочки, очень близко, буквально из помещения спальни, прокричал:
— Ты не нашел меня, не нашел!
Жена изо всех сил оттолкнула Марко, голышом соскочила с кровати и убежала из спальни.
Марко включил свет, посмотрел в угол, из которого послышался крик. Там стояла ширма; из-за нее выглянула девочка и прокричала:
— Ку-ку!
— Где ты была? — спросил Марко.
— Здесь.
— И… что ты видела?
— Что я могла видеть? Тут же ширма.
Марко недоверчиво посмотрел на девочку, а затем твердо сказал:
— Вот что, пойдем… подойди ко мне и пойдем отсюда; маме еще нужно одеться.
Он взял девочку за руку, и она легко дала себя увести. Они вышли из спальни и по коридору дошли до студии. Марко закрыл дверь, подошел к картине, которую сегодня утром разрезал.
— Смотри-ка, кто-то разрезал картину! — воскликнула девочка.
— Это я, — сухо ответил он.
— Почему?
— Потому что она мне не понравилась.
Неожиданно девочка спросила:
— Почему ты не нарисуешь мой портрет так же, как мамин?
— Я не пишу портреты. Это тело может принадлежать любой женщине.
Показывая на картину, девочка сказала:
— У мамы шрам на животе точно такой же, как у этой женщины. Ты больше не хочешь рисовать портреты мамы? Если тебе это больше не нравится, почему тогда ты не рисуешь меня?
И, помолчав, добавила:
— У меня тоже есть шрам.
Марко удивился: как он мог забыть? Это же было год назад; пока он находился за границей, у девочки вырезали аппендикс. Чувствуя неловкость, Марко напряженно подтвердил:
— Знаю, что у тебя есть.
Девочка скороговоркой выпалила:
— Когда мне сделали операцию, я сказала маме: теперь и у меня шрам, как у тебя. Ну как, будешь рисовать мой портрет?
Ремень
Я проснулась с ощущением, что вчера в какую-то минуту меня обидели, ранили, уязвили. Свернувшись калачиком и завернувшись в одеяло, как крепко запеленутая мумия, я лежу на левом боку, одним глазом прижимаюсь к подушке, другим смотрю на стул, на который вчера вечером, прежде чем лечь, мой муж повесил одежду. А где он? Не меняя положения, вытаскиваю из-под одеяла руку, трогаю позади себя постель — пусто. Должно быть, встал; по приглушенному шуму текущей воды догадываюсь — он под душем. Кладу руку под колени, закрываю глаза, но тоскливое ощущение непоправимой обиды не дает мне уснуть. Тогда я вновь открываю глаза и смотрю перед собой, на одежду мужа. Пиджак висит на спинке стула, под ним — аккуратно сложенные брюки, которые он снял, не вынув заправленного в них ремня; ремень свешивается со стула. Усиленно тараща один глаз, я разглядываю небольшой, без шва, кусок ременной кожи, гладкий и темный, будто засаленный от частого употребления, смотрю и на квадратную пряжку из желтого металла.
Этот ремень я подарила мужу пять лет назад, в самом начале нашей супружеской жизни. Я тогда пошла к известному сапожнику на виа Кондотти и после долгих колебаний наконец выбрала этот. Правда, сначала я думала купить черный или из крокодиловой кожи — для вечерних приемов. Потом поняла, что такой темный можно носить и днем, и вечером. Мой муж, не то чтобы дородный, но, скажем, мощный, и ремень ему тесен; надо бы проделать дополнительно еще три отверстия. Часто после еды он ремень ослабляет, потому что ест и пьет много.
На пряжке ремня высечено: «а V. la sua V.», что означает: «Витторио от его Виттории». Ах, как мне тогда нравилось это совпадение имен! И это стало едва ли не главной причиной нашего брака.
Иногда я ему говорила:
— Нас зовут Витторио и Витториа, следовательно, мы обязаны быть победителями.
Ну вот, муж, в трусах и майке, выходит из дверей ванной комнаты. Его крепкое и мощное тело на самом деле совсем нежирное. Он устраивается между стулом и мной. И я сразу вспоминаю, кто, где и как меня вчера обидел. Это был он, мой собственный муж, и произошло это во время вечеринки у него на службе. А было так. На вопрос: какова, по-вашему, идеальная женщина — мой муж со всей своей непосредственностью ответил, что для него идеальная женщина — это белокурая, светлокожая англичанка с хорошей фигурой. Этакий тип спортивной девицы, в общем, ребячливой и веселой. Замечу, что я — брюнетка, очень худая и вся плоская, не считая зада. Да и в моем лице не то что ребячливости, а и веселости-то нет никогда. Лицо у меня изнуренное, голодное, можно сказать, напряженно-лихорадочное, глаза зеленые, нос загнут книзу, рот большой и надутый. Я всегда сильно накрашена, как провинциальная проститутка. Не знаю почему, но я не могу сопротивляться искушению и постоянно раскрашиваю лицо — да так, что оно превращается в маску грозной сосредоточенности, приобретая мрачное, даже жесткое выражение.
Опять я вспоминаю ответ мужа, и во мне вспыхивает вчерашнее чувство: смесь унижения и ревности. К тому же, это по-прежнему переполняющее меня чувство, которое я вчера при большом стечении народа не смогла проявить, мне нужно во что бы то ни стало, и как можно скорее, выплеснуть. Муж наклоняется и, слегка касаясь моего уха, целует. Я не шевелюсь, но сразу же огрызаюсь и самым своим противным голосом говорю ему:
— Нет уж, не целуй меня, не тот сегодня день.
Заметьте, я говорю «не тот сегодня день», вместо того чтобы сказать: «ох и денечек сегодня».
Да, я сказала ему так, потому что почувствовала с полной уверенностью: сегодня — как раз такой день, когда ко мне приходит, как я про себя называю, «несчастье». Что такое «несчастье»? Само по себе это нечто случайное, коварное и однозначно противное, и сравнить его можно разве что с тем, как вдруг поскальзываешься на жирной от машинного масла кожуре банана, или получаешь сосулькой по темечку. А может быть, похоже и на увернувшееся из памяти слово — вертится на кончике языка, а вспомнить не удается. Это — неистовство чувств. В общем, несчастье.
Слышу вопрос удивленного мужа:
— Что с тобой происходит, что с тобой?
— Да ты же вчера при всех меня оскорбил!
— Ты с ума сошла!
— Нет, я не сошла с ума. Сумасшедшая на моем бы месте ушла.
— Да что с тобой происходит?
— Со мной происходит вот что: во время вчерашнего разговора об идеальном типе женщины, ты сказал, что твой идеал — спортивная, хорошо сложенная белокурая англичанка.
— И что с того?
— Ты еще сказал, что ее кожа тебе представляется похожей на пену белого, прозрачного и шипучего шампанского. А мне, наоборот, ты всегда говоришь, что у меня между ног черная бородища монаха.
— И что?
— А то, что ты меня обидел, ранил. Все на меня глазели, прекрасно понимая, что не я твой идеал, и мне впору было провалиться сквозь землю.
— Да неправда это; все страшно веселились, хохотали и именно потому, что ты не блондинка и неважно сложена.
— Не трогай меня, прошу тебя, от одного только твоего прикосновения моя кожа покрывается мурашками.
Пришлось сказать ему это, потому что он сел на край постели и, вроде бы между прочим, начал стягивать с меня одеяло, дотащил его уже до поясницы и пытался погладить меня по заду, а я всегда сплю голая.
— Это не просто слова, смотри! — кричу я ему и показываю свою худую и темную руку, а на коже, будто рябь на гладкой и неподвижной поверхности озера от порыва ветра, появились мурашки, как от холода.
Он молча продолжает стягивать одеяло и открывает мне ягодицы. Похоже, что он это делает, чтобы поцеловать меня именно там, под копчиком. И я с силой бью его по лицу мощным скифским браслетом. Так сильно, что мне самой становится страшно — не сломала ли я ему переносицу. Он кричит от боли:
— Да, что с тобой, дрянь ты этакая!
И в ответ бьет меня кулаком по правому плечу.
А я ему со всей злостью:
— Вдобавок к оскорблению, ты еще и бьешь меня! Бей! Может, как когда-то, вытащишь ремень из брюк и начнешь лупить? Но я тебя предупреждаю — как только ты потянешься к брюкам, за ремнем, в ту же минуту я уйду из дома, и ты никогда меня больше не увидишь.
Чтобы правильно понять мои слова, нужно знать вот что: в «несчастье», которое вдобавок приходит всегда в «мои дни», все каждый раз заканчивается одним и тем же: озлясь на меня за длинный язык, муж берется за ремень. Конечно, я его провоцирую, оскорбляю, придумываю жестокие, издевательские и презрительные слова и попреки. Тогда, справедливо оскорбившись, он снимает ремень, кладет меня ничком себе на колени, крепко хватает одной огромной рукой за горло, другой берет ремень и бьет. Несмотря на непритворную ярость, он проделывает это методично; распределяя удары, кладет их крест-накрест и, довольно скоро, мои темные тощие ягодицы покрываются кроваво-красной чересполосицей. Под этими ударами, ритм которых совпадает с ритмом его дыхания, я не спорю, не сопротивляюсь и не пытаюсь спастись: лежу ничком, неподвижно, спокойно терплю, будто под уколами медсестры, и слабею. Разве что слежу за сложными ощущениями, которые испытываю, издаю тихие жалобные стоны и скулю горячим и хриплым, абсолютно несвойственным мне голосом, удивляющим меня своим звучанием, похоже, это неизвестная мне часть меня самой. Стенаю; двигаю задом и не столько для того, чтобы уйти из-под ударов, сколько чтобы они распределялись более равномерно. В конце концов запыхавшись, но все еще сжимая ремень, лежащий у меня под подбородком, муж бросается на меня. Потом кладет ремень в изголовье и запускает мне руку между ног. Тогда я крепко хватаю кожу ремня зубами, точно собака, закрываю глаза и продолжаю стонать, но уже от иного ощущения — на этот раз от того, которое вызывает во мне муж.
Кто-то может воскликнуть: «Какое чудное открытие! Садомазохистская любовь! Разумеется, давно всем известная и всеми перепробованная». И все-таки нет, не так это: я не мазохистка, и мой муж не садист; вернее — мы в них превращаемся только за пять-десять минут до соития.
Подчеркиваю: это происходит из-за «несчастья», то есть без какого-либо желания с моей и его стороны, и уж совсем не подстроено заранее, а будто мы оба поскальзываемся на кожуре банана. Ведь «несчастье» — это как драки между пьяными; преступления, называемые непреднамеренными; как насилие, что обрушивается на человека в минуты счастья, и как молнии с безоблачного неба.
И это настолько абсолютная правда, что потом нам обоим бывает стыдно, мы избегаем разговаривать, или, как это было в последний раз, обещаем друг другу никогда больше не повторять ничего подобного.
К примеру, сегодня, вызывая его на побои, я всматриваюсь себе в душу и не нахожу там ни малейшего желания быть избитой. Одна только мысль об экзекуции вызывает во мне беспокойство и тоску. И все же, и все же… не переставая, я повторяю: «Давай, сними ремень, давай, бей меня».
Я смотрю на кожаную полосу, протянутую в петли брюк, и совсем не уверена в том, что предчувствую ужас, который мог бы последовать за моими словами. Наоборот, я смотрю на ремень как на домашний предмет, с которым, в общем-то, у меня неплохие отношения.
На этот раз, неизвестно почему, но дальше не происходит ничего. Да, я вижу мужа, идущего к стулу, вижу, как он берет брюки, но вместо того чтобы вытащить из них ремень, как в прошлые разы, он его заправляет. Стараясь спровоцировать мужа, тем более что ремень у него уже в руках, и достаточно было бы его вытащить, а вовсе не продевать в петли брюк, я зло кричу:
— Ну, давай-давай, чего ждешь, чего, как обычно, не лупишь меня? Чего ты боишься, давай, вот она я — тут, в твоем распоряжении, с голой задницей и готова терпеть твое зверство. Чего ждешь?!
Я обезумела и почти ничего не соображаю. Кричу ему все это, а между тем устраиваюсь поудобней, чтобы легче терпеть удары, скидываю совсем одеяло, которое вздыбилось до поясницы. Он смотрит на меня отупелым взглядом и не двигается, а я продолжаю кричать:
— Скажи правду, боишься? Трус — вот ты кто; боишься, что на этот раз я всерьез тебя оставлю? А я тебе скажу: ты прав, совершенно прав. Как только ты сделаешь хоть одно движение, одно только движение, чтобы ударить меня, между нами все будет кончено, навсегда.
Вижу, как он смотрит на меня окаменевшим взглядом, удивленно всматривается, будто хочет понять что-то очень важное; потом резко поднимается и… идет хлопать дверями, одной за другой, сначала в спальне, потом в коридоре и, наконец, входной.
Мне ничего не остается, как встать, заняться туалетом и одеться. Мое воображение парализовано; я разочарована и теперь не представляю себе, чем заняться. А выйдя из ванной и подойдя к зеркалу, чтобы накраситься, я пугаюсь своего вида: лицо искаженное, глаза вытаращенные, огромный рот будто всосал исхудалые изнуренные щеки, губы опущены, как у обиженного, жаждущего и ненасытного человека. Это лицо голодной, алчной и страстно вожделеющей женщины. Но голодной, алчной и страстно вожделеющей чего? Заканчиваю макияж и вдруг вслух произношу:
— Ладно, пойду к матери и скажу, что решила расстаться с Витторио.
Мать, по моему настоянию, со дня моей свадьбы живет в нашем доме, ниже этажом. Теперь я понимаю, что это желание связано с бессознательной и маниакальной потребностью окружать себя мучителями и садистами. Разве, в конце концов, не моя мать — главное лицо в этом сонме преследователей, которые мучили меня всю жизнь и против которых я бунтую, а один из них несколько минут назад ухитрился довести меня до неприличных подстрекательств? Спускаюсь к ней и составляю в уме список всего того, на что я имела и имею право, как любой человек на земле. И все это моя мать у меня украла, да, бесчеловечным обращением со мной и презрением ко мне, — украла.
Я имела право на целомудренное и чистое детство, но мать его у меня украла — она уничтожила мою невинность, сделав из меня свидетельницу непристойных подробностей своих интимных отношений с моим отцом. Я имела право на спокойную и счастливую юность, но мать ее украла — она втянула меня в различные свои любовные интрижки, в которых находила утешение, разойдясь с отцом. Я имела право на молодость с ее обманчивыми надеждами и прекраснодушием, но мать и ее украла, — она заставила меня выйти замуж по расчету, а не по любви. Не удержусь, чтобы не заключить: и сегодня я имела право получить побои ремнем, а вместо этого мой муж заправил ремень в брюки, туго его затянул и ушел. Да, есть логическая связь между дочерними и супружескими разочарованиями, потому что я чувствую, насколько подлость и унижение связаны между собой: когда-то меня ждали прекрасные, добрые и правильные вещи, но по вине моей матери я их не имела, а сегодня утром я могла бы получить удовольствие от битья, но и этого не случилось. Выходит, я в жизни многого лишена! Как я могла так низко пасть? Не мать ли моя несет за это прямую ответственность?
Звоню в дверь, жду с нетерпением и кусаю нижнюю губу, что у меня является всегдашним признаком тревоги. Дверь открывается, стоит мать в махровом халате с тюрбаном из полотенца на голове.
Она восклицает:
— Ах, это ты! Как раз ты мне нужна.
Я молча смотрю на нее и вхожу. Лицо матери вызывает у меня неизменно одну и ту же мысль: «Когда же, наконец, она решится постареть? Стать по-настоящему старой: с морщинами, желтыми шатающимися зубами, слезящимися глазами, неубранными и всклокоченными волосами?» Я не понимаю, как ей удалось избежать течения времени: в пятьдесят лет у нее то же гладкое, цветущее и радостное лицо, как было в тридцать. Правда и то, что ее лицо — теперь овальное и жеманно-кокетливое — было переделано и восстановлено в Швейцарии самыми дорогостоящими специалистами лицевой хирургии. Но все равно, каждый раз, как ее вижу, я не могу точно определить для себя эту ее физическую неизменность и, соответственно, нравственную устойчивость. Скорее всего, мать остается такой молодой потому, что спокойна и уверена в себе, к тому же у нее железная нервная система. Наверное, еще потому, что она с рождения убеждена в том, что к показушной буржуазной респектабельности не обязательно примерять суперморальные совершенства. Сейчас мне кажется в высшей степени несправедливым, что у меня, в мои двадцать девять лет, из-за сомнений во всем, начиная с самой себя, лицо испещрено глубокими морщинами. А у матери гладкое и тошнотворно кукольное лицо, и именно из-за того, что она ни в чем не сомневающаяся идиотка.
Думая обо всем этом, я чувствую, как на меня накатывает злость, разъедающая душу. Следую за матерью в гостиную пятидесятых годов, и здесь — как и от ее фальшивой молодости — не могу не испытывать ту же злость. Возможно, из-за всей этой псевдоантичной мебели, сделанной из множества новых и старых, слепленных вместе кусков, которую она приобрела в молодости у модных антикварных воров. Возможно, из-за этих провинциальных псевдоиспанских и тосканских трюмо, шкафчиков, стульчиков, столов и табуреток, все еще не рухнувших и до сих пор обманывающих наивного посетителя своей необычностью и якобы подлинностью.
Сухо спрашиваю у матери:
— Я тебе нужна? Для чего это?
С естественностью хозяйки, обращающейся к рабыне, она выбрасывает из-под халата обнаженную ногу и, показывая ее мне, говорит:
— У меня нет времени пойти к педикюрше, а ты знаешь, как это делается. Ты должна мне обрезать мозоль на мизинце. Не знаю почему, но она постоянно растет.
Я сразу взрываюсь:
— Пойди к педикюрше. У меня не тот сегодня день. И потом, если говорить правду, твои мозоли мне противны.
Мать, эгоистка, занятая только собой и своим, реагирует так, как я и ожидала. Она запахивает халат и спрашивает удивленно:
— Тогда зачем ты пришла?
— Конечно, не срезать мозоли.
Мать делает вид, что занята цветами в вазе на столе, стоящем в центре гостиной. Поправляет головки, выбрасывает увядшие. И говорит со вздохом:
— Как ты неучтива, груба и невыносима.
Внезапно для самой себя я объявляю решение, которое окончательно так и не приняла:
— Пришла, чтобы сказать тебе: хочу расстаться с Витторио.
— Ты всегда это говоришь, но никогда не делаешь, — с полным равнодушием реагирует мать.
— На этот раз есть повод. Он меня не любит, наш брак не состоялся.
— Вам надо было завести детей. Это единственное средство сохранить брак, хоть меня и пугает возможность стать бабушкой.
— Но я не хочу детей, что мне с ними делать?
— Тогда можно узнать, чего ты хочешь?
Она продолжает перебирать цветы, а я смотрю на ее руки. Большие руки крупной женщины, матово-белые, чувственные и гладкие, как цветы магнолии, с крупными овальными ногтями на длинных пальцах, которые двигаются с ленивой инерцией и как бы сами по себе. Руки, которые я знаю хорошо: больше всего помню, какими они могли быть беспощадными и жестокими к концу слишком затянувшейся ссоры между нами, когда она вдруг начинала методично бить меня ими по щекам. Это было в моем детстве и входит в так называемое «несчастье», то есть в неизбежную и мрачную отговорку с моей стороны — не хотеть до конца осознавать, что тогда я сама провоцировала насилие матери, точно так же, как сегодня вынуждала своего мужа избивать меня ремнем. Мать ругала меня глупо и зло, я ей отвечала в тон, тогда она меня ругала за мои ответы, а я поддавала пару. Так, с каждой фразой приходило то самое, что я называю «несчастьем». Нет, я совершенно не хотела, чтобы она меня била, но в то же время чувствовала — все равно это вот-вот произойдет. А мать вдруг кидалась на меня и била по щекам. Вернее, так: она пыталась надавать мне пощечин, но я ускользала из ее больших, точных и жестоких рук, металась по всей квартире, пряталась в гардеробной, то есть добегала до комнаты, в которой по четырем стенам стоят шкафы. Там была наша служанка Вероника и, как обычно, гладила.
Я врывалась в гардеробную и бросалась под защиту Вероники. Но мать меня настигала и тут же спокойно и прицельно принималась хлестать по щекам. Уже с первой пощечины я начинала орать так же, как сегодня во время ударов мужа, с собачьим повизгиванием, тогда я тоже удивлялась своему помрачению и тому, что во мне обнаруживается неизвестная часть меня самой. Мои тогдашние крики под материнскими пощечинами, похожие на мучительные повизгивания свиноматки, всякий раз звучащие так, будто ее режут, удивляли меня: неужели это я так ору?
Я прижималась к Веронике и кричала; тем временем мать совершенно спокойно и методично продолжала избивать меня. Доходило до того, что, взяв меня за голову, она поворачивала ее так, чтобы ей легче было влепить мне пощечину. Это битье по щекам длилось довольно долго, но мне не хватало времени прийти в себя, а то ведь я могла бы так или иначе мать оттолкнуть; интересно, что я никогда этого не делала и ограничивалась только криком. В конце концов мать, запыхавшись, но так и не взбесившись, удалялась со словами: «Тебе это будет уроком на следующий раз»; она произносила именно эту двусмысленную фразу, звучащую обещанием, что будут еще и другие разы. Я крепко обнимала Веронику — женщину холодную и даже брезгливую: она и пальцем не шевелила в мою защиту, — и икая, кричала:
— Ненавижу ее, ненавижу, не хочу ни минуты больше оставаться в этом доме!
Теперь я смотрю на эти руки и думаю, что мать вполне способна, как тогда, бить меня по щекам; достаточно было бы возникнуть так называемому «несчастью».
Из-за этих всех мыслей я резко говорю:
— Я ничего не хочу. У меня одно желание, чтобы ты вернула мне то, что ты у меня украла.
— Украла? Что ты такое говоришь?
— Да, украла. А если и не украла, то отобрала у человеческого существа счастье, на которое оно имело право.
— Кто это — человеческое существо?
— Я! Да, я имела право на счастливое детство; но ты, ты мне мешала, сделала меня свидетельницей твоих мерзких совокуплений с мужем.
— Между прочим, он твой отец, или я ошибаюсь?
Я хорошо знаю, что все было не так. Это я, девчонка, с неудержимым любопытством шпионила за родителями, которые, как это у них водилось, не заботились о том, видят ли их, когда они занимаются любовью. Но я, не колеблясь, лгу, потому что моя цель не правду сказать, а вызвать состояние «несчастья».
— Да, я видела, как ты его теребила, видела, как ты брала его член в рот, видела, как он имел тебя сзади.
Мать, абсолютно спокойно продолжая перебирать увядающие цветы, спрашивает:
— Ты кончила?
— Нет, я еще не кончила. А в отрочестве ты вынуждала меня быть наперсницей и превратила в подхалимку, ты вовлекала меня в свои любовные интрижки, использовала для временных перемирий со своим любовником, запуганным твоей чудовищной ревностью. Ты, не задумываясь, подсказывала мне некоторые способы подольститься к нему: понятно, мать и дочь — какой мужчина мог бы устоять и не соблазниться таким лакомым кусочком?
Знаю, и это тоже — неправда. На самом деле, опять-таки я сама, если предоставлялся случай, предлагала себя на роль миротворца между матерью и одним из ее любовников. И все потому, что мужчина этот мне нравился, в моей неомраченной и бредовой голове тщеславной девчонки роились обманчивые надежды на то, что я смогу ему заменить мать. Но мужчина на мою игру не поддался, и после нескольких перепалок он в особо уничижительной манере меня отверг. И этого я никогда не могла простить матери.
Я искоса подсматриваю за ней, чтобы увидеть, возмущает ли ее мое вероломное вранье. Нет, совсем нет.
Второй раз, уже тоном терпеливого мудреца она спрашивает:
— Ты закончила?
— Нет, я не закончила и никогда не закончу. Ты украла и счастье моей молодости. Ты, практически, продала меня Витторио, который сделал вид, будто женится на девушке своего круга. Цена такой рабыни, как я, в точности равна стоимости этой самой квартиры, которую он тебе подарил по завершении «дела», то есть сразу же после нашей свадьбы.
А вот только что сказанное — не вранье, как раз наоборот, правда. Справедливо будет заметить, что в действительности это произошло так, как я уже говорила, — именно я хватила лишнего, считай, переборщила, и муж подарил моей матери квартиру. Я хотела, чтобы она жила рядом, то есть в том же доме, и всегда была у меня под рукой.
В третий раз я взглянула на нее в надежде поймать хоть какой-нибудь признак волнения, хотя бы в дрожании ее рук, когда-то постоянно готовых наказать меня. Но мать опять не реагирует, и, в общем, уже ясно, что я хочу ее спровоцировать, буквально взываю к ее инстинкту мучителя, а она отказывается на мои грубые уловки поддаться.
Мать жестко произносит:
— А теперь убирайся, у меня есть дела. И не приходи, пока у тебя это не пройдет.
Я ухожу. Но не могу противиться искушению и уже с порога кричу:
— Это у меня никогда не пройдет!
Я снова на площадке: тяжелое чувство разочарования, дрожу всем телом, глаза затуманены слезами. Представляю картину, ставшую навязчивой в моем коротком и тоскливом существовании: надо мной грозно изогнулась плотная стекловидная масса высокой зеленой морской волны с короной белых пенных барашков.
Эта огромная нависающая волна — не игра воображения в моем смятенном состоянии, я ее действительно видела много лет назад в Тирренском море, в тот день, когда мы с отцом неосторожно и невовремя пошли купаться. Когда мы отплыли от берега, море было спокойным. Но как только мы обогнули северную часть мыса Чирчео, море, обнаруживая свой норов, предательски растревожилось. И вот сами, не совсем понимая, как это могло произойти, мы очутились в хаосе встречных волн и течений. Они беспорядочно и без определенного направления сталкивались друг с другом и разбивались. Отец прокричал мне, чтобы я не отставала, и, борясь с неистово пляшущими волнами, устремился обратно к мысу. Именно в эту минуту, стараясь изо всех сил подплыть поближе к отцу, я увидела недалеко от себя немыслимо высокую мощную волну и, как бы это сказать? — точно знающую свое направление и назначение. Она угрожала мне, и только мне, с явным намерением настигнуть меня и накрыть. Я закричала «папа» и сразу увидела, как волна покатила в мою сторону — она была совершенно одна в целом море, показавшемся мне в эту минуту спокойным.
Второй раз, без всякой надежды, я закричала «папа», а волна в тот же миг вздыбилась прямо надо мной. Но прежде, чем волна обрушилась, отец, бывший неподалеку, уже подплыл. Я в третий раз закричала «папа», и, обхватив его за шею, крепко уцепилась за нее. Он попытался оттолкнуть меня, высвободиться из рук, но я, еще крепче сжимая его шею, не давала. Последнее, что я увидела: отец пытается разжать мои руки, сжимающие его горло, ему это не удается, и тогда, стиснув нижнюю губу зубами, он прицеливается и изо всех сил кулаком бьет меня по лицу. Я потеряла сознание, он от меня освободился и потащил за волосы к берегу. А пришла я в себя, только когда он, сидя на мне верхом, делал искусственное дыхание «рот в рот».
Эта высокая «мыслящая» волна с того самого дня стала символом всего, что мне угрожает в хаосе моего существования; и этот удар моего отца, в свою очередь, приобрел для меня символическое значение: вслед за насилием должно прийти обязательное спасение. Вот и сейчас у меня как раз то самое чувство — волна угрожающе нависла надо мной. И я решаю теперь же пойти к отцу, потому что только он один может, как когда-то, спасти меня.
Мой отец живет в старой студии в глубине заброшенного глухого сада, у подножия холма Яникул[7], он скульптор. Я оставляю машину за воротами и дергаю шнурок древнего колокольчика. Проходит две-три минуты, наконец ворота с рокотом раскрываются. Направляюсь в глубину сада, к студии. Тороплюсь, иду по дорожке, проложенной между клумбами, заросшими буйным сорняком. Зачем я отправляюсь к отцу и что собираюсь делать у него? Задаю себе этот вопрос и смотрю на торчащие повсюду над высокой июньской травой скульптуры, говорящие о творческом бессилии автора. Это огромные монолитные блоки из розового, серого и голубого грубо отесанного камня, похожие на каменные плиты доколумбового искусства с острова Пасхи или из Мексики; каждый из идолов с головой чудовища, а если и с человеческой — то тоже с весьма чудовищной. На самом деле, я их осматриваю бегло: для меня они — просто громадные пресс-папье, или пепельницы, причем гигантские размеры не отменяют их никчемности.
Зачем я иду к автору этих пресс-папье? И отвечаю без запинки: иду просить его снова нанести мне удар «кинжалом милосердия».
Поднимаю глаза: а вот и мой отец — неопрятный колосс на неверных ногах, в рубашке из серого брезента и вельветовых брюках, он стоит на пороге студии. Насколько я ниже его! Теперь мне приходит мысль: а что, если, вопреки моей ностальгической надежде, он меня не ударит? и тогда мне придется рассчитывать только на себя, чтобы вынести волну, которая мне угрожает? Он ведь нездоров. Уже два года лицо моего отца перекошено парезом, и гримаса безнадежной рассогласованности выглядит как гротеск: будто безжалостно ухватили левую щеку двумя пальцами и с силой стянули ее на другую сторону, принудив отца вечно подмигивать одним глазом.
Отец меня обнимает, что-то нечленораздельно бурчит и первым ковыляет в студию. Вслед за ним вхожу и я. Один из монолитов, начерно обработанный, стоит посредине. Другие, законченные, — вдоль стен. Я обхожу их для виду, будто мне интересно, в общем, играю роль почтительной и серьезной ценительницы. Но меня гложет тоска, и я объявляю убитым голосом:
— Я пришла сказать тебе, что мы с Витторио расстаемся.
Дальше между нами идет диалог: он что-то невнятно бормочет; я сквозь слезы, с комом в горле, отвечаю.
Он спрашивает:
— Почему?
— Потому что он меня бьет.
— А как он тебя бьет?
— Он бросает меня голышом на койку и бьет брючным ремнем.
— И из-за этого ты хочешь его оставить?
Внезапно передо мной вырастает высокая темная волна, огромным завитком нависшая над моею головой, и я вновь вижу отца, зажавшего нижнюю губу, чтобы легче было ударить меня.
И забыв о его парезе я кричу:
— Да, я бросаю его, потому что хочу жить с тобой!
Отец явно пугается: бормочет — мол, в студии и так места нет; мол, есть у него женщина (я знаю — это его горничная!), мол, я должна искать способы примирения с мужем, и тому подобные глупости. Но я его не слушаю, кидаюсь ему на шею, точно как в тот день в море, и кричу:
— Ты помнишь, пятнадцать лет назад у Чирчео, когда я тонула, а ты спас мне жизнь? Ты помнишь, как я ухватилась за тебя обеими руками, вот как сейчас, и ты, чтобы не потонуть вместе со мной, ударил меня по лицу? Ох, папа, папа, из всех, кому приходит на ум бить и обижать меня, ты единственный, кто меня любит, и твой удар я помню, как обиду, нанесенную мне в знак любви.
Я страстно прижимаюсь к нему. А он, испугавшись, отталкивает меня и бормочет:
— Да кто ж тебя обижает?
— Мама, муж, все.
— Все?
— Мама только что дала мне пощечину. Я пришла к ней за поддержкой, а она вот так мне ответила.
Тараща глаза, он берет меня за руки, чтобы высвободиться из моих объятий, но не ударяет, а бормочет:
— Мама тебя любит.
А я продолжаю кричать:
— Ты что, не видишь на моих щеках следы ее мерзких рук?! Мало мне собственного мужа с его ремнем. Не веришь? Тогда смотри, смотри!
Не знаю, что за приступ эксгибиционизма на меня напал, но я наклонилась, уперлась в массивный камень и подняла юбку, обнажив задницу. Между прочим, у меня узкий мускулистый зад с возбуждающими ямочками по бокам.
И как закричу:
— Смотри, смотри, как со мной обращается муж!
Что это? За моей спиной мертвая тишина, и именно в тот миг, когда я кричу, старательно стаскивая трусики. Отец берет меня за руку, останавливает ее и отводит в сторону; потом, отпустив мою руку, одергивает юбку. Я оборачиваюсь: он стоит передо мной и, встряхивая головой, шамкает:
— Не надо так делать.
А я, хватаю его руку, подношу к губам и, целуя ее, говорю:
— Только ты можешь меня спасти.
Он смотрит на меня, высвобождает свою руку и наконец решается сказать мне в глаза то, о чем думал с самого моего прихода:
— Ты — сумасшедшая.
— Нет, я не сумасшедшая. Это ты уже больше не тот. Ты был настоящим мужчиной, а теперь ты — развалина с перекошенным лицом. Раньше ты запросто мог ударить свою дочь, а теперь испугался ее голого зада!
Намек на парез его расстраивает, и он сердится. Странно, но гнев помогает ему побороть паралич, и он говорит ясно и убедительно:
— Смотри, ты ведь совсем голову потеряла из-за мужа. И знаешь, будет лучше, если ты уйдешь.
— Трус, ну ударь меня, увидим, способна ли твоя рука хоть на что-нибудь, кроме твоих дурацких малахитовых пресс-папье, — кричу я ему.
Куда там: он медленно поднимает огромную руку, но открытой ладонью, будто показывая мне ее размер, потом с трудом выговаривает:
— Уходи. Чего ты хочешь от меня? Зачем тебе оплеуха? Мне жаль, но я не привык бить женщин.
Конечно, после этого мне ничего не остается как уйти. Уйти, как от мужа, как от матери. Ухожу. Отец меня не провожает. Он уже взял в руку инструмент для работы и издалека помахал им мне на прощание. В действительности, ему ничего про меня неинтересно, и он прощает мне даже оскорбления, лишь бы я ушла. Я, как заведенная, иду по тропе между клумбами с буйными сорняками, из которых выглядывают отцовские идолы; выхожу на улицу, сажусь в машину, завожу мотор, выжимаю сцепление и сдаю назад. Но из-за переполняющей меня тоски ошибаюсь в передаче. Машина делает резкий рывок вперед и врезается в фонарь, который почему-то оказывается буквально на моем пути; будь он на метр дальше, ничего подобного не случилось бы. Торможу, глушу мотор, открываю дверь, иду смотреть: радиатор пробит, фары вдребезги, бампер всмятку. На злобу у меня не хватает сил; к тому же, невезение в такой день — нормальное явление. Эта авария наталкивает меня на мысль, можно сказать, утилитарную: надо бы навестить Джачинто.
Джачинто — единственный мужчина, с которым я изменила мужу за пять лет нашего брака. Говорю — «изменила мужу», но это не совсем так, потому что, если честно, то Джачинто «не считается».
Я часто спрашиваю себя: «Что значит „изменять“ в таких случаях? Джачинто „вошел“ и „вышел“ — всё, всего-то было один раз. Разве это измена?»
А произошло это так. После такой же, как сейчас, аварии — только тогда вместо задней передачи я включила третью. Как и сегодня, был пробит радиатор; на этом, правда, сходство кончается. Та машина была у меня первой, и я еще не обзавелась постоянным механиком. Тогда я вдруг вспомнила, что недалеко от дома, на дороге, по которой я каждый день хожу, есть мастерская. На обочине около мастерской ремонтировали машину; механик лежал на спине под днищем, из-под машины торчали только ноги. Вот он-то и есть Джачинто. Даже издали были видны холмы его гениталий, и я их разглядела прежде, чем лицо. Позднее я любовалась и его лицом: красивый мужчина средних лет; его худое суровое лицо древнего римлянина с орлиным носом и надменным ртом, подпорченное потеками грязи и масла, выражало любопытство. Клянусь, что в день своей первой аварии я вовсе не думала заводить шашни с Джачинто. Было не до того: первая машина — и вон как уже смята, а где взять денег на ремонт? А в тот день я подошла прямо к мастерской; день был майский, теплый, а он, лежа на спине, чинил машину, полтела под машиной, пол — наружу. Не знаю, как меня осенила эта, вполне удачная идея, но я наклонилась и, без лишних слов, шлепнула ему по тому самому месту, где холмились его джинсы.
Потом, разумеется, я его окликнула:
— Послушайте, вы можете посмотреть мою машину? Шлепок мой был таким легким, что, когда он вылез из-под машины и мгновение внимательно смотрел своими голубыми глазами навыкате прямо в мои глаза, мне показалось, будто он ничего не заметил и тем более не понял — приятно ли мне это было или нет. Он пошел посмотреть мою машину и тут же жестко и сухо сказал, сколько мне будет стоить ремонт. Цифра была высоковата, больше, чем я ожидала. Внезапно на меня напал приступ жадности и, недолго думая, я ему сказала:
— Для меня это много, слишком много. Нельзя ли заплатить другим способом?
Он еще раз посмотрел на машину, потом на меня, именно как на предмет оплаты, и ответил с серьезностью истинного мастерового:
— Понятно, что есть другой способ. — Секунду подумав, он добавил: — Пошли, попробуем машину, посмотрим, цел ли мотор.
Он сел за руль, а я, безответственная дура, рядом с ним, и мы отправились на пригородный проспект, идущий параллельно Тибру.
Ведя машину и прислушиваясь к мотору, он сказал:
— Такое будет только в этот раз, потому что я мужчина женатый и люблю свою жену.
— Согласна, только в этот раз, и то потому, что у меня нет денег, — горячо согласилась я.
Непонятно, почему в этот день я оказалась такой жадной!
С тех пор прошло три года, и я уже дважды меняла машину. Каждый раз для ремонта я ходила только к нему, потому что он с меня ничего не брал. Всякий раз, как только я открывала сумочку, он останавливал меня и неизменно говорил:
— За счет предприятия.
Именно таким образом он сообщал мне, что те десять минут, когда он «вошел» в меня и «вышел», стали для него важными, такими важными, что он готов был ремонтировать мою машину бесплатно всю жизнь. О сексе, будто сговорившись, мы больше не упоминали.
Сейчас я иду к нему, как к человеку, который может мне помочь в трудный момент моей жизни. Не из жадности иду, а потому что в тот день, после того как он «вошел» в меня и «вышел», успев доложить, что он женат, не знаю почему, я спросила:
— Если бы ты узнал, что твоя любимая жена изменяет тебе, — вот как я теперь изменила мужу, — что бы ты сделал?
— Даже думать не хочу.
— Ну все-таки, что бы ты сделал?
— Думаю, что убил бы ее.
«Убил бы ее!» — вздор: собака лает да не кусает. И все же, теперь бы мне подошло больше, если бы собака и впрямь кусалась. Странно: может, потому что Джачинто рабочий, пролетарий, «черная косточка», мне пришел в голову этот жестокий и неприятный глагол «казнить», который так часто употребляют в своих листовках террористы, — «мы казнили», затем следует имя, фамилия, профессия и приговор, полный пренебрежения и ненависти к жертве. Этот глагол для моего уха жертвы, приговоренной всеми к насилию, звучит неплохо: «Вчера мы казнили как закоренелую мазохистку Витторию Б., типичную синьору из городской буржуазии».
Это правда: Джачинто — не идеальный палач; и вообще, я подозреваю, что он, как и другие, немножко буржуа, но, в конце концов, он не более чем простой мужик, с которым я один раз занималась любовью. И если кому и суждено убить меня, то я бы предпочла его.
Итак, я иду через улицу к его мастерской; нахожу его в том же положении: половина тела под машиной, которую он чинит, другая половина снаружи. Сажусь на корточки, оглядываюсь, вижу — вокруг никого, и шлепаю его по холмам на брюках. Он тут же вылезает, хмурится, видно, что разозлен.
Говорю ему:
— Посмотри-ка, что случилось.
Он молча идет к моей машине, обходит ее, осматривает, потом сухо произносит:
— Повреждений немного. Будет стоить пятьдесят тысяч лир.
— Так ты исправишь?
— На этот раз не в долг.
— То есть?
— То есть вы мне заплатите пятьдесят тысяч лир.
Ого, он обращается ко мне на «вы»! Заставляет платить! Я разъярилась, кровь бросилась мне в голову, в этом было все: и жадность, и разочарование, и нежелание больше жить, сюда же и глагол «казнить», а также все прочее. Соглашаюсь и тихо говорю:
— Прокатимся, надо поговорить.
Мы молча садимся в машину и уезжаем. По дороге, стиснув зубы, я ему говорю;
— Не хочу ничего бесплатно. Я готова заплатить за ремонт прежним способом.
— Нет, довольно, я требую денег. Я уже вам сказал: человек я женатый, у меня есть жена.
— Ага, у тебя есть жена! Ну так она тебе изменяет. Я пришла сюда специально, чтобы сказать тебе: она изменяет тебе с Фьоренцо, — тут же отбиваю я нанесенный мне удар. — Готова поклясться!
Ох, очередная клятва. На меня снизошло вдохновение. И я клянусь с максимальной убедительностью, хотя еще минуту назад и не знала, что скажу Джачинто об измене его жены. Тем более с Фьоренцо, с его рабочим. Естественно, это вранье: но именно так мне захотелось спровоцировать его на насилие. Он краснеет, это видно даже сквозь черные масляные потеки.
Потом он спрашивает:
— Да, кто ж вам такое сказал?
В его глазах уже угроза, или мне показалось? Второпях подливаю яду:
— Ты своим каменным лицом напоминаешь древнего римлянина, но ты — современный римлянин, бедняга, и не знаешь, что жена наставляет тебе рога. Тебе и в голову не приходит, что, пока ты валяешься под машиной, Фьоренцо лежит на твоей жене.
Ох и хороша! Выпустила именно ту отравленную стрелу, что, проникая в печенки, поражает насмерть. Так и есть, он тут же теряет голову; разворачивается и двумя руками хватает меня за горло. Именно этого я и добивалась. Рыдаю, дышать нечем, и из-под его рук кричу: «Убей меня, да-да, убей меня, казни меня!»
Увы, мой призыв дает результат, противоположный тому, на который я надеялась. Может, я напугала его этим «казнить», и он засомневался? Он отпускает мое горло, открывает дверцу машины, выскакивает и бежит, постепенно удаляясь. Последнее, что я вижу, — его спина, скрывающаяся в кустарнике.
Очумевшая и разбитая, несколько минут сижу в машине неподвижно, уставившись через все еще открытую дверь на заросли кустов, разукрашенные разным мусором. На самом деле, — говорю я себе, — в конечном итоге, все мои беды от одного: я хочу быть любимой своим мужем, как каждая уважающая себя жена, — и всё. Из-за утреннего разочарования в муже вышли и все остальные неприятности: ссора с матерью, стычка с отцом, разрыв с Джачинто. Последнее, если хорошо подумать, настоящая беда — с сегодняшнего дня надо будет платить за ремонт машины. Эта мысль, в общем, весьма приземленная, придает мне силы. Теперь я уже совсем не сумасшедшая, которая ищет кого-то, кто будет ее бить, колотить, убивать; я — просто женщина, жаждущая любви. Закрываю дверь, завожу машину и отправляюсь домой.
Через несколько минут я уже на площадке перед своей квартирой. Тихонько открываю дверь, осторожно, как вор, просачиваюсь внутрь, пытаюсь не производить шума. Из передней на цыпочках прохожу по коридору; из него, по-прежнему на цыпочках, — в спальню. Тут полный порядок; горничная все убрала и ушла. Спальня пуста; жалюзи наполовину прикрыты, внутри чистый и спокойный полумрак. Не понимаю, чем вызвано, но мне кажется, что здесь что-то не так. Может быть, из-за контраста между нынешним порядком, тишиной и спокойствием и той сценой, что произошла сегодня утром между мной и моим мужем? Да нет, что-то совсем другое, новое и необычное, не могу точно понять — что именно. Тут я взглянула на кровать и увидела над тем местом, где я сплю, слева от изголовья, на гвозде, которого не помню, висит на пряжке ремень моего мужа.
Иду, снимаю ремень с гвоздя, зажимаю его в руке и сажусь на край кровати. Я растеряна и напугана одновременно. До сих пор побои, что мне доставались от мужа, были спровоцированы непредвиденной и непредсказуемой неизбежностью жестокой развязки, пугающей и безотчетно желанной, тем, что я, на моем внутреннем языке, называю «несчастьем». Мы оба, я и муж, безотчетно и вопреки самим себе, низко пали. Но теперь этот ремень, висящий у изголовья, напоминает инструмент пыток в камере инквизитора, готовый к услугам при первой необходимости. Этот ремень — который меня «доставал», пока я спала, и маячил перед моими глазами, когда я просыпалась, — пугал, как знак того, что мы оба, я и мой муж, вступили в тайный сговор, ясный и осознанный, и, тем не менее, вынужденный. Отныне и навсегда мы будем знать, что висящий ремень «говорит» о прелюдии к наслаждениям, то есть конкретно вот что: наступит минута, когда я лягу ничком, отброшу одеяло до ягодиц, и мой муж, сняв ремень с гвоздя, хорошенько высечет меня, а я буду чужим для меня самой голосом стонать от боли.
Как все это уже просчитано и как, в итоге, отвратительно.
Может, этот ремень повешен на гвоздь как любовное предупреждение? Мой муж вбил гвоздь и повесил на него ремень для того, чтобы во мне возникали именно эти мысли и это отвращение? И наверное, он хотел этим сказать: «Смотри, вот — пропасть, в которую мы рухнем».
Кто знает, может быть, он, как и я, хочет и не хочет этого. Уверена, что это он вбил гвоздь и пристроил ремень.
Однако, глядя на лежащий на моих коленях ремень, я сомневаюсь. Потом решительно встаю и иду вешать ремень обратно. Смотрю на часы — почти час. Скоро придет, пора подавать на стол; еще есть время что-нибудь приготовить. Я бросаю последний взгляд на висящий над изголовьем ремень и выхожу из спальни. Сейчас придет муж, и во время обеда мы обо всем потолкуем; во всяком случае, обед способствует и разговору, и нашему сговору.
Хозяин картиры
Всё, приготовления закончены. Диван в гостиной я превратил в кровать — здесь буду спать я. Он (или она) будет спать на моей постели. На случай, если он (или она) не захочет или не сможет выйти из дома, я купил банки с консервами, несколько килограммов макаронных изделий и разные сорта сыров и колбас. Наконец, освободил стенной шкаф от моих вещей — он может пригодиться ему (или ей), чтобы развесить его (или ее), назовем так, пожитки. Теперь мне ничего не остается как ждать: он (или она), если верить вчерашнему телефонному звонку, должен (или должна) приехать максимум через час.
Но нужно договориться о значении слов. «Раньше» слова имели смысл, скажем, нормальный; «теперь» они имеют другой смысл, скажем «организационный». Например, в моем случае, глагол «ждать» означает быть «организованным», то есть не ждать кого-то или чего-то, а быть в месте, которое мне было назначено, и ни в коем случае не уходить оттуда. В общем, если верно, что в каждом ожидании есть что-то личное, — а я думаю, оно так и есть, — то мое сегодняшнее состояние ожиданием назвать нельзя. То есть подтверждается странное противоречие: пока я жду, не произойдет ли что-нибудь определенное в гипотетическом будущем моего ежедневного существования обычного человека, в действительности я не знаю, чего именно жду, а если хорошенько вдуматься, то я не жду ничего. Разве что решусь превратить средство в цель, то есть сделаю из себя самого цель, хотя пока я — всего лишь средство. Если я сделаю из самого себя цель, то как мне в нее поверить?
Впрочем, даже понятие «обычный человек», с тех пор как я вошел в Организацию, приобрело совсем иной смысл. «Раньше» я был убежден, и очень был этим доволен, что я действительно самый обыкновенный человек, подобно многим и многим. А «теперь», как раз из-за того, что я обычный человек, мне навязали роль необычного, и я вынужден ее играть. Таким образом, «обычный человек» в моем случае обозначает не обычного человека, который притворяется, что он человек обычный, но только для того, чтобы сделать нечто необычное, а может, и сложное. Так ведь?!
Даже не ожидая ничего, я все равно должен был бы как-то проводить время, но, к сожалению, я уже не могу проводить его как «раньше», то есть, например, как когда просто ждал женщину.
А это ожидание того типа, когда такой человек, как я — среднего возраста, вполне хорош собой, с умеренной зарплатой, живущий один в двухкомнатной квартире плюс подсобные помещения, — предельно понятен. Из-за исключительности и противоречивости сложившейся ситуации теперешнее ожидание даже на чисто бытовом уровне включает в себя любые виды ожидания, в том числе экспрессивно окрашенные и гипотетические. И естественно, если учесть что Организация отнимает у слов сущность, оставляя только их оболочку, я буду не столько жить ожиданием прихода женщины, сколько представлять его, — и представлять так, будто я жду той самой важной для человека минуты, которая отделяет желание от его исполнения.
И для этого, прежде всего, я распахиваю окно и встаю у подоконника. Живу я на третьем этаже, в идеальном месте для скрытного наблюдения — могу оставаться незамеченным и, уж конечно, ни во что не вовлеченным. Уже вечер, и после весеннего дождливого дня асфальт мокрый, а воздух туманный и влажный. Сначала я смотрю на другую сторону улицы, на многоквартирный дом, очень похожий на мой, с многочисленными рядами абсолютно одинаковых окон, доходящих до самого неба, и множеством магазинов в нижнем этаже, справа и слева от подъезда. С этого дома мой взгляд опускается на машины, выстроившиеся «елочкой» вдоль тротуара, потом переходит на большие, рядами посаженные платаны уже с несколькими весенними листьями. Затем перевожу взгляд на дорожную полосу, по которой в двух направлениях беспрерывно снуют автомобили. Наконец, я бросаю взгляд на свой тротуар, точно такой же, как и на противоположной стороне улицы: платаны, ряд машин в форме того же рыбьего хребта. Одна разница: здесь газетный киоск. Однако, на самом деле, фасада моего дома и магазинов в нижнем этаже я не вижу, а «чувствую», — то есть знаю, что все точно так же, как в доме напротив. Да, обе стороны улицы одинаковые и обычные, одну вижу, другую «чувствую».
Сегодня, рассматривая этот городской пейзаж, я вижу, как он изменился. Когда-то мне казалось, что я составляю часть его, и мне это нравилось. Каждый раз, особенно по вечерам, после целого дня за рабочим столом, я вставал, шел к окну, распахивал его и, с наслаждением закуривая сигарету, смотрел на улицу. И я не столько наблюдал за всем, находящимся по соседству и виденным мною тысячи раз, сколько наслаждался самим чувством узнавания. Будто каждый раз обнаруживаешь ласковое и сердечное присутствие того, кто помогает тебе выживать. Ну, и что тут странного? Я обычный человек и вместе с другими жильцами живу жизнью нашего квартала. И, конечно, вполне нормально, что мне нравится открывать окно и смотреть наружу.
Но сегодня совсем не то. И я понимаю почему. Вместо того чтобы сначала взять сигарету, я сразу высовываюсь из окна и теряюсь, не зная, как быть: с первого же взгляда я ощущаю, что не включен в открывшуюся передо мной реальность. Свою улицу я больше не узнаю, смотрю на нее, а она будто в запотевшем зеркале — не проступает. Значит, то, что было улицей, — это не она сама, а только мое видение ее. В общем, улица, после того как долгое время была местом, где я жил, теперь стала местом, где я притворяюсь, будто живу.
Пока я так размышляю, зажигаются один за другим уличные фонари. И беспорядочные вечерние тени на аллее сменяются иллюзорно светлой ночью. Буквально в ту же самую минуту, неизвестно откуда, появляется девушка, она сходит с противоположного тротуара и перебирается на мою сторону. Молодая, а может, и совсем юная, высокая и сильная, она — воплощение красоты. На ней просторный свитер в горизонтальную полоску и голубые джинсы, они обтягивают ее так, что вокруг лобка образуется множество мелких складок, и это наводит меня на мысль о лучах солнца, садящегося за горизонт. Она шагает — грудь вперед, бедра назад — с неловкой грацией, свойственной очень крупным женщинам, обретающим проворство только в обнаженном виде. Шея у нее круглая и красная, лицо тяжелое, слегка сыроватое на щеках и сухое у висков, с высокими скулами и большими прозрачными глазами. Где я видел это лицо? Может быть, у женщины на копии картины Пьеро делла Франческа, что висит на стене в моей спальне?!
Замаскированная ночной темнотой красивая девушка проходит между припаркованными машинами и смотрит наверх, в мою сторону. Это она, никаких сомнений, — та самая, что пригласила меня в Организацию. Да, это она, а я — самый счастливый мужчина на свете. Но через минуту это явление может исчезнуть из виду, оказавшись под моим домом. Ни на секунду не задумавшись, я поднял руку и приветственным жестом пригласил: «Поднимайся наверх, я живу на третьем этаже». Она увидела мой жест, в знак согласия кивнула головой и тут же скрылась. С бьющимся сердцем я побежал к двери смотреть в глазок. Между прочим, давняя привычка, я и раньше в ожидании девушек смотрел в глазок. Правда, подобных приключений у меня было немного, но я уверен, что в этой области мой небольшой опыт вполне можно считать за нормальный. Не то что у некоторых, перепробовавших все на свете!
А сейчас у меня появилось ощущение, что впервые в жизни со мной произойдет нечто удивительное: эту девушку, пригласившую меня в Организацию, я полюблю, мало того — уже люблю. От этой мысли я был счастлив, как игрок, с самого начала игры настроившийся на победу.
Когда я смотрю в глазок, у меня всегда возникает странное впечатление: видишь предметы далеко, в перспективе, а в действительности они совсем рядом, почти под самым носом. Может быть, из-за того, что стоящие перед глазком кажутся такими далекими, вид у них загадочный, нереальный; они представляются мне персонажами из снов или призраками умерших. Они притаились там, будто хотят, не знаю, за какую провинность, упрекнуть меня, и я чувствую себя виноватым. Но на этот раз во мне мечта и чувство вины, одновременно. Вижу площадку, переходящую в длинный коридор, а в его глубине — лестницу, с которой вот-вот появится девушка в свитере и джинсах. Мое приглашение мне кажется таким давним, словно отнесенным на миллион световых лет назад, но я знаю, что, когда я открою ей дверь, она ткнется мне прямо в руки — так это будет близко.
Площадка пустует бесконечно долго; может быть, девушка задержалась, в поисках моего имени внимательно рассматривая таблички на дверях? Ага, вон ее голова появилась — она поднимается по лестнице.
И я мгновенно понимаю, что что-то в моих расчетах не сходится. Эта женщина — совсем другая; она много худее, чем та, которую я увидел на улице. Шея у нее не крепкая и не круглая, наоборот — тонкая и нервная. На ее лице выражение не ангельской самоуглубленности женщин Пьеро делла Франческа, а тупости, и оно треугольное, лисье. Гладкие и будто мокрые волосы свисают вдоль изнуренных щек. Свитер на груди не приподнимается, кажется, что ее грудь располагается где-то в районе талии. Она приближается, и я вижу, что она не смотрит на таблички в поисках моего имени, как делала бы та, из Организации, а немного поколебавшись, вот-вот свернет на лестницу, ведущую на четвертый этаж. Тогда я открываю дверь, выглядываю и спрашиваю:
— Эй ты, куда идешь?
Останавливаясь, она поворачивается в мою сторону. И я сразу замечаю около ее ноздрей и в углах рта красную сыпь. Кротко улыбаясь, она отвечает:
— Не знала, как тебя найти. Ты подал знак и исчез.
Голос у нее неприятный, хриплый, визгливый. Женщина возвращается на мою площадку; через мгновение я ныряю обратно, в квартиру, и захлопываю дверь. Она недовольно спрашивает за дверью:
— Да что с тобой?
Сквозь закрытую дверь отвечаю:
— Извини, я тебя принял за другую.
— Нужно было думать раньше; со мной всегда так, вечно меня путают с другими. Дай мне хотя бы что-нибудь, — жалобно просит она.
— А что ты хочешь?
— Дай мне пятьдесят тысяч лир на еду.
Тут мне на память приходит, что несколько дней назад я нашел в нашем подъезде брошенный шприц. Кто-то, торопясь, сделал себе укол здесь, а не на улице.
Рассердившись, говорю:
— На еду или на наркотики?
— Да ладно, дашь пятьдесят тысяч лир?
Вынимаю деньги из кошелька, подсовываю под дверь. Она наклоняется и берет; и точно в этот миг за ней вырисовывается фигура коренастого и приземистого мужчины с очень бледным изможденным лицом, иссиня-черной бородой и двумя круглыми, как два каштана, глазами под высоким лбом и плешивым теменем. В его руке тяжелый чемодан. Он бросает вопросительный взгляд на девушку. Она поворачивается ко мне спиной и, раскачивая нескладными худыми бедрами, уходит. Открываю дверь, и он входит.
Мою дочь тоже зовут Джулия
Вот я и один в День Феррагосто[8], а все из-за несправедливости злой судьбы, настигшей меня как гром с ясного неба. Мы, я и Джулия, должны были уезжать на пляж под Римом. Но в самый последний момент я узнал, что нас не двое, а трое — будет еще некий Тулио, последний из кавалеров, водящих Джулию в кино. По словам Джулии, Тулио — просто друг, в чистом виде друг, и только. И в День Феррагосто тоже?! На это мое замечание она ответила как мог бы психоаналитик:
— Ты хотел бы, чтобы я поверила в твою ревность, а на самом деле подсознательно только и ждешь, чтобы я тебя предала.
Не знаю почему, но от этих ее слов я разъярился:
— Ах так, да?! Тогда лучше будет нам никогда больше не видеться.
— И я думаю, что так будет лучше, — с обескураживающей меня безмятежностью парировала она.
— Тогда прощай.
— Прощай.
Теперь я сам себя спрашиваю — зачем я порвал с Джулией? Вернее, почему я не порушил все раньше? В общем, зачем я тянул два долгих года наши отношения, такие раздражающие и такие бессмысленные? Задаю я себе эти вопросы, лежа на диване в кабинете праздничного дня, да к тому же — летом. И задаю я их лениво и с хитрецой. А ощущение окончательной свободы, после двухлетнего рабства, вместо того, чтобы возбуждать и опьянять, действует на меня, как снотворное. Получается, что сам факт освобождения от Джулии дает мне право спать, а не терзаться ответами на некоторые вопросы. Да это так, и я говорю себе, перефразируя Гамлета: «спать, как мечтать», то есть во всех случаях лучше временно приостановить реальную жизнь, как прекращается театральное действо из-за неисправности освещения.
Думаю обо всем об этом, а тем временем, сладострастно сбрасывая туфли, отшвыриваю их подальше, отстегиваю воротничок, ослабляю узел галстука, расстегиваю ремень. Затем, кинув мимолетный взгляд на мои любимые книги, столь многочисленные и такие бесполезные, благодарю их за заботу о моем сне, интеллектуально свободном от них, и засыпаю.
Сплю недолго, может, каких-нибудь десять минут, сплю с ощущением тоски по Джулии и желанием быть разбуженным ею. Еще во сне слышу телефонный звонок, такой громкий и настойчивый, что он напоминает мне трезвон телефонов на киноэкране. Во сне сам себе говорю: «Пусть звонит, когда-нибудь да надоест»; знаю, что это Джулия. Но телефон звонит не переставая, приходится подняться с дивана и снять трубку. Слышу голос Джулии:
— Профессор дома?
Появляется чувство радости, понятно, смешанное с раздражением.
Отвечаю:
— А вот и я, профессор. Кто же еще тут может быть?
— Нам нужно поговорить.
На это я терпеливо и занудно, будто разговариваю с нерадивым учеником, объясняю:
— Ты же хорошо знаешь, что эти два года мы только и делали, что разговаривали. А контакта между нами нет как нет, ты должна была это уже понять. О чем мы будем говорить? О проблеме поколений, о культуре, или о том, что знаю я? Но ведь у меня с тобой то же самое, что и с моей дочерью: между нами нет контакта, мы друг другу абсолютно чужие. А тогда — какой смысл продолжать?
— Однако пришла пора: на этот раз мы должны поговорить всерьез, чтобы понять друг друга, чтобы перестать быть чужими.
— Говорить о чем?
Какое-то время она молчит, затем с некоторым сомнением произносит:
— Знаю, что ты думаешь, что я высказываюсь как… Как ты это называешь?..
— Как психоаналитик.
— Да, как психоаналитик. Но нам действительно необходимо поговорить о наших отношениях. Я убеждена, что со временем ты станешь мне и отцом, и сыном одновременно, ты же упрямишься и не хочешь понять, что в то же самое время я стану для тебя и дочерью, и матерью.
— И это ты называешь «поговорить»?
— Да. Наши отношения изменятся, потому что мужчину изменить можно, а отца или сына нет; тебе же невдомек, что также можно изменить женщину, но не мать или дочь.
— И это ты называешь «поговорить»?
Некоторое время она молчит, потом задает осторожный вопрос:
— У тебя кто-нибудь есть?
— Нет, никого. Почему ты спрашиваешь?
— Тогда я скоро приду.
— Подожди, зачем ты придешь?
Она кладет трубку; я мгновение смотрю на телефон; значит, могу опять лечь на диван. Она сказала, что скоро зайдет. Что значит «скоро»? Час? Два? Десять минут? Двадцать? Естественно, что я одновременно доволен и недоволен; приободрен и угнетен; с нетерпением жажду ее прихода и безразличен — и это все нормально. А вот фраза Джулии «нам нужно поговорить» вызывает в памяти эпизод из прошлого, из моего тайного прошлого. Кто это в моем недавнем прошлом сказал: «нам нужно поговорить»? Этот кто-то, вне сомнения, имел в виду прямое значение данных слов, не придав им психоаналитического смысла, как поступает Джулия. И на самом деле, вместе с этими словами во мне отозвалось эхо болезненного и безнадежного тона, каким они тогда были произнесены. Поговорить, то есть объясниться, понять друг друга. Но кто же все-таки это сказал?
Очередной телефонный звонок прерывает мои размышления. Думаю, что это опять Джулия; ну все, на этот раз я скажу ей твердо и решительно, что у меня нет никакого желания «поговорить». Снимаю трубку и резко спрашиваю:
— Можно узнать, кто это?
— Это Джулия, — отвечает еле слышный голос.
— Послушай, Джулия, я передумал: лучше будет нам не встречаться. Между нами на самом деле все кончено! — не задумываясь, кричу я.
Конечно, с обычной своей трусостью, после этих суровых слов я трубку не бросаю, а жду ответа. Там произносят:
— Да нет, я — Джулия, твоя дочь. Ты уже не узнаешь моего голоса?
Мгновение я смотрю на телефонную трубку, как смотрят на руки иллюзиониста во время его волшебных сеансов. Одно и то же имя этих двух женщин кажется дурно пахнущим и необъяснимым трюком. Наконец, не забывая о своем решении покончить с другой Джулией, говорю:
— Ах, это ты! Ну, и чего ты от меня хочешь?
Голос моей дочери не такой вызывающий и наставительный, как у другой Джулии; он теплый, дочерний, немного соглашательский, добродушный:
— Как это, папа, мы два года не виделись, а ты меня так принимаешь! Когда я уходила из дома, ты не уставал повторять: «нам надо поговорить». Теперь, папа, я приехала поговорить с тобой. Тебе неприятно?
— Нет, но я кое-кого жду.
— Женщину, которую зовут, как меня, Джулия! Ах, папа, папа!
— А что тут такого странного? Джулия — распространенное имя.
— Джулия, которую ты уже не можешь терпеть, которую ты уже больше не хочешь видеть. К тому же, придет не она, а я, и это тебе будет хорошим оправданием, когда будешь прогонять ее, ты сможешь сказать: «У меня дочь, и я не могу тебя принять».
— Но она вот-вот придет.
— Я здесь, внизу, в баре на площади, и буду у тебя до нее.
— Ты одна?
— Конечно. Поднимаюсь.
Я вдруг почувствовал такую тоску, что руки у меня онемели, — я даже застегнуть воротничок не смог и завязать галстук. Так это был я, собственной персоной, отец, который сказал своей девятнадцатилетней дочери, захотевшей уйти из дома: «нам надо поговорить»? Тогда на это высокомерно и презрительно она ответила, что не испытывает ни малейшего любопытства к тому, чтобы узнать, что я собираюсь сказать ей. Значит, это был я! И теперь мне кажется неслучайным, что через месяц после побега моей дочери, я встретил другую Джулию, тоже девятнадцатилетнюю и тоже убежавшую из дома.
Оставляю в покое галстук, подхожу к окну, передо мной, четырьмя этажами ниже, расстилается площадь. Это небольшая римская площадь с дворцами в стиле барокко, тратториями, баром, магазинами, закрытыми на время Феррагосто. Внизу пустынная брусчатка, в обычное время здесь стоянка машин, а теперь на углу в тени стоит только одно авто. Вдруг из бара выходит моя дочь и, пересекая по диагонали площадь, направляется к машине, о которую опирается обычный, характерным образом бородатый и гривастый, молодой человек. Они разговаривают. Я отхожу от окна и через узкий коридор, заставленный книгами, подхожу к двери, как раз в нужное время: слышу, как с нижнего этажа лифт начинает подниматься все выше и выше.
Ну, и кто теперь позвонит в мою дверь? Джулия, или Джулия? Джулия, скажем, моя девушка, которая сказала: «тогда я скоро приду», или Джулия, моя дочь, сказавшая: «я на площади, поднимаюсь». Которая из них придет раньше?
А на самом деле, действительно ли я хочу увидеть какую-нибудь из них на своем пороге?
Лифт останавливается на моем этаже; кто-то выходит, закрывает двери лифта, а потом коротко и неуверенно звонит в мою дверь.
Я иду открывать дверь со странным чувством: пусть тут окажется, скажем, третья женщина, а хоть и моя жена, с которой мы расстались много лет назад; или третья Джулия, не моя дочь и, в то же самое время, не та, что считает себя моею дочерью. Не та, которую ждал внизу бородатый молодой человек; не та, которую водил в кино некий Тулио.
Набираюсь храбрости и открываю. Это Джулия, моя девушка Джулия, как в общем-то я и надеялся. Маленькая, с несоразмерной головой, со странным лицом, огромными глазами, капризным ртом и бесконечной грацией, которая иногда присуща миниатюрным женщинам.
Машинально произношу:
— Я ждал свою дочь.
— Кого? Джулию? Я только что ее видела там, внизу на площади, она секретничала с одним человеком. Ну что ж, скажи ей, что ты занят, чтобы пришла завтра. Можешь быть спокойным — ты ей нужен, и она вернется.
Джулия идет впереди меня по коридору, слегка покачивает бедрами, будто упиваясь собственной грацией.
И говорит:
— Сколько же дочерей ты хочешь иметь? Разве тебе недостаточно меня?
Как-то раз на Лунготевере стояла корзина
Уже несколько лет выше моего дома река разрушает Лунготевере[9], и набережная оседает. Давно поставлены защитные ограждения, запрещено дорожное движение, и ремонтные работы продолжаются до сих пор. Таким образом, эта часть Лунготевере стала тихим уголком, и только живущие здесь отваживаются заезжать сюда на машинах. На этой части набережной ребята гоняют на роликах; здесь влюбленные без стеснения занимаются любовью; здесь мамаши прогуливают малышей. Конечно, причал на Тибре рухнул не для того, чтобы открыть мне глаза на то, что я на самом деле уже всего-навсего пенсионер. Но запрет на дорожное движение здесь приобрел для меня символическое значение. Да ведь и моя жизнь тоже остановилась, а чтобы развить метафору, скажу — это место ограждено от происшествий, более того, я точно знаю, что со мною лично ничего больше никогда не случится.
Естественно, что отсутствие новостей вынудило меня начать ценить малые, незначительные вещи. Я подхожу к окну и смотрю. На что? Да на что придется — на все, что хоть чуточку отличается от обычного. Вон с громким лаем пробежала собака; пара влюбленных, целуясь взасос, прижалась к парапету; несколько парней толкутся вокруг мотоцикла; человек в голубом тренировочном костюме, прижав кулаки к груди, пробегает мимо. За неимением лучшего, наблюдаю за цветовой метаморфозой листвы платанов. Природа, она — да, никогда не останавливается, она всегда новая. Листья больших платанов, выстроившихся на Лунготевере — так что глазом не охватить, — ежедневно меняют цвет и форму. Светло-зеленые почки со свинцовым отливом по весне становятся летом темно-зелеными большими листьями, похожими на ладони с растопыренными пальцами. Осенью листья краснеют и в конце концов, в начале зимы, сворачиваясь в желтые трубочки, падают на землю. Но цветовая гамма листьев и их размеры имеют множество оттенков и тонких различий. Вот так, глядя на платан, я узнал, что его лист выглядит постоянно обновленным.
Сегодня, впервые за долгое время, мне показалось, что происходит нечто, по-настоящему необычное.
Надо бы знать, что за парапетом на самом берегу Тибра растут деревья, ветви которых касаются воды. Из-за того, что набережная просела, подлесок, к сожалению, стал городской свалкой — для всех тех, кто хочет отделаться от мусора и никчемного хлама, особенно громоздкого. Люди приезжают на небольших трехколесных фургонах, грузовичках и простых машинах, выходят, выбрасывают за парапет мусор, уезжают, чтобы опять вернуться. Темно-зеленые кусты ежевики в подлеске седеют, а из куч разного мусора выступают крупногабаритные, часто еще вполне узнаваемые предметы: кресла с выбитым дном, ржавые холодильники, распотрошенные матрасы, стулья без ножек и тому подобная рухлядь. От вони у парапета нечем дышать, особенно в дни, когда дует сирокко. Иногда из моего окна пенсионера, которому нечего делать, кроме как смотреть — и из вот этого самого окна, я кричал: «Свиньи!» А в ответ получал или насмешливый неприличный жест, или обычную угрозу: «Старый, займись-ка лучше своими делами».
Сегодня наконец происходит новое событие, которого я безотчетно жду уже довольно давно. Небольшой коричнево-зеленый автомобиль с кузовом «универсаль» въезжает на Лунготевере и останавливается около заграждения, выставленного у парапета. Из машины выходит молодая блондинка в голубых джинсах и красном свитере. Я внимательно ее рассматриваю: она небольшого роста, ладная, складная, хорошо сложенная, с высоко поднятой грудью, похожей на грудь кормилицы, — уж и не знаю, почему мне пришло на ум такое сравнение. Руку девушки оттягивает плетеная из ивовой лозы корзина — с такими хозяйки ходят на провинциальные толкучки. Вижу, как она приближается к парапету, легко через него перемахивает, и замечаю под тканью джинсов ее массивные ляжки. Ладная, складная, с высокой грудью, белокурой головой и челкой, упавшей чуть ли не на глаза, она уже там, за парапетом, осторожно вышагивает, внимательно смотрит себе под ноги и обходит разбросанные между кустами ежевики отбросы.
Я беру бинокль, а он у меня всегда под рукой, и направляю его на девушку. Смотрю на нее, она буквально в пятидесяти метрах от меня, там, за парапетом. Внезапно девушка останавливается перед двумя грудами монтичелли[10]. На одной из куч стоит перевернутое кресло, на другой — ничего. Девушка быстро озирается. В это послеобеденное время сиесты на Лунготевере никого, только человек с собакой на поводке шагает по тротуару, и девушка, заметив их, поворачивается к прохожему спиной. Теперь она решилась, быстро поставила корзину на пустую груду монтичелли, ловко преодолела парапет и побежала к своей машине. После нескольких мгновений, необходимых только для того, чтобы завести мотор и выжать сцепление, машина лихо развернулась, промчалась по Лунготевере и исчезла.
Я смотрел в бинокль и следил за всеми передвижениями девушки. Последнее, что я увидел, — как раз в ту минуту, когда она перемахивала через парапет, — свитер задрался, и ее спина обнажилась. Снова направляю бинокль на груду мусора. Корзина там же, стоит на верху кучи. Я быстро поднимаюсь, накидываю морской китель, надеваю берет, — две вещи, в которых надеюсь выглядеть моложе, — кричу с порога домработнице, что иду прогуляться, и выхожу из дома.
Пока спускается лифт, я сосредоточенно думаю и еще раз убеждаюсь в том, что девушка с высокой грудью, насколько я заметил, вела себя подозрительно. Значит, в корзине лежит новорожденный — я в этом абсолютно уверен. Девушка освободилась от него, бросила, а здесь, на свалке, не скоро его заметят. В общем, она оставила на куче нечистот так называемый плод своего греха, напомнив мне этим случаи из прежних времен, когда вот так же оставляли детей на паперти. Эта мысль влечет за собой вопрос: что я буду делать, если мое подозрение подтвердится?
Может показаться странным, но я не подумал, что лучше всего было бы передать ребенка в какое-нибудь детское учреждение. Нет. Первое, что пришло мне в голову: ребенок положен туда для меня, и я, несмотря на преклонный возраст, должен взять его в свой дом и вырастить. Да, хочу быть правильно понятым. Я — вдовец, у меня трое детей, два сына и дочь, все трое семейные, хотя пока и бездетные. То есть я хочу сказать: мне хорошо известно, что значит иметь семью и детей. Сколько продолжается семейная жизнь с детьми? Если дети, скажем, ниспровергатели — не более пятнадцати лет; если они обыкновенные — все двадцать, даже двадцать пять. Мои дети — второго типа, но все равно и они ушли. Значит так, взяв в дом этого ребенка, я в каком-то смысле вновь создам семью, а это продлит мою семейную жизнь на следующие пятнадцать-двадцать лет. Ребенок вырастет, превратится в подростка, потом во взрослого. Каким он станет человеком? Скажу сразу: одним из многих. Таким же, как все остальные.
На Лунготевере я ненадолго останавливаюсь, будто хочу сориентироваться; между тем, направление помню точно. Затем, уверенный в своих силах, я быстро иду по улице — руки в карманах морского кителя, берет на глаза. Дохожу до парапета, хорошо бы его преодолеть не опираясь, как только что сделала девушка с тяжелой корзиной в руке. Увы! Я ударяюсь коленом, и оно начинает болеть. Иду, прихрамывая — больное колено подводит на неровных участках; повсюду разбросаны банки, тряпки, бумага. Погружаюсь в удушливо острый запах гниения, такой тяжелый, что вынимаю из кармана платок и прикрываю им нос. А в моей старой беспокойной голове шумит от тревоги и, как летучие мыши, проносятся мысли из разряда так называемых общих мест: как можно бросать ребенка в нечистоты (раньше таких матерей называли чудовищами); и тем не менее, нет худа без добра — из каждой вещи рождается новая, и так далее, и тому подобное.
А вот и место, где девушка остановилась; вот и эти две кучи монтичелли, одна из которых увенчана перевернутым креслом, а другая — корзиной. Ах, как эта корзина хороша, с аккуратным плетением ивовых прутьев, — сама чистота, воздвигнутая на верхушку мерзопакостной мусорной кучи. И кажется эта корзина символом всего живого на фоне общей мертвечины. Наверное, из-за того, что корзина выглядит такой живой, в последнюю секунду, перед тем как открыть крышку, меня обуревает страх — а что, если я подниму крышку и обнаружу там «послание», адресованное лично мне. Осматриваюсь, взглядываю на Лунготевере: мужчина, прогуляв собаку, возвращается, скоро и мне надо будет преодолевать парапет. Все, решаюсь. Протягиваю руку, снимаю крышку и тут я пугаюсь по-настоящему: из корзины на меня смотрят два широко распахнутых огромных изумленных голубых глаза. Через миг я замечаю крошечный кокетливый носик, а между круглыми пухлыми щеками ротик, и в конце концов я понимаю: это — кукла, обыкновенная кукла. Той девушке, наверное, не больше восемнадцати. Забрасывая куклу на речную отмель, она несомненно имела в виду некий обряд, связанный с освобождением от своего детства. Она захотела освободиться от детства и в качестве символа выбрала любимую куклу. Аккуратность, с которой она поставила корзину на самую вершину кучи, указывала на оставшуюся еще нежную привязанность.
Не дотронувшись до куклы, поправляю берет и ухожу. Что я могу поделать с обрядовыми прихотями глупой девицы, занятой собственным созреванием?
Ну, вот и парапет, и снова надо его преодолевать. На этот раз со всей осторожностью, опираясь двумя руками, поднимаю ногу, затем в три приема перелезаю на тротуар. Наконец я на улице. Гордый и исполненный достоинства, не спеша, пересекаю ее; руки глубоко засунуты в карманы кителя.
Однако в подъезде меня ждет еще одна новость в этот послеобеденный час. Навстречу мне идет собака; хвост у нее поджат, и она громко скулит. Собака не большая и не маленькая, шерсть длинная, с разноцветными пятнами: серыми, черными, белыми, коричневыми и красными. Старательно ищу в памяти слово — каким определить масть, что вбирает в себя такое количество разных пятен, — и наконец нахожу: пегая. Тем временем, все еще поджимая хвост, собака устраивает мне маленький праздник: она прыгает на меня, обнюхивает. Ясно, собака подавлена, потому что ее бросил прежний хозяин, но, в то же время, она и веселая: инстинктивно чувствует — нашла нового хозяина. Так и есть, она не ошиблась. Покорившись, говорю ей: «Пойдем наверх» — и она тут же следует за мной к лифту.
Естественно, в доме собаку принимают хорошо. Горничная обнаруживает на ней ошейник с пластиной белого металла, может быть, из серебра, на которой написана буква «К»; таким образом, ее окрещивают именем Кастанья[11]. Собака, услышав дружелюбное «Кастанья», наконец успокаивается и, виляя хвостом, бежит за мной в кабинет.
Я иду к стулу у окна и сажусь; бинокль там, где я его оставил, на подоконнике. Собака сворачивается калачиком у моих ног, прикрывает глаза, будто спит. Беру бинокль, смотрю на Лунготевере. Корзина стоит все там же, на куче мусора, целая, чистая, жизнеутверждающая.
Затор в памяти
Было это или не было? В голове подозрительная пустота. И мне никак не удается ее заполнить, к тому же мучают сомнения: эта пустота появилась после травмы от происшедшего или в силу моего нежелания знать, что вот-вот что-то произойдет? Тем не менее, я смотрю правде в глаза, потому что это касается непосредственно меня: если не произошло пятнадцать минут назад, значит, должно произойти пятнадцатью минутами позже. Однако и то и другое вызывает во мне зудящее нетерпение, почти бешенство, не оставляющее никакой возможности дождаться, когда же, наконец, факты предоставят мне точное объяснение, в котором я так нуждаюсь. Не могу ждать ни минуты, и не только потому, что надо подготовиться к выходу из обеих, очень разных, ситуаций — то есть произошло что-то или только произойдет, — но и более того потому, что необходимо немедленно пробиться к выходу из этого затора с автоматическим блокиратором, чтобы в итоге получить главное — понять. Да, потому что все упирается именно в это: всем очевидна громадная разница между осмыслением того, что событие уже произошло, и того, что оно еще только будет. А как можно это осмыслить, если определение события уже, так сказать, вертится на языке, но только никак не решится — принять ли форму уже увиденного, уже сделанного, уже пережитого, или еще не увиденного, не сделанного и не пережитого?
Правой рукой беру из «бардачка» пачку сигарет, прихватываю одну сигарету губами, прикуриваю от автозажигалки. Левой пытаюсь застегнуть молнию на куртке, но она застряла, и из расстегнутой куртки высовывается рукоятка пистолета. Тут мне приходит в голову: для того чтобы узнать, произошло нечто или только должно произойти, а память при этом заблокирована, нужно обратиться к реальности и искать прямые указания. К примеру, заклинило молнию. Вчера еще она была в порядке, следовательно, повреждена сегодня утром. Но если она сломана, то отчего? Разве может простая поломка молнии привести к такому сильному шоку? Отчего он? Оттого ли, что что-то уже произошло, или из-за нервного напряжения в ожидании того, что оно все еще остается в перспективе?
Оставляю эту дилемму, потому что уже распознал в ней загадочную двусмысленность, в основе которой та же амнезия. И говорю себе: у меня есть только одна возможность установить произошло ли событие — проверить пистолет и удостовериться, стреляли ли из него. Облегчение от этой мысли подтверждает: да, я на правильном пути. Так почему же до сих пор мне не приходило в голову такое логичное и простое решение?
Но такое утешение длится совсем недолго. Да, пистолет может стать проверкой того, что я с такой тревогой ищу, но это будет доказательством извне. Вроде того, как если бы я считал, что одежда, которая на мне; или ботинки, что у меня на ногах, суть доказательства моего существования. А между тем, доказательств существования не требуется, самому факту его доказательств не ищут. И все-таки, с одной стороны, проверка пистолетом придаст мне уверенности в моем существовании; правда, с другой стороны, эта проверка меня пугает, потому что она только подтвердит мое невыносимое раздвоение. Ведь после этой проверки я бы точно узнал: произошло что-то или не произошло, ведь очевидность этого доказательства наверняка бы меня убедила — произошло нечто или еще не произошло, но, в тоже время, и шокировало бы меня — то, что могло бы произойти или произойдет, случилось бы по отношению «к другому», а внутри себя я продолжал игнорировать ответ на вопрос: подтверждено событие или нет. Нет, я больше ждать не могу — мне нужно знать срочно. И эту срочность можно сравнить с тем, как если бы я нырнул в море, глубоко погрузился, а маска протекла, и я бы начал захлебываться, зная, что у меня всего несколько секунд, чтобы подняться на поверхность.
Срочность того, чтобы узнать, в конечном счете, оправдывается еще и пробкой, в которой застряла наша машина, и кажется, будто навсегда. Мы на незнакомой мне загородной дороге в четыре полосы. С обеих сторон нас окружают машины. Прямо передо мной огромный автовоз с черно-желтым прямоугольником. Свет светофора уже трижды меняется с красного на зеленый, но машины не двигаются. Наверное, авария, а может, один из тех безнадежных заторов, в которых застреваешь, в лучшем случае, на несколько часов. Но прежде чем рассосется пробка, я должен, доверяя только самому себе, то есть своей памяти, а не доказательствам, предоставленным окружающими предметами, точно узнать — произошло ли что-то или должно еще произойти.
В эту минуту я вспоминаю, как несколько лет тому назад (я лучше помню давние события, чем близкие) пересекая Сахару от Туниса до Агадеса, мы много раз теряли дорогу. Что мы делали, чтобы найти ее вновь? Основываясь на опыте, руководствовались правилом: лучший способ — вернуться назад, к начальному пункту. Отсюда вновь отправлялись в более или менее долгий путь и находили точное место, где надо свернуть. Как-то мы четыре раза попадали на одну и ту же неверную дорогу, прежде чем поняли что делать, — оказалось, что мы «спотыкались» на одном и том же месте. И когда положение казалось уже совсем безнадежным, а солнце уже клонилось на запад, и кончался бензин, мы нужную дорогу наконец нашли: она продолжалась за кустом, высотою не более малого ребенка, а первые четыре метра ее были неразличимы. Потеряться в пустыне очень просто.
Вот и сейчас я сделаю то же самое. Вернусь назад, к той минуте, с которой моя память перестала работать, то есть опустела, я бы сказал, — превратилась в пустыню. Однако эти мнемонические упражнения я должен делать быстро, потому что с минуты на минуту пробка может рассосаться, и вполне возможно, что за эти несколько мгновений я смогу с уверенностью понять — что-то уже произошло или еще произойдет. Однако пойму я это не собственными силами и не благодаря своим заслугам, а, скорее, столкновением с реальностью: с чем-то, чего я себе, может быть, никогда не смогу простить и что, в итоге, может, ничего и не решает, потому что моя проблема теперь уже не столько узнать, сколько вспомнить.
Итак, посмотрим, с какого утреннего часа (сейчас около двенадцати) мне отказала память? И тут я с изумлением открываю, что ничего не помню уже после пробуждения. То есть я вспомнил само пробуждение, а дальше — ничего, потому что до того, как я проснулся, была пустота ночи, я ведь спал. А с момента пробуждения мой мозг опустел. Сегодня я проснулся в темноте, и само пробуждение длилось несколько минут — его я помню хорошо, в деталях. Мало того, теперь я его опишу, а через описание надеюсь найти выход из создавшегося положения; то есть открыть в своей памяти, как в пустыне, «небольшой куст», за которым спрятана нужная дорога.
Значит так, смелее. Я проснулся сам и почти вовремя — до того, как прозвенел будильник. Включил свет, посмотрел на ручные часы и увидел, что у меня есть еще пять минут; первая мысль — выключить свет, свернуться калачиком и снова заснуть. Но нельзя же заснуть всего на пять минут, поэтому я выключил свет и в потемках, не открывая глаз, сел на постели. Ни о чем таком не думал, вернее, думал о цвете тьмы. Какого она цвета? Цвета хорошо обжаренного кофе? Цвета сажи? Цвета эбонита? Цвета чернил? Из чего она состоит? Из черных молекул на неуловимо светящемся фоне или из светящихся частиц на равномерно черном фоне?
Помню, что я отверг одно за другим эти определения — они не устраивали, но зато я почувствовал, насколько темнота притягивает меня: это было похоже на голод, когда, после долгого воздержания от пищи, хочется съесть все равно что. Помню также, что, каждый раз зажигая свет и глядя на часы, я видел — прошло две минуты, потом три, потом четыре, но всякий раз я снова гасил свет, чтобы насладиться минутой, тридцатью секундами этой восхитительной темноты. В конце концов, зная, что пришло время вставать, я включил лампу в последний раз. Именно в эту самую минуту, в этот самый миг, я Перестал фиксировать то, что делал дальше, — с этого момента я не могу вспомнить ничего.
Я смотрю на черно-желтый прямоугольник на заднем борту автовоза и вижу, что автовоз не продвинулся; там, внизу, вижу свет светофора, он красный, — у меня еще есть, по меньшей мере, одна минута, а если по следующему зеленому машины не сдвинутся с места, то даже и две. Итак, я упорно стараюсь реконструировать пробуждение. Значит, память пропала точно в ту минуту, когда я включил лампу в последний раз. Что это может обозначать? Как такое могло произойти? И почему это произошло именно со мной?
Ведь порядок моих действий представить не трудно. Я — человек с более или менее устоявшимися привычками: встаю, принимаю душ, бреюсь и так далее, и тому подобное. Но этого всего, как я тут же соображаю, я не помню; просто реконструирую по памяти свои утренние действия по другим, прошлым дням. Иначе я ведь должен был бы помнить все, что проделывал в это утро, именно в это, ни в какое другое. И только если все сегодняшние утренние действия я вспомню, я восстановлю и то, что случилось позднее; то есть смогу вновь найти «куст», за которым спрятана дорога.
Сильно напрягаясь, я повторяю:
— Значит, так: я включил лампу… значит, я включил лампу… значит, я включил лампу и…
Ну вот, слишком поздно — светофор уже зеленый, и почти сразу вся улица приходит в движение. Вокруг нашего автомобиля засновали машины; они повсюду: позади, впереди, с обеих сторон; двинулся и автовоз с черно-желтым прямоугольником. Выходит, что я довольно скоро узнаю — что-то уже произошло или еще должно произойти. И тут я с тоской понимаю, что не моя память, а посторонние предметы и внешние обстоятельства раскроют мне это.
Дьявол приходит и уходит
Спрятаться, в общем-то, легко; правда, возникает проблема — чем заняться и куда девать время, пока прячешься. В этой каморке, или лучше сказать одиночке, нет ни одной книги, нет ни дисков, ни радио, ни телевизора, только одна газета, которую каждое утро приносит, вместе с ежедневными покупками, соседка снизу. Таким образом, мне остается только занимать самого себя, а это — как раз то, чего мне меньше всего хотелось бы. К сожалению, я ничего другого не умею, или лучше сказать: никаких других занятий у меня больше нет. Так я раздумываю, высчитываю, размышляю, анализирую и тому подобное; но сверх всего — я фантазирую. Дождь льет уже несколько дней и барабанит по жестяному козырьку балкона, там, снаружи, на террасе, будто тихо басит человек, который прерывает свое бормотание только для того, чтобы перевести дыхание. И шум этого дождя мне помогает фантазировать.
Фантазирую, растянувшись на рваном тряпье убогого ложа, служащего мне одновременно и кроватью, и диваном. Фантазирую, упершись лбом в стеклянную дверь маленькой террасы, и смотрю на нее — терраска будто вставлена между старыми черепичными крышами, каминными трубами, слуховыми фонарями, маленькими и большими колокольнями. Фантазирую я и в черной узкой кухоньке, когда жду — вот-вот вскипит вода для чая. Фантазирую и воображаю, что однажды услышу, как лифт остановится на моем этаже.
Надо сказать, что мой этаж устроен необычно: здесь единственная однокомнатная квартира — моя каморка, представляющая собой крошечный закуток у выхода на террасу, и до этого этажа, как правило, никто не доходит.
Так вот, лифт остановится, кто-то выйдет и легким, медленным шагом, слегка прихрамывая, приблизится к моей двери, коротко нажмет на кнопку звонка, будто с намеком, который я должен буду понять; я пойду открывать, но вяло и с отвращением — визит гостя малоприятен, даже если я сам его «вызвал». Первой неожиданностью будет — увидеть гостя в образе белобрысой девчонки с невыразительными светло-голубыми глазами, сморщенным носиком и капризным ртом. Она будет в белой мягкой шубке из искусственного каракуля, а вот и вторая неожиданность: меня поразит, что шубка сухая — снаружи ведь дождь проливной. И то правда: дьявол умеет подделывать шубки, но до такого совершенства, чтобы делать их мокрыми, видимо, не дошел. Прямо с порога она скажет серебристым и наглым голосом:
— Пришла навестить тебя. Что поделываешь?
— Не видишь, что ли, ничего. Скажи лучше, откуда ты?
— Я здесь рядом живу, в этом же переулке. Мама ушла, и поэтому я пришла к тебе в гости, — как-то неопределенно взмахнув рукой, ответит она.
Я молчу и думаю: ведь все это сплошное вранье — мама, переулок, «в гости», но оно вполне сочетается с превращением в девочку.
Спрашиваю:
— Почему хромаешь?
— Несла бутылку с молоком и упала с лестницы — вот нога и болит.
Потом она снимет шубку и скажет:
— Тут очень жарко. Ты что, печку никогда не выключаешь?
И тут я увижу, что она едва прикрыта: жилет махонький, юбочка коротенькая; остальное — сплошь ноги, мощные, мускулистые ноги взрослой женщины. На груди у нее висит любопытный амулет: коготь внутри золотой капсулы. Может быть, и коготь льва, популярный в Африке, но у льва когти — светлые, а этот — черный.
Пока я на нее смотрю, девочка бродит по квартире и задает вполне детские вопросы — о том о сем. Это что такое? А это для чего? Это почему у тебя? А это кто тебе дал? И все в том же роде. Все вопросы о вещах обычных; но я настороже, потому что все время подозреваю — вот-вот она перейдет от незначительных вещей к важным. И на самом деле, она вдруг открывает ящик комода, вынимает револьвер и, сжимая его рукоятку, идет ко мне:
— А с этим что делают?
— Используют для самозащиты.
— То есть?
— Если нужно защитить себя, стреляешь.
— Стреляешь?
— Ну да, видишь эти отверстия? В каждом отверстии по пуле. Если нажать курок, пуля с большой скоростью вылетит из ствола и вонзится в какое-нибудь место, ну например, сюда, в шкаф, сделает в нем дырку, потому что сила удара у пули очень большая.
— А если вместо шкафа — женщина, мужчина или ребенок? Что происходит тогда?
— Человек будет ранен. Или умрет.
— А ты в кого-нибудь стрелял когда-нибудь?
Немного помолчу и подумаю: «Ну что ж, маска сброшена, допрос принял направление, которое вполне можно было предвидеть». Затем скажу:
— Да, для самозащиты, но всего один раз.
Она сразу перейдет к результату:
— Значит, человек умер. А кто это был — девочка, как я?
— Нет, это был мужчина.
— Плохой человек?
— Кто это знает, я с ним не был знаком.
— Значит, ты в него стрелял потому, что не был с ним знаком?
— Можно сказать и так.
— А за что ты стрелял во второго человека?
— Нет никакого второго человека, не было второго человека.
— Тебе не хватило смелости выстрелить во второго человека?
— Да что ты такое говоришь? Повторяю: не было и не будет второго человека.
Она промолчит, потом чуть-чуть еще попрыгает по квартире, сядет у столика с пишущей машинкой и спросит:
— А это что такое?
— Ты же видишь — пишущая машинка.
— И что она пишет?
— Мои задания.
— Можно я тоже что-нибудь напишу?
— Напиши.
Она придвинется к столику, пристроится к машинке, медленно, с усердием, одним пальцем застучит по клавиатуре — на бумаге появится фраза. Я подойду посмотреть, наклонюсь над ее головой и увижу: «Не хватило смелости!»
Напечатав, она слезет со стула и опять начнет кружить по комнате, беспрерывно повторяя одно и то же:
— Не хватило смелости, не хватило смелости!
И я ей скажу:
— Прекрати, или я тебя выгоню.
Но она, продолжая подпрыгивать, будет повторять:
— Не хватило смелости, не хватило смелости!
Я подойду к балконной двери, упрусь в нее лбом и буду смотреть сквозь стекло. Увижу террасу, снизу и сверху стиснутую другими террасами, и в смутном свете от дождя буквально перед собой разгляжу изысканную колокольню в стиле барокко. На колокольне под звонницей различу широкую мемориальную доску из травертина[12], которую, неизвестно почему, раньше никогда не замечал, и прочту очищенную дождем фразу, выгравированную большими старинными буквами на желтом продырявленном камне: «Errāre humānum est, perseverare diabolicum»[13]. А под этой сентенцией, тоже по-латыни, различу дату, место и имя автора надписи. В эту минуту услышу за спиной голос девочки:
— Теперь мне нужно к маме. Если меня в это время нет дома, она волнуется.
Даже не обернувшись, я машинально скажу:
— Иди ты в ад!
В ответ немедленно услышу натуральный спокойный голос:
— Можешь не сомневаться, пойду, но только с тобой.
— Наконец-то ты себя разоблачил! Тоже мне, девочка! Объясни, пожалуйста, что будет в этом аду? Огонь, зубовный скрежет, вонь жареной плоти? — воскликнул я, все еще не оборачиваясь.
— Повторение того, что ты уже прошел.
— Да кто тебе сказал, во-первых, что это будет повторением, и, во-вторых, что повторение будет адским мучением для меня?
— Напротив, никаких мучений. Тебе будет хорошо и, в пределах человеческих возможностей, ты даже будешь счастлив.
— Почему же ты тогда говоришь, что это будет ад?
— Ад существует не для того, чтобы больше страдать, а для того, чтобы повторять уже пройденное, и через повторение…
— Оставаться самим собой?
— Нет, напротив, становиться другим.
— Другим? Не понимаю.
— Да это все просто: если ты сделал ошибку и осознал, что натворил, остаешься самим собой, но если не осознал, мало того, повторил ту же самую ошибку, — становишься другим.
— В каком смысле другим?
— У тебя не останется ни малейшего воспоминания о том, каким ты был до того, как впервые собрался повторить ошибку.
— Ага, и поэтому ты недавно тут распевал: «Не хватило смелости, не хватило смелости»?
— Наконец-то ты понял.
— Что ты, вообще-то, хотел этим сказать?
— А я хотел сказать вот что: ты меня позвал и предложил продать — сам знаешь что, — при условии, что я тебе помогу начать жить сначала, точно с той минуты, когда произошло то, что произошло. Вот я пришел и говорю: удовлетворю твою просьбу, но только единственным способом, — ты с моей помощью станешь другим, и только через повторение.
— Сначала ты должен найти достаточно убедительные доводы, чтобы заставить меня повторять.
— За это ты не волнуйся: я — мастер находить доводы.
— Повторение! Только что, глядя в окно, я впервые увидел ту надпись. В ней говорится, что настаивать на ошибке — дело дьявола.
— Ну-да, не нужно знать латынь, чтобы понять это. Достаточно подумать.
— Предположим, я повторю. Разве не смогу я уже во второй раз признать, что был неправ?
— Нет, вот это нет, слишком уж было бы удобно. А что осталось бы у меня на руках? Кусок бумаги?
— Нет, такое соглашение я не заключу. Уходи, мы еще к этому вернемся.
— Ты меня позвал, сказал, что уже не можешь больше оставаться тем, кем был, и заявил, что готов стать другим, каким угодно, но другим; а теперь ты говоришь — «мы еще к этому вернемся»!
— Да, я хотел бы стать другим, но хотел бы также помнить, каким был прежде.
— Нет, этого я сделать не могу. И кроме того, мне-то от этого какая корысть?
— В который раз говорю — изыди!
— Я еще вернусь, до скорого.
На короткое время станет тихо, затем голос девочки произнесет:
— Уже поздно, я пошла к маме, пока.
Я повернусь, а девочка, закутавшись в свою мягкую шубку из искусственного каракуля, кинется мне на шею и расцелует в обе щеки. Целовать в ответ я ее не буду, а пойду открою дверь и буду смотреть, как она выходит на площадку, и еще раз обращу внимание на ее хромоту.
Подобные причуды приходят мне в голову ежедневно, и я их развиваю и дополняю. Сейчас, например, пока я варю себе на плите два яйца, я представляю, как вместо девочки звонит в колокольчик моей квартиры студентка со второго этажа, бледная красивая девушка с зелеными глазами. Она придет под выдуманным предлогом, мы поболтаем, потом она останется, и все закончится так, как было предусмотрено и можно было предвидеть. И в минуту наивысшей расслабленности я увижу амулет с черным когтем, висящий у нее на груди. Она вылезет из постели, обнаженная пойдет к стеклянной двери и будет смотреть наружу, а я услышу ее восклицание:
— Какая красивая терраса, сколько красивых ваз с цветами, какая красивая колокольня!
И замечу, что она чуть-чуть хромает. А девушка, прихрамывая, начнет кружить по комнате, как это иногда делают женщины в доме нового мужчины, а потом подойдет к комоду и откроет ящик…
На что мне этот карнавал?
Карнавал! На что мне карнавал? Карнавал в моем возрасте, при моем положении! Пока я в темноте тщетно стараюсь заснуть, меня преследует воспоминание о девочке, всегда замкнутой, испуганной и грустной, которую я встречаю каждое утро (она идет в школу, я за газетами). Девочка, каких много, — заурядная блондинка с прямыми длинными волосами, светло-голубыми глазами и бледным бесцветным лицом. Так вот, сегодня, как обычно совершая после завтрака свой моцион по Дзаттере, я встретил ее абсолютно изменившейся — и речь не только об облике, но и, так сказать, обо всем характере. И я понял, что эта перемена произошла исключительно благодаря карнавалу, то есть возможности спрятаться под маску. На ней был костюм Арлекина в разноцветные ромбы, белые чулки и черные ботинки. Как только она меня увидела, так сразу же и признала — открыто и вызывающе улыбнулась, бросила в меня горсть конфетти и с приглушенным смехом убежала в ближайший переулок. Думая об этой встрече, я сам себя спрашиваю: что должно было произойти, чтобы эта замкнутая и грустная девочка вдруг стала разбитной и веселой? И заключаю: ее «встряхнул» карнавал. Выходит, что обычное печальное выражение на ее лице — только маска, а подлинная ее внешность — это маска Арлекина.
Кто-то включил лампочку на моей тумбочке; вижу склоненную надо мной негритянку с полными губами и огромными, как плошки, глазами:
— Что с тобой, в такое время уже в постели? Все наряжаются, выходят на улицу, а ты вместо этого уже в десять в постели! Ну-ка, не залеживайся, вставай да одевайся. Маску я уже тебе купила, смотри, какая она красивая! Закругляйся, а я уже убегаю, иду на площадь. Увидимся там, пока.
Это моя жена, серьезная женщина, директор школы. Она уже вырядилась в костюм дикарки, на ней юбка из пластиковых банановых листьев. Лучше я скажу так: благодаря карнавалу, я открыл, что моя жена — настоящая дикарка и есть. Я сказал ей, что она в порядке, что увидимся на площади, и негритянка исчезла. Тогда я сел, посмотрел на маску, которую мне купила жена, и остолбенел: это же маска дьявола с непристойно красным, как пламя, ртом; борода козлиная, щеки черные, лоб нахмуренный, рога. Взял маску в руки, машинально надел, слез с кровати и подошел к зеркалу.
Чуть позже я вышел из дома — одной рукой придерживаю маску у лица, другой ощупываю под курткой ручку ножа (наверное, под действием этой маски, я взял нож из кухонного стол a), которая, неизвестно почему, высовывается из-под куртки. Туман, слышу в ночи вой сирены. Я поворачиваюсь и вижу там, внизу, выше домов далекого Еврейского острова, огромный белый атлантический пароход, весь в огнях. Настроение скверное: никак не избавиться от впечатления, что моя жена, купив мне именно эту маску, практически насильно заставила меня участвовать в маскараде. И все же, и все же, что-то мне подсказывает, что и меня, как ту робкую девочку, встряхнул карнавал.
Вот и пристань на Большом Канале. Как раз в эту минуту подходит вапоретто[14], и я сразу замечаю — он полон народа, почти все пассажиры в масках. Вапоретто причаливает; я сажусь последним; меня прижимают к борту; за мной теснятся разные типы: сумасшедшие, китайцы, слабоумные крестьяне, краснолицые старые пьяницы и прочий сброд. Крепко держась обеими руками за борт, я поворачиваюсь лицом дьявола к Большому Каналу и размышляю, как обычно, о том, что ночью этот наш знаменитый водный путь с его темной, слегка освещенной фонарями водой, со всеми его мертвыми и глухими дворцами — действительно мрачный. Но тут же я в этом разуверяюсь. Вон высокий узкий дворец, — не помню, замечал ли я его прежде, — весь освещен, на фоне окон четко выделяются черные, неправильной формы профили странных типов: каждый из них в маске. Эти типы размахивают руками, смеются, двигаются, угрожают. Но вот вапоретто проходит мимо, дворец проваливается в темноту, и я теряюсь — что-то не так увидел? или у меня были галлюцинации?..
А вот и новый повод для замешательства. Какая-то женщина прижимается ко мне сзади, сначала грудью к спине, потом животом к ягодицам. Конечно, народу полно, но, нет сомнений, женщина проделывает это намеренно. Естественно, дьявол во мне, чьи черты лица я «надел», в ответ на этот, можно сказать, интимный контакт, возбуждается. Мысли его, о которых помолчим, оптимистичны; он строит сумасшедшие планы и разжигает в себе нереальные надежды. Я пытаюсь осознать сложившуюся ситуацию, все больше прижимаюсь к борту и ищу выход из создавшегося положения, стараясь сосредоточиться на родных потемках Большого Канала.
Сзади меня сладкий голос мне шепчет:
— Дьявол, противный, ты зачем меня соблазняешь?
Тогда я, разъярившись, оборачиваюсь и вижу: это — смерть, или лучше сказать так, это женщина, которая, неизвестно почему, выбрала себе маску смерти. Ага, кажется, это молодая девушка, как легко догадаться по незамаскированным частям ее тела: бедра узкие и круглые, живот слегка намечен, красивые длинные ноги затянуты в облегающие джинсы. Выше талии, девушка — а грудь у нее нежна и живот упруг — замаскирована под смерть. Чтобы спастись от ночного холода, она надела куртку из черного холста, на которой мелом нарисована грудная клетка скелета, с четко очерченными ребрами и грудиной. Ворот куртки словно прилип к красивой, круглой и мощной, немного расширяющейся книзу, как у некоторых крестьянок с гор, шее. А сама шея подпирает небольшой оскаленный череп, нарисованный мелом на черном картоне.
Не поверите! Но дьявол не испугался этого загробного видения, и справедливо, — потому что известно: смерть и дьявол ходят рука об руку.
Строго, но бодро отчеканиваю:
— Смерть, чего ты хочешь?
— Да, я — Смерть, и хочу тебя, — откликается сладкий голос.
— Ах, в самом деле?! Тогда пойдем, мы сладим, потому что я — жизнь и, в свою очередь, хочу тебя.
— Ты — жизнь? Разве ты — не дьявол?
— А ты, разве ты не знаешь, что дьявол — это жизнь?
— Нет, я жизнь представляю себе совсем другой.
— Ну, и какой ты себе ее представляешь?
— Другой. Скорее — в образе молодого парня с красивым лицом.
— Ах, все это байки; хорошенько подумай и будь благоразумной.
— Пока, дьявол. Увидимся на площади, пока-пока.
Она от меня отходит и присоединяется к толпе масок, проталкивающихся на причал у площади Св. Марка. Пристроив плотнее маску к лицу и еще крепче прижав нож под курткой, я, не колеблясь, спускаюсь вслед за ней.
На улице колоссальная толпа и восемьдесят процентов людей в масках. Пока я следую за смертью — она очень высокая и своей неустойчивой головой с оскалом возвышается над толпой, — дьявол подсказывает мне весь свой план, который по долгу, скажем, гостеприимства, я вынужден хотя бы выслушать:
— Ты последуешь за Смертью до левой галереи площади; там обнаружишь проход под портиком, свернешь, перемахнешь через мост и, чуть дальше, дойдешь до строительной площадки ремонтируемого дома. В темном углу строительной площадки неожиданно вынешь нож, направишь острием ей в живот и потребуешь — сам знаешь чего. Остальное придет само по себе.
План, очевидно, великолепный, кроме одной, однако, помехи: я абсолютно ничего не хочу знать о нем.
Поэтому я говорю:
— Милый, милейший, об этом и говорить нечего.
— Об этом и говорить нечего! Однако ты будешь делать то, что я захочу. Сейчас, например, ты пойдешь, возьмешь ее под руку и скажешь: «Правда, здесь хорошо?» — замечает он.
Он прав. Под предлогом карнавальной развязности я нагоняю Смерть на Сан Марко и беру ее под руку. Ах, как красива площадь, как преобразилась! Все дворцы освещены, как днем, их окна напоминают театральные ложи. Купола собора, засиявшие сусальным золотом по-новому, кажутся тиарами фантастических восточных царей. Прямая и розовая кирпичная колокольня устремлена ввысь, как исполинский фаллос. В бескрайнем прямоугольнике площади буйная веселая толпа, будто в коллективном эпилептическом припадке, непрерывно дергается. Народ прыгает, танцует, люди гоняются друг за другом, группируются, рассеиваются. Все кричат, поют, окликают друг друга. На фоне глухого и постоянного шума откуда-то слышен турецкий барабан, судя по звуку, — огромный, как большая бочка. Над толпой, как хлопья снега, принесенные вихрем, летают звуки разномастной музыки.
Сжимаю руку Смерти и шепчу:
— Смерть, как прекрасно все это! Что скажешь?
— Скажу, противный дьявол, чтобы ты отпустил мою руку.
— А не пойти ли нам туда, вниз, к виа Мерчерия? Как думаешь? Там есть небольшая строительная площадка — мы можем туда удалиться, от этой толпы подальше.
— Удалиться? Зачем?
— Так, чтобы познакомиться, поговорить.
Она не отвечает ни да ни нет, но мне кажется, что я ее уже соблазнил, правда, одновременно и напугав. Она пытается высвободить свою руку из моей, это не выходит, и Смерть оставляет это занятие.
Я настаиваю:
— Пойдем, пошли…
Как только я ее сдвинул с места, произошло нечто непредвиденное: внезапно нас окружила группа людей в масках. Они взялись за руки, завели вокруг нас безудержный хоровод и, стремительно кружась, запели незнакомую мне вульгарную песню, при этом каждый, буквально у меня под носом, гримасничал, показывая мне язык. Меня прижали к смерти, но она оттолкнулась и, воспользовавшись минутой, когда хоровод закружился медленнее и цепь рук разорвалась, незаметно выскользнула и спряталась в толпе. Я обезумел от злости, бросился в гущу хоровода, однако прошла целая минута, прежде чем эти безумцы дали мне пройти.
Продвигаясь вперед мощными толчками, я побежал. Вдруг в галерее я увидел смерть, и мне показалось, что она как раз направляется в то место, которое я ей указал. Обрадованный, я бросился вперед и вдруг, как от удара, остановился: я различил две мужские коричневые штанины с отворотами. Тогда я вернулся назад, вот опять она — Смерть: теперь это женщина, но не та, — на ней сапоги. Раздвигая толпу, снова бегу и вижу третью Смерть, входящую в пассаж Мерчерии; это девушка-гном: хоть и замаскирована под смерть, да уж совсем коротышка! А вот и набережная делья Скьявони, здесь четвертая Смерть, пьяная — она шатается, обо что-то спотыкается, да и голубые форменные брюки моряка видны. Затем, когда я поворачиваю уже к Дворцу дожей, передо мной появляется пятая смерть. Эта Смерть дородная, приземистая, ведет за руку ребенка, одетого в костюм ковбоя.
От дальнейших попыток я отказываюсь. И вот я в галерее, у входа в кафе «Флориан». Ого, кого я вижу: девочка в костюме Арлекина стоит тут же; рядом с ней другая девочка в костюме галантного кавалера восемнадцатого века: треуголка, парик, платье из черного бархата, белые чулки, блестящие ботинки — нет сомнения, одна из ее подружек. Останавливаюсь и спрашиваю утробным голосом:
— Арлекин, ты знаешь, что я с тобой знаком?
— И я с тобой знакома, — отвечает она простодушно.
— Ну, и кто я?
— Ты — тот синьор, которого я встречаю каждое утро, когда иду в школу.
Я задохнулся — как она могла узнать меня под маской? Бросаю в нее пригоршню конфетти и удаляюсь, пересекаю площадь, прохожу под аркой, перебегаю мост и… меня заносит в темноту строительной площадки. Вон бочка с известью, наполовину заполненная водой. Бросаю в нее маску и мгновение смотрю на нее. Маска остается на поверхности воды, плавает; свет фонаря усиливает красный цвет ее рта и отражается в черном лаке ее щек. Я бросаю в воду нож и ухожу.
Этот проклятый револьвер
Что делать? После двух-трех часов страшной бессонницы, я поднимаюсь в темноте с постели, подхожу к комоду, беру револьвер, открываю дверь спальни и иду в гостиную. И здесь тьма кромешная, наверное, три часа ночи — самое темное время суток; включаю лампу у камина; голова после вина раскалывается, но мысли ясные, даже слишком! Машинально отмечаю, что я в пижаме и босиком сижу в кресле у зеркальной двери в гостиную, отражающей темноту. Крепко держу в руках револьвер, палец на курке, — самый выразительный жест отношений между мной и этим предметом — любви-ненависти. Да, так он и называется, потому что, в конце концов, или он меня уничтожит, или я его…
Итак, обобщим. Никто, кроме Дирче, которая сейчас крепко спит там, в спальне, никто, кроме нее, не знает о существовании американского револьвера девятого калибра со спиленным регистрационным номером и приложенными к нему двадцатью патронами, пять из них в барабане, один в стволе. Никто о нем не знает, но, к моему сожалению, это известно Дирче. И с того дня, когда я, устав от нее, предложил ей расстаться, с этого самого дня она начала меня шантажировать, да, именно так — шантажировать, тут и сомневаться нечего. Естественно, шантаж она лицемерно маскирует заботой обо мне, вот так например:
— Тебе, как никому другому, известно, что с этим револьвером без номера, который якобы тебе подкинул дружок — хорош гусь! — ты можешь загреметь в тюрьму!
Замечу: оправдываясь перед ней, я выдумал историю про попавшего в беду друга — будто бы он меня вынудил хранить его оружие. На самом же деле, только я сам, и никто другой, бог знает зачем, устроил себе эту головную боль. Иметь револьвер — издавна было моей навязчивой идеей, вот я и пошел на черный рынок да и купил его. А теперь, теперь в моем доме запрещенный, запрещеннейший револьвер, и если его найдут, то мне дадут, как минимум, три года тюрьмы. Дирче знает об этом и, не уставая, попрекает меня.
Вот так, с шутливой угрозой:
— Ты с этим своим револьвером в моих руках: не будешь ходить по струнке — донесу на тебя.
Или так, зловеще:
— Читал в газете? Тут одного арестовали только за то, что он держал на виду простой пистолет. А у тебя военное оружие! Воображаю, что они сделали бы с тобой!
И еще так — великодушно:
— Будь спокоен, я — могила, не произнесу ни слова даже во сне.
А однажды, после особенно бурной ссоры между нами, в конце которой мы дошли почти до драки, она меня откровенно предупредила:
— На твоем месте я бы много не говорила о том, чтобы расстаться. Будь осторожен, будь очень осторожен: я о тебе слишком много знаю!
— Ах, ты опять о револьвере!
— Да, о револьвере и еще кое о чем другом.
Представляю, как в этом месте у кого-то может возникнуть вопрос: «Если этот револьвер так компрометирует, почему бы не забросить его в безопасное место — в реку, в люк, куда придется?» Отвечаю: «Я к этому прекрасному предмету привязался, да и стоил он кучу денег. И вообще, я мог бы его выбросить, но должен был бы это сделать до того, как Дирче узнала о том, что он у меня есть».
К сожалению, во мне, бедняге, есть что-то от эксгибициониста, и я тщеславен — ведь первое, что я сделал, когда она переехала ко мне, — сам показал ей револьвер, показал, как он стреляет, а потом разобрал и собрал его перед ее носом. Не солгу, если скажу, что и историей, придуманной, чтобы держать дома этот запрещенный предмет, я тоже гордился. Факт и то, что я сам сделал все, абсолютно все, чтобы вызвать ее на эту угрозу «о револьвере и еще кое о чем другом», которую я толком тогда не понял.
И только теперь, после того, что случилось на вечере в доме Алессандро, я полностью осознал смысл этих ее слов «и еще кое о чем другом».
Да, Алессандро! Поговорим об Алессандро! Но прежде всего, о его носе! Да, именно о нем. Потому что впечатление лживой темной двусмысленности этот таинственный человек производит на меня прежде всего своим носом. Каков нос у Алессандро? Таких носов не бывает: если на него смотреть прямо, он кажется кривым, загнутым книзу и с широкими ноздрями, а если смотреть в профиль — прямым, курносым и с узкими ноздрями. Нос сотрудника спецслужб, нос шпиона. Этот нос, вообще-то говоря, может принадлежать только двоедушной или троедушной натуре, а то и личности с четырьмя сторонами души. В общем, сам нос заключает в себе какую-то программу. Какую? Сейчас скажу. Вернее так: самому мне эта программа не известна, а вот Дирче, сдается мне, понимает, в чем тут дело. Иначе почему как-то раз, во время одной из наших обычных ссор, будто случайно, она бросила:
— Ты ведь хорошо знаешь Алессандро, который нас всегда приглашает. Мне, например, известно, что он многое бы отдал, чтобы узнать о твоем револьвере.
— Это еще почему?
— Ясно почему — чтобы донести или шантажировать тебя и использовать в своих целях.
— А чего он хочет?
— Ну, прежде всего, по-моему, он хочет меня. Но, в то же время, ему надо и что-то другое.
— Что конкретно?
— Другое!
Ах, оставим это. Лучше рассмотрим поминутно вчерашний вечер. Итак, я сяду за «монтажный стол» (по профессия я монтажер) и буду останавливать фильм воспоминаний на том кадре, который произвел на меня особое впечатление.
А вот и первый кадр. Мы, Дирче и я, сидим в машине перед воротами дома Алессандро, и я ее спрашиваю:
— Можно узнать, наконец, правду? Почему Алессандро нас приглашает: потому ли, что влюблен в тебя, или потому, что хочет прочно войти в нашу жизнь, чтобы легче было за мной следить?
— По-моему, из-за того и другого.
— Да, в конце концов, кто он такой, этот Алессандро?
— А кто его знает! Странноватый тип — это точно.
— Вот видишь, и ты так думаешь. А вообще-то, чем он занимается?
— Он говорит: экспортом-импортом.
— Ну да, обычные, так сказать, делишки. Ах, все в нем подозрительно. К примеру, эта его бюрократическая манера одеваться в серое. Так и чувствуется, что однажды он все свои штатские костюмы забросит и явится в военной форме штабного офицера.
— Об этом я не думала, но это правда.
— Ну, и что ты теперь посоветуешь? Как мне быть с револьвером?
— Ты же хочешь расстаться со мной! Вчера, например, ты схватил меня за руку и буквально в ночной рубашке выволок на лестничную площадку — хотел выгнать из дома. А теперь — фиг тебе, никаких советов. Одно скажу: берегись!
— Беречься? Кого?
— Прежде всего, меня.
Хороша! Однако поторопимся: фильм об этом вечере пробегает в аппарате памяти быстро, вот и второй кадр. В гостиной Алессандро нас человек двадцать. Гостиная?! Скажем так, эта комната больше всего напоминает постоянную выставку восточных подушек. На них все и уселись — друг против друга, а то и друг на друге, кто-то даже на корточках. В скобках замечу — не понимаю: как это можно болтать на полу, есть на полу, в общем, жить буквально на полу? Ясно и само собой разумеется, что народ в таком положении совершенно раскован, и этому как раз способствуют самые что ни на есть мягчайшие подушки: люди друг с другом общаются более непринужденно и в то же время, я бы сказал, неискренне…
Смотрите сами. Пока я в одной руке держу тарелку со спагетти под соусом, в кулаке другой сжимаю вилку, пробую не потерять равновесие и не опрокинуть бокал с вином, что стоит за одной из подушек, я не могу себе отказать в том, чтобы не смотреть на Дирче, которая сидит на подушке, опершись о стену. К тому же, хозяин дома, неописуемый Алессандро, около нее, на корточках, но я, даже напрягая глаза, не хочу знать, где он держит свои руки. Естественно, эти двое уже поели, да, скорее всего, есть не стали — у них нашлось занятие поинтереснее. Болтают, смеются — словом, общаются. Как общаются? Скажу коротко: Дирче сидит скрестив ноги и делает вид, что, теряя равновесие, падает на Алессандро, а он, в свою очередь, поддерживает рукой ее сзади и, нашептывая ей что-то на ухо, время от времени прихватывает его губами…
Понятно, что как только я почувствовал угрозу появления соперника, так сразу моя подруга, которую я презираю и от которой хотел отделаться едва ли не с первого дня наших отношений, эта Дирче, страшно некрасивая, мало того, просто уродина, начинает чудо как нравиться мне.
Пошли дальше. Вот и другой кадр, увы, очень тревожный. С трудом поднявшись с подушки и стараясь удержать бокал в руке, я направляюсь прямо к Алессандро и Дирче. Останавливаюсь перед ними, поднимаю бокал и, усмехаясь, произношу тост:
— За ваше здоровье! Какая вы прекрасная пара! Как вам, наверное, хорошо вместе!
— Правда?! Надо же, а мы давно знакомы и до сих пор не поняли этого, — отвечает противная Дирче.
Другой кадр. Я пьян, точнее — делаю вид, что пьян. В одной руке держу бутылку, в другой бокал; шатаюсь по квартире в поисках Дирче и Алессандро — они, естественно, испарились. Праздник в гостиной продолжается: все уже дошли до традиционной сигареты с марихуаной, до «бычков», переходящих из рук в руки; и каждый сокрушается, когда нужно передать окурок другому. Брожу по дому неустойчивым шагом. Первой мне попадается спальня в турецком или арабском, в общем, в восточном стиле: очень низкая кровать завалена всяческим барахлом, в том числе верхней одеждой гостей; по всей спальне — висюльки, шали, четки, цветные картинки, кинжалы, те же подушки и… смотри-ка, что это виднеется там, в шкатулке с лукумом, которую открываю, потому что обожаю сладкое? — ага, пистолет! Махонький, рукоятка покрыта перламутром, по сравнению с моим — игрушка, пустячок, смешная штучка. Кто поверит, что Алессандро может напугать кого-нибудь таким пистолетом?
Из спальни перехожу в кабинет — сюрприз! ничего восточного, простая комната, без прикрас, мебель в аскетичном шведском стиле. Кстати, чем, собственно, занимается этот Алессандро? Что-то здесь не так: ни одной книги, только телефон. А вот и ванная комната, крошечная, с кучей полотенец, домашних халатов, предметов личной гигиены, с фотографиями обнаженных женщин из эротических журналов, прикрепленными к стене над ванной, напротив унитаза.
Куда еще осталось зайти, чтобы отыскать тех двоих, которые потерялись? Иду в глубь коридора, толкаю стеклянную дверь, ведущую в сад. Он малюсенький, утопает в листве, здесь и вьющиеся, и сорняки; в саду влажно, темно, полно светлячков и фантастических теней. А вот и они, в недвусмысленной позе: тесно прижались друг к другу, ее руки у него на плечах; его руки — неизвестно где. Они тут же, как ошпаренные, разлетаются в стороны, а я, хорошо прицелившись, бросаю бокал в голову Алессандро…
Предпоследний кадр — в моем доме. Мы с Дирче страшно ссоримся, в конце ссоры упираемся больше в вопрос о револьвере, чем в их объятия в саду. Я ее ругаю последними словами за, скажем коротко, бесстыдное поведение; она, сидя на постели, ограничивается повторением одного и того же:
— Берегись, будь осторожен в словах!
Эту фразу она произносит не раз и не два, а три раза, да так угрожающе, что в конце концов я взрываюсь:
— Опять намекаешь на револьвер!
— Да, но не только на него.
— Мне нечего скрывать.
— Если тебе нечего скрывать, почему ты спилил номер? Почему не получишь разрешение на оружие?
Не зная, что отвечать, атакую:
— Шпионка, доносчица, паскуда!
Она совершенно спокойно и тихо говорит:
— У Алессандро тоже есть пистолет, но легальный, он о нем заявил.
Кричу с ненавистью:
— Его пистолет смехотворный, для барышень, а ты его сравниваешь с моим!
— Да, но твой запрещен законом, а его нет.
— И что из того?
— А то, что ты должен придерживаться правил — и все.
— Ладно, пойдем-ка спать, — внезапно успокаиваюсь я.
Дважды повторять не приходится: до странности послушно она встает и, как обычно каждый вечер, раздевается, без звука укладывается, поворачивается ко мне спиной и, как мне кажется, мгновенно засыпает. Я же, наоборот, после того как ложусь в постель рядом с ней и гашу свет, заснуть не могу, да и не пытаюсь даже. Лежу на спине, руки за голову, и три часа обдумываю сложившуюся ситуацию, все «за» и «против»…
Последний кадр — тот что проживаю сейчас. Сижу в пижаме в кресле с зажатым в руке револьвером у зеркальной двери в гостиную, за которой со временем все более светлеет, и уже грязная белизна городского восхода смешивается с чернотой ночи. Внезапно решаюсь, поднимаюсь с кресла, возвращаюсь в теплую и интимную тьму спальни. Ощупью подхожу к комоду, открываю ящик и кладу револьвер на привычное место — прячу. Потом вползаю под одеяло, обнимаю Дирче и разворачиваю ее к себе.
Ощущаю в темноте, как, упираясь руками мне в грудь, она с хриплым криком переворачивается обратно. Я ей шепчу:
— Хочешь стать моей женой?
Проходит секунда, которая кажется целым часом; потом слышу ее голос, с типичной для нее недоверчивостью она шепчет:
— Да что это с тобой?
— Со мной — ничего. Хочу, чтобы мы поженились.
Какое-то время она молчит, затем с особой проникновенностью говорит:
— Мне, конечно, было бы приятно, о большем и не мечтаю. К тому же, после этого ничего не изменится, так ведь? Для тебя это по-другому: очевидно, ты долго думал и понял, что тебе так выгоднее — недурно!
Затем, уже с нежностью в голосе, она продолжает:
— Ладно, будь здоров, муженек. Послушай, а почему бы тебе не взять этот проклятый револьвер, пойти в городской сад напротив дома, да и выбросить его в бассейн? Иди и возвращайся, и тогда мы будем спокойно спать, на самом деле, как муж и жена.
Я заикался всю свою жизнь
Выхожу из дома и смотрю направо и налево, чтобы определить, здесь ли Он. Живу я на так называемой частной, то есть на глухой улице, на которую выходят сады не более трех-четырех вилл. Краем глаза замечаю, что у тротуара стоят две машины, они роскошные, да и все в этом квартале шикарное. А Он, напротив, чтобы следить за мной, ездит на малолитражке, которая в городском движении незаметна, а здесь, на улице миллиардеров, бросается в глаза, как машина миллиардера в бедном квартале.
Так, его нет. Сажусь в машину с чувством тоскливого разочарования: ну, и что мне теперь делать без Него, в этот пустой послеобеденный час? На самом-то деле я вышел из дома только из-за него. Хотел его встретить и вызвать на объяснение.
Ну вот, случайно повернув налево и одновременно поправив зеркало заднего вида, я разглядел его машину у себя на хвосте. Машина вполне обыкновенная, но странно — я узнал бы ее из тысячи. Взглянул еще раз: через ветровое стекло малолитражки вижу Его лицо — оно заурядное. Да, прежде всего, надо условиться, что считать заурядностью. Кто-то может подумать, что, судя по неброской бесцветной одежде, речь идет о сотруднике государственного учреждения, или о работнике частного сектора. Нет, сегодня этот неизвестный — не служащий; скорее, человек без определенных занятий. Судите сами: пышноволосый, бородатый, с усами, в броской куртке в красно-черную клетку и голубых джинсах, по современным понятиям, заурядный, и таких, как Он, в городе тысячи. И их заурядность — новая, живописная, кричащая. Он мог бы быть кем угодно, например, хорошим парнем, убийцей, интеллектуалом. А для меня Он — тот, кто уже неделю держит меня под наблюдением и следует за мной повсюду, когда бы и куда бы я ни ехал.
Веду машину специально медленно, чтобы дать ему возможность не упускать меня из виду, и в который раз перебираю причины, которые заставляют его следить за мной. В конце концов эти причины сводятся к одной: я — единственный сын очень богатого человека, и поэтому, наверное, вызываю в нем сильную ненависть. Таким образом, оснований преследовать меня может быть два: одно, скажем, конкретное и другое, допустим, символическое. Первое очевидно — похитить меня и вынудить моего отца заплатить приличный выкуп. Второе, менее очевидное, — убить меня, поскольку я представляю собой символ некой части социальной системы. И тем самым, через меня нанести удар по той части общества, которую я, к сожалению, олицетворяю.
Продолжая размышлять на эту тему, чувствую, что и в самом деле я всему и всем чужой. А значит, мне и в голову не придет бежать в полицию: заявление означало бы соучастие. Да, никаких заявлений. Хочу встретить своего преследователя, чтобы ему стало ясно — не за тем он увязался: ни денег он за меня не получит, ни отомстить через меня не сможет.
Еду дальше и время от времени поднимаю глаза, бросаю взгляд в зеркало, чтобы убедиться, сопровождает ли Он меня. Да, сопровождает. Однако теперь возникают две проблемы. Первая преодолимая, и она касается машины: если я хочу встретиться с ним, мне придется припарковаться и продолжить путь пешком. Вторая, наоборот, почти непреодолимая: заикание. Заика я от рождения, после первого слога не могу продолжить фразу. Заикаюсь, заикаюсь, и, чаще всего, фразу за меня заканчивает проницательный и жалостливый собеседник. Тогда я одобрительно киваю головой: мол, ничего не сказал, а все равно был понят.
Однако с Ним это не пройдет. Не могу же я рассчитывать на то, что убийца закончит за меня фразу. Правда, сегодня утром Он попытался это сделать, но при таких обстоятельствах, что теперь я ожидаю самого худшего. Судите сами.
Я вошел в туристическое агентство, чтобы забронировать себе место в самолете на Лондон, куда я должен уехать для продолжения занятий физикой. И мне никак ничего не удавалось сказать, я все повторял и повторял:
— Че… че… чет-т-т…
Через некоторое время, оказавшись у стойки рядом со мной, Он жестко, но вежливо, договорил за меня:
— Синьор хочет сказать «четвертое». И я хотел бы заказать одно место на тот же рейс.
Я вышел из агентства обескураженный. Выходит, что время сжалось. И не столько для меня, сколько, главным образом, для Него. Теперь до отъезда я обязательно должен принудить его объясниться.
Вот и въезд в подземный гараж, в котором я обычно оставляю машину. Въезжаю медленно, в гараже полутьма, полно автомобилей, выстроенных между гигантскими столбами, как рыбий хребет. Вижу, как Он следует за мной на некотором расстоянии и тоже въезжает в гараж. Замечаю два свободных места, круто сворачиваю и встраиваюсь в ряд. Он тоже сворачивает, занимает место рядом со мной. Я было подумал объясниться с ним в гараже. Но здесь пустынно, тихо, темно, и это наталкивает меня на мысль: «Вот идеальное место, где можно убить человека и уйти как ни в чем не бывало». Да и Ему, похоже, гараж не показался. Опережая меня, он вышел из машины, закрыл дверь, быстро прошел между машинами и исчез. Куда девалась слежка? Неужели я ошибся и надо сменить идефикс? Встаю на эскалатор, поднимаюсь на поверхность и вижу его уже наверху — стоит в глубокой задумчивости и сосредоточенно курит.
А вот и виа Венето. Спускаюсь по ней с видом иностранца, который только что побывал в заброшенном и пустынном месте, а теперь попал на самую знаменитую улицу Рима, да еще и с целью подступиться, вернее, взять приступом незанятую девицу. На самом деле, такой потребности я не испытываю, но мне нравится сама идея: искать женщину!
К тому же, благодаря этому я кажусь себе другим человеком, полностью отстраненным от развернувшегося в последние дни преследования.
Думаю об этом, и вдруг там, впереди, в нескольких шагах от меня, замечаю женщину, которую якобы ищу. Она молодая, но в ее лице и во всем облике есть что-то усталое, недоверчивое и несколько нечистоплотное. Она блондинка, и волосы ее, кажется, бросают отсвет на лицо и шею, золотистые от свежего морского загара, и на бледно-желтое (цвета мертвого листа) платье, похожее на тунику. Идет она, нарочито покачивая бедрами, но и то, скорее, в силу профессиональной привычки, устало и неуверенно. Да и тактика ее предсказуема — она останавливается у каждого магазина и, глядя в витрину, пытается поймать мой взгляд. Именно в эту минуту я замечаю моего бородатого преследователя, который, замедлив шаг, с видом знатока задерживается у киоска с кучей английских покет-буков. И тогда у меня возникает новая идея. Добавлю: идея заики, который из-за невозможности объясниться словами переходит на язык жестов и недоговорок. Значит так, сейчас остановлю девицу и использую ее как символический передатчик для сообщения врагу, который хочет меня выкрасть или убить.
Сказано — сделано. Приближаюсь к ней и говорю: «Ты свободна? Пойдем куда-нибудь?»
Чудо! Все произошло абсолютно естественно, и я не сразу осознал, что впервые в жизни ни разу не заикнулся. Может быть, сказалось особое напряжение ситуации, чреватой смертельной опасностью, и я перестал заикаться? Я говорил! Я говорил! Я говорил! Ощущаю глубокую безмерную радость и одновременно полон признательности этой женщине: как будто искал ее всю жизнь и наконец нашел, и именно здесь, на тротуаре виа Венето. Опьяненный радостью, едва слышу ответ женщины: «Пойдем ко мне домой, здесь рядом».
Беру ее под руку, и она с чувством сжимает мою руку. Идем примерно минут десять, я не чую земли под ногами.
А вот и пустынная улочка с простыми старыми домами. Как только входим в подъезд, бросаю взгляд назад и вижу, что Он остался снаружи и, прислонившись к фонарю, ждет меня. Пешком поднимаемся на третий этаж, женщина вынимает из сумки ключи, открывает дверь, вталкивает меня во тьму передней, затем в хорошо освещенную гостиную. Подхожу к открытому окну, вижу, что Он все еще внизу, на улице, и нахально смотрит на меня.
Женщина подходит ко мне и спрашивает:
— Окно закроем?
Тогда я объясняю ей, что мне от нее надо.
— Видишь молодого человека, там, на противоположном тротуаре? Это мой друг, он очень стесняется женщин. Так вот, я хотел бы, чтобы ты его разогрела так, чтобы его застенчивость прошла. Мне ничего не надо, кроме одного: на секунду покажись в окне, без ничего, голая, абсолютно голая. На несколько мгновений ты станешь для него символом всего того, чего он не знает и боится.
— Как хочешь… — сразу соглашается женщина.
Она наклоняется и грациозным движением, как бы поднимая занавес на каком-то специальном, прежде невиданном спектакле, берет обеими руками подол платья и быстро задирает его до самой груди. С удивлением замечаю, что под платьем у нее ничего нет, — по-моему умышленно. Обнаженная до груди, с небольшим выпуклым вялым животом, гордо выставленным на всеобщее обозрение, она приближается к окну и на мгновение прижимается лобком к стеклу. И все. Из глубины комнаты я смотрю на нее, остановив взгляд на ее худой и костлявой спине. Затем женщина осторожно опускает платье и говорит:
— Вот и все. Твой друг на этот раз кажется победил свою застенчивость. Он подал мне знак, что идет сюда.
После этих слов в моей голове будто что-то взорвалось. Вновь вижу себя у витрины и вспоминаю, что заметил странный обмен взглядами между женщиной и моим преследователем. Хотел крикнуть: «Так ты знакома с тем человеком? ты с ним в сговоре? ты устроила мне засаду?!»
Увы, ничего не вышло. Тыча пальцем в женщину, застрял только на:
— Ты… ты… т-ты… т-т-ты…
Все также устало и разочарованно она соглашается:
— Да, я, я, я… А теперь твой друг уже здесь; вон он стучит в дверь; ты оставайся здесь, а я ему открою, — говоря это, она подталкивает меня к дивану и проворно выходит.
Слышу, как ключ поворачивается в замке.
Иду к окну и спрашиваю себя: может, самое время прыгнуть вниз; и пусть это будет стоить мне жизни! Но возникает и другая мысль: «Спасаться не хочу, скорее, хочу объясниться, чтобы меня поняли, хочу пообщаться». Мягкий и непрямой свет закрытого облаками неба обволакивает меня, и, очарованный, погрузившись в грезы, я замираю. Я живой настолько, что меня могут вот-вот похитить и убить; но в то же время я и неживой, я чужой в этой жизни. Поймут ли они? Смогу ли я им это втолковать?
А за моей спиной открывается дверь.
Во сне я постоянно слышу шаги по лестнице
Как многие, я привык после обеда спать. Ем и пью я много, поэтому засыпаю легко. Сплю в кабинете мансарды. Моя мансарда так высоко, что через ее стеклянную дверь виден весь город. Едва проснувшись, вскакиваю с дивана, варю крепчайший кофе и, не теряя ни минуты, сажусь за пишущую машинку. Я по профессии сценарист и сейчас пишу диалоги к фильму на трудную тему: терроризм. А какое отношение к теме фильма имеет только что приснившийся мне сон, не знаю. Но если я его расскажу, может быть, смогу понять. А приснилось мне вот что: слышу как кто-то медленно поднимается в мою мансарду по громко скрипящим ступеням деревянной лестницы. Шаг его медленный, нерешительный, тяжелый и будто угрожающий. Этот кто-то, шагая, останавливается, делает еще шаг, снова останавливается, вновь шагает и окончательно замирает у моей двери. После долгой паузы раздается стук. В эту минуту я просыпаюсь, иду к двери, распахиваю ее и… никого.
Во сне я знаю наверное, что тот, кто поднимается ко мне, — дьявол, и, естественно, пока длится сон, я в этом не сомневаюсь. Зачем он идет, мне тоже известно: дьявол хочет предложить мне подписать кровью обычный его договор — мол, в обмен на мою душу он подарит мне удачу. Я с возмущением предложение отвергаю, и, видимо, это решение меня будит — я просыпаюсь.
Как можно объяснить этот сон? Ясно как: дьявол, предлагая мне удачу, хочет заполучить мою душу. Но мне удача не нужна. Человек я совсем нечестолюбивый и хочу жить обычной будничной жизнью, конечно, при условии маломальского достатка, который, впрочем, вполне мне обеспечивают сценарии.
Через несколько дней сон повторяется. Опять неровный шаг по скрипучим ступеням, а вот и пауза, вероятно, для того, чтобы перевести дыхание, вот и стук в дверь. На этот раз, в отличие от предыдущего, я не просыпаюсь, а кричу, чтобы вошли. И тут происходит нечто странное. Я вижу ручку двери — она опускается невероятно медленно, миллиметр за миллиметром. Эта неторопливость, которую я могу объяснить только одним: неизвестный посетитель хочет меня напугать, — вызывает во мне тревогу. Почему он просто не откроет? Отчего эта нарочитая медлительность? С последним вопросом я просыпаюсь, — так, ясно: опять сон. Да, все происходило во сне, за исключением того, что кто-то на самом деле стучит в дверь.
Я кричу «войдите!» и с ужасом смотрю на ручку двери, она едва-едва опускается — ну прямо, как во сне. В голове пульсирует единственная мысль: «Ну вот, приехали, на этот раз точно — сам дьявол пожаловал!» Человек я начитанный, во всяком случае, классику осилил, поэтому, пока ручка опускается, совсем не странно, что я пробую представить себе, какое лицо у дьявола. Увы, из памяти выплывает только обычная маска Мефистофеля с изогнутыми бровями, орлиным носом и заостренной бородкой. Наконец дверь открывается, и в ее проеме появляется лицо длинноволосого молодого человека с обвисшими усами. Нет, дьявольским это лицо не назовешь, скорее, символическим, как у многих современных парней, которые под аскетической наружностью прячут обычную жажду жизни.
Он басит: «Можно?» Завороженный его самоуверенностью, прошу войти. Он входит, и вот он уже на середине кабинета: типичный «волосатик» в узеньких джинсах и кожаной куртке — подобные типы сотнями болтаются в определенных кварталах города. Но две вещи кажутся мне необычными и сразу удивляют: большая черная кожаная сумка с множеством кармашков через плечо и кое-как перебинтованная окровавленная рука. Сумка кажется забитой до краев; травмой руки объясняю неспешность, с которой он открывал дверь. Осматриваясь, он подозрительно спрашивает:
— Никого?
— Кроме меня, никого.
Он подходит к столу, сбрасывает на него сумку и объясняет:
— У меня в сумке кое-что есть, и это нужно спрятать, скажи, куда. Ты кого-нибудь ждешь?
— Нет, никого не жду. Да честно говоря, я и тебя не ждал.
Последнюю фразу я произношу, чтобы дать ему понять, что его появление мне кажется, по меньшей мере, странным.
Он принимает мои слова всерьез и говорит:
— Да-да, я знаю; но я сначала был в Милане, потом в Неаполе. Во всяком случае, ты готов, да?
— Готов? Да, я готов, — смущаюсь я.
— Ведь теперь мы в тебе нуждаемся.
Эти слова меня заинтриговали. Кто такие «мы»? И почему они во мне нуждаются? Спрашиваю, чтобы потянуть время:
— Что у тебя с рукой?
Он замечает таблоид, который я читал утром и оставил в кресле развернутым на первой странице с заголовком, написанным аршинными буквами, и говорит:
— A-а, это? Вчера вечером в ходе перестрелки меня ранили, но я уложил того, кто в меня стрелял.
Не знаю, что и сказать. Думаю, что этот незнакомый мне человек ошибся дверью. Прежде я его никогда не видел, наверное, он террорист, правый или левый, может, и грабитель, пойманный на месте преступления. Известно, что наш дом полон людей, среди них может быть и террорист, и заурядный грабитель. Но как убедить его в том, что он ошибся? Его грубое: «я уложил того» — не позволяет мне открыться. Если он перепутал дверь, может, теперь он способен уложить и меня, как свидетеля?!
Осторожно спрашиваю:
— А как ты меня разыскал? Сказал портье, что ищешь синьора Проетти?
Услышав мое имя, он и глазом не моргнул:
— Нет, я просто поднялся. Какая нужда была спрашивать? Пришел, потому что хорошо запомнил, где ты живешь. Ты что, все еще спишь?
— Да, я спал, видел повторяющийся сон и еще не совсем проснулся, — зачем-то сообщил я ему.
— Что за сон? — неожиданно заинтересовался он.
Я рассказываю ему сон. Он коротко смеется, при этом открываются белые волчьи зубы, и спрашивает:
— Скажи, ты, часом, не хочешь ли нас заложить?
— Да что ты такое говоришь! — я чист, как младенец.
— Ну, ведь дьяволом может быть один из полицейских, которому ты уже продал душу или собираешься ее продать. Берегись: у меня в сумке три «игрушки»: одна — для него, другая — для тебя, третья — для меня.
Именно эта банальность, будто цитата из бульварного романа, меня напугала больше всего, и я спросил:
— Да ты что — сумасшедший?
— Во всяком случае, с тобой дьявол просчитался: ты свою душу уже продал нам, а продать ее дважды нельзя, — невозмутимо продолжил он.
Я похолодел. Значит, душу я уже продал; то есть, говоря обычным языком, сам не зная, когда и где, я стал участником террористической, а может, бандитской группы. Значит, я уже вступил в одно из тех незаконных формирований, членом которого легко стать, да только живым никогда не выйти!
И тогда с деланной непринужденностью я у него спросил:
— Можно задать вопрос?
— Какой вопрос? Мне вопросы не задают, — огрызнулся он.
— Не сердись. Хотелось бы только узнать, как мы познакомились. Кто нас представил друг другу?
— Кто нас свел? Черт возьми, да Казимиро!
Кто такой Казимиро? Никогда не слышал этого имени! Наконец-то я понял, что стал жертвой недоразумения или заговора.
И как ни в чем не бывало, я поинтересовался:
— Ах Казимиро! Понятно, конечно же, Казимиро. А при каких обстоятельствах?
— Не веришь? Ладно, слушай: мы с тобой встречались именно здесь, в твоем кабинете. Тогда я тоже был в бегах. Казимиро попросил тебя приютить меня на одну ночь, и я здесь ночевал. Ты мне тогда еще ключ дал, и я им сегодня открыл дверь, — он показал мне ключ.
Наконец я смирился и сказал ему:
— Хорошо, прячь свою сумку, куда хочешь. А я спущусь вниз, пойду куплю чего-нибудь на ужин.
Что с ним стало! Он вытащил из куртки огромный револьвер, направил его мне прямо в грудь и сказал:
— Нет, звонить в полицию ты не пойдешь!
Слава богу, в эту самую минуту постучали в дверь. Стучали громко, настойчиво, не переставая, и… я проснулся.
Так это был только сон, скажем точнее, — все происходило во сне! Но стук в дверь продолжается, я бегу к двери, открываю — а вот и мой дорогой друг Казимиро, собственной персоной. Я падаю ему в объятья и говорю:
— Представляешь, ты мне приснился, а я делал вид, что с тобой совсем не знаком и не знаю, кто ты.
— Браво, вот она — твоя дружба! — парировал Казимиро.
Рассказываю ему сон. Он серьезно слушает, задумывается и говорит:
— Знаешь, на самом деле это было в 1968 году. Как-то вечером я пришел к тебе не один, со мной был некто Энрико, из ниспровергателей. После какой-то там стычки с полицией он был в бегах. Я тебя попросил оставить его ночевать. Помню еще, что в тот вечер мы очень веселились, ели и, более того, пили без меры.
Я ничего подобного не помнил, удивился и спросил у Казимиро:
— Послушай, а этот Энрико не замешан ли во вчерашней перестрелке? — и показал ему газету, на первой странице которой под заголовком был помещен целый ряд фотографий. Он рассмотрел их и покачал головой:
— Нет, тут его нет.
Потом добавил:
— Но ключ в тот день ты дал мне, а не ему. У меня была девушка, я не знал, где с ней встречаться, — в то время я жил с родителями, — напросился к тебе в кабинет, и ты дал мне ключ. Помню, что, давая мне ключ, ты тогда сказал:
— Вот, символ моей безотказности.
Вспышка молнии
Стараясь замести следы, я пять дней бежал зигзагами — из Парижа в Амстердам, из Амстердама в Лондон, из Лондона в Гамбург, из Гамбурга в Марсель, из Марселя в Вену, из Вены в Рим; поездом и самолетом, совсем без сна, или изредка и ненадолго задремав. Хотел спать больше, чем жить, и думаю, что заснул бы даже под дулами и того самого взвода военных, от которого искал спасения в этом бесконечном беге. В конце концов я прибыл на римский вокзал Термини, где меня встретил сын, как мы с ним заранее и договорились. Страшно хотелось спать, поэтому, когда сын подошел ко мне, первое, что я спросил у него, нашел ли он место, где я мог бы спокойно выспаться? Он ответил, что специально для меня есть квартира, где я смогу спать, когда и сколько захочу, к тому же, об этой квартире никто на свете, кроме него, не знает.
Мы вышли из здания вокзала, сын взял мой чемодан, я пошел рядом. И мне ничего не оставалось, как только смотреть на него: мы с ним не виделись почти два года. Возможно, из-за моей жуткой усталости, мне сын показался, в общем, неизменившимся. Хотя за это время он отрастил бороду, которой прежде не было, и взгляд его стал поразительно неподвижным, что тоже было для меня в диковинку. Поблагодарив за квартиру, которую он для меня нашел, я передал ему привет от матери, моей жены, из Парижа. С искренним удовольствием я сказал ему, что он хорошо выглядит, — лучше, чем два года назад, когда мы с ним виделись в последний раз. Он ответил: это потому, что он доволен своей работой — занимает хорошую должность в экспортно-импортной фирме и неплохо зарабатывает, а кроме того, если раньше он снимал номер в гостинице, то сейчас собирается переехать в дом своей невесты, она тоже итальянка. Они рассчитывают вскоре пожениться. Пока он, улыбаясь, сообщал мне эти новости, мы дошли до автомобиля. Сын положил чемодан в багажник, сел на место водителя, я расположился рядом, и мы поехали.
Рим я знаю плохо, поэтому смотрел по сторонам внимательно, мало того — с любопытством. У меня сложилось впечатление, что, проезжая от светофора до светофора, мы постепенно пересекли весь античный центр города. Сын всю дорогу добродушно болтал со мной. Сказал, что рад видеть меня после долгой разлуки и рассказал о грандиозных планах, которые строил по поводу приезда родителей.
Переехав мост, мы оказались на другом берегу Тибра. Мчимся по набережной. Из машины виден противоположный берег, на нем деревья. Серебристые листья слегка касаются желтой сверкающей воды. За деревьями растянулся ряд домов. Над ними собираются большие черные грозовые облака. Быстро поднимаясь, они стремительно закрывают голубые клочки неба. Сын сказал, что несомненно скоро начнется гроза. И объяснил: вот уже несколько дней ситуация повторяется — утром стоит хорошая погода, днем она ухудшается, а к ночи неизбежно разражается неистовый ураган с громом, молниями и проливным дождем.
Машина выходит на более широкую часть набережной, и по эту сторону реки виден парапет, по другую — непрерывный ряд многоквартирных домов. Миновав один из своего рода шлагбаумов в красно-белую полоску, которые обычно ставят на улицах с запрещенным движением, машина останавливается в укромном месте. Сын объясняет — эту часть дороги разрушила река; и здесь уже давно проводятся восстановительные работы, поэтому машинам проезд запрещен. Таким образом, посреди шумного города образовался настоящий оазис тишины. Я вышел из машины и осмотрелся: набережная в этом месте выглядит пустынной. Всего-то: двое-трое уличных мальчишек на роликах, медленно плывущая в обнимку пара влюбленных, да в приткнувшейся к парапету машине мужчина и женщина слушают радио.
Я посмотрел на небо — гроза приближалась: облака двигались навстречу друг другу и, будто им не хватало пространства, сжимали небольшой голубой просвет.
Сын засмеялся и еще раз отметил спокойствие этого места:
— Разве оно не идеальное для тех, кто хочет быть незамеченным?
— Да, и для убийства кого-нибудь — тоже идеальное, и именно потому, что никто не заметит, — не задумавшись, отреагировал я.
Он положил руку мне на плечо.
— Брось, отныне ты не должен думать ни о чем дурном. Доверься мне. А организовать тебе спокойную и безопасную жизнь — это уж моя забота.
Вынув связку ключей, сын направился к подъезду небольшого особняка. Он сказал, что здесь нет консьержа и что я могу выходить и заходить, когда захочу, — никто меня не заметит и, тем более, не будет преследовать. Мы вошли в подъезд, но не к лифту: квартира была в цокольном этаже. Сын открыл дверь и первым прошел в небольшую квартиру. Она мне сразу показалась убогой, какой-то на редкость безжизненной и мрачной, что свойственно давно пустующим домам. Неизвестно откуда стасканная в нее мебель больше подошла бы какому-нибудь учреждению, чем жилому дому, и только самая необходимая: в гостиной — диван и два кресла; в спальне, кроме кровати, стул и столик. В квартире была еще маленькая комната с разобранным жалким ложем у входа; казалось, кто-то совсем недавно здесь спал. Мы прошли мимо кухни, и я увидел стоявшую у плиты молодую африканку. На мой вопрос, кто это, сын ответил, что это сомалийская горничная; будет убираться по дому и готовить, пока я тут живу. «Она говорит на нашем языке, — добавил он, — ей ты можешь полностью доверять».
Мы сели в спальне, я на кровать, сын на стул. Почти сразу вошла сомалийка и принесла поднос с только что приготовленным ужином. Пока она, наклонившись, изящно расставляла на столике блюда, я смотрел на нее во все глаза и заметил, что она, в своем роде, настоящая красавица: высокая, гибкая, широкоплечая, с округлыми и сильными руками, узкими бедрами. Поставив блюда, она легко поклонилась и посмотрела на меня в упор, будто давая мне что-то понять; потом вышла. Сын пригласил меня поесть; я посмотрел на блюда и увидел, что это наша традиционная еда, приготовленная, если можно судить вприглядку, я бы сказал, довольно сносно. Но только я подумал поднять руку и взять хотя бы что-нибудь, меня охватило непреодолимое отвращение к пище. Я сказал сыну, что не голоден, а хочу только спать, и пусть он меня оставит, а завтра, когда мы встанем и заживем нормальной жизнью, тогда уж и отдадим дань нашим национальным блюдам, приготовленным сомалийской горничной.
От моего отказа поесть сын несколько растерялся; стал настаивать, чтобы я съел хоть что-нибудь. Иначе, сказал он, ссылаясь на мое собственное признание в том, что сегодня весь день я ничего не ел, я могу заболеть. Я ответил, что страх лишил меня аппетита, и сейчас я хочу только спать: во сне мой страх пройдет. А вот проснувшись, наверняка почувствую аппетит. Сын, недовольный мною, смирился и позвал горничную. Она появилась; составляя блюда на поднос, вновь наклонилась в мою сторону, и, прежде чем выйти, посмотрела мне прямо в глаза. Внезапно сын поднялся, бросился мне на шею, расцеловал в обе щеки и сказал, что теперь я могу спать: мы увидимся завтра.
Мучительно хотелось спать. Но не знаю отчего, едва сын вышел из комнаты, я вдруг вспомнил, что пока он меня обнимал, я почувствовал его ладони не на плечах, что было бы естественно, а много ниже — где-то в районе поясницы, жест необычный и невозможный с его стороны: так ощупывают людей, подозреваемых в наличии оружия. Следом за этим воспоминанием у меня возникло внезапное желание понаблюдать за сыном. Я подошел к окну, открыл ставни и посмотрел вниз.
Как раз в эту минуту он выходил из дома и садился в машину. Все еще без всякой на то видимой причины я выглянул в окно и стал наблюдать за отъезжающей машиной. Она была еще близко и у шлагбаума остановилась. На парапете в праздной позе, свесив ноги, сидел человек; потом слез с парапета и подбежал к машине. Сын открыл ему дверцу машины, он сел, и машина двинулась дальше.
Я ни над чем не задумывался. На меня наваливался сон, подобно тому, как сплошной туман наплывает на пейзаж и не дает его разглядеть. Закрыв окно, я, не раздеваясь, бросился на постель и некоторое время лежал на спине с открытыми глазами. Дверь в комнату была приоткрыта; я подумал — не закрыться ли на ключ; но не сделал этого. Сомалийка, должно быть, в кухне; до меня доносилось ее тихое и монотонное пение — она пела какую-то колыбельную своей страны. Ее песня убаюкивала и казалась предназначенной, как и недавние ее взгляды, исключительно мне. И я заснул.
Спал я мучительно, будто против чего-то протестуя, может, против самого сна. Не просыпаясь, я слышал, как громко скрежещут стиснутые зубы, и чувствовал, как сердито сжимаются кулаки. Среди ночи до меня донесся оглушительный грохот зловещего грома, а в интервалах между его раскатами шум дождя. Во сне мне привиделся широкий участок набережной, весь вскипающий водяными пузырями, и в свете мощных сполохов молний я различил сидящего в праздной позе на парапете человека, который раз за разом внезапно слезал, направлялся к остановившейся под дождем машине, а в ней — и я это точно знал — сидел мой сын. Эту сцену я «пересматривал» с несколькими повторами: человек сидит, потом слезает и бежит в сторону машины, а затем, — так и есть, — опять сидит, слезает, бежит и так далее, снова и снова…
В конце концов, тоже во сне, от сильного грохота грома и шума дождя в моем воспаленном мозгу возник вопрос: «Где и когда я слышал такой гром и такой шум дождя?» Во сне же получил ответ: в детстве.
Сейчас мне ближе к шестидесяти годам, чем к пятидесяти; память возвращает меня назад, в середину века. Это было в отчем доме: услыхав грохот грома и шум дождя, я неожиданно проснулся, встал в темноте с постели и побежал прятаться в соседнюю комнату, в теплые надежные руки матери. Вот и сейчас, как от толчка, я вдруг инстинктивно поднялся, пересек комнату и вышел в коридор.
Дверь в комнату, в которой спала сомалийка, была приоткрыта; я заглянул в черную, как смоль, тьму, в которой призрачно и неистово вспыхивали молнии, и вошел. Лампу включать не стал — думал, что света молний мне будет достаточно, чтобы увидеть женщину, — как тогда, в ту ночь, пятьдесят лет назад, я видел мать. И сейчас было так же. Каждый раз, когда сверкала молния, я видел сомалийку: завернувшись в простыню, она безмятежно спала, обнаженная рука ее была согнута, ладонь под щекой. Так, под вспышки молний, следующих одна за другой, я долго наблюдал за ней. Вспомнил, как она, сервируя стол и убирая ужин, смотрела прямо в мои глаза, и спрашивал себя — что же такое она хотела мне сказать? А на самом деле, как было? Действительно ли она хотела что-то мне сказать, или я хотел, чтобы она мне что-то сказала? В конце концов я взял себя в руки, успокоился, потом отступил и, закрыв за собою дверь, вернулся к себе в комнату. Кстати, глядя на спящую женщину, я принял решение, и теперь мне ничего не оставалось как его выполнить.
В ожидании я пролежал на спине еще пару часов. Затем, при первых лучах солнца, встал, взял свой небольшой чемодан и на цыпочках вышел из комнаты. В коридоре, у двери сомалийки, я на миг остановился и, не знаю почему, прислушался. Оттуда не доносилось ни звука: она спала. Я открыл дверь квартиры, пересек площадку и вышел на набережную. Рассвело, небо стало светло-серого цвета; деревья пропитались дождем; асфальт исчез под глянцем луж. Пока я запирал за собой подъезд, уличные фонари внезапно и все разом погасли. Широким шагом я направился в сторону ближайшего моста.
Нейтронная бомба есть даже для муравьев
Каждое утро в семь часов в доме на море ему нравилось распахнуть окно, снова кинуться голышом на постель, взять в руки первое попавшееся — книгу, журнал или газету — и читать десять-пятнадцать минут, чтобы окончательно проснуться и войти в ритм будничной жизни. Может быть, для того, чтобы уравновесить чувство глубокого покоя, которым веяло из открытого окна, — почти пустое прохладное небо, и только кое-где виднеются розовые полоски восходящего солнца, — он предпочитал читать что-нибудь о драматических событиях, а лучше — о катастрофических. Он опустил руку, взял с пола брошенную вчера перед сном газету и развернул. Да, хотелось бы что-нибудь о душещипательном, а лучше — о душераздирающе страшном. А вот и статья в четыре колонки с названием, которое искал — «За» и «против» нейтронной бомбы. Великолепно! Что уж может быть страшнее конца света? Он взбил поудобнее подушку под головой, поднял к глазам газету и стал читать.
«По существу, — читая, думал он, — человечество в какой-то момент сбилось со своего пути. Когда? Может быть, в эпоху Возрождения? А теперь, теперь оно стремительно несется к самоуничтожению. Мир постепенно исчезает. И это началось давно: целые отряды животных ошиблись на своем пути и исчезли. Куда, например, девались динозавры? Да хотя бы для разрешения этой загадки, — размышлял он дальше, — стоит заняться нейтронной бомбой. Ну, и как с этим обстоят дела?»
А вот как. 1) Нейтронная бомба убивает людей, но не разрушает дома, произведения искусства, памятники и т. п. 2) Она выборочного и ограниченного действия, и люди погибают от нее не все, а только тот, кто должен. 3) В противоположность атомной бомбе, она не доводит мир до конца света, и, таким образом, ее можно отнести к так называемому «условному оружию». 4) Как условное оружие, вполне возможно, она будет применена в Европе, предназначенной сыграть роль плацдарма, на котором столкнутся СССР и США.
Если считать, что человечество стремится к собственной гибели, возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы избежать применения нейтронной бомбы? На этот раз он думал обо всем этом очень долго, придумывал разные выходы, почти сразу же один за другим их отвергая; каждый казался ему поверхностным и неполным. Наконец он нашел единственно возможный вариант: человечество больше никогда не должно стремиться к самоуничтожению.
А теперь пора вставать. Он сбросил ноги с постели, отправился в ванную и, приведя себя в порядок, через двадцать минут вышел в майке, шортах и сандалиях. Подошел к окну гостиной, чтобы кинуть взгляд на пляж. Песок все еще в три полосы разного цвета: белый, высохший; светло-коричневый; и темно-коричневый у самой кромки воды, мокрый после вчерашнего шторма. Солнце еще не выглянуло, но небо уже посветлело и стало голубым. Он еще раз внимательно посмотрел на тишайшее, почти неподвижное море — только в двух шагах от берега были заметны небольшие волны. Затем пошел в кухню готовить себе завтрак.
Может быть, из-за духоты, которая стоит в последние дни, муравьи сегодняшней ночью вышли, как говорится в приключенческих романах, на тропу войны. Непрерывно снующие, они превратились в сплошную, хотя и движущуюся, черную нить и уже дошли до банки с медом, кем-то неосторожно оставленной плохо закрытой на столе. Все стекло банки в муравьиных точках. Многим муравьям удалось пройти через малую щель между стеклом банки и металлом крышки, и теперь они тонут в меде. Ну что ж, банку придется выбросить; значит, сегодня утром он остался без меда.
Черная вереница муравьев спускается на пол по ножке стола, пересекает кухню, проходит под балконной дверью. Выйдя на балкон, он прослеживает, шаг за шагом, ход войска перепончатокрылых. Оно проходит по стене виллы, заворачивает за угол, пересекает тротуар и теряется на газоне, под цветами питоспорума.
Он рассердился на ворвавшихся к нему в дом и обложивших осадой мед муравьев и произнес:
— Сейчас я приведу вас в порядок.
Вбежав в кухню, он начал рыться в разных шкафах в поисках аэрозоля с препаратом против насекомых и не нашел. А тем временем, муравьи приходили и уходили, сновали вверх-вниз по ножке «его» стола, по середине пола «его» кухни, по стене «его» виллы и уже пересекли дорожку «его» сада. Он сердился все больше и больше. Не задумываясь, он вырвал страницу из газеты, скрутил, поджег и поднес горящую газету к ножке стола: муравьи сразу, сгорая один за другим, попадали на пол.
Открывается дверь, и в кухню входит жена, аккуратно причесанная, свежая, грациозная; она тоже в майке, шортах и сандалиях.
Жена спрашивает:
— Что ты делаешь?
— Не видишь разве?!
— Но ведь у нас есть аэрозоль от насекомых. И вообще, мне не нравится выражение твоего лица, когда ты жжешь этих бедных муравьев.
— А какое у меня выражение?
— Не знаю — жестокое. Подожди, я тебе принесу аэрозоль.
Она скрывается в гостиной и, вернувшись, протягивает ему красно-зеленый баллон.
— Вот, возьми.
Поворачивая в руках баллон, он читает рекомендации, написанные под черным контуром огромного муравья: «Опрыскайте обрабатываемую поверхность веществом, держа баллон на расстоянии примерно 5–10 см…» Снимает колпачок, наклоняет баллон к полу, где муравьев больше всего, и, нажимая пальцем на клапан, направляет на них струю. Эффект, как он и предполагал, мгновенный; даже если понятие «мгновение» относилось к нему, опрыскивающему, больше, чем к муравьям, которых он опрыскивал. Да ведь кто ж это знает: какое это время для муравьев — мгновение? Для него миг — это миг, а для муравьев?..
Мгновенный эффект или нет, в конечном счете, он — летальный. Как только облако аэрозоля попало на муравьев, они быстро рассыпались: опрокинувшись на спину, лежали неподвижно, в общем — мертвые. У него не было времени остановиться и понаблюдать за смертью муравьев, потому что вмешалась жена, которая сидела за столом с чашкой кофе:
— Убивать только вошедших в дом — недостаточно. Нужно выследить тех, что снаружи, а лучше — найти муравейник.
Он не ответил, а продолжал преследовать войско муравьев аэрозолем. Теперь он уже вышел из кухни и опрыскивал стену виллы. А вот и арьергард на тротуаре! У клумбы с питоспорумом он остановился и подумал: «Ну, что ж, я им преподал хороший урок. На сегодня хватит. Во всяком случае, в течение нескольких дней они не вернутся».
За этой мыслью возникла и следующая: а почему, собственно, после «урока» муравьи не вернутся? Потому что «осознали» происшедшее? Или ими движет слепой инстинкт выживания и из-за нехватки солдат в войске они ждут, когда вместо погибших от аэрозоля, муравейник наполнится другими муравьями? Конечно, ему кажется очень важным понять причину их исчезновения — осознали ли они происшедшее, или, как сказано выше, ими движет слепой инстинкт?
«Как можно, — подумал он еще, — получить ответ на эти простые вопросы, когда в действительности прямых контактов с муравьями нет? Убил он их, скажем, тысячу. Но эта бойня разворачивалась в глубокой тишине, во всяком случае, он ничего не слышал. Кто знает, может, муравьи плакали, кричали, выли? И еще: кто-нибудь когда-нибудь видел выражение „лица“ муравья в момент его смерти под действием аэрозоля? Муравей в глазах человека — только черная точечка, и все».
Он вернулся в кухню. У жены в руках газета, которую он принес из спальни. Она читает и пьет кофе, время от времени вытягивая губы, чтобы коснуться края чашки. Из-за газеты он слышит ее вопрос:
— Можно узнать, что это такое — нейтронная бомба?
Он сел, налил себе чаю, потом ответил:
— Бомба — это банальность… А почему, собственно, надо бояться банальностей? Мы — те же муравьи, и средством против нас будет нейтронная бомба.
— Но мы мыслим. А муравьи, что ни говори, думать не умеют. Почему бы не использовать нашу способность мыслить для того, чтобы найти способ избежать этой нейтронной бомбы?
Он подумал немного, а потом со вздохом ответил:
— А мы стараемся не мыслить, потому что, в глубине души, хотим умереть.
— Но я не хочу умирать. А чего хотят муравьи? Только не говори мне, что они тоже хотят умереть.
— Напротив, муравьи хотят мед, то есть они хотят жить.
— Ну и что нам теперь делать? По-твоему люди хотят умереть, а муравьи, наоборот, хотят жить: но и те и другие в конце концов будут истреблены средством против насекомых — так, да?!
Он снова вздохнул и сказал:
— Разве ты не читала Книгу Экклезиаста? Уже несколько тысяч лет назад там было сказано: «…и нет ничего нового под солнцем»[15]. Никто не мог сказать: «Смотри, эта вещь — новая». Эту мысль Экклезиаста ценили, скажем, до 1945 года, то есть до атомной бомбы. А теперь она потеряла всякий смысл: на Земле появилось много нового, и нам, во всяком случае сейчас, не удастся разобраться в этом. А последнее новшество — это как раз нейтронная бомба. Кстати, если говорить о нейтронной бомбе, не можешь же ты сказать, что ничего нет нового под солнцем? Нет, не можешь. Поэтому о вещах, о которых нечего сказать, лучше помолчать.
Прогулка невольного соглядатая
Клик, клик! Ключ в замке проворачивается с трудом, будто с каждым поворотом хочет выразить собственное недовольство и отвращение. И тому есть причина: на звук ключа, оттуда, из-за двери, раздается недвусмысленный крик жены, будто во избежание недомолвок она предупреждает его: заниматься любовью с ним она больше не хочет — ни сегодня, ни завтра, никогда. Жена и раньше, в течение всего первого года их супружества, много раз кричала ему то же самое. И сам крик наполнял его безнадежной тоской много больше, чем откровенно высказанный отказ. Значит, так будет всегда? Значит, между ними преграда, образовавшая клетку, в которой они будут заперты, кто знает, на какой срок? С этими мыслями он сошел с террасы виллы, преодолел дюны, сбежал на пляж и зашагал вдоль моря.
Идет и ни о чем не думает. Глядит вокруг: сначала — на оставленную волнами на мокром песке черную и изящную каемку; потом — на расцвеченное плывущими облаками небо; затем — на хмурое и неподвижное море. На его поверхности плавают грязные бумажки и другие отбросы, и ни на берегу, ни на дне осесть не могут. Внезапно он принимает четкое решение, никак не связанное с предыдущими наблюдениями: в этой вынужденной прогулке можно забрести довольно далеко и, следовательно, не вернуться домой к обеду. Кто знает, а вдруг его отсутствие поможет жене стать поласковее ближайшей ночью.
И с этой малоприятной и, в общем, жалкой идеей — не возвращаться домой к обеду — он продолжает вышагивать, теперь уже начиная торопиться, будто у него появилась цель пути — определенное место, до которого надо дойти в конце маршрута. Сентябрь: все виллы заперты и безлюдны; домики на частных пляжах закрыты и пустуют; на общем — почти никого, редкие пары греются на солнышке. Вон, за оборудованными частными пляжами тянется пустынная прибрежная полоса, без вилл и домиков: только кустарники, песок да море. Одиночество начинает его угнетать, и он решает дойти до выступающей на самый пляж рощи пиний. Что же, это и есть его цель, ради которой он прошагал столько километров? Неизвестно почему, но неожиданно для себя самого он произносит: «Может быть… сейчас увидим».
А вот и роща пиний. Первое разочарование: роща окружена оградой из колючей проволоки, протянувшейся до самой воды. Приблизившись к ограде, он взялся за нее обеими руками и прижался лицом. В роще никого, порыжевшие от солнечных пятен стволы пиний стоят внаклонку — то пересекаются, то расходятся. Сквозь деревья, посреди рощи виднеется большая старая вилла с выцветшим красным «помпейским» фасадом; все окна закрыты. В глубокой тишине, откуда-то снизу, едва доносится пение морского ветра, напоминающее легкий и щемящий звук далекой арфы. Сразу — может быть, из-за того, что он прижался лицом к колючей проволоке — ему вспомнились фотографии узников концентрационных лагерей: они точно так же стояли у ограды и держались обеими руками за проволоку. Ему подумалось с грустью: в данном случае пленник, похоже, он, хотя и живет вроде бы на свободе.
И зачарованный своими мыслями, он вдруг обнаруживает, что роща пиний «живая». Именно в эту минуту он видит стоящую по ту сторону заграждения машину, цвета электрик, а затем, в небольшой впадине, замечает сваленные в кучу предметы мужской и женской одежды, присыпанные иглами пиний. Повернувшись, он смотрит в сторону моря и примечает пару — мужчину и женщину, совершенно обнаженных и мокрых с головы до ног. Они только что искупались, вышли на берег и поднимаются по небольшому склону к месту, где оставили одежду.
И тут же он понимает, что не столько видит их, сколько смотрит на них, не заметив, как перешел от одного к другому, то есть уже шпионит за ними. С первым порывом преодолеть искушение подглядывать и удалиться не справляется. Остается, и вот почему. С одной стороны, его не покидает ощущение, что подсматривает он за чем-то, в основе своей каким-то таинственным образом касающимся его лично. С другой, он ведь их специально не искал: это случай привел его к ограде, и он взялся за решетку в ту минуту, когда они выходили из моря.
Ах, это все пустые рассуждения. Иначе почему, после первого же взгляда на обоих, он внимательно начинает рассматривать прежде всего мужчину? И решает для себя, что делает так потому, что хочет предоставить самому себе возможность проявить объективность, то есть, и это более всего вероятно, для более длительного и детального изучения пары в комплексе, он должен оставить женщину «на потом», как приберегают лакомые кусочки на десерт. И занятый этими мыслями, он с неустанным вниманием продолжает наблюдать за ними. Мужчина — молодой человек небольшого роста, крепкого сложения, с массивными руками и ногами. Голова плешивая, на вытянутом лице алчное выражение. Так, теперь очередь за женщиной. Она — большая, апатичная, сложена, как статуя, и трудноопределимо, но несомненно красива. И рассматривая ее подробно, он замечает несколько гармоничных соответствий: одна и та же округлость плеч и бедер, черный цвет волос на голове и на лоне, один изгиб линии шеи и талии…
Вдруг он осознает, что смотрит, или лучше сказать — подглядывает, уже с чувством нетерпения и даже бешенства. Да, он не столько наблюдает за их действиями, сколько хочет, чтобы они начали действовать. Его желание похоже на стремление болельщика подтолкнуть, голосом и жестами, любимого игрока на то или другое действие. И, удивляясь самому себе, он шепчет сквозь зубы:
— Что ты делаешь? Почему не подходишь к ней? А ты почему смотришь на рощу, а не на него?
Да, он хотел бы, чтобы эта пара перешла уже, наконец, к большей интимности. Собственно, к той самой близости — ни о чем другом он и думать не мог, — в которой утром, хлопнув дверью прямо перед его носом, отказала ему жена.
Но те двое ему не подчинялись, а тянули время, будто имели в виду что-то совсем иное. Пока женщина наклоняется, берет полотенце и начинает медленно обтираться, а мужчина пытается закурить сигарету, ему приходит на ум, что он участвует в хорошо отрепетированном спектакле, который может и вовсе не развиться в эротическую интимность, как ему диктует собственное желание. И ведь на самом деле, он, как театральный или телевизионный зритель следит за жизнью, о которой ничего не знает и должен терпеливо и с уважением относиться к любым ее нюансам и поворотам. Глубоко проникнув в него, эта мысль основательно меняет степень его любопытства.
Нет-нет, он не из тех, кто выслеживает жертву, как охотник в засаде; скорее, он — критик, внимательно следящий за игрой актеров и желающий, чтобы они играли хорошо. Но что же в данном случае означает «играть хорошо»? Вот в чем дело, — думает он, — действие-то может будет развиваться не по его сценарию, грубо прерванному утром женой, а по их. А написано ли в их сценарии, что они должны заняться сексом после купания? Да?! О, тогда замечательно — пусть они это сделают. А если написано, что они приехали на пикник и вот-вот откроют небольшую корзину с едой, которая стоит у пинии, чтобы пообедать, а потом поспать, — тогда, вроде бы, они абсолютно не должны сближаться, как того хочет он, — или… не хочет?
Тихая и мирная сцена внезапно варварски прерывается, и начинаются, в соответствии с его недавним желанием, действия. Женщина, бросив полотенце, наклоняется, чтобы взять с земли рубашку. В эту секунду мужчина хлопает ее по заду и грубо хватает за бока. Возмущенный, испытывая отвращение как зритель, который видит плохую игру актеров, соглядатай на мгновение надеется, что женщина обидится, отвергнет эту грубую и непристойную осаду и поставит на место своего приятеля. Ничего подобного. Женщина высвобождается и бежит, но делает это непристойно: разбрасывает руки и ноги, неестественно смеется и лицемерно вскрикивает от страха, что, к сожалению, не оставляет сомнений в ее тайном согласии. Поэтому все происходит банально и некрасиво: эти двое, преследуя друг друга, бегут к неясно различимому там, внизу, между стволами пиний, морю. Женщина стремительно бросается в воду, мужчина ее настигает, и они вместе падают в пенные брызги. Последнее, о чем он, уходя, иронически размышляет: «Любовь в море обнявшейся пары больше всего похожа на агонию огромной рыбы, бьющейся в сетях от резкой боли, которую причиняет ей впившийся гарпун».
Возвращаясь домой, он, как и на пути сюда, опять ни о чем не думает. Просто шагает, смотрит сначала на пляж, потом на небо, на дюны, а затем на море. Но тогда, у виллы, в его успокоенной душе внезапно возникло решение: чтобы избавиться от тревожного и унизительного ощущения — вот ведь подглядывал, — ему нужно вернуться к роще вдвоем с женой и проделать с нею то, чем занималась та пара.
Сказано — сделано. У жены, как он и предполагал, настроение изменилось, она снова стала ласковой и охотно приняла его приглашение на следующий день прогуляться к той великолепной, загадочной роще пиний, которую он открыл. Вокруг все было, как накануне: то же самое небо, то же море, те же пустынные пляжи и те же закрытые виллы. Все повторилось, кроме одной важной детали: как он ни старался, ту рощу найти не мог. Она же была, там, за длинной полосой безлюдного побережья, недалеко от мыса! И, несмотря на то, что он несколько раз проходил вдоль пляжа, взад и вперед, взад и вперед — ни роща, ни вилла, ни ограда не материализовывались. Они остались только в его памяти. В их существовании он уже сам усомнился. В конце концов он остановился около смеющейся над его сумасбродством жены и предположил, как ему показалось, наиболее вероятное:
— Неужели ты хочешь сказать, что мне все это приснилось?!
Странно, но она тут же согласилась:
— Да, ты увидел во сне красивое место и сразу захотел показать его мне. Это же замечательно!
«Ах, все это не так», — подумал он с горечью. Ему просто не хватает смелости сказать ей, что во сне он видел не себя самого и ее, а двух чужаков, за которыми подсматривал с завистью, возбуждением и, в общем, с неодобрением. Истинную любовь не выразишь, подсматривая за кем-то, а только сказав или хотя бы имея возможность сказать любимой: «Знаешь, есть прекрасное место, куда мы завтра отправимся вместе».
Руки вокруг шеи
Жена сказала:
— Обними мою шею обеими руками. Тебе не странно? У тебя, у такого большого мужчины, да еще и атлетического сложения, такие маленькие ладони? Сожми так, чтобы пальцы сомкнулись. Не бойся сделать мне больно, хочу проверить — удастся ли тебе.
Тимотео вышел из гостиной, дошел до террасы, обращенной в сторону моря, оперся о балюстраду. Соломенный навес над террасой поддерживали два недавно обтесанных сосновых столба, на которых кое-где остались кусочки коры. Диаметры шеи жены и каждого из столбов почти совпадают. Он машинально обхватил один столб руками, попробовал соединить пальцы — не удалось. Тогда он положил руки на балюстраду и стал смотреть на море.
Темное и недружелюбное грозовое облако, как приподнятый занавес, нависло над частью моря. И море, в этом месте ставшее почти черным, с зеленым и фиолетовым оттенками, пестрело небольшими белыми гребешками. Пенные гребешки, ускоряемые ветром, быстро передвигаясь по воде, то появлялись, то исчезали. Тимотео подумал — совсем скоро будет гроза, и, до того как начнется дождь, надо отделаться от тела. Но как?
Отплыть подальше на надувной резиновой лодке и бросить связанное по рукам и ногам тело в море? Нет, надвигающийся шторм этого не позволит. Значит, остается только копать яму. Надо бы поторопиться — рыть под дождем не просто, да и неприятно: яму зальет, песок с краев начнет осыпаться, а дождь будет хлестать по лицу.
Постоял еще немножко — посмотрел на море: оно все больше и больше мрачнело. Надеясь на удачу — вдруг повезет, и пальцы соединятся, — снова обхватил столб обеими руками. Но пальцы никак не сходились, не хватало, по меньшей мере, какого-то сантиметра, чтобы они коснулись друг друга. Тимотео вернулся в дом и через гостиную прошел на кухню.
Жена поднялась с постели и уже стояла у плиты. Высокая и нескладная; ее шея, напоминающая по форме расширяющийся книзу конус, хорошо различима под массой болезненно-блестящих, плотных и густых волос. Тимотео еще раз взглянул на ее шею: большая, сильная, нервная, на горле припухлость, похожая на зоб. Шея так выразительна, что кажется ему красивой. А чем, собственно, эта шея так уж выразительна? Ах да, слепой, бессознательной, упрямой, высокомерной охотой жить, — вот чем.
Жена, все еще сонная и плохо соображающая, пришла на кухню прямо из спальни. Мятая кисейная ночная рубашка зажата между пышными ягодицами. Тимотео показал большим пальцем на это место, затем легким и почтительным движением, постаравшись не коснуться самого тела, высвободил рубашку.
Управившись с рубашкой, Тимотео сказал:
— Он тогда просил тебя заниматься с ним сексом на этом столе, и ты угождала ему. Покажи-ка мне — как вы это делали.
— Это было давным-давно, до того как мы с тобой познакомились. А теперь ты почему-то вспомнил об этом, — запротестовала жена.
— Давай-давай, покажи, — настаивал Тимотео.
Он увидел, как она пожала плечами, будто хотела сказать: «Надо же, как тебя это задело!»
Жена отошла от плиты, повернулась к столу, склонилась у его края, так, что по мраморной доске расползся живот, расплющились грудь и левая щека. Затем отвела руки назад и подняла рубашку, открывая белые и продолговатые ягодицы овальной формы. Между ягодицами появилась темная щель, покрытая бурыми волосами. Обнажились длинные, гладкие и худые, как у юноши, ноги. Лежа половиной тела на столе, она оперлась о него двумя руками и закрыла глаза — будто ждала.
Тимотео сказал:
— Ты похожа на лягушку. И тогда вот так — ты полулежала на столе, он пристраивался к тебе и сжимал твою шею руками? Так вы занимались сексом?
— Да, он хотел, чтобы я была в таком положении, он был на этом зациклен, как и ты теперь, — ответила утомленно жена. Потом она добавила: — Ну, раз ты не хочешь заниматься со мною сексом, а этот мрамор мне врезается в живот, я бы встала.
— Вставай, — раздражился Тимотео.
Она подчинилась: оправила рубашку и привела в порядок растрепавшиеся волосы. Тимотео снова взглянул на нее — она стояла у плиты и следила за кофеваркой. Еще раз убедился: да, шея у нее имеет форму конуса, а спереди — легкую припухлость. Шея красивой молодой женщины, которую любой мужчина мог бы сжать обеими руками. Но не он, потому что ладони у него маленькие и пальцы короткие.
— Кофе готов. Будем есть сухари, или ты хочешь, чтобы я тебе поджарила хлеб? — спросила жена.
— Сухари. Хотел бы я знать, куда запропастилась лопата с длинной зеленой ручкой? — озабоченно спросил Тимотео.
Жена сказала, что лопата, вместе со щетками, в кладовке. Тимотео взял лопату и вышел в сад.
Напротив кухни находится небольшая зацементированная площадка, на которую обычно ставят освобожденные из-под бутылок ящики и пустые коробки. За площадкой Тимотео сделал большую клумбу, на которой хотел посадить питоспорум. Чуть дальше — крутой обрыв дюны. Из-за засухи песчаный перегной на клумбе посерел и стал рыхлым, превратившись в пыль.
Тело было там, куда он его ночью принес: оно лежало на спине, руки и ноги разбросаны, голова откинута назад. Из-за того что лопата никак не хотела найтись, ночью он собирал перегной руками и горстями насыпал на тело, будто стремился не столько прикрыть его землей, сколько одеть.
И на самом деле, тело едва прикрыто, к тому же очень неравномерно: лица не видно; шея выступает той опухолевидной частью, на которой его пальцам не удавалось соединиться; груди прикрыты землей, будто странным лифчиком; лоно засыпано, и выпуклый живот наружу. Тимотео лопатой обозначил контуры ямы. Теперь нужно раскопать внутри этого контура до глубины, по меньшей мере, в полметра. И Тимотео принялся копать, не переводя дыхания.
Жена повернулась к дверям кухни и сказала:
— Иногда ты мне кажешься сумасшедшим. Сегодня ночью, например, ты был очень строг и допрашивал меня: как мы с Джироламо занимались сексом в кухне на столе; в какое положение становилась я и как ему подчинялась, как пристраивался около меня он и как сжимал мою шею. Потом, точно сумасшедший, ты взял пистолет и начал стрелять вниз, в ту бедную бродячую собаку, которая рылась в мусоре. Ну хорошо, мы на вилле, вдали от мира; но подумай — а если бы ты убил человека! А теперь перестань копать, похоронишь ее позднее, иди сюда и выпей кофе.
— Хочу доделать яму до прихода грозы, — ответил Тимотео.
В кухне было темно, жена сидела, задумчиво уставившись в стол. Тимотео разъярился:
— Можно узнать, — о чем ты думаешь?
— Думаю о том, что мы делали перед тем как услышали лай собаки, после чего ты, точно сумасшедший, вскочил с постели и взял пистолет.
— А что мы делали?
— Я тебя попросила, чтобы ты сжал мне шею, как это делал Джироламо. Меня поразили твои ладони — такие они маленькие. Он умел обхватить руками мою шею; и мне захотелось увидеть, сможешь ли ты тоже так сделать. Но это было только шуткой. А ты…
— А я?..
— У тебя лицо тогда стало страшным… А теперь сделай милость: встань и обведи свои руки вокруг моей шеи. Но так, чтобы я могла смотреть тебе в глаза. Хочу увидеть, не будет ли у тебя того же взгляда, каким он был сегодня ночью.
— Ах, эта твоя идея фикс — чтобы тебе сжимали шею, — сказал Тимотео.
Он подчинился — встал, подошел к жене и обхватил обеими руками ее шею. Откинув голову, она смотрела ему в глаза:
— Нет, не смотри на меня так страшно… — и, остановив Тимотео, она сняла его руки со своей шеи, пылко поцеловала и добавила: — …и так хорошо!
Тимотео взялся за левую руку и левую ногу и подтащил тело к себе. Оно было очень тяжелым, но сдвинулось. Для перегноя, которым тело было прикрыто, это движение было как землетрясение: слои начали сползать, пошли небольшие обвалы, и все части тела, засыпанные и полускрытые, оказались на поверхности. Тимотео еще раз подтащил его, оно соскользнуло в яму и легло на бок. Казалось, жена спит: голова опущена на плечо, лицо наполовину закрыто волосами; руки и ноги вытянуты.
Тимотео снова взял лопату и начал забрасывать яму землей: сначала на ноги, потом выше, выше, а под конец — на голову. Ему хотелось подольше оставить открытой шею, одна сторона которой, от уха до груди, все еще была видна, — ту самую часть ее тела, из-за которой он больше всего нервничал, до дрожи, до озверения.
Жена сказала:
— Да, не стой ты так с вытаращенными глазами. О чем ты думаешь? О собаке? Бедняжка, нельзя было выносить мусорное ведро на всю ночь. Известно же, что на этом пляже полно бродячих собак: многие после отпуска, уезжая в Рим, бросают их. Лучше пей кофе и пойдем на море, прогуляемся, пока не началась настоящая гроза. Так приятно ходить по песчаному берегу под дождем!
Теперь земля уже заполнила всю яму. Образовавшийся холмик был темным и выступал над ровной площадкой. Тимотео немного поколебался, потом поднялся на пригорок и, заравнивая его, хорошо утоптал. Затем набрал полную лопату перегноя и тщательно рассыпал его по поверхности холма — ликвидировать цветовой контраст.
Жена сказала:
— Пойдем.
— А ты не переоденешься? — спросил Тимотео. — Ты же в ночной рубашке.
— И что с того? Ночная рубашка — такая же одежда, как другие, — обернулась она.
Тимотео промолчал и, выйдя вслед за ней из дому, направился к дорожке, уступами ведущей через кустарник к дюнам и морю.
Теперь утоптанная и припорошенная пылью яма, должно быть, не заметна. Дурная бродячая собака желто-коричневого цвета кубарем скатилась с дюны и помчалась прямо к яме. Обнюхала ее, а потом — Тимотео вздохнул с облегчением — отошла и подняла ногу в другом месте. Теперь он успокоился: яма не только не видна, но и не «чувствуется».
Жена шла вдоль моря по все еще сухому серому песку впереди него. Начался дождь, и капли его, все учащаясь, застучали по берегу. Загремел гром, да так гулко, будто железным шаром ударили по стеклу. Она промокла. Под порывами холодного и сильного ветра ночная рубашка прилипла к телу, и бледная кожа просвечивала. Жена склонила голову к плечу, и ее шея, от ключицы до самого уха, стала видна.
Она сказала:
— Обними мою шею обеими руками. Тебе не странно? У тебя, у такого большого мужчины, да еще и атлетического сложения, такие маленькие ладони? Сожми так, чтобы пальцы сомкнулись. Не бойся сделать мне больно, хочу проверить — удастся ли тебе.
Женщина в доме таможенника
Человек я нормального душевного состояния, да и с профессиональными качествами у меня все в порядке. Служу таможенником в аэропорту. Работаю я быстро и хорошо, как люди, любящие порядок. Однако, как всем людям порядка, мне нравится иногда забывать о нем и воображать, например, что я пропускаю контрабандиста с товаром. В субботу и воскресенье я предаюсь игре воображения. Снимаю форму, ложусь и думаю о чем-нибудь таком, что недавно произвело на меня особо сильное впечатление. Сегодня в полной тишине пустынного дома, как только я лег, мне сразу же удалось вспомнить то, что недавно поразило мое воображение.
Это был багаж путешественницы зрелого возраста. Похоже, в молодости она была хороша собой. Я задал обычный в таких случаях вопрос: есть ли у нее что-нибудь для декларации. Она вздрогнула, будто я, обвиняя ее, уже положил ей руку на плечо. И заторопилась, зачастила, — мол, декларировать ей совершенно нечего, ничего у нее нет, только кое-что из гардероба. Такого смущения от нее я не ожидал, уж слишком она растерялась, чтобы казаться чистосердечной. Я внимательно посмотрел на нее: увядающая дама. И усилия спрятать возраст очевидны: черты лица — тонкие, само оно — пусть и не слишком значительное, искусно разукрашено; на веки и под глазами наложены тени; губы подкрашены; щеки припудрены, на голове — укладка. Ее лицо более всего выражало — как бы это сказать? — печаль, легкомыслие и лесть одновременно.
На ней было надето огромное количество вещей, в которых я не слишком разобрался. Но во всей путанице ее одежды я все-таки заметил: платок на шее, бархатную куртку, шерстяную кофту, блузку, лифчик; все разноцветное и самых разных размеров. Может быть, из-за того, что она была так сложно одета, а может, и из-за ее растерянности, я подумал: не имеет ли она отношение к так называемым искательницам приключений, к этакому мирку книжных персонажей в реальной жизни: наркотики, шпионаж, а ведь это может значить только одно — что захочет, то и скажет. Показывая на ее элегантный чемодан в гармошку, я резко приказал:
— Откройте.
— Но я же сказала, что мне нечего вносить в декларацию, — тут же возразила она.
— Пожалуйста, откройте.
Она вздохнула, взяла связку ключей и отперла чемодан. Я садистски отщелкнул замок, раскрыл чемодан и засунул руки внутрь. В чемодане был полный хаос из мягких, легких и ускользающих лоскутов — бархатных, шелковых и не знаю, из каких еще тканей. Беспорядок, типичный для женщин, — так я подумал; известно, что ни один мужчина не сваливает свои вещи в чемодан кучей, вперемешку.
Копаюсь обеими руками во всех этих мягких, странно пахнущих тряпках, и, тем временем, размышляю о женщинах, которым, больше чем мужчинам, нравится одеваться, так сказать, разряжаться в пух и прах. И действительно, платья, которые они надевают, — будто приложение к их телам. Эти платья соблазнительно и таинственно облегают их плоть, пряча то, что есть на самом деле, и притворно выпячивая то, чего нет. Да что говорить, — не переставая обыскивать, — продолжал думать я, — в отличие от мужчин, одежды женщин на их телах постоянно в движении: порхают, раздуваются, опадают, развеваются и так далее. Или слитком прилегают — тогда женское тело становится пленником множества эластичных тканей, подвязок, бюстгальтеров, поясов для чулок и других подобных вещей. Одно из двух: на женщинах — или раздувающаяся и заманчивая завеса, или узкое, тесно облегающее, наглухо закрытое платье.
Размышляя обо всем этом, я закончил обыск. Безрезультатно. Закрыл чемодан на замок и привычным жестом руки показал — можно пропустить. Женщина, сияя широкой, на мой взгляд, слишком угодливой улыбкой, поблагодарила меня; затем ее чемодан, вместе с другими, исчез в тележке для багажа.
Теперь, думая об этом небольшом происшествии, я снова стал размышлять о том, как различно одеваются женщины и мужчины. Откуда эта разница? Что заставляет женщин тяготеть к столь броским нарядам? Почему их одежды сшиты так, что облегают их формы? И почему одежды мужчин имеют прямые линии? Почему женщины отдают предпочтение легким, прозрачным, мягким, нежным и развевающимся тканям? Застряв на этих вопросах и в конце концов запутавшись, я заснул.
Спал я всего каких-то полчаса. Леденящий душу звонок в дверь — я сам когда-то захотел усилить его звук, поскольку живу один, — заставил меня вскочить с постели. Минуту прислушиваюсь и сам себя спрашиваю: кому я мог понадобиться в такой час, вечером в воскресенье? Натягиваю рубашку и пижамную куртку, босиком иду к двери и смотрю в глазок.
Ого, женщина! Сорокалетняя женщина с тонким помятым лицом, которое, уж и не знаю почему, вызывает у меня ощущение дежа-вю — когда-то я ее видел. И расстегнутая бархатная куртка, блузка из-под нее, платок на шее и многочисленные украшения — все это тоже напоминает мне о том же. Да-да, несколько дней назад в аэропорту, когда прибыл самолет из Мадрида. Опускаю глаза и замечаю элегантный чемодан, который я так долго, тщательно и тщетно обыскивал, — вот и еще одно подтверждение воспоминания.
Набрасываю цепочку, приоткрываю дверь и в щель спрашиваю:
— Вам кого?
— Чудак, именно тебя, — отвечает женщина с обескураживающей меня фамильярностью.
— Извините, но я с вами не знаком, да и вижу впервые…
— Да ладно тебе, перестань болтать, открой дверь и дай мне войти.
С большой осторожностью снимаю цепочку и открываю дверь. Она появляется на пороге, и тут же меня окутывает витающий вокруг нее запах, пряный, тяжелый, всепроникающий. Входит она порывисто, подчиняясь движению будто живой, широкой плиссированной юбки, и говорит звонким голосом:
— А вот и ты, Атос Канестрини, ты — собственной персоной.
— Но повторяю: я с вами не знаком.
— Действительно, ты со мною не знаком, вернее, не хочешь быть знакомым со мной. Но это не значит, что я не должна была тебя искать.
— Что вы хотите этим сказать?
— Скажу немного позднее. А теперь покажи мне дорогу в спальню.
— Не лучше ли пройти в гостиную?
— А вот и нет! Нет! Нам нужно в спальню.
— Но почему?
— Сейчас увидишь.
Иду впереди нее в спальню, в большую комнату с двумя окнами, в которой стоит обычная для таких помещений мебель: широченная кровать, шкаф, комод и стулья.
Войдя, она сразу отмечает:
— Какая холодная комната, суровая и более того… лицемерная.
— Лицемерная? Но почему?
— Потому что в действительности тебе бы пришлась по вкусу совсем другая комната.
— То есть?
— Комната — как бы это сказать — женская. Сейчас я тебе ее организую. Смотри-ка.
Она ставит чемодан на стул и, извлекая из него многочисленные принадлежности своего туалета, выкладывает их на мраморную доску комода. Щетки, щеточки, расчески, флаконы, склянки, бутылочки, коробки, коробочки, баночки, футляры и разное другое — каждую вещь расставляет по порядку около зеркала. Чемодан неистощим: кажется, чем больше она оттуда вытаскивает, тем больше предметов в нем остается.
— Вот и сделано. Теперь у комода не такой печальный вид, — заключает она.
Наблюдаю за ней молча. Из чемодана извлекаются длинная вышитая блузка, нижняя шелковая юбка и другие предметы туалета, в том числе и интимные, которые пойдут на вешалки. На стулья она бросает что ни попадя: чулки, комбинации, блузки, юбки и еще какие-то другие — не знаю названий — предметы одежды. Вот из этого волшебного сундучка появляется черная пижама, пара зеленых тапочек, красный халат. Повернувшись ко мне, довольная произведенным эффектом, она произносит:
— Что скажешь, так ведь лучше?
Смотрю на нее потрясенный. Неожиданно она добавляет:
— Иди-ка сюда.
Подхожу ближе. Стоим вдвоем, бок о бок, перед зеркалом.
Она говорит:
— Смотри-ка, смотри внимательно — не кажется ли тебе, что мы похожи?
Смотрю и понимаю, насколько она права. Вижу: у нас с ней одни и те же черты лица, те же глаза, тот же нос, тот же рот. Наше сходство было бы еще большим, если бы ее лицо не имело такого легкомысленного и жалостливого выражения, что, к счастью, моему лицу не свойственно.
Затем она спокойно произносит:
— Теперь ты понимаешь? Я — ты, а ты — это я. Значит, я — женская версия, а ты — мужская — одного и того же человека, то есть Атоса Канестрини. Теперь я разденусь, лягу в постель и немного отдохну. А ты, что ты собираешься делать?
— Да я у себя дома и буду делать то, что делал каждый вечер до сегодняшнего: отдохну, почитаю, поразмышляю, может быть, пофантазирую, — в полном ошеломлении лепечу я в ответ.
— Пофантазируешь, о чем? Как я занимаю твое место? Необязательно: уже заняла. Отныне и навсегда — в аэропорту будет мужская версия Атоса Канестрини, дома — женская. А теперь, пока. Тебе пора в аэропорт, увидимся вечером.
— А что ты будешь делать в моем доме?
— Это мое дело. Почему я должна тебе об этом докладывать? Во всяком случае, здесь мне уютно, легко и весело.
Тем временем она раздевается, совершенно не стыдясь показывать мне свое тело, которое, в отличие от ее лица, скрытого под гримом, носит явные следы возраста. Понимая, что мне нечего тут больше делать, я выхожу. Из спальни мне вслед доносится:
— Закрой хорошенько дверь.
Вот я и у выхода. Теперь, как только открою дверь и захлопну ее, сразу столкнусь с моим соседом, смуглым богатырем атлетического сложения, со спутанными волосами и большим чувственным лицом, который, с присущим ему нездешним выговором, обратится ко мне:
— Синьора Канестрини?
— Нет тут никакой синьоры…
…И тут я просыпаюсь.
Ага, значит, все это было во сне: похоже, синьора с чемоданом из аэропорта действительно произвела на меня сильное впечатление! Я осмотрел свою холодную и грустную холостяцкую спальню и сам себе сказал, что в приснившемся, скорее всего, было что-то из настоящего, то есть из моего подсознательного стремления сделать дом более живым. И я начал думать, как украсить его, хотя подобного рода мысли раньше мне в голову не приходили. Цветы, картины, безделушки, ковры, подушки, гобелены и прочее…
С этими приятными мыслями я опять заснул.
Примечания
1
Маремма — район Тосканы. (Здесь и далее — примеч. переводчика).
(обратно)2
Ш. Бодлер. Проклятые женщины. Ипполита и Дельфина. Пер. В. Микушевича.
(обратно)3
Гроссето — тосканский город на юге области.
(обратно)4
«Казентино» — от Казентино — район в области Тоскана и название тамошнего сукна.
(обратно)5
«Неведомый Бог» — Новый Завет. Деяния святых Апостолов. 17:23. «К неведомому Богу» — автор повторяет название стихотворения Фридриха Ницше.
(обратно)6
Мона — на венецианском диалекте, женский половой орган; andare, mandare in mona — с um.: пойти, послать к дьяволу.
(обратно)7
Яникул — один из семи холмов, на которых располагается Рим.
(обратно)8
Феррагосто — национальный праздник; отмечается 15 августа.
(обратно)9
Лунготевере — буквально с ит. «набережная Тибра».
(обратно)10
Монтичелли — здесь: россыпи силикатного известняка.
(обратно)11
Каштанка (Castagna — каштан (ит.).
(обратно)12
Травертин (известковый туф) — декоративный и строительный камень.
(обратно)13
«Человеку свойственно ошибаться, настаивать на ошибке — дело дьявола» (лат.).
(обратно)14
Вапоретто — название прогулочных катеров в Венеции.
(обратно)15
Книга Экклезиаста, или Проповедника; 1:9.
(обратно)
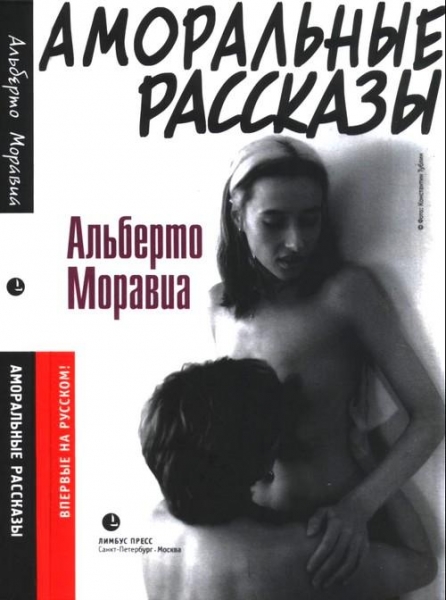


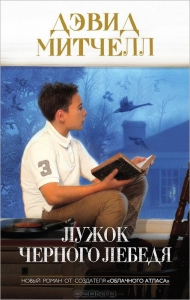



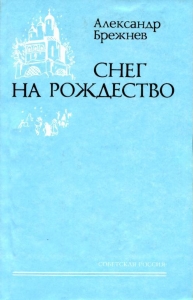


Комментарии к книге «Аморальные рассказы», Альберто Моравиа
Всего 0 комментариев