Тимоти Финдли Если копнуть поглубже
Посвящается Мэтью Мэкки, чья лопата положила начало всему этому, и жителям Стратфорда, с которыми я делю повседневную жизнь.
Пролог
Но как, скажите, жить без сердцу милого пейзажа, Без домика уютного в деревне В тени деревьев рядом с древним храмом, Без городского мрачного жилища, Особняка с колоннами при входе, Квартирки в городе — короче, любого места, Что зовется домом, где, словно в центре мирозданья, Случается все главное, чему от века суждено случиться?[1] У. Х. Оден[2] «Детективная история»Стратфорд, Онтарио Четверг, 25 июня 1998 г.
Водоворот людей. Огни. Музыка. Вполне достаточно, чтобы голова пошла кругом. Но это только начало. Потом надо протиснуться в двери, протянуть билеты человеку, которого в давке почти не различаешь, и еще найти свое место.
Вечер открытия! Ничто в мире с ним не сравнится. Публика лучится ожиданием, актеры замирают от страха. Как говорится, собрался весь свет: все звезды, все богачи, весь фестивальный комитет и администрация — художественный руководитель, его помощник, дизайнер, композитор, художники по свету и костюмам, масса заезжих актеров, писателей, режиссеров… И критики — эти, как всегда, безуспешно стараются сохранить анонимность. Вам кого — меня?
Особую помпезность вечеру придавало присутствие генерал-губернатора, а также многочисленные слухи о прибытии Мерил Стрип, Энтони Хопкинса, Ванессы Редгрейв, Эммы Томпсон и Джуда Лоу — подобные слухи редко оправдывались, но иногда частично соответствовали действительности. Критики отыскивали свои места у проходов и, все еще изображая, будто отсутствуют, стояли каждый сам по себе и ждали появления знаменитостей.
Вечер в Стратфордском фестивальном театре, как обычно, начался с фанфар, аплодисментов и подъема флага. Поскольку присутствовала генерал-губернатор, исполнялся национальный гимн. Люди встали, многие запели, раздались дружные овации — генерал-губернатор была личностью чрезвычайно популярной.
В это время Джейн Кинкейд и ее семилетний сын Уилл пробирались к своим привилегированным местам в партере — в пяти рядах от сцены и в двух креслах от прохода. Они сели, встали, потом снова садились, вставали и садились, пока другие протискивались мимо них: смеющиеся, возбужденные, улыбающиеся, потерянные и извиняющиеся, то неуклюжие и неловкие, то грациозные. С другой стороны от Джейн сидел режиссер спектакля Джонатан Кроуфорд.
Они почти не разговаривали — только вежливо кивнули друг другу. Джейн видела, что после исполнения национального гимна Джонатан, как и следовало ожидать, от нервного напряжения почти впал в ступор; между тем на его походившем на маску лице читалось: нет, меня ничто не проймет — я свою работу сделал, и кончено, а дальнейшее уже будет относиться к истории театра…
Джейн Кинкейд это не могло обмануть, но она молчала. Она находилась почти в таком же состоянии. Ее муж Гриффин, он же отец Уилла, должен был появиться на сцене в роли Клавдио в пьесе Шекспира «Много шума из ничего». По всем оценкам, играл он блестяще и стремительно шел к тому, чтобы стать звездой театра. Джейн сознательно не ходила на репетиции и прогоны, желая насладиться знаменательным событием вместе с Уиллом.
Как и у других, дорога Гриффина к свету рампы оказалась долгой и трудной. Он начал актерскую карьеру в Университете Торонто в роли Брика в «Кошке на раскаленной крыше» Теннесси Уильямса. Случилось так, что Гриффин сломал на хоккее ногу и заскучал. И поскольку Брик весь спектакль носит гипс, тогдашняя подружка Гриффина, игравшая Мэгги — ту самую «кошку», которая упоминается в названии пьесы, — предложила: «Почему бы тебе не попробовать себя? Ведь никогда не знаешь заранее, на что ты способен». А дальше все произошло как в пословице: брось утку в воду, и она поплывет. Гриффин мгновенно заболел театром и полностью потерял интерес к изучению правоведения.
Он еще дважды играл Брика — в Ванкувере и в Виннипеге; именно там, в Виннипеге, он встретил и полюбил Джейн Терри. Они поженились перед самым переездом в Стратфорд.
Джейн попала в Канаду из города Плантейшн, штат Луизиана, в 1987 году — решила поискать работу в качестве театрального художника. И к своему глубокому удовлетворению, получила заказы как художник-бутафор и дизайнер в нескольких театрах, в частности, в постановке «Кошки» в Театральном центре Манитобы в Виннипеге. Меньше чем через год они с Гриффином стали мужем и женой. А еще через семь месяцев родился Уилл.
И вот теперь мать и сын сидели, с замиранием сердца дожидаясь первого выхода Гриффина. К счастью, он появился уже через семь минут (время засек Уилл).
Джейн чуть не расплакалась. Гриффин, без сомнения, выглядел лучше всех на этой сцене — впрочем, как и на любой другой. И поскольку действие происходило в восемнадцатом столетии, модная в то время обтягивающая одежда облегала его стройное тело, словно вторая кожа.
Роль Клавдио — непростая: его надо играть так, чтобы этот персонаж одновременно и очаровывал и отталкивал, был то бесстрашным воином, то трусоватым любовником, который в день свадьбы клеймит позором свою возлюбленную Геро, наивно поверив, будто она ему изменила.
Его то обожаешь, то, в следующее мгновение, ненавидишь, предупредила Джейн Уилла. Не тревожься, дорогой. Это всего лишь пьеса, и папа, как всегда на работе, просто притворяется другим человеком.
Иногда он даже страшный, сказал мальчик, вспомнив, как отец год назад играл одного из убийц в «Макбете».
Да, улыбнулась Джейн, но тогда вообще с трудом верилось, что это действительно он.
Сейчас партнершей Гриффина была молодая, только что окончившая Национальный театральный институт в Монреале актриса. Ее звали Зои, и ей едва исполнился двадцать один год.
Когда Зои первый раз появилась на сцене, Джейн ощутила легкий укол ревнивой неприязни.
Вот она какая.
Одна из этих…
Но через минуту успокоилась. Девушка была удивительно привлекательной: держалась с какой-то животной грацией — застенчивость и пугливость, скрытая под внешней самоуверенностью.
Именно такая, как надо, пришла к заключению Джейн. Столь живописных декораций и костюмов Джейн, пожалуй, не видела, хотя цветовая гамма была небогатая. Все выдержано в красных, белых и синих тонах — словно символизируя имперскую власть. Но красный и синий приглушенные. Только Беатриче и Бенедикт носили чистые цвета: воин Бенедикт — в алом, а убежденная феминистка Беатриче — в берлинской лазури (цвет строгий, определенный, роскошный). Геро, невинную деву, нарядили в белое, а младшего офицера Клавдио — в пастельно-голубой камзол с красными кантами и белые с желтоватым отливом панталоны. Персонажи итальянского двора были в огненно-оранжевом, желтом и розовом, который стремился к красному, но так и не достигал желаемого оттенка. В общем — зарисовки в акварели, а не в масле.
Действие пьесы перенесли из Италии в Бат — Бат Иниго Джонса[3] — с минеральными источниками, террасами, водами и купальнями.
Поначалу это беспокоило Джейн, но постепенно она поняла, что такая интерпретация открывает много возможностей для Джонатана в плане прочтения текста. В Англии конца XVIII — начала XIX века царило даже большее напряжение, чем в Италии 1600-х годов, когда примерно и была написана пьеса «Много шума из ничего». В стране правил «безумный» король Георг и красовался щеголеватый принц Уэльский. Англия ждала голосов Джейн Остин, Китса, Шелли и Байрона. Существовали всяческие моральные строгости, причем в изобилии, но они буквально трещали по швам.
В этом ключе были решены декорации и костюмы спектакля: женщины едва не вываливались из своих декольте, а формы мужчин столь рельефно обозначались под панталонами, что зрителю оставалось только гадать, как при таком напряжении не лопается ткань. Деревянный пол сцены превратили в черно-белые «мраморные» квадраты, над которыми поднимались изгибающиеся колоннады. Когда в завязке пьесы мужчины возвращались с войны, действие разворачивалось в купальне: все завернуты в полотенца и окутаны «паром» — сначала стоят на ступенях, отделяющих рампу от зрителей, а затем спускаются в «воду».
Все чрезвычайно необычно.
Действие шло своим чередом — главные персонажи, Беатриче и Бенедикт, строили запутанные козни и всячески старались одновременно привлечь и оттолкнуть друг друга — при этом оба уверяли, что предпочитают остаться холостыми. Джейн, как обычно, восхищалась словесной пикировкой и блеском диалогов. В данном случае «Б и Б», как их прозвали актеры, играли ведущие, самые популярные звезды труппы Джулия Стивенс и Джоэл Харрисон, которые в этом сезоне таким же дуэтом участвовали в качестве мистера и миссис Форд в «Виндзорских кумушках»[4].
Вклад Джейн в спектакль «Много шума из ничего» составляли «шелковые» веера ручной раскраски, придававшие женщинам блеск, но и доставлявшие им много хлопот — ведь правильно обращаться с веером отнюдь не просто. Актрисы признавались, что чуть с ума не сошли, пока овладевали этим искусством. Зато укрощенный веер казался изящным продолжением руки, и это перепончатое изделие становилось даром Божьим, когда требовалось перевоплотиться в женщину восемнадцатого века.
Джейн гордилась своим творением. Она использовала тончайшую сеточку, расписав «шелк» акрилом — изобразила романтические любовные сцены на фоне английских парков, французских замков и венецианских гондол.
В антракте ей невольно пришлось общаться с друзьями, коллегами-художниками, занятыми в других спектаклях членами труппы и просто незнакомцами. Это было очень непросто, так как Джейн знала, что самые «главные сцены» Гиффина еще впереди. Она по возможности увиливала и завидовала Джонатану Кроуфорду, который, прежде чем его со всех сторон осадили, успел юркнуть в специальное помещение «для особо важных персон».
Джейн сосредоточила все свое внимание на Уилле, вывела его в сад, купила ему хот-дог и пепси, а себе — бокал вина. Повернувшись к надоедам спиной, она положила ладонь на плечо сыну и выкурила подряд три сигареты. Это был один из тех вечеров, когда хотелось, чтобы никто не знал, кто ты такая.
Великий вечер!
Относительно неизвестных Гриффина и Зои в конце спектакля приветствовали бурными, одобрительными аплодисментами.(А днем позже было опубликовано двойное интервью под заголовком «Много шума по поводу рождения звезд».)
Занавес поднимали двенадцать раз — пятнадцать минут труппу держали на сцене. На большее не могли рассчитывать актеры, ради такого финала трудился режиссер, и об этом молились жена и сын артиста Гриффина Кинкейда. Восхитительно! Уилл повернулся к матери и произнес, почти как настоящий профессионал:
— По-моему, наш папа был — высший класс.
Джейн, к счастью, знала, как пройти за кулисы, и держала в голове карту с маршрутом в уборную Гриффина.
Когда они наконец попали туда, в помещение уже набились другие поздравлявшие. Протолкавшись с Уиллом вперед и представ пред ликом новой звезды, Джейн обнаружила, что Гриффин абсолютно гол — только на бедра наброшено полотенце.
Она закрыла глаза.
Что подумают люди?
А затем пришла мысль: как говорится, у Гриффина все в порядке, так что нечего стесняться…
Когда он поднялся и раскрыл объятия, Джейн инстинктивно шагнула вперед. В ушах все еще стоял гром оваций, и она не могла выговорить ни слова — только нечто нечленораздельное, отдаленно похожее на «да»!
Уилл в ситуациях, когда Гриффин был больше актером, чем отцом, обычно просто жал ему руку, будто впервые знакомился.
— Ну как, понравилось?
— Еще бы. Потрясающе!
— Пойдешь на вечеринку?
Уилл посмотрел на мать.
— Да, — улыбнулась Джейн. — Конечно, пойдет. Он ведь уже достаточно взрослый, чтобы досидеть до полуночи. Правда, Уилл?
— Правда. Само собой. Спасибо.
Гриффин опять сел, набросил на бедра полотенце и снова занялся снятием грима. Уилла эта операция всегда завораживала, он стоял и в зеркало наблюдал за отцом.
А Джейн отошла поговорить с Найджелом Декстером, делившим с Гриффином уборную. Найджел — самый давнишний в театре приятель ее мужа. Он был на полгода старше, чуть погрубее и бесконечно жестче и слыл человеком, которого трудно приручить. Их совершенно различные таланты дополняли друг друга, и с театральной точки зрения они составляли прекрасную пару. В пьесе Найджел играл одного из стражей, потрясающе смешного — до невозможности расхлябанного, несообразительного, но удивительно обаятельного.
— Блестяще! — похвалила его Джейн.
— Тебе понравилось?
— Я в восторге. Ты был великолепен, душа моя. Я забежала только поздороваться. Еще увидимся.
— А как же!
Вернувшись к мужу, Джейн поцеловала его в губы и похлопала по голому бедру.
— Встретимся на вечеринке. Не забудь надеть штаны.
Вечеринку в честь открытия фестиваля иногда проводили в частном доме, иногда в ресторане, но на этот раз она состоялась в шатре, который натянули в окружавшем театр обширном парке. Присутствовала труппа, вся команда, весь персонал — дизайнеры, закройщики, портные, музыканты, их родственники, друзья, просто театралы, не говоря уже о генерал-губернаторе, ее муже, главе провинции и его жене. Словом, все, кто придает истинную торжественность событию.
Погода стояла теплая, дул слабый ветерок, и вообще вечер был настолько прекрасен, что шатер частично оставили открытым.
Длинные автомобили доставляли почетных гостей и прочую знать. Звучала ненавязчивая музыка, предлагали закуски и шампанское, в баре был большой выбор вин, хватало столиков, чтобы посидеть, и пространства для общения, а снаружи с деревьев свешивались фонарики, над которыми сияли звезды — а вскоре взойдет и луна.
Ничего совершеннее придумать невозможно, восхищалась Джейн. Похоже на красивый фильм или даже на спектакль. Только ни одна площадка не вместила бы всех этих чудес.
Гриффин почему-то пришел последним, хотя Зои Уолкер, Найджел Декстер, Джоэл Харрисон и Джулия Стивенс явились одними из первых.
Что ж, решила про себя Джейн, есть два способа произвести впечатление. Либо прийти первым, либо — последним.
К тому времени, когда муж стал пробираться сквозь запруженный людьми вход, она уже выпила два бокала шампанского. А Уилл приканчивал второй стакан пепси.
Просияв, Джейн сделала шаг назад и, к сожалению, столкнулась при этом с Зои Уолкер.
— О, ради бога, простите, — поспешила извиниться она.
— Пустяки. — Зои небрежно махнула рукой и отвернулась.
— Вы ведь Зои Уолкер, — продолжала Джейн.
— Да.
— Примите мои поздравления.
— Спасибо.
— Мы с вами незнакомы. Я…
— Если не возражаете, я хотела бы продолжить разговор со своими друзьями, — сказав это, Зои Уолкер окончательно повернулась к Джейн спиной.
— Еще увидимся, — пробормотала Джейн.
Тут к ней подошел Гриффин.
И все наконец стало прекрасно.
Они пробыли на вечеринке до часа ночи.
Дома они вдвоем уложили Уилла в кровать, поцеловали на ночь и, оставив дверь приоткрытой, чтобы Редьярд, их золотистый лабрадор, мог входить и выходить, когда ему вздумается, вернулись на кухню.
— Голосую за бутылку красного на свежем воздухе и за то, чтобы завершить ночь под звездами, — предложила Джейн.
— Поддерживаю, — согласился Гриффин, снимая галстук, расстегивая воротник и вешая пиджак на спинку стула.
Они вынесли бокалы, вино и сигареты на заднюю веранду, где стояла плетеная мебель, газовая шашлычница и большие горшки с растениями.
— Ужасно горжусь, что я твоя жена, — проговорила Джейн, когда они сели на стулья и взялись за руки.
— Спасибо, — отозвался Грифф и вздохнул: — Боже, я думал, мы уж никогда сюда не доберемся.
— Куда? На веранду? — удивилась Джейн.
— Нет, — рассмеялся муж. — В такой момент, как сегодня, когда мы знаем, что нечто действительно произошло… достигнуто… После долгих лет ожидания дверь наконец открылась… Я почти переступил порог.
— Ты уже переступил порог, дорогой. Окончательно и бесповоротно.
— Может быть. Это уж точно следующий этап, чем бы он потом ни оказался.
— Не будем обманываться. Перед нами еще мили и мили, прежде чем каждый из нас почувствует, что наконец добился успеха, но — и это очень важное, но — теперь никто не сможет тебя игнорировать. Никто тебя не забудет. Никто не закроет эту дверь.
— Дай бог.
— А вот и луна. Вовремя.
— Знаешь, что нам надо сделать? — сказал Гриффин.
— Что?
— Слышишь, от Грэмов доносится музыка?
— Да. Замечательная.
— Я думаю, надо снять обувь и пойти на лужайку танцевать по росе.
— С удовольствием. Я с удовольствием. Давай.
Рука об руку они спустились на траву, полюбовались на луну и звезды и принялись танцевать, щека к щеке.
— Мы самые счастливые люди на земле, — прошептала Джейн.
— Вполне с тобой согласен. Настало наше время.
— Да, это наше время.
— Что это такое? — спросил Гриффин. — Я о музыке. Никак не могу вспомнить.
— Энни Леннокс.
— Ах да… конечно… Энни Леннокс.
Песня называлась «Каждый раз, когда мы говорим „прощай“».
Жаркая волна
Удастся ли найти на карте жизни Тот полустанок призрачный, где ждет тебя любовь, Которую ты неизменно не можешь удержать, Удастся ли найти то место, где ты впервые счастлив был? У. Х. Оден «Детективная история»1
Четверг, 2 июля 1998 г.
Джейн не было ее настоящим именем.
До того как она познакомилась с Гриффином Кинкейдом, а затем и вышла за него замуж, ее от рождения звали Орой Ли Терри из Плантейшна — маленького, но чрезвычайно богатого хлопкового городка на юге штата Луизиана. Родители Оры — к этому времени ее отец уже скончался — были мультимиллионерами, каковыми стали благодаря усилиям множества поколении.
В 80-х годах Ора, как она сама выражалась в то время, «сбежала в Канаду», не желая потакать собственническим наклонностям матери, Мэйбел Терри. И тогда же поменяла имя, утверждая, что хочет быть просто Джейн. Обычной девушкой.
Сегодня Джейн намеревалась купить мячи для игры в гольф.
После работы она поехала в противоположный конец города, где в специализированном магазине «Все для дома» почти наверняка имелось то, что ей нужно.
— Мячи для игры в гольф, — сказала Джейн, проходя мимо контрольного прилавка.
И услышала в ответ:
— Слева, примерно в середине дальнего крыла.
— Спасибо.
В понедельник предстоял день рождения Гриффина: его тридцатилетие. Во время своей последней поездки в Торонто Джейн купила мужу новую клюшку, а мячи — подарок от Уилла. Идея была его, и Джейн пообещала съездить в магазин. Деньги были тоже Уилла.
Уилл рос смышленым, вдумчивым мальчуганом, временами, пожалуй, слишком молчаливым. Дети прозвали его «одиночкой», несмотря на то, что иногда они вместе гоняли на роликах. Уилл предпочитал коллективным играм книги и головоломки, однако был открытым, а не замкнутым, интересовался окружающим и не стремился уединиться. Он обожал отца и свою няню Мерседес Боумен, которая была истинным даром Божьим для детей и кошек. И для Джейн тоже.
Джейн положила на прилавок пару упаковок с тремя мячами в каждой и еще две батарейки для фонаря.
— Это все?
— Да, спасибо.
Продавец передал Джейн ее кредитную карту и пластиковый пакет с покупками. Подписывая счет, Джейн про себя молилась: Пожалуйста, только не говори: приятного дня. Только не говори этого.
— Приятного дня.
— И вам тоже.
Улыбаясь, она отправилась на стоянку к машине.
Похоже, молитвы бесполезны. Все мы притворяемся обыкновенными людьми. И это печально, потому что на деле таковыми не являемся. Наши жизни ограничены слишком жесткими рамками, чтобы можно было уповать на воистину приятный день. Вот если бы люди говорили: «Самого приятного дня, какой только возможен при данных обстоятельствах», это бы имело больше смысла.
Возвращаясь к машине, Джейн бросила взгляд на газетный автомат: «Нэшнл пост», «Глоуб энд мейл», «Торонто стар» и «Стратфорд Бикон-геральд».
Судя по заголовкам, у очень немногих выдался этот самый «приятный день». Кризис в Косово обрек на страх и страдания тысячи людей; смерти, сожженные города и деревни, беженцы, хлынувшие в Черногорию, где не было для них места, и Милошевич, продвигавший все глубже в Косово сербские войска.
Другой кошмар — разворачивающаяся история президента Клинтона и Моники Левински — грозил свалить Клинтона, и, хотя его рейтинг оставался, на удивление, высоким, республиканцы призывали к импичменту президента.
А по свидетельству «Бикон-геральд», в соседнем Китченере люди возмущались местной полицией: после двух недель расследования власти так и не назвали ни одного подозреваемого в произошедшем в городе зверском изнасиловании и убийстве одинокой женщины тридцати с небольшим лет.
Пересекая автостоянку, Джейн размышляла о том, как ужасы мира, которые раньше казались далекими, все больше и больше надвигаются на каждого — вот уже захлестнули спокойный, приятный городок, — как войны и скандалы пробивают путь к простым людям.
Она ехала по Онтарио-стрит, главной улице Стратфорда, идущей с востока на запад, и невольно вспоминала историю городка. Некогда он был процветающим промышленным и железнодорожным центром, но, подобно многим другим канадским поселениям, в 40-е и в начале 50-х его поразила депрессия. Будущее Стратфорда было спасено в тот момент, когда у человека по имени Том Паттерсон родилась мечта и эта мечта овладела всем его существом. Так в 1953 году появился на свет Стратфордский шекспировский фестиваль. Идея пришла в голову Паттерсона благодаря тому, что город носил имя Стратфорд и стоял на реке Эйвон — в точности, как в Англии. Ведь Стратфорд-на-Эйвоне — место, где родился и умер Шекспир. И теперь Канадский Стратфордский фестиваль стал самым признанным средоточием классического театра на Северо-Американском континенте.
Город стоял среди многочисленных ферм, принадлежавших главным образом меннонитам[5]; всюду бугрились пологие холмы, зеленели некогда бывшие лесами рощицы, на полях пасся скот, вдоль дорог шли колеи, по которым лошади тянули телеги и фургоны, мелькали огороды, ручейки, пруды и реки, в том числе, конечно, самая большая из них — Эйвон. Деревни, хутора и селения, раскинувшиеся вокруг Стратфорда, казались маленькими островками на фоне живописной природы.
Справа от Онтарио-стрит располагалась Фестивальная гостиница — на взгляд Джейн, довольно уродливый мотель, но по количеству мест ему не было равных в городе, а потому именно в нем находили приют многие из тех тысяч людей, что стекались на театральный фестиваль.
Вскоре слева замаячил силуэт огромной фабрики, название которой неизменно вызывало у Джейн улыбку. Здание фабрики служило напоминанием о том, как резко был разделен Стратфорд в прежние времена — и до некоторой степени остался разделенным и теперь.
Многие из его граждан — рожденные, взращенные и воспитанные в принципиально консервативном сообществе — продолжали настороженно относиться к миру театра — миру «искусства», беспардонно вторгавшемуся в их жизни. Актеры — они все поголовно педики, рассуждали мужчины. А мы настоящие парни — парни, что надо, и нам не нужны педики в наших ресторанах и барах. Почему бы им не отвалить отсюда подальше и не оставить нас в покое?
Юмор ситуации заключался в том, что очень многие из этих мужчин работали на фабрике компании по производству шарикоподшипников, и, как гласила вывеска, название компании было — «ПЕД».
На безобидный вопрос: «Где работаешь?» — трудно было подобрать приличный ответ.
И тем не менее фестиваль стал самым прибыльным мероприятием в городе; три театра с мая по ноябрь ставили в целом десять — двенадцать спектаклей, и миллионы долларов туристов пополняли городскую казну.
Когда Джейн подъехала к границе, где торговые ряды и мелкие окраинные предприятия уступили место частным домам и садам, она увидела Оливера Рамси. Он был ее боссом, но не любил, когда его так называли. Оливер возглавлял бутафорский отдел и шел, как обычно, один, неся полотняную сумку. Джейн знала его достаточно хорошо, чтобы догадаться, что сумка набита классическими видеофильмами, до которых он был большой охотник.
Она остановилась и спросила:
— Вам куда?
— Надо вернуться на работу. Не возражаете?
— Конечно, нет. Забирайтесь.
Оливер был худощав, привлекателен и вечно одинок. Сев в машину, он громко хлопнул дверцей. И тут же извинился:
— Простите. Но мне нравится так делать. Когда я хлопаю дверью дома, этого никто не слышит.
Джейн рассмеялась.
— Ужасный день, — пожаловалась она. — Совсем замучилась с последним окном.
— Я видел.
Джейн сооружала триптих из витражных окон для постановки «Ричарда III», премьера должна была состояться меньше чем через три недели. Работа оказалась сплошным кошмаром, однако в последнее время дело пошло и близилось к завершению. Но режиссер и дизайнер постоянно просили добавить чего-нибудь этакого, а причуды других подчас невозможно воплотить в жизнь. Во всяком случае, таков был опыт Джейн, и сейчас она никак не могла подобрать лицо святому Георгию, которого следовало изобразить на окнах вместе с его драконом. Дракон, естественно, не представлял проблемы. С драконами трудностей не бывает. Любому по силам сотворить дракона. Святой же — совсем иное дело.
— А зачем вам возвращаться на работу? — спросила она Оливера.
Тот застонал и тяжело вздохнул:
— Мечи.
— Ах да, мечи. Святые и оружие — всегда самое трудное.
— Святые, оружие и поломки, — добавил Оливер. — Покалеченные стулья из «Виндзорских кумушек» продолжают поступать в ремонт. Боюсь, придется делать новый гарнитур.
Джейн свернула на ведущую к реке Куин-стрит, а затем на стоянку рядом со служебным входом в Фестивальный театр — самую большую из трех сценических площадок в городе. Архитектура этого театра служила наглядным напоминанием о том, что несколько первых лет спектакли проходили под цирковым шатром.
Оливер вылез из машины и снова изо всей силы шарахнул дверцей.
— Очень мне это нравится, — прокомментировал он.
— До завтра.
— Может быть, до завтра, а может, нет — зависит от того, насколько я здесь застряну.
— Естественно. Но в любом случае встретимся в понедельник в ресторане «Даун-стрит». Выпьем по случаю дня рождения Гриффина. Только не забудьте…
— Не волнуйтесь. Не забуду. Спасибо.
Джейн выехала со стоянки и направилась к реке.
Эйвон был похож на старого друга: из года в год он удалялся, когда вода зимой убывала, но весной возвращался опять — и вместе с ним его лебеди, гуси, утки и чайки. Он радовал глаз пестрым калейдоскопом красок и отражений и успокаивал медлительностью течения к дамбам и водопадам и своей безмятежностью при впадении в озеро Виктория, где ивы на островах днем скрывали мир пикников, а по вечерам — свет фонарей. Джейн часто бывала на Эйвоне — приходила от Фестивального театра посидеть с недозволенным бумажным стаканчиком вина и сигаретой. Это было ее самое любимое место в городе — если не считать еще одного.
Другим любимым местом был дом 330 на Камбриа-стрит, который они снимали и в котором жили вместе с Гриффином и Уиллом. Этот дом Джейн хотелось назвать своим больше всего на свете — если говорить о том, что вообще возможно. Сильнее ей хотелось только завести второго ребенка, если бы, конечно, Грифф согласился.
Покупка дома и обзаведение вторым ребенком были, пожалуй, единственными вопросами, по которым они расходились. Грифф осторожничал, опасался брать на себя большую финансовую ответственность, пока окончательно не встал на ноги. А Джейн не боялась ответственности и не желала быть осторожной. Она считала: раз женщина замужем и думает о будущем, самое главное для нее — владеть домом и воспитывать в нем детей.
Но, становясь на позицию мужа, она признавала законность его сомнений. Актеру требуется немало времени, чтобы обеспечить себе финансовую независимость, и, хотя Грифф получал больше, чем она, его зарплата была не такой уж большой. А у Джейн имелся постоянный доход. Ее отец и дед создали тщательно продуманную систему управления имуществом, в надежде обеспечить на всю жизнь Джейн, ее братьев и сестру Лоретту. И эта система отлично работала.
Поворачивая на дорогу, тянувшуюся вдоль реки, Джейн заметила, что стоянка у Фестивального театра начинает заполняться. Машины с пассажирами двигались по Куин-стрит к трем ресторанам и к театру на вечернее представление «Бури», где Гриффину предстояло сыграть Фердинанда.
Джейн обратила внимание, как много автомобилей с американскими номерами — даже из далекой Калифорнии. Канадские номера были в основном из провинции Онтарио, где и расположен Стратфорд.
В парке рядом со стоянкой выставка местных художников собрала настоящую толпу, однако некоторые из мэтров — пробило шесть часов — уже начали паковать картины и скульптуры в деревянные ящики. Джейн ни разу не демонстрировала публике свои работы, хотя считалась талантливым и серьезным художником. Я профессиональный декоратор, говорила она себе. И этим жила. По крайней мере, в данный момент. Когда они купят дом и будут ждать второго ребенка, вот тогда она, возможно, задумается о небольшой персональной выставке. Мастерства Джейн хватало, но она сознавала, какую ответственность налагала на нее работа в театре, и не позволяла себе даже мысли о том, чтобы схалтурить. Она подождет.
Джейн проехала круглую площадку, где зимовали лебеди, утки и гуси, а затем Театр Тома Паттерсона — там в этот вечер давали «Стеклянный зверинец»[6]. Дорога привела ее обратно на Онтарио-стрит. По улице туда-сюда слонялись ученики, в основном из частных школ, которых привезли на забитом до отказа автобусе. В одной из групп дети были в темно-синих форменных пиджаках, девочки — в серо-голубых клетчатых юбках, а мальчики — в брюках из серой фланели. Ребята искали приличное заведение, где можно быстро перекусить. Улыбнувшись их счастливым лицам, Джейн свернула на Черч-стрит.
Здесь начинался Стратфорд, который она любила больше всего: широкий массив домов рубежа столетий — времен королевы Виктории и короля Эдуарда. Одни дома были построены железнодорожными баронами, другие, столь же впечатляющие, — людьми из высших слоев общества. Там они жили до Второй мировой войны, пока многие из них не потеряли свои состояния.
Встречались даже здания с колоннами на фасадах в грегорианском стиле, возведенные с середины до конца девятнадцатого века. В те времена процветал хороший вкус, если хватало денег. Хороший вкус или, по крайней мере, представление о нем. Я бы назвала это примитивной роскошью, думала Джейн, либо, как выражается Грифф, изяществом с некоторым перебором.
Этот район напоминал ей о Плантейшне с его красивыми лужайками и садами, верандами и деревьями. Здесь Джейн находила нечто вроде ностальгического рая, и, попадая сюда, она всегда вспоминала свое детство на Юге — конечно, только редкие светлые моменты, извлеченные из темноты, которой изобиловало начало ее жизни.
Миновав перекресток Черч-стрит и Камбриа-стрит, Джейн проехала мимо дома и кабинета своего психиатра доктора Фабиана. Затем, через два квартала на Шрузбери, промелькнул дом ее самых близких стратфордских друзей, Хью и Клэр Хайлендов. Клэр была профессором истории Университета Западного Онтарио, расположенного в близлежащем городке Лондоне. Хью, который был старше жены, раньше преподавал там же на английском отделении, но успел выйти в отставку и вовсю наслаждался двумя своими любимыми занятиями — садоводством и гольфом. Дом Хайлендов представлял собой классический коттедж провинции Онтарио. Заднее крытое крыльцо выходило на один из самых очаровательных в городе садов. Ухоженный дом и пышное цветение в течение всего лета — Хью старательно подбирал коллекцию растений — делали вполне оправданной ежедневную поездку в Лондон и обратно.
Мысль об этих людях согревала Джейн душу. Почти рядом, за углом, есть двое лучших друзей, с которыми можно вместе стареть…
Хотя ей всего тридцать пять, а Гриффу нет и тридцати — стукнет только в понедельник. Но возраст… как сказал бы буддистский наставник, это то, что непременно случится. Надо быть готовым встретить его.
И Джейн повернула за угол направо, проехала мимо миссис Арнпрайр, соседки, которая в это время поливала газон перед домом, и поставила свою «субару» за «лексусом» Гриффина — подарком от Джейн в год подписания мужем контракта на работу в Стратфорде — и за древним «фордом-мавериком» Мерси Боумен.
Вот она и дома.
Рядом с их легковушками припарковался изрядно раздолбанный грузовик, и два человека перегружали в тележку явно тяжелые мешки. Это были Люк Куинлан и его дядя Джесс — хозяин дома нанял их, чтобы разбить новую огромную клумбу. Люк поздоровался с Джейн и взялся за ручки тележки. Джесс помогал ему, и они медленно покатили мешки вдоль дома на задний двор.
Джейн разглядела наклейки на мешках, еще оставшихся в кузове: торф, мох, овечий навоз, обогащенный грунт. Она улыбнулась и подумала: Неужели они умудрятся все это запихнуть в одну-единственную клумбу?
Потом захватила с сиденья сумку, взяла пластиковый пакет из магазина «Все для дома», помахала миссис Арнпрайр, подошла к боковому входу и открыла дверь на кухню.
Гриффин и Уилл сидели за столом — Грифф пил мартини, а сын — пепси.
Мерси стояла у плиты и готовила на ужин свиные сосиски, кукурузу в сметане и картофельное пюре, в которое она покрошила четыре или пять зеленых луковок.
— Всем привет, — сказала Джейн и взъерошила Уиллу волосы. Потом поцеловала в затылок мужа и отправилась в столовую за бутылкой своего самого любимого на свете вина — австралийского «Вулф Бласс» с желтой этикеткой.
Грифф должен был являться в театр в начале восьмого, и в дни спектаклей он и Уилл ужинали рано, так что, когда приходила Джейн, они частенько уже расправлялись с едой. Но сегодня ей повезло — она могла посидеть с ними и выпить вина.
— Пахнет приятно. — Джейн покосилась на плиту. Она решила, что поест позже, вместе с Мерси, которая, как правило, оставалась в доме Кинкейдов до вечерней трапезы, затем мыла посуду, уходила домой и кормила своих четырех кошек.
— А что в пакете? — поинтересовался Грифф.
— Не спрашивай. Сюрприз.
— Хорошо. Не буду.
— Ты купила батарейки для фонаря? — встрепенулся Уилл. Если нет батареек, то не будет чтения книг после того, как погасят свет в спальне…
— Угу… отдам тебе потом.
— Я сегодня поздно. Не жди меня, — сказал Грифф.
— Когда?
— В два. Может, еще позже.
— А что такое?
— Обычное пьянство — Джонатан, Роберт, Найджел…
— Значит, мальчишник?
— Да.
— Хорошо. Я посмотрю какой-нибудь фильм.
— А мне можно? — вступил в разговор Уилл.
— Зависит от того, что удастся найти, — ответила мать. — Зайду в магазин на нашей улице, гляну, что у них есть.
— Ну как, вы двое закончили? — спросила Мерси.
— Не совсем, — отозвался Гриффин, поднимая бокал. — У меня еще есть немного времени.
— В таком случае не стоит спешить. Ты в порядке, Уилл?
— Да.
— Тащи бокал, — обратилась Джейн к Мерси. — Садись.
Когда Мерси села и налила себе вина, Джейн обвела взглядом стол.
— По-моему, я самая счастливая на свете женщина. У меня есть все, чего я хотела.
Она поцеловала кончики пальцев и коснулась ими губ мужа.
— Похоже, самое время Малютке Тиму сказать: «Да осенит нас Господь своей милостью!»[7] — Гриффин улыбался, но его тон странно не соответствовал словам.
Джейн потупилась и посмотрела в бокал.
Ее неприятно поразило, что Грифф явно отмахнулся от ее радости.
Она ожидала совсем не такой реакции.
2
Пятница, 3 июля 1998 г.
На следующее утро к восьми тридцати Джейн и Грифф уже были на кухне вместе с Уиллом и Мерси. Редьярд гулял во дворе, где Люк Куинлан сгружал множество дополнительных ингредиентов для будущей клумбы.
— Ужасная жара, — пожаловался Гриффин, одетый в незастегнутую рубашку и спортивные шорты. — Проснулся в половине шестого и больше не сумел заснуть.
— То ли еще будет, — отозвалась Джейн. — Когда ты принимал душ, я слушала прогноз погоды. Температура повышается.
Уилл поедал отруби с изюмом — свое любимое кушанье. Но при этих словах встрепенулся.
— В Канзасе был торнадо, — сообщил он. — Прямо как в «Волшебнике из страны Оз». Двенадцать человек погибли.
— Боже праведный! А я считала, что сезон торнадо уже закончился, — ужаснулась Джейн.
— Те, что погибли, тоже так считали, — ухмыльнулся Уилл.
— Нехорошо говорить об этом с таким удовольствием, — сделала замечание стоявшая у плиты Мерси.
— Так ведь интересно.
— Только не тогда, когда погибают люди. Это совсем не интересно.
— Что верно, то верно. — Джейн улыбнулась сыну. — Прислушайся к этим словам, дорогой. Ведь такое могло случиться и с нами. — Она доедала йогурт, который, как обычно, подсластила абрикосовым джемом.
— Мы живем не в Канзасе.
Гриффин взъерошил Уиллу волосы и подмигнул.
— Куда вы оба спешите? — спросила Мерси. — Ведь еще рано. Идете играть в гольф, Грифф?
— Нет. У меня репетиция с Джонатаном и Зои.
С Джонатаном? С Джонатаном и Зои? Зои? — удивилась Джейн. Затем отложила ложку и спросила:
— Репетиция? Но ведь обе твои пьесы уже запущены.
— Джонатан хочет нам что-то рассказать о наших персонажах. Он такой. Никогда не прекращает репетировать. Это все говорят, кто раньше с ним работал. А ты чем займешься?
— Буду мучиться с окнами, — вздохнула Джейн. — Надо же их когда-нибудь доконать. Все та же старая проблема — лицо святого Георгия.
— А ты сделай ему лицо Гриффа.
Джейн рассмеялась.
— Грифф не святой — и слава богу! — Она перекрестилась.
— Аминь, — согласился муж. — Святость чрезвычайно утомительна. Уто-ми-тельна.
— Откуда тебе знать? Ты же никогда не был святым.
— Был в глазах своей матери, — и он расплылся в самодовольной улыбке.
— Да, да, об этом мы слышали, и не однажды, — отозвалась Джейн. — Только, умоляю, никогда больше так не улыбайся. Уф!
— Помнишь, Никсон говорил, что его мать была святая?
— Кто ж это забудет.
— А кто такой Никсон? — заинтересовался Уилл.
— Не спрашивай, — встрепенулась Мерси, разбивая яйца для яичницы.
— Он был американским президентом, — объяснил Гриффин сыну. — Задолго до твоего рождения. Очень плохой, никчемный человек. Тебе повезло, что ты его не застал.
— А президент Клинтон тоже плохой?
— Некоторые так считают. Но я — нет.
— И я не считаю, — поддержала мужа Джейн. — Клинтон делал глупости, а Никсон — ужасные, опасные вещи. Я тебе позже объясню. Это все очень сложно.
— Если я захочу знать.
— Надо знать. Это важная страница американской истории, — сказала мать.
— Американской. А мы — канадцы.
— И тем не менее. На нас это тоже влияет. Кроме того, мистер умник, я — американка, родилась там и выросла. Значит, и ты американец, по крайней мере частично.
Мерси подала три тарелки с яичницей и блюдо с тостами. Маргарин, джем и мармелад уже были на столе.
— Ненавижу яичницу, — заявил Уилл и оттолкнул тарелку.
— Ничего подобного, — возмутилась Мерси и водворила тарелку на место. — Ешь! — Она повернулась к плите, сняла с конфорки сковороду и поставила в раковину.
— Что на тебя сегодня нашло? — спросила Джейн. — Ты же любишь яичницу.
— Горячая, — подсказал сыну Грифф. — Горячая, только и всего. Правда, Уилл?
— Уж точно не холодная, — буркнул мальчик и начал есть.
— Дорогой, когда тебе надо в театр? — спросила Джейн.
— До десяти.
— Я тебя подвезу. Собираюсь заехать в театр, кое-что выяснить и взять свой альбом с набросками. А потом хочу поработать дома. Ты сам доберешься обратно?
— Конечно. Там сегодня утренник. Я, может, пообедаю в «Зеленой комнате»[8], а после спектакля попрошу Найджела меня подбросить. Он не откажет. Как и раньше не отказывал. Без пятнадцати десять Джейн высадила Гриффина у служебного входа и, поцеловав на прощание, отправилась в бутафорский отдел.
А он зашел в свою уборную, взял текст, выкурил недозволенную сигарету и, заложив за ухо карандаш, пошел на сцену. Джонатан и Зои уже ждали его.
— Итак, что мы будем делать?
— Мы собираемся поболтать. Сегодня у нас необычная репетиция. Поэтому здесь нет никого из рабочих сцены.
— Хорошо…
Артисты были заинтригованы, но почли за лучшее вопросов не задавать.
Зои в доходившем до колен свободном белом хитоне из чистого хлопка выглядела великолепно. Она обошлась без косметики, а волосы стянула в конский хвост черной лентой.
Джонатан, как всегда, был в отутюженных, прекрасного покроя брюках и полосатой синей рубашке, аккуратно заправленной под узкий кожаный ремень, в котором Гриффину увиделось нечто угрожающее. На ногах — кожаные сандалии. Ногти босых ног ухожены так, словно над ними поработала профессиональная педикюрша. Впрочем, скорее всего, так оно и было.
Гриффин почувствовал, что сам он смотрится как-то непрезентабельно в своих мешковатых шортах, расстегнутой рубашке, коричневых мокасинах и без носков. Отвернувшись, он украдкой застегнул две пуговицы на рубашке и одернул шорты, чтобы выглядеть поприличнее.
Джонатан занял место в центре сцены и сказал:
— Садитесь.
Гриффин и Зои устроились на ступенях левой ведущей со сцены лестницы и разложили уже и без того испещренные пометками тексты ролей.
— Сегодня я хочу особо поговорить о подтексте, — начал Джонатан. — О том, что не написано, но явно подразумевается, не сказано, но имеет колоссальное значение для понимания того, как вам строить ваши роли и какими мы видим ваших персонажей…
Гриффин выпрямился. Зои непринужденно положила ему руки на плечи, и в этом жесте ощущалась явная симпатия. За последние несколько месяцев они крепко сдружились и целиком доверяли друг другу — как частенько случается между актерами, сблизившимися во время игры.
— На репетициях мы уже обсуждали многое, например, то, что актер должен знать, где был его персонаж до своего выхода на сцену и куда направляется, когда уходит. Это вещи элементарные. Нам всем известно — те, кого вы играете, появляются не из боковых кулис и уходят не в актерские уборные. Но гораздо важнее, и я хочу внушить это вам обоим: выходя на сцену, вы еще понятия не имеете, что собираетесь сказать и что вам ответят другие. Или что должно произойти потом. В пьесе всегда есть только теперь и никакого предвидения дальнейшего. Вы не представляете последствий происходящего. Вы не знаете ничего. И мы должны поверить, что вы действительно ничего не знаете…
Зои убрала с плеч Гриффина руки и подсунула их под себя. Волосы ее свесились вперед.
— Конечно, вам необходимо выучить текст. Но вы должны его знать настолько хорошо, настолько абсолютно, чтобы иметь возможность забыть, что вы его знаете. Добивайтесь того, чтобы строки возникали в голове как естественная реакция на происходящее. Как если бы вы в жизни отзывались на возникшую неожиданно ситуацию.
Зои подняла голову и кивнула.
Гриффин пошире расставил колени.
— Шекспир, — продолжал Джонатан, — был одержим определенными проблемами, определенными отношениями, определенными ситуациями. Они у него постоянно повторяются, выраженные все с большей определенностью по мере продвижения от пьесы к пьесе.
Режиссер отвернулся и закурил сигарету. Гриффин и Зои смущенно потупились. То, что сделал Джонатан, было категорически запрещено.
А он тем временем обратил лицо к ним и, резко взмахнув сигаретой, выпустил дым вверх, в луч освещавшего сцену одинокого прожектора.
И внезапно они как будто оказались внутри «спектакля», в процессе создания не опробованного и не отрепетированного действа.
— Вот видите. — Джонатан вынул из кармана брюк портативную пепельницу и, открыв ее, стряхнул пепел. — Всегда найдется нечто неожиданное, к чему вы должны быть готовы. Геро — распутная женщина или нет? Клавдио считает, что да. Но как он мог этого ожидать? А Офелия? А Дездемона? Как насчет них? Предала Джульетта Ромео или нет? Справедливы ли выдвинутые против них обвинения? Мы-то с вами знаем. А Гамлет, Отелло, Ромео? Это покажет только их дальнейшее поведение. А пока мы должны верить в возможность того, что Гамлет, Отелло, Ромео и Клавдио поддадутся сомнению. Ибо без этой возможности нет интриги, а без интриги нет и самой пьесы. В нашем случае зрители знают, что Геро невинна. Вся ситуация искусственно подстроена, чтобы разлучить возлюбленных. Итак — если нам известно о ложности обвинений, в чем состоит интрига?
— В том, что мы не знаем, поверит ли в эти обвинения Клавдио, — ответил Гриффин.
— Именно. Потому что мы предполагаем, как он поступит, если поверит. Приведи мне его слова.
— Он сказал: «Если я увижу этой ночью что-нибудь такое, что помешает мне жениться на ней, я завтра в той самой церкви, где хотел венчаться, при всех осрамлю ее»[9].
— А теперь напомни, что мы говорили о его словах на репетициях.
— Что они бессердечны. И открывают в нем нечто такое, что нам может не понравиться и чего мы не захотим принять.
— Что именно?
— Ну, он эгоистичен, инфантилен. И… — Гриффин запнулся.
— И что еще?
— Он горд.
— Совершенно точно. Вот тут-то Шекспир предрекает ему большое несчастье: если гордость лишает его рассудка, он готов совершить ошибку.
— Да.
— Но какова природа его гордости?
— Во-первых, он из хорошей семьи. Гордится своим происхождением.
— Еще?
— Не знаю… Он горд, и все…
— Нет. Тут нечто большее. Чем он занимается?
— В смысле профессии?
— Да.
— Он солдат.
— Вот видишь… солдат. А что солдаты больше всего ценили в людях? Особенно тогда, — пожалуй, гораздо больше, чем сейчас?
— Умение побеждать.
— А еще больше? Гораздо больше?
— Что же?
— Честь.
Гриффин молчал.
— Честь превыше всего, — продолжал Джонатан. — Превыше всего остального. Итак, честь, а не сердце движет им, когда он говорит, что готов осрамить Геро. Если она наставила ему рога, то он собирается опозорить ее публично, понимая, что для женщины ее звания и положения не может быть ничего страшнее. Другими словами, собирается погубить ее — навсегда. После такого ее уже никто не возьмет в жены. Что говорит Офелии Гамлет? «В монастырь — и поскорее. Прощай»[10]. Не забывайте, что во времена Шекспира под словом «монастырь» могла подразумеваться и так называемая «девичья обитель», то есть публичный дом. Неудивительно, что девушка помешалась. И неудивительно, что Геро «умирает». Шок от подобных обвинений безмерен, если знаешь, что невиновен.
— Да. — Гриффин отвел глаза. Он все еще не понимал, куда клонит режиссер. — Это определенно делает Клавдио более жестоким, чем я себе представлял раньше, — наконец проговорил он.
— Ну, он ведь — солдат. А для солдата жестокость — качество необходимое. И она же — неотъемлемая составляющая чести. Это, вероятно, первое, что узнал Клавдио, став взрослым.
— Согласен.
— Кстати, тебе не следует сидеть в такой позе, когда ты в шортах. Не расставляй колени. И в следующий раз надевай под шорты трусы.
Гриффин поспешно сдвинул ноги и вскочил.
Господи… Что такого я сделал?
— Вот видишь. — Джонатан улыбнулся, достаточно беззлобно, но с оттенком явного превосходства. — Теперь ты знаешь, каково это — почувствовать себя на месте Геро.
Гриффин отвернулся.
— Не надо смущаться, — сказал режиссер. — Я же не настолько глуп, чтобы вообразить, будто ты со мной заигрываешь. Верно?
— Естественно.
— А ты, Зои, почему все время молчишь?
— Просто соображаю, не видно ли чего лишнего у меня из-под платья.
Эта реплика разрядила обстановку. Даже Гриффин вынужден был рассмеяться.
Умненькая девочка, подумал он. Надо не забыть ее потом поблагодарить.
Джонатан загасил сигарету и спрятал пепельницу в карман.
— Знаете, почему я решил вызвать сегодня вас двоих? Вас, а не всю труппу? Потому что… вы молоды. И мне редко приходилось встречать двух молодых актеров такого большого дарования. Я призываю вас — никогда не расслабляйтесь и используйте все возможности, которые таятся за каждым словом, произнесенным вами со сцены, за каждым жестом, каждым шагом по сцене, каждым взглядом, куда бы вы ни смотрели. И главное — слушайте. Постоянно слушайте, помня, что вы ничего не знаете. Упала булавка — вы обязаны услышать. Что бы это значило? Расправила крылья муха — вы обязаны заметить. Даже если кто-то чуть подастся в вашу сторону — вы и это обязаны сразу уловить. Ничто из происходящего в вашем присутствии не должно остаться незамеченным. Это не значит, что вам следует реагировать абсолютно на все, но нужно все осознавать, чтобы, когда потребуется или окажется уместной ваша реакция, она вытекала из всей предшествующей цепи событий. Многое из сказанного вам уже известно, но я хочу, чтобы это закрепилось в вашем сознании. Сейчас, когда «Буря» и «Много шума…» идут, причем, я бы отметил, с большим успехом, для вас настал опасный период. Возможно, самый опасный период для актера. Потому что вы можете легко потерять с таким трудом наработанную напряженность. Можете стать слишком уверенными в себе, слишком самонадеянными и расслабитесь. А зрители это моментально почувствуют. Они всегда чувствуют, когда кто-то работает не в полную силу. Это понятно?
— Да, Джонатан.
— Да. Спасибо, Джонатан.
— А теперь — какие у вас планы насчет обеда?
— Я встречаюсь с Ричардом в «Бентли», — сообщила девушка.
— С Ричардом Хармсом?
— Да.
— Я считал, ты с ним порвала.
— Нет. Пока нет, — улыбнулась Зои.
— А ты, Гриффин?
— Собирался поесть в «Зеленой комнате».
— Один?
— Да.
— В таком случае пошли со мной в «Даун-стрит». Времени до дневного спектакля как раз хватит. Если, конечно, тебе не надо сначала домой.
— Нет, не надо. С удовольствием.
Зои поцеловала обоих мужчин, взяла свой текст и удалилась.
— Пошли через главный вход, — предложил режиссер, спускаясь в зал.
— Ведите. — Гриффин подхватил рукопись пьесы. — Я за вами следом.
3
Пятница, 3 июля 1998 г.
В час пятнадцать пополудни Джейн сидела за кухонным столом с альбомом набросков и подборкой материалов по средневековым витражным окнам и изображениям святого Георгия и дракона. Она считала огромным преимуществом своей профессии то, что половину работы можно было делать дома.
Стоял июль, и, как обычно летом в последние годы, Южный Онтарио накрыла волна жары. А вместе с жарой пришла влажность, заставлявшая несколько раз в день менять одежду.
Джейн казалось, что она снова очутилась в дельте Миссисипи, и временами ее удивляло, почему окружающие не говорят так, как говорили все в ее детстве — в стиле романов Уильяма Фолкнера и пьес Теннесси Уильямса. По крайней мере, этим летом в Стратфорд согласилась приехать Аманда Уингфилд, которая четыре-пять раз в неделю появлялась в «Стеклянном зверинце». А где остальные? Почему ее друзей и соседей не зовут Бланш и Альма, Бейард и Квентин — почему они не те, кто прожигает жизнь на диете из слишком обильной выпивки и слишком цветистых речей, постепенно угасая в некогда роскошных усадьбах?
Представлены были все атрибуты жизни в Луизиане — соответствующая одежда, разнообразные средства борьбы с жарой. Крутились потолочные вентиляторы, таяли кубики льда в высоких запотевших стаканах с холодными напитками, из открытых соседских окон лилась меланхоличная музыка. В ходу были только свободные, просторные платья, рубашки и брюки. Порой по целым дням обходились вовсе без обуви; волосы постоянно стягивали на затылке, чтобы не лезли в лицо.
В июне, июле и августе не стесненная ничем грудь считалась в порядке вещей — это был сезон узаконенной демонстрации естественных форм. Попытаешься противиться этому — и тело начнет задыхаться. Продажа антиперспирантов подскакивала на двадцать процентов. Счета за расход воды взлетели выше крыши. И день за днем, день за днем девяносто, девяносто пять в тени[11].
И все же, несмотря на расслабленные дни и знойные ночи, это был не старый добрый Юг ее детства, хотя сходства хватало. Например, старинные дома, которые Джейн до сих пор называла довоенными, потому что многие из них напоминали построенный до Гражданской войны дом, в котором она родилась. Родилась в буквальном смысле слова. Ее бабушка, чья мать в 1860-х годах ребенком пострадала от жестокостей янки, не признавала больниц. В больницах все умирают, говаривала она, потому что видела, как скончался ее отец под представлявшимся ей безжалостным ножом эскулапа из Нью-Йорка. Поэтому Джейн появилась на свет дома — в огромной кровати своей прабабушки Оры Ли Терри.
И получила ее имя.
Войдя в возраст — так у нее на родине называли достижение совершеннолетия, — Джейн потихоньку ускользнула из дома — настолько далеко, насколько позволяли ей средства. И окунулась в другую культуру, о которой так много слышала во время тревожных лет вьетнамской войны. Эта культура существовала на одном со Штатами континенте, но американцы будто не замечали ее, заявляя, что там, в Канаде, никакой культуры вовсе нет, не говоря уже о такой, которую можно было бы назвать канадской.
Вопреки этому утверждению, Джейн обнаружила в Торонто, Монреале, Ванкувере и Виннипеге бурлящие центры творческой активности, где сразу попыталась найти работу. Джейн была даровитым художником и рассчитывала устроиться в театр. И это ей удалось. Поначалу ее привлекал дизайн костюмов, — и декораций тоже, — однако верх взял театральный реквизит. Это реальные вещи, говорила Джейн. Мне нравится держать их в руках. И вот теперь, через одиннадцать лет после того, как она пересекла границу, Джейн работала в Стратфорде, была замужем за Гриффином Кинкейдом, жила в послевоенном доме на обсаженной деревьями улице в довольно красивом и очень милом ее сердцу городке. Здесь вполне хватало культуры, и Джейн в ней процветала.
Ну ладно, хватит мечтаний, решила она. За работу. К витражам и этому проклятому, ускользающему лицу…
Каждое утро и каждый вечер слетались вороны. На Камбриа-стрит их было почему-то больше, чем в других домах, которые Джейн и Гриффин снимали в Стратфорде.
— Мы можем купить этот дом, — сказала она Гриффину после ужина. — Должны. Я очень его полюбила — много лет мне не было так уютно. Наверняка и ты чувствуешь то же самое. Ощущение полной удовлетворенности.
Они решили перед сном выпить по последнему бокалу вина на задней веранде. Гриффин в этот вечер не играл — редкий случай. Но он почти никогда не участвовал и в дневных, и в вечерних представлениях.
Вороны, собиравшиеся на ночлег, кричали со всех сторон — с севера, юга, востока и запада: Сюда! Сюда! Домой! Домой!
Джесс в этот день куда-то уехал, и садовник Люк работал один. Он с яростной сосредоточенностью орудовал лопатой, взрыхляя землю для новой клумбы и внося в нее удобрения из пакетов. Гриффу и Джейн такое непрерывное копание казалось просто сумасшествием.
— Этот тип одержим, — заметил Гриффин.
— Прокопает землю насквозь до Китая, — улыбнулась Джейн. — Утром так и сказал: «Прокопаю до Китая». Как маленький.
— Надеется, что цветы распустятся с двух концов, — отозвался муж.
— Было бы здорово. — Джейн взяла его за руку. — Мне очень хочется, чтобы тебе здесь так же нравилось, как и мне.
— Мне нравится.
— Тогда почему бы нам не купить этот дом?
— Потому что мы не можем себе этого позволить.
— Чем дольше мы тянем, тем он становится дороже. Деньги, которые мы платим за аренду, никогда не вернутся. И Майкл, наш повышающий аренду хозяин, вечно не будет ждать. Сейчас он согласен сдавать, но рано или поздно захочет продать дом.
— Я знаю, но…
— «Знаю, но…» Ты всегда так отговариваешься.
— Мы не можем поступать безответственно.
— Владеть домом как раз ответственно. Именно в этом обязанность родителей. Мы должны купить дом ради Уилла. Ради нас. Ведь у нас будут еще дети…
Это прозвучало не как вопрос, а как утверждение.
— Разумеется.
— Я прикинула цифры, — сообщила Джейн.
— Я так и подумал, что ты этим займешься. — Гриффин сжал ей руку и тут же выпустил…
— Но кто-то ведь должен. Это моя работа.
— А я считал, что это работа Фрэнка Уэббера. Иначе зачем тратить на него уйму денег. Ему полагается держать нас в курсе нашего финансового положения.
— Я уже с ним переговорила.
— Да ну?
— В самом деле. И он сказал, что мы можем осилить дом.
— Я не хочу ничего осиливать. Я хочу это сделать с абсолютной уверенностью. И в должное время. А такое время настанет, когда моя зарплата сравняется с твоим доходом.
— Не говори так. Пожалуйста, не надо. Мой доход принадлежит нам обоим. Нам всем троим. Я родилась богатой — вот и все. И не хочу, чтобы это как-то влияло на наши отношения.
— Это и не влияет. Ты прекрасно знаешь. Просто… просто я так воспитан. Мужчина платит за себя сам. За себя и за своих детей.
— Мне кажется, это немного устарелый взгляд…
— Только не для меня. Так поступал мой отец, брат, и я хочу жить так же. Жду от себя того же. Надеюсь, ты поймешь мои чувства. — Он снова взял ее за руку. — Тебе пришлось с трудом выбираться из денежной ловушки. А теперь, тоже с трудностями, нам с тобой надо пробиваться в мир денег. Чем я и горжусь. Любое наше достижение, все, что мы имеем, оплачено — наличными.
Джейн вздохнула, потом неожиданно рассмеялась.
— Знаешь, есть такая песня, — сказала она. — «Два разных мира». Это мы. Мы принадлежим к двум различным мирам. И иногда я это проклинаю.
Гриффин улыбнулся:
— О Джейн, у нас нет выбора. Но на планете не существует другого мира, который я бы предпочел моему собственному.
Ворон становилось все больше на засыхающем ореховом дереве. Некоторое время слышались только шуршанье их крыльев и скрип ветвей.
— Попытка исчерпана? — спросила Джейн.
— Исчерпана, — ответил муж. — Выпьем еще по одной?
— Давай.
Грифф поднялся, взял стаканы и удалился на кухню.
— Через час стемнеет. Может, хватит копать? — обратилась Джейн к Люку.
— Нет. Буду копать, пока все не сделаю.
Джейн вернулась мыслями к Гриффину. В чем дело? Что с ним? Неужели он никогда не смирится с тем, что я богата? В конце концов, я же не кичусь этим. Просто у меня в банке лежит немного денег. Но он прав в одном: я знаю, что у меня всегда будет доход. А он о себе этого сказать не может.
Гриффин мог рассчитывать только на те деньги, которые зарабатывал — день за днем, сезон за сезоном. А ведь он, черт побери, мужчина!
Джейн улыбнулась. Муж все же позволил ей оплатить две вещи: «лексус» и Мерси Боумен, без которой, учитывая их работу и факт существования Уилла, они бы просто пропали.
Джейн снова вздохнула. Приходилось признать, что в вопросе о доме Грифф был непреклонен, дверь между нею и Гриффом оставалась закрытой, и об этом можно было только сожалеть.
Оглашая окрестности сиреной, в конец улицы, к больнице, промчалась «скорая помощь». Кто-то умирал, рождался, кого-то спасали от смерти.
Солнце начало заходить. Перевалило за девять.
Люк копал все глубже.
Джейн молчала.
Именно так все и делается. Главное — неустанный труд. В голову ей пришла мысль о Моцарте и гусином пере, наготове лежащем на листе бумаги. Сады. Музыка. Все это — труд.
Вернулся Гриффин и подал ей стакан. Следом прибежал Редьярд, сел подле Джейн и стал смотреть на ворон.
Джейн закурила и сделала два больших глотка вина. Погладила бархатистые уши пса. А когда наконец заговорила, речь ее казалась арией, исполняемой со странной, волнующей монотонностью — арией из оперы на тему о владении домом.
— Если у нас будет собственный дом, мы от этого только выиграем, — начала она.
Гриффин вздохнул: он понял, что жена готовится произнести речь.
— …не надо. Не отмахивайся. Послушай меня. Тебе всегда придется переезжать с места на место. Такова участь всех актеров. Это твоя работа — находиться там, где ты нужен. Но, видит бог, это не значит, что ты должен там потеряться. Вы, актеры, тоже люди — с человеческими потребностями и наклонностями. И вам необходима некая точка опоры, чтобы выжить. Иначе вы однажды выйдете в мир и больше не вернетесь, потому что некуда будет возвращаться, когда потерпите неудачу. А это непременно произойдет. У тебя уже бывали неудачи и будут еще. И у меня тоже. Таков театр. Неудачи случаются у всех. Все дело в том, как их пережить. Господи, Грифф, — рассмеялась она. — Неужели я одна была свидетелем твоей карьеры? Неужели ты сам все забыл? Не помнишь, через какой ад тебе пришлось пройти? И протащить нас с Уиллом? Все те годы, когда почти получалось — но только почти. И знаешь, любимый? У тебя всегда было куда вернуться — ко мне. Я — твой дом. Ты это знаешь? Там, где находилась я, ты был в безопасности, что бы ни случилось. Но если я тебе нужна — а я тебе нужна, это точно, — необходимо такое место, где я могла бы находиться.
Люк перестал копать, вынул похожий на тряпку платок и вытер лицо и шею.
Гриффин пригубил вино.
— Нам нужна стабильность, дорогой. Я одна воспитываю Уилла. И, слава богу, есть еще Мерси. А ты и сейчас уже появляешься здесь нечасто. Я понимаю, это не твоя вина, — поспешно добавила Джейн. — Мне тоже не удается бывать дома столько, сколько хотелось бы. Но именно я должна гарантировать: если что-то пойдет не так, для нас все останется по-прежнему. Для нас для всех.
— Джейн, мне не нужен дом, — сказал Гриффин. — По крайней мере, теперь. — Он понизил голос, чтобы не услышал Люк: — Купить этот дом, учитывая мое финансовое положение, значило бы загнать себя в ловушку. А я не хочу в ловушку. Слишком рано. И на этом я закрываю тему. Просто еще слишком рано.
Он откинулся на спинку стула.
Джейн была раздавлена.
Что он подразумевает под ловушкой? Ее, Джейн? Их семью? Уилла, Мерси, Редьярда? Счастливые дни, прожитые вместе?..
— Ловушка?
Гриффин поднялся.
— Пойду приму душ. Потом я ухожу.
Он наклонился и поцеловал ее в щеку.
Джейн отвернулась.
— О’кей, — пробормотала она. — Прекрасно. Конец истории.
Ничего не ответив, Гриффин взял свой пустой стакан и вернулся в дом, Редьярд остался с Джейн.
Я… не заплачу. Все пройдет. Я больше не стану поднимать эту тему. Пока. Надо вести себя умнее. Он волнуется — тревожится о следующем сезоне: пригласят его снова или нет и какие дадут роли…
И все-таки Джейн была расстроена. Она не видела никаких причин, почему бы ей самой не купить этот дом.
Провались пропадом, эта его ловушка. Будь проклята.
Она, Джейн, сумеет найти выход. И откроет дверь в дом номер 330 по Камбриа-стрит, Стратфорд, Онтарио, где сидит сейчас на задней веранде, глядя на спящих ворон.
Джейн посмотрела вверх и, сама того не сознавая, принялась сквозь слезы считать на небе звезды.
— Стоп, — прошептала она себе.
Но продолжала считать и какое-то время не могла остановить поток слез. Все это слишком напоминало ее собственный побег из ловушки детства: семейные деньги, на роду написанная доля стать женой какого-нибудь владельца плантации и покорно повторить судьбу матери — рука, безвольно вложенная в руку отца Джейн при венчании, и последующая череда нежеланных детей, нежеланных светских обязанностей и привилегий. Добро пожаловать в Плантейшн, штат Луизиана, — царство хлопковой коробочки, хлопковой королевы и хлопкового вредителя, водяного щитомордника, — хотя о последнем обычно никто не вспоминал. И теперь еще царство табака. С начала 50-х, после изобретения искусственного волокна, табак стал конкурировать на полях с хлопком, и деньги потоком хлынули в Дельту. О господи, как она все это ненавидела и хотела одного — сбежать. На Север. Только на Север. Как можно дальше от настырных собственнических голосов и цепких собственнических пальцев — мое, мое, мое — наши дети, наша земля, наше положение в обществе. И Ора Ли Терри повернулась спиной ко всему этому, щелкнула каблучками своих рубиново-красных лодочек и стала просто Джейн.
А если обзавестись собственным домом — поселиться вдали от прошлого, тогда ты действительно в безопасности. Нет больше ни цепких пальцев, ни настырных притязаний. Свобода. Свобода от мертвого груза минувшего.
4
Воскресенье, 5 июля 1998 г.
В этот день жара стояла совершенно убийственная.
Джейн решила расположиться на кухне — там работал потолочный вентилятор и была открыта задняя дверь. Платье на Джейн было светло-голубое — одно из четырех, заказанных по Канадскому каталогу Л. Л. Бина. Медовые волосы она собрала в короткий хвостик и перевязала голубыми лентами, как в детстве. Две ленты — сверху и снизу.
Зеленоглазая, с правильными чертами лица, Джейн не была ни красивой, ни уродливой. Она была соблазнительной — возбуждала интерес. Что это за женщина, окутанная молчаливой тайной? — спрашивали себя люди. Тем, кто ее плохо знал, казалось, будто Джейн просто тихо существует в тени мужа-актера, сына Уилла и театральной профессии. Большую часть времени она проводила в мастерской или в бутафорском отделе театра — затаившись в тишине, словно самой судьбой ей было предназначено вечно оставаться незаметной.
Но все это не имело отношения к действительному положению вещей. В жизни Джейн хватало не только обыденного, но и невероятного. И тем не менее на улице, на работе, даже с друзьями, по выражению ее лица ни о чем подобном невозможно было догадаться.
А сегодня с утра объявился Трой. Из ниоткуда.
Возник совершенно внезапно. Она даже не могла вспомнить его фамилию. Просто Трой — из школы в Плантейшне — из времени всеобщих влюбленностей. Ни тебе звонка, никакого предупреждения. Ничего. Свалился как снег на голову.
Она была в другом голубом платье — потемнее этого. Сидела за кухонным столом, раскрыв перед собой альбом, расстегнув все пуговицы, подвязав груди снизу красной лентой в горошек, и наслаждалась прохладой от вентилятора.
Гриффин играл утренник. Мерси согласилась пожертвовать своим выходным и гуляла с Уиллом и Редьярдом в парке. А Джейн решила посидеть одна и поломать голову над загадкой святого Георгия.
В это время раздался звонок в дверь.
Кто бы это мог быть?
Джейн застегнула платье, прошла через столовую и гостиную к передней застекленной двери. За дверью стоял мужчина в белой рубашке поло и белых теннисных шортах. Смутно знакомый. Короткие волосы, плотный, спортивный.
Джейн открыла дверь:
— Вам кого?
Гость повернулся к ней лицом.
— Трой!
— Привет! — не улыбнулся, нахмурился.
— Мы с тобой лет десять не виделись.
— Пятнадцать.
— Давай заходи. Рада тебя видеть! — Сейчас, вспоминая эти слова, Джейн поморщилась — шею и плечи свело, словно судорогой. — Не могу поверить, что ты в Канаде, провинция Онтарио, город Стратфорд. Что ты здесь делаешь? — Она пропустила его в прохладу дома. Не в театр же он приехал смотреть пьесы? Это мог сделать кто угодно, только не Трой.
— Приехал повидаться с тобой.
В его признании было нечто будоражащее. Но, отметила про себя Джейн, у нее это чувство больше относилось к прошлому, чем к настоящему. А почему бы ему не захотеть повидаться? Мы были знакомы все детство — и потом, до самого моего отъезда.
Она пригласила его войти и предложила выпить. Говорили немного, тем не менее Трой явно не собирался уходить. Наоборот, от него исходило ощущение некого ожидания. Но чего? И для чего?
Джейн покормила его обедом — подала тарелку супа и сэндвич. Сама она уже поела вместе с Уиллом и Мерси. Теперь они, скорее всего, в беседке, что в парке у реки. Эти ежедневные спокойные минуты были для Джейн истинным даром свободы, который она очень ценила. Уилл и Мерси, наверное, наблюдают, как Редьярд гоняется за белками, и она наконец может уединиться с бокалом вина. Блаженство. Просто зверское блаженство. И вот оно нарушено.
Господи! Пятнадцать лет. Школа начала 80-х.
В ту пору Трой разбил ее сердце. Хотя теперь она понимала, что разбивать особенно было нечего. Ничего потрясающего в судьбе Джейн до тех времен не случалось, и она в каком-то смысле отвернулась от жизни. Застенчивая, думающая — ищущая, — она рано испытала боль. Это не касалось секса. Дело было в ее невероятно претенциозной, тщеславной матери, столь же невероятно застенчивом, почти незаметном отце, в ее жалких братьях и сестре, которые, как и она, страдали от того, что мать деспотично распоряжалась судьбами своих детей вопреки их желанию. Слишком много денег и недостаточно воли. Чрезмерно много прошлого и никакого настоящего. Деньги, традиции и безнадежные начинания удушают, сделала вывод Джейн, когда наконец сбежала с Юга. Каждые две недели она повторяла это в различных вариациях доктору Фабиану, который, стараясь обеспечить ей нормальную жизнь в будущем, принуждал ее признаваться во всех слабостях и даже поражениях.
А потом появился Трой. В первый раз она увидела его на теннисном корте в местном клубе. Уже в двенадцать лет он проявлял способности и талант к игре. Казалось, теннис у него в крови. Судьба была благосклонна к Трою: он родился в удачное время, к тому же крепким и сильным, и поэтому считал, что ему особенно стараться ни к чему. Приходишь, играешь и выигрываешь, говорил он с неизменной улыбочкой. Но после шестнадцати такое отношение стало губительным. Трой начал пропускать тренировки. Потерял форму и сломался. Это заняло всего два года. Все ждали, что он выиграет Кубок Дэвиса, Уимблдон и другие турниры «Большого шлема». Но ничего подобного не случилось. Он потерялся в глазах людей и потерялся на корте. Кто-то однажды заметил: «Недостаточно просто иметь талант — нужен еще талант, чтобы обладать талантом».
Джейн вздохнула. Он был так красив на кор те. Просто дух захватывало. Ей было тогда пятнадцать-шестнадцать, ему — семнадцать-восемнадцать. А в девятнадцать он исчез.
Она потянулась за бутылкой, налила себе еще вина, зажгла очередную сигарету и сосчитала окурки в пепельнице. Шесть. Это за какое время?
С момента, как Уилл ушел на прогулку с Мерси. Господи!
Впрочем, почему бы и нет?
Сегодня суп удался. Самый любимый. Желе из мясного бульона, лимонный сок, свежий базилик. Сэндвичи с помидорами и луком-латуком на дрожжевом хлебе. И взбитое мороженое, которое обожала Мерси.
И все это она предложила Трою. Но тот словно не заметил. Ел, будто на автопилоте.
А потом они сидели в гостиной, где их более или менее охлаждал вентилятор. Джейн отметила, как плотно облегали тело Троя рубашка и шор ты — словно человек начал заниматься бодибилдингом, но продолжал ходить в старой одежде. На ногах у Троя были мокасины вроде тех, какие носил Гриффин. Странно молчаливый, — ведь наверняка нашлось бы что порассказать о тех годах, пока они не виделись, — Трой ел и наблюдал за Джейн, будто собирался заговорить, но не мог подобрать слов. А потом внезапно стало ясно, что дело не в словах.
Джейн отметила краем глаза — какое-то неопределенное движение. Трой обошел ее стул. Ищет пепельницу или не знает, как пройти в ванную, подумала она.
Но он хотел не пепельницу. Он хотел ее.
Он снова возник перед ней, скинул шорты и отшвырнул их в сторону.
Наклонился, грубо схватил ее за волосы, другой рукой рванул с себя трусы, и в этот момент в лицо и на платье Джейн брызнула сперма.
И все это молча.
А затем Трой упал на колени, отполз в угол и разревелся, как брошенный ребенок. Теннисный герой ее прошлого.
Минут пять Джейн не могла двинуться с места; потом услышала, что с прогулки вернулись Уилл и Мерси. К счастью, они вошли через заднюю дверь. Джейн заставила себя подняться и постаралась задержать их на кухне, предложив пломбир; сама же тем временем, притворившись, что вспотела, приложила к платью влажное кухонное полотенце.
Несколько мгновений она едва дышала. И вот наконец услышала, как открылась и закрылась передняя дверь. Потом на улице взревел мотор, и от дома отъехала машина.
— Кто это был? — Мерси вопросительно посмотрела на Джейн.
— Никто. Так. Просто старинный школьный приятель, — ответила она.
Джейн помнила, как ее после этого трясло — она даже не смогла налить себе вина.
Мерси пришла ей на помощь.
— Школьный друг привез вам плохие вести, дорогая? — спросила она.
Джейн скривила губы в странной слабой улыбке.
— Вроде того. Старое пламя погасло. — Она дотронулась до платья, надеясь, что на нем ничего не заметно. И добавила шепотом: — И вообще, все было односторонним. А теперь я даже не могу припомнить его фамилии.
— Очень жаль.
— Не надо жалеть. Все прошло.
— Разумеется.
Уилл успел пристроить четыре новых элемента в свой пазл, но тут Мерси увела его подремать — воскресная традиция семьи Терри, установленная еще во времена бесконечных обедов, на которые собирались толпы дядюшек, кузенов и тетушек. Вернувшись, Мерси обнаружила, что Джейн открывает новую бутылку вина. Редьярд растянулся на прохладных плитках пола под столом.
Мерси молча села, выудила из пачки сигарету и прикурила, чиркнув деревянной спичкой. Кухонные спички Джейн. Очень практичные — если захочешь спалить дом. Ни она, ни Джейн, ни Гриффин не курили в доме при Уилле. Таково было правило.
— Я пойду наверх, — неожиданно объявила Джейн и, забрав бутылку, направилась в холл. Но перед тем наполнила стакан Мерси. — Тоже хочу поспать.
— Разумеется, дорогая. Давайте. А я с удовольствием посижу.
Когда из театра вернулся Гриффин, Мерси сказала, что у Джейн разболелась голова и она легла в постель. Мерси раздумывала, не сообщить ли ему о лишней бутылке вина и госте из прошлого, но решила воздержаться. Что бы там ни случилось, не ее дело. Захочет Джейн рассказать — расскажет сама.
Джейн больше не возвращалась к этой теме в разговорах с Мерси, а Гриффину вообще ничего говорить не стала.
На следующее утро, слушая семичасовые новости, она узнала о смерти Троя, который погиб в автокатастрофе на шоссе 401. Была названа его фамилия — Престон.
Джейн выключила радио, чтобы не слышать подробностей. Она не хотела знать.
Он мертв.
И она больше ни разу о нем не упомянула.
Даже доктору Фабиану.
Но прошлое не уходило.
Неделями она размышляла по ночам о судьбе Троя в свете своей судьбы. Она бежала из Плантейшна искать новую жизнь без прежних родственных связей. А Трой — очевидно, в погоне за своими желаниями. Можно назвать как угодно: желания, страсть, просто отношения. И не только не преуспел — попытка привела к гибели.
Гибель. Что может быть бесполезнее? Но она, Джейн, осталась жива, и эта мысль терзала ей душу. Погиб только Трой. Двое бежали от несчастного прошлого — и столкнулись с будущим. Но для одного это столкновение оказалось роковым, а другая выжила.
Выжила?
Да.
5
Понедельник, 6 июля 1998 г.
«Даун-стрит» был любимым рестораном артистов. И в сам ресторан и в бар во время театрального сезона нельзя было зайти, не наткнувшись на нескольких членов фестивальной команды. Сьюзен, хозяйка, бдительно следила за туристами — те ждали от актеров слишком многого: считали возможным подсаживаться к знаменитостям и надоедать бесконечными разговорами. В нужный момент Сьюзен вмешивалась и сообщала: Ваш столик готов; пожалуйте вон туда. Меню отличалось эклектичностью — частично итальянское, частично азиатское, частично североамериканское, были даже греческие блюда. Шеф-повар справлялся со всем и умело оценивал аппетиты гостей — кому сколько положить на тарелку. Вина были превосходными, вдобавок в розлив предлагались многочисленные лучшие сорта импортного и местного пива.
«Даун-стрит» мог похвастаться настоящим ирландским баром с темным полированным деревом и старинными зеркалами. На удобных стульях легко располагалась дюжина, а то и больше посетителей. При желании там можно было и поесть. Столики тянулись по всей длине довольно узкого помещения, а в дальнем конце стояли на возвышении, откуда окна выходили на реку Эйвон. Стены украшали театральные афиши.
Празднование дня рождения Гриффина происходило в передней части — напротив бара; причем Джейн договорилась, что они могли использовать все пространство.
К семи начали собираться гости и среди них Найджел Декстер со своей женой Сьюзен Уортингтон, тоже принадлежащей к театральной труппе.
Грифф нарядился в довольно необычного покроя голубой пиджак из индийского льна и объявил, что это его специальный костюм для дня рождения.
— Полюбовавшись на тебя в именинном наряде, признаюсь, что предпочитаю тебя в натуральном виде, — проворковала Сьюзи, пышная блондинка, наделенная природным пленительным обаянием.
— И когда это ты удостоилась? — поинтересовалась Джейн. — Или есть что-нибудь такое, чего я не знаю?
— Тут нет никакой тайны. Это было в театральном училище, где иногда поневоле приходится обнажаться. И чтобы тебя успокоить, сообщаю, что тогда же я увидела Найджела и он меня совершенно сразил, так что Грифф тут же вылетел у меня из головы и его образ увял, не успев расцвести.
— Поздравляю. — Найджел дружески пихнул в бок Гриффина. — Тридцать лет — и уже увял.
— Лучше поздравь ее, — Грифф поднял бокал, приветствуя Сьюзи, — и наряд, в котором она выходит в «Много шума». Там я мог бы появиться в своем именинном костюме — никто бы даже не заметил: ведь все таращатся только на Сьюзи и ждут, когда вырвутся на свободу ее буфера.
Первая его шутке рассмеялась сама Сьюзи. В костюмерном цехе она была известна тем, что ее трудно упрятать в платье. По выражению одного дизайнера, она выползает из декольте, как поднимающееся тесто.
Зои Уолкер приехала в пятнадцать минут восьмого вместе с Джонатаном Кроуфордом. Рядом с Джонатаном она казалась особенно маленькой: пять футов два дюйма против его шести футов трех дюймов.
Джейн не забыла встречу с Зои после премьеры «Много шума», когда инженю так небрежно и царственно ее проигнорировала. Что она учудит на этот раз?
Зои, безусловно, ждало большое будущее, если только она, в отличие от многих молодых актеров, не запутается в мире соблазнов кино и телевидения. Грифф и Найджел шарахались от них, словно от чумы, — они хотели быть актерами, а не звездами. Звездность, возможно, придет — потом. Самое главное и существенное — стать актерами.
Зои Уолкер была, без сомнения, честолюбива. Это проявлялось во всем — в том, как она одевалась, и в ее поведении — вроде бы скромная, она постоянно оказывалась на виду. И явно обладала свойством манящего пламени, на которое летели мотыльки.
Джонатану Кроуфорду недавно перевалило за сорок. Канадец по рождению, свою репутацию — а она была весьма солидной — он приобрел в Нью-Йорке. Тогда, хотя ему и было уже под тридцать, его считали чудо-юношей. И не зря: угловатым лицом, притягательно-угрюмым взглядом и шапкой темных волос, красиво ниспадавших на лоб, он и впрямь походил на подростка-пловца или юного теннисиста. Он выглядел так, словно явился прямо из олимпийского бассейна или с корта Уимблдона, где только что одержал блестящую победу. И до сих пор Джонатан поддерживал этот образ тем, что носил темную, свободную одежду — прекрасного покроя, но создающую впечатление, будто владелец недавно похудел и от этого только выиграл.
Он сел справа от Гриффина, пожал ему руку и сказал:
— Теперь, когда тебе стукнуло тридцать, могу лишь напутствовать тебя — вперед! И уверен, что ты на это способен.
— Спасибо, Джонатан.
— Предвкушаю, как в следующий сезон буду твоим режиссером в «Напрасных усилиях любви»[12].
Гриффин посмотрел на Джейн.
— Почему бы и нет? — отозвалась та. — Ты, безусловно, достоин этого, дорогой.
Она подняла бокал и выпила. Для всех было заказано шампанское — двенадцать бутылок.
— Вы ведь Джейн Кинкейд, — сказала Зои Уолкер. — Боюсь, вы меня не помните. Мы встречались на премьере «Много шума из ничего».
Умная девочка, подумала Джейн.
— Конечно же, помню, — ответила она.
— Вы не разрешите мне на секундочку украсть вашего мужа?
Джейн пожала плечами.
— Смотря для чего, — сказала она с улыбкой.
— Я хочу отдать ему подарок.
— О, тогда — пожалуйста.
Она посторонилась, и Зои скользнула на ее место.
На ней было классическое черное платье с узенькими бретельками — и никаких украшений, кроме сверкавших на фоне черных волос сережек с фальшивыми бриллиантами.
Абсолютно очаровательна — расхожее определение, столь любимое критиками.
Очаровательна — да. Но опасна, решила Джейн.
— Время даров, — заявила Зои.
Она подала Гриффину перевязанный широкой серебряной лентой маленький пакет в звездно-синей упаковке.
— С днем рождения. Открой.
— Спасибо. — Грифф поцеловал ей руку, потянул серебряную ленту и разорвал обертку.
Джейн наблюдала, стараясь не проявлять слишком явно свой интерес.
— Мячи для гольфа! — воскликнул Грифф.
Черт бы ее побрал, подумала Джейн, отвернувшись. Бедный Уилл.
— Прочитай карточку, — сказала Зои.
Грифф развернул открытку и прочел вслух:
— «… очередная пустяковина, которая тебе совершенно не нужна. С любовью от Зои».
Джейн заставила себя рассмеяться вместе с остальными.
— Что ж, — улыбнулся Грифф. — А теперь время шуток. У меня есть кое-что в запасе.
— Отлично, — отозвался Найджел. — Надеюсь, это не та самая шутка, которую я слышал раз восемьдесят, — он покосился на Сьюзи. — При общей гримерной, как тебе известно, очень трудно не исчерпать свой репертуар.
Грифф пропустил это мимо ушей.
— Как ты думаешь, сколько потребуется актеров-гетеросексуалов, чтобы поменять лампочку?
— Понятия не имею, — хихикнула Зои.
— Потребуются они оба.
Зал огласился смехом и гиканьем. А когда установилась тишина, бокал поднял Джонатан.
— Хорошо, — сказал он, кивнув на Гриффина и Найджела. — И, на наше счастье, вы оба тут…
В это время появились Оливер Рамси и Роберт Мейлинг, разумеется, с подарками. В прошлом актер, в свои сорок пять Роберт был художественным руководителем фестиваля. Когда-то он пользовался большим успехом на сцене, но к тридцати шести начал проявлять интерес к режиссуре. И в сорок был назначен на нынешний пост, на котором добился еще больших успехов. В этом сезоне он поставил «Виндзорских кумушек» и завершал репетиции «Ричарда III».
— Господи, чтоб тебя, боже мой! — проворчал он, усаживаясь, — никогда, никогда, никогда не ставьте «Ричарда Третьего». В жизни и без того довольно кошмаров!
— Но мы слышали столько восторгов, — возразил Найджел. — Говорят, на сцене все просто буйствуют.
— Буйствуют, вот именно. Как буйнопомешанные.
Словно подчеркивая значимость этого заявления, на столе появилась водка, причем без всякого напоминания со стороны художественного руководителя — его вкусы и потребности были прекрасно известны.
— Ну, ну, ну, — покачал головой Оливер. — Ты прекрасно знаешь, что все великолепно.
— Великолепно, — согласилась Джейн.
— Слава богу, сегодня понедельник. Но мне все-таки пришлось целый день промучиться с дизайнером по свету. Чертово расписание — в другое время сцену не получить. — Он выпил большую часть своей водки. — И еще эти проклятущие профсоюзы… — режиссер повернулся к Гриффину. — Итак, теперь ты — старик.
— Иду к тому.
— Вот чо я тебе припер. — Роберт перешел на нарочитое просторечие. — Надеюсь, парень, тебе понравится, — и подал большой коричневый конверт, на котором было написано: «Гриффу — с любовью, восхищением и завистью. С днем рождения. Роберт».
Грифф рассмеялся.
В конверте оказалась его фотография — в голом виде, но спиной к объективу. Стоя, он умывался после снятия грима.
— Ого-го! — воскликнула Сьюзен, подливая Роберту водки.
— Знакомая картина, — прокомментировала Джейн. — Грифф как он есть.
— Откуда она у вас? — спросил Гриффин, передавая фотографию Найджелу и Сьюзи.
— Государственная тайна, — хмыкнул режиссер. — У меня камеры в каждой гримерной. Только так и удается блюсти мораль труппы — пресекать всякие шуры-муры.
— Понятно. А если серьезно?
— Это тоже тебе, — перебил именинника Оливер. — Я зашел только отдать подарок и выпить бокал шампанского.
Он вручил Гриффу пакет размером с книгу, в праздничной обертке. В такой бумаге с шариками и клоунами приносят подарки детям на праздники.
Внутри оказались две видеокассеты в коробке: великая французская классика — «Дети райка» с Арлетти, Жаном-Луи Барро и Пьером Брассером.
— Господи, Олли! Какой подарок! — Гриффин поднялся и в душевном порыве расцеловал Оливера в обе щеки. — Спасибо! Большое спасибо!
Оливер зарделся от удовольствия.
Джейн подала ему бокал шампанского.
— И от меня спасибо. Я столько слышала об этом фильме, а видеть не приходилось.
— Умрешь, — отозвалась Сьюзен. — Это просто потрясающе. Молодец, Олли.
Оливер поднял бокал:
— С днем рождения. Я буду в баре.
— Если бы тебя там не оказалось, это был бы не «Даун-стрит», — ответил Грифф и сел.
— Какой он милый, — проворковала Сьюзи.
— Да, мне повезло, — отозвалась Джейн.
— Как твои окна? — спросил Роберт. — Хотел заскочить, посмотреть, но так и застрял на целый день с электриками.
— Я довольна, — ответила она. — Вот только проблема с лицом Георгия. Никак не могу представить. А классические образцы, которые я видела, когда изучала витражи, совершенно не нравятся: или слишком сладкие, или слишком суровые…
— Всем привет! Извините, что опоздали.
В дверь ввалилась Клэр Хайленд. За ней следовал Хью.
— А я уж начала думать, не забыли ли вы, — сказала Джейн. — Хорошо, что вам удалось прийти.
Новым гостям освободили место, и Клэр устроилась рядом с Джейн.
— Счастливого, счастливого, счастливого дня рождения!
— Да, — поддакнул Хью. — С днем рождения.
— Спасибо, — ответил Грифф.
Джейн повернулась и крикнула:
— Сьюзен, еще шампанского!
Сьюзен кивнула из-за стойки бара.
— Боже, какое великолепное шампанское! И как все празднично! — воскликнула Клэр.
Она была по происхождению шотландка, и Хью часто повторял, что жена вышла за него только ради фамилии Хайленд — ведь так называется город на родине ее предков. А она обычно возражала — не из-за фамилии, а из-за денег, но все знали, что это не так, поскольку к моменту женитьбы оба были довольно бедны — Хью преподавал в университете, а Клэр была его студенткой. Сознательно бездетный брак оказался идеальным. Супругов, помимо прочего, объединяла любовь к языкам и европейским культурам, особенно к искусству XVIII и XIX веков.
Клэр была в платье своего любимого «грибного» оттенка: она вообще предпочитала мягкие коричневатые и сероватые тона — за одним исключением. Не признаю бежевого, говорила она. И эти цвета, как бы они ни назывались, всегда удачно сочетались с ее маленькой фигуркой, слегка веснушчатым личиком и огненно-рыжими волосами (Джейн как-то в шутку обвинила Клэр, что та каждый день рисует себе веснушки — так они напоминали умело расположенные соблазнительные мушки). Сколько Джейн ее знала, Клэр всегда была с элегантной короткой стрижкой и каким-то образом умудрилась сделать ее символом своего «хайлендского» происхождения. Она часто повторяла бабушкину присказку: «Помни — ты дитя хайлендских лордов». Уже поэтому она по праву носила свою теперешнюю фамилию. А происходила Клэр из рода Макдугалов.
Хью был высокий, худощавый и очень энергичный. Его руки редко оставались в покое, и, разговаривая, он имел обыкновение покачиваться с пятки на носок, словно подчеркивая значимость своих слов. До отставки, читая лекции по современной литературе, он буквально завораживал студентов этим танцем под музыку речи.
Джейн познакомила Клэр и Хью с Зои Уолкер.
— О да! — встрепенулась Клэр. — Мы вас видели в «Много шума из ничего». Вы были очаровательны.
Джейн улыбнулась: она помнила, что в лексиконе Клэр слово «очаровательно» означало «интересно».
— И кого же ты убил сегодня, Джонатан? — с ехидцей спросил Роберт, наполняя рюмку Кроуфорда.
Зои хмыкнула. Ей уже приходилось пару раз присутствовать при том, как Роберт и Джонатан скрещивали шпаги, и ее это восхищало.
Джонатан хотел конкретного актера на роль Бенедикта, но Роберт — достаточно категорично — отказал. Он не годится, абсолютно не годится.
Актер, о котором шла речь, с точки зрения Роберта, был невыносимо манерным и англичанином до мозга костей. Последнее в особенности являлось тем качеством, с коим Роберт считал своей миссией бороться. Прошли дни, когда на все главные роли мы импортировали англичан. Я с этим покончил. У нас, черт побери, канадская труппа, и мне нужны в ней канадцы. Конечно, если бы можно было предложить парочку ролей Полу Скофилду, я бы ни секунды не раздумывал. Но Пола не так-то просто заполучить. Он артист. И этим все сказано.
Конец спору. Джонатан на какое-то время сник. Роль получил Джоэл Харрисон — актер, которого Джонатан терпеть не мог. Позже Джонатан сумел отомстить, совершенно отравив жизнь Харрисону, хотя тот, по мнению большинства, оказался великолепным Бенедиктом и постоянно вызывал смех и аплодисменты зрителей. В роли Форда в «Кумушках» он тоже выступал с большим успехом. Чего и добивался Роберт.
Джонатан осушил и снова наполнил бокал и только потом ответил на вопрос, который, конечно, касался его манеры обращения с актерами.
— Я не привык обсуждать свои преступления за столом, — сказал он. — Но завтра вы, возможно, увидите Харрисона, висящим на дереве.
Все расхохотались.
— Во всяком случае, — продолжал Джонатан, — утром я уезжаю в Филадельфию, так что присутствующие могут чувствовать себя в безопасности. Никаких новых жертв — пока, — он улыбнулся и выпил.
— Коль скоро речь зашла о жертвах, — Клэр поставила свой бокал на стол. — Я сегодня смотрела заседание по делу Клинтона. Кто-нибудь еще видел?
— Я, — отозвался Джонатан. — Захватывает. Эта Трипп[13]… Как ее имя?
— Линда.
— Да… давала свидетельские показания, вываливала абсолютно все, представляю, сколько ей заплатили. Интересно, кто бы ее мог сыграть…
— Неужели уже собрался ставить фильм?
— Кто-нибудь когда-нибудь соберется. И я хочу быть готовым к режиссуре. Жаль, что Джейн Фонда стареет.
— Джейн Фонда в роли Линды Трипп? — изумилась Клэр.
— Нет, нет и нет! В роли Хиллари.
— Мне казалось, идет подбор актрисы на роль Линды.
— Идет подбор на все роли.
— Глен Клоуз — она превосходно играет негодяек, — предложила Джейн.
— Справедливо, — согласился Джонатан. — Но проблема в том, что у нее есть подбородок. А у негодяйки Трипп его нет.
— Нельзя издеваться над внешностью людей, — упрекнула его Клэр. — Она не виновата, что родилась без подбородка.
— Вы что же, на ее стороне, миссис Хайленд?
— Ни в коем случае. Она мне отвратительна. Но не в ее воле изменить свою внешность. Господи, на лекциях я рассказываю о жизни многих исторических личностей, которые были страшны как смертный грех. И пишу о них статьи. Однако ни один автор, из тех кого я читала, не ставит знак равенства между отталкивающей внешностью человека и его ролью в истории. Очень часто все бывает наоборот. Вспомните Сэма Джонсона, вспомните Вольтера.
— Все это так. Однако писатели странные люди… Обычно они приберегают сарказм для личной жизни… Лиллиан Хелман, Трумэн Капоте, Мэри Маккарти, Эрнест Хемингуэй — хорошие примеры. А в пьесах и романах они расточают сострадание, сочувствие и зовут к примирению. В вашем же случае, мадам, все как будто наоборот.
— Мэри Маккарти в жизни не написала ни одного доброго слова. И Лиллиан Хелман тоже. А о Хемингуэе и говорить нечего. Ваша теория не проходит, мистер Кроуфорд.
— А вы? Вы в жизни написали хоть одно доброе слово?
— Не помню, но не исключено. А вы сказали хоть одно доброе слово?
Хью негромко кашлянул и предупреждающе поднял руку:
— Клэр, не забывай, мы на празднике.
— Хорошо, дорогой.
— Может быть, не стоило говорить о Линде Трипп? — предположила Сьюзи. — От нее одни неприятности.
Возникла недолгая пауза, во время которой наливали шампанское, закуривали сигареты и поедали оливки. Потом Клэр снова нарушила молчание:
— Сегодня утром по радио сообщили об ужасной аварии. Человек заживо сгорел в своей машине. Чудовищно!
— Что-что? — переспросил кто-то.
Джейн отвернулась. Заживо сгорел?
— Миссис Хайленд, если это так чудовищно, зачем вы нам об этом рассказываете? — поинтересовался Джонатан, поднося оливку ко рту.
— Такова моя работа, мистер Кроуфорд, — распространять новые сведения. Особенно насчет прошлого. Это и есть история.
— Даже самые плохие?
— Даже самые плохие. Они заставляют нас сохранять жизнерадостность в настоящем. А какова ваша миссия? Распространять хорошие новости?
— Эй, кто-нибудь, поверните штурвал, — вмешался Найджел. — Опять нужна новая тема.
— Вы видели «Гамлета» в постановке Браны? — спросила Зои. — Он вышел на видео.
Джейн извинилась и спустилась в туалет. На двери женской комнаты красовался женский торс, а на соседней — мужской. Раньше ей всегда приходилось пересиливать себя, чтобы не потрогать изображения. Но сегодня такого желания не возникло. Она вошла в первую попавшуюся кабинку и заперлась в ней.
Господи, что же мне делать?
Ничего. Забыть, и все.
— Забыть! — пробормотала она вслух и затем прошептала: — Шутишь? Как я могу забыть? Он мертв. Сгорел заживо. Я этого не знала.
Представь, что ты об этом не слышала.
Я слышала, что он погиб, и только. Зачем эта чертова Клэр стала рассказывать подробности?
Клэр не виновата. Она ничего не знала.
Клэр не знала? Зато я знаю. Разве этого не довольно?
— Боже! Боже! Боже!
Джейн!
— Что?
Ты говоришь сама с собой. Вслух.
— Кому какое дело?
Могут войти и услышать.
— Пусть.
Скажи на милость, что случилось плохого?
— Как ты можешь спрашивать? Что плохого… Не будь идиоткой — все плохо!
Тишина.
Джейн закурила. Она сидела на крышке унитаза, положив ногу на ногу.
Возвращайся наверх!
— Не могу.
Можешь! Не валяй дурака.
— Не могу. Они все поймут.
Не поймут, если по тебе ничего не будет видно. Снова тишина.
И затем: Это день рождения Гриффа. Ты хозяйка. Поднимайся наверх. Все думают, что ты ушла по нужде. Возвращайся.
— Мне плохо.
Ничего подобного.
— Плохо. Меня тошнит.
Джейн встала, подняла сиденье вместе с крышкой, и ее вырвало в унитаз. Она спустила воду. Теперь лучше?
— Лучше.
Прекрасно. Тогда вымой руки, прополощи рот и возвращайся к гостям.
— Да, мама.
Джейн улыбнулась своим словам и открыла дверь кабинки.
По пути наверх она положила в рот мятную лепешку.
— Мы опасались, что тебя смыло водой, — пошутила Сьюзи. — Все в порядке?
— Отлично. — Джейн наполнила свой бокал. — Так о чем мы говорим?
— О прежних временах, — ответил Найджел. — О театральном училище. О юношеских надеждах. И юношеских поражениях.
— Приятная тема.
— Ты не знаешь и половины, крошка. Как Грифф играл гиену в «Ноевом ковчеге». А мы со Сьюзи — медведя и волка. Вот потеха!
— Я тоже играла гиену на первом курсе, — вставила Зои.
— Готов поспорить, это было смешно, — отозвался Гриффин.
— Пожалуйста! — почти завопил Роберт. — Умоляю, крутите штурвал дальше!
Джейн наблюдала, как Грифф потягивает шампанское. И начала улыбаться, в очередной раз восхитившись красотой мужа. Черные блестящие волосы подчеркивают белизну гладкой белой кожи, умные, живые глаза, ямочки в уголках губ и на подбородке, повадки настоящего мужчины. Актер.
Джейн отвлеклась.
Она смотрела на лежащие на столах руки гостей и думала: Эти люди — мои ближайшие друзья… Здесь мой дом — мой город. Место, где я живу и где вчера… меня изнасиловали. А теперь собрались все вместе. Собрались и в нетерпении — все мы — в нетерпении — ждем.
Чего мы ждем?
— Чего мы ждем?
Она подняла глаза.
Играла музыка.
Кто-то пел.
Все глаза были обращены к ней.
— В чем дело? — спросила она.
— Ты только что сказала: «Чего мы ждем?» — ответила Клэр.
Джейн уставилась в бокал. И покраснела.
— Со мной тоже так бывает, — дотронулась до ее руки Клэр. — Ниоткуда — и вдруг слова. Это случается обычно, когда я пишу, — она улыбнулась.
Джейн благодарно кивнула.
— Наверное, ты обдумывала письмо своей строгой матушке.
6
Понедельник, 6 июля 1998 г.
Мерси сидела на кухне с прохладительным — бокалом клюквенного сока, в который добавила льда. Сбросив обувь, она под столом массировала пальцами ног спину Редьярда.
И улыбалась. Я знаю о себе несколько хороших вещей, думала она. Никто этого не скажет, а я скажу. Я могу вырастить четверых детей, могу перенести смерть, сохранить живой память, могу одновременно убирать в доме и готовить салат с омарами.
Потягивая сок, Мерси стала размышлять о Джейн. Она вся как на иголках. Что-то наверняка случилось. Смерть ее былой страсти? Нет. Нечто большее — более глубокое — возможно, опасное. Рвущееся наружу, но загоняемое внутрь и подавляемое. Узнала что-то о Гриффине? Заподозрила о себе? Болезнь? Опухоль? Господи, только бы не это!
Мерси вертела в пальцах бокал и слушала вечерние звуки за окном. Люк все еще был там и копал, копал, копал. Это продолжалось бесконечно. Но завтра он уже начнет сажать.
Ее мысли перенеслись к Монике Левински и президенту Клинтону. Она не знала точно, как относиться ко всему этому. Почему чертовы люди не могут оставить в покое личную жизнь других? Я согласна с Хиллари. Это республиканский заговор. Президента подловили и теперь хотят непременно распять. Что же до этой гнусной Трипп — записывать частные разговоры подруги, демонстрировать голубые тряпки — ужас!
Мерси услышала, как Люк прокашлялся и отшвырнул лопату. Видно, совсем вымотался. Она направилась к двери.
— У меня есть пиво и салат с омарами. Хотите? Идите сюда.
— Спасибо, конечно, — пробормотал он и пошел к своему грузовику.
— Любите острое? — спросила Мерси.
— Не очень.
— Там есть имбирь.
— В пиве? — хмыкнул Люк.
— Конечно, нет. В салате.
Люк ел, склонив голову.
Ему было пятьдесят — почти. Исполнится в сентябре. Всю свою жизнь Люк был правильным человеком, опорой семьи. Он старался их всех поддержать на плаву: дядьев, теток — или хотя бы некоторых из них — и своих родителей. Ведь кому-то же следовало заботиться об их выживании — потому что сами они словно стремились к своей погибели. Спиртное прикончило его отца. Дядя Джесс был наркоманом и страдал маниакальной депрессией. Однако даже самые безнадежные имеют право на крышу над головой. И Люк предоставлял ее в своем семейном доме. Или, по крайней мере, старался предоставить.
Он никогда не жаловался на то, что приходилось делать. Делал — и все.
— Хотите поговорить? — спросила Мерси.
— О чем?
— О том, что вас гложет. Ведь что-то такое есть. И это вовсе не цветочная клумба.
— Беглец опять удрал.
Беглец — так в семье прозвали Джесса. Он был старше всего на семь лет, скорее брат Люку, чем дядя. Он не разрешал себя лечить и ни разу не обращался к врачу. А сам баловался кокаином, марихуаной и иногда героином, которые доставал у местных торговцев.
— Печально слышать, — отозвалась Мерси. — Но третьего дня он был с вами. Помогал разгружать торфяной мох, овечий навоз и все прочее. И выглядел вполне прилично.
— Выглядел. Тогда. А в субботу, как только я ему заплатил, отвалил.
— Бедняга.
— И вы туда же — бедняга. И все эти социальные работники со своими слюнями… Меня тошнит от этого. И от Джесса тоже. Извините, но это так.
— Кто вас осудит? — пожала плечами Мерси. — Вполне понятно — после стольких-то лет.
— Все правильно. Но он — мой дядя.
Мерси поднялась и поставила в раковину пустую тарелку Люка.
— Интересно, а почему вы зовете его Беглецом?
— Потому что он все время хочет убежать от своих демонов. От Бога, от черта, от совести. Не знаю, от кого. Он на эту тему не распространяется. Во всяком случае, не очень. Знаю одно — он все время перебирает ногами. Шаркает, семенит, топает, как младенец…
— Вот и присеменит обратно, — заверила его Мерси. — Притопает или еще как-нибудь, но вернется. — Она усмехнулась. — Ведь всегда так бывало.
— Пока.
— Хотите «павлова»? Я испекла маленький дома на день рождения Гриффа. Но Джейн решила праздновать в ресторане.
— «Павлов»? Что это такое?
Мерси рассмеялась.
— Это австралийский торт. С меренгой, сбитыми сливками и абрикосами.
— Должно быть вкусно. Только попозже.
— Хотите покурить?
— Я к этому не притрагиваюсь.
Мерси опять рассмеялась:
— Да нет, болван вы этакий. Я имела в виду просто обычную сигарету.
— А, это другое дело.
Мерси села, Люк налил пива, и они закурили. Уилл наверху в сотый раз смотрел «Звездные войны».
Мерси поглядывала на Люка и думала: мы так ладим, что вполне бы могли быть семейной парой.
— Сегодня понедельник? — спросил он. — Совсем из головы вон.
— Понедельник.
— Хорошо. Завтра принесу саженцы и рассаду. К среде все закончим.
Джейн и Грифф поели в ресторане «Черч» — только вдвоем — и вернулись домой. Уже ступив на лестницу, Грифф спросил:
— Ты идешь?
— Поднимайся, — ответила Джейн. — Я… немного посижу.
— Не торопись. Грандиозный вечер. Спасибо тебе, Джейн.
Он ушел, и она осталась одна — с Редьярдом, чистой посудой, кухонной утварью, забытыми стихами и запахом своих духов. Поставила диск, налила в стакан вина и заперла заднюю дверь.
Инстинкт заставил Джейн подставить под ручку стул.
Трой.
Она погасила свет и прислушалась. Con te partiro. «Пора сказать „прощай“».
Итак…
Стул? Дверь?
Нет.
Я не поддамся страху. Какого черта!
Стоит ему разбить стекло и дотянуться до ручки…
Но он же мертв.
Невозможно поверить. Не потому, что это Трой, а потому что всего лишь накануне он разбрызгал «жизнь» по ее лицу и платью.
Хотя сам он не считал свою сперму жизнью. Во всяком случае, Джейн так казалось. Одному богу известно, почему Трой поступил именно так. Хотел доказать, что он способен? Или Джейн по-прежнему оставалась той, кого он желал, но с кем не смог справиться? А может, он всегда считал ее лишь «мишенью» для спермы: как-то в Плантейшне Джейн подслушала разговор мальчишек — мол, девчонки всего лишь «мишени» для спермы, которые надо поразить. В руку или в рот — вот чего от них ждали. Девчонки, собираясь на свидание, рассовывали по сумочкам пачки салфеток «Клинекс». Что толку рассчитывать на презервативы, если обычный способ больше не в чести. По крайней мере, так утверждали мальчишки. Свежо предание. Джейн помнила, по крайней мере, трех подружек, которым пришлось делать аборты.
Она прислушалась к пению.
Romanza.
Все это красивые сказки.
Джейн поднялась и выключила проигрыватель. А затем одну за другой все лампы.
— Пора спать, — сказала она Редьярду.
Он зевнул, потянулся и поплелся за ней.
На лестнице Джейн остановилась и обернулась: в свете уличного фонаря на стене напротив окна поблескивал портрет ее прабабушки Терри.
Timothy Findley Spadework.
Что-то закончилось, подумала Джейн. Здесь проходит демаркационная линия.
Ора Ли Терри ответила ей взглядом.
Она словно говорила: Ну вот, моя милая, ты и лишилась привилегии спокойствия. Для тебя, как и для меня когда-то, наступило время последствий.
Последствия
Традиции живучи. Все как обычно: Вражда меж здравым смыслом окруженья И собственным мучительным прозреньем Клеймо оставить может на любом из нас… У. Х. Оден «Детективная история»1
Вторник, 7 июля 1998 г.
Мерси ежедневно приезжала к семи — надо было выпустить Редьярда во двор и приготовить Уиллу завтрак. Кроме воскресенья, он в основном вставал между семью и половиной восьмого. А по воскресеньям привык залеживаться до восьми. Мерси показала ему, как пользоваться кофеваркой и готовить родителям кофе; и конечно, он давно умел сварить себе овсянку и налить сок.
Сегодня вторник.
У Гриффа опять утренник — «Буря»[14].
В восемь часов приехал Люк; один, в кузове пикапа — саженцы, в том числе розы. Он был готов приступить к размещению посадок.
К восьми Джейн появилась на кухне, правда, еще в пеньюаре. Она хотела побыстрее освободить ванную для Гриффа, у которого был с кем-то назначен обед. Это все, что он сказал — ни с кем, Timothy Findley Spadework ни зачем, ни почему. Объявил, что не вернется обедать домой, и все. В десять он спустился, в халате, и пожаловался:
— Пытался позвонить, но телефон совершенно мертвый.
— Как мертвый?
— Как покойник. Попробуй сама.
— Ты проверял розетку?
— Проверял.
Джейн сняла трубку с аппарата на кухне и набрала номер Мерси. Там, конечно, никто не мог ответить, потому что Мерси сидела напротив нее с Уиллом, но, по крайней мере, были бы гудки.
Нет. Даже набора не слышно.
Джейн положила трубку.
— Слава богу, у нас ничего срочного.
— Как это «ничего срочного»? — возмутился Грифф. — Мне обязательно нужно позвонить — именно сейчас, — и вот тебе, пожалуйста: чертов телефон спекся.
— Кто-то прикончил наш телефон! — явно обрадовался Уилл. — Кто?
— Злые гномы, — ответил Грифф, наливая себе кофе. Руки у него дрожали.
— А я люблю гномов, — заявил мальчик. — У меня их целых три.
— Ты знаешь, где они сейчас?
— Конечно. На подоконнике в моей комнате.
— Может, один из них ночью спрыгнул оттуда и прикончил наш телефон.
— Бедняга телефон.
— Бедняга телефон. Пал жертвой гномов.
— Ну, а если серьезно, что могло случиться? — спросила Мерси.
В этот момент мимо задней двери прошел, направляясь за своей длинной лопатой, Люк.
— Случился Люк, — увидев его, догадалась Джейн и скривила лицо. — Люк и его бесконечная вскопка. Он перерубил кабель.
Грифф поднялся и подошел к двери.
— Люк! — окликнул он. — Не могли бы вы зайти к нам на минуту?
Люк появился, весь в поту. Ему явно не понравилось, что его работу прервали. Коли начал планировку, нужно целиком сосредоточиться на том, что делаешь. Джейн еще раньше наблюдала, как он сидел на садовом стуле с блокнотом, карандашом и бутылкой пива — выписывал названия растений и помечал размеры общей площади посадок каждого сорта и цвета. «Не буду вмешиваться», — решила она.
— Что? — спросил он.
— Телефон молчит, — объяснил Грифф. — Вы случайно не могли перерубить кабель?
— Господи! — Люк вошел в кухню. — Извините. Это вполне возможно.
— Ничего страшного, — заверила его Джейн. — Ведь вы же знаете, где надо искать разрыв.
— Хотите, я позвоню в «Белл»? — предложил он. — Я помню номер. Такое уже случалось. Вам должны были дать схему. Иногда линию даже помечают колышками. А у вас ничего подобного. Извините.
— Может быть, миссис Арнпрайр позволит вам воспользоваться ее телефоном, — предположил Гриффин. — Если вы не перерубили и ее кабель.
— Такого не может быть, — ответил садовник. — Но в этом и нет необходимости. Я позвоню с сотового.
Он вынул из кармана мобильный телефон, набрал номер и уставился в пространство. Из всего, что он сказал, Джейн разобрала только адрес, а все остальное звучало так, будто он говорил шифром. Не исключено, что так оно и было.
Аппарат пискнул. Конец связи.
— Ну вот и все, — объявил Люк. — После обеда они пришлют человека.
— Чудесно. Спасибо.
Люк собрался убрать телефон в карман.
— Можно… мне позвонить? — попросил Грифф. — Звонок не междугородний.
— Конечно. — Садовник протянул ему аппарат. — Когда закончите, оставьте на кухонном столе. Я заберу во время перерыва.
— Спасибо. — Гриффин ушел в столовую, а когда ему ответили — еще дальше, в гостиную.
Джейн отчаянно пыталась что-нибудь расслышать, но Уилл трещал, взахлеб рассказывая Мерси только что прочитанные главы «Лесси, домой!». Джейн подарила ему эту книгу на день рождения.
Джейн подошла к холодильнику и бесшумно достала откупоренную бутылку белого вина. Что я делаю? Только девять утра… Ну хорошо… один глоток — и все.
Уилл говорил больше всему миру, чем сидевшей спиной к Джейн Мерси.
— Знаешь, — рассказывал он, — овцы кашляют, совсем как люди. Я узнал об этом вчера вечером. Во время грозы Лесси забежала в пещеру и учуяла овец — она ведь была, сама понимаешь, колли. И услышала человеческий кашель! — Уилл преувеличенно громко изобразил кашель. — Вот так. Лесси подумала, что там прячется плохой человек, который снова хочет ее схватить. Но никаких человеков там не было… Был только старый баран.
— Людей, — поправила его Мерси.
Джейн хлебнула прямо из бутылки — раз, другой, третий, четвертый. Китайцы считают, что четыре — несчастливое число. И она приложилась к бутылке в пятый раз. Всунула в горлышко пробку, поставила вино на место и под предлогом, что потеряла спички, направилась в гостиную. Спички лежали у нее в кармане.
В гостиной Гриффин отвернулся от нее.
— Попробуйте еще раз, — услышала она. — Пожалуйста. Это очень важно.
И все. Грифф, глядя в пол, пошел в ее сторону, и Джейн вернулась на кухню.
Timothy Findley Spadework.
С кем это он? С Зои? Люди поговаривали о чем-то в этом роде. Во всяком случае, он не хотел, чтобы она догадалась, кто его собеседник. Кто же это такой? Ей ничего не приходило в голову. Разве что Роберт Мейлинг? Время не такое уж раннее — можно обсуждать предстоящий сезон, в котором, судя по слухам, Грифф мог рассчитывать на приличные роли. Дай бог. И то, уже пора. Он сейчас на самом взлете. Алек и Поли уходят покорять «большой мир», и поэтому появляется возможность подняться Гриффу. Ему и Найджелу. Дай бог Пусть сыграет своего Меркуцио[15]. А Найджел — Стенли Ковальски[16].
Когда Грифф вернулся на кухню, Джейн радужно ему улыбнулась:
— Надеюсь, вся эта таинственность послужит чему-нибудь полезному. Я за тебя переживаю.
Он положил мобильник на кухонный стол, предупредил Уилла, чтобы тот не вздумал с ним играть, и буркнул:
— Не исключено.
— Не хочешь рассказать?
— Нет. Еще слишком рано. Но можно ждать хороших новостей. — Грифф повернулся — на взгляд Джейн, пожалуй, резче, чем требовалось, — и пошел наверх.
Что же получается?
Он не желает, чтобы ему задавали вопросы.
В полдень Люк пришел за своим телефоном, взял в сад пиво и развернул принесенный из дома сэндвич. Господи, арахисовое масло и желе, заметила Мерси. Детская еда.
Вот именно. От некоторых вещей невозможно отказаться, заключила она. Мир грез. Привычная еда воскрешает прошлое. Многие считают, и Люк, скорее всего, в их числе, что в прошлом надежнее. Ха! Мерси-то знала, что нет ничего надежнее настоящего, даже если насилуют в Китченере, воюют в Косово и есть на свете Кеннет Старр[17]. Если не терять голову, сумеешь выжить.
В час Уилл, Мерси и Редьярд отправились на прогулку в парк. Они взяли с собой «Лесси, домой!» и термос с лимонадом.
В половине второго к дому подкатил фургон телефонной компании «Белл» и пристроился за грузовиком Люка. Из фургона вышел мужчина, Джейн услышала, как садовник с ним поздоровался.
Потом телефонист исчез — пошел проверять поврежденную линию. Через четыре-пять минут он вернулся и остановился у стеклянной двери, прислонив лопату к стене.
— Есть кто-нибудь? — тихонько постучав, спросил он.
— Да. — Джейн поставила стакан с вином и шагнула навстречу. — Я могу чем-то помочь?
— Мне нужен подвал. Я телефонист компании «Белл». Можно войти? Да?
— Пожалуйста.
Как только он переступил порог, Джейн снова опустилась на стул. Они наверняка послали не того человека, подумала она. Он — кинозвезда в позаимствованной у старьевщика одежде. С минуты на минуту явится режиссер и операторская группа, и начнется съемка. В реальной жизни люди так не выглядят…
— Извините меня. — Она виновато улыбнулась и солгала: — Я приняла вас за другого. Прошу прощения.
— Ничего, — отозвался молодой человек. — Я не хотел вас пугать.
— Все нормально. Не берите в голову. — Она рассмеялась и встала. — Это моя вина. Игра света. Все просто и обыкновенно.
Молодой человек явно не понял ее объяснения. Да и не мог, судя по лексикону и выговору. А если принять во внимание его неземную красоту, о какой простоте и обыкновенности вообще могла идти речь?
Может, это и вправду так бывает, подумала Джейн. Может, ангелы в самом деле спускаются к вам…
Куда?
В сад?
В кухню?
В жизнь?
2
Вторник 7 июля 1998 г.
Вечером Джейн и Гриффин сидели в сумерках на веранде и молчали.
Люк оставил открытым садовый кран и насадил на него распылитель с достаточным радиусом разбрызгивания, чтобы полить все посаженные цветы. «Закройте в половине девятого, — попросил он. — Тогда до захода солнца останется еще час».
Было пятнадцать минут девятого.
На Джейн благоприятно действовали журчание воды, запах скошенной травы и вскопанной земли. В голове возникали картины вечеров в Плантейшне — со звуками, производимыми ручными газонокосилками соседей, и шелестом струи воды из шланга, которой садовник Джошуа поливал плитки террасы перед домом семейства Терри. Мираж в казавшемся пустыней настоящем. И еще — шепот ребенка: все пропало.
Я пропала.
Скинув туфли, Джейн сидела в шезлонге с сигаретой и большим стаканом мартини — тройным. Такой не подадут ни в одном баре, уверял Грифф.
— А почему он синий? — спросила она.
— Доверься мне, — сказал муж. — После моих новых коктейлей тебя больше не потянет на классические.
— Новых?
— Видишь ли, я в свободное время учусь на бармена. — Он улыбнулся и щелкнул пальцами. — Просто, как бутерброд. Надо только достаточно любить спиртное.
— Еще бы. Каждый второй бармен в Стратфорде — не говоря уж о Торонто, Монреале, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе — безработный актер. Ты говоришь правду? Ты в самом деле…
Гриффин похлопал ее по руке.
— Шучу, Джейн, шучу. Просто я бываю там и сям, присматриваюсь, пробую и запоминаю. Третьего дня выпил пару таких коктейлей. Хотя, учти, менее крепких.
— Где?
— В «Паццо». Наверху. Там новый бармен. Бесподобный. Лучшие в мире мартини и манхэттены. Его называют Шейкер. Как тебе нравится? Он почти танцует фламенко, когда смешивает напитки. Смотреть — одно удовольствие. А коктейли — умрешь.
— Не дай бог! А что в них такое?
— Секрет, — отозвался он. — Ну, поехали.
Восхитительно. Странно, но восхитительно и… немного страшновато.
А потом наступило молчание.
Куда он уходит, когда молчит? — подумала Джейн. К Зои? В «Даун-стрит». Он так и не сказал, с кем был. А однажды вечером — когда же это? — ах да, в пятницу — она обнаружила, что он мастурбировал в ванной. Грифф не заметил ее, потому что стоял под душем, спиной к двери. Джейн тихонько ушла и легла в постель.
Ее мучило — почему?
Почему с собой, а не со мной? О ком он думал? Кого представлял? Кого-нибудь из прошлого? Может ее, Джейн — восьмилетней давности, в начале их любви? Или из настоящего? Зои Уолкер? Или какую-то неизвестную другую? Что об этом скажет доктор Фабиан? Спроси его. Только будь откровенна и ничего не скрывай.
Прости, пожалуйста, перебила себя Джейн, что значит «ничего не скрывай»? Я беззащитна, а Грифф продолжает бомбить меня своими тайными свиданиями. Ну, подожди — я тоже так сумею.
— Наоборот, мне надо скрывать, — прошептала она вслух.
Повернулась и посмотрела на мужа.
Грифф сидел — и, сощурившись, смотрел куда-то вдаль поверх кромки стакана. А ее вряд ли вообще замечал.
Джейн отвела глаза. С минуты на минуту надо вставать и идти закрывать воду.
Я должна тебе кое-что сказать, Грифф…
Она снова посмотрела на него. Он закуривал сигарету. Лениво. Даже как-то томно. Ласкал зажигалку пальцами, как в ванной ласкал себя.
… кое-что, чему ты даже не поверишь…
Она вспомнила: «Мне нужен подвал. Можно войти?»
Они стояли. Смущенные. Оба.
Потом он улыбнулся: «В подвал? Можно?»
Она указала на люк у раковины подле плинтуса: «Пожалуйста. Это там — внизу».
Телефонист кивнул, поднял крышку и прислонил к стене.
— Там есть…
— Вижу.
Он закрепил крышку скобой над плинтусом, снял три поперечные балки и сложил их рядом с люком. Взглянув в темноту, обвел глазами стены.
— А где?..
— Выключатель? Вон там.
— Спасибо. — Телефонист включил свет, опять кивнул и скрылся в подполе.
А Джейн возвратилась к столу, где до этого начала составлять предварительный план предполагаемой покупки дома.
Господи, как же жарко. — Она вытерла пот и машинально распахнула платье.
Духота.
Она зажмурилась над листом бумаги, не в силах сосредоточиться.
Почему?
Она чувствовала себя какой-то… какой? Какой она себя чувствовала?
Беспомощной.
Он был красивее всех мужчин, которых она до сих пор видела. Но его красота была не только физической. В ней присутствовало нечто большее. Нечто неопределимое — нечто, отличающее людей, которым суждено умереть молодыми.
Джейн продолжала наблюдать, как Грифф упивался первой затяжкой сигареты. Упивался? Да. Дым в горле — то же, что мартини. Курение — просто еще один способ пития.
Она проверила свою теорию на себе: губы, рот, горло. Да, я пью «Мартини экстра майлд слимз» — второе по качеству мартини в городе.
Восемь тридцать. Джейн отставила не выпитый и наполовину стакан и спустилась выключить воду. Вороны смотрели на нее и шуршали крыльями. Не включай свет в саду, молили они. Сова может найти нас и так.
Джейн не собиралась зажигать наружный свет. Она любила вечера. Еще час с лишним до темноты.
Босая, она направилась по росистой траве посмотреть, что посадил Люк.
Результат титанических усилий Люка разочаровал ее, но, вспоминая скрупулезные подсчеты садовника, Джейн понимала, что со временем все вырастет и заполнит пространство: розы, цветущие кусты, разные сорта лилий, ирисов, пионов и другие растения, которые она пока не узнавала. Но уже пахло, как в настоящем саду, — сырой землей и влажными листьями. Зелень. Земля. Зеленеющая земля места, где я родилась и где я до сих пор… и где тот улыбающийся молодой человек.
Джейн оглянулась на Гриффина. Он явно по-прежнему где-то витал. И продолжал витать, даже когда она вернулась в шезлонг и взяла свой синий мартини.
Она закрыла глаза и очень глубоко вздохнула. Это был, собственно, не вздох, а заявление: Я должна тебе кое-что сказать!
Она касалась телефониста. Он касался ее. И, судя по всему, это произошло не случайно. Так было предопределено.
Какая чушь!
Разве?
Джейн подумала о Трое. Неужели и то было предопределено? Это безумие, внезапность, отвратительность? В сущности, предательство. Нет, там не предопределенность, а умысел. Умысел отчаявшегося, который потерял контроль над штурвалом своей жизни. И, наверное, неизбежно, что Трой умер таким образом — в сорвавшейся с шоссе машине, не справившись с мукой всего того, что его терзало.
Она вспомнила его глаза, потерянные, полные отчаяния и ярости. Он потерял все, и даже последний жест ему не удался.
Я должна тебе кое-что сказать, Грифф. Кое-что, чего я не понимаю.
— Сколько времени?
Джейн посмотрела на часы.
— Без восемнадцати десять. А что?
— Мне пора.
— Господи, Грифф, опять? Каждый вечер!
— Я тебе говорил, — ответил он, поднимаясь. — Скоро услышишь хорошие новости. Потерпи.
— Слушаюсь, сэр, — тоном примерной ученицы шутливо произнесла Джейн. — Как вам будет угодно, сэр. — Она улыбнулась, стиснув зубы, ее глаза сверкали.
Но я должна тебе кое-что сказать, сукин сын! Я… влюбилась в незнакомца.
Гриффин посмотрел на жену, и в его взгляде промелькнуло любопытство. Вопросы становились обоюдными. С ней что-то происходит. Но что?
— До свидания.
Джейн не ответила. Только поправила платье и глянула вверх, на ореховое дерево и полчище ворон. А когда услышала, как щелкнула дверь, прошептала:
— До свидания. Иди с миром — куда угодно.
Мерси подошла к двери и сказала сквозь сетку:
— Вам ничего не нужно? А то я пойду домой. Уже пятнадцать минут десятого. Хорошо?
— Конечно. Ради бога.
— Жара, как в аду. Такой не было с тех пор, как мы поджаривались в девяносто втором.
— Да. — Джейн обернулась через плечо: — Мерси?
— Что?
Джейн сдержалась и ничего не сказала.
— С вами все в порядке?
— Да.
— Может, хотите, чтобы я осталась? Пожалуйста, я не против.
— Да нет. До завтра.
— До завтра.
— Уилл в постели?
— Читает. Нам скоро потребуется новая книжка.
— Хорошо.
— Вы же хотите мне что-то сказать. Я чувствую.
Пауза.
— Нет. Ничего. Увидимся утром. Не забудьте, завтра простыни и полотенца.
— Разве я когда-нибудь забывала?
— И вот еще что… В пятницу утром я иду к доктору Фабиану. И всю неделю на работе.
— Ничего. Я привыкла. А как насчет обедов?
— Завтра в любом случае дома. Я постараюсь приехать к полудню.
Джейн слышала, как Мерси взяла свои ключи, вышла и села в машину. Заработал мотор, урча и вопя: «Не та передача — задняя!» И машина попятилась.
Дню конец.
Не совсем.
Джейн вошла в дом.
Вылила в раковину остатки синего мартини, открыла бутылку «Вальполичеллы», удалилась в гостиную, включила телевизор и устроилась в уголке дивана.
Ты слишком много пьешь, дорогая.
Оставь меня в покое.
Она выпила.
Суд в Мэриленде объявил решение большого жюри провести расследование относительно того, нужно ли предъявлять иск Линде Трипп за то, что она записывала телефонные разговоры Моники Левински. По закону этого штата (а именно там все и произошло), для записи требовалось согласие обеих сторон. Настал уникальный в американской истории момент. Две зловредные бабы — и затравленный президент. Интересы всей нации отошли на задний план перед его любовными похождениями. Полная безнадега.
Джейн грустно улыбнулась потолку. Так что нас ожидает в будущем?
8 июля 1998 года.
А об остальном человек может только гадать. Предсказать ничего невозможно. Разве можно было предсказать появление телефониста — застенчиво улыбающегося, в рваных джинсах, с голыми коленками?
Мужчина, словно доброе, но неприрученное животное, позволил дотронуться до своей руки. Мир, похоже, все еще способен дарить нам чудеса.
3
Четверг, 9 июля 1998 г.
Гриффин пришел домой только в два, и Джейн уже спала.
«Может, и к лучшему, — подумал он. — Учитывая…»
Он разделся, устроился в постели подле жены, откинул одеяло и лежал, уставившись в темноту, — сначала на левом боку, лицом к отвернувшейся в другую сторону Джейн, тоже голой, затем на правом, потом на спине.
Рука — это казалось неизбежным — потянулась к чреслам.
Ты самый желанный в мире мужчина, вспомнил он. Так ему было сказано несколько дней назад. Самый желанный в мире мужчина.
Он улыбнулся.
У меня, по крайней мере, хватило совести покраснеть.
Во что я вляпался? Действительно ли я хочу того, чего так сильно хочу? Господи, что я творю? Зачем?
Мысли затуманились.
И вскоре сперма брызнула ему на живот. Впервые за несколько недель. Не то чтобы он мастурбировал каждый день, но в период репетиций у него снижались сексуальные потребности. Джейн от этого страдала. Он знал.
Гриффин пошевелился и спустил ноги на пол. Жена не проснулась. Он поднялся, вошел в ванную, закрыл за собой дверь и зажег свет. Посмотрел в зеркало, оглядел всего себя и пробормотал:
— Наверное, это правда, — затем ухмыльнулся и покачал головой.
Никогда не верь своей рекламной славе, дружок. Как только поверишь в это дерьмо, тут же сам превратишься в дерьмо. Ему не раз приходилось наблюдать, как это случалось даже с «лучшими» из людей. Вот Кевин — сделал себе подтяжку лица ради успеха на телевидении. Господи! Двадцать пять лет — и уже подтяжка!
Он вытерся влажным банным полотенцем.
Потом понял, что проголодался, и отправился на кухню.
Ржаной хлеб, сладкая белая луковица, лимонный сок, латук, белое вино.
Он сделал себе сэндвич, налил вина и сел на высокий стул.
По соседству, на втором этаже у миссис Арнпрайр, горел свет. Она стояла у окна — один лишь силуэт — и смотрела на его наготу.
Гриффин встал, продемонстрировав себя полностью, отсалютовал ей и поклонился. Затем снова сел.
Сучка. Почему женщины притворяются, будто им не нравится подглядывать?
В три часа он вернулся в спальню и мгновенно уснул. Джейн медленно поднялась, спустилась в кухню, придерживая халат на талии, и допила вино.
На орехе старая ворона, наверное, предводительница всей стаи, бормотала, словно во сне.
Пропали, подумала Джейн. Все. И я и вороны — затерялись в темноте.
В доме миссис Арнпрайр гасло одно окно за другим.
Чернота. Тьма.
Ни звезд.
Ничего.
Ничего.
Ничего.
До самого утра. А утром — доктор Фабиан.
Мне придется что-то говорить. Я хочу. Но не о Трое — о нем не буду. О другом — о том молодом человеке, о мужчине-ангеле.
Он коснулся меня. Я коснулась его. Кончиками пальцев…
Только кончиками пальцев. Говоря — давая понять: я здесь. А ты?
Единение.
А между тем она даже не знала его имени.
4
Пятница, 10 июля 1998 г.
Дом доктора Фабиана на Черч-стрит находился не очень далеко. Джейн могла дойти минут за десять. Но она хотела иметь под рукой машину — возможность немедленного бегства. Не исключено, что после этого приема она больше никогда сюда не вернется. Ей будет слишком стыдно, слишком страшно. Есть вещи, о которых нельзя говорить. Никто, никто, кроме нее, не узнает о Трое. Но юноша-ангел — совсем иное дело. Это начала она, и ответственность на ней. Сделала нечто такое, чего сама не понимала. Откуда все взялось? И что это означает?
Я коснулась его руки. Я сама протянула руку.
А он в ответ коснулся меня.
Она сидела, опустив стекло, курила и жалела, что не прикончила оставленную на кухне наполовину недопитую бутылку вина.
Наконец затушила сигарету.
Не могу идти. Просто не могу. И не хочу. Потом.
«Потом» может означать «никогда».
Это напомнило ей о бегстве из Плантейшна. Были времена — много лет назад, — когда Джейн мечтала об эмансипации, но боялась ее, не хотела, чтобы она стала абсолютной. Для Оры Ли Терри слово «эмансипация» подразумевало свободу от Плантейшна. Но поскольку Ора Ли была южанкой, родилась на Юге, выросла и впитала его представления об эмансипации как о чем-то запрещенном, она постоянно — в то время — говорила себе: «Только не сейчас — потом».
Джейн повернула ключ и завела мотор. К счастью, двигатель «субару» работал почти бесшумно. Если доктор Фабиан не видел ее в окно, он не узнает, что она приезжала.
Приеду домой, отменю визит.
Допью вино и лягу спать.
Джейн взглянула на часы: оставалось десять минут.
Доктор Фабиан поймет. Она и раньше отменяла визиты, правда, по другим, более разумным причинам — то надо было вести Уилла на спортивный праздник, то запарка на работе. Она придумает что-нибудь в этом роде.
Поскольку улица была с односторонним движением, пришлось делать большой крюк — очень неудобно, если спешишь.
А что она скажет Мерси? Можно соврать, что он заболел и не сумел меня принять… Но Джейн терпеть не могла лгать Мерси. И никогда не врала — разве что в мелочах.
Можно сказать: Я просто струсила. Не захотелось идти именно сегодня. Мерси поймет — ей приходилось принимать от мужчин всякое, от обожания до жестокости. Чем ее может удивить Джейн со своими убогими аристократическими переживаниями? А кроме того, после обеда Джейн все равно собиралась на работу — надо закончить или попытаться закончить свое окно. Ни к чему отвлекаться на Фабиана. Не сейчас. Может быть, через месяц.
Задумавшись, Джейн проскочила нужный поворот и проехала лишний квартал.
Где, черт возьми, она оказалась?
Сент-Патрик-стрит.
Джейн небрежно крутила руль и чуть не сбила пожилую женщину.
Господи, не отвлекайся.
Единственный путь обратно — по Эри-стрит и дальше за угол на юг на Камбриа-стрит. На полпути туда она затормозила.
Это произошло автоматически.
Перед ней рядом с тротуаром стоял фургон телефонной компании «Белл» с мигающими парковочными огнями.
Боже!
Неужели он?
Сердце начало колотиться.
Джейн остановилась за фургоном, но мотор не выключила.
Я хочу одного — увидеть его.
Всего один взгляд — убедиться, что он живой и я не сумасшедшая. Что он реален.
Она ждала и смотрела.
Стекло машины оставалось опущенным. Джейн услышала звук открывавшейся боковой двери дома, в который приехали ремонтники.
— Пожалуйста, — прошептала она. — Ну, пожалуйста.
Из дома вышел мужчина.
Лет, наверное, около шестидесяти. На нем был такой же монтерский пояс, как на ее «ангеле», но более опрятная одежда и вдобавок фуражка.
Джейн закрыла глаза.
И поделом. Не будь идиоткой!
«Что ж… если я все-таки пойду к доктору Фабиану, то, по крайней мере, не надо будет лгать Мерси», — подумала она.
И через пять минут (состарившись лет на десять, как ей показалось) она завернула за угол и снова припарковалась напротив дома врача.
Дом был большой — настоящее викторианское чудо из красного кирпича: с портиками с каждой стороны и филигранной работы фронтонами. Шесть труб, три тенистых сада, кованые решетки и спящая собака. Спаниель Дэниел лежал на передней лужайке под сенью сикоморового дерева.
Джейн вылезла из машины и направилась к парадному подъезду. На широкой медной табличке красовались знакомые слова: «Доктор Конрад Фабиан — вход в кабинет со двора». Она всегда игнорировала эту надпись. Задняя дверь не для меня. В конце концов, существует же такое понятие, как гордость. Джейн отвернулась и смотрела в окно. Не хотела видеть глаза доктора Фабиана — их выражение, — его реакцию на свой рассказ.
Достаточно и того, что ей придется выслушать его заключение.
— Я должна вам кое-что сказать, — начала она.
В этом было нечто от исповеди. Чуть раздвинутая занавеска, позади решетки лишь часть лица. И ложь. Оба: и священник, и кающийся понимали, что сейчас прозвучит ложь. Но вместе с ней и неизбежная правда — тяжесть, от которой можно избавиться, только признавшись, как велико это бремя.
Кое-что рассказать…
— Вам удобно?
— Нет.
Джейн горько рассмеялась:
— Разве мне у вас бывает когда-нибудь удобно? С вами? Я уже думаю, как бы поскорее сбежать: сколько шагов до двери, как обойтись без прощания и проскочить мимо вашей «мисс государственной дознавательницы» за конторкой, чтобы она не поняла, что произошло нечто нехорошее. Ведь так было всегда… и всегда так будет. Я плохая, плохая. А вы хороший.
— Ничего действительно дурного в вас нет. Скажем, вы, Джейн, не способны на умышленное убийство. В этом я абсолютно уверен. А помимо убийства, что бы вы мне ни рассказали, это меня не удивит, — врач помолчал. — Ничего… Если только вы не нанесли кому-то физического ущерба.
— Нет.
— Вот и славно, — улыбнулся он. — Помните мужчину, который влюбился в свою ручную мышь?
— Да. У них была единственная проблема: они не могли заниматься сексом.
— Но они занимались.
— Будет вам! — Джейн отмахнулась и рассмеялась.
— И тем не менее это так. Правда, особым способом. Знаете, где мышь свила себе гнездо?
— А мне надо об этом знать?
— Ради вашего душевного здоровья.
— Тогда рассказывайте.
— В его лобковых волосах.
— Вы меня разыгрываете!
— Нет. И спала там каждую ночь всю свою жизнь.
Первой непроизвольной реакцией было: «как мило». Но вместо этого Джейн спросила:
— И сколько она прожила?
— Пять лет. Обычный срок для белой мыши. — Врач поднял глаза: — Я вижу, вас это разочаровало. Вы считаете, что счастье и согласие между столь несовместимыми особями не должно сохраняться так долго. Вас смущает отклонение от нормы. Это мы знаем. Итак, вы влюбились в коня? В осла? В мула?
— Разумеется, нет. — Джейн посмотрела на врача. — И вообще, с чего вы решили, что я собираюсь говорить о сексе?
— Ну… — он пожал плечами. — Я просто вижу вас. И нахожу в вас перемены.
Она отвернулась.
— Разрешите мне закурить.
— Пожалуйста. Давайте.
— И еще…
— Даже не просите. Вы найдете вино на кухне. Только потом, когда мы закончим. Тогда можете выпить. Но не раньше. Вы это прекрасно понимаете. Мы оба профессионалы.
— Но мне так трудно. Так тяжело.
— Джейн, — доктор Фабиан кашлянул, — я чувствую по запаху, что вы уже подкрепились. Так что закуривайте и начинайте.
— Слушаюсь, сэр, — покорно проговорила она — по-прежнему не оборачиваясь.
Но как, как, как?
Начинай, Джейн. Просто говори, и все.
— Я…
— Да?
Она достала сигарету и прикурила.
— Вам приходилось… Вы когда-нибудь встречали настолько красивых людей, что на них невозможно смотреть?
— Но, чтобы это понять, надо все-таки посмотреть.
— Разумеется… Конечно… — Джейн выдохнула дым. — Ну, вот входит такой человек в дверь. Вы бросаете взгляд и чувствуете, что больно — в буквальном смысле больно — поднять на него глаза. Случалось с вами такое?
— Да.
И никаких объяснений.
Джейн, до мозга костей Джейн, грустно улыбнулась:
— Вы хотите сказать, что мой опыт не уникален?
— Опыт восприятия любого человека другим человеком всегда уникален. Например, я восхищаюсь вашим мужем как актером и нахожу его чрезвычайно привлекательным. Но я, слава богу, не гей. Говорю, «слава богу» только потому, что у меня есть Аллисон, без которой я бы совершенно погиб. Но обстоятельство сходное. Я имею в виду — между тем, о чем вы рассказываете, и что проистекало между мной и Алли и между вами и Гриффином. Замужем за ним вы, а не я.
— Проистекало?
— Хорошее слово. Случилось. Вам следует чаще заглядывать в словарь. Это дает ответы на многие вопросы. Случилось. Очень полезное слово, когда речь идет о любовной связи. А ведь именно о чем-то подобном вы собираетесь мне рассказать.
— Почему вы так считаете?
— Я уже вам объяснял. В вас не чувствуется прежней апатии южанки. Вас что-то разбередило. Взволновало. Таким фактором может быть только мужчина… или, если угодно, женщина. Но в вашем случае, думаю, мужчина.
— Да.
— Итак?
— Итак… — Джейн посмотрела на кончик сигареты. — У вас есть пепельница?
— Прямо перед вами. Перестаньте тянуть резину. У нас только час. Сейчас уже меньше. Рассказывайте.
Джейн подалась вперед. Пепельница стояла на столе у ее правой руки — между ней и окном.
Окно. Сад. Деревья. Небо.
Дверь.
Побег.
Что-то разбередило тебя… Трой… что-то взволновало… мужчина-ангел… но как рассказать о таких вещах?
Доктор Фабиан выпрямил спину и постучал пальцами по крышке стола.
Джейн знала: это приказ.
Говори!
Быстро!
— Да, да… я говорю… сейчас… Джейн говорит, — из ее горла вырвался смешок, не настоящий смех — всего одна нота. — Я Джейн. Вы Тарзан. Так? — Она уткнулась лицом в ладони. — Господи, все не так!
Доктор Фабиан ждал.
Джейн порылась в сумочке и выудила из нее салфетку «Клинекс».
— Тарзан. Тарзан. — Она посмотрела в окно и махнула рукой, словно человек-обезьяна сидел на ветке соседнего дерева. — Он мог быть Тарзаном. Обнаженный. Казался нагим, хотя был абсолютно одет. Даже вены проступали.
— Кто он?
— Мужчина. Мужчина. Какой-то мужчина.
Джейн вобрала в себя воздух и откинулась на стуле — в одной руке салфетка, в другой сигарета.
— Люк перерубил лопатой телефонную линию — это в нашем саду. Хозяин, понимаете, решил обзавестись новой клумбой… многолетники… всякие там розы. И Люк, садовник… вы его знаете, он и у вас работает… разрубил телефонный кабель. Кто-то должен был его починить… привести в порядок. Вот он и приехал. Тот самый мужчина. Тарзан. — Джейн затушила сигарету. — Нагой ангел.
Доктор Фабиан отложил ручку. Больше никаких заметок. Заметки потом. Он редко записывал то, что говорили его пациенты. Ему достаточно было впитывать их слова и смаковать. Итог формировался позднее. Многое было очень личным. Всегда.
Джейн Кинкейд он считал привилегированной пациенткой. Эта женщина его глубоко интересовала, поскольку входила в театральную среду, которую он боготворил. Замужем за актером, и сама художник по реквизиту. И все ее друзья — актеры, художники, писатели — принадлежали к миру, в который Фабиан не сумел попасть, когда молодым человеком мечтал стать хотя бы кем-нибудь — неважно кем — в волшебном круге за занавесом. А тут еще Алли — Аллисон — по доброй воле бросила работу, хотя перед ней открывалась блистательная карьера актрисы. Но она предпочла имитации жизнь. Не хотела больше строгой дисциплины, которой подчинялась двадцать пять лет — ограничения в еде, ограничения в спиртном, никакой любви, никаких любовников. Я хочу быть толстой, обрюзгшей бабой, заявила она, когда они познакомились и полюбили друг друга. И ты мне можешь все это дать, если подаришь свободу.
Свобода.
И вот перед ним Джейн Кинкейд и другой вид освобождения, если, конечно, это действительно освобождение. Совершенно неожиданное. Поскольку главной проблемой Джейн было то, что она добровольно наложила на себя всевозможные запреты. Несмотря на пристрастие к спиртному и чрезмерное курение, она могла бы вести мастер-класс по самоограничению. Помимо прочего, после появления Гриффина она, похоже, не взглянула ни на одного мужчину. Ни малейшего намека. Даже на флирт. Доктор Фабиан начинал подумывать, уж не потеряла ли она вообще интерес к сексу. Вдобавок, судя по всему, Джейн освоила искусство совмещения материнства с работой вне дома, хотя, как было известно практичному доктору Фабиану, у нее имелся доход, который обеспечивал ей независимость, недоступную большинству других женщин.
— …он вошел в дверь. Тот мужчина, — продолжала Джейн. — В заднюю, ту, что с сеткой, на кухне. Было уже за полдень… Я сидела, как обычно, в голубом платье, со стаканом вина и сигаретой.
Джейн запнулась.
Нет, не в голубом. В голубом я была в другой раз. Когда его измарал Трой.
Фабиан наблюдал за ней. И мысленно отметил: надо запомнить «голубое платье».
— …думаю, все дело в металлической сетке — в отблеске солнца на ней, в духоте и дыме сигареты. Я даже не очень его разглядела — не поняла, кто он такой и зачем пришел (как Трой). Встала и пригласила: «Заходите». И он вошел.
Джейн закрыла глаза.
— Вам приходилось встречать, видеть или наблюдать человека, который беспредельно и абсолютно невинен? На самом деле невинен. Который не понимает, кто он и чем обладает. Абсолютно невинного? Совершенно? Именно такой человек стоял в тот день за дверью. Тот самый мужчина. Телефонист. Динг-дон. — Джейн невольно рассмеялась. — Меня словно молнией поразило. Я попятилась и села. Поневоле пришлось — не могла стоять. Знаете, это все настолько безумно и настолько нереально. — Она зажгла вторую сигарету, загасила первую и продолжала: — Он оказался передо мной. Светловолосый. Не такой уж высокий — пять футов девять дюймов, от силы десять. В выцветших, выцветших, выцветших — почти до белизны — джинсах, причем драных: на лодыжках, на коленях, на бедрах, на заднице, в паху, о господи, даже на карманах, словно он специально рвал, старался убить эти самые джинсы, так как они прятали от мира то, что не должны были скрывать. Лохмотья, поистине лохмотья. Но одетый в них человек не был… как это называется?.. Провоцирующим? Он никого не провоцировал — не предлагал: посмотрите сюда. На меня. Он только… он просто… просто был там. Стоял передо мной. Безо всякого выражения. И ничего, совсем ничего не отражалось у него на лице. Словно он только что вышел из-под душа и не нашел полотенца, чтобы прикрыться. Так и остался обнаженным. Совсем.
Доктор Фабиан отодвинул стул от стола и от Джейн. В саду за окном чирикал воробей.
— Я…
— Да?
— Не знаю когда, не знаю как, но через некоторое время мы заговорили. Я объяснила свою дурацкую реакцию тем, что приняла его за другого, и он извинился. Не хотел вас напугать, сказал он. Понимаете? Совершенно невинен. Я выпила немного вина и предложила ему пива. Но он ответил: Я на работе. А потом — не знаю через сколько минут — моя рука потянулась, вот так. И пальцы, понимаете, коснулись его руки. Вот и все. Потянулась и коснулась. Он уставился на меня. Нет, не уставился — наблюдал за мной. Заметил мою руку… мои пальцы. Но не отступил. Ни малейшего признака сопротивления — ничего подобного. Просто покорился, принял мое прикосновение, отдался ему. Я могла быть пулей убийцы… Могла быть…
Джейн подалась вперед и стиснула руки.
— Могла даже быть самой его смертью.
Из-за двери доносилось гудение компьютера «мисс государственной дознавательницы».
— Его кожа была такой мягкой, такой теплой — как у доверчивого ребенка, — Джейн запнулась. — Почему я должна об этом рассказывать?
— Потому что вы сами этого хотите.
— Да, да, может быть. Наверное, у меня нет выбора. В конце концов, я ведь добрая католичка.
— Правды не скрыть — так, кажется? Иначе дорога в ад.
— Не в ад. В чистилище. Это еще хуже. Почитайте Данте. Кроме того, я там уже побывала. Помните отца? Маму? Мою худосочную сестрицу Лоретту? И заблудших, изнеженных братцев?
— Я бы не стал называть это чистилищем, Джейн. Освенцим — чистилище. Сталинград — чистилище. Джим Джонс, принудивший паству к коллективному самоубийству[18], — чистилище. Вы называете чистилищем семью. Подождите, пока не попадете в настоящий ад!
— Ад — это все остальные люди. Не помню, кто это сказал.
— Сартр.
— Что ж, он был прав.
— Ад, моя дорогая леди, — не деградация семьи. Ад — это когда приходится расплачиваться за то, чего ты не совершал. Господи! Вы, чертовы католики, совсем сведете меня с ума!
Джейн улыбнулась.
Добро пожаловать в наш клуб, подумала она.
— Итак… вы коснулись его. Его.
— Да. Руки. Тыльной стороны.
— И?
— Он коснулся меня. — Джейн помолчала. — Точно так же. Вот здесь. — Она показала где, но не дотронулась до кожи, словно считала это место священным.
Теперь молчал доктор Фабиан. Что особенно потрясающего в прикосновении к руке?
— Никто ничего не сказал, — наконец продолжила Джейн. — Ни слова. Ни он. Ни я. — Она закрыла глаза. — Но я заметила, что у него эрекция. Почему? Я хочу спросить: «почему?» Потому что он дотронулся до моей руки? — Она вдохнула, выдохнула и снова посмотрела в окно. — На нем были белые трусы. «Белее белого» — откуда это? Из рекламного ролика? Белее белого и совершенно истертые — не толще рисовой бумаги. — Последовала долгая пауза, а затем прозвучало всего одно слово, но как целое предложение: — Съедобный.
— Съедобный? — тихо переспросил врач.
— Да. — Джейн проглотила застрявший в горле ком. — Я разглядела его сквозь одну из дыр. — И затем: — Позвольте мне выпить вина.
— Нет.
— О господи!
Она поднялась.
Доктор Фабиан взял со стола ручку. Он ни разу не видел Джейн Кинкейд в таком состоянии.
Дэниел теперь находился в боковом дворике. Он, видимо, перемещался вместе с солнцем — искал укрытие, когда его настигал блеск светила. Пес сделал три больших круга и улегся на кирпичи с решетчатым узором. Решетка. Снова чертова решетка. Исповедь.
Он развалился под скамейкой, на которой кто-то — наверное, Алли — оставил подушку и недочитанный роман. Умиротворяющая картина семейного благополучия: скамья в тени, красные кирпичи, ждущая книга, цветущие лилии, развесистое дерево — клен.
— Я никогда не считала пенис, эрегированный или нет, красивым. Если хотите знать правду, я вообще никогда не думала об этом. Женщины не такие. По крайней мере… Нет, не такие. Я хочу сказать, не такие, как мужчины. Нас привлекает другое: фигура мужчины — талия, задница, плечи. Может быть, руки. Да, руки. А главное — в совсем иной эстетике. Искренней улыбке. Отсутствии супер-эго. В чувстве юмора. В любви — страсти к чему-нибудь, кроме самого себя, — к езде на велосипеде, сидению на берегу озера, чтению, музыке — все равно. А пенис тут ни при чем. Знаете… это истинная правда. Я не смогла бы вам описать пенис Гриффа. — Джейн рассмеялась. — Не подвергался обрезанию — это точно. Но какого дьявола мне знать его размеры? Кому это интересно? Он есть, и все. Он…
— Я вас слушаю.
— Я хотела сказать, он мой. Но теперь я в этом не уверена.
— Неужели?
— Да. Но не об этом сейчас речь. Речь о другом человеке. О мужчине-ангеле — он был как Адам до фигового листка. И я внезапно почувствовала себя Евой. — Джейн улыбнулась. — А ведь я даже не побывала в том чертовом саду и не видела той чертовой яблони. Не говоря о…
— Змие?
— О, не надо быть настолько буквальным.
— Это ваши образы — не мои.
Джейн скомкала салфетку в ладони и посмотрела на нее.
— Белая, — прошептала она.
— Белая?
— Да. Белая и нежная. Его кожа. Его рука. Он сам. Очень хрупкий. Я чувствовала — стоит снова до него дотронуться — и он растает. И невольно вспомнила о Монике Левински… о ее проклятых узких трусиках, ее проклятом голубом платье, ее проклятых опытных коленях… и о чертовом Билле Клинтоне, который ей позволил себя иметь и вместе с собой весь мир… и весь мир наблюдал за ним. А он был такой красивый… этот телефонист… ангел. Такой чистый. Такой невинный. И так был готов получить и тут же потерять все. Но… Ничего такого не произошло. — Джейн встала, будто принимая приглашение на вальс. — Не забывайте, сэр, я леди. Я Ора Ли Терри из Плантейшна, штат Луизиана. «Пожалуйста, вашу руку, сэр, и ведите меня в круг танцующих» — так говаривала моя мать и рассчитывала, что я буду следовать ее примеру.
Очень заманчиво. — Она пошире открыла окно.
Дэниел свернулся калачиком. Видимо, под скамейкой было слишком много тени и он внезапно замерз.
Джейн подняла глаза: высоко по небу плыли птицы.
Она отвернулась от садового пейзажа и натолкнулась взглядом на репродукцию на стене рядом со стеллажом за спиной доктора Фабиана — «Ученый» Пауля Клее[19], работа 1933 года. То было, догадалась Джейн, внутреннее око доктора — каждый день, когда он направлялся к своему столу, оно напоминало ему, что мир полон тайн и что мы ничего не знаем, совершенно ничего. Овальное, будто детской рукой исполненное изображение лица с мукой в глазах и опущенными уголками губ рассказывало о его времени — о его собственном времени и о том, в котором жила она, Джейн. И доктор Фабиан.
— Я мысленно расстегнула ему молнию, стянула до колен трусы и взяла его член в рот.
Она коснулась салфеткой глаз.
— Если не хотите, можете не продолжать, — предложил врач.
— Не хочу, но должна, — вздохнула Джейн. — У меня было такое ощущение, словно я изголодалась. И вот передо мной еда. Что это значит? Я была просто ненасытна. В мыслях. В мыслях. Мысленно я упала на колени. Прикасалась к самым интимным частям его тела. Рванула его рубашку так, что поотлетали все пуговицы и, как градины, посыпались на пол. Я и сейчас слышу, как они стукаются о доски. Я его хотела. Обнаженного. Всего. Целиком. Я сняла с него башмаки, носки. Целовала пальцы на его ногах. Лизала бедра. Сосала соски. А затем…
Джейн поежилась.
— Затем он спросил, как ему попасть в подвал.
Доктор Фабиан завернул колпачок на ручке и оттолкнул блокнот.
— Ничего… понимаете, ничего этого не было.
— Понимаю.
— Господи боже мой! Что со мной случилось?
Джейн села.
Прошло несколько мгновений. Доктор Фабиан встал, вышел на кухню и вернулся с двумя стаканами и бутылкой вина.
— Вот и славно, — просто сказал он. — Вам нужно было выговориться. Первый шаг сделан. Я знаю, что вы заняты. Но после того как закончите работу над окнами, нам надо провести еще один сеанс. Я попрошу Беллу вам позвонить.
Беллой звали «мисс дознавательницу», которая и теперь, как подозревала Джейн, по своему обыкновению, скорее всего, подслушивала за дверью.
— А сейчас, — продолжал доктор Фабиан, — я хочу, чтобы вы ясно поняли одну вещь. Вы не сошли с ума. Вы просто-напросто вернулись к естественным желаниям после долгих лет добровольной ссылки. Добро пожаловать домой. Салют!
И они выпили.
5
Суббота, 11 июля 1998 г.
Бутафорский отдел располагался в задней части Фестивального театра. Из многочисленных окон открывалась широкая панорама реки. Тот, кто выходил покурить, оказывался на вершине довольно крутого спуска с высоты примерно футов в восемь (выросшая в Штатах Джейн так и не привыкла к канадской метрической системе).
Каждый сотрудник отдела располагал собственным рабочим пространством — широким столом и полками под окном: вроде бы все вместе, но каждый сам по себе. Можно не обращать внимания на коллег, а если захочется — поболтать. В помещении постоянно играл проигрыватель — что-нибудь ненавязчивое, без воплей и грохота. Все двадцать с чем-то человек приносили свои любимые диски: кто-то классические, кто-то нет. Вклад Джейн составляли восемь СД с лучшими гитарными композициями Андреса Сеговия, который умер больше десяти лет назад, но до сих пор почти ежедневно продолжал им играть. А в дни утренников при желании можно было послушать трансляцию со сцены.
У Оливера Рамси были детские глаза и такие руки и улыбка, что могли разбить любое сердце. И его постоянно приходилось переспрашивать, настолько тихо он говорил.
Тем не менее он был педантичным и требовательным работником и ничего не упускал. Получив задание и проконсультировавшись с режиссерами и дизайнерами, он поручал изготовление каждой детали или набора деталей реквизита кому-нибудь из своей команды. Оливер не терпел не только слова «босс», но и слова «персонал». Звучит так, будто вы свора конторских чиновников, говорил он. Слово «команда» подходило больше — ведь бутафорский отдел напоминал отлично управляемый корабль, который вышел в исследовательское плавание к неизведанным берегам: реквизит — словно собранные образцы заморской экзотики. В конце каждого рабочего дня зимой и весной все члены команды должны были демонстрировать свои «находки». Канделябр семнадцатого века, жаровни и фонари шестнадцатого, алтари пятнадцатого и гобелены двенадцатого — вот несколько примеров того, что требовалось в текущем сезоне, не говоря о тривиальном оружии, ломающихся стульях, обеденной утвари, «оловянных» блюдах и печально знаменитой «бочке мальвазии», в которой утопили герцога Кларенса[20]. Плюс отделенная от тела голова некоего «политического противника», которая вызывала рвотный позыв, если на нее смотреть дольше трех секунд. Эту голову произвела на свет Мери Джейн Рэлстон, и с тех пор коллеги гадали, кто послужил ей моделью. Пока что не удавалось найти связи ни с кем из ныне живущих.
Последним заданием Джейн стал витражный триптих для постановки Роберта «Ричард III». Премьера должна была состояться 7 августа, то есть меньше чем через месяц. Джейн давным-давно сделала наброски и предварительные зарисовки и показала их художнику Саре Монктон, руководившей также разработкой костюмов для «Много шума…», для которой Джейн сделала набор разрисованных вееров.
Роберт просил, чтобы оконный триптих напоминал об историческом прошлом Англии и изображал убиение дракона святым Георгием. Этот сюжет занимал центральное окно, а по обе стороны должны были располагаться крупные планы дракона и святого до роковой встречи.
Джейн с огромным удовольствием занялась исследовательской работой — заказала массу дорогостоящей литературы, которой впоследствии суждено осесть в театральной библиотеке. Изрисовала пять альбомов набросками, сделала множество записей и расчетов и сопроводила их цветовыми схемами, фотографиями, репродукциями и другими справочными материалами. И только потом взялась за триптих.
Как раз сегодня она намеревалась завершить лик — кто осмелится назвать его лицом — святого Георгия — во всей славе и романтическом ореоле. Джейн шла к этому моменту долго и упорно: заполнила пол-альбома эскизами, но ни один ей не нравился.
Она приехала без пятнадцати два, положила папку на стол, достала альбом и отправилась на воздух с сигаретой, пепельницей и деревянным стулом. Позади нее из окон доносилась музыка — то был диск Мери Джейн Рэлстон с мелодиями из «Отверженных».
Она закурила, открыла альбом и стала листать страницы.
Нет — нет — нет…
Может быть — может быть — может быть…
Нет.
Ничего даже приблизительно подходящего.
Джейн долистала до чистой страницы и нерешительно взялась за карандаш.
Внизу на склоне кто-то спустил с поводка собак и бросал им мяч.
Трава. Собаки. Мяч.
Мяч. Мячик. Мальчик.
Телефон.
Две минуты спустя Джейн уже вовсю рисовала — и ни разу не остановилась, чтобы оценить то, что получалось.
Закончив, она посмотрела на лист, закрыла глаза и тихо расплакалась.
Боже мой! Боже мой!
Это был он. Мужчина-ангел. В половине второго, когда Джейн уехала в театр, Мерси вымыла посуду, приготовила лимонад, переобулась и повела Уилла и Редьярда на прогулку.
Чтобы попасть в парк, надо было идти на восток, повернуть на Сент-Винсент-стрит и двигаться дальше на север. Улица выводила на западную окраину парка, где вплоть до самой реки раскинулась внушительных размеров игровая площадка. Мерси, Уилл и Редьярд редко задерживались в этом месте, разве что Редьярд учует белку — тогда они дожидались его. Пока он еще ни одну не поймал. Пока, думала Мерси. Слава богу.
Мерси всегда клала в сумку пакет с «птичьим хлебом», как она его называла — кубики черствого хлеба для уток, лебедей и гусей и к нему покупной птичий корм: кукурузу, семечки подсолнечника и зерно. Все это они разбрасывали там, где останавливались.
Когда игровая площадка оставалась за спиной, надо было перелезть через невысокий барьер, и они оказывались в настоящем парке — с дорожками, деревьями и скамейками. На полпути стоял металлический павильон, или «беседка», как окрестила его Мерси. Нечто вроде бельведера, но без крыши и весьма свободной композиции.
После того как Уилл прочел «Лесси, домой!», Мерси сходила в «Фанфару» и купила «Остров сокровищ». Она знала, как мальчик любит читать. Он был настолько увлечен своими книгами, что Мерси порой сомневалась: полезно ли это для здоровья. Уилл не поддавался соблазну поиграть в теннис или бадминтон на заднем дворе. Правда, он катался на роликах с другими мальчишками с улицы — ближе к вечеру или, если получалось, после ужина. Но у него было мало закадычных друзей, и, судя по всему, он не скучал, если они где-нибудь играли без него. Зимой он встречался с Гарри Ламбермонтом и Малли (полное имя Малкольм) Роузкуистом. По субботам они катались на коньках и иногда ходили в кино. Но мальчугану шел всего восьмой год — рановато для абсолютной свободы. И хотя ни Джейн, ни Мерси не хотели докучать ему своей назойливой опекой, обе держали ухо востро и внимательно следили за тем, куда он ходил и что делал без них.
Дети актеров — особая порода. В глазах других детей актеры ведут шикарную, блистательную, недоступную для остальных жизнь — их портреты печатают в газетах и журналах, часто выставляют в разных общественных местах: в маленьких лавках, в витринах больших магазинов и в ресторанах. Совсем не редкость вопросы вроде: «А правда, что твой отец гомик?» Или такие безапелляционные утверждения, как: «Все говорят, что твоя мать — алкоголичка». В подобных делах дети редко проявляют деликатность. Им просто хочется узнать, что происходит в том, другом мире. А потом они начинают, причем с изрядной долей драматизации, рассказывать о своем: «Вчера папаша скинул мамашу с лестницы» — и это означает, что мать всего лишь споткнулась на ступеньках.
Дети актеров наблюдают уникальный распорядок дня родителей и прислушиваются к полуночным застольям на кухне, когда один, срываясь на крик, вопрошает: «Господи, и как же, по-твоему, я должен это произносить?», а другой столь же громко отвечает: «Надо вопить, словно тебе оторвали яйца!» То, что все это не имеет никакого отношения к настоящей жизни, должно быть усвоено, понято и принято чуть ли не с колыбели.
Напряжение в их семьях ощущается сильнее, чем в обычных: дают себя знать постоянно поджимающие сроки или скрываемые результаты успехов и провалов — что может случиться когда угодно. И вечеринки по воскресеньям и понедельникам совсем не такие, как в других домах. Хотя актеры вовсе не предаются «разгулу пьянства и похоти», как ошибочно когда-то писали в прессе. Их вечеринки — веселье и «выпуск пара», когда можно на время расстаться со сценическими волнениями и насладиться едой, вином и хорошей компанией.
Уилл принимал свое положение театрального ребенка с удовольствием и чувством ответственности. Его интриговало то, что делали родители. Наблюдая за игрой отца на сцене, он всегда погружался в мир непостижимых тайн. Откуда взялся этот другой человек? Почему я раньше никогда его не видел? Почему волосы у него светлые? Зачем он целует эту женщину? И почему мама не возражает? Но Уиллу даже не приходило в голову задавать подобные вопросы. Их нельзя было сформулировать.
А мать не допускала его к себе, когда работала — делала наброски, придумывала дизайн или рисовала. И в студию не разрешала входить — только вместе с собой. В остальное время она запирала дверь. Это тревожило Уилла. Что за секреты? Неужели она занимается чем-то дурным? (Он боялся, если плохое всплывет, ее могут арестовать. И в пять лет спросил об этом Мерси.)
Но вообще-то он гордился ими обоими. У родителей было много хороших друзей, которые нравились Уиллу: Клэр и Хью, Найджел и Сьюзен, Роберт, Оливер и другие.
Суббота одиннадцатого июля выдалась, как говорила Мерси, «погожей» — безоблачное небо и только легкий ветерок.
Пока шли по парку, Уилл молчал. Теперь они сидели на скамье в своем так называемом секретном местечке у реки в тени ветвистого дерева. Мерси налила себе и Уиллу по кружке лимонада. Редьярд отправился к воде и, припав на передние лапы и задрав зад, наклонился, чтобы попить. Берег был крутой, и пес совсем не хотел свалиться в воду.
Наблюдая за Редьярдом, Уилл спросил:
— Что случилось с мамой?
Мерси вздохнула, отвернулась и вытащила сигарету и несколько спичек, которые взяла у Джейн.
— О чем ты, дорогой? — Она хотела казаться непринужденной, но сломала первую спичку — пришлось зажигать вторую.
— Мама больше не приходит пожелать мне спокойной ночи, — ответил мальчик. — И почти не разговаривает. Вот сегодня, за обедом, не сказала ни одного слова. — Уилл осуждающе посмотрел на Мерси, словно виновата была она, и уперся ладонями в скамью, будто собирался подняться и уйти.
— Она немного расстроена, вот и все, — осторожно объяснила Мерси. — В воскресенье приезжал один человек и привез плохие новости: умер кто-то ей близкий.
— А почему она не сказала мне?
— Ну… она горюет… и потом, этого ее близкого человека никто из нас не знал. Они учились вместе в школе в Плантейшне — задолго до того, как у твоей мамы появились мы.
Уилл задумался.
— Ее убили?
— Это был мужчина, дорогой, — ответила Мерси. — Он погиб. Какой-то несчастный случай. И к тому же, твоя мама сейчас очень занята, — добавила она. — Спешит закончить окна для спектакля. Их надо сделать к репетиции, которая будет через неделю — такие репетиции называются «техническими» — актеры играют на сцене с декорациями, реквизитом и всем прочим. И вечеринка в понедельник, когда справляли день рождения папы, ее тоже вымотала. — Мерси улыбнулась. — Знаешь, каково это — устраивать вечеринки? Совершенно выкладываешься.
— Она слишком много пьет, — сощурившись, Уилл продолжал следить за Редьярдом, и вид мальчика встревожил Мерси. Вот теперь надо быть вдвойне осторожной, решила она.
Давая себе короткую передышку, она вздохнула, выпила лимонаду и затянулась сигаретой.
— Знаешь… так иногда случается с людьми, когда на них давят обстоятельства. Твой отец тоже перебирает — иногда. В этом нет ничего необычного.
— Но ты-то не пьешь!
— И я пью — еще как! Но, конечно, не при тебе — в свободное время. Не прочь побаловаться бутылочкой-другой вина. Но только дома, где меня видят одни кошки.
Уилл немного подумал, а потом сказал:
— Может, я тоже буду это делать. Иногда.
Мерси рассмеялась. Вот хитрюга — за словом в карман не полезет и ни за что не уступит. Она похлопала по его прижатой к скамейке руке.
— Не уверена, что тебе понравится.
Уилл отнял руку, поднялся и пошел к Редьярду.
Ого, подумала Мерси. Похоже, серьезно.
Вернувшись в помещение, Джейн сразу услышала голос Гриффа.
— Молю, покинь меня, — сказал по трансляции муж, когда она переступила порог.
Джейн улыбнулась. И сразу последовала еще одна фраза:
— Иначе оставлю тебя я.
— Вы что, слушаете эту муть? — спросила она, подходя к своему рабочему столу. — Ведь идет уже больше месяца. Не опротивело?
Мери Джейн Рэлстон, худая, хищного вида женщина, оторвалась от бусин, которые делала из папье-маше, и подняла голову. Бусины были ее главным талантом. И на сей раз предназначались для огромных четок — их будут держать в руках герцогиня Йоркская и королева Елизавета в «Ричарде III». Сами бусины изображали гигантские жемчужины и соседствовали с тяжелым распятием из имитации слоновой кости. Роберт просил, чтобы весь реквизит и эмблемы были нарочито большими и тяжелыми, дабы подчеркнуть отчаяние жертв тирана.
Дженис О’Коннор, неплохо относившаяся к Джейн, встала и выключила трансляцию.
— Хотите музыку? — спросила она.
Послышалось всеобщее бормотание: Давай, конечно, без проблем.
Дженис поставила диск со своей любимой певицей Энни Леннокс.
И все вернулись к работе.
Раскрыв альбом, Джейн сразу же наткнулась на лист с последним наброском. И почувствовала, что невольно пригнулась, — так делают примерные ученики на экзамене, не позволяя одноклассникам у себя списывать. Она подалась вперед, руки ограждали лист.
Лик. Лик. Образ. Святой Георгий.
Джейн закрыла глаза, стараясь не видеть телефониста.
Мери Джейн Рэлстон, двумя столами позади и чуть сбоку, с интересом наблюдала за ней.
Не хочет слышать голос Гриффина, думала она. И не в первый раз. На прошлой неделе сама выключила трансляцию посреди сцены обвинения. Бам!
Забавно.
Неужели милейшая, добрейшая, невиннейшая Джейн Кинкейд объявила войну собственному мужу? Наступательную или оборонительную? Вот в чем вопрос.
Мери Джейн открыла рабочую сумку, достала записную книжку в твердой обложке и раскрыла.
Поставила дату: «Среда. 8 июля», и нацарапала для памяти всего одну строку: «Между Джейн и Гриффом поднял голову раздор». Подумала и добавила: «Мужчина? Женщина? Становится интересно».
Перед тем как уложить записную книжку в сумку, она перелистала страницы: что там еще забавного? «Пятница, 3 июля. Оливер все еще сохнет. Но кто предмет?» И дальше: «3 июля. Аллисон — вот дрянь — весь стол завален шоколадками. Я насчитала восемь!» И еще: «Вторник, 30 июня. Майкл опять в запое. Сколько это будет продолжаться? В прошлый раз длилось целый месяц».
Оливер, который и раньше видел, как Мери делала записи, наблюдал за ней. Когда она спрятала книжицу в сумку, он мысленно поклялся выяснить, что в ней такого. Он знал — это был не первый дневник Мери. Возможно, она успела исписать десятки — или всего несколько. Но сколько бы их ни было, Оливер хотел понять, на кой они ей ляд и что она замышляет.
Джейн между тем самозабвенно рисовала, и вскоре на бумаге появились мужские ноги в драных штанах.
На талии — нечто вроде рабочего пояса, отягощенного инструментами и другими штуковинами — карандашом, ручкой, сотовым телефоном. На коленях дырки — и на внутренней стороне одного бедра тоже. Края брюк намечены линиями — нечто вроде лохмотьев. Ширинка на пуговицах, причем одна из них расстегнута.
Джейн выпрямилась.
Она наложила тени боковой стороной грифеля, придавая форму ногам, словно творя наглядный завет физического совершенства.
Господи, только бы никто не подошел и не заглянул мне через плечо.
Джейн смотрела на плод своих трудов, без слов одобряя и принимая его.
Провела ногтем большого пальца по губам. Подняла другую руку ко лбу и заслонила глаза. Но не от света — глаза резало освещаемое им изображение и тревожило, что это изображение, казалось, жило своей жизнью, которую в него вдохнула иная рука. Иная рука и, следовательно, иная…
Что?
Иная воля?..
Джейн вдруг захотелось выдрать этот лист из альбома, сжечь и сделать вид, будто его никогда не было, — забыть, что она создала и этот рисунок, и намек на то, что скрывалось под тканью брюк: напряженный член, раздвинутые ноги с волосками на коже бедер, — и воображаемый жар тела. Этот человек не существует, сказала она себе. Все это безумие, как в том фильме, «Отвращение»[21], где Катрин Денев настолько живо вообразила несуществующего любовника, что, когда некий несчастный бедолага предстал перед ней во плоти, она его убила, испугавшись реальности образа.
Джейн опустила руку и осторожно дотронулась до своего рисунка.
Ева с корзиной, неожиданно вспомнила она, стоит у ворот…
Что-то в этом роде. Она читала это давным-давно, но забыла имя автора и как продолжалось стихотворение. В памяти сохранилось только впечатление невинного любопытства, нерешительно медлившего у ворот в Эдемский сад.
И теперь сама Джейн, казалось, стояла там, задавая себе тот же вопрос: «А смею ли я войти в запретный чертог?»
Ей показалось, будто сбоку мелькнула какая-то тень.
Кто?
Что?
В ответ раздался голос Энни Леннокс:
— «Каждый раз, когда мы говорим „прощай“»…
Джейн закрыла глаза. Мы с Гриффом танцевали босиком на траве…
Она захлопнула альбом. А потом вошли в дом и любили друг друга.
Джейн выдвинула и с треском задвинула ящик стола.
— Я иду домой, — отрывисто сказала она, встала и начала собираться. — До понедельника.
Было четыре часа.
Едва за ней затворилась дверь, Мери Джейн Рэлстон снова извлекла из сумки книжку и записала: «Д. К. раньше ушла с работы».
Дженис О’Коннор подошла к проигрывателю и поменяла Энни Леннокс на Карли Симон.
Мери Джейн Рэлстон постучала карандашом по крышке стола и улыбнулась с видом психоаналитика. «Как только начинается разлад, — написала она, — он моментально скручивает жертву. Если тут уместно слово жертва. Бывают еще преступники. Соучастники. Виновные стороны. Что ж, посмотрим».
Летние ночи
…но стоит только правде О счастье вырваться наружу, Как очевидно, что распутство и шантаж всего превыше… У. Х. Оден «Детективная история»1
Суббота, 11 июля 1998 г.
Каждый вечер, если не намечалось ничего особенного, например званого ужина, Мерси возвращалась к себе домой на Грэхэм-Кресчент, где ее встречала тишина — настоящая тишина впервые за целый день. Никаких будильников, никаких телевизоров и радио, никакой болтовни Уилла, скулежа Редьярда, никаких мудреных вопросов Джейн.
Но зато внезапно, правда ненадолго, наваливалось ощущение одиночества — неожиданно и властно, — и тогда тоска по Тому переполняла ее грустью и горечью. Даже после стольких лет — а их с его смерти прошло уже двенадцать — сохранилось реальное ощущение присутствия Тома, словно он вот-вот войдет из соседней комнаты или повернется в кровати и положит голову на ее плечо.
Том был — и остался до сих пор — любовью ее жизни. Муж Мерси Стэн бросил ее беременной их последним ребенком и сбежал в Калифорнию с пятнадцатилетней девицей. Ей очень хочется туда съездить, объяснил он. Как, черт возьми, было ее имя? Лейла, как в «Лилит»[22]. Это случилось в 1968-м. Господи — тридцать лет назад.
Теперь Мерси было пятьдесят три. Она все еще оставалась привлекательной, правда, была немного полновата. Но она потеряла вкус к мужчинам, хотя ей и нравился Люк Куинлан. Они существовали, но не больше, — и приносили неприятности женщинам. Во всяком случае, тогда, когда не могли выместить зло на других мужчинах. Таким, по крайней мере, был ее опыт: муж, отец и временами младший брат Лу.
Не можешь отколошматить обидчиков, вернись домой и накостыляй жене.
И все же Мерседес Корбен справилась. Стэн Корбен не оставил ей ничего — смылся по-тихому — и все дела. Зато Том оставил все, что имел, включая бензоколонку на Лорн-авеню, которую она продала и положила деньги в банк.
Когда Том умер, Мерси приняла его фамилию — Боумен. Лучник. Он так ей тогда и сказал: «Я — лучник», — и поразил в самое сердце.
Но дети, теперь уже выросшие и разъехавшиеся, оставили фамилию отца. Они приезжали к ней, хотя и нечасто, и Мерси знала, что они ее любили. Ценили то, как много она ради них сделала. Двое — Роуз и Стэнли-младший — закончили университет и получили приличную работу в бизнесе и юриспруденции. Алиса удачно вышла замуж, родила троих детей и жила со своим супругом-архитектором Эндрю в Ванкувере. А Мелани…
Мелани исчезла. Совсем молоденькой и по собственной воле. И не давала о себе знать. Во всяком случае, Мерси. Мелани была жива — это определенно, — но не хотела, чтобы знали, где она и что с ней. Всегда была трудной девочкой — всем недовольной, постоянно жалующейся и временами совершенно несносной. Она ненавидела Мерси и ее мать, Марту Мей Ренальдо, за то, что они работали в ресторане и все их там видели. Одноклассники Мелани знали, из какой она семьи, и она так и не смогла с этим примириться. И Мерси наконец приняла непростое решение — не рвать с дочерью, но позволить ей уйти из дому. Что такое благодарность, Мелани, похоже, не знала, воспринимая предлагаемые ей блага как данность. Ведь это бесплатно. В конце концов Мелани свалила в кучу свою красивую одежду, диски, проигрыватель, плюшевых зверьков и, бросив все это, ушла. Хлопнув дверью словно ураган, который оставляет после себя одни разрушения.
Иногда приходится говорить «до свидания».
Мерси это понимала.
А теперь Люк потерял Джесса. И это было абсолютно то же самое.
Когда ее брат Фрэнк уходил из дому, он сказал всего лишь одно: «Ухожу. Прямо сейчас». Он был для нее светом в окошке — и пропал. Отрадой жизни — и сгинул.
Роуз, Стэнли-младший, Алиса, Мелани. Их фотографии тешили ее тщеславие. Все в одинаковых рамках из серебра высшей пробы, за которые ей так жалко было платить. Но Мерси понимала, что на детей скупиться нельзя. Они были ее достижением. Ее наградой за тот ад, через который она сумела пройти.
А теперь у Мерси жили только кошки — целых четыре, и все найденыши. Старшая прибилась еще на бензозаправке, когда Мерси обслуживала колонку, а Том занимался ремонтом машин.
Ее первая встреча с Томом Боуменом… была, можно сказать, совершенно обычной. Просто до смешного прозаичной.
Мерси заехала заправиться на своем раздолбанном «меркурии» 1953 года, и Том продал ей бензин. Стояло лето, как сейчас, только не июль, а июнь. «Потушите сигарету, мэм», — попросил ее Том. А Мерси едва понимала, что продолжает курить — так она была поражена. Она ни разу не видела Тома, потому что почти всегда заправлялась в северной части города: на Онтарио или Эри-стрит. Но в этот раз ехала с юга, из Сент-Мерис, и осталась без горючего, так что не добралась бы домой.
Том был крупным, мускулистым мужчиной. «Такого встретишь в темном переулке — испугаешься», — сказала она Джейн. На нем тогда был промасленный комбинезон с расстегнутой почти до паха молнией. А под комбинезоном — ничего. Ничего. Мерси прекрасно это видела. Пропахший бензином, в мазуте, Том едва ли представлял собой романтическую фигуру — только чернела копна волос, ослепительно сияли белоснежные зубы и разворот плеч был, как у Геркулеса.
Но суть не в этом. Внимание Мерси сразу привлек человек, а не его наружность.
Сразу?
Именно сразу. Не смейтесь.
Бог знает, сколько подобных разговоров было у Мерси с друзьями и знакомыми, которые полагали, что она свихнулась — надо же: втюриться в Тома Боумена! Даже с матерью — та в свое время вышла замуж за смуглокожего латиноса, о котором все говорили, что он опасен. Бог с вами, отвечала им мать. Ренальдо — испанец. Испанские парни опасны только для быков.
А городские кумушки продолжали пичкать Мерси местными слухами о Томе: после смерти жены, твердили они, он стал сам не свой. Ни на одну женщину не заглядывается — верный знак: что-то у него не так.
Но Мерси не обращала внимания.
Она знала, чего хотела, помня о своей жизни со Стэном. Том был совершенно другим человеком.
Восемь с половиной лет назад, когда, на последних месяцах беременности Джейн, Мерси наняли в дом Кинкейдов, она уже «вдовела» четыре года. Мерси нуждалась в работе и хотела, чтобы эта работа была по хозяйству — пусть люди судачат, сколько угодно. Изучив однажды вечером свой банковский счет, она поклялась ни в коем случае не трогать деньги, полученные за гараж и бензоколонку Тома. Это — сбережения на черный день, который, как ей казалось, обязательно придет.
Я хорошая повариха. Я одна вырастила четверых детей. Я человек надежный и порядочный, и теперь, когда бензоколонка продана, не хочу снова возить грязь за клиентами в кафе. Приличный дам в городе, куда я буду приходить с радостью, — вот что меня устроит.
Я теперь совсем одна, объяснила она Джейн при знакомстве. Трое моих детей иногда приезжают навестить меня, но ненадолго. Сказку вам честно — мне нужна другая семья: возможность вырастить еще одного ребенка, возможность скопить на новую машину и получить какую-то радость в жизни. Она тогда улыбнулась. Наверное, в вашем доме бывает много знаменитостей.
Конечно, в то время Гриффин Кинкейд был еще начинающим актером и ему частенько приходилось колесить по разным городам и соглашаться на любые роли, но у Джейн деньжонки водились и, судя по всему, немалые. Не то чтобы она этим кичилась, однако Мерси почуяла их запах и не ошиблась.
Во время второй, и последней, встречи она выдвинула свои условия: Воскресенье — выходной, после шести — сверхурочные, бензин для поездок по хозяйственным нуждам. И никакой униформы. У меня имеется рабочая одежда, и я не опозорю нанимателей своим видом, но форму носить не буду. Это правило. Понимаете, поработав официанткой, больше не захочешь связываться с формой.
Джейн отворачивалась, прятала глаза — ее так и подмывало захлопать в ладоши. Эта женщина, сидевшая напротив за столом тем летним утром 1989 года, настолько хорошо понимала, кто она, что Джейн отчаянно хотелось громогласно выразить ей свое одобрение. Я могу у нее многому научиться, подумала она на следующий день. И наверное, воспользуюсь этим. И тогда подняла трубку, набрала номер и сказала: Не знаю, договаривались ли вы с кем-нибудь другим, но надеюсь, что еще свободны. Мерси выслушала ее слова и ухмыльнулась. Я бы не стала так ставить вопрос, миссис Кинкейд, ответила она. Свободной назвать себя не могу. Но работать у вас хочу, и приступила к своим обязанностям на следующий день.
2
Понедельник, 13 июля 1998 г.
Было два часа ночи.
Уилл не мог заснуть. Он дочитал «Лесси, домой!», и сегодня в парке они с Мерси начали «Остров сокровищ», но «голова была занята другим». Эта фраза ему нравилась. Хотя он не мог припомнить, откуда она взялась. Кажется, из предпоследней книжки «Ветер в ивах». Скорее всего, их сказала жаба, которая постоянно была «рассеянна». Вот тоже новое слово.
Он включил прикроватную лампу.
Два.
Давно пора заснуть. Уилл не мог поверить, что до сих пор не спит, хотя погасил свет в десять, когда ушла Мерси.
Целых четыре часа.
Вроде бы.
Скорее всего, так оно и есть.
Уилл слышал, как ложилась спать Джейн. Поднялась по лестнице, споткнулась на верхней ступеньке — черт! Он улыбнулся. Знает, что я слушаю, иначе сказала бы что-нибудь похуже — «дерьмо» или «твою мать».
Почему все думают, что я не знаю этих слов — будто я их никогда не слышал?
Уилл проголодался, но боялся, что его застукают, если он пойдет делать себе сэндвич или полезет за шоколадными чипсами, которые хранились в хлебнице с вечно падающей на пол крышкой.
А еще на кухне было кое-что другое — Мерси принесла из гастронома. Мексиканские тортильи «Начо» в серебристом пакете.
Он старался о них не думать — подперченные, хрустящие, с сыром и с мышью в красном сомбреро на упаковке.
А если проскользнуть на кухню и принести их к себе в спальню — так, чтобы никого не разбудить? И еще — пепси. Он закроет дверь, и никто не услышит, как он будет хрум-хрум-хрумкать и чав-чав-чавкать, будто мышь Начо по телевизору.
Но тапочки не наденет — он не такой дурак. Тапочки всегда выдают. Он это понял по прошлым ночным набегам — то соскочат на лестнице, то из-за них споткнешься в столовой. Уилл зажег фонарик и, представив себя пробирающимся по вражеской территории индейцем, стал красться по коридору второго этажа.
На верхней площадке лестницы спал Редьярд.
И что теперь?
Пес развалился так вольготно, что пытаться через него переступить значило «испытывать судьбу». Испытывать судьбу — тоже новая фраза, которую Уилл выловил из «Лесси, домой!». Уилл прикинул варианты и решил: единственный шанс — разбудить Редьярда и заручиться его помощью. Но именно в этот момент на кухне вспыхнул свет, и луч, словно обвиняющий перст, протянулся по нижнему коридору.
Уилл отпрянул и скрючился в лестничном проеме.
Папа, подумал он. А уже больше двух часов.
Он услышал, как Грифф достал стакан, потом что-то налил — джин или водку. Отец пил только это. Уилл напряг слух, но до него снова донеслось лишь бульканье жидкости, злой шепот и неразборчивое бормотание.
Отец будто говорил обрывками фраз: «не может быть… не понимаю… ни за что не поверю…»
Снова, в последний раз, послышался плеск джина или водки, и свет на кухне погас, но почти сразу зажегся в нижнем коридоре. Уилл вскочил и погасил фонарик, который до этого загораживал, прижимая к телу.
Редьярд к тому времени успел проснуться и, не обращая внимания на мальчика, всматривался вниз — уши торчком — и поводил носом.
Уилл учуял запах зажженной сигареты, услышал, как отец зашаркал в сторону лестницы. Испугавшись, что будет пойман, мальчик инстинктивно съежился и закрыл глаза.
Но Грифф дальше не пошел.
Опустился на нижнюю ступеньку и тяжело вздохнул.
Через несколько секунд Уилл решился разжать веки и взглянул на отцовскую макушку.
Хвост Редьярда стал бить по полу.
Гриффин поднял глаза:
— Хороший песик. Иди сюда.
Грифф почесал собаку за ухом и прижался лицом к морде.
— Редди, Редди, — услышал Уилл, — глупый, что ты знаешь! Ты бы никогда не поверил, что со мной сделали…
Уилл снова потянулся вперед.
И увидел, как с сигареты отца на лестницу упала длинная колбаска пепла. Ему даже почудилось, что он различил звук падения.
Грифф привалился к стене, закрыл глаза и отпил из стакана. Его левая рука по-прежнему покоилась на голове пса.
— Не верю, — сказал он. — Просто не могу поверить. Это чертовски нечестно, — и вдруг заплакал.
Уилл был настолько поражен, что онемел: отец сначала так сердился и вдруг — в слезы!
Слева открылась дверь. Мальчик пригнулся, но в этом не было никакой необходимости — он словно сделался невидимым. В коридоре появилась Джейн. На ходу натягивая халат, она вышла на лестницу и посмотрела вниз.
— Грифф, господи, что случилось?
Гриффин поднял на нее глаза, будто смущенный ребенок, протянул руки и тихо простонал:
— У меня забрали все роли, все, на что я рассчитывал в следующем сезоне. Проклятье!
Джейн села рядом и стала гладить его по голове.
— О, дорогой, как я тебе сочувствую! Откуда ты узнал? Что произошло?
— Я лишился роли Бирона[23]. Я лишился Меркуцио. Всего, что хотел. Чего добивался. Для чего работал. И что мне обещали. Мне не сказали, кто будет играть. Наверное, этот сукин сын Блит. Эдвин-мать-его-так-Блит! — внезапно он повысил голос. — Это чертовски несправедливо!
— Ну, ну, дорогой, — принялась успокаивать его Джейн. — Пойдем вниз, там поговорим. Я сделаю сэндвичи. Выпьем вина. Все обсудим. Мы ведь не хотим разбудить Уилла.
Они пошли на кухню, и там снова зажегся свет. Мальчик никогда не видел отца настолько беспомощным. Джейн пришлось вести его за руку, словно он ослеп.
Уилл больше ничего не слышал. Он встал и отправился в свою комнату.
— Редди, — тихо позвал он. — Ред! — Но его приятель исчез. В конце концов, он был собакой Гриффина.
Уилл отложил фонарик и забрался под одеяло. Все мысли о еде давно испарились. Он изо всех сил старался выбросить из головы образ отца, плетущегося по коридору на кухню. Вспомнил, как Лесси наконец вернулась домой. Вспомнил, как удачно закончился день на реке для Рэта и Молли. Подумал о Джиме, который в «Адмирале Бенбоу» слушал, как пели: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома…» Представил Мерси в парке и бегущего впереди Редьярда. Подумал, что завтра, когда вернется с прогулки домой, там все изменится и отец снова будет смеяться. А мама ему улыбнется и положит на плечо ладонь. Мерси предложит всем хот-доги: «Вот горчица и приправа, лук с жареной картошкой — много, много, много картошки». На ужин будет пицца — «возьми побольше анчоусов» — и приготовленный Мерси шоколад. А потом ко мне в кровать заберется Редьярд и вытянется рядом с моей ногой. Я спою ему, как всегда, колыбельную и… и… и… усну.
И он уснул.
3
Понедельник, 13 июля 1998 г.
Когда Люк Куинлан делал клумбу на заднем дворе арендуемого Кинкейдами дома, ему помогал его дядя, Джесс Куинлан, — для большинства — Беглец Куинлан, хотя ему нравилось, чтобы Люк называл его «братишкой». Джесс, младший брат его отца, был «здоров, как бык» — буквально по пословице. Джесс обожал таскать землю, камни, мешки с навозом, цементом и органическими удобрениями. Они ему казались демонами, которых необходимо одолеть.
Много лет он жил вместе с Люком в старом семейном доме на Маккензи-стрит, но не всегда участвовал в садовых работах. Время от времени он переносился в иные миры, где подвергал себя испытанию, перебарывая свою необразованность и вечную склонность к побегам. Старея, он научился уходить в наркотики и воровство, и тогда Люк начал называть его Беглецом. Человеком, спасающимся бегством из страха перед тем, кем он был.
И вот теперь он снова улизнул.
Люк сидел на закрытом крыльце их большого дома и потягивал «Слиман». Было далеко за полночь. Стрекотали сверчки, перекликались друг с другом лягушки, все уличные фонари были облеплены тучами насекомых. Где-то лаяла собака. Из соседского сада доносилась музыка. По улице после бесплодной вылазки за девчонками возвращались по домам поздние скейтбордисты. Бряканье их досок по цементу и мягкое жужжание колес было господствующим звуком каждую летнюю ночь. Глядя на великоватые джинсы ребят, их свободные майки, надетые козырьком назад бейсбольные кепки, Люк вспоминал собственную юность, когда он среди десятка других безнадзорных мальчишек словно нес добровольную вахту, околачиваясь на ступенях городской ратуши, и коп Хендерсон разгонял их, увещевая: «Эй, полуночники! Пора топать отсюда!»
В ту пору они называли свои велосипеды «колесами». Это было до эпохи горных байков, десятискоростных и прочих диковин. Большинство его приятелей и сам Люк по субботам работали рассыльными, лоточниками, подносчиками и дворниками — зимой топили печи и убирали снег. С тысяча девятьсот шестьдесят первого по шестьдесят шестой. Стратфорд был настолько другим тогда, что сейчас Люк с трудом верил в его реальность. Но он существовал, и в нем можно было выжить — если смотреть за горизонт. Город справился, и теперь почти ничто не напоминало о его железнодорожном прошлом.
Когда в 1953-м Люку исполнилось пять, все изменилось навсегда. В тот год в цирковом шатре на холме над бейсбольной площадкой родился Стратфордский шекспировский фестиваль, и с того момента «ничего уже не было, как прежде». Он прочел эту фразу в каком-то стихотворении о том, как умирают любимые. Не то чтобы он и город были влюбленными, но Люку нравилось его детство, несмотря на вечно скандалящих родителей: тогдашний покой в лесах вдоль реки и шуршание льда под коньками субботними вечерами. Все это ушло, но взамен он начал садовничать.
Теперь Люку было пятьдесят. Или, вернее, будет — вот пройдет еще месячишко. А Беглецу — пятьдесят семь, но он так и остался младшим братишкой — низенький, жилистый, широкоплечий, с обгрызенными ногтями и тревожным взглядом.
Вжик, вжик, вжик — скейтборды и призраки «колес». Молодость с ее страшным одиночеством. Вечное ощущение безысходности и жопоголовые взрослые, которые твердят, что «юность — лучшее время жизни», а ты всего-то и можешь вернуться домой, опустошить холодильник — холодная пицца, шоколадный торт и пепси, — а потом подняться к себе, забраться под удушающие простыни и в пятый раз за день подрочить.
Люк закурил.
И в его мозгу стала медленно, будто титры кинофильма, прокручиваться семья его отца. Одни только звезды. Или вроде того.
Парад открыли дедушка и бабушка: Проповедник Куинлан и Марбет Хокс представляют своих детей!
Гек Куинлан — в исполнении Микки Руни — погиб где-то на шоссе в возрасте сорока двух лет, когда в тумане спустил с обрыва свою любимую восемнадцатиколесную фуру. Где-то, где-то, всегда только где-то. Ничего более определенного: Куинланам пришлось покататься туда-сюда по дорогам Онтарио — временами встречаясь с призраками Гека или его машины — оплаченной, как это часто бывает в жизни, кровью. Кровью, костями, мозгами, плотью — от него ничего не осталось, кроме стекла от часов и какой-то расплавившейся медали.
Том Куинлан — в исполнении Генри Фонды — настолько же высокий, насколько Гек низкорослый — был воплощением определенного природного благородства, которого не обнаруживалось ни в отце, ни в матери. Но Том, их порождение, любил родителей до сих пор, хотя их давно уже не было рядом. Том — опора, Том — отец клана Куинланов, Том-маяк; единственное, в чем Том дал слабину — он не сумел понять боли Джесса: его муки смятения ума — того, что привело Джесса к спиртному, наркотикам и отчаянию. Но Том увел свой клан в Альберту — не разрывая узы, только ослабляя связь. Он больше не мог быть советчиком. До свидания, Люк. Все теперь на тебе.
Так Джесс, «младшенький», достался в наследство Люку, и тот вскоре на собственном опыте понял печальную истину: Джесс ничего не знал от рождения. Даже того, что он человек. Только осознавал, что живет.
Он ни с кем не был связан. Никогда не понимал, что мы — его близкие. Он был один на свете. Всегда один.
Литания семейных имен подходила к концу.
Бекки — в исполнении семилетней Ширли Темпл — даже сейчас, в шестьдесят восемь, по-прежнему жеманно подсюсюкивала: «Что тебе сделать, дорогуша? Куриного бульончика? Почесать спинку? Где-нибудь пошлепать?»
Джим, Джо, Мег, Эми, родившаяся мертвой Бет, Фрэнк и Джесс. И в самой середине — по пять человек с каждой стороны — отец Люка Марк. Он и еще двое уже умерли. Словно из книг Твена и Олкотт — один святой, двое преступников — и все Куинланы. И единственный полный провал. Джесс. Кое-кто, спору нет, тоже с дефектами, но не до такой степени. Неудачные браки Мегги, несчастная жизнь гея Джима до наступления эпохи прав гомосексуалистов, несчастная жизнь гея Фрэнка после пришествия эры СПИДа, безнадежная приверженность Джо к собственной писанине — под семьдесят — и до сих пор ни одной публикации.
Нет, остальные не совсем пропащие, размышлял Люк, понимая, как велика его привязанность ко всем его тетушкам и дядюшкам и их попыткам — подобным его собственным — стать самим собой.
«Стань самим собой».
Цитата, кавычки закрыты. Проповедник сказал, а Марбет выткала это изречение и повесила над двустворчатой дверью в столовой, чтобы все видели.
Оно до сих пор было там — за окном, которое выходило на закрытое крыльцо, где сидел сейчас Люк.
«Стань самим собой». Семейный девиз.
И что же?
Вот Джесс и становится самим собой.
Уже стал.
Полностью.
И превратился в Беглеца.
И где же тебя, Беглец, носит на этот раз?
Люк вспомнил, как два года назад они сидели на этом месте с дядей и пили «Слиман» вдвоем. Примерно тогда же в кинотеатрах шел фильм, название которого очень точно описывало тревогу Джесса насчет того, что заложено у него внутри, — «Прирожденные убийцы». И в поисках подтверждения своих мыслей Джесс смотрел его уже трижды.
— Настанет время, — сказал он Люку, — и я это сделаю.
— Нет, — ответил ему Люк. — Не сделаешь, потому что всегда знаешь, в какой момент убежать.
Беглец словно прислушивался к царившей вокруг темноте.
— Еще по «Слиману»?
— Давай.
Когда Люк вернулся и подал дяде пиво, он заметил при свете стоявшего за кленом уличного фонаря, что на щеках у Джесса блестят слезы.
— Беглец, — попросил он, усаживаясь и откидываясь в тень, — расскажи мне все. Не держи в себе. В чем дело?
Джесс закрыл мокрое лицо ладонью.
— Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. — Он протянул Люку дрожащую руку, и тот сжал ее.
— Говори. Не томись.
Джесс сидел, наклонившись вперед, и произносил слова так тихо, что Люк едва его слышал:
— Я все время буду один. Постоянно один. Я не заведу друга и не встречу женщины. Я не умею отдавать себя. Не умею общаться с людьми. Как? Как? Не знаю. И мне одиноко. Чертовски одиноко. Это меня пугает.
Люк ничего не ответил, просто держал его руку, пока Джесс ее не отнял. И они отправились каждый в свою спальню.
Через три дня Беглец снова подсел на кокаин и исчез.
Время от времени он возвращался домой — жил, работал — и опять куда-то проваливался. Знакомый, как мир, распорядок. Так продолжалось годами.
И вот теперь Люк слушал, как подняли тревогу соседские собаки, на которых никто никогда не обращал внимания. Между тем чужаки — люди, собаки, кошки — наводняли участки в поисках того, что все живые существа хотят получить в темноте от себе подобных.
На Понти-стрит насиловали женщину, но об этом знали только она и насильник. Собаки поблизости разлаялись, ответом им был лишь раздраженный окрик и бадья холодной воды из окна.
Люк потягивал «Слиман» — единственное стоящее пиво в городе. Он не любил банки. Баночное пиво — это некультурно.
Бедный старина Беглец. Куда его унесло на сей раз?
Все это стало почти ритуалом: исчезновение, возвращение и новый побег.
Люк задумался, не стоило ли поискать дядю. Но он знал в городе от силы пару торговцев наркотиками, а их было гораздо больше. К тому же Джесс мог направиться в Китченер, в Лондон или Гранд Бенд — подальше от Стратфорда, подальше от живого укора — от него, Люка. Не то чтобы Люк вслух обличал дядю. Ничего подобного. Он всегда принимал его и помогал во время ломки. Но факт оставался фактом: Люк был Люком, он, как мог, справлялся с семейными бедами и невзгодами. И это само по себе служило упреком Беглецу. Вызовом. Доказательством того, что с неудачами можно сладить, если только постараться. Но стараться Беглец, судя по всему, не умел.
Люк по опыту знал, что испытывал дядя. Ему самому пришлось сносить невероятные требования родителей, видеть загубленные жизни школьных друзей. Но он выбрал молчание. Молчание и присутствие. Ничего не говорить. Не показывать своих чувств. Все, что от тебя требуется, — это всегда быть здесь, и не более.
4
Понедельник, 13 июля 1998 г.
Послеполуденное солнце нещадно палило, раскаляя известняковый фасад отеля «Пайнвуд».
«Пайнвуд», находившийся в двадцати километрах от Стратфорда в известняковом городке Сент-Мерис, был излюбленным пристанищем заезжих звезд и других светил, которые прибывали в Стратфорд — поработать или просто погостить. Некогда дом был обожаемым и лелеемым жилищем железнодорожного барона XIX века Джона Маккриди, и до сих пор кое-где еще виднелись следы его присутствия — пни, которые отмечали границу между диким лесом и ухоженными газонами.
Маккриди был шотландцем без единого пенни, когда приехал в Канаду в 1850-х годах. И за двенадцать коротких лет выбился из толпы иммигрантов на самый верх. Говорили, что он родился не с серебряной ложкой, а с серебряным рельсом во рту и умудрился стать владельцем нескольких объединенных линий, в местах, которые после 1867 года и образования Конфедерации нарекли Южным Онтарио. В известном смысле именно он сделал Стратфорд ключевым узлом железных дорог из Монреаля и Виндзора. И сам стал одним из первых местных предпринимателей, которые черпали из бездонного колодца создаваемых паровым локомотивом богатств.
Однако, женившись и упрочив свое положение, Маккриди не захотел обосноваться в центре своего бизнеса. Он предпочел образ жизни шотландского лаэрда[24], переехал в Сент-Мерис, где возвел замок в сосновом лесу, разбил сады, в которых работали четыре садовника, и построил конюшни, поместив в них одномастных серых лошадей; запряженные в полированное ландо Маккриди, они неизменно вызывали возгласы восхищения везде, где бы ни появлялись.
Но ничто не длится вечно.
Железные дороги захирели.
К началу 50-х годов XX века накопленное Маккриди состояние растаяло, и «Пайнвуд», как выразился последний потомок железнодорожного магната, «продали в рабство».
Но прежний дух никуда не ушел: все было восстановлено — и викторианские сады, и эдвардианские бельведеры, и каскады прудов; дом превратился в процветающий отель, ресторан и гостеприимство которого удостоились похвал на страницах воскресного приложения к «Нью-Йорк таймс», «Чикаго трибюн» и — награды из наград! — монреальской «Ля пресс», что являлось небывалой честью для отеля из тогдашней Северной Канады.
Джонатан Кроуфорд поселился в «Пайнвуде» в марте 1998 года, когда приступил к завершающим репетициям «Много шума из ничего». Он выбрал номер с видом на плавательный бассейн и теннисные корты. Дальше глаз скользил к кромке деревьев, где вдали от солнечных лучей «царил, или так, по крайней мере, казалось, доисторический мрак и под доисторическими кущами слышался доисторический шепот», — это он записал в своем дневнике.
Из своих окон он мог наблюдать за атлетически сложенными молодыми людьми — актерами, зрителями, просто богатыми лоботрясами, которых привлекали спортивные сооружения. Джонатан был заядлым вуайеристом и имел богатую коллекцию соответствующих фотографий; в субботу вечером и в воскресенье утром он обычно перебирал их за бутылкой виски, если его деликатно сформулированные приглашения оставались без ответа или были отвергнуты.
Но все это отходило на задний план, когда Джонатан приступал к серьезной охоте. Одно дело заглядываться на атлетические формы юных незнакомцев и совсем другое — провести целенаправленную кампанию, чтобы заполучить в свою постель Избранного.
Избранный (Джонатан чрезмерно романтизировал все на свете, кроме своих постановок) был всегда подающим надежды актером (но ни в коем случае не актрисой). Проморгать такого значило упустить целый сезон удовольствий. Изучая списки исполнителей в Нью-Йорке, Лондоне и Стратфорде, он, почти никогда не ошибаясь, определял претендента на звездность. И Джонатан хотел обязательно стать тем, кто добьется для претендента славы.
Он считал себя скульптором талантов. Лепил своих протеже, как из глины: их тела, их профили, вокальные данные, их понимание текста, эмоциональный настрой и, конечно, сексуальную податливость.
Его постель отнюдь не являлась «ложем набора в труппу» — ни в коей мере. Она была испытательным полигоном, где поведение оценивалось так же скрупулезно и беспристрастно, как в суде. И если испытуемый оказывался виновным в секундном колебании, хотя бы в малой доле неискренности или непокорности, на нем ставился крест.
То, что Джонатан выбрал Гриффина Кинкейда, поначалу знал только он один. Даже Роберт не догадывался. Во время постановки «Много шума…» Джонатан постарался ничем не выдать себя. И поэтому на репетициях Гриффину изо дня в день приходилось терпеть его прямые нападки и уничтожающие замечания: то у мистера Кинкейда голос звучит не так, то поза не та, то не хватает целостности, то недостает ума. Было ясно, что все это не более чем придирки. Но они не хуже шпор подхлестывали Гриффа.
Так продолжалось, пока март не перетек в апрель, а апрель — в май. Приближалась премьера; оба, и Джонатан и Гриффин, понимали, что «рождается на свет окончательная версия постановки» (такую пометку Джонатан сделал 15 мая на полях режиссерского экземпляра пьесы). Усилия были потрачены не зря.
А потом возник вопрос о следующем сезоне.
Джонатан должен был ставить «Ромео» и «Тщетные усилия любви». Гриффин понимал, что может рассчитывать на роли Меркуцио и Бирона. Кому же еще их давать? Не Эдди же Блиту! Абсурд!
В июне, вскоре после того как спектакль «Много шума» был показан и оказался грандиозным хитом, Гриффин получил приглашение на ужин в «Пайнвуд».
Джейн не позвали.
И это было настолько демонстративным, что Грифф понимал бесполезность любых объяснений. Дело было явно не в забывчивости — ее проигнорировали намеренно. И это могло означать только одно.
Поэтому Грифф принял приглашение, но ничего не сказал Джейн. Как получить, что хочешь, и не уступить?
Ему предложили постель.
Он отказал.
Джонатан достаточно милостиво принял отказ, только грустно улыбнулся и неопределенно махнул рукой.
Гриффина позвали вторично.
На этот раз июнь уже близился к концу — Грифф, согласившись поужинать, посчитал необходимым объясниться.
Гриффин не вилял, не искал отговорок. Напрямик заявил, что не может лечь в постель и заниматься любовью с мужчиной. Он сожалел, даже извинялся. Воздал хвалу «гению» Джонатана, поблагодарил за все, чему научился во время репетиций «Много шума», но сказал, что не может согласиться на столь внезапное и неожиданное предложение. (Он надеялся, что слова «внезапное и неожиданное» сойдут за шутливый экспромт. Но этого не случилось, они прозвучали чем-то заранее подготовленным — как оно и было на самом деле.)
Джонатан не терял времени даром. И отреагировал, по обыкновению, молниеносно.
Он получит Гриффина, иначе Гриффин не получит ролей.
Он отправился к Роберту. И начал ненавязчиво сетовать по поводу творческих возможностей Кинкейда: Клавдио — это одно, но Бирон — совсем другое. На Клавдио у него хватало закваски, а вот Меркуцио… тут нужен совершенно иной кураж…
Его тонко рассчитанные сомнения, подобно семенам, постепенно проросли и расцвели. К середине июля оказалось, что Гриффин может рассчитывать только на второстепенные роли — вполне приемлемые, но отнюдь не те, на которые он надеялся.
Роберт сообщил об этом Гриффину после воскресного дневного представления.
Грифф был потрясен. В голове возникла единственная мысль: «За что?» Затем: «Понятно!» И наконец: «О боже!»
Он не верил, что это может случиться.
Неужели они существуют — извращенно капризные люди, которые готовы погубить карьеру других из-за своих сексуальных прихотей? Но Грифф знал, разумеется, что подобное случалось сплошь и рядом. Власть есть власть, и те, у кого она в руках, пользуются ею. Просто, как апельсин.
Неделю назад Джонатан сделал последнее предложение: Соглашайся или больше никогда не всплывешь. Он уезжал в Филадельфию — кому какое дело зачем — и, если до этого времени Гриффин не даст положительного ответа, все угрозы превратятся в реальность.
А потом Люк перерубил телефонный кабель.
И все пропало.
Джонатан улетел в Филадельфию, не дождавшись звонка от Гриффина. А когда вернулся, встретился с Робертом. Тот попытался заступиться за Гриффа, но Джонатан был непреклонен. В конце концов они согласились, что Кинкейд не совсем готов к таким ответственным ролям. И еще решили подождать месяц, прежде чем утвердить другого исполнителя. Основным претендентом в труппе был Эдвин Блит — восходящая звезда и более сговорчивый человек.
Честолюбие. Старая история.
Или, по крайней мере, один из ее аспектов.
И вот в понедельник последовало новое завуалированное приглашение в «Пайнвуд».
Гриффин ответил «да».
5
Понедельник, 13 июля 1998 г.
— Ты куда?
— Ухожу.
— Дорогой, я не ребенок. Ухожу — это не ответ. Это — увертка. Я хочу знать, куда ты идешь? — Меня пригласили поужинать.
— Ты говоришь, как герой Сомерсета Моэма. Но если вспомнить, что мир его манер давно канул в лету, то все это почти смешно. По-твоему, я должна спрашивать: «С кем ты сегодня ужинаешь, дорогой?» И делать вид, будто не знаю. Будто я одна из тех глупеньких пресыщенных жен, которые пишут в своем дневнике: «Г отправился ужинать с З». Ведь это З, я не ошиблась? Или, уж совсем по-моэмовски, — Клэр? Крутить любовь с лучшей подругой жены — очень в духе его древних историй.
— Все? Закончила?
— Нет, Грифф. Я никогда не закончу. Я сильная — пойми это раз и навсегда. Неважно, сколько все это продлится, — я твердо намерена дождаться конца. И конец наступит. Ты сам положишь этому конец. Хочешь, скажу, каким образом? Ты вырастешь. Просто однажды вдруг появится взрослый человек.
Гриффин пытался натянуть брюки и при этом не упасть. Он застрял одной ногой, и, как ни пропихивал ее, она не пролезала в штанину.
— Хочешь ножницы? — предложила Джейн, глядя на его усилия. — Быстро освободишься. Словно прорубишься через лесной подрост. — И добавила: — Подрост — хорошее слово. Может обозначать не только непроходимую чащу, но и неспособность человека двигаться вперед. Кто-то перерастает незрелость. А кто-то — нет: барахтается в подросте, в собственной юности, застряв одной ногой.
— Господи, Джейн!
— Господи, Джейн. Это все, что ты можешь мне сказать?
— Да! Все! Ты мне осточертела! Оставь меня в покое!
— Вот как? — Джейн, прислонившись к косяку в спальне, крутила в руке стакан с вином. — Хорошо одно: мне не приходится говорить тебе то же самое.
— Не понял, — поднял на нее глаза Грифф. Он наконец пропихнул ногу в штанину и выбирал в шкафу рубашку.
— Я вот о чем: в последние дни ты только и делаешь, что оставляешь меня в покое — одну. Я вот о чем: если бы мне представилась возможность сказать кому-нибудь — конкретно тебе — «оставь меня в покое», я бы это сделала с удовольствием. Но такой возможности как-то не возникает.
Джейн выпила.
Грифф достал свою любимую синюю рубашку «Тили» с коротким рукавом и посмотрел в зеркало.
Джейн наблюдала за ним, словно он уже принадлежал ее прошлому.
— Кто это? — хрипло спросила она. — Мне все равно, Грифф. Но я хочу знать.
Он не ответил, только покосился на жену и, шепотом ругаясь, принялся застегивать пуговицы. Допрос становился невыносимым. Гриффин боялся: если Джейн нажмет посильнее, он не выдержит и проговорится. А правда была такова, что о ней не хотелось даже думать.
Джейн подошла к нему сзади и положила руку на плечо.
— Я хочу знать, дорогой. Мне надо знать. Я должна. Я имею право.
— Зачем? Какая тебе разница? Хочешь побыть Клавдио, а меня превратить в Геро? Ради бога! — Он сбросил ее руку с плеча. — Кто сказал, что я завел интрижку? — Это было самое большее, на что он осмелился. Много раз играя разгневанного и подозревавшего обман Клавдио, Грифф понял: ничто так не оглупляет мужчину, как уверенная самооборона. — Кто это говорит?
— Я. Иначе откуда все твои таинственные свидания? Ты не объясняешь, куда идешь и с кем встречаешься. Неужели я должна верить твоему: «Скоро услышишь хорошие новости, хорошие новости не за горами…» Как будто ты и впрямь встречаешься с Робертом и обсуждаешь с ним свои роли в будущем сезоне. Как будто дело только в твоем суперактивном тщеславии. Я не настолько глупа. Ты никогда не наряжаешься так ради меня — не говоря уж о Роберте, если, конечно, мы не идем на какое-то мероприятие, где ты хочешь кого-нибудь очаровать.
Она указала на только что отутюженные рубашку и брюки. Пиджак сидел на его (чертовой) фигуре как влитой. Если все дело во внешнем виде, то пальма первенства единогласно за ним. И он это прекрасно понимал.
— Удивительно, что ты не сбегал в парикмахерскую и не сделал маникюр, — добавила Джейн.
Гриффин прошел мимо жены и направился к лестнице.
— Ты должен мне сказать! Это все, чего я прошу.
Муж обернулся:
— Не кричи, Джейн. Уилл услышит.
— Боже! Можно подумать, ты хоть сколько-нибудь печешься об Уилле!
Грифф спустился на площадку. Джейн последовала за ним.
— Помнишь, как недавно ночью ты рыдал на этих самых ступенях? — обратилась она к его спине. — Просил меня помочь. И я помогла. Черт возьми, очень здорово тебе помогла, сукин ты сын. А сегодня в слезах я и тоже прошу о помощи. Я хочу совсем немногого, Грифф. Будь я проклята, очень немногого: кто, где и почему?
Боковая дверь затворилась. И это был конец. Пустота.
Джейн услышала, как заработал мотор машины, и оперлась о перила.
Из кухни показалась Мерси. Она все слышала, но притворилась, что была с Уиллом на застекленной террасе при закрытой двери.
— Гриффин уезжает? — спросила она.
— Да, — ответила Джейн помертвевшим голосом.
— Хотите, что-нибудь по-быстрому сготовлю? — предложила Мерси, возвращаясь на кухню. Она не хотела видеть того, что отразилось у Джейн на лице, — боялась очевидного.
— Нет, — отказалась Джейн ей вслед. — Лучше отведу всех нас в «Бентли». Мне хочется выбраться из дома. А «Бентли» — единственное место, которое нам нравится и которое сегодня открыто.
— Я — «за», — отозвалась Мерси. — Мы целый час сражались с Уиллом в кубики с буквами, составляли слова. Он, естественно, выиграл. Чувствую себя полной дурой.
— Не надо дуреть, Мерси, иначе мир рухнет. Только вы и держите нас всех вместе.
Мерси чувствовала, что у Джейн к глазам подступают слезы, и понимала: как бы ни были они оправданны, Уилл не должен видеть мать в таком состоянии — во всяком случае, не теперь. Он и так уже спрашивал, что неладно с его папой — почему он так часто уходит из дома. Мальчик слышал спор на лестнице. А потом Гриффин прошел через кухню, видел сына на террасе и ничего не сказал. Только хлопнул дверью.
— Пойду возьму свитер, — ответила она. — Мы можем поехать на моей машине.
Джейн допила вино и поставила стакан в посудомоечную машину.
— Кто хочет бентлибургер? — Она старалась, чтобы ее голос звучал как обычно. В дверях стоял Уилл. Он немного помолчал, а затем спросил:
— Можно, Редди тоже поедет с нами?
— Нет, милый, к сожалению, нельзя. Туда собак не пускают. Но не расстраивайся: обещаю, с ним будет все в порядке.
Мерси вела машину, и они всю дорогу напевали считавшийся исконно стратфордским мотивчик:
Я работал на железке день-деньской — Ой-ой-ой! Чтобы жизнь скоротать, Пока не время умирать!Но Джейн понимала: жизнь нельзя скоротать — ее необходимо прожить. Отмотать, как в тюрьме. И теперь она мотала срок в захиревшем браке, который сам оказался вроде застенка. Но кто из них тюремщик: она или Грифф, Джейн не понимала. Ключи, если они и хранились у нее, были давно потеряны.
Без пятнадцати девять тем летним июльским вечером машина Мерси скользнула на стоянку у «Бентли», и тут же через город пронесся товарняк на Виндзор, да с таким грохотом, словно опаздывал, а не летел раньше графика.
Они шли по дорожке и молчали. Первым порог «Бентли» переступил Уилл. За ним Мерси. А Джейн задержалась на улице. Шум уносящегося вдаль поезда поселился в ее душе, и она понимала: ей весь вечер не избавиться от этого отзвука.
6
Понедельник, 13 июля 1998 г.
Кондиционеры в зале ресторана отеля «Пайнвуд» старались вовсю, превозмогая удушающую жару, которая не отпускала даже вечером.
Помещение в эдвардианском стиле когда-то служило гостиной — невероятных размеров, с темными панелями, с каминами по всем сторонам между рядами перемежающихся балконных дверей и окон.
Но затем, после того как в начале пятидесятых годов поместье превратилось в отель, большинство панелей переместили в нынешнюю библиотеку, а стены отделали грубым гипсом и украсили моделями костюмов из стратфордских постановок.
На столах белели скатерти, а каминные доски пестрели резными фигурками эскимосской работы разной величины и веса. Все они изображали представителей северной фауны: волков, моржей, зайцев, лисиц и сов. Коллекция была поистине бесценной: в 70-х годах ее подарил «Пайнвуду» один американский коллекционер, который решил, и надо думать, небезосновательно, что здесь ее увидят и оценят больше людей, чем в захудалой галерее в Пенсильвании, где она хранилась прежде.
— Все очень цивилизованно, — заметил Джонатан, сидя тем вечером напротив Гриффа за столиком, несколько удаленным от остальных — почти в самом углу.
— Да, — согласился его гость.
— И еда превосходна. Я подумал, мы могли бы разделить «Шатобриан»[25], если бы согласились по поводу того, как его следует готовить.
— Средней прожаренности и не слишком много крови.
— Отлично. Именно то, что мне нравится.
Они выпили по «Гибсону». Джонатан знал пристрастие Гриффина к джину.
— Здешний бармен — настоящий специалист. Знает в коктейлях толк. Всегда на высоте.
— Да.
На Джонатане был легкий летний костюм и голубая в белую полоску рубашка с расстегнутым воротом. Он справедливо предвидел, что Гриффин придет без галстука, и не захотел ставить его в неловкое положение.
— Ты выглядишь превосходно, — начал он, словно это была обязательная преамбула ко всему остальному.
— Спасибо.
— М-м-м… скажи-ка мне, что у тебя на уме.
— Вы пригласили меня, Джонатан. Поэтому я здесь.
— Следует ли понимать, что у тебя нет ничего на уме?
— Вы прекрасно знаете, что это не так.
— Тогда рассказывай. Я, конечно, могу догадаться и сам. Но хочу услышать от тебя.
— Что случилось с моими ролями?
Джонатан улыбнулся и пожал плечами.
— Были, да немножко сплыли, — ответил он. — И ты прекрасно знаешь почему. — Он достал из пачки сигарету. — А что случилось с моим телефонным звонком? Ты же обещал мне отзвонить перед тем, как я уеду.
Гриффин рассказал о перерубленном телефонном кабеле. Джонатан явно не поверил его объяснению. Закурил и сказал:
— Значит, накрылся из-за цветочной клумбы. Понятно. Что ж, по крайней мере, оригинально.
— Так что с ролями? — вернулся к интересующей его теме Гриффин. — Вы их отдали Эдвину Блиту?
— Вопрос пока не решен.
Грифф отвел глаза. Он чувствовал себя беспомощным: хотел говорить и не знал, как произнести слова, которые должен был сказать.
— Ты ведь никогда не спал с мужчиной? — Джонатан рассеянно разглядывал свои лежащие на скатерти пальцы.
Гриффин не отвечал. Он раздумывал, не следует ли ему солгать и сказать «спал».
— Могу объяснить, почему я догадался, что это так, — продолжал режиссер. — Несколько лет назад, подыскивая актеров, я видел тебя в Манитобском театральном центре в Виннипеге. Ты играл Брика в «Кошке на раскаленной крыше».
— Вы ни разу не упоминали, что видели меня там.
— А зачем? Меня заинтересовала твоя внешность и врожденный талант. Но я понимал, что ты не готов для работы со мной. Во всяком случае, тогда не был готов.
Гриффин свернул салфетку.
— Но при чем здесь то, спал я с мужчиной или нет?
— При всем. Как ты прекрасно знаешь, зрители «Кошки» должны поверить в возможность того, что Брик в самом деле имел сексуальные отношения со своим давнишним товарищем по команде Скиппером. И его жена Мэгги должна поверить — настолько, чтобы испугаться возможности этого. И Большой Папик должен поверить. Потому что без этого нет пьесы. Какое слово поставил во главу угла Уильямс? Он поставил во главу угла слово «лживость». Лживость! Состояние вранья. Но в твоем исполнении я ни на секунду не поверил, что Брик в самом деле способен переспать со Скиппером. Это было абсолютно исключено! В тебе все кричало: я не гомик, и посмейте только в этом усомниться. Такое прочтение недостойно настоящего актера. Настоящие актеры, Гриффин, бесстрашны. Если актер замыкается — все пропало. А ты настолько ощетинился, что не оставалось никаких открытых дверей. Но суть образа Брика и исполнения его роли в том, что он оставляет двери открытыми, а затем пытается, но не в состоянии их закрыть. В твоей игре я ничего похожего не увидел. И это меня опечалило.
— Сочувствую.
— Не надо ехидничать. Речь не обо мне. Тебе надо учиться слушать внимательнее. И понимать значение нюансов.
Грифф закурил и откинулся на спинку стула. Он не знал, как вести разговор. Не знал, как справиться с этой ситуацией. Слишком пугало сознание могущества Джонатана — его способность раздавить или возвысить.
— Да, это правда. Я хочу с тобой переспать. Но я хочу не только секса. Я хочу большего.
— Большего? Чего же?
— Я хочу научить тебя, как принимать тот факт, что ты желанен. Бесценный дар и для мужчины, и для актера.
Грифф ждал продолжения.
— Если бы, к примеру, тебе пришлось играть Бирона.
Гриффин уставился в пустой бокал и дотронулся до его ножки указательным пальцем.
Вот, значит, как. Если…
— Когда возникает иллюзия, будто Розалина его отвергает, зрители — учти, я имею в виду всех зрителей: и мужчин, и женщин — должны испытать к нему нечто большее, чем сочувствие, поскольку они знают, отчего она, притворяясь, отказывает ему. Кстати, это единственное, чего не знает он. Все, как я уже сказал, буквально все, должны возмущаться: «Как она может поступать подобным образом, я бы принял его, ни секунды не раздумывая!» А для этого ты должен заставить нас поверить в абсолютную вероятность того, что Бирон готов переспать с каждым из нас, только бы добиться Розалины.
— Может быть, выпьем еще?
— Разумеется.
Подошел официант, и они заказали еще по «Гибсону».
— Продолжайте, — попросил Грифф.
— Не знаю, известно ли тебе, сколько личного любовного опыта использовал Шекспир, когда писал «Тщетные усилия любви».
— Не известно. В каком смысле?
— Еще молодым человеком он влюбился в своего патрона, графа Саутгемптонского…
— Ах да, сонеты. Критики об этом писали.
— В одно из великих нашествий чумы, которая в те времена частенько посещала Лондон, театры закрыли и все, кто мог себе позволить, уехали как можно дальше от города. Это был единственный шанс не заразиться.
— И что же?
— В какой-то степени граф Саутгемптон отвечал на его чувства — и пригласил Шекспира в свое имение на юге. А вместе с ним еще несколько юношей. Все они составили то, что мы могли бы назвать «семейным кругом».
Джонатан улыбнулся.
Официант подал коктейли.
Они выпили.
— И что дальше?
— Вдумайся. Что происходит в «Тщетных усилиях любви?» Компания молодых аристократов — студенты — разбивают лагерь неподалеку от своего университета, и, чтобы сосредоточиться на занятиях, юноши отвергают общество женщин. Знакомая ситуация?
— Значит, по вашему мнению, Шекспир сравнивал женщин с чумой? — лукаво поинтересовался Гриффин.
— Уже лучше, — улыбнулся Джонатан. — Ко всем важным материям следует подходить с чувством юмора.
— Давайте вернемся к обучению тому, как быть желанным.
— Желанным, любимым, востребованным.
— Моя жена меня любит.
— Справедливо. Но это ты выбрал Джейн — она тебя не выбирала.
— Выбирала, вы прекрасно это знаете.
— Может быть. Но по-женски. Я замечал, как, наверное, и ты, что напористые женщины в поисках мужчин чаще терпят неудачу, чем преуспевают. Повадки женщины в любви совсем не те, что повадки мужчины. Женщина выжидает, а мужчины преследуют объект любви. Напористые женщины атакуют сами, а мужчины этого не терпят. Это прерогатива мужчины — нападение.
Грифф выпил.
— О’кей…
— В этом бесценный урок для актера, художника, любого мужчины. Девяносто процентов мужчин понятия не имеют, что значит быть женщиной.
— Они не хотят быть женщинами.
— Ну… не хотеть быть и не в силах понять — это разные вещи. Я не прошу тебя стать женщиной. Я прошу созреть в мужском качестве.
Грифф отвернулся и посмотрел в окно. Наступала та вечерняя пора, когда на землю падали тени. Здесь они, словно ласковые пальцы, тянулись по газону от сосен к отелю.
— Меня никто никогда не брал, — услышал он собственные слова, будто обращенные к самому себе.
— Брал — не то слово, Гриффин.
— Смысл тот.
— Нет. Ты имеешь в виду — или хотя бы должен иметь в виду, — что ты никогда не отдавался желанию других.
По-прежнему глядя в окно и не решаясь посмотреть в глаза Джонатану, Гриффин сделал новый глоток джина.
— Не могу поверить, что ни один мужчина не делал тебе предложений, — продолжал режиссер.
— Делали, но…
— И что же произошло?
— Я не мог. И я отказался.
— Потому что не хотел или потому что испугался?
— Наверное, и то и другое.
— Готов поспорить, что испуга было больше.
— Я и сейчас не хочу и боюсь.
Они оба помолчали.
— Ничего нет плохого в том, что тебя хотят, — проговорил Джонатан. — Быть желанным — это не смертный грех.
— Когда мне было тринадцать, в школе, один парень из старшеклассников…
Джонатан тоже взглянул в окно.
— Этот сюжет мне знаком — с обеих сторон.
— А когда вы были младшим?
— Я долго думал. Но он мне нравился, и я решил идти вперед.
— Что это означает?
— Что я вел себя так, как ты теперь. Я прикинул последствия и сделал выбор. Конечно, мне было всего четырнадцать. Это совершенно иное дело. К счастью, как я уже сказал, он был привлекателен. Ему исполнилось семнадцать. И, видишь ли, я хотел быть желанным. И только ждал подходящего мальчика.
— Как его звали? — спросил Грифф.
— Дэвид Мастерсон. Почему ты спрашиваешь?
— Хотел узнать, помните ли вы.
— Такие вещи не забываются. Он подарил мне свободу стать самим собой.
Грифф наконец посмотрел на режиссера.
Джонатан улыбнулся.
— Готов сделать заказ? — спросил он.
— Да.
— Итак, «Шатобриан»?
— Да.
— За будущее, — провозгласил тост Джонатан. Они выпили.
— Давай больше не будем говорить.
Грифф опустил глаза.
— Да. Мы больше не будем говорить.
7
Понедельник, 13 июля 1998 г.
Домой Мерси вернулась поздно. Накануне вечером на Понти-стрит произошло убийство, и теперь все только о нем и судачили. Жертвой преступника стала женщина сорока с небольшим лет, известная своим пристрастием к наркотикам; подозревали даже, что она занималась их сбытом, хотя ничего доказано не было.
Убитую звали Мэгги Миллер; Мерси время от времени видела ее в каком-нибудь баре — та либо работала официанткой и обслуживала посетителей, либо сидела за столиком с кем-то, кто явно пользовался ее врожденной щедростью. Она была неизменно готова (и в состоянии) заказать человеку выпивку — только бы он оставался рядом и давал ей возможность пожаловаться на свои неприятности. А имя им было — легион: аборты, сбежавшие мужья, удравшие любовники, побои — хватало всего. Все плохое, что могло произойти с женщиной, обязательно случалось с Мэгги.
И вот она умерла. Задушена. А перед смертью изнасилована.
И тот, кто лишил ее жизни, безнаказанно разгуливал на свободе. Во всяком случае, пока. Как и убийца-насильник из Китченера.
Стратфордские молодые холостяки и гуляющие на сторону мужья срочно начали обзаводиться алиби.
Радио и телевизор, не умолкая, вещали об убийстве — стоило их включить, и человек был обречен слушать одно и то же. А на улице каждый строил собственные предположения. Не лучше, чем с Моникой и Биллом, думала про себя Мерси. Так и пихают тебе в глотку…
— Извините за выражение, — громко сказала она кошкам и от души рассмеялась.
Как обычно, перед сном Мерси устроилась на крытой веранде, которая выходила на задний двор со скромными клумбами и развесистыми деревьями. Дворик был маленьким, но Мерси его любила. Прямо у стены стояли горшки с распускающимся по вечерам табаком, и она ощущала исходивший от цветов аромат.
Божественный, божественный, божественный аромат.
Бедолага Мэгги Миллер…
Вопрос: «Кто?»
Так долго преодолевать всякие невзгоды и вот… думала Мерси, наливая себе вино марки «Вулф Бласс» с желтой этикеткой, которым иногда баловала себя.
В ее детстве редко выдавались счастливые годы. Смерть отца. Затем матери. Сестры и братья разлетелись на все четыре стороны. А потом…
Потом Стэн Корбен и последовавшие ужасные восемь лет. (Они познакомились и поженились в 1961 году.) Мерси научилась по этому поводу если не смеяться, то хотя бы улыбаться. Некоторые люди приземляются на ноги, говорила она о своем приезде в Стратфорд и браке со Стэном, я же шлепнулась так, что подвернула обе лодыжки.
На бензозаправочной станции разгуливала целая стая бродячих кошек. Том более или менее их терпел. Но когда появилась Мерси, стал принимать. «Потрепанные воины» — называла их Мерси. У большинства были подранные уши, хвосты, а у одного не хватало целой лапы. Старые, никем не любимые и бездомные. Даже самки казались и, вероятно, были бойцами — им, похоже, не раз приходилось вырываться из сетей-ловушек, из самых безвыходных положений, отбиваться от банды диких котов-насильников.
Мерси соорудила дюжину картонных общежитий, пункты кормления, поилки и кошачьи туалеты. Это добавило известности принадлежавшей Тому заправке, которую раньше знали исключительно благодаря высокой квалификации хозяина.
Тогда, в 1973 году, Тому исполнилось сорок девять, и он был почти на двадцать лет старше Мерси. Она забрала детей и переехала в его запущенный дом на Луис-стрит. Из-за этого ей пришлось бросить любимую квартиру на Онтарио, но она привезла с собой свою мебель и всякие хозяйственные мелочи. А от вещей, оставшихся от бывшей жены Тома, тактично избавилась. Жена ушла от него за пять лет до этого, когда, катаясь на велосипеде по темным улицам, погиб их сын.
Том после той трагедии запил — мальчик умер, жена ушла. Затем умерла и она. Умерла от душевного опустошения — и оставила Тому единственное слово, написанное на фотографии сына: «Почему?» Мерси долго ни о чем не знала и не подозревала, что Том заглушает горе алкоголем. Правда всплыла только через три месяца после ее переезда к нему. Мерси в недоумении ждала его до полуночи, пять часов назад приготовив ужин. Когда же он вернулся, то буквально рухнул через порог, разбив нос о плитки пола.
Даже теперь Мерси не держала в доме крепких напитков. И все из-за пристрастия к ним Тома. Словно он мог вдруг воскреснуть и потребовать спиртного. У нее хранилось только вино и пиво. Хотя при Томе она не вводила в доме «сухой закон». Не было никаких правил и запретов — только надежды и ожидания.
Пиво Мерси держала для гостей. Сделавшись няней Уилла Кинкейда, она начала перенимать вкус Джейн к вину. Вино не входило в опыт ее собственного взросления. Тогда в компании родителей Мерси потребляли виски, имбирный эль да еще пиво. Позже ей объяснили, что это — классовый набор. Плебс не пьет вина, разве что пьяницы. Но они дуют не вино, а бормотуху.
Нет, Мерси, конечно, не могла себе позволить «Вулф Бласс» с желтой этикеткой каждый день. Она покупала его на день рождения или как рождественский подарок для Джейн. Или по просьбе самой Джейн и на ее деньги. Но, перепробовав хозяйский «подвал» (буфет в столовой), она составила путеводитель вин — вполне приемлемых, зато не таких дорогих. Однако сегодня… «произошло убийство, — сказала себе Мерси. — Жизнь коротка. Иногда короче, чем мы предполагаем».
Покормив кошек и вычистив их туалет, она открыла подарок «от себя себе самой» и вместе с сигаретами и бокалом вынесла на веранду. Кошки последовали за ней и, радостно рассевшись по своим любимым местам на подушках плетеной мебели, стали усердно приводить себя в порядок после вечерней трапезы.
Мерси растянулась в шезлонге. И довольно вздохнула. День выдался беспокойным, но увлекательным. Он подошел к концу. И все, что осталось от него, принадлежало ей одной.
Где-то, в двух-трех участках от нее, опять подрались коты. Гэбби и Роли, два самых молодых самца, соскочили со стульев и потрусили на кухню — им явно хотелось поучаствовать в сваре.
Люк Куинлан устроил Мерси в задней двери кошачью лазейку: как и в доме Джейн, она выходила на уступ, с которого Мерси развешивала белье на веревке, протянутой до самой водопроводной трубы во дворе. Через лазейку кошки могли выходить на улицу, когда Мерси не было дома (и хотя она регулярно чистила кошачий туалет, в этом почти не было необходимости — разве что за окном бушевала метель или разыгралась гроза).
Мерси услышала, как дважды стукнул клапан лазейки, и Гэбби повел Роли через темный двор. Она следила за ними, пока они не скрылись — вечные, как мир, ночные охотники.
Из соседнего дома слева раздавались звуки пианино: скорее всего, играла Фиона Хэни. Что-то мелодичное. Мерси не узнала мотива, но он был очень прилипчивым. Через секунду она запомнила его и стала, как говорится, подмурлыкивать.
Закурила вторую сигарету — ей нравилось наблюдать, как теплится в темноте уголек. Светлячок. Живое присутствие рядом. Казалось, будто она — отражение Джейн, то же одиночество, вино и курево. И окружение прошлого. Я раздобревший образ-близнец.
Кошачий бой разгорался. Самый старый ее кот Рэгс забрался к ней на колени. Мерси стала чесать ему уши, пока он не замурлыкал. Видимо, крики с улицы напомнили коту о его былых победах и поражениях. Рэгс был последней живой связью Мерси с Томом, который держал его еще котенком. Он даже играл с ним в кошки-мышки: привязывал к веревке тряпочку и возил по полу, чтобы малыш ловил ее. О боже… это было словно вчера — а не двенадцать долгих лет назад.
Справа, у Саворских, горел весь свет, и из окон наверху слышались звуки льющейся воды и разговора. Не злые и не приглушенные, просто плывущие в двойном потоке — два голоса, два крана. И никаких криков больного ребенка. Ни плача, ни страдания. Ни тревоги, столь различимой, когда его видишь. Чего-то ему не хватало: зрения, слуха, покоя? Мерси казалось, он просто возмущался невежеством окружающих, к которым тянулся ручонками и голосом. Как поведать то, что нельзя выразить без слов? Кричать. Выть. Плакать. Только так он мог выговориться — и никто его не понимал. Или — поскольку это касалось его матери — не желал слушать.
Ребенок родился у Саворских — молодых супругов, женатых меньше года — три недели назад. Назвали его Антоном. Врачи не хотели выписывать младенца из больницы, но Агнешка, его мать, настаивала.
Он мой, и я хочу, чтобы он был со мной.
Оставайтесь и вы, миссис Саворская. Это вполне возможно. Мы все организуем.
Нет, я хочу забрать его домой. Он должен быть дома.
Но с ребенком что-то не так. Послушайте, миссис Саворская, нам необходимо выяснить, что с ним такое.
Нет. Я его здесь не оставлю. Он тогда умрет.
Он умрет, если мы его не обследуем.
Бог не делает детям ничего дурного. Это все доктора! — прикрикнула она на врачей.
Миссис Саворская, зачем вы так? Мы профессионалы и знаем, что делаем. Мы поможем вашему сыну. Позвольте нам — ради него. Ради Бога!
Не смейте говорить: «Ради Бога». Вы не имеете права. Мальчик принадлежит только Богу и мне. И я его заберу.
И она забрала.
Милош Саворский оставался в стороне и все время молчал. Он не знал, как поступить. Его родительский инстинкт и знания были на стороне врачей, медицины, здравого смысла. Но он понимал, насколько истеричны религиозные воззрения жены на жизнь, смерть и справедливость. Ее не переубедить. Воля Бога превыше человеческой. Мы станем молиться.
Милош стеснялся опускаться на колени. Саворские, как и родители Агнешки и она сама, пережили советскую оккупацию Польши, но католиками считались только формально, а политикой почти не интересовались, в то время как родители Агнешки были ярыми (если не оголтелыми) антикоммунистами и безмерно активными приверженцами секты «Свидетели Иеговы» — напыщенно многословными, неутомимыми, безапелляционными. До рождения Антона Агнешку постоянно видели на углу Даун и Онтарио-стрит, где она, стоически перенося жару и мороз, предлагала прохожим брошюры. Именно там ее увидел Милош, и они познакомились. Ему пришлось вынести настоящий ураган новообращения ради этого знакомства.
Агнешка сильно увлеклась Милошем. И не только из-за строгости родителей, которые не пускали на порог ухажеров, но и потому, что видела в этом красивом молодом человеке своего первого обращенного. Если удалось его обращение, то она непременно проведет его во врата.
В Стратфорде никогда не было значительной польской общины. Но поляков вполне хватало, чтобы сформировать анклав в католическом сообществе — а также внести существенный вклад в рынок труда. Немцы, итальянцы, появившиеся в последнее время боснийцы, поляки и среди них явное меньшинство — коренные канадцы — составляли основу фабричных рабочих. Но только не Милош. Милош трудился монтером в телефонной компании «Белл».
Мерси размышляла о Саворских под аккомпанемент их разговоров на фоне журчания воды и словно бы сопровождающей действие музыки Фионы. Вроде как фильм. В котором Мерил Стрип и Харрисон Форд демонстрируют, как распадаются семьи, когда в них появляется больной ребенок. Любой дурак поймет, что будет дальше: любовь сменится горечью и даже ненавистью, и все из-за упрямого, непростительного нежелания Агнешки взглянуть в лицо реальности. И неспособности Милоша хотя бы ради спасения ребенка взять в свои руки контроль над ситуацией.
Физически Милош был выше всяких похвал — воплощение греческого божества, но совсем не походил на других привлекательных мужчин. Не охорашивался, не задирал носа и не косился на свое отражение в блестящих поверхностях. Он просто существовал, и все — в разодранных, выцветших джинсах, расстегнутой рубашке, рабочих ботинках и с монтерским поясом. Чистый, представительный, деловой, вежливый, спокойный и в то же время источающий из всех пор обволакивающее физическое обаяние. Даже Мерси, которая после смерти Тома редко думала о сексе, представляла именно Милоша, если грешные мысли все-таки посещали ее. В нем чувствовалась мощная зрелая мужественность — и вместе с тем тайна невинной юности. Хотя ему было почти тридцать.
Далекие краны разом завернули.
— Ну, так я пойду? — услышала Мерси голос Милоша.
— Куда?
— На улицу. Я ненадолго.
— Пожалуйста, не задерживайся. Не люблю оставаться с ним одна.
— Вернусь к двенадцати — половине первого.
— Давай к двенадцати. Двенадцать — это полночь. После полуночи происходят всякие дурные вещи.
— Постараюсь.
— Не постарайся, а приходи.
Мерси в очередной раз удивилась, почему супруги не говорят по-польски. Она не знала, что Агнешка всеми силами старалась забыть о Польше и своем прошлом и ради этого даже отказалась от родного языка. Подобная сознательная жертва была недоступна пониманию Мерси. Прошлое существует. Личность существует. Выучить чужой язык — одно дело. Но поставить крест на своем — совершенно иное.
Что же до Милоша — он только немного обучался в школе на английском и со своими родителями и родителями Агнешки говорил по-польски. Его английский был каким-то официальным, даже высокопарным, Мерси полагала, что это у него от природной застенчивости.
Она заметила, как на кухне мелькнул его силуэт — Милош доставал пиво. Потом на втором этаже из одного окна в другое проплыла тень Агнешки.
Открылась задняя дверь.
Зажегся свет во дворе.
Появился Милош в простенькой майке, сел в свой мини-фургон и выехал задом на улицу.
Наступила тишина. Относительная.
Фиона продолжала играть. На этот раз Мерси узнала песню — «Лунное сияние».
Слушая, она постепенно погрузилась в атмосферу фильма, в котором эта мелодия выполняла такую важную роль. «Пикник». Уильям Холден, Розалинда Рассел, Сьюзен Страсберг, Ким Новак. В 1956-м, в год выхода картины на экран, Мерси было примерно столько, сколько героине Сьюзен Страсберг, когда эта упивающаяся книгами девочка-подросток влюбилась, как и ее старшая сестра, красавица Ким Новак, в сексуального беспутного бродягу — героя Уильяма Холдена. Неужели, думала Мерси, Фиона тоже испытывает тайное любопытство к их соседу в драных джинсах — который появляется и исчезает, подобно другого рода бродяге, Эросу, — переодетому Адонису, называющему себя телефонистом компании «Белл»?
Мерси откинулась на спинку и улыбнулась; «Лунное сияние» навеяло воспоминания о том времени, когда ей самой было одиннадцать, двенадцать, тринадцать, — потерянная, упивающаяся книгами и одинокая в дебрях юности, она училась носить бюстгальтеры, курить сигареты и скользить всезнающим и непонимающим взглядом по столикам в школьной столовой. И всегда удивлялась: отчего ее вдруг так заинтересовал пятнадцатилетний Тедди Карлсон, которому всего месяц назад она смеялась в лицо. А мать приговаривала: «Только приличные мальчики, Мерседес. Никаких Тедди Карлсонов. Чтоб ноги его не было в моем доме. Только приличные мальчики». Мерси два дня отказывалась от еды. Все кануло — непрощающее, незабываемое прошлое родительских запретов и запертых дверей: каждый день в десять, а по воскресеньям в двенадцать. Ушло, но не забылось. Всплывет в памяти — пожмешь плечами и улыбнешься.
Задняя дверь Саворских снова открылась и с треском захлопнулась. Разве обойдется летняя ночь без хлопанья задних дверей? Где угодно, только не в Южном Онтарио…
Босоногая Агнешка просеменила через две подъездные аллеи — свою и Мерси, неся завернутого в детское одеяльце спящего Антона.
— Я заметила вашу сигарету. Можно войти? — спросила она, подойдя к двери на террасу.
Как тихо стало внезапно.
Кошачья баталия завершилась.
Фиона прекратила играть. Кино кончилось?
Только, как обычно, кричали лягушки и стрекотали сверчки.
От голоса Агнешки Рэгс спрыгнул с колен Мерси. Она встала и отодвинула задвижку на двери. Четверть двенадцатого. Мерси слышала бой стоявших на кухне старомодных напольных часов.
— Вам чем-нибудь помочь?
— Нет, ничего не надо. Только побыть у вас. Милош меня оставил.
С этими словами Агнешка переступила через порог. А Мерси невольно представила себе момент в будущем, достаточно предсказуемый, когда это действительно может произойти.
— Боюсь, я не понимаю, — разыграла она невинность, прекрасно зная, что Милош всего лишь поехал в город выпить.
Агнешка обожала все драматизировать. Точно так же она проявляла себя и в отношении к религии, политике, любви, смерти и к своему сыну. У нее была истинно актерская способность нагнетать ситуацию.
— Он опять вернется пьяным.
— Перестаньте, на Милоша это совершенно не похоже.
Что, кстати, соответствовало истине.
— Он поехал пить пиво и заигрывать с девицами. — У Агнешки не было собственной тайной жизни, и она придумывала такую жизнь Милошу. — Вчера возвратился после двух часов. Обещает, но никогда не приходит вовремя. — Она огляделась по сторонам и чуть не села на задремавшую на стуле Лили — единственную кошку Мерси.
— Вот сюда. — Мерси уступила женщине шезлонг. — Вам с Антоном здесь будет удобнее.
— Спасибо.
Агнешка устроила сына на сгибе руки и вытянула ноги.
— Что это вы пьете? — поинтересовалась она.
— Красное вино, — ответила Мерси. — Могу дать вам что-нибудь другое: клюквенный или апельсиновый сок, минеральную воду. — Агнешка не употребляла спиртного.
— Я выпью вина, — заявила она.
О!
Мерси отправилась на кухню. Рэгс вернулся на свой стул.
Вино! Черт бы ее побрал! Придется открывать другую бутылку. Не давать же ей мое — с желтой этикеткой. Провались пропадом эта Агнешка!
Вопреки тому что она говорила Уиллу, Мерси никогда не позволяла себе слишком налегать на вино, но теперь, откупорив вторую бутылку — на сей раз «Вальполичеллу», — она тайком пропустила стаканчик, да так залихватски тряхнула головой, что чуть не опрокинулась в раковину.
И сама рассмеялась. Беззвучно. Мерси Боумен наконец свалилась пьяной!
Взяв чистый стакан для Агнешки, она возвратилась на веранду, жалея, что Фиона больше не играет. Музыкальный фон помог бы ей общаться с этой сложной, неприятной, несимпатичной и настырной молодой женщиной. Ведь придется разыгрывать добрую старшую соседку — золотое сердце.
А вот не буду — потому что не хочу.
Она мне никогда не нравилась. Понаехали всякие поляки!
Стоп, стоп, а как же милосердие?
Пошло оно подальше, это милосердие. Где оно, это милосердие, в ней! Стервоза! Гробит собственного ребенка. А теперь пьет мое вино и жаждет сочувствия…
Мерси налила, как требовали приличия, полстакана вина и подала нежеланной гостье.
— Я однажды пробовала вино. На своей свадьбе, — сказала та.
— Привет!
— Так говорят в Канаде, когда пьют?
— Ну, на самом деле так говорят англичане. Но и мы тоже. Будь мы французами, сказали бы «салют».
— Значит, привет и салют.
Женщины выпили.
Мерси села на единственный свободный стул и закурила.
— Не дымили бы вы, — попросила Агнешка. — Здесь ребенок.
— Это мой дом. — Мерси сама удивилась своим словам. — В вашем доме я бы не стала курить. А здесь буду. К тому же мы на веранде.
Агнешка поставила стакан с вином и откинула одеяло с лица Антона.
— Спит, — проговорила она, не обращая внимания на дым. — Очень спокойный весь день.
— Неужели вы больше не покажете его врачу?
— Ни за что. Врачи его убьют.
Ты его первая доконаешь.
— Но надо же узнать, что не в порядке с вашим сыном. Позвольте медикам хотя бы выяснить, в чем дело. Ведь будете локти кусать, если выяснится, что ему могли помочь, но вы не дали этого сделать. У моих друзей была дочь, — продолжала Мерси. — Очень красивая девочка. Но с первого взгляда было видно — ее надо лечить. У девочки косил один глаз…
— Что значит «косил глаз»?
— Это когда глаза не фокусируются вместе. Ее левый глаз не двигался и смотрел все время вправо…
— Как в кино. Так делают комики, чтобы рассмешить.
— Да… наверное… Только это-то было серьезно. Не я одна замечала изъян. Родители тоже знали, но все твердили: пройдет само собой. Девочке тогда еще не исполнилось и двух лет. Но они ничего не сделали. Абсолютно ничего. А она была такая красавица! К восемнадцати годам с глазом стало совсем плохо, и его пришлось удалить.
— На все Божья воля.
— Ни черта подобного! — вспыхнула Мерси. — При чем тут Божья воля? Родительская тупость и гонор. Вот в чем дело. Не хотели признать, что их совершенная дочь родилась с дефектом. А покажи они ее вовремя специалисту, и глаз удалось бы спасти. — Мерси решилась на рискованный шаг и выдвинула последний аргумент: — С Антоном может случиться то же самое. Я не считаю вас глупой, Агнешка. Вовсе нет. Но я считаю вас жестокой — это я должна вам сказать.
— Я не жестокая. Я покоряюсь воле Господней.
— Антон понятия не имеет о воле Господней, — прошипела Мерси и подалась вперед. — Он всего лишь младенец. И понимает одно — ему плохо. Почему он должен страдать? За что? Все, что от вас требуется, это отнести его в больницу и позволить врачам провести обследование.
Она опять выпрямилась на стуле. Налила себе вина и добавила в стакан соседки. Агнешка помолчала. Затем опустила глаза на сына и коснулась пальцем щеки.
— Он спит, — улыбнулась она. — Уснул.
— Да. Но не по воле Божьей. Он спит, потому что устал. Смертельно устал — столько времени звал на помощь, и никто его не услышал. Извините, что говорю так резко, но меня это действительно очень, очень, очень тревожит. Поймите, Агнешка, это Господь создал врачей, больницы, медицину. Помогите ребенку. Он ждет от вас помощи. В этом и заключается жизнь. Помогать.
— Но я сама могу ему больше помочь. Я его мать. И позабочусь о нем. Зачем же еще нужны матери? Я его врач, больница и медицина. Мать!
— Я тоже мать. Четырежды, — заметила Мерси.
— Не знала. Совсем не вижу ваших детей.
— Если честно, я тоже. Только время от времени. Но я их люблю. Всех.
— Как я люблю Антона.
— Да. Как вы Антона. Но…
— Не говорите «но». Я не желаю слышать никаких «но». Вы не понимаете: я мать — да. Но я в то же время — дитя. И я подчиняюсь. Мне указывают: «нет». Это Божья воля. Надо подождать. И я повинуюсь и… жду.
Она посмотрела на спящего мальчика.
— Я хочу… очень хочу, чтобы он жил. Но я не свободна. Я… узница.
Мерси отставила стакан и подсела к Агнешке.
— Можно его подержать? — спросила она.
— Да, да, конечно. Пожалуйста. — Агнешка протянула Антона Мерси.
Мерси прижала его к груди, так что макушка мальчика очутилась у нее под подбородком. Ребенок казался невесомым — маленький сверток из одеяла.
— Я больше тридцати лет не держала таких малышей.
— Правда, красивый?
— Да, очень красивый.
Мерси поцеловала младенчику ручки — сначала одну, потом другую.
Агнешка наблюдала за ней со слезами на глазах.
— Как бы я хотела, чтобы вы были моей матерью.
Мерси сама чуть не плакала.
И я тоже, подумала она.
— Моя мать, мой отец никогда не брали на руки Антона, — проговорила Агнешка. — Я не понимаю. Так много любви к Богу и так мало любви к нам.
Мерси улыбнулась. Надежда есть.
— Если я дома и вам потребуется помощь, — сказала она, — пожалуйста, приходите. И приносите его с собой.
— Хорошо. — Агнешка снова взяла сына на руки и поправила одеяльце. — Приду. Непременно.
На подъездной аллее блеснули фары.
Была полночь.
Напольные часы принялись отбивать время.
— Ваш муж, — проговорила Мерси.
— Да, — откликнулась Агнешка и встала. — Я ему сказала: двенадцать часов. Видите, какой он хороший?
На пороге она обернулась:
— Спасибо, что разрешили посидеть. И спасибо за вино.
— Спокойной ночи. — Мерси поднялась и мысленно попрощалась с Антоном.
Агнешка ступила на траву.
Дверь веранды захлопнулась. Женщина пересекла лужайку.
— Милош! Милош! Я здесь! Здесь!
Фары погасли, но Милош не вылезал из фургона.
Не хотел говорить жене, что на этот раз он и в самом деле едва не оставил ее.
8
Понедельник, 13 июля 1998 г.
После того как они вернулись из «Бентли», Джейн взяла бутылку «Вулф Бласс» с желтой этикеткой, ушла к себе в студию и заперла дверь.
Вставила в проигрыватель компакт-диск под названием «Сакура» и приглушила звук. Полилась японская музыка — мелодичная и успокаивающая и в то же время ободряющая. Музыка, не подвластная времени и ударам судьбы, — как бы Джейн хотела быть такой же стойкой. Пропади все пропадом!
«Вулф Бласс» с желтой этикеткой. Конечно, дороговато. Ну и пусть. Я в печали, мне нужно успокоение. А от этой волны удушающей жары успокоения мало. От Гриффа тоже.
Джейн порылась в сумке и достала альбом для набросков, в котором начала рисовать мужчину-ангела. Но прежде чем открыть страницу, на секунду закрыла глаза.
Если он так, то и я так. И она представила Гриффа с другой — кем бы эта другая ни была.
Попыталась вообразить комнату, где он занимается любовью с Зои Уолкер. Красивое черное шифоновое платье аккуратно повешено на спинку стула, роскошное шелковое белье (простого она бы не надела) в артистическом беспорядке разбросано в ногах и в головах кровати, вещица здесь — вещица там, а чулки (непременно черные), без сомнений, украшают абажур. Боже праведный!
Джейн невольно рассмеялась — настолько смешной показалась ей эта картина. Как в борделе. Или того хуже: «Сестра Зои обрабатывает доктора Кинкейда».
Джейн открыла глаза.
Куда же в самом деле его унесло? И с кем?
Она налила себе вина и закурила сигарету. Все тот же старый реквизит для того же старого действа: «Джейн ищет утешения». Одни и те же декорации — изо дня в день.
А известно ли тебе, дорогуша, что ты становишься надоедливой? Неужели? Да, я надоедлива. Но, по крайней мере, я на виду, я не прячусь где-то во тьме. И если уж говорить о надоедливости, мне надоело, что мне врут. Надоело, что меня игнорируют. Надоело проклятое притворство Гриффина, который делает вид, будто ничего не происходит. Вот это действительно может надоесть.
Она открыла альбом.
И перед ней предстал он.
Его лицо в образе святого Георгия.
Его рваные джинсы.
Его руки, его пальцы, его ширинка — медные пуговицы. Джейн попыталась представить, как она их расстегивает.
Словно Моника Левински.
Я не делала этого с тех пор, как вышла замуж за Гриффа.
А было время в 80-х, когда от каждой девчонки ждали орального секса — даже на первом свидании. Так тешили эго партнера — пусть знает, что ни в чем отказа не будет. И она, как все, этим тоже занималась. А откажешься — спишут, будто последнюю дрянь.
Забавно — тогда считали дрянью, если ты этого не делала, а не наоборот. Если же воспользоваться презервативом — значит, просто ломака, хотя СПИД уже давал о себе знать. В те годы презервативы были не в ходу. Зачем? Таскали таблетки у матери или как-то добывали свои. Вот и вся защита. И вроде ничего. Пока не умер Рок Хадсон[26].
Беда заключалась в том, что девяносто процентов ребят и мужчин, с которыми встречались девчонки, считали СПИД болезнью геев — исключительно. Чтобы я с парнями якшался, да никогда! — говорили они. И все хихикали. Идиотская мысль, Чарли!
А потом стали заражаться молодые женщины. Поначалу никто не мог понять, каким образом, — разве только старина Чарли с самого начала врал, будто он не гей.
Потребовалось больше двух лет, чтобы разобраться в сути дела. СПИД уже был повсюду. Болезнь угрожала каждому. У ближайших друзей анализ мог оказаться положительным. Корали Хаслуп… Рита Мей Колридж… Чарли Феллер…
Да, да, даже старина Чарли Феллер. Какая разница, где он его подхватил. Но СПИД доконал и Чарли.
Джейн посмотрела на незаконченное изображение мужчины-ангела.
Я хочу, подумала она. Не знаю почему, но хочу. Все из-за этой чертовки Левински. Теперь все только об этом и думают. Видят сны наяву.
Без презервативов.
Неужели?
Считается, что это самый безопасный секс. Если только не глотать.
Джейн провела пальцем по контуру ног, рук, плеч.
Она уже начала его прорисовывать: приставлять лицо святого Георгия к шее и обутые в башмаки ступни — к прикрытым джинсами лодыжкам. Получался законченный мужчина. Законченный, но не совсем. Кое-что еще скрыто.
Джейн склонилась над столом, отодвинув стаканы с кистями, коробки с карандашами, бутылочки с цветными чернилами и кусочки угля. Притянула поближе лампу на гибкой ножке и открыла альбом на новой странице.
И за два часа, пока медленно пустела бутылка и бесконечно повторялась «Сакура», сотворила нагого — именно нагого, а не голого — мужчину, будто из праха.
Сотворила, словно из праха, проговорила она почти вслух. Как Адама.
То, что она сделала, было похоже на древнюю практику свежевания приговоренного к смерти узника, — только Джейн содрала с человека не кожу, а одежду. Используя в качестве ножей карандаши, слой за слоем снимала она защитный покров, и в два ночи он предстал перед ней совершенно освобожденным, — улыбающийся, вечно невинный, довольный. Всё.
Можно войти? Я должен починить ваш телефон.
И чью-то жизнь. И чье-то будущее.
Да.
Джейн намеревалась сидеть на кухне и ждать Гриффина — как бы поздно он ни вернулся. Если застать его врасплох и посмотреть в глаза, она сможет понять, насколько все серьезно.
В три его еще не было. И в четыре. И в пять. Джейн поднялась наверх с последним стаканом вина, разделась и села на край кровати.
Почему я голая?
Какая разница.
А ведь я сохранила фигуру — несмотря на невероятно тяжелые роды, когда все мускулы моей плоти словно сорвало с якорей, скрутило жгутами и провернутым через мясорубку фаршем швырнуло обратно…
Джейн рассматривала свое тело, будто оно принадлежало не ей, а кому-то другому: руки были отсутствующими руками Венеры Милосской, ноги — ногами выходящей из пены Афродиты.
Хорошие руки, подумала она. И ноги красивые, хотя и достаточно сильные, чтобы выдержать мой вес и прочно стоять на земле.
Руки и ноги женщины являются признаком ее породы, Ора Ли.
Джейн невольно улыбнулась. Мейбел Харпер Терри.
О мама, мама! Бедный, дорогой осколок прошлого. Джейн мотнула головой, но певучий голос Мейбел не стихал: Руки, ноги, шея и волосы, детка. Никому, кроме мужчин, нет дела до грудей. Забудь про эту чушь. Пристойная, действительно привлекательная женщина никогда не выставляет свои прелести напоказ. Гляди на себя, и доколе ты сможешь гордиться тем, что увидела, свет тебя одобрит и будет к тебе бла-а-волить.
«Благоволить», мама.
Какая разница? Смысл один и тот же.
Быть леди.
Поучения длились бесконечно: Твоя прабабушка, Ора Ли Терри, не пролила ни капли воды ни на лицо, ни на волосы. Ни единой капли. Только кремы для лица, специальная пудра и щетка для волос. И до последнего дня жизни у нее были самая красивая кожа и волосы, какие я только видела. А ногти! Она ни разу не обращалась к маникюрше, но ее ногти всегда были отполированы, с блестящими лунками и овальными краями. И это при том, что она возилась в земле со своим трехлетним братом, выкапывая зарытое в саду семейное серебро, до замужества драила полы, портила руки кислотами и кипятком и питалась бог знает какими несъедобными и непригодными для желудка засохшими об резками свинины. А свои красивые наряды отбивала о камень в реке, чтобы они были чистыми. Она — всем нам урок. Дожила до шестидесятых годов и умерла в сто пять лет.
Да, Джейн помнила: урок, и очень трудный.
Она уважала, но никогда не любила свою прабабушку Терри. Хотя их знакомство было недолгим, влияние прабабушки оказалось неизгладимым — следовать нашей линии. Но ее снобистские и расистские воззрения были несносны.
Красивые руки и ноги. Ну и что?
К чему они? И какой от них прок?
А разум?..
Она всегда сникала в молчании от одной мысли о себе прежней. В конце концов, не было бы Оры Ли Терри, не родилась бы она, Джейн. Хотя, возможно, это лишь детское оправдание немой покорности. Так или иначе, но Джейн понимала, что без Оры Ли родилась бы в безвестном роду изгоев.
Она вздохнула: Господи, какой груз нам приходится нести.
— Да не хочу я быть леди, — произнесла Джейн вслух. — И никогда не хотела. Пошло оно подальше, это благородство, мама. И ты туда же.
Она допила вино, отставила стакан и засунула ноги под одеяло.
И в этот момент услышала, как к дому подъехал «лексус».
— Меня здесь нет, — пробормотала она.
И выключила свет.
Но тем не менее — перед тем как заснуть — отметила, что Гриффин вернулся в пятнадцать минут шестого.
9
Вторник, 14 июля 1998 г.
Грифф стоял у распахнутой, словно бы дающей путь к отступлению, дверцы машины и смотрел на оставленный для него зажженным свет в кухне. Он понимал, что должен идти в дом, но очень этого не хотел. И, тихо прикрыв дверцу, повернул на задний двор.
На небе все еще мерцали звезды, однако луна уже ушла за горизонт. Ноги промокли от росы. Грифф знал, что вороны на своем месте: наверное, следят, наверное, напуганы.
— Все в порядке, — прошептал он. — Я вам ничего не сделаю.
Знакомый запах — и все вечера детства под звездами…
Спальные мешки в походах, перевернутые каноэ на берегу, гребки сняты с уключин. Никогда не оставляй гребки там, где до них могут добраться бобры и дикобразы. И поэтому каноэ со всей поклажей затаскивали куда-нибудь повыше — например, перекинув веревку через подходящую ветку.
Что вы из кожи вон лезете? Вся эта чушь про бобров и дикобразов — просто старые бредни.
Кто это сказал?
Ральфи Редлиц. Мистер Всезнайка.
Тогда им было по двенадцать.
А про бобров и дикобразов они узнали от отца Гриффина. Зверушкам нравятся следы соли, которые оставляют ваши руки, говорил он. Все животные любят соль, но у мистера Бобра такие зубы, что он может навредить больше любого ночного бродяги. Другие звери просто слизывают соль, а бобер — выгрызает. И дикобраз тоже.
Грифф состроил в темноте гримасу. Слова имеют обыкновение нападать на человека разом:
Бобр.
Лизать.
Есть.
Грифф засунул замерзшие руки в карманы. Ноги тоже замерзли. И нос.
Кому какое дело! Нравится здесь стоять и стою — одна нога в настоящем, другая в прошлом, когда я чувствовал себя в безопасности.
В безопасности?
Именно. Как в своем доме. Мамина поговорка.
Он, и его сестра Миган, и его брат Аллун — все дома и все в безопасности.
Аллун.
«А» только в начале, а в конце — нет. Это Аллун сообщил ему другое значение слова «бобр» — бородач. В тринадцать лет у Ала ломался голос, отовсюду перли волосы, и он потел, потел, постоянно потел и все время стоял под душем — в ужасе от того, как вонял. Или думал, что вонял.
Холодный душ очень полезен.
Это сказал отец.
У Мегги была мама. У нас — отец. И всем было хорошо.
Деньги, Сент-Эндрю, большой дом в Роуздейле, коттедж в Мускоке.
Я на вбрасывании шайбы, я во время заплыва на пять миль, я — член школьного комитета, я — староста школы. Я в восемнадцать лет покоритель женских сердец.
Звезды дрогнули и поплыли.
Или это бежали облака?
Что-то изменилось над его головой. Растеклось и затуманилось.
Раздалось хлопанье крыльев.
Одна из ворон снялась с орехового дерева.
Должно быть, скоро рассвет.
О господи, что я наделал? Наделал с собой и со всем, чем обладал и что любил?
Грифф посмотрел на дом.
Спит, как и его обитатели.
Никто меня не ждет, подумал он. А как бы я хотел, чтобы ждали. Как бы хотел, чтобы в доме не спали.
Соска, вот ты кто.
Э, нет, ничего такого я не делал. И никогда не стану.
Это слово Грифф считал самым оскорбительным ругательством.
В школе «соска» было уничижительным прозвищем: тот, кто однажды его заработал, уже не смел надеяться вновь обрести уважение товарищей. Во всяком случае, до тех пор, пока не покидал Сент-Эндрю. Во взрослом мире такие шли по своей стезе сознательно — возвышаясь над ярлыками и даже с готовностью их принимая. Обретали гордость геев и добивались творческих успехов, хотя остальной мир считал их не способными на это. Теперь они жили в более терпимом мире. Или, по крайней мере, в мире, который прикидывался терпимым. Больше безопасности. Безопасность таких, как они, — в их количестве.
Гриффина не воротило от гомосексуалистов. В его профессии они попадались сплошь и рядом. Просто он не хотел сам становиться одним из них — вот и все. Слава богу, я не такой.
И все же…
Что, «все же»?
Ну…
— Я этого не делал, — произнес он вслух, словно оправдываясь перед звездами, ореховым деревом и воронами. — Я этого не делал. Только позволил другому. Большая разница.
Неужели?
Да!
На кухне миссис Арнпрайр загорелся свет.
Господи!
Сколько сейчас времени?
Он не мог рассмотреть циферблат.
Иди домой.
Сейчас.
Домой!
Иду.
Немедленно!
Он повернул к веранде.
Достал ключи.
С тех пор как убили ту женщину, Миллер, все двери с наступлением темноты запирались.
Грифф в последний раз посмотрел на небо.
На востоке начинало светлеть. В самом деле, пора домой.
Дай бог, чтобы миссис Арнпрайр не засекла, как он вернулся под утро. Иначе разнесет по всему городу.
— Спокойной ночи, — попрощался он, словно так и полагалось. А может, полагалось на самом деле? Попрощаться с кем-то — или чем-то, кто делил с ним последние мгновения уходящей тьмы.
Джейн оставила в ванной свет. Грифф разулся на пороге дома и теперь двигался совершенно бесшумно.
Ему понадобилось помочиться.
Помочиться? Разве теперь не говорят «пописать»?
Он поставил ботинки в раковину. Они промокли и казались на ощупь холодными. А когда поднял крышку унитаза и расстегнул ширинку, обнаружил, что его пенис съежился и тоже был холодным.
Грифф уже вымылся в «Пайнвуде». Еще отец советовал ему мыться с мылом после каждого полового контакта. Так он называл секс — «контакт».
Поэтому Грифф не стал принимать душ. И воду в унитазе не спустил. Он слишком устал и не хотел разбудить Джейн или Уилла. Или Редьярда. Особенно Редьярда, чтобы тот от радости не стал прыгать на него.
Выключив свет, он прошел в спальню, бросил одежду на ближайший стул и, радуясь хотя бы такому убежищу, забрался под одеяло.
Сначала лежал на спине. Окостеневший.
Джейн спала. Но ему захотелось ее разбудить. Чтобы кто-нибудь его выслушал — понял. Разделил торжество победы.
Он бы ей сказал: «Я этого не делал, Джейн. Только позволил другому. И все».
Соска.
Грифф повернулся на бок — спиной к жене.
А через двадцать секунд, потеревшись щекой о подушку, понял, что плачет.
Не надо, говорил он себе. Пожалуйста, не надо. Это…
Что — это?
Грифф улыбнулся.
Я собирался сказать: «не по-мужски», объяснил он кому-то внутри себя. Но это не слишком подходящее выражение. Поразмышляю об этом утром. Да, утром. Что ни говори… завтра будет новый день.
Спокойной ночи, Скарлетт.
Грифф уснул. Джейн его слышала. Она не спала и во все глаза смотрела на разгорающуюся зарю.
Я тебя не оставлю, Грифф. Я не сдамся. Я с тобой навсегда. Кто бы ни была эта женщина, она уплывет. А я при тебе на якоре. Ты моя гавань. Я — твоя.
Разоблачения
Непостижимая загадка Всегда покоится в могиле вместе с прошлым… У. Х. Оден «Детективная история»1
Вторник, 14 июля 1998 г.
Черт побери, он так мирно спит, что это даже неприлично.
Джейн надела халат, отвернулась от кровати и направилась по коридору в ванную. Вторник.
Один из последних дней ее работы над окнами. К девяти надо в театр. Репетиция в костюмах меньше чем через неделю.
Господи, в раковине его ботинки!
Джейн вытащила мужнину обувь, отставила в сторону и посмотрелась в зеркало.
Ничего себе! Труп, да и только!
Ладно. Было за что умирать.
Она вспомнила свои зарисовки мужчины-ангела и как упорно ей пришлось трудиться, чтобы он вышел, будто живой.
Интересно, когда делаешь то, что в самом деле должна делать — обязана сделать, — теряется чувство времени и места и откуда-то возникает энергия — на самом пределе. Словно паришь во сне.
Для себя, Джейн. Когда делаешь что-то для себя.
Она так долго рисовала только по заказу, что почти отвыкла от свободы — свободы выбирать сюжет, удобное время для работы, свободы быть единственным своим судьей.
Я хочу вернуть себе свободу.
Так в чем же дело?
В деньгах. Если я намерена купить этот дом, потребуется много денег. Мой наследственный доход — да, он есть, но нужно больше. Гораздо больше. Изобретательность. Изворотливость.
Она намеревалась действовать, как опытный игрок в бридж. Придет время — настанет день: она добудет все необходимые документы и выложит их на кухне перед Гриффом, Уиллом и Мерси, как набор козырей. Кто хочет шампанского? Теперь у нас есть дом. Вот этот самый. Он наш.
Джейн представляла их реакцию. Представляла, как от неожиданности они хватаются за спинки стульев. Пытаются подобрать нужные слова. А она откупоривает заранее охлажденное шампанское — «Дом Периньон» — и разливает им всем. Даже плеснет немного в миску Редьярду. Расцелует всех в макушки и скажет: Маленький подарок от Джейн. Так, небольшой сюрприз — и добро пожаловать в новый, прекрасный мир.
Кто написал эту чушь?
Она увидела себя в зеркале: женщина откидывает назад волосы и завязывает их лентами. Настоящая Джейн. Настоящая я.
Кто писал тебе роли, о Джейн?
Я сама. На свою голову. Никогда в жизни я не знала, что сказать, если происходило что-то хорошее. Наконец-то происходило.
Черт возьми!
Вот те на!
Вот это да!
Только подумайте!
Джейн повернулась к унитазу.
Господи! Дожили: он даже не спустил воду.
У него что, дикие родители? И сам он тоже?
Конечно, дикий! Трахает всех баб в городе, кроме меня.
Она нажала на спуск, смотрела, как бежит в унитазе вода, и пыталась вспомнить, когда в последний раз происходило что-то хорошее. Что-то замечательное, что-то потрясающее.
Уилл. Вот когда.
Малышок Уилл. Уилки — так она его называла, когда он только родился.
Уилки — малышок, Бегает по городу голышом.Замечательно. Потрясающе. Жизнеутверждающе.
А сейчас спит в соседней комнате. Дар.
Она умылась, почистила зубы и, захватив ботинки Гриффина, вернулась одеваться в спальню.
Только посмотрите на него! Можно привести сюда хор и оркестр, грохнуть «Аллилуйю», а он даже не шелохнется. Век не поднимет. Дорогуша моя — спишь себе утром после бог знает какой ночи. Греховно красивый, красиво греховный.
Прелестный сценарий.
И как все это называется? Семилетнее наваждение?
Да. Только уже восьмилетнее — почти девятилетнее.
По его лицу можно подумать, будто он только что встречался с Моной Лизой.
Чтобы добраться до своего белья, Джейн пришлось снять со стула одежду Гриффа, брошенную туда в темноте.
Запах. Нечто новое. Одеколон. Но откуда?
Гриффин пользовался только одним одеколоном. Всегда одним и больше никаким. Всю жизнь. «Герлен Ветивер». Но это был не он.
Джейн посмотрела на кровать и снова на одежду. Сверху лежали трусы. Она поднесла их к носу. Боже правый, едва не произнесла она вслух. Да они пропитаны этим запахом. Его трусы!
Правда, трусы чистые, отметила она. Все, что он носил, всегда было безупречным.
Кто, черт побери, их надевал?
Не спрашивай.
Она отшвырнула трусы в сторону.
Но вопрос оставался.
Мужской одеколон.
И что?
Сюжет закручивается.
Джейн надела туфли и направилась к двери.
Кто пишет тебе диалог, детка? Прошлая ночь не была ни непроглядной, ни грозовой. Но голову даю на отсечение: рассказывая эту историю — а такое непременно когда-нибудь случится, — ты обязательно опишешь ее таковой. Если только не сосредоточишь свой раздрызганный, бедный умишко. Радуйся хотя бы тому, что твой супруг дома. Сияет солнце. Вот он, прекрасный новый мир Олдоса Хаксли.
Заткнись, прошу.
Уилл и Мерси уже сидели на кухне.
— А я и не слышала, что вы приехали, — удивилась Джейн.
— Прошмыгнула тихо, как мышка, когда увидела машину Гриффина. Надо же было так ее поставить! Похоже, веселая была вечеринка. Вы вдвоем ездили?
— Нет, — ответила Джейн, не вдаваясь в объяснения.
Она поцеловала Уилла в лоб и погладила ему шею сзади.
— А где Редьярд?
— В саду.
Джейн посмотрела сквозь проем задней двери на «лексус». Машина стояла под странным углом, словно Грифф решил проехать поперек газона миссис Арнпрайр, но вовремя затормозил.
— Я буду весь день в театре. Пообедаю в «Зеленой комнате».
— Хорошо.
Она зашла в столовую и украдкой положила в сумку бутылку «Мерло». Штопор Джейн носила с собой постоянно — на всякий случай. Единственный недостаток «Зеленой комнаты» заключался в том, что там не подавали спиртного. Даже пива. Наверное, хорошее правило.
Пряча вино, она продолжала разговаривать с Мерси:
— Можете воспользоваться моим отсутствием и немного прибраться в студии. Там сто лет не пылесосили и не вытирали пыль.
— Потому что вы вечно там запираетесь. Не войти.
— Сегодня — пожалуйста.
Джейн вернулась на кухню, достала из холодильника йогурт и сок и подсела к столу.
— Даже не пытайтесь вытащить Гриффа из постели. У него сегодня нет дневного спектакля. В театр ему нужно только к семи. Он вернулся очень поздно. Так что будьте с ним помягче.
— Обязательно, — отозвалась Мерси.
— Папа пришел домой как раз перед шестью часами, — вставил Уилл. — Я видел его на лужайке.
Мерси отвернулась.
— Ну, ну. Так поздно? Я ничего не слышала, — сказала Джейн.
Как бы не так, подумала про себя Мерси. Судя по твоему виду, ты и сама не сомкнула глаз.
Через четверть часа Джейн взяла рабочую сумку, кошелек, ключи от машины и поцеловала сына и Мерси на прощание.
— Привет! Я пошла. — И добавила: — А вот и Редьярд. Здравствуй, песик. И до свидания всем.
— Твоя мама, кажется, в хорошем настроении, — проговорила Мерси, высыпая в собачью миску сухой корм.
Уилл не ответил. Он ел свой завтрак — «Фростед флейкс», стучал каблуками по перекладине стула и думал о Долговязом Сильвере. Пятнадцать человек на сундук мертвеца — ùo-xo-xo и бутылка рома…
Ром — это спиртное. Так ему говорили.
Уилл посмотрел, как от дома отъезжала машина Джейн, и попытался представить мать в хорошем настроении. Но не смог, поскольку понимал, что она притворялась.
Через полчаса Уилл отправился наверх, в ванную.
Дверь родительской спальни оказалась открытой.
Оконные шторы из белого хлопка развевались и тянулись к кровати, словно хотели потрогать Гриффина. Ветерок с улицы доносил запах свежескошенной травы.
Подошел Редьярд и встал рядом с Уиллом.
— Не входи, — шепнул ему мальчик и взял пса за ошейник. — Его нельзя будить.
Редьярд сел.
Уилл, несмотря на то, что сказал, шагнул в спальню и остановился в ногах кровати.
Одеяла были скомканы и сбиты — как и его собственные нынешним утром.
Метался во сне…
Еще одно новое словечко.
Гриффин лежал на боку лицом к окну. Одна рука прижата к доске в изголовье кровати, другая, невидимая, согнута под подушкой. Та рука, что была снаружи, словно тянулась вверх. В потолок или в небо? Пожалуйста, мисс Диксон, мне нужно в туалет… Или, по-другому: я могу ответить — взгляните на меня…
Знакомые школьные жесты: вопросы, ответы, желание привлечь внимание. Вот он я.
Уилл подошел ближе.
Папа?..
Ничего.
Ответь. Скажи, что ты делаешь? Где ты был?
Он понимал: ни о чем подобном спрашивать нельзя.
Подрастешь и все поймешь.
Уилл это тоже слышал. Только не мог припомнить, от кого.
На прошлой неделе я подрос на полфута. Мама сказала, это феномально или как-то еще. Большинству мальчиков в моем возрасте для этого требуется целый месяц. Вот что она сказала, когда мы делали отметку на стене.
Шторы взлетели вверх.
Папа?..
Гриффин пошевелился, словно услышал непроизнесенные слова. Вздохнул, но не проснулся.
Уилл собрался уходить.
Потом обернулся и протянул руку к плечам отца.
Не надо, хотел он сказать. Что бы это ни было. Не делай этого.
Он опустил руку, взял Редьярда за ошейник и пошел к двери. Перешагнул порог — оглянулся — так ничего не сказал и ушел. Грифф спустился на кухню только после часа.
Первое, что он сделал — налил в стакан на два дюйма водки и разбавил водой из-под крана.
А затем, повернувшись к Уиллу и Мерси, которые сидели за столом и ели суп с сэндвичами, с улыбкой объяснил:
— Собачья головная боль. Это называется — клин клином. Ну, привет!
И осушил стакан.
Уилл потянулся и потрепал Редьярда за ухом.
— Вам что-нибудь приготовить? — спросила Мерси.
— Может быть, позже. А пока я приму еще водочки и посижу снаружи под зонтом.
Через несколько секунд он ушел.
Редьярд за ним не последовал. Остался с Уиллом.
Словно читая мальчишечьи мысли, Мерси поспешила растолковать Уиллу слова отца:
— Вообще-то полностью: «клин клином вышибать». Если много выпил накануне — хлебни чуточку с утра. Это значит лечить подобное подобным. Так говорят сотни лет или больше. Старая, как мир и как спиртное, поговорка.
Уилл опустил глаза и зачерпнул полную ложку грибного супа.
— А почему «собачья боль»? Редди никому не бил по голове.
— Да, дорогой, только: никого — ни-кого.
— Пусть никого. Но он все равно не бил.
— Знаю, дорогой. Знаю. Это просто так говорится. Ешь суп, и пойдем гулять. Пока Мерси, Уилл и Редьярд гуляли, Грифф побрился, принял душ, оделся, спустился в кухню и приготовил себе из пакетика «Кемпбелл суп» крепкий говяжий бульон, который и проглотил с тостом и стаканом красного вина.
Водка немного подлечила его, но ему никак не удавалось избавиться от мыслей о кошмаре минувшей ночи. Он гнал их, а они возвращались и лезли в другие мысли, с помощью которых он пытался отвлечься: о помолвке сестры Мегги с молодым человеком — до этого момента Грифф о нем даже не слышал; о приближающейся годовщине свадьбы родителей; о рождении второго ребенка у брата Аллуна — девочки, первый был мальчик. Помолвки, свадьбы, дети. И все это — часть его жизни с Джейн, жизни, которая теперь в опасности.
Вот в чем дело.
В опасности происходящего.
Он ходил по лезвию. Ведь был такой фильм «Лезвие бритвы»? Точно. А я так называемый герой.
Вот именно, «так называемый».
Но я не Тайрон Пауэр.
Тайрон Пауэр был…
Ну вот, снова.
Сидя за кухонным столом, Грифф криво усмехнулся.
Н-да… Кто помнит Тайрона Пауэра? Хотя парнишкой, когда я смотрел все старые фильмы, думал, что он лучше всех. Фанфарон и сумасброд. Помпезная драма — «Кровь и песок» и «Дожди пришли», «Капитан из Кастилии» и «Мария-Антуанетта»… Бог — для мальчишки он был настоящим богом.
И вдруг — сообщение о том, что у него шашни с Эрролом Флинном.
И этот — туда же. Настоящий мужчина Эррол. Вот именно…
По крайней мере, я в хорошей компании.
Он налил себе еще полстакана красного.
О господи, как я мог это сделать? Как мог позволить?
Я — отец. Я — муж. Я мужик, наконец, а мужики такого не позволяют. Что бы там ни было.
Но речь шла о жизни и смерти. Похоже на убийство с целью самообороны: хочешь выжить — и не на такое пойдешь.
Так говорится… Так принято говорить…
Грифф услышал, как Редьярд прыгнул на заднее крыльцо.
Они вернулись.
За псом появился Уилл, а самой последней — Мерси.
— Ну что, хорошо прогулялись?
— Ничего себе — прогулялись. — Мерси поставила сумку на стол. — Всю дорогу бегом — из-за Редьярда. Не понимаю, как он может носиться в такую жару. — Она села и сбросила с ног обувь. — Если надумаете выходить, захватите с собой портативный вентилятор. Господи, все бы отдала за молодость! Снаружи так жарко, что добавляется лет по двадцать к каждому прожитому дню.
— Да? — улыбнулся Гриффин. — А я собирался прокатиться на роликах.
Направившийся было на террасу к своему пазлу, Уилл застыл на месте.
— Вот только одному не очень весело, — добавил Гриффин.
— Ты это серьезно, папа? — спросил мальчик.
— Конечно. А почему бы и нет? Мы с тобой давно этим не занимались.
— Я сейчас, — обрадовался Уилл. — Только возьму ролики, — и рванул по лестнице.
Мерси взглянула на Гриффина и сказала:
— Молодец, Грифф. Без вашего внимания мальчик чувствует себя совсем заброшенным. Женщина тут ничего не может сделать. Счастливо покататься.
— Всенепременно. Я ведь тоже по нему скучал.
Закрепив на ногах ботинки, Грифф вспомнил старые деньки, когда играл в хоккей. А ведь именно хоккей привел Гриффина к театральной карьере: Он бьет, он забивает, он ломает ногу…
На улице Грифф покатил привычным размашистым шагом, Уилл — рядом.
— Действительно жарко. Но так хоть обдувает ветерком.
— Давай наперегонки до угла, — предложил сын.
— Давай. Только шансы не равны.
— Почему? Потому что ты старше?
— Нет, — улыбнулся Гриффин. — Потому что ты моложе.
Мерси наблюдала, как они рванули с места, и, мысленно прочитав благодарственную молитву, вернулась в дом. Освежилась стаканом клюквенного сока и направилась в студию.
Студия.
Это была не настоящая студия, а просто бывшая спальня, которую захватила Джейн — и завалила всякой всячиной, не имеющей даже названия, но необходимой художникам для того, чтобы творить свои чудеса и таинства.
Многие из рисунков Джейн приводили в недоумение озадаченную Мерси: изображения кусочков и осколки других кусочков и осколков — черепки и битое стекло, фрагменты фарфоровой посуды, промытые дождями пласты коры и дробленый кирпич… И все это безнадежно парит в пространстве: то прячется в тени, то отражает свет, но очень редко выдает свою истинную суть — то, чем является на самом деле.
И еще — лица. Повернутые в сторону от зрителя. Глубоко засунутые в карманы руки — только контуры на оттопыренной ткани. Или спящий Уилл — ладони прикрывают уши, локти согнуты под почти невероятным углом… Лапы Редьярда… Разбросанная одежда Гриффина… Ее собственное, раздуваемое ветром, словно собирающееся вспорхнуть платье. Такое странное, расчлененное видение мира, что Мерси начинала сомневаться, существует ли у нее с Джейн нечто общее, кроме самого очевидного. Будто в ее альбомах для набросков говорится об известных вещах, но на незнакомом языке.
Последняя из этих книг таинств лежала посреди полного хаоса — отодвинутых бутылочек, коробочек, перьев и стаканов с карандашами. Ее черная обложка была испачкана мелом и каплями высохшей краски. Почти не понимая, что творит, Мерси принялась перелистывать страницы.
Мужской торс.
Мужские ноги.
Обутые в башмаки ступни.
Руки…
Обнаженное тело. Целиком.
Мерси вернулась к предыдущим страницам. Должно же быть начало этим рисункам…
Когда она его нашла, то не удержалась на ногах и села на стул.
Господи помилуй!
Да это же ее сосед Милош Саворский — телефонист из компании «Белл», муж Агнешки и отец умирающего ребенка.
Как получилось, что он голый на рисунке Джейн? Почему? Когда она рисовала его? И что это означает? Мерси не удержалась и пролистала альбом снова.
Сплошная головоломка. Почему Милош? Неужели он ей позировал? Где? Когда? Обнаженным? Даже больше чем обнаженным, если можно так выразиться. Словно извлеченные из ее собственного воображения, проявились все тонкости его сексуальности.
Мерси провела по рисунку пальцем.
Господи, какой он красивый. Красивый, но печальный.
Почему печальный? Он казался таким податливым, доступным, таким уязвимым, теплота его тела была почти ощутимой.
Дело в его глазах, решила Мерси. Он все еще не знает, кто он такой, все еще не понимает, чего ждет, — и он хочет понять это.
Он будто бы каким-то странным образом вопрошал: Скажите мне, кто я такой. Сам я никогда не узнаю.
Мерси захлопнула альбом и, намереваясь вымыть окно, открыла раму.
— Надо немного здесь проветрить, — пробормотала она. — Чуть-чуть проветрить, — брызнула «Уиндексом», смотрела, как жидкость затуманивала стекло, струйками стекая вниз, и думала: «Лучше бы я не видела этого альбома», — но она видела и она знала. Милош был в альбоме. И его не вытравить ни оттуда, ни из ее сознания, словно татуировку на руке.
Тем не менее, протирая окно, она не могла отделаться от мысли: если взглянуть еще разок, его наверняка там не окажется.
2
Понедельник, 20 июля 1998 г.
Технические репетиции в костюмах и с декорациями обычно проводились по понедельникам, когда в театре не было представлений. В нынешний понедельник сцена Фестивального театра была предоставлена «Ричарду III».
Джейн, успевшая пристроить машину на стоянке для сотрудников, знала: через несколько минут здесь вообще не протиснешься. Сейчас было всего три свободных места, и она заняла лучшее.
— Привет, Гордо, — поздоровалась Джейн со швейцаром у служебной двери. — С хорошим деньком!
Гордон Куинлан, родственник Люка, — правда, седьмая вода на киселе, — работал здесь с тех пор, как в 1982 году ушел на пенсию его отец.
Некоторые должности в Фестивальном театре считались особо почетными, почти подарком судьбы. Одна из них — швейцар у служебной двери. Другая — старший билетер. Еще — костюмер в уборных ведущих актеров и командные посты закулисной бригады. Многие должности, с тех пор как в 1953 году состоялось открытие Фестиваля, переходили от отца к сыну, от матери к дочери. Не то чтобы все остальное вообще не котировалось, но швейцары, костюмеры и работники сцены представляли совершенно особую категорию.
Сегодня должно понаехать до черта народу. Техническая репетиция в костюмах традиционно рассматривалась как нечто вроде дня высадки союзников в Нормандии. Персонал на своих местах, декорации и реквизит на сцене, и скоро ее оккупируют актеры в костюмах.
Джейн нырнула в глубины здания — хотя это погружение было больше связано с блужданием по закоулкам и изгибам лабиринта, нежели с реальным спуском.
И тут же оказалась в обстановке, очень сильно смахивавшей на сумасшедший дом: повсюду вешалки с костюмами — одни уже стоят наготове, а другие на каталках развозят по коридорам костюмеры, подгонщики и примерщики, натыкаясь друг на друга, словно неумелые детишки в автомобильчиках на аттракционе. Каждую вешалку следовало подрулить к строго определенному месту, откуда костюмы доставлялись в личные уборные. Неподалеку от Джейн столкнулись две вешалки, и от удара королевские одеяния раскидало по полу.
— Похоже на день стирки в королевском замке, — весело бросила Джейн и свернула в бутафорский отдел.
Пространство за сценой было скорее эллиптическим, чем круглым, и из одного места в другое попадали по специальным, сообщающимся друг с другом проходам, хотя в итоге нередко оказывались там, откуда начали путь. Поэтому всем, кто работал в мастерских, следовало учить на память топографию здания. И обучать актеров, ибо проходы от уборных на сцену могли в решающий момент подвести. Двери-ловушки и двойные тоннели — так называемые тошниловки, — которые выводили из недр театра на свет зала, располагались на одном уровне. На сцену вел центральный выход, рядом с ним находилась деревянная лестница, тянувшаяся к нависающему над всем пространством балкону. Восхождение по ней напоминало подъем на копну сена в амбаре. С каждой стороны крылья сцены имели выходы на средний уровень.
Учитывая быстрый темп шекспировского действия, актерам сначала даже выделяли гидов по закулисью — дабы действующие лица вовремя попадали на сцену. Бывали случаи, когда актеров в тяжелой рыцарской амуниции, королевских одеждах или церковном облачении приходилось перетаскивать на руках. Но от этого у всех, кто работал за кулисами, возникало ощущение сопричастности с тем, что происходило перед зрителями.
Атмосфера требовала абсолютного чувства пространства и понимания того, кто вы и чем занимаетесь. Всех объединяло ощущение партнерства: другие нуждались в вашей помощи не меньше, чем вы в их. И если в коридоре к вам обращались: «Позвольте!» — вы немедленно сторонились, а если вы говорили: «Позвольте!» — вам тут же уступали дорогу. И никто не задавал вопрос: «Зачем?»
Джейн много раз собиралась принести альбом для набросков в сердцевину этого хаоса, но так и не осуществила своего намерения. Сначала долгая беременность, потом младенчество Уилла — она успела позабыть, что сама — художник, просто зарабатывала своим ремеслом деньги. Все ее внимание сосредоточилось на сыне: ему нужно… ему надо… он хочет… Мерси знала больше, чем Джейн, о его потребностях. Она была матерью четверых, теперь уже взрослых, детей. И если говорила: «Надо вот это» — именно это и делалось. Не всегда приятное, но всегда на пользу Уиллу — единственному ребенку, ребенку Джейн. Джейн быстро поняла, что невозможно подменить присутствие отсутствием, если речь идет о собственном чаде.
Она принесла Уилла в мастерскую, когда еще кормила его грудью, — решила: пусть ощутит царивший в театре дух товарищества и приверженности делу (хотя с некоторым привкусом сектантства). И тогда сын, наверное, поймет, что у матери есть жизнь вне дома. Точно так же, как, подрастая, будет постепенно изучать мир из катящейся коляски, узнавая, что на свете есть реки, деревья, Редьярд. В два годика… в три… включая месяцы, когда еще не умел ходить. А пошел он в год и две недели — для Джейн это был момент навсегда запомнившегося триумфа.
Джейн забежала в туалет, зашла в кабинку и, спустив воду, чтобы заглушить звук откупориваемой бутылки, сделала три глотка; потом докурила запрещенную сигарету и отправилась на сцену.
Ну и кутерьма!
Там уже крутилось с дюжину человек, из-за чего было невозможно что-либо увидеть, сделать или понять.
В последний раз проверялся свет, развешивались гобелены, флажки и знамена. А в лучах софитов восходило солнце — оранжевое, сияющее и зловещее в своем стилизованном изображении. Оно будет на небе в течение всей пьесы от первых слов: «Прошла зима междоусобий наших; / Под Йоркским солнцем лето расцвело…», и до самых последних: «Зажили раны, сгинул общий враг, /И скажет нам Господь: „Да будет так!“»[27]
Витражи Джейн, прислоненные друг к другу на поворотной сцене, ждали часа своего появления в последнем акте. Проходя мимо них в зрительный зал, Джейн похлопала каждый и шепотом благословила. И даже перекрестилась, чтобы все прошло, как надо.
А оказавшись в сиянии прожекторов, втянула в легкие умиротворяющий воздух сцены, о котором говорили, что он вобрал в себя дурман грима и запах толпы.
Театр. Если он — твоя жизнь, даже ослепнув, всегда почувствуешь момент, когда ты здесь. Дома.
На оркестровой галерее выбивалась из общей картины группа мальчишек из хора: в майках с полным набором юношеских анархических воззваний — от «Долой Канаду!» до «Долой с себя джинсы!». Тоненькими, сладкими голосами они исполняли Те Deum, руководимые вспотевшим, рассеянным дирижером, который надеялся на театральной стезе сделать себе имя (и напрасно: больше он не получил в Фестивальном театре работы и в 1999 году переехал в Северный Онтарио, где жена тут же сбежала от него к семнадцатилетнему индейцу, причем, как ни странно, этот горе-дирижер сам не мог пропеть ни одной ноты).
Пока Джейн зачарованно стояла на центральной сцене, к ней подошел Оливер Рамси:
— Ну, наконец-то. Твои окна за кулисами. И если все пойдет гладко, через пару часов доберемся и до них. А глядишь, и раньше. Должен тебе сказать, они прекрасны. Можешь гордиться.
Джейн постаралась не показать разочарования от того, что придется ждать еще целых два часа. Она хотела — ей необходимо было — работать. Именно для этого она приехала — чтобы отвлечься и наконец увидеть святого Георгия — телефониста во всей его славе. Торчать два часа за кулисами ей вовсе не улыбалось. Однако, ублаженная комплиментом, она расцеловала «босса» в обе щеки.
— Благослови тебя Бог, дорогой Олли. И спасибо за помощь.
Джейн ушла со сцены и, оставив остальных готовиться к представлению, отправилась к себе в отдел. Там были только Дженис О’Коннор, Майкл Лемингтон и Мери Джейн Рэлстон. Дженис в открытую доедала вторую за утро шоколадку, а Майкл, судя по всему, не выдержал напряжения и «вернулся» к бутылке. Именно «вернулся», это его слова. «Время от времени я возвращаюсь к материнскому молоку», — не раз говаривал он. Джейн, сочувствуя Майклу, пригласила его посидеть вместе на воздухе, над бейсбольной площадкой.
А Мери Джейн, отвернувшаяся, когда Джейн вошла, уже успела покопаться в ее сумке и записала в блокноте: «20 июля. Кинкейд пришла на репетицию с бутылкой. Как и на прошлой неделе».
Джейн и Майкл прихватили стулья и, устроившись на склоне, стали смотреть на игроков. Двенадцатилетние бейсболисты старательно изображали профессионалов, крича: бей! мяч! беги! И каждый «без-вас-все-знайка» копировал отца или старшего брата.
На реке исполняли свой ежедневный магический ритуал лебеди — царственной процессией проплывали по воде, демонстрировали птенцов и задерживались то у одного, то у другого берега, чтобы принять подношения — хлебные крошки, кукурузные зерна и лущеные орехи.
Джейн налила в кофейные чашки — свою и Майкла — вина, и они выпили.
— Что бы у тебя там ни случилось, — проговорила она, — пройдет и это. Надо преодолевать неприятности. У тебя это получалось. И у меня тоже. Так что и теперь выживем. Будем живы — не умрем. — Джейн погладила его по руке.
— Слушай, можно у тебя разжиться твоим чудесным американским куревом?
Окна стояли на месте и останутся там до конца представления. Роберт разделил спектакль на три акта вместо традиционных двух, решив, что зрителям не помешает лишний раз отдышаться и обдумать столь макиавеллиевское обращение с историей. Таким образом, действие развивалось от первых, почти забавных выходок Ричарда к его интригам и козням и, наконец, — к неизбежным последствиям многочисленных убийств, когда на Босвортском поле он сошелся в смертельном поединке с графом Ричмондским, ставшим первым королем из династии Тюдоров.
В подобной трактовке витражный дракон Джейн служил символом одержимого дьяволом духа Ричарда, а святой Георгий — торжества добра над злом. И еще: второй перерыв давал возможность установить окна — массивные витражи не удалось бы вытащить во время действия.
Поначалу присутствие окон на сцене немного мешало актерам. Но их движения были давно отработаны, и в итоге все утряслось.
Особенно эффектным бесплотное присутствие дракона и его победителя было в предпоследней сцене, когда духи убиенных жертв тревожили сон отчаявшегося короля. И Джейн невольно порадовалась: хотя не она придумала витражи и не она включила их в ткань спектакля, но исполнение было все-таки ее. Все вокруг начали ее поздравлять.
А она думала только об одном: Видел бы Грифф! Послушал бы… Разделил бы со мной торжество. Был бы рядом. Но его не было! Господи, черт побери! Отправился играть в гольф! В гольф! В мой главный день! Ну подожди: когда у тебя будет премьера — если будет, — пойду играть в бридж. Вот паразит!
Джейн вернулась домой в шесть, и Мерси сообщила, что пришло письмо — из Плантейшна.
Мейбел.
— Но сначала наполним бокалы, — сказала Джейн. — Что бы ей ни было нужно, меня сейчас ничем не проймешь. У меня сегодня триумф.
— Поздравляю.
Но Мерси видела, что Джейн все больше и больше нервничает из-за постоянного отсутствия Гриффина, и поэтому ничего не сказала о рисунках.
3
Понедельник, 20 июля 1998 г.
— День что надо.
— Что есть, то есть.
Гриффин установил мяч на новой метке и скосил глаза, прикидывая траекторию. Они подошли к предпоследней, семнадцатой лунке стратфордского сельского клуба, и дальше начинались деревья.
Деревья — его враги, помеха при выполнении удара.
— Слышал последние новости о Левински? — спросил Джонатан.
— А мне это нужно?
— Ну… все-таки интересно… Вроде как…
— Вроде как что?
— Эти секретные агенты… люди Клинтона из кожи вон лезли, чтобы они не давали показаний, но их все-таки вызвали.
— Надеюсь, все они солгут. Неужели эти гнусные люди никогда не остановятся? Представляешь, что будет, если мы все окажемся под постоянным колпаком? Ха!
— Вот именно: «Ха!» Но если ты под присягой, ни о каком вранье не может быть и речи.
— Бедняга!
— Обрати внимание на мяч, Грифф. Играй!
Гриффин опустил клюшку и посмотрел на режиссера.
Оба молчали.
Играй!
Джонатан улыбнулся и пожал плечами:
— Во всем этом есть определенный урок: в Клинтоне и Левински, в Балканах, в том, чем занимаемся мы, — и его необходимо усвоить. Ты наблюдаешь, ты слышишь — тебя тащат в суд, и ты даешь показания. Ты говоришь правду.
Правду.
Да. Если деревья не мешают тебе видеть ее.
— Это ритуал, Грифф. Обряд. И актеры исполняют его лучше, чем кто-либо в мире. Может быть, за исключением Папы Римского. Все на свете, — Джонатан широко развел руки, — ритуал. Бить по мячу, играть роль, мне — расчленять и собирать воедино пьесы, каждому — тянуть ритуал собственной жизни и совершать обряд самоутверждения. Это то, о чем я рассказывал вам с Зои. Кстати, вижу, что теперь ты начинаешь улавливать суть. И слава богу. Это тебе на пользу. И Зои тоже. Никакой лжи. Никакой. Мы все свидетели на суде жизни — и надо говорить только правду. Точно бить по мячу. Если же мы этого не делаем — приходится расплачиваться. Мяч улетает за деревья: ты становишься актером на роли без слов, я — режиссером любительских спектаклей. Мы оказываемся в разных постелях. Или возвращаемся к женам и недоумеваем, зачем от них сбежали.
Гриффин отвернулся. Да, да. Где-то в далеком прошлом у Джонатана Кроуфорда была женщина. Женщина, которая родила ему сына. Ее звали Анной. Анной Черчилл. А сына?
Грифф не помнил.
Но и у меня тоже…
Не надо…
Когда-то в прошлом существовала женщина по имени Джейн Терри. Женщина, которая родила мне сына. Его имя я помню — Уилл. Уилл и Джейн.
— Займись мячом, Гриффин.
Он опустил глаза.
Как далеко этот мяч.
Он расставил ноги и принял стойку.
Два пробных замаха и…
О!
Да…
Совсем не туда.
Чертовы деревья.
Грифф резко отвернулся:
— Извини.
Джонатан помолчал, а потом подал ему чистый белый платок.
— Поверь, я сталкиваюсь с этим каждый день. Согласимся на ничью. Пошлем подальше восемнадцатую лунку и пойдем обедать.
— Хорошо, — отозвался Грифф. — Спасибо. — Он вытер глаза и высморкался. — Проклятое солнце. Всегда одно и то же.
— Ну-ну. — Джонатан улыбнулся и погрозил пальцем. — Мы же договорились: только правду. Это не солнце. Это Джейн и Уилл. Со мной тоже так бывает, когда я начинаю думать об Анне и Джейке и оплакивать их потерю.
Ах да, Джейк. Джейкоб.
Их сумки для клюшек стояли на электрокаре. Джонатан пристроил свою так и не использованную клюшку рядом с другими и положил мяч в карман.
— Никогда не видел смысла в этих карах. Разве что у человека случится инфаркт… Но сам я играю ради тренировки. И во имя исполнения обряда.
— Н-да, — ухмыльнулся Гриффин. — Обряда, разумеется.
— Забавно, — заметил Джонатан, поворачивая в сторону здания клуба. — Я совсем не ощущаю жары.
— Еще бы, — отозвался Грифф. — Это вполне естественно: сегодня понедельник.
Оба рассмеялись.
Над ними на небе не было ни единого облачка.
И все же…
Послышался гром. Неизвестно откуда.
4
Понедельник, 20 июля 1998 г.
Эта фотография Мейбел Терри была сделана в 1972 году, когда Джейн исполнилось десять. Ее мать со всеми своими четырьмя детьми снялась в студии, на фоне хитроумно освещенного фона из крепдешина. Они приехали на поезде в Новый Орлеан и переночевали в отеле «Гранд Плаца», чтобы, когда щелкнет аппарат, милые крошки выглядели свежими, как маргаритки.
Мастерская фотографа находилась в Гарден-Дистрикт, районе, который всем профессиональным художникам и людям искусства придавал налет декаданса высшей марки. Это выражение Джейн услышала много позже и решила, что оно прекрасно описывает тамошнюю атмосферу. В десять лет она видела только слишком людные, шумные улицы. А здесь в воздухе носились терпкие ароматы каджунской[28] и креольской кухни, и почти с каждого балкона на следовавшее мимо семейство Терри взирали кошки.
Лоретте было тогда тринадцать. Она только-только начала испытывать телесный дискомфорт. И еще страшно раздражалась из-за того, что мать одела ее по-детски: плотно стянула платком и сплющила наливающиеся груди и вплела в волосы ленту. Обе девочки были в бархате, обе — в туфельках «Мери Джейн», в завитушках волос — банты. А мальчики — в синих матросках и коротеньких штанишках. На ногах высокие, до колен, гольфы с раздражающими кожу резинками — Джейн ясно помнила, как Луций то и дело приспускал их вниз и чесал икры.
Сама Мейбел нарядилась в старомодное «чайное» платье. В таких в 30-е и 40-е годы светские дамы обычно восседали во главе стола за серебряным чайником в гостиных с закрытыми ставнями и потолочными вентиляторами.
Теперь, вставленная в паспарту и обрамленная в серебро, фотография поражала почти викторианской претенциозной изысканностью и стояла в студии Джейн на книжной полке на уровне глаз. Джейн словно демонстрировала, что не позволит фотографии себя запугать. Каждый раз, заходя в комнату или отрываясь от работы, она напоминала себе об этом, наталкиваясь взглядом на знакомое изображение.
И вот Джейн сидит за столом и снова смотрит на Мейбел, положив ладонь на нераспечатанный конверт.
Мать казалась нарочито безмятежной: не двигайся, сложи руки; если угодно, можешь улыбаться, только не показывай ни капли озабоченности, радости, гордости или разочарования. Не показывай ничего — она всю жизнь исполняла этот приговор. Просто существуй.
Ее увядающая красота была мастерски отретуширована и восстановлена, но ретушь не вытравила печати удивления и девичьих надежд в глазах. Они останутся на лице Мейбел вопреки всем страданиям. Мать так долго репетировала свою роль, что застывшая маска стала эмблемой ее места в общественном миропорядке. Эта Мейбел Харпер Терри принадлежит к избранным, читалось во всем ее облике — в положении рук с ухоженными, но не накрашенными ногтями, в развороте плеч, от рождения отделившем ее от «вульгарного мира», в линии подбородка — не опущенного, не задранного, но демонстрировавшего себя. Все это были необходимые и присущие ей отличительные признаки.
Складки платья без видимой нарочитости скрывали другие складки — чрезмерно пухлых рук и обвислой груди. Подстриженные и завитые за два дня до отъезда из Плантейшна волосы тщательно расчесаны и уложены, будто Мейбел была искусным парикмахером. А ее прямая спина выглядела так, словно была стянута платком, как у Лоретты.
Глядя на фотографию, Джейн сразу вспоминала голос, который все детство звучал в ее ушах: Ты должна слушать свою маму…
Джейн посмотрела на конверт.
Неужели умирает?
Мейбел Харпер Терри?
Нет, никогда.
Она не умрет. По крайней мере, пока существую я.
Или в письме что-то другое? Лоретта, Гарри, Луций?
Хочу ли я узнать? Нет, но придется.
Джейн вздохнула, налила вина, закурила и стала думать о родных.
Братья — старший Гарри и младший Луций — были ее близкими товарищами в детстве. А Лоретта, казалось, принадлежала иной семье — вроде троюродной сестры. Или другой дальней родственницы.
Но все они, безусловно, являлись персонажами какой-то пьесы Теннесси Уильямса или романа Карсон Маккалерс[29], стоило только вспомнить театральные монологи и бесконечные восторги матери по поводу прошлого. И пока дети, как могли, пробивались в будущее, ее голос слагал истории их жизней. Хотя сама Мейбел этого не сознавала, она могла бы послужить идеальной моделью Аманды Уингфилд из «Стеклянного зверинца». В июне Джейн ходила смотреть пьесу и буквально съежилась от страха — слава богу, пошла одна: Грифф в тот вечер был занят в «Много шума…».
Постановка оказалась яркой, трогательной и довольно красивой — Марта Генри играла Аманду с зажигательной смесью веселья и грусти. Единственным провалом оказалась девица, которая исполняла роль Лоры: вялая, бесцветная, — сплошное занудство. Но Джейн втайне порадовалась: уж слишком образ Лоры напоминал ей Лоретту.
Несколько лет назад Джейн видела Джули Харрис в нью-йоркской постановке «Зверинца». Когда-то эта самая Джули показалась ей олицетворением ее собственного взросления и разочарований. Это было в допотопном черно-белом фильме по роману Карсон Маккалерс «Участница свадьбы». В 1975-м или 1976 году Джейн смотрела его по телевизору поздно вечером, одна в доме, с полным стаканом сворованного из буфета виски «Джим Бим». Мейбел в это время умчалась куда-то спасать Лоретту, которая в очередной раз с помощью зубной щетки вызвала у себя приступ рвоты.
Черно-белый фильм…
Этель Уотерс и Джули Харрис…
Прекрати! Не углубляйся дальше… Ассоциации бесконечны. И ты со всем этим покончила.
Джейн чувствовала себя лично виновной в проблеме расовых взаимоотношений. Она была, по ее убеждению, белой южанкой с либеральными взглядами и стояла за чернокожих — привыкла, чтобы с ней считались, и, если требовалось, высказывалась во всеуслышание. Но теперь она жила на Севере, и ее чувства, к собственному неудовольствию, весьма переменились. Она по-прежнему отстаивала ту же точку зрения, но в глубине души думала иначе: Половина черных живут на пособие, живут за счет остальных, высасывают из Канады все соки, а сами палец о палец не хотят ударить — только жалуются, что до них никому нет дела…
Пожалуйста, хватит об этом!
И все же…
Я бы душу отдала, чтобы думать по-другому. Как это я дошла до подобных мыслей?
Джейн взглянула на фотографию.
Нам было не дано повзрослеть. Не дано созреть.
Зрелый человек не колеблется.
Вот они все пятеро: Мейбел, Лоретта, Гарри, Джейн и Луций. В смехотворной фотостудии со всеми этими софитами, пальмовыми ветвями и крепдешином.
Чуть вправо, малышка…
— Надо было отказаться, — проговорила Джейн вслух.
Глядя из сегодняшнего дня, Джейн находила Лоретту на фотографии такой печальной. Ведь Джейн знала, что было дальше — многолетняя погоня за физическим совершенством: Лоретта отказывалась от любой, дарованной ей надежды на счастье, воображая, будто сбрасывает лишний вес и свои огрубевшие формы. Она напоминала загнанного в угол зверька, который гложет собственную плоть.
А Гарри? Как насчет Гарри? На фотографии он казался очень строгим и добропорядочным, а ведь именно таким как раз поклялся не быть. Как и Грифф, он мечтал стать великим спортсменом, но занимался не хоккеем, а гольфом и теннисом. Джейн вспомнила, как он играл с Троем Престоном. Трой Престон умер. А Гарри?
Пропал.
Просто пропал.
Мы появляемся и пропадаем.
Мы чахнем.
Мы увядаем.
Кто это сказал?
Ты сказала.
Теперь Гарри исполнилось бы тридцать восемь. Где ты, Гарри?
Благослови тебя Господь.
Джейн перекрестила изображение брата.
Иди с миром.
А Луций?
Луциус. Луси.
Она громко рассмеялась.
Напяливал мою одежду… и попался, когда мама возвратилась домой и увидела его в своем серебристом вечернем платье и бальных туфлях, со своим японским красным лакированным веером, наряженного наподобие королевы масленичного карнавала.
Это в шесть лет.
Или в семь.
А сейчас?
Бог знает…
Мысль о СПИДе — даже только о слове, не говоря уж о самой болезни — заставляла Джейн ежедневно шепотом молиться за Луси и ставить за него свечу. И отгонять злых духов от него, в его серебристом наряде.
Можно написать книгу, подумала она, и назвать ее «Четыре маленьких Терри». О том, как мать губительно кроила их при помощи пары ножниц и ножа для резьбы по дереву. Три слепые мышки, плюс еще одна… Все желания умирали в душах детей, пока Мейбел убивала в них все живое. Но она так и не поняла, что существует определенный вид ненависти, которая помогает жить вечно.
Их ничто не уничтожит. Ничто не убьет — ни огонь, ни вода, ни рука преступника, ни общественное презрение, ни болезнь, ни что там еще бывает… Даже собственная мать. Нельзя разрушить их тягу к настоящей жизни — или, в случае с Лореттой, тягу к настоящей смерти.
Но родившись Терри, Терри и останешься — несмотря на разочарования, несмотря на отчаяние. С этим ничего не поделать.
И вот перед ней письмо Мейбел, и это означает, что обыкновенная Джейн Кинкейд снова превращается в Джейн Ору Ли — мою драгоценную Джейн Ору Ли, которая никогда доброго слова не напишет, Джейн Ору Ли, которая звонит только на Рождество и на Новый год, чтобы выразить соболезнования.
Соболезнования.
Джейн улыбнулась. В английском языке не существовало такого слова, которое Мейбел хотя бы раз не перепутала. Соболезнования на Рождество и поздравления на похоронах.
Такова уж моя мать.
Благослови Господь и ее. Она дала мне жизнь и то, что заменило любовь в мире, который прошел мимо Мейбел и оставил ее несчастной, практически бездетной вдовой, брошенной в пустыне непонимания. «Обмиллионенная», как она однажды выразилась о себе. Обмиллионенная, но одна со своим богатством и с этими бескрайними, насколько хватает глаз, хлопковыми полями. И что со всем этим делать?
Вот они, глаза Мейбел. В них добрые намерения и неусыпная строгость. Они смотрят на Джейн — и в аппарат, которому суждено поведать историю жизни и оставить изображение погибших амбиций в тусклой серебряной рамке.
Джейн отвернулась.
Не надо плакать.
— А почему не надо? — она бросила вопрос в пустоту комнаты. — Почему, черт возьми, не надо? Я только что произнесла реквием по своим родным. Хотя, насколько мне известно, ни один из них по-настоящему не умер.
Джейн посмотрела на фотографию, налила еще вина и вскрыла конверт.
Клауд-Хилл
Плантейшн
Воскресенье, 12 июля, 1998 г.
Ора Ли, дорогое дитя!
Я должна сообщить тебе самую печальную на свете вещь. Умерла твоя сестра Мари Луиза Лоретта Терри…
Джейн закрыла глаза.
Так…
Это было неизбежно.
Нам всем суждено умереть, Джейн.
Да. Но не такими молодыми.
Она опять вгляделась в фотографию.
Прощай.
Джейн встала. Ей было невыносимо оставаться рядом со снимком.
Забрала сигареты, допила то, что было в стакане, захватила бутылку и отправилась на заднюю веранду. Проходя через кухню, махнула Мерси письмом и бутылкой, которые держала в одной руке.
— Плохие новости. Иду на веранду — хочу побыть одна. Расскажу, когда вернусь.
— Конечно, конечно, — отозвалась Мерси. — Сочувствую.
Джейн удалилась на веранду.
Уилл был с Редьярдом в саду.
Не обращая на них внимания, она села.
Уилл отвернулся и пошел через боковую дверь на кухню.
— Мама на меня сердится?
— Что ты, милый, конечно, нет. Просто она получила письмо — плохие новости от бабушки. Давай оставим ее в покое. Возьми пепси. Мы можем поиграть в слова.
— Давай.
Они сели за кухонный стол и принялись играть.
А Джейн налила в стакан вино, закурила, сбросила туфли и, устроившись в шезлонге, снова развернула письмо.
Слава богу, она, по крайней мере, выбрала легкий способ уйти. Безболезненно, сама того не сознавая. Дешевое виски «Старая ворона» прямо из бутылки, — конечно, не из стакана, словно пить из стакана — обычай иностранцев; ничему подобному я ее не учила, но Мари Луиза Лоретта всегда все делала по-своему — и это тоже. Приняла пузырек таблеток, разлеглась на кровати, как королева, включила свою любимую музыку, заснула и умерла.
Ворона взлетела на ореховое дерево — хлопанье крыльев, будто знаки препинания. Конец предложения. Приговор Лоретте — и точка. Говорят, что отсутствие аппетита, или анорексия, — если и не болезнь, то очень серьезное отклонение от нормы. И этот недуг подчинил себе Лоретту, как оккупированную территорию — Лоретта и сама не знала, что сдалась, хотя капитуляция уже состоялась.
Лоретту обнаружил некто Недди Форсайт. Утверждает, что любил ее, но она ни разу не упоминала при мне этого имени. Я не слышала ни о каком Недди Форсайте, пока в тот день — в прошлую пятницу — не зазвонил телефон. В десять утра. Повторяю — утра. Не могу представить, что ему понадобилось в квартире Лоретты в такой час. Но он был там, и именно он нашел Лоретту. Мертвой.
Пришлось туда ехать и ждать, пока он откроет мне дверь, так как своих ключей у меня не было. Достаточно приятный на вид молодой человек, лет на десять моложе Ретты. Речь спокойная, даже любезная. Хорошие манеры. Заметно неплохое воспитание, хотя я не слышала ни о каких Форсайтах в Плантейшне. Вероятно, откуда-то приехал. С Юга или с Севера. Не исключено, что из Нового Орлеана или еще дальше — из Арканзаса. Говорит, как один из нас. Чувствуется мягкость и все такое…
Сиявшее над ореховым деревом солнце вытравило на белом небе все голубое — и на тысячи миль ни одного облачка. Такое небо теперь навсегда, подумала Джейн.
Ворона растопырила крылья и встряхнулась.
Она тоже так считает. Летала там наверху и все поняла. Добрая, старая ворона. Словно знает, о чем письмо, и явилась скорбеть со мной.
Джейн стала читать дальше.
Она лежала на кровати — Лоретта — поверх чего-то голубого — ее любимый цвет, как и твой. Все известные мне женщины семьи Терри обожали голубое. Наверное, дело в цвете глаз или чем-то подобном.
— У меня зеленые глаза, мама, — произнесла Джейн вслух. — Ну, да ладно.
Я сидела с ней одна — пять часов. Совсем одна. Встала только раз — поправить ей подол и снять с нее туфли.
Она так любила хорошую обувь и наряды — Лоретта. Ты же помнишь. Все эти платья и вся эта косметика — бесконечные прически и таблетки. И ее квартира — со всякими там финтифлюшками. И все ее тайные поездки в Новый Орлеан — будто мы о них ничего не знали.
А теперь — этот молодой человек. И сколько их было еще? Помнится, я как-то ей сказала: «Ретта, дорогая, я тебя не понимаю». Разговор происходил то ли два, то ли три, может даже четыре, года назад. Вот тогда я ей это сказала. А чего еще ждать от любящей матери, если ее девочка стала чужой — ничего общего с тем, как ее воспитывали и где она выросла.
И я ей сказала — так и сказала: «Мое дорогое дитя, — столько всякой обуви, а все равно несчастна».
Ни разу в жизни, ни единого разочка она не испытала счастья, сколько бы ни тешила себя этими тряпками и прочей мишурой. Никогда.
Так оно и было, Джейн прекрасно это знала.
А за несколько дней, может быть, за неделю, точно не помню, до того, как она взяла да и умерла, я ей сказала: «Радость моя, посмотри на себя, только посмотри: сорок лет, а худющая как палка — моришь себя голодом, не даешь себе даже переваривать пищу, запихивая в горло зубную щетку, гробишь себя чрезмерной худобой. Ради чего? — спросила я ее. — Почему? Почему? Зачем?»
Я хочу, Ора Ли, чтобы ты знала. И рассчитываю, что ты поймешь. Это не я довела ее до этого. Нет, не я. Она сама с собой это сделала. Но она была моим первым ребенком. А первый ребенок — всегда золотой. Так что я оплакиваю смерть моей золотой девочки так же, как радовалась ее рождению. Она ушла. Она умерла. Я ее потеряла. Но у меня по-прежнему есть ты.
Я каждый день молюсь за тебя. И за нее. И я надеюсь, что ты тоже будешь за нее молиться — за свою сестру Мари Луизу Лоретту. Пойди и поставь свечи, как мы с тобой уже делали раньше. За нее и за меня тоже.
Твоя любящая мать
Мейбел Терри.
P. S. Вердикт коронера: «Смерть в результате несчастного случая».
Джейн сложила письмо, убрала в конверт, выпила вино, налила в стакан еще и закурила.
«Смерть в результате несчастного случая». Что ж… По крайней мере, настоящая причина не названа.
Ворона что-то сказала.
Джейн подняла глаза.
Вот она сидит, самодовольная, — предводительница своего племени, лоснящаяся, великолепная голова в профиль — все помыслы вечно только о безопасности, которую представители животного мира не могут гарантировать ни себе, ни своим детям.
Мы тоже животные, подумала Джейн. Биологически.
Ворона покосилась на нее.
Теперь она меня знает — так же, как я ее.
Мы живы.
А Лоретта умерла.
Ворона что-то снова выкрикнула.
Имя врага. Или, может быть, жертвы. Пища. Жизнь и смерть в одном слове: сова.
Как бы слово «сова» ни звучало по-вороньи.
Джейн улыбнулась. Потом посмотрела на огонек сигареты.
«Поставь свечи, как мы уже делали раньше» — говорилось в письме.
Обязательно.
Два года назад Мейбел единственный раз приезжала из Плантейшна. «Я становлюсь слишком стара для путешествий, — сказала она. — В аэропортах всегда умудряюсь заблудиться. И на этот раз чуть не опоздала на самолет. Благодарение богу, один любезный молодой господин подвез меня на электрической тележке, какими пользуются при игре в гольф. Не потеряла день».
Мейбел гостила неделю. «Я чуть не распрощалась с жизнью от этой вашей навевающей тоску по дому жары, — призналась она. — А ведь надеялась, что здесь, на Севере, такого не бывает». В последний день ее визита они отправились в церковь Святого Иосифа поставить свечи и больше часа не поднимались с колен. Мейбел не переставала молиться, упрашивая Господа, святого Иосифа и Преподобную Деву Марию позаботиться о душах покойного мужа и четверых своих детей.
«И не забывай ставить свечи за Ору Ли и Мари Луизу. Я дала вам с Реттой их имена, потому что они наши богобоязненные предки и благословляют нас своим заступничеством».
Хорошо, мама.
Когда Мейбел предложила пойти в церковь вместе, Джейн запаниковала. Она даже не помнила, где ее четки и есть ли у нее подходящий платок, чтобы покрыть голову. Она так редко посещала храм, что имя священника пришлось выяснять заново. Преподобный Малачи.
— Почему они все ирландцы?
— Потому что ирландцы идут в священники, если не могут найти другой работы, — объяснила Мерси.
— Если бы я не любила тебя, то решила бы, что ты злая. Ты говоришь жуткие вещи.
— Правда никогда не бывает доброй. Поэтому мы не очень хотим ее знать.
— Верно, — улыбнулась Джейн. — Тебе надо когда-нибудь написать книгу.
— О чем?
— Господи! Ты просто безнадежна!
После часа молитвы и слез Мейбел поднялась с колен и обратила глаза к алтарю. А Джейн едва держалась на ногах — у нее нестерпимо болели колени.
Еще трое или четверо прихожан стояли поодаль друг от друга на коленях, углубясь в молитвы или просто глядя на алтарь.
— Почти так же мило, как у святого Августина, дома в Плантейшне… Может быть, не совсем, но почти. Ты хорошо расплатилась за свечи?
— Да, мама. Я положила двадцать долларов.
— Что ж, это достойная лепта. За наши души ничем не расплатиться, но приходы всегда нуждаются в пожертвованиях.
— Да, мама.
Джейн в конце концов повязала голову синим шифоновым шарфом. А на Мейбел была простая, без всяких украшений, черная соломенная шляпка. И черное платье. Она не надела даже свой жемчуг. Только взяла четки — черные бусины с серебряным распятием.
— Как ты думаешь, я могу поговорить со священником?
— Скорее всего, нет.
— Почему? Разве ему не положено быть здесь?
— У него есть другие обязанности. Ты же знаешь — как всегда у священников: страждущие прихожане, посещение больниц — молитвы с больными и за больных, деловые встречи…
— Да, да, конечно… вечное добывание денег… Дома то же самое.
Они направились к дверям, преклонили колени, благочестиво окунули пальцы в сосуд со святой водой, перекрестились и вышли на солнце.
— О, благословенное, благословенное солнышко! — провозгласила Мейбел. — Даст бог, послезавтра я буду гулять в саду в Клауд-Хилл и пересчитывать мои розы. Хорошо бы ты как-нибудь взяла своего золотого сыночка и вечно отсутствующего мужа и приехала в Плантейшн, погуляла бы со мной, днем и вечером, пока еще светло.
Она пристально смотрела на раскинувшийся у подножия лестницы город и перспективу Гурон-стрит, так же, как, новобрачной, возможно, глядела вперед, готовясь сделать шаг в предстоящую ей жизнь.
— Знаешь, Джейн Ора Ли, я теперь ни с кем не гуляю. Никогда. Похоже, мои прогулки закончились. И мне этого не хватает. — Она посмотрела на Джейн так, как смотрят на матерей дети, а не матери на детей. — Мне не хватает тебя, Джейн Ора Ли. И всех моих малышей. Всех четверых.
На мгновение Мейбел прикрыла глаза.
— Мне нравятся утопающие в зелени улицы, — проговорила она. И повернулась к Джейн: — А теперь дай мне руку. По крайней мере, хоть прогуляюсь с тобой вниз по лестнице. Спуск такой длинный, а я всегда боялась упасть.
Джейн взяла мать под руку, и они двинулись вниз — сначала по ступеням, а потом, оказавшись на улице, повернули за угол и прошли еще полквартала до места, где стояла «субару».
Джейн вдруг поняла, что после этой встречи она, скорее всего, никогда больше не увидит Мейбел.
И, прощаясь в пятницу, догадалась: мать тоже понимает это.
— Спасибо, что позволила мне приехать, — сказала Мейбел.
— Я рада, что ты приехала, мама, — ответила Джейн. — Действительно рада. Я по тебе скучаю, — как бы это дико ни звучало, она говорила правду. — Счастливого пути. Я стану каждый вечер молиться за тебя.
— Молись особо за сестру Ретту, — отозвалась Мейбел. — Она в этом очень нуждается, дорогая. Чтобы достучаться до Господа после всего, что она с собой сотворила, после всей ее сумасшедшей жизни — для этого надо очень много молиться.
И наконец:
— До свидания, Ора Ли.
— До свидания, мама.
Последнее объятие — и несколько шагов до нанятой машины, где у открытой дверцы поджидал шофер Джон.
Мейбел забралась внутрь.
Джон захлопнул дверцу и сел на водительское место.
Мерси стояла на переднем крыльце — она уже попрощалась с Мейбел в доме.
Уилл и Редьярд смотрели из окна второго этажа.
Мейбел послала воздушный поцелуй, прощально взмахнула рукой, и машина тронулась.
А Джейн так и осталась стоять на дорожке.
Ее плечи дрожали.
Мерси спустилась с крыльца и обняла ее.
— Извините. Извините. Извините, — повторяла Джейн.
— Это ничего, — успокоила ее Мерси. — Это вполне естественно. Да, она уехала — но разве не чудесно, что ей оказалось под силу такое путешествие. Возможно, последнее в ее жизни, но, готова поспорить на любые деньги, самое для нее важное.
— Вы, конечно, правы. Мне только жаль, что остаток жизни ей придется провести в одиночестве.
— Да, но… разве не это ждет нас всех, когда дело дойдет до конца? — Мерси усмехнулась.
Они направились к дому, и, к тому времени как подошли к двери, Джейн уже смеялась.
5
Среда, 22 июля 1998 г.
— Здорово, что мы с тобой вот так уединились, — сказала Клэр. — Всем наверняка будет жутко любопытно, о чем это мы секретничаем.
— Да.
— Перестань, черт тебя побери, отвечать односложно.
— Что?
Клэр расхохоталась.
— Что тебя так рассмешило? — поинтересовалась Джейн.
— Я попросила тебя не отвечать односложно, а ты сказала «Что?».
Джейн отвернулась.
— Хорошо, — уступила Клэр. — Так о чем мы с тобой говорим?
— Обо мне.
Клэр успокоилась и откинулась на спинку стула.
Джейн удалось занять в обеденное время в «Балди» лучший столик — в уединенной нише чуть ниже по лестнице.
«Балди» оказалось вполне подходящим названием для этого места. Как однажды выразилась Клэр: «Забалдеть здесь легче легкого». Это было небольшое, почти интимное заведение над очень дорогим, но весьма популярным рестораном «Черч». В 70-е годы его открыл великий Джо Мэнделл, но как только дела в «Балди» и «Черч» пошли на лад, он занялся другими вещами. «Так уж устроен мир, — говаривал Джо. — Нельзя требовать от актера, чтобы он всю жизнь играл одну и ту же роль».
Перед представлением здесь любили поесть зрители, а после того как опускался занавес, собирались актеры. Предпочитали «Балди», где можно было хотя бы до некоторой степени укрыться от посторонних взглядов.
Джейн пригласила Клэр пообедать только в этот же день утром: Если ты занята, освободись.
Клэр с удовольствием отменила встречу с человеком, которого на самом деле не очень хотела видеть. И ждала у своего дома на Шрузбери, снедаемая любопытством — с чего такая срочность. По телефону она вопросов не задавала. Обычная для Джейн Кинкейд история: «Бросай-все-ты-мне-нужна». Отказать ей было немыслимо.
— Поедем на моей машине, — предупредила Джейн. — Мне надо забрать свое барахло из театра.
Что бы это ни значило.
И вот они сидели друг против друга: Джейн — очевидно, в спешке — оделась несколько небрежно, зато Клэр была элегантна как всегда: в коричневатых и жемчужных тонах, очень темных солнечных очках и без драгоценностей — только обручальное и свадебное кольца, часы и серебряная пряжка. И еще — серебряная зажигалка «Данхилл», которой она только что щелкнула.
Посмотрела, как затянулась Джейн, закурила сама, выпрямилась и сказала:
— Так-так, дорогая, у тебя дрожат руки. Значит, что-то серьезное.
— Да.
— Выпьешь?
— «Вулф Бласс» с желтой этикеткой.
— Никаких коктейлей?
— Только «Вулф Бласс».
Клэр одним движением пальца привлекла внимание официанта — у Джейн никогда так не получалось.
— Бутылку «Вулф Бласс» с желтой этикеткой. Откройте бутылку для миссис Кинкейд, а потом мы допьем вино под еду. Мне — двойную водку с мартини, безо льда, с ломтиком лимона.
Клэр сняла темные очки и, не убирая в футляр, оставила на столе.
Джейн развернула салфетку и разложила у себя на коленях — карта без границ: некуда идти и негде скрыться. Пустыня пустоты. Вот здесь я теперь живу, подумала она.
Клэр стряхнула пепел с сигареты в cendrier из хрусталя. Она любила это слово, сама не зная почему. Клэр копила слова, как скопидом, говорила, что любит «раскладывать их по сундучкам». Каждый год они с Хью проводили два месяца во Франции, наезжая оттуда в Италию и Испанию, — все это было связано с их любовью к образам, выраженным через визуальные виды искусства или в словах. Язык есть язык — кому какое дело до его происхождения. Некоторые слова во французском, испанском или итальянском звучали намного красивее, уместнее и точнее, нежели их английские аналоги. И Клэр ими просто упивалась. «Пепельница» — это слишком приземленно. A cendrier — убедительно, изящно, элегантно. Итак, она стряхнула пепел в cendrier.
Принесли напитки.
Но прошла целая вечность, прежде чем бутылка была откупорена. Официант упорно придерживался ритуала, который Клэр считала претенциозной ерундой. И когда он предложил Джейн извлеченную пробку, заметила:
— Бросьте вы эту чушь. Налейте, наконец, в бокал.
— Слушаюсь, мадам.
Клэр наблюдала за Джейн со все возрастающей тревогой.
И когда официант наконец оставил их одних, подалась вперед, взяла свою водку с мартини и сказала:
— Не говори ничего. Подожди. Сначала выпей. Нам некуда спешить. — Она грустно улыбнулась и дотронулась до руки подруги.
— Не могу поднять бокал, — ответила Джейн. Известие о смерти Лоретты оказалось последней каплей. Не оставалось ничего другого, как признать свое поражение.
— Можешь. — Клэр еще больше наклонилась вперед. — Можешь, черт возьми. Давай потихоньку. Все будет хорошо. Не торопись.
И выпрямилась.
Джейн впилась глазами в бокал.
Когда ее пальцы, дотянувшись, охватили ножку бокала, она закрыла глаза.
— Получилось?
— Да.
— Вот и славно, детка. Что бы там ни случилось, у тебя есть я. А значит, всегда найдется человек, который тебя поддержит.
И тут Джейн расплакалась.
Клэр встала и направилась к бару.
— Можно мне два меню?
— Конечно, миссис Хайленд. Пожалуйста.
— Благодарю.
Клэр спустилась по лестнице и подала одно меню Джейн.
— Открывай. Тебе ведь хочется за чем-нибудь спрятаться. — Она улыбнулась, села и развернула льняную serviette. Да, да, знаю, дико говорить serviette, но, боже мой, — салфетка это так вульгарно. — Смотри, что у меня есть, — она показала салфетку, — двойная камчатная serviette. Правда, чудная?
Джейн не ответила. Она вытирала глаза «Клинексом».
— Я тебе не рассказывала, как Хью побежал в магазин за салфетками, притащил к кассе шесть желтых пачек без названий, плюхнул перед кассиршей, заявил, что очень спешит, и достал бумажник? У нас были гости — кто-то из его бывших студентов, и мы внезапно обнаружили, что в доме нет приличных салфеток. Знаешь, таких больших — «обеденного размера». Кассирша смотрела на него и колебалась. «Что-то не так?» — спросил ее Хью. «Сэр, — ответила она, — я просто хотела убедиться, действительно ли вы намерены купить именно это». «Конечно, — буркнул Хью. — К нам пришли гости, а у нас не оказалось…» — «Но, сэр, — не отступала девушка, — извините, конечно, — значит ли это, что все ваши гости — женщины? И у всех у них — как бы это выразиться… — критические дни?» — Клэр тряхнула головой и рассмеялась. — Только тогда до бедного Хью дошло, что maxiserviettes и бумажные салфетки «обеденного размера» — это разные вещи. Господи! Мы потом смеялись несколько недель!
Джейн слабо улыбнулась.
— Ты мне уже рассказывала, — заметила она.
— По крайней мере, я привлекла твое внимание, — пожала плечами Клэр.
Женщины выпили.
— Здесь есть кто-нибудь из знакомых? — спросила Джейн. — Тебе виднее. Я сижу ко всем спиной.
Клэр обвела ресторан быстрым взглядом.
— Только этот ужасный Джонатан Кроуфорд. Больше никого не знаю.
— Не смотри в его сторону. Заметит — глазом не успеешь моргнуть, как подсядет. Не слишком-то он мне нравится, честно говоря.
— И мне тоже.
— Перекрыл кислород Гриффу — лишил всех ролей на следующий сезон: и Бирона, и Меркуцио. Грифф, с тех пор, как узнал, сам не свой. Я его почти не вижу. Об этом я тоже хотела с тобой поговорить. Слушай… а с кем он?
— Один. Второй стул пустой. Но столик на двоих.
— А что делает?
— Сидит, и все.
— Надеюсь, не углядит нас с тобой. Боюсь ему что-нибудь ляпнуть.
— Не надо. Не стоит того. Грифф выкарабкается. Джонатан Кроуфорд — не бог. И он не вечен.
— Я-то понимаю, а Гриффин — нет. Стал совсем никакой. Ноль.
— Когда ты его в последний раз видела? Гриффа?
— О господи, Клэр…
— Давай выкладывай. Говори когда.
— В воскресенье.
— Три дня назад… Н-да…
— И то одно тело — валялся одетым в комнате для гостей.
— Даже так?
— Не хочет, чтобы я знала, каково ему теперь — что он боится. И не представляет, что делать. Просто в панике. Как напуганный ребенок. На самом деле ему нужна мать. Чтобы забиться в безопасное место и чтобы ему сказали, что все это происходит не с ним. А я…
— Ты?..
— Я не способна ему помочь, Кли. Не знаю как. Все это я уже проходила много раз. И с братьями. И с сестрой Лореттой.
— Да, да…
— Сначала все они замолкали и совершенно переставали жить, — Джейн махнула рукой, — отдалялись, как будто существовали в каком-то искусственном измерении, имя которому «Бесконечность», где нет ничего, кроме расстояния. Отдалялись и уходили в никуда. И с Гриффом сейчас происходит то же самое. Он… исчезает. Исчезает за горизонтом, а я не могу притащить его обратно. Не могу приманить. Привлечь. А просить не буду. Не могу… не могу… И не знаю, что делать. Ведь есть же я и Уилл… но он уходит от нас… и все потому, что не в состоянии… не в состоянии…
— Не в состоянии повзрослеть, — закончила за нее Клэр.
— Очень жестоко так говорить.
— Какая разница — жестоко или нет, если это правда. Его надо хорошенько отшлепать, побить, надавать пощечин. Господи, у всех случаются провалы. Ты только представь, мне потребовалось одиннадцать лет, чтобы получить должность. Одиннадцать лет! Одиннадцать лет, чтобы стать профессором! Да, ему тридцать, и он не взирает на всех прочих со звездных высот. Но это пойдет ему только на пользу.
— Насчет этого ты не права.
— Права, черт возьми, еще как права!
— Я лишь хотела сказать, что Грифф страдает головокружениями. — Джейн лукаво улыбнулась.
Через пару секунд до Клэр дошло, и она возопила:
— Браво, детка! Вот это отмочила! Поздравляю! — она подлила вина в бокал Джейн.
— Спасибо, что пришла, — поблагодарила та.
— Такова уж моя работа. Не помнишь, в какой это песне поется: «Друзья на то нам и даны…»
— Если ты запоешь, я опять заплачу.
— Обещаю не петь.
Клэр закурила вторую сигарету и, чтобы не вдохнуть дым, непроизвольно подняла голову. Джонатан Коуфорд был уже не один.
Джейн внимательно глядела на нее.
— Что случилось? — спросила она.
— Ничего, — слишком поспешно отозвалась Клэр. — Ровным счетом ничего. В глаз что-то попало.
Господи, и зачем я это увидела, думала она.
— Наверное, пора сделать заказ.
— Я еще даже не посмотрела меню.
— Тогда смотри, дорогая. Читай от корки до корки. Не знаю, как ты, а я умираю с голоду.
Женщины склонились над меню.
А увидела Клэр Гриффина. Но таким она его еще не знала: весь в белом, он выглядел не по-мальчишески, а просто мальчиком, не застенчивым, а открытым. Беззащитным. Чистым — словно он еще не потерял невинность. Гриффин Кинкейд — модель для мужского журнала — шел по проходу и смотрел только на Джонатана. Тот поднялся навстречу и расцеловал его в обе щеки. И Грифф ответил ему тем же.
Как по-французски, подумала Клэр. Очень по-французски.
— Когда об этом объявят?
— На следующей неделе. Но объявить должен Роберт.
— Естественно.
— Ты доволен?
— Более чем.
— Поешь?
— Ты позволишь мне расплатиться?
— Нет.
— Тогда не знаю.
Оба улыбнулись.
— Никак не думал, что получится.
— И тем не менее все утряслось.
— И все согласны? Никаких возражений?
— Абсолютно никаких. Все об этом только и мечтали. А особенно доволен Роберт. Он считает, что ты подаешь большие надежды… — это было сказано с особенной двусмысленностью.
— Ах ты, хитрющий содомит.
— Ничего подобного. Как тебе известно, у меня другие пристрастия.
— Я успел заметить.
— Не хами.
— И не думал. Ты же видишь, что я улыбаюсь.
— Вижу. Но ты всегда улыбаешься, когда от тебя этого ждут. Одно из твоих лучших качеств.
Гриффин пожал плечами.
— Нечего ежиться. Это неприлично. На что ты уставился?
— Там моя жена. Сидит в нише. Я вижу ее спину.
— Знаю. Заметил, как они входили. Ее подруга-профессорша прогарцевала к бару и взяла два меню. Судя по всему, на меня не обратила внимания. Терпеть ее не могу — эту профессоршу. Типичная ученая дама. Всезнайка!
Гриффин сдержался и не стал высказываться по поводу всезнаек.
Джонатан постучал пальцами по меню:
— Решился на что-нибудь?
— О да.
— Я смотрю, ты стал слишком часто улыбаться. Я спрашиваю, ты выбрал, что будешь есть?
— Да.
— Прекрасно. Кстати, это была интересная улыбка. Такую я еще не видел. Постарайся раскрыть ее мотивацию, когда будешь играть Меркуцио. Он был — если такие вообще бывают — изголодавшимся человеком.
— Разумеется.
— Не забывай о его судьбе.
— Ни в коем случае.
— Надеюсь. Она была не слишком приятной.
— Буду помнить, — пообещал Грифф и добавил: — Пожалуй, я возьму отбивную.
— Можно было догадаться. И, естественно, с кровью? Непрожаренную?
Ответа не последовало.
— Ты счастлив?
— Да.
— Ты по ней скучаешь?
— Конечно.
— Конечно. Но ты справишься. Нужно время, однако успех — ничто, когда он не требует жертвы.
— Если ты так считаешь…
— Я знаю. То, что ты сейчас испытываешь — это огонь, в котором сам я тоже горел, только давным-давно. Если точно, двадцать лет назад. Когда ушел от Анны. Я тогда думал, что умру. Но ничего подобного — вот я, жив. Запомни хорошенько: боль — это цена всех реализованных амбиций.
— Запомню.
— Не смеши меня. Какой ты странный. Будто раньше понятия об этом не имел. Да ради успеха ты бы убил свою собаку, если не собственную мать. И это тоже одно из твоих лучших качеств. Потому что если ты не готов убить, то не сможешь добиться успеха. Во всяком случае, такого масштаба, на какой рассчитываешь. Не разгляди я этого в тебе, не стал бы с тобой возиться. Это в твоих глазах, в изгибе губ, в том, что ты приходишь на репетиции в спортивных шортах, чтобы все могли видеть твои ноги. И не просто в шортах. В красных шортах. В привычке встречать гостей обнаженным в своей уборной. Впрочем, для актера с хорошей фигурой это не редкость. Ты же не воображаешь, что, кроме тебя, больше никто так не делает? Я видел десятки артистов: на Бродвее, в Уэст-Энде, в Париже — с одним только нескромным узким полотенцем на бедрах, а иногда и вовсе без всего. Пусть тебя не тревожит, что я так говорю. В каких-то случаях я считаю это естественным. Окунаться имеет смысл только с головой. Это было бы непристойным, не ценись инстинкт убийцы в актере так высоко. Мы все это знаем. И потому возмущаемся великими и презираем их успех, ибо понимаем: не начав поступать подобным образом, мы не добьемся того, чего добились они и чего мы хотим добиться сами. Не просто хотим — а страстно желаем, что совсем не одно и то же. Это — нечто вроде крайней степени голода. Это — Скарлетт О’Хара, стоящая посреди поля редиски и, давясь собственной блевотиной, грозящая кулаком небесам. Символ человека, лишенного всего. Понимаешь?
— Да.
— Не шепчи. Говори громко. Никогда не стесняйся своих желаний. А теперь скажи мне. Повтори, что она в тот момент говорит.
— Она говорит…
— Смотри на меня. Не отворачивайся. Смотри на меня и повторяй ее слова.
Последовала пауза, наверное, секунд пятнадцать.
— Ну так что же?..
— Она говорит: «Бог свидетель, я больше никогда не буду голодать».
Поодаль, за своим столом, Джейн поднесла к губам бокал с вином.
— Отлично сказано. И ты отлично запомнил. Интересно почему. — Кроуфорд улыбнулся. — Кстати, если уж говорить об амбициях, рад тебе поведать, что мой сын Джейкоб отправился в Перу изучать развалины инков в Мачу-Пикчу. Он будет археологом, и я думаю, прекрасным. Самые высокие оценки, какие только можно вообразить. На последнем курсе каждый студент должен съездить на те или иные знаменитые руины и представить собственный отчет. Я очень горжусь своим сыном.
— Еще бы.
Подошел официант и замер рядом со столиком.
— Вы уже выбрали, джентльмены?
— Да. Обоим филе миньон. Непрожаренное.
В другом конце зала, тремя ступенями ниже, Джейн допила один бокал вина и налила себе еще. Клэр вновь надела темные очки. Она следила за каждым движением Джонатана и Гриффина — за поворотом их голов, за оживленностью беседы, за тем, как приближался к ним луч дневного солнца, словно ждавший разрешения Джонатана коснуться их плеч, и как двигались две пары рук, явно избегая прикосновений. Что ж, это вполне естественно — со всех сторон нескромные глаза: не все принято делать на людях. А как же поцелуй? Французский способ приветствия друг друга… Принесли салат из омаров, который заказали Джейн и Клэр. Джейн совсем не была голодна, но заставила себя есть: будь паинькой, прожуй еще кусочек. Каким бы ни был салат вкусным, она благодарила бога, что есть чем запить.
— Не возражаешь? — спросила она. — Я знаю, к рыбе и морепродуктам положено белое вино, но за обедом оно мне кажется пресным. Белое вино для вечерних аперитивов — можно заглатывать, не ощущая особого эффекта. А днем лучше красное.
Она выпила.
Клэр поправила очки и решила не смотреть ни на Джейн, ни на Джонатана и Гриффа. Она занялась лимоном и перцем. Бесполезно солить продукты моря — с тем же успехом можно высыпать соляную шахту в океан. Подняла глаза на Джейн. Скажи же что-нибудь!
— Ты что, онемела?
Джейн взглянула на нее, будто неожиданно выведенная из транса.
— Нет, — откликнулась она. — Прости. Просто думала о Зои Уокер.
— Ах да. О ней! — Клэр отставила перечную меленку и взялась за вилку.
— Я считаю, что это она.
— Что — она?
— Она — та, с кем у Гриффа роман — интрижка — назови, как хочешь.
— Почему ты так решила?
— Потому что она доступна. Потому что она тщеславна. И потом, она знает, что может.
— Может?
— Может завладеть Гриффом. Я наблюдала за ней. Думаю, она хочет произвести впечатление на Джонатана и для этого решила соблазнить его.
— Кого соблазнить? Гриффина?
— Естественно. Кому нужен Джонатан?
Клэр отвела глаза.
— А разве она не влюблена в этого… как его там?.. Ричард Хармс?
— Была влюблена. Но ей его не получить, и она понимает это.
— Серьезно женат?
— Очень серьезно.
— Но не счастливо. Мне говорили. Вроде бы она ненавидит театр. Его жена.
— Я с ней незнакома, — заметила Джейн. — Но если это правда, зачем же она вышла замуж за актера? Странно.
Некоторое время женщины молча ели.
Она не понимает, думала Клэр, насколько это все заурядно. Сидит, рассуждает о последствиях тщеславия Зои и не видит, как далеко зашло тщеславие ее собственного мужа.
Есть люди, которые ни перед чем не остановятся, хотелось ей крикнуть. Грифф спит с мужчиной! Обернись и посмотри! Но вместо этого она произнесла:
— Ты помнишь своего первого любовника — того, с кем переспала в первый раз?
— Да.
— Как его звали?
— Эндрю Джексон.
— Шутишь?
— Нисколько. Назван в честь национального героя.
— И он был им?
— Кем?
— Героем?
Джейн подняла глаза на цветы на подоконнике за спиной Клэр. Белые. Что-то белое.
— Нет, — ответила она. — Достаточно приятный на расстоянии. А вблизи — долбежник, как все.
— Забавное определение.
— Говорю, как есть. Накинулся на меня прямо днем посреди поля, куда повел полюбоваться дикими цветочками. Орудовал, словно отбойным молотком. А сейчас известный ботаник. Представляешь, преподает в Стэнфорде. Долбит всех девок подряд.
Джейн снова принялась есть, как запуганный кролик где-нибудь в открытом поле.
А Клэр пыталась представить картину: мужчина с отбойным молотком любуется цветочками.
— Сколько тебе было лет?
— Тринадцать.
— Господи!
— Я этого хотела. Хотела через это пройти, чтобы досадить матери.
Клэр оттолкнула тарелку.
— Ты как будто умирала от голода? — заметила Джейн.
— Умирала. Но уже выздоровела.
Подошел официант и долил в бокалы вина, хотя они еще не опустели. Это взбесило Клэр — она ненавидела назойливость. Сейчас он спросит, не хотим ли мы десерт, а ведь видит, что Джейн еще не доела.
Толчется рядом, обирает хлебные крошки с рукава. Отвали!
Она не произнесла этого вслух, но официант, словно услышав, отошел.
— Почему ты спросила? О моем первом разе? О сексе?
Гриффин и Джонатан.
— He возражаешь, если я закурю?
— Конечно нет.
Клэр достала «Матине экстра лайт» и серебряную зажигалку.
— Хотела узнать, помнишь ли ты, каково это — быть девственницей.
— Ах вот как? Ответ: и да, и нет.
— Гм…
— Я никогда не размышляла о девственности, я думала о чистоте. Церковные дела. Католические. Единственная девственница, о которой я слышала, это Дева Мария. Как ребенку все это понять?
— Я понимала.
— Ты это ты. А я — это я. И вот… — Джейн взмахнула вилкой. — Я захотела того, чего не знала. Хотела ликвидировать разрыв между собой и всем остальным миром. Всем остальным миром, состоявшим из скрытных, самодовольных, самоуверенных других — взрослых. Что такое знали они, чего не знала я? И о чем мне никто не желал рассказывать? Я даже не представляла, что дело касалось секса. Думала: речь шла о чем-то таком, без чего я… как бы это сказать… не совсем завершенная. — Джейн снова занялась едой.
Клэр молча слушала, поигрывала бокалом и курила.
— Так оно и есть на самом деле, — продолжала Джейн, — человек не может считать себя целостным, пока не найдет другого человека. После Эндрю, которому было четырнадцать, от силы пятнадцать и который решил утвердить или отыскать свою так называемую мужественность, появился другой мальчик, и он мне по-настоящему нравился. Его звали Трой. Спортсмен. Теннисист. Но я боялась. Опасалась, что он тоже окажется молотобойцем. Думаю, я по-детски, по-девчачьи влюбилась в него… — Джейн положила на стол нож и вилку. — Но между нами так ничего и не произошло. — Она замолчала и провалилась куда-то в пространство.
— Эй, Джейн…
Джейн потянулась через стол и сжала руку Клэр. Кольца Клэр врезались ей в кожу, но она не отняла ладони.
— Господи! Почему я все это вываливаю на тебя? Извини.
Джейн убрала руку и поднесла салфетку — serviette — к глазам.
— Рассказывай. Тебе надо выговориться.
Джейн отвернулась. Вообрази, будто все происходило в далеком прошлом…
— Он приехал из Плантейшна. Из самой Луизианы. Хотел возобновить знакомство. — Джейн улыбнулась. — Он, конечно, изменился. Как и я. У него — никакого тенниса. У меня — никакой страсти. Во всяком случае, к нему…
Молчание.
— Я тебя слушаю.
Пространство. Приносящее успокоение пространство. Ты нигде. Просто существуешь. В пространстве. Она собиралась рассказать Клэр, что произошло на самом деле, и не смогла. Солгала.
— В конце концов он меня захотел. Но я ему отказала, сославшись, что замужем за человеком, которого люблю. Тем не менее, благодарю за проявленные чувства и внимание — что-то в этом роде. В духе истинной леди — рожденной, воспитанной и выросшей в Плантейшне, штат Луизиана, — как и он.
Клэр ждала. Она понимала, что рассказ не окончен. Пила, наблюдала и ждала. Джейн Ора Ли на самом деле удивительно красива, думала она. Хоть и грустновата. Но, пожалуй, именно грусть придает особую прелесть ее красоте. Как на полотнах прерафаэлитов, как Вирджиния Вулф на фотографии в молодости. Как дама с острова Шаллот у Теннисона, которая мечтает увидеть мир, но не смеет выглянуть из окна. Чем все кончится? Что еще недосказано?
— Он умер.
— Сочувствую.
— Не стоит. Теперь он мне почти безразличен.
Они уже поели, но Клэр видела, что Джонатан и Грифф все еще на месте. Она предполагала такую возможность и решила, что выведет Джейн из ресторана по центральной лестнице.
Джейн расплатилась. Это мой обед.
Клэр не возражала. Встала и взяла ее за руку.
— Пойдем туда. Мне надо поговорить с Марджори насчет предварительного заказа.
Джейн показалось, что хватка подруги была чуть сильнее, чем требовалось, но не придала этому значения. Не обернулась. И ничего не увидела.
Джонатан следил, как женщины удалились со сцены. В его лексиконе не было обычных слов: «пришли» или «ушли» — он оперировал театральными терминами. Так-так… дам нам только не хватало — и без них забот немало…
Он повернулся к Гриффину:
— Что ты сегодня собираешься делать? Что-нибудь важное?
Грифф отставил пустую тарелку в сторону и рассеянно обмакнул палец в вино. Поднял к губам и сказал:
— Не знаю. Возможно, это зависит от тебя.
Джонатан улыбнулся.
Мальчик усваивает уроки.
— Ты бы облизал палец, пока вино не капнуло на твой белый лацкан.
Гриффин послушался.
— Вот так-то лучше, — похвалил его режиссер. — Ничего нет неумолимее красного вина.
И потребовал счет.
На Джордж-стрит, куда Джейн свернула, направляясь к дому Клэр, стоял фургон телефонной компании «Белл».
Джейн притормозила, стараясь рассмотреть телефониста внутри.
— Мне нужно в туалет, — сказала Клэр. — Ты не можешь побыстрее?
— Конечно.
Он. Никаких сомнений.
Его профиль.
Телефонист то ли только что вылез из машины, то ли вернулся за лопатой.
— С тобой все в порядке? — поинтересовалась Клэр.
— Да.
— Ты как-то странно выглядишь.
— Да? И что в этом необычного?
Клэр промолчала. У Джейн в самом деле было такое выражение лица, словно она увидела привидение.
— Спасибо, что дала выговориться, — поблагодарила Джейн, высаживая подругу. — Буду держать тебя в курсе.
— Ты сейчас в театр?
— Да. Заберу свое барахлишко — и домой. Конец моего сезона. Завтра премьера «Ричарда». Это моя последняя работа. Ну и ладно. Дело оказалось долгим и нелегким, но теперь все позади. Будет больше времени для Уилла.
— Слушай, дай себе роздых и позабудь обо всех треволнениях. — Клэр наклонилась к окну и поцеловала подругу в щеку. — Поверь, тебе нечего страшиться.
— Кроме самого страха. Знаю, — улыбнулась Джейн.
Клэр помахала рукой и ушла.
А Джейн отъехала от тротуара, обогнула квартал и снова оказалась на Джордж-стрит.
Он был по-прежнему там.
— Привет.
— Привет.
— Вы меня помните? Вы в этом месяце приезжали к нам чинить телефонный кабель.
— Конечно. На Камбриа.
— Верно, — улыбнулась Джейн.
Сколько раз она репетировала их встречу — следовало сгладить все следы интереса, скрыть любое проявление желания, не показать своей напористости. Пусть видит только ее профессиональный фасад: холодная дама-художник ищет человека, который готов…
— Вы не сообщили своего имени, — сказала она, загораживая глаза от солнца.
— Я никогда этого не делаю, если меня не спрашивают, миссис Кинкейд, — ответил телефонист.
Миссис Кинкейд.
Джейн глубоко вздохнула:
— Ну, так назовите мне его… свое имя.
— Милош Саворский.
Она протянула руку:
— Здравствуйте, Милош Саворский.
— Здравствуйте. — Его прикосновение было таким же, как в первый раз: удивительно интимным, словно они много лет знали друг друга. — Могу вам чем-нибудь служить?
— М-м-м… если честно, то да. Видите ли, я работаю художником в Фестивальном театре…
— Знаю. А ваш муж — актер.
— Верно… Моя работа в этом сезоне закончилась…
Он начал сматывать провод, по-моряцки накручивая его на локоть.
— И теперь у меня появилась возможность заняться тем, что мне действительно нравится — живописью и рисунком. Во время сезона всегда недосуг, но вот год подошел к концу, и я могу заняться шлифованием своего таланта.
Она улыбнулась и махнула рукой, как бы отметая серьезное значение слова «талант».
— Шлифованием?
— Совершенствованием. Надо работать над собой — без постоянной практики коснеешь.
— Конечно.
— Ну вот… — Джейн отвела глаза и словно с разбега бросилась в воду: — Не хотела бы шокировать вас… да и никого другого… но вам, должно быть, известно, что у вас прекрасное тело, и я думаю, вы могли бы послужить отличной моделью.
Она опять заслонила от солнца глаза, стараясь понять его реакцию.
Никакой.
Милош домотал провод, скрепил витки концом и бросил в кузов.
— Вы имеете в виду — голым?
— Ну… да…
Он достал из нагрудного кармана сигареты, из джинсов — спички и, прежде чем заговорить снова, закурил.
— Я никогда этим не занимался.
Джейн удержалась и не сказала: «Все когда-то происходит впервые» — не хотела выглядеть слишком заинтересованной.
Милош, словно взвешивая ответ, смотрел вдоль улицы.
— Я, разумеется, вам заплачу, — добавила она. — В конце концов, это такой же труд, как и всякий другой.
— Да.
— Что вас беспокоит, мистер Саворский? Вы должны понимать — в этом нет ничего личного. Мне просто необходим натурщик.
— Да, да, я понимаю.
Он знал, что она лгала. Но она ему нравилась.
— Мне бы не хотелось, чтобы об этом узнала моя жена.
— А зачем ей знать?
Он женат.
— Она не одобрит.
— Понятно.
— Она очень религиозна.
— Конечно, конечно. Но…
— Как часто? Когда?
— Не знаю. В каком-то смысле это зависит от вас. Я имею в виду, что вы заняты на работе. А я свободна в любое время.
— Я могу вам позвонить?
— Разумеется.
Джейн достала из сумочки визитную карточку и подала Милошу.
— Номер факса тот же. — Она запнулась и рассмеялась: — Хотя вы вряд ли станете посылать мне факс.
— Не стану.
Он положил визитку в карман рубашки.
— Значит… буду ждать вашего звонка.
— Да.
— А это… это возможно — что вы согласитесь?
— О да. Я согласен. Но мне надо подумать когда.
— Иначе, — Джейн улыбнулась, стараясь не показать радости — только чисто профессиональную деловитость, — мне придется подыскать кого-нибудь еще.
Милош ответил ей удивительно открытым взглядом.
— Вам не следует беспокоиться, — сказал он в своей странной официальной манере. — Я не позволю себе причинить вам какие-либо неудобства.
И наконец улыбнулся. Детской улыбкой. Словно кто-то подарил ему леденец.
— В таком случае, до свидания, — Джейн сделала шаг вперед.
— До свидания. Я вам позвоню.
— Спасибо.
Они снова пожали друг другу руки, но Милош уже ушел в свой, чуждый ей мир, и прикосновение было простым рукопожатием.
Джейн вернулась к машине, чувствуя, как кружится голова.
Она села за руль, и вдруг у нее вырвалось — вслух:
— Я все-таки это сделала. У меня получилось.
Приезды и отъезды
Уберечь постарайся позор свой от мира людей: Энергичность и ум лишь зависть у них вызывают, И в шкафу у любого костями гремит свой скелет; В их глазах ты предстанешь как враг очага и злодей, Что младенцев невинных криком истошным пугает, Тот, чья холодность сводит всех прочих с ума. У. X. Оден «Очаг»1
Вторник, 23 июля 1998 г.
«Стратфорд Бикон-геральд»
Сначала месяца в Стратфорде совершено второе убийство. В воскресенье, 12 июля, соседка обнаружила тело Маргарет Миллер. Она была изнасилована и задушена. Ее убийца еще не найден, хотя некоторые детали свидетельствовали о том, что он не чужак в нашем городе. Преступник явно был знаком не только с местной топографией, но и с местными обычаями — до такой степени, что прекрасно представлял привычки Маргарет Миллер и ее соседей.
А вчера утром к известной в городе парикмахерше Ленор Арчер заглянула родственница и нашла ее убитой в собственном доме на Блейк-стрит, 13. Тоже изнасилованную и задушенную.
Ленор Арчер исполнилось 38 лет, она была не замужем и всю жизнь проживала в Стратфорде, за исключением трех лет в 70-х годах, когда училась парикмахерскому ремеслу в Торонто.
Сходство двух убийств не ускользнуло от внимания властей. Выступая вчера в два часа пополудни перед газетчиками и телерепортерами, начальник полиции Арнольд Крейг хотя и не вдавался в детали, однако рекомендовал населению «закрывать на замок двери и присматриваться к посторонним и всем, чье поведение в темное время суток вызывает подозрение». Он отметил, что для особой тревоги причин нет — просто надо проявлять бдительность, тем не менее заявил: «Я как начальник полиции считал бы безответственным не предупредить, что, возможно, в городе на свободе разгуливает преступник. Оба убийства — и мисс Арчер и миссис Миллер — совершены сходным образом и при весьма схожих обстоятельствах. Третье, до сих пор не раскрытое убийство случилось в июне в Китченере. Мы не можем считать это совпадением и поэтому объединились с тамошними полицейскими и занимаемся совместным расследованием».
Отвечая на вопросы журналистов, шеф полиции также сказал: «Я бы не хотел, чтобы люди испытывали безосновательные подозрения по таким незначительным поводам, как шумная вечеринка у соседей, или появление в нетрезвом виде на людях, или выгуливание собаки поздно вечером. Это все несерьезно, хотя и может вызвать неудовольствие. Другое дело агрессивное поведение, попытки проникновения в жилище или бродяжничество».
Тетя мисс Арчер, Милдред Каммингс, которая и обнаружила тело племянницы, сообщила, что ее сестра — мать убитой — единственная, кроме нее, оставшаяся в живых родственница покойной. Миссис Арчер овдовела более двадцати лет назад и теперь проживает в Китченере. О похоронах будет объявлено, как только полиция убедится, что собраны все улики, и станут известны результаты вскрытия.
Многие из друзей и клиенток мисс Арчер уже успели выразить негодование и сожаление по поводу ее насильственной кончины. «Она была просто ангелом по предупредительности», — сказала о ней ее давнишняя соседка по Бриджет-стрит Виолет Тернер. «Милейшая, прекрасная женщина, — таковы были слова Аллисон Паджет, клиентки. — И хороший мастер».
Предполагается, что клиентки салона мисс Арчер на Эри-стрит перейдут к ее деловой компаньонке Мери Бет Андерсон и будут по-прежнему «получать обслуживание только высочайшего класса». Миссис Андерсон отказалась позировать фотографу, заявила, что широко известный как «СЗК» («Стрижка, завивка, краска») салон продолжит свою работу, однако в знак уважения к покойной компаньонке она решила закрыть его на неделю, то есть до 13 июля.
В десять тридцать вечера на следующий после смерти Ленор Арчер день у боковой двери Мерси Боумен неожиданно появился Люк Куинлан. Мерси в это время открывала банку кошачьих консервов, и все четыре кошки с вожделением наблюдали за ее действиями.
Наружная дверь была открыта, а внутренняя, с сеткой, закрыта.
Люк стоял на крыльце под незащищенной плафоном лампой, и его не сразу можно было узнать.
— Мерси, это я, Люк. Извини за беспокойство.
— Ничего, проходи.
— Надеюсь, ты не возражаешь — мне надо поговорить.
— С удовольствием. Не видела тебя уже несколько недель. Вот только покормлю свою стаю.
Она вывалила консервы из банки и разложила в четыре мисочки. На каждой было краской написано имя: Рэгс, Лили, Гэбби, Роли. Мерси расставила их на полу в привычном порядке.
— Ты голоден, дорогуша?
Почему я назвала его дорогушей?
— Нет, спасибо.
Люк как будто нервничал: кинулся в другой конец комнаты, сбросил пиджак на стул, достал из кармана сигареты и зажигалку, сел, вскочил, снова сел.
— Тогда выпьешь?
— Да. Что-нибудь.
Мерси выскребла щеткой на длинной ручке остатки корма из банки, тщательно вымыла ее под струей воды, смяла, сунула внутрь отрезанную крышку и только после этого выбросила в голубой мусорный ящик у задней двери.
— Всегда мну консервные банки, — объяснила она. — Однажды котик засунул голову в такую вот банку и никак не мог вытащить. Он непременно бы погиб, если бы я не оказалась рядом.
Мерси вытерла руки.
— Пиво? Вино? Что?
— Пиво всегда хорошо.
— Бери сам. Оно в холодильнике. Я помню, ты не любишь стаканов. А потом выходи на веранду. Я на минутку, только открою вино.
Люк вытащил из холодильника две бутылки «Слимана» и пошел на веранду. «Слиман»… неужели она его пьет? Или…
Мерси откупорила бутылку довольно дешевого «Кьянти», нашла стакан, сигареты и две чистые пепельницы и все вместе поставила на маленький поднос.
Но прежде чем выйти к Люку, закрыла боковую дверь, открыла дверь с сеткой и зацепила ее за крючок для полотенец под фотографией улыбающегося Тома. Дорогой мой… Первое, что я вижу, когда возвращаюсь домой, и последнее — когда ухожу. Мерси поцеловала кончики пальцев и дотронулась до губ на фотографии. А потом заперла замок. Теперь кошки могли вбегать и выбегать через кошачью лазейку, однако непрошеный гость не сумел бы проникнуть в дом. Раньше Мерси не всегда запирала дверь, но приучила себя к этому после смерти Мэгги Миллер. А теперь еще…
Не надо думать об этом… Не надо…
Мерси вышла на веранду, сняла туфли, поставила поднос на стол и села в шезлонг.
— Длинный получился день, — она налила себе «Кьянти». — Тебе удобно?
— Конечно. Спасибо.
Люк сидел к ней в профиль и смотрел сквозь сетку на задний двор.
Мерси глотнула «Кьянти» и вздохнула.
— О милосерднейший бог вина, как бы тебя ни звали… — она подняла стакан к небесам.
— Бахус, — подсказал Люк.
— Ах да, Бахус. Где-то я это слышала. Наверное, в школе.
— Бог вина и пирушек.
— Просто вина — и на том спасибо. Для пирушек я, пожалуй, устала.
— И я тоже.
Мерси щелкнула зажигалкой. Люк уже курил.
— Тебя что-то тревожит, дружище?
— Да.
— Выкладывай.
— Беглец. Не показывался около трех недель. Ни слуху ни духу. А сегодня…
— Что?
— Когда я вернулся в половине седьмого с работы, обнаружил на автоответчике сообщение.
— От него?
— От Беглеца? Ни в коем случае. Он ни за что не станет пользоваться штучками вроде автоответчиков и мобильников. Он в них не верит. Это от кого-то, кто, как я понимаю, не знает номера моего сотового. Только домашний. Он есть в телефонном справочнике.
— Ну да… Конечно… И что же?
Несколько секунд Люк смотрел в пустоту, курил и пил пиво, затем подался вперед. Мерси наблюдала за ним. Из окон дома Саворских и из боковой двери струился свет. Агнешка, судя по всему, не выносила даже мысли о темноте. В их доме с закатом включались все лампы и не выключались до рассвета.
Лицо Люка было изможденным, старым, почти печальным. Зубы стиснуты. Волосы казались более седыми, чем были на самом деле.
Мерси ждала.
Незачем его торопить.
— Сообщение оставил кто-то незнакомый. Парень. Пожалуй, я представляю, кто он такой — торговец. Но если я его и встречал, то лишь мельком.
— Понятно.
— Ты ведь знаешь про Беглеца и про его пристрастие к наркотикам…
— Только то, что говорил мне ты.
— То бросит, то опять начнет. И каждый раз все дольше и тяжелее.
Мерси вспомнила о дочери, Мелани, вздохнула и проговорила:
— Да…
— Так вот, этот парень сказал: Я знаю, что ты брат Беглеца. Он сорвался с катушек. Может, тебе и все равно, но я его вчера видел. Конечно, не сказал где, только — если тебе интересно знать, он в городе. Тебе бы хорошо за ним присмотреть. Он в беде. Очень глубоко в дерьме. Извини, больше ничего сообщить не могу. Я запомнил каждое слово — прослушал то ли двенадцать, то ли пятнадцать раз.
— И что дальше?
— А ничего. Повесил трубку. Даже не назвался. Сказал: «глубоко в дерьме» — и всё.
Некоторое время Люк смотрел на бутылку и на сигарету в руке.
— Я боюсь, Мерси. Боюсь. — Он выглядел совершенно потрясенным. — То, что написали сегодня в газете… Что, если…
— Не говори так. Не надо. Даже не думай. Это не он.
— Ты не понимаешь. Ничего не понимаешь. Перед тем как исчезнуть, он целую неделю встречался с Ленор Арчер. Для Беглеца это рекорд. Обычно подружки у него и дня не держались, не говоря уж о неделе. Не умел давать им радость и сохранять в них эту радость. Как ни странно, он считал женщин своими врагами. Может, оттого что в начальной школе у него преподавали одни женщины. Он был упрямцем и не мог убедить их в том, что не дурак. Ведь в школе его считали тупоумным. Однако дураком он не был — просто боялся, что о нем плохо подумают, если он сделает что-нибудь не так, и отказывался отвечать. Маленький, грустный мальчуган — так говорил о нем отец. Коротышка, как я. Маленький и грустный. Мне он тоже запомнился грустным еще с того времени, когда я был совсем малышом, а он уже четырнадцати или пятнадцатилетним. Он всегда хотел заслужить одобрение людей, но не знал как. И, похоже, считал, что ему требовалось от людей разрешение на то, чтобы жить.
Мерси слушала и ничего не говорила.
На веранду вошел Рэгс, потерся о ногу Люка, уселся на пол и приступил к сложнейшему процессу умывания: мордочка, ушки, лапки, грудка — все пушистые места, которые отличали его персону от других котов. У каждой кошки все — и холка, и бакенбарды, и уши в своем роде уникальны, а все вместе создают образ именно этого животного. Давно наблюдая за кошками, Мерси пришла к выводу, что людям стоит у них поучиться, как себя преподносить. Кошка всегда грациозна, никогда не теряет достоинства. В кошке живет ощущение собственной личности, а человек либо успел его забыть, либо никогда не знал. Все, что у вас есть, — это вы сами. Вы сами — это то, что вам дано. Все, что вам дано, — это определенность вашей персоны.
Люк наконец откинулся назад, открыл вторую бутылку «Слимана» и глотнул пива.
— Почему тебе кажется, что ты знаешь этого человека — торговца или кто он там? — спросила Мерси.
— Голос. Надтреснутый, грубый, злой. Такие слышишь только в глухой тьме: Ща я тя уделаю, — голос полуночника.
— Интересно, — хмыкнула Мерси, — таких голосов никогда не бывает у женщин. Только у мужчин. Ни разу не слышала, чтобы женщина говорила подобным голосом, хотя женщина, если захочет, может нагнать на человека еще какой страх божий. Но ее голос не… как бы это сказать… не…
— Не убивает, — подсказал Люк. — Леденит душу, но убить не способен, — он грустно улыбнулся.
— Так ты считаешь, что встречался с этим человеком?
— Возможно. Совсем не исключено. Один из тех типов, что торчат по темным переулкам, причем только по пятницам и субботам, когда копы заняты большой наркоторговлей. Скорее всего, промышляет чем-нибудь. Не марихуаной — поднимай выше — героином.
— Уж тогда не поднимай, а падай, ниже некуда, — заметила Мерси.
— Пусть так, — согласился Люк. — Большая шишка… и с крышей.
— А это что значит?
— Ну, у него есть кто-то в полиции — сильная рука, короче.
— И оружие?
— Разумеется. Без этого нельзя. Но сам он его не носит. Чтобы не нарваться на ННО.
— Не поняла.
— Не хочет сесть за незаконное ношение оружия. Скорее всего, за ним приглядывают со стороны. И не исключено, что со стволами.
— Похоже на плохое кино.
— Есть немного… Хотя не все эти фильмы плохие. Помнишь «Криминальное чтиво»? Потрясающе — наркоманы, наркоторговцы…
— Да, да, — тихонько рассмеялась Мерси. — Обожаю Джона Траволту. Под настроение нравится Брюс Уиллис. И эта тоже ничего — как ее…
— Ума Турман.
— Ах да, — новый смешок. — Не знаешь, что это за имя?
— Может быть, немецкое или скандинавское. Она блондинка.
— Искусственная.
— Они все немного искусственные. Они же кинозвезды.
— И все же, — продолжала Мерси, — я хоть и восхищаюсь, как это сделано: прекрасные актеры, все правдоподобно, но, господи боже мой, совсем не перевариваю насилия. Неужели в жизни так поступают — убивают, словно перед ними не люди, а манекены из витрин?
— А как насчет Ленор Арчер?
Мерси опустила глаза в пустой стакан.
— Да, — прошептала она, — добрались и до нашего города.
В воздухе повисли непроизнесенные слова из «Бикон-геральд»: «В Стратфорде совершено второе убийство».
Мерси налила себе вина. Рэгс прыгнул и растянулся у нее на коленях. Она гладила его по спине, пока он не замурлыкал. Потом ее рука замерла.
— Что ты собираешься делать?
— Отыскать его.
— Ради бога, не надо, Люк. Пусть сам вернется. Ведь те, другие…
— Никуда не денутся. Не дадут же они деру только оттого, что я вышел на улицу.
Послышался крик совы.
— В этом году, должно быть, много сов, — заметил Люк. — У меня тоже живет. По ночам сидит на крыше. А по утрам я нахожу на газоне маленькие круглые бляшки — то, что она не могла переварить: перышки, мышиные хвосты, зубы, кости, коготки. И закапываю в клумбы.
— Зачем ты мне об этом рассказываешь?
— Потому что я занимаюсь этим. Хороню в землю то, чего не хочу видеть или о чем не хочу знать.
— Мне известно, сколько горестей было в твоей жизни. И я сочувствую тебе. Иногда не могу понять, как ты выдерживаешь все это — с Джессом, один. А мне кажется, что ты один все время. Но ты выстоял. Пересилил все. И ты жив. Я тобой восхищаюсь, Люк. У тебя должны учиться.
— Не говори так, Мерс. Не надо. Начать уж с того, что в этом отношении ты сама любого переплюнешь. Все потеряла. Все и всех. И Тома, и дочь… Но ведь тоже жива.
— Я должна жить.
— Вот именно. Должна. И я тоже должен. Бог знает, что случилось бы, не будь нас.
— Да.
— Не знаю, как ты к этому отнесешься, — проговорил Люк, не глядя на Мерси, — только можно мне сегодня переночевать здесь?.. Я хочу сказать, на диване или даже в шезлонге. Я просто не могу… не могу…
— Идти домой?
— Да. — Ответ прозвучал едва слышно.
— Я понимаю, это не страх, — мягко произнесла Мерси. — Но тогда что? Боишься, он придет, а ты не будешь знать, что делать?
— Отчасти да.
— А отчасти?
— Что он придет не один. И…
Мерси ждала. Ее пальцы покоились на спине старого кота. Все можно пережить, думала она. Все, но только не одиночество, если ты больше никому не нужен. И когда все надежды улетучились, когда больше не рассчитываешь на какую-то перемену к лучшему, единственный выход — кого-нибудь найти, какую-нибудь открытую дверь.
— Я боюсь, — наконец заговорил Люк, — что он придет и расскажет, что натворил. И я этого не вынесу.
— Конечно, ты можешь остаться, — ответила Мерси. — Диван занят кошками, и я закрываю дверь между домом и верандой. Поэтому ты можешь спать наверху со мной. — Она улыбнулась. — Не беспокойся — я не строю никаких планов. Для меня все это в прошлом.
2
Вторник, 23 июля 1998 г.
— А что мне еще остается думать? У нас была большая любовь. У нас ребенок. Мы вместе стремились в голубые дали — к голубым горизонтам, которые вдвоем воспевали. А теперь все кончено? Так? Всему конец? Точка?
— Почему ты решила, что все кончено?
— Ты не показывался не меньше недели. Целую неделю! Я ни о чем не спрашиваю. Какой смысл? Все равно ты солжешь.
Они говорили на кухне. Потные тела и запотевшие стаканы, потолочные вентиляторы и нарушенные обещания — и, можно сказать, разрушенные жизни. Все было налицо — в каждой черточке, в каждом сердцебиении. Взгляды не встречались, руки не соединялись. Даже стулья не желали приближаться к столу.
— Ты живешь в другом месте?
— Ты прекрасно знаешь, что я прихожу домой. Я почти всегда ночую здесь. Но ты так злишься…
— Я никогда не злюсь.
Стук пальцев по столу и передергивание плеч, которое немилосердно и безжалостно говорило: «Хорошо — никогда не злишься…»
— Значит, черт возьми, выходишь из себя, — произнес он вслух.
— Это называется «беспокойство», «тревога». Кто-то же должен испытывать эти чувства. А с твоей стороны я не ощущала ничего подобного.
Молчание. И затем:
— Ты слишком много куришь.
— Ты тоже. Но разве теперь это имеет значение?
Пауза.
— Ради бога, скажи же что-нибудь. Объясни. Можешь не говорить, кто она. Мне теперь все равно. Господи боже мой, я хочу только знать, что ты не валяешься где-нибудь в канаве.
— Почему я должен валяться в канаве?
— Ты что, не знаешь: в городе убивают. Изнасиловали и задушили женщину. Вторую за месяц. Не слышал, что говорят люди? Или так ушел в свою тайную жизнь, что видишь только одну… как ее там… а остальной мир пусть крутится сам по себе? Не читаешь газет и даже на заголовки не смотришь? Не включаешь ни телевизор, ни радио? Где ты, черт возьми? Где?
Гриффин выпил и только после этого ответил:
— Я здесь. Прямо перед тобой. Ты меня просто не видишь.
— He вижу — абсолютно с тобой согласна. Сейчас ты вполне способен играть Человека-невидимку без компьютерной анимации. К чему все это новомодное техническое дерьмо, когда есть ты? Свет! Камера! Мотор! Вперед! И ты звезда! Невидимая звезда — постоянно отсутствующая звезда.
В стаканы опять полилось сногсшибательное мартини.
Джейн посмотрела на часы.
Было за полночь.
— Что у нас теперь? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье?
— Не один черт?
— Мне — нет.
— Четверг, переходящий в пятницу.
— Да, да, четверг, переходящий в пятницу. Завтра тебе опять играть в гольф, как тогда, когда мне нужно было, чтобы ты пришел на генеральную репетицию «Ричарда». Значит, домой ты явился только затем, чтобы забрать свои клюшки, в том числе и ту, которую я, как дура, подарила тебе на день рождения? За этим, а не ради меня? Подонок! Впрочем, почему я продолжаю называть это место домом? Не понимаю! Просто перед игрой — перед тем как предстать во всем блеске перед вечерней публикой — ты решил отоспаться в удобной кровати.
— Отоспаться после чего?
— После двенадцатидневного блуда. Или что там у тебя было?
Никакого ответа.
— Ради всего святого, скажи, — попросила Джейн. И добавила: — Это… Зои?
— Нет.
Вот так — «нет», и все. Но что прикажете делать с этим «нет»?
— Тогда кто?
Опять никакого ответа.
— Сколько ни смотри в пол, не поможет. — Джейн даже улыбнулась его ребяческой неспособности признаться в чем-то. Гриффи, это ты вытащил из моего кошелька десять центов? Ты? Скажи мамочке.
При этих словах весь мир ребенка сужался до пола под ногами и возникал внезапный интерес к тому, что происходило за открытыми окнами и дверями.
— Неужели тебе нечего, абсолютно нечего сказать?
Красная, как колода карт, пачка «Дю Морье», не виденная раньше золотая зажигалка с инициалами, которую он поглаживал с незнакомой, почти чувственной нежностью, пока извлекал огонь и подносил к кончику сигареты с фильтром. Вздох, постукивание пальцами, край бокала прижат к губам, глоток, застенчивая, необычная улыбка и отведенный взгляд.
— Я получил роли, которые хотел. Бируна и Меркуцио.
Господи! Что на это сказать?
— Ну, что ж, поздравляю. Тебе повезло.
В Джейн шевельнулось… что?
Подозрительность, недоверие, замешательство.
Что он сделал? Как сумел заполучить их назад?
Она посмотрела на мужа.
Нашел все-таки способ? И поэтому так долго пропадал?
Но разве можно задавать такие вопросы?
Нет, нельзя.
— Я рада за тебя, — сказала она наконец. — Правда. Рада и горда. Ты их заслужил.
— Знаешь… я доволен.
Доволен… и все? После того как хватался в доме за все, чем можно убить себя, после того как разорвал мне сердце, рыдая на лестнице и мыкаясь из угла в угол по кухне? Просто доволен?
— Откуда ты узнал? Ведь еще ничего не объявляли.
— Мне сказали.
Сказали? Понятно.
— Кто?
Пожал плечами.
— В «Тщетных усилиях любви» твоей партнершей будет снова она?
— Господи, прекрати!
— Я только задала вопрос.
— Тогда вот тебе мой ответ — не знаю.
Джейн ждала. Пожалуйста, добавь, «мне все равно». Пожалуйста, скажи, что тебе все равно.
— И если уж на то пошло, мне абсолютно все равно.
Ну вот, хоть какие-то молитвы услышаны.
— Не представляешь, почему они передумали? По поводу тебя?
Он снова пожал плечами. Сделал еще глоток мартини. Сидел, явно настолько измотанный, что едва мог пошевелиться.
Джейн вздохнула и произнесла:
— Дорогой…
Гриффин поднял глаза.
— Я должна тебе кое-что сказать. Я встретила мужчину…
— Извини, не понял. — Он подался вперед и коротко хохотнул. — Ты встретила мужчину?
— Ну да. Он…
— Ты?
— Я. — Джейн поневоле улыбнулась. В его голове явно не укладывалось, что у нее может появиться какой-нибудь другой мужчина, и он ей не поверил. Забавно — и очень типично для неверных мужей, подумала она.
— Как его имя?
— Милош.
— Итальянец?
— Нет. Я думаю, поляк.
— Поляк! — фыркнул Грифф. — Вот это сподобилась. Принцесса и полячишка.
— Не говори так. Это недопустимо!
— Ну еще бы: наша мисс Красавица-Южанка до мозга костей своего белейшего тела лишена предрассудков.
Джейн посмотрела в темноту за окном.
— Когда ты с ним познакомилась?
— Это несущественно.
— Ну, конечно… тебе его, случайно, не на крыльце оставили? Какой-нибудь незнакомец? А подарочная обертка на нем была?
— Ты просто…
— Что я?
— Смешон. Стоило не твоим пальцам оказаться в пушку — и смотри, как изменилось твое отношение.
— Говорят: «рыльце в пушку», а не «пальцы»! Господи, какая же ты тупая!
Вот она — защита — нападения. Переложить свою вину на меня. Джейн собиралась его только подразнить. Сказать, что Милош согласился позировать ей. Но Гриффин сразу же сделал неправильный вывод, и это даже к лучшему. Пускай.
— Он сегодня явится, этот полячишка?
— Естественно, нет.
— Мне тоже, пожалуй, пора удалиться. — Он поднялся, отвесил преувеличенно глубокий поклон и направился к боковой двери.
— С собой ничего не беру, — тон его был невероятно ядовитым. — Слава богу, у меня есть друзья, у которых найдется все: чистые постели, бритвы, свежее, подходящее по размеру белье, зубные щетки, расчески, дезодоранты. Чистые кровати с чистыми простынями в чистых прохладных комнатах. Потолочные вентиляторы. И никаких женщин.
Гриффин отомкнул замок и распахнул дверь.
— А мне что делать? В конце концов, у нас ребенок. Если не забыл, его зовут Уилл. Тебя не волнует, что мы с ним будем делать?
— Честно говоря, нет.
Грифф долго ждал, чтобы это сказать.
Превосходный уход со сцены.
Вот только у Джейн и Уилла не было завтра, не было Тары, куда можно вернуться, и женой Гриффа была вовсе не Скарлетт О’Хара.
Джейн заперла за мужем дверь.
Я никогда не испытывала такого страха, думала она, и теперь не могу от него отделаться. Наверное, это следствие поражения. Нет, черт побери! Не поражения — потери!
Возвратившись на кухню, Джейн машинально подняла руку, намереваясь отвести с лица волосы.
Я же постриглась — неделю назад. Только неделю. А теперь…
Господи!..
В ту ночь Ленор Арчер была повсюду.
3
Суббота, 25 июля 1998 г.
Зазвонил телефон.
Мерси подняла трубку.
— Это миссис Кинкейд?
— Нет. Это Мерси Боумен. Миссис Кинкейд нет дома. Ей что-нибудь передать?
Несколько секунд звонивший не откликался. А затем сказал:
— Мерси?
— Да. Могу я чем-то вам помочь?
— Это я, Милош.
— Милош Саворский?
— Ваш сосед.
— Я знаю, кто такой Милош Саворский. Привет. Как поживаете? Все в порядке?
— Пока да. Я звоню по просьбе миссис Кинкейд.
— Что-нибудь по поводу телефонов? Какая-нибудь поломка?
— Нет. Она просто просила, чтобы я позвонил.
— А… ясно… — Мерси ждала объяснений, но ничего не последовало. — Так вы хотите оставить для нее сообщение?
— Нет. Не могли бы вы сказать, когда она точно будет дома?
Мерси покосилась на часы:
— Скорее всего, в половине шестого. В крайнем случае — в шесть. Она в театре. Мы собрались пойти куда-нибудь поужинать. В таких случаях она никогда не опаздывает.
— Передайте ей, что я звонил. И снова перезвоню. Ровно в шесть.
— Непременно. Звоните. В шесть она придет.
— Спасибо.
— Милош?
— Я слушаю.
— Как ваш сын?
— Не очень. С ним Агнешка. Она никогда его не оставляет… — Похоже, он хотел сказать, что жалеет об этом, но не посмел, возможно, потому, что рядом стояла и слушала жена.
— Надеюсь, Милош, она позволит вам что-то предпринять. Вы же понимаете, что так нельзя. Ваш сын в серьезной опасности.
— Я знаю.
— Всего хорошего, Милош. Я передам миссис Кинкейд, что вы позвоните в шесть.
— Спасибо. До свидания.
Бедняга, подумала Мерси, не выпуская из руки трубку. Попался в лапы ненормальной. Хватал бы ребенка и бежал от нее подальше.
Но он этого не сделает.
Нет, не сделает.
Если бы хватило духу, давно был бы далеко.
Мерси положила трубку на место и отправилась прибраться на террасу. Уилл закончил складывать большой пазл и приступил к новому — круглому и чисто белому. Ничего, кроме белого. И никакого намека на форму внутри формы — только круг.
Внешний круг было несложно заполнить — все элементы имели одинаковую дугу с одного краю, и Уилл справлялся без труда. Но средний представлял собой сплошную загадку. Однако Мерси не сомневалась, что мальчик решит и ее. Казалось, молчание и загадки — это все, что его интересовало: читать книги, решать головоломки и погружаться в колодцы безмолвия — волнующее и возбуждающее занятие. Уилл не разговаривал даже с Редьярдом — лишь чесал пса за ухом, будто и его побуждая только слушать. Их прогулки больше не искрились радостью и превратились в занудное времяпрепровождение: Уилл обычно либо шел впереди, либо плелся сзади — один.
Глядя на пазл, Мерси почему-то вспомнила о Люке.
Еще одна тайна?
Нет. Не совсем. И не головоломка.
По крайней мере, он — не головоломка. Головоломка — это то, что с нами случится. Наше будущее. Все частички перед глазами, но никакого представления, как они сложатся.
Мерси вздохнула. Она сама удивилась, насколько удобным ей показалось не знать, что произойдет с Люком. Она вновь занялась уборкой, тихонько напевая что-то себе под нос.
Джейн вернулась, когда Мерси взбивала подушки. На часах было пятнадцать минут шестого.
— Да здравствует дом и свобода, — пропела Джейн. — Отменный денек. «Ричард» получился что надо. Вся труппа пришла в восторг. Для остальных актеров это был последний шанс посмотреть постановку — на сегодняшней репетиции в костюмах. Видели бы вы их лица. Просто ошарашенные.
— По мне, звучит не слишком здорово, — отозвалась Мерси. — Ошарашенные — это когда случилась какая-то катастрофа.
— Нет, нет, — рассмеялась Джейн. — Я хотела сказать — взволнованные, все буквально лишились дара речи. Зрелище было и впрямь потрясающее. Кстати, мои окна прекрасно смотрелись, и о них потом много говорили. Так что я возгордилась.
Джейн швырнула рабочую сумку на кухонный стол и отправилась в столовую за своим любимым вином.
— Давайте отпразднуем!
Мерси передернулась.
Вино, вино и опять вино. Куда она катится?
Джейн принесла бутылку на кухню, но при этом уронила на пол штопор.
— Вы только посмотрите: я так переволновалась, что дрожу, как при землетрясении. Придется открывать вам. Только не тяните. Давайте. А то я сейчас взорвусь.
Джейн выложила из сумочки сигареты и спички и пододвинула к себе пепельницу.
— Готово. — Мерси наполнила бокалы.
— Не уносите бутылку, — попросила Джейн.
— Хорошо, но я надеюсь, что мы все же пойдем ужинать.
Мерси села. Они прикурили от одной спички, и Джейн подняла бокал:
— За «Ричарда Третьего» — полный триумф!
— За «Ричарда Третьего» — поздравляю!
Джейн выпила.
— О, этот восторг театра, восторг всего, что там происходит, — старая песня, но это правда. Бывают моменты — согласна, их не так много, — когда чувствуешь, что это магия. Чистая магия: все сходится воедино — аж мороз по коже. И если ты тоже в этом участвуешь… Я так горда, что сейчас расплачусь.
Джейн снова наполнила свой бокал и вздохнула.
— Сегодня я заснуть не смогу. Глаз не сомкну. Ну и пусть! — Она помрачнела и потянулась к пепельнице. — Грифф опять не пришел. Но почему? Это была последняя возможность посмотреть репетицию и… мои окна. А теперь увидит только фотографии. Черт бы его побрал.
— Вполне согласна, — отозвалась Мерси. — И сочувствую.
— Понятия не имею, где он. Ни малейшего понятия. С кем он и что у него на уме.
Тараторит так, будто куда-то безумно спешит, подумала Мерси.
— Понимаю, — нарочито спокойно проговорила она. — Не вспоминайте об этом. Наслаждайтесь своим успехом.
— Да! Да! Да! Наслаждаться успехом! Он так мимолетен! Но он… — Джейн не стала продолжать.
— Вам звонили, — проговорила после недолгой паузы Мерси.
— Мне? Кто?
— Я не знала, что вы с ним знакомы. Мой сосед — Милош Саворский.
— Ах да. — Джейн попыталась изобразить безразличие. — Телефонист, — и стала рыться в сумочке, словно хотела что-то найти. Мерси внимательно наблюдала за ней.
— Совершенно верно.
— Он мне что-нибудь передал?
— Только то, что перезвонит в шесть.
— В шесть?
— Да. А сейчас без пятнадцати.
— Без пятнадцати.
Они выпили.
— Как получилось, что вы с ним познакомились? — спросила Мерси. — С Милошем Саворским. Он мне об этом никогда не говорил. Да и вы тоже.
— Понятия не имела, что вы соседи. Он приходил чинить телефон, когда Люк перерубил лопатой кабель. Три или четыре недели назад — точно не помню.
— А… Значит, тогда.
Люк…
Мерси улыбнулась.
— Вас, кажется, не было, когда он приходил.
— Не было. Я гуляла с Уиллом и Редьярдом. А когда мы вернулись, вы сказали, что телефонист все исправил. Надо же, чтобы им оказался мой сосед. Я знала, что Милош работает в компании «Белл», но мне и в голову не приходило, что это он чинил ваш телефон. — Мерси рассмеялась. — Что ж, бывают вещи и поудивительнее. И с чего это он вам звонит? Вы не против, что я спрашиваю?
— Нисколько. Просто он меня заинтересовал. Я решила, что из него может выйти неплохой натурщик.
— Натурщик? — Мерси насторожилась.
Так вот откуда те рисунки.
— Ну да, будет мне позировать. Разве я вам не говорила? Теперь, когда нет старины Джей Ти, я решила заняться натурой в классе Эдны Мот, — солгала Джейн. — Я и еще человек пять-шесть. Она нашла женщину. А мужчину найти никак не может.
— Это в городе, где полно расфуфыренных актеров? — удивилась Мерси. — Странно.
— И тем не менее… — пожала плечами Джейн. — Расскажите мне о нем. Я знаю только его имя. Встретила как-то на улице, подумала: вот совершенное тело. И пригласила позировать.
— Так просто?
— Так просто. А почему бы и нет?
— Но вы ведь его не знаете. Почти. Я хочу сказать: вы же не подойдете к незнакомому мужчине в ресторане и не попросите его вам позировать?
— Попрошу, если он покажется мне подходящим.
— Гм… Господь всемогущий, а смелости вам не занимать. Обнаженным, я полагаю. Раздетым?
Все уже свершилось, подумала Мерси. Она мне пудрит мозги.
— У него прекрасное тело.
— Ну-ну…
— Расскажите мне о нем. Он мне показался каким-то загадочным, странным. Не пугающим — нет. Совсем напротив. Скорее безгрешным.
— Согласна. Он как ребенок. — Мерси немного подумала и продолжила: — Печальная история, должна вам сказать.
И поведала все, что знала: об Агнешке, о маленьком Антоне, о врачах, о религиозной войне между супругами и о том, что малыш, скорее всего, погибнет, если Милош не отыщет способа его спасти. О растущем отчаянии Милоша, о его боязни, что он может совершить нечто роковое, чтобы сохранить младенцу жизнь.
— Опасная ситуация, — заключила она. — Потенциально.
Джейн посмотрела в сторону.
Когда рассказ подошел к концу, она налила еще вина и наконец сказала:
— Как только он позвонит, поедем в «Паццо».
Я проголодалась. — Она опять солгала. Есть ей совсем не хотелось. Джейн нервничала: из-за Милоша и из-за отсутствия Гриффа. Она поймала себя на том, что хотела бы отправиться по всем ресторанам искать мужа и спрашивать: может, его кто-нибудь видел?
— Надеюсь, вы не против, что я поделилась с вами проблемами моего соседа, у вас ведь и своих хватает, — сказала Мерси.
— Вовсе нет. Мне полезно это знать. Возможно, мы сумеем чем-нибудь помочь.
— Хорошо бы помочь. Если удастся.
Телефон зазвонил в шесть ноль одну. Минута в минуту.
Сама точность, подумала Мерси.
Она подняла трубку.
— Да, Милош, миссис Кинкейд пришла, — и передала телефон Джейн.
Та прикрыла ладонью микрофон.
— Собирайте Уилла. Я быстро — несколько секунд.
— Хорошо. — Мерси направилась к лестнице, но не очень спешила и поэтому услышала, каким тоном заговорила с Милошем Джейн.
— Привет… Да… Спасибо…
Томным. Или каким? Что-то в нем было…
Но что?
Редьярд сидел на лестнице. Неужели и он бросил Уилла?
Мерси рассчитывала найти мальчика в гостиной, перед телевизором. Но там его не оказалось.
Она глянула на его пустую кровать.
Тогда где?
Может быть, в ванной?
Нет.
Где же, черт возьми?..
Из дома он выйти не мог — они бы заметили.
Хотя…
Мальчик наловчился прокрадываться. Ночные набеги на кухню. Видео не для малышей — магнитофон он включал в гостиной без звука.
Мерси направилась к передней двери, вышла на тротуар и посмотрела в обе стороны улицы.
Никаких признаков Уилла.
Она повернулась к дому и подняла глаза. Мальчик сидел на крыше.
Она уже пару раз заставала его там. Впервые — недель пять назад. Тогда она спросила, какого черта он там делает.
— Кормлю свою ворону, — ответил Уилл.
— Твою ворону?
— А кого же еще. Это моя новая зверушка. С ладони она пока не берет. Но вокруг трубы есть выступ. Я кладу на него сухой корм Редьярда. Ей очень нравится. Она прилетает, даже когда я здесь — только если сижу спокойно и не шевелюсь.
— Кормить ворону — это полный финиш, — заметила тогда Мерси.
Теперь Уилл сидел справа от трубы над западной частью дома. Мерси пошла по подъездной дорожке во двор.
Мальчик рассматривал расположившихся на дереве ворон.
Мерси пересчитала их — пять — и снова повернулась к нему.
— Ты не думаешь, что пора слезать? — Она старалась говорить как можно спокойнее.
— Зачем?
Он даже не посмотрел на нее.
— Мы собираемся в «Паццо» есть пиццу. Забыл?
— А мама уже пришла?
— Конечно. Полчаса назад.
Уилл ответил не сразу.
— Я не голоден, — наконец бросил он.
— Перестань. Это же твоя любимая еда.
— А папа дома?
— Сомневаюсь, — сказала Мерси.
— Я хочу видеть папу.
— Он сегодня играет.
— С кем?
В самую точку, подумала Мерси.
— Играет в театре. Где же еще?
— Не знаю. Может играть где угодно — куда ходил все последние дни.
— Он вернется.
— Обещаешь?
— Обещаю.
— Обманываешь.
Мерси не двигалась. Замерла.
Обманываю?
Да. Он прав. Я обманываю — я понятия не имею, вернется ли Грифф. Почему я сказала, что вернется?
Потому что он должен вернуться. Должен, господи боже мой…
— Слезай — ты нам нужен, мы по тебе соскучились: я, мама, Редьярд.
— Я учусь быть как папа. Уходить с глаз долой. Пропадать.
— Слезай. Ты замерзнешь до смерти, если останешься там на ночь.
— Не замерзну. У нас волна жары..
— Твоя ворона еще не прилетала кормиться?
— И не прилетит, пока ты тут стоишь.
Как его уговорить? Сумеет ли она? Подобное никогда раньше не случалось.
— Если ты не пойдешь с нами, то что собираешься есть?
— Не знаю. Мне все равно. Я не голоден. Может, собачий корм, — Уилл отвернулся.
Мерси следила за ним, но он на нее не смотрел.
— Грибы, — увещевала она, — кусочки бекона, лук…
Уилл потер ладонь о коленку.
— И никаких анчоусов. Чтобы запаха их и близко не было. Пусть остаются на кухне.
— Но кто-нибудь может заказать пиццу с анчоусами.
— Только не за нашим столом.
— Мама их любит.
— Нет.
— Ты любишь.
— Ты прекрасно знаешь, что не люблю.
Они помолчали.
Господи, только бы Джейн закончила разговор с Милошем. Не хватало, чтобы Уилл услышал.
— Ты меня поймаешь, если я прыгну?
— Шутишь? Ты весишь целую тонну.
— Я даже ста фунтов не вешу.
— Думаешь, я только и делаю, что целыми днями ловлю мешки с мукой?
— Я не мешок с мукой.
— Я решила, что ты обидишься, если я скажу «мешки с сахаром». — Мерси улыбнулась, но мальчик не ответил ей улыбкой.
— А что плохого, если сказать «мешки с песком»?
— Ну хорошо, я не привыкла целыми днями ловить мешки с песком. Пошли, дорогой. Пора собираться. Возьмем с собой Редьярда — сядем на улице. Мама уже заждалась.
— Она говорит по телефону со своим любовником.
Господи. А это откуда он взял?
— Что, разве не так?
— Уилл, у твоей мамы нет никакого любовника. — Будем надеяться.
— Я думал, может, она говорит с папой. Разве она не любит папу?
Ехидничает, значит.
Он улыбался — не широко, а только уголками губ.
— Не будь ты таким остряком, я бы тебя выпорола, — заметила Мерси.
— Ты никогда меня не порола.
— Все еще впереди. Не воображай, будто я не способна тебя выпороть. Я всегда готова. Все зависит от того, куда тебя поведет.
— На крышу.
— Очень остроумно. А теперь давай спускайся.
Он встал.
— Хорошо. Я прыгаю.
— Валяй. Я отвернусь. — Мерси так и сделала.
Уилл — ну, пожалуйста…
Несколько мгновений стояла тишина. Потом она услышала, как он карабкается по кровле.
Только не обдери колени!
Мерси поняла, что он добрался до окна своей спальни и нырнул в комнату.
Она ждала.
Пожалуй, об этом лучше не рассказывать. Иначе у Джейн случится инфаркт.
На газон выбежал Редьярд.
— Мы его возьмем? — спросил Уилл. — Ты же обещала.
Он стоял на веранде, потирая задницу.
— Непременно. Я заранее позвоню и попрошу, чтобы нам зарезервировали столик снаружи. А ты, мистер Хокинз[30], иди помой руки.
Уилл смотрел на нее — почти без улыбки.
Мерси шутливо погрозила ему пальцем:
— Ну, беги, мы все тебя ждем.
Уилл подошел к двери с сеткой и оглянулся на Мерси через плечо:
— Когда я сказал, что прыгну, ты повернулась ко мне спиной.
— И что?
— А если бы я в самом деле прыгнул?
— Я бы тебя поймала. Или постаралась перехватить. Если действительно собираются прыгнуть, говорят более уверенно.
— Я правда собирался. С минуту.
— Пару секунд. He больше. — Мерси широко улыбнулась. — Смывай смолу. А я пока пойду позвоню. Два против одного — я справлюсь быстрее: ты еще и руки намылить не успеешь.
Уилл скрылся в доме. Мерси подняла глаза. Самая старая из ворон — главная из всех — снялась с дерева и села на трубу — клевать корм.
Мерси покачала головой. Господи, благослови все сущее на свете и сделай так, чтобы Уилл ни на что не обращал внимания.
Входя на веранду, она услышала голос Джейн:
— Куда, черт побери, вы все подевались?
— Нас только двое, — ответил мальчик. — Мы с Мерси, еще Редьярд.
— Это уже трое, — сказала Джейн, и Мерси поняла, что она улыбнулась. Имея дело с Уиллом, приходилось постоянно проявлять чудеса догадливости, чтобы просчитывать все на шаг вперед.
— Иди сюда, Редди. Давай наденем твой поводок.
Мерси вошла в дом, и пес последовал за ней.
О крыше упомянуто не было. Мерси набрала номер «Паццо» и попросила зарезервировать столик на улице.
— Но мы просим, чтобы пиццу принесли снизу, — добавила она. — Это очень важно.
4
Суббота, 26 июля 1998 г.
— Хочешь еще?
— Конечно.
Джонатан и Грифф сидели в гостиной номера в «Пайнвуде». Гриффин отыграл в утреннике «Много шума…», а потом они поели в ресторане «Пайнвуда». Опять «Шатобриан». Это превратилось в традицию.
Джонатан налил по второму бокалу «Гранд Марнье», подал один Гриффину и открыл окна на заднюю поляну, теннисный корт и плавательный бассейн.
— Я всегда любил запах леса под вечер, — сказал он. — Переход природы от вдоха к выдоху. Деревья, цветы, трава — все источает свой собственный аромат. Это как дыхание — человеческое дыхание. За исключением одного: природа никогда не пахнет чесноком, — он улыбнулся и сел.
Гриффин уже снял пиджак, расстегнул рубашку и расположился в кресле, перекинув одну ногу через ручку.
— Не надо так разваливаться, — заметил Джонатан. — Это слишком вызывающе.
Грифф оставил ногу там, где она была.
— Я много думал о «Тщетных усилиях любви», — продолжал режиссер, одновременно отточенно закуривая сигарету. Именно отточенно — ибо Грифф уже много раз наблюдал, как он касается сигареты пальцами, держит ее, управляет ею, словно инструментом, реквизитом. Все было под контролем — курение как манипуляция последовательностью жестов, которые рассказывали о своем, в то время как слова Джонатана вели совсем иное повествование. Все это были знаки — отражение, эхо того, что Джонатан пальцами, руками и губами делал Гриффу и с Гриффом в постели.
Его губы, язык и даже зубы были исключительно соблазнительны.
И он это знал.
А пальцы, с длинными, прямоугольными ногтями и чувственными подушечками знали толк в соблазне. С помощью сигареты Джонатан мог изобразить все, что угодно и, создавая завесу дыма и перекатывая комочки пепла по краям пепельницы, способен был буквально заворожить восприимчивого зрителя, который распознавал в его жестах всевозможные проявления секса. Он уже делал с Гриффом такое, чего тот не мог бы даже вообразить. И все это без генитального проникновения. Он признавал множество других форм проникновения, но только не генитальное. Здесь он проводил черту сам и не позволял переступать ее партнеру. Мы не трахаемся.
Причиной тому был СПИД, и Гриффин впервые в жизни испытал благодарность к этому недугу. Страх Джонатана избавлял Гриффа от необходимости нарушить запрет, который он, в свою очередь, установил сам себе. Чтобы защитить себя от нарушения этого запрета, он способен был пойти на убийство. И это, с точки зрения Гриффа, вносило в их отношения удивительный аспект. Если бы Джонатан попытался его трахнуть или даже выразил желание это сделать, Гриффин избил бы Джонатана. Но ничего подобного не происходило.
И поэтому они сидели здесь вдвоем.
— Расскажи мне о «Тщетных усилиях», — попросил Грифф.
— Начать с того, что я перемещаю пьесу во времени — и в пространстве.
О Господи, только без футуризма…
— Действие происходит не в королевском парке Наварры, а в Англии, в Кембридже. Когда? Летом тысяча девятьсот четырнадцатого года.
Грифф молчал. Картина уже вставала у него перед глазами.
— Все эти красивые молодые люди в рубашках, блейзерах, канотье и облегающих белых брюках, дружески-невинно держащиеся за руки, и доктринеры, Холофернис и Натаниэль, в черных мантиях, и французская принцесса, и ее дамы в эдвардианских нарядах для приемов в саду, прячущиеся под зонтиками…
— Очаровательно, — сказал Грифф. — Просто очаровательно. Продолжай.
— И военные мундиры…
— Мундиры?
— Да, мундиры. Сначала, возможно, на доне Армандо — этом фантастическом испанце, потом на втором, третьем, четвертом, пятом — на дюжине. Постоянное, но ненавязчивое увеличение числа молодых людей в мундирах. Европа — лето 1914…
Гриффин потягивал «Гранд Марнье» и слушал. Он словно плыл вниз по течению к Грантчестеру по реке Кем, а вокруг луга. Идиллия.
— Идиллия, — произнес он вслух.
— Так и задумано. Каждый, кто когда-либо писал об этом лете, называл его прекрасным: солнце, тепло, цветение и все такое… Но вот набегают облака — идет дождь. За кулисами ждут своего часа важные события. И по мере того как разворачивается шаловливая игра спектакля, небеса темнеют, множатся люди в мундирах, все явственнее военные цвета и ура-патриотическая музыка, пока — в сцене, которую я еще не продумал — не появляется Меркад и не сообщает, что умер король Франции. И мы понимаем: его убили, как эрцгерцога в Сараево. Расставаясь, молодые люди и девушки дают обещания вечной верности и преданности и уславливаются встретиться через год, но мы каким-то образом — каким я пока не знаю — понимаем, что грядет первое августа четырнадцатого. И, естественно, с этого момента все юноши обречены, а будущее женщин разбито.
— Прекрасно, Джонатан. Но почему это должно кончиться столь трагически? Для всех?
— Для всех. Потому что, дорогой, в этом смысл комедии. И историй о юности тоже. Ничто прекрасное не длится вечно.
Юные?
Молодые?
Мы.
Конец.
— Значит, ты хочешь… не знаю, как это правильно выразить… но ты хочешь убить нас всех: меня, Найджела, остальных. Убрать нас всех. Хочешь сказать: раз вы не мои, я вас всех убью. Только ты не убиваешь. Конечно, не убиваешь. Во всяком случае, не при помощи оружия.
— Грифф…
— Извини.
— Не стоит. Я все понимаю.
— Ненавижу менторов.
— Я не ментор.
— Знаю.
— Не уходи от меня.
— Не собираюсь. «Не уходи»? Да я не смог бы ни уковылять, ни уползти.
Они рассмеялись.
— Откинься на спину.
— Хорошо.
— Вот так. Одну ногу сюда…
— Да… вот эту.
— Да, эту… А теперь…
— О!
Господи боже мой…
Грифф лег на спину…
Лучший способ секса. Когда тобой овладевают. Когда ты во власти другого. Когда ты настолько желанен, что…
Хватит… Ни о чем не думать.
— Не возражаешь, если я тебя раздену? — спросил Джонатан.
— Нисколько. Нет, нет, нет.
Все это уже случалось.
Джонатан встал на колени между ног Гриффина.
— Дорогой, тебе надо кое-где побрить. Хочешь, я этим займусь. Или оставь так. Я и только я буду любить все как есть.
5
Понедельник, 27 июля 1998 г.
Грифф вернулся в дом на Камбриа-стрит в свой выходной.
Его никто не ждал. Он обошелся без предупреждений. Ни сообщений на автоответчике, ни звонков. Ничего. Просто в половине одиннадцатого по подъездной аллее подкатил «лексус».
Джейн дома не было. Она отправилась забрать кое-что из чистки и навестить Клэр Хайленд. Мерси готовила на кухне салат из креветок. Телевизор в гостиной бубнил о беженцах из Косово, Монике Левински и Линде Трипп, а Мерси мурлыкала под нос мелодию «Встань перед своим любимым», которая всегда вызывала у нее усмешку — с тех пор, как Мерси услышала эту песню в исполнении Мори Хендерсона в «Марате» на «Вечере кабаре». Он был в парике «Моника», голубом платье и, переиначив текст, пел: «Встань на колени перед любимым». А в конце приподнял юбку и показал свой гульфик.
Боже! Неужели это было так давно? Хотя года еще не прошло, но уж точно не вчера.
Уилл был на террасе — занимался круглым пазлом — и уже сложил треть его сверхсложной середины.
Услышав, как на подъездную аллею въехал «лексус», спящий у ног мальчика Редьярд заворчал.
— Тихо… — велел ему Уилл. — Это папа. — Он узнал машину по звуку ее супердвижка.
Когда Грифф вошел через заднюю дверь, Мерси постаралась не выказать удивления. Ничего странного — вполне обычная вещь: блудный муж и отец является домой и говорит: «Привет… вот решил заглянуть…» Все нормально.
Но Гриффин сказал совершенно иное:
— О… вы здесь… а я рассчитывал, что в доме никого нет.
Мерси покосилась на него и продолжила чистить креветки.
— Тем не менее заходите. Мы не кусаемся.
Уилл сгорбился над пазлом. Редьярд зевнул и поднялся.
— Не надо, — шепнул ему мальчик.
Пес сел.
Грифф вошел в кухню. Мерси больше не смотрела на него. Она включила холодную воду и мыла креветки в дуршлаге под струей.
— Вы что как чужой? — спросила она.
— Ну, ну, — Гриффин подошел сзади и чмокнул ее в шею.
— Прекратите это, — огрызнулась Мерси, не на шутку разозлившись.
Грифф сделал несколько шагов в сторону.
— Я только хочу взять кое-какие вещички.
— Ага… А мы-то думали-гадали: может, вы обзавелись новым гардеробом, начиная с исподнего? Где, черт побери, вы пропадали? Хотя и так ясно.
— Двадцать центов, что не догадаетесь.
— Двадцать центов — нормальная вам цена, учитывая, что вы вытворяете. Здесь, между прочим, живет ребенок, который бог знает сколько времени не видел отца, а отец ни гугу, где он обретается.
— Правильно. Это должно оставаться секретом.
— Я так и поняла. Сколько она вам платит?
— А вот это зря, Мерс. Все совершенно не так.
— Не так? А мне кажется, именно так. Бросил все и удрал с актрисочкой! Или это вы ей платите?
Уилл заткнул уши.
— Довольно! — отрезал Гриффин. — Если у нас не получается нормальной беседы, я иду забирать вещи, — и направился к двери в коридор.
— Браво, — бросила ему в спину Мерси. — Заслужил пирожок. Нормальную беседу ему подавай. С кем? Со мной? А ведь я даже не долбаная жена тебе…
— Что за выражения!
— Второй пирожок! Думаете, Уилл сто раз не слышал такого? Значит, вы оглохли и не разбираете своих собственных слов.
— Может, я так и говорю, но вам не следует.
— Совершенно верно — я не произношу ничего подобного, пока нет рядом вас. Пока не вспомню словцо «Гриффин» или еще того хуже — «Гриффин Кинкейд». Вся эта мерзость — ваша: крутится, как облако нечисти, у вас вокруг головы — вж-ж, вж-ж, вж-ж…
Грифф переступил порог.
— Даже не спросите, как они? — возмутилась Мерси и вышла из закутка у раковины на середину кухни. — Не поинтересуетесь, живы или нет!
Гриффин повернулся, стараясь усмирить ее взглядом.
— А мы по вас скучали, сукин вы сын, — ее глаза затуманились слезами. — Забыли, что здесь вас ждут? Что здесь ваш дом?
Грифф ступил на лестницу и начал подниматься на второй этаж.
Мерси вернулась к раковине. Вывалила креветки в чистое чайное полотенце, сложила его краями и на одном краю обнаружила рисунок: Гриффин в костюме Фердинанда из «Бури», и перед ним на коленях Зои.
На коленях перед любимым.
Ну еще бы…
К Мерси подошел Уилл:
— Где он?
— Наверху.
— Он уезжает?
Мерси сгорбилась:
— Когда наконец до тебя дойдет? Он уже ушел от нас.
Мальчик повернулся и направился к коридору. Редьярд побежал за ним.
Мерси посмотрела вслед Уиллу и махнула рукой:
— Мне очень жаль.
Но мальчика уже не было в кухне.
Грифф положил на кровать чемодан и складывал в него белье, носки и носовые платки. Рядом ждали очереди рубашки поло, брюки и пара пиджаков на плечиках.
На пороге появился Уилл:
— Ты куда?
— Ухожу.
— Но куда?
— Не беспокойся. Со мной все в порядке.
— Ты даже не хочешь повидаться с мамой?
— Не теперь. — Грифф продолжал сворачивать вещи и набивать чемодан.
— А мама хочет тебя видеть.
— Мы с ней поругались.
Уилл прошел на середину комнаты. Вся одежда отца была выстирана — рубашки, белье, все… Он никогда не стирал сам. И Уилл тоже. Наверное, мужчинам не положено заниматься стиркой.
— А мы с тобой поругались? — спросил мальчик.
— Конечно, нет.
— Тогда почему ты уходишь? Ты нас больше не любишь?
Гриффин закрыл чемодан и щелкнул замками. Мгновение он молча смотрел на чемодан, потом произнес:
— Так иногда случается, Уилл… в семье, между друзьями, даже между теми, кто любит друг друга. Случается, и все.
Грифф сел на кровать.
— Иди сюда, — позвал он сына.
Уилл подошел.
Редьярд ждал на пороге.
— Нам надо отдохнуть, — продолжал Грифф. — Вроде как тебе на каникулах. Надо тебе… мне… маме. Отдохнуть друг от друга и побыть одним.
— Почему?
— Черт возьми, перестань спрашивать «почему?». Я не могу тебе ответить. Я не знаю никаких «потому что». Нам надо побыть одним — вот и все.
— Но ты не один. Ты с кем-то еще.
Гриффин закрыл глаза.
Это была сцена прощания. За свою жизнь он их насмотрелся вдоволь и знал, что следовало говорить. Расставание отца и сына, расстроенный сын не может получить ответа от отца… все то же вечное дерьмо, проклятый ублюдок бросает семью.
Ради бога, скажи же что-нибудь… Даже если это не твои слова, а дрянной текст из дрянного кинофильма или пьесы…
Скажи что-нибудь…
Он опустился на колени и заглянул Уиллу в глаза. Улыбнулся.
— Наступит день, — сказал он, — и ты поймешь. Возможно, когда самому придется уйти от тех, кого любишь. Но сейчас не сомневайся — я вернусь. Я тебя люблю, Уилл. Потребуется время — не знаю сколько. И мама тоже не знает. Но я вернусь, обещаю.
Гриффин обнял сына, прижал к себе, но тот не ответил на его объятие.
Грифф встал.
Погладил сына по голове.
Уилл отпрянул:
— Не надо.
Гриффин взял чемодан и пиджаки на плечиках и направился к двери.
Редьярд посторонился.
На пороге Грифф обернулся:
— Я тебя люблю. Правда.
— Нет, неправда, — отозвался сын.
Гриффин спустился по лестнице, на ходу бросил «до свидания» Мерси и, не придержав двери, вышел к «лексусу».
На кухне Уилл и Мерси слышали, как открылся, а затем закрылся багажник и хлопнула дверца.
Только один Редьярд видел, как отъезжала машина.
Мальчик схватил со стола креветку и съел.
— Хорошо, что мамы здесь не было.
— Да, — ответила Мерси. — Она на заднем дворе — увидела машину и оставила свою на улице. Беги к ней. Вот — отнеси ей стакан вина и скажи, что обед будет готов через полчаса.
Мальчик взял стакан и уже собрался идти на веранду.
— Уилл, — позвала его Мерси.
Он обернулся.
— Не задавай ей вопросов. Дай возможность с этим справиться. Может быть, когда-нибудь потом. А пока… ни слова.
— Хорошо, мэм.
Мерси улыбнулась:
— Знаешь что? Ты ведь не называл меня «мэм» с трех лет.
— Вырвалось, — пожал он плечами.
— Я понимаю. Но все равно спасибо.
— Угу, мэм.
— Ну давай, будь молодцом.
Уилл ушел.
Редьярд заскулил было у двери, потом вздохнул и лег перед порогом.
Мерси оперлась о стол руками, нависла над креветками, пару раз моргнула и выпрямилась.
— Н-да… — проговорила она. — Как-нибудь обойдемся. Полагаю, больше ничего не поделаешь.
Когда Уилл принес Джейн стакан вина, она сказала:
— Спасибо.
Мальчик уже собрался уходить.
— Почему ты не отвечаешь «пожалуйста»? — спросила она.
— Мерси велела, чтобы я ничего не говорил.
— Понятно… Но все равно спасибо.
Уилл вернулся в дом и вновь занялся пазлом.
Джейн глотнула вина, закурила девятнадцатую на сегодня сигарету и откинулась на подушку.
Она слышала все, что Грифф сказал Мерси, и все, что Мерси ответила Гриффу, — и одобрила ее слова. Все до единого.
Потом она слышала, как хлопнула дверь, завелся мотор, «лексус» уехал.
Ушел.
Свершилось.
Кончено.
Ну и ладно…
Все это было слишком знакомо. Слишком напоминало ее собственное бегство из Плантейшна. Когда же это было? В тысяча девятьсот восемьдесят каком-то… Какая разница? Убежала, и все.
Собрала чемоданы в полночь — знала, что уедет в час тридцать на заказанном заранее такси. Последний поезд из Плантейшна в Новый Орлеан. Забронированный номер в гостинице. На следующее утро — самолет в Нью-Йорк и потом Нью-Йорк — Торонто. Все обеспечено местным транспортным агентом. Как можно дальше на север…
Последняя трапеза: Джейн — на своем твердо установленном месте сбоку, Мейбел — в дальнем конце, во главе стола. Джошуа подает креветки по-креольски с рисом, зеленый салат, земляничное печенье и взбитые сливки — всегда с коричневым, а не с белым сахаром. Вино. Кофе. Любимое Мейбел «Коинтро». Апельсиновое.
— Мама?
— Да, дорогая.
— Я собираюсь уехать.
— Уехать откуда?
— Из Плантейшна. Из Клауд-Хилл. От тебя.
— Ора Ли, радость моя. Невозможно просто так взять и уехать. Из дома, от семьи. Так не делают. Клауд-Хилл — это история, история семьи Терри. А ты наследница всего, что нам дорого. Последняя из своего поколения, кто унаследует славу прошлого. Ты не можешь уехать. Если тебя не будет, у Мейбел никого не останется. Никого. Ни единой души. Все мои предки умерли и похоронены. Твоя сестра Ретта, и Гарри, и Луций уехали. Ора Ли, у меня ничего не останется. Ничего — и это после всех усилий, которые я приложила, чтобы дать вам жизнь. О нет, ты не уедешь.
В этот момент Джейн отложила вилку. Ей почудилось, будто креветки смотрят на нее с тарелки и говорят: «Видишь, что с нами произошло? Мы погибли!»
— Мама, я художник, — проговорила она, умоляя небо ниспослать ей нужные слова. — Мне здесь нечего делать. Мне надо ехать туда, где я смогу работать.
— Думаешь, я не знаю, что ты взяла билет в Нью-Йорк, где окажешься одной из десяти тысяч людей с одинаковыми целями и устремлениями? Думаешь, я этого не знаю?
Джейн решила не упоминать Торонто.
— И что ты там собираешься делать? Голодать?
— У меня есть доход, который оставил мне папа. Со мной все будет хорошо.
Над ней склонился Джошуа:
— Вы закончили, мисс Ора Ли?
Джейн едва дотронулась до еды.
— Да, спасибо, Джош. У меня просто нет аппетита… передай Лорелей, все было превосходно.
— Хорошо, мэм. — Джошуа забрал ее тарелку и отправился к дальнему концу стола.
— Вы, миссис Терри?
Ее тарелка была безукоризненно чистой.
— Спасибо.
Джейн переждала, пока Джошуа не скрылся в кухне:
— Лорелей готовит отменные креветки.
— Это ее работа, — веско отозвалась Мейбел. — Единственная причина, почему я ее наняла. Не люблю креолов, но она знает свое дело. Это все, что имеет значение на кухне.
Она мяла в руках салфетку: складывала, разворачивала и опять складывала.
— Почему ты хочешь меня бросить? — голос прозвучал осуждающе. — Искусство, желание стать художником — это не ответ. Почему ты бежишь от себя самой?
Джейн положила руки на стол и медлила.
— Потому что, — наконец ответила она, — я никогда не была той Орой Ли, о которой ты говоришь, никогда не была Терри — душой и телом. И никогда не буду.
Мейбел откинулась на стуле и закрыла глаза.
— Не могу и не хочу в это поверить. Ты Терри до мозга костей.
— Ничего подобного, мама. Я — это я. И только.
— Ты — это ты, и только?
Женщины умолкли.
— Мне следовало бы обладать властью прокурора. Как бы я хотела иметь такую власть, — заговорила Мейбел.
— Зачем, мама? Какой от этого толк?
— Я могла бы запретить тебе.
— Что? Уехать?
— Потеряться. Сбиться с пути.
— Я иду своим путем, мама. Тем, что выбрала сама. У меня есть единственная вещь, которой у тебя никогда не было, — выбор. И теперь я намерена им воспользоваться. Я хочу жить своей жизнью, а не твоей. Завтра я уезжаю.
Потрясенное лицо Мейбел — отражение ее собственного — стояло перед ней сейчас. Не уходило из памяти.
Неужели именно так поступил Гриффин? Как я тогда?
Я хочу жить своей жизнью, а не твоей. Он тоже так говорит?
Но что это может значить — в случае Гриффа?
Джейн выпила еще вина.
Ну вот. Что ж…
Мы так стремимся в дикую голубую даль…
Да.
И вот она, эта даль. Прямо над головой.
К двери подошла Мерси:
— Как насчет того, чтобы воссоединиться с родом человеческим?
— С удовольствием, — откликнулась Джейн. — Каким бы он ни был.
Мерси рассмеялась:
— Один его представитель стоит прямо здесь. А другой — на кухне: мальчик по имени Уилл. Уж он-то, по-моему, настоящий человек.
Да. А послезавтра еще и Милош.
Еще один представитель рода человеческого. Только не вполне настоящий, подумала Джейн, вспомнив его ангельскую внешность.
Добыча
Все в жизни по плану: солгав, ты покаяться сразу спешишь И нервный подъем ощущаешь, добычу в силке увидав. У. Х. Оден «Детективная история»1
Среда, 5 августа 1998 г.
Они договорились встретиться у реки.
Подъезжая на «субару», Джейн заметила, что Милош поставил фургон компании «Белл» на площадке Театра Тома Паттерсона.
Тоже не хочет все это афишировать… Конечно, да и не может, как и я…
— Привет.
— Привет.
На нем были те же самые выцветшие почти до белизны джинсы — разодранные на обеих коленках и на одном бедре.
— Как жизнь?
— Нормально. А у вас?
— Замечательно.
Он забрался на сиденье рядом с ней.
Джейн почувствовала запах мыла, с которым Милош принимал ванну или душ. Запах шампуня, которым мыл волосы. Запах порошка, в котором стирали его рубашку. Дыхание — смесь корицы и сигарет. И запах от рук, видимо, недавно державших тост.
Джейн тронулась с места и свернула на юг по Эри-стрит.
— Куда мы едем? — спросил Милош, опуская стекло.
— За город.
— В деревню?
— Почти.
— Нас никто не увидит?
— Нет. Это уединенное место. Заброшенная ферма.
— О!
Джейн покосилась на него.
— Вы как будто нервничаете?
— Просто не хочется, чтобы узнала жена.
— Не узнает.
Город остался позади, и взгляду предстал сельский пейзаж: пастбища, на которых пасся скот, поля с зерновыми в человеческий рост, живописные луга, где проводили второй за лето покос. Тракторы, косилки и даже мужчины с вилами, грузившие сено на конные повозки.
— Здесь очень много людей, — заметил Милош.
— Поверь, там, куда мы едем, никого нет, — улыбнулась Джейн. — Расскажи мне о себе.
— Я поляк.
— Об этом я догадалась.
Милош посмотрел на нее с подозрением, словно засомневавшись, не сделал ли ошибки, сказав ей о своей национальности.
— По имени, — снова улыбнулась Джейн. — Такое имя вряд ли могло бы принадлежать итальянцу.
— Да уж… — Он тоже наконец ухмыльнулся. — Имя чисто польское.
— У тебя есть дети?
— Сын.
— И у меня тоже.
— Понятно.
— Сколько ему… твоему сыну?
— Около шести недель.
— А моему — семь. Лет.
— О!
— Да, да. Я старше.
— Заведете еще?
— Хотела бы. Но не знаю. А ты?
— Думаю, что нет.
— Нет? А почему?
— Мой мальчик нездоров. Жена не… Судя по всему, он не поправится. Жена очень несчастна. Наверное, она больше не захочет иметь детей. Я беспокоюсь. Может, мне не следовало это говорить. Мы еще плохо друг друга знаем. Но он болеет. И я беспокоюсь.
— Сочувствую.
Некоторое время они ехали молча.
— Что говорят врачи? — наконец спросила Джейн.
Милош отвернулся.
— Трудная ситуация, — ответил он.
— Понятно.
— Моя жена не любит врачей — медицину — больницы. Она очень расстроена.
Джейн вспомнила, что рассказывала ей Мерси. — А разве ты не можешь сам отвезти его в больницу?
— Нет.
Они проехали еще одно поле, где убирали урожай.
И следующие десять минут ни один из них не произнес ни слова. Пока Джейн не нарушила молчание:
— Здесь мы повернем.
От шоссе отходила боковая дорога, но въезд на нее почти совершенно скрывали деревья и кустарники. На углу среди самбука и боярышника сохранились развалины известняковой стены.
Господи, подумала она, мы говорим о наших детях. Как я могу?
То ли три, то ли четыре года назад — точно она не помнила — Джейн начала заниматься в классе пожилого местного художника Джей Ти Уатерби, которого сейчас уже не было в живых. И вместе с другими учениками выезжала с ним на пленэр. Один случай ей запомнился особенно: требовалось нарисовать какое-нибудь старое, заброшенное здание, которое сначала предстояло найти, — дом, амбар, сарай, пусть даже туалет во дворе.
У них было три машины: два фургона и «субару». Все ученики так или иначе работали художниками — в торговле, в архитектуре, журнальными оформителями, дизайнерами или, как Джейн, декораторами. Джей Ти был превосходным педагогом, и заниматься у него, особенно если человек уже являлся профессионалом, считалось большой привилегией.
— На этот раз я собираюсь вывезти вас за город, — заявил он, пока они перед отправлением в путь подкреплялись вином и сэндвичами. — Не хочу демонстрировать вам старые муниципальные дома и общественные здания. Намереваюсь присмотреться к текстуре развалин.
Текстура развалин. Это словосочетание Джейн с тех пор не забывала.
— А когда дело дойдет до людей, когда мы обратимся к живым существам, я попрошу вас сосредоточиться на том же. Не на красоте юности, а на красоте старости. Нашим моделям будет за шестьдесят пять. Я нашел мужчину и женщину — супругов, — которые называют себя «натуристами». Иными словами, нудистов. Им восемьдесят четыре и восемьдесят пять.
Джейн вспоминала о них с теплотой. Они позировали сидя, держась за руки.
— Но сегодня наш объект — красота видавшего виды дерева и кирпича, красота известняка покосившихся амбаров и разваливающихся домов. Брошенных комнат и гниющих балок. Я не собираюсь вам указывать, что рисовать. Вы прекрасно знаете: я никогда так не поступаю. Пусть предмет сам привлечет ваше внимание — и никаких объяснений, никаких словесных интерпретаций. Только вы, ваше зрение, перья и карандаши.
Они приехали туда, куда Джейн везла теперь Милоша — к заброшенному дому, пустому амбару, заросшим дорожкам и запущенному саду.
Когда-то за этим местом заботливо ухаживали пять или шесть поколений одного семейства. Но вот последние умерли, и за тридцать лет здесь не сохранилось ничего от былой жизни. Окна выбиты, двери слетели с петель, по комнатам разгуливает ветер. Оба крыльца завалились, печные трубы раскрошились, обои выцвели, привидения разбежались, осталась только память о криках и шепоте, голосах в коридорах и смехе на лестнице. Даже мыши как будто ушли. Словно когда-то давным-давно всех срочно эвакуировали.
В амбаре и сарае забытая, гниющая утварь, остатки конских волос, коровий и свиной навоз, лестницы сломаны, все в паутине, окна от времени заросли толстым слоем грязи, упряжь и недоуздки разбросаны беззаботными шаловливыми детьми, которые забегали сюда поглазеть, как жили «тогда», «раньше», «сто лет назад».
Джейн проехала по дорожке и дальше во двор, где росли клены и рушились заборы.
И почувствовала, как со всех сторон ее обступают призраки — мужчины, женщины, дети, собаки, кошки, лошади, коровы: все хотели посмотреть, кто посмел потревожить их развалины…
Джей Ти называл этот амбар собором среди дикой природы. Джейн была с ним согласна. Вся территория — и дом, и сарай, и амбар — казалось, обладала некоей святостью.
Она заехала с задней стороны дома, где располагалась прачечная и ручной насос. Помещение успело лишиться двери, кожаные части насоса сгнили, но на ввинченном в стену крюке до сих пор висел металлический ковшик.
Они вылезли из машины, и Джейн открыла багажник.
— Я захватила для тебя одеяло и халат на случай, если замерзнешь.
— Это вряд ли, — заметил Милош. — Сегодня так жарко, что я вспотел в одной рубашке, хотя и открыл в машине окно.
Он улыбнулся.
Это хорошо, подумала Джейн. Я и хотела, чтобы он вспотел. В таком случае…
Она не забыла захватить немного масла для загара, зная, что на модель наносят такое масло, если человек позирует обнаженным перед художником и особенно перед фотографом. Тогда свет лучше обрисовывает линии тела.
Она подала Милошу одеяло и халат и, порывшись в сумочке, извлекла фотоаппарат.
— Фотоаппарат? — встревожился он.
— Да. Я собираюсь тебя снимать.
— И делать отпечатки?
— Да.
— И кто их увидит?
— Только я. И ты.
— Не знаю… Если жена…
Джейн рассмеялась:
— Милош, перестань… Ты что, подозреваешь, что я пошлю снимки твоей жене? Зачем мне это надо?
— А если кто-то другой…
— Никто. Даю тебе слово. Фотографии предназначены только для меня, чтобы я могла тебя нарисовать. Так тебе будет даже легче — не придется долго позировать без движения. — Джейн ждала; на секунду ей показалось, что он откажется.
— Так их никто не увидит?
— Никто, кроме меня. Я даже сама все проявлю и напечатаю. — Она солгала: в их доме не было лаборатории. Но пока ей не хотелось об этом думать. Главное — сделать снимки.
Милош, отвернувшись, колебался, затем пожал плечами и сказал:
— Ну, если вы обещаете…
— Обещаю.
Он улыбнулся, подошел и пожал ей руку.
— Хорошо, давайте.
Джейн чувствовала, как он нервничал, но сама волновалась не меньше, если не больше его.
Я — профессионал. Он не должен догадаться, что в этом есть что-то, помимо профессионального занятия. Нельзя проявлять признаков желания — меня ничего не интересует, кроме его контуров и проекций.
Джейн пыталась думать о формах, но думала только о теле.
Фотография ню. Старо как мир. Обнаженные мужчины и женщины — господи! — тысячи, десятки тысяч во всех газетных киосках страны. Повсюду!
— Тогда приступим. Нельзя упустить подходящий свет.
— Нельзя. — Милош посмотрел на небо. Было без пятнадцати четыре. — Где? — спросил он.
— Я думаю, в амбаре.
Брошенное здание выглядело точно так же, как в прошлый раз, — только обшивка еще больше ободралась.
Отовсюду сквозь дыры проникали наполненные пляшущими пылинками полосы света — одни резкие, словно прожектора, другие более театральные, будто ими управляли.
За стойлами у лестницы находились люки, через которые некогда подавалось сено и солома. Копны тридцати- или сорокалетней давности то ли от времени, то ли по чьей-то воле оказались сваленными на пол и теперь лежали немым напоминанием о другой эпохе — о других судьбах, другом труде и заботах.
Обтесанные липовые опоры покоились в зацементированных основаниях, но цемент выветрился, и стал виден песок и щебень. Грубо срубленные горизонтальные балки все еще держались на своих местах, хотя обшивка стен отсутствовала. Все в этом амбаре было ручной работы: брусья скреплены деревянными колышками, обшивка — там, где она сохранилась, — прибита самодельными гвоздями с квадратными головками.
Милош, похоже, подавленный размерами пустого пространства, в котором они оказались, начал машинально расстегивать пуговицы на рубашке.
Теперь Джейн точно знала, чего хотела. Надо было только найти место, где ему сесть.
Две-три копны соломы и одеяло на них — именно то, что требовалось.
Она поставила сумку на пол и стала стаскивать в нужное место солому; в итоге две копны пошли на сиденье и три — чтобы облокачиваться. Эти три она положила друг на друга.
Все продумывалось заранее — на прошлой неделе, когда она прикидывала, чего должна добиться.
Милош сидел на расшатанных ступеньках ведущей на чердак лестницы и снимал ботинки и носки. Рубашка уже висела на колышке, ремень и верхняя пуговица брюк расстегнуты.
— Здесь очень тепло, — заметил он.
Отлично, подумала Джейн. Чем теплее, тем лучше.
Она открыла футляр камеры.
«Кэнон».
На объективе значились цифры: 70/200, 2,8.
Они ей ничего не говорили. Джейн только знала, что нужен именно такой фотоаппарат. Эту модель ей одолжила подруга, которая занималась портретной съемкой.
«Поскольку ты очень мало понимаешь в объективах, профессиональная камера тебе ни к чему, — объяснила она. — А эта как раз подойдет».
С чего начать?
И как?
По крайней мере, у нее есть рудиментарные знания основ фотографирования.
Ты рассуждаешь, будто цитируешь учебник, сказала она себе. А это не упражнение из учебника.
Что же это в таком случае?
Упражнение в страсти. Признай, что с удовольствием отшвырнула бы фотокамеру и встала перед ним на колени.
Милош снимал джинсы.
Под ними оказались боксерские трусы, чего Джейн никак не ожидала. Грифф таких никогда не носил, и она считала, что все молодые люди обтягиваются «Келвином Кляйном», как однажды выразилась Клэр, пролистав номер журнала «Ванити Фэр», который якобы посвящен мужской наготе. Никогда не разденутся до конца, ворчала Клэр. Не то, что женщины. Всегда одно и то же. Даже в девяностых им — все, а нам — ничего.
— Куда мне сесть? — услышала она вопрос Милоша.
Оторвавшись от фотоаппарата, Джейн заметила, что он все еще мнется у лестницы и боксерские трусы по-прежнему на нем.
— На одеяло.
Он направился туда.
— И, Милош…
Он оглянулся через плечо:
— Что?
— Белье надо тоже снять.
— Да, да, конечно.
Он отвернулся, и Джейн заметила, что его спина вспотела. И бока тоже — на них из-под мышек катились струйки пота.
Милош аккуратно свернул трусы и положил рядом с джинсами. А затем возвратился к импровизированному креслу из соломы. Этого момента Джейн боялась больше всего. Вот сейчас он повернется, взглянет на нее — и ей придется ответить взглядом.
Спокойно. Это всего лишь один мужчина из многих. Очередная модель. Тело, и больше ничего.
Но некоторые тела настолько возносятся над красотой… и ты чувствуешь… Что? Необходимо вернуть их обратно на землю…
Милош заметил ее взгляд — рука, нервно дрогнув, потянулась к гениталиям. Однако он пересилил себя и положил ладонь на бедро.
— Так? Нормально?
Джейн сделала шаг вперед.
— Давай на одеяло. — Господи, прекрати говорить так по-деловому.
Ты похожа на кастрированного, злобного старшего сержанта. Расслабься!
Дай мне возможность! Дай мне возможность — всего одно мгновение! Он такой…
Милош забрался на солому.
— Мне лечь?
— Нет, — на мгновение ей пришлось отвести глаза. Посмотреть сначала направо, потом налево; на свою ладонь, на запястье, на локоть.
К ступне Милоша пристали соломинки. Джейн тянуло их снять, но она не смела его коснуться.
— Можешь сесть спиной к балке? Прислонись спиной к соломе. Если плечам станет колко, поправим одеяло.
Теперь она находилась в ярде от его свесившихся ног.
Милош откинулся назад.
— Да, колется, — признался он.
Джейн отложила фотоаппарат и тоже полезла на солому.
— Ну-ка, привстань.
Милош повиновался.
Она ухватилась за край одеяла и потянула вверх.
Но когда присела на корточки и повернулась, обнаружила перед собой его лобок. Волосы блестели от пота. Капля скатилась с торса и попала ей на щеку.
— Извини, — тихо проговорил Милош и вытер ее кончиками пальцев.
— Не извиняйся. Я тоже вспотела.
— Да, да, очень жарко.
— Ужасно.
Милош сел.
Казалось, он сразу понял, как ему позировать для фотографии: одно колено слегка приподнято, руки у бедер, пальцы тянутся к коже, а один уже коснулся.
Джейн схватила фотоаппарат.
Она дрожала.
Предстояло сделать сорок кадров — по десять на каждой из четырех пленок.
Она заранее так решила: если будет больше, он не усидит. Джейн знала по прежним занятиям, как утомительно для моделей долго находиться без движения — они теряют сосредоточенность и словно впадают в спячку.
Кадр 1. Линия размыта, как она того и хотела, — не начинается, а истекает.
Кто-то — вроде бы Джей Ти Уатерби — говорил: Никогда не начинай линию на листе — начинай за пределами, а на листе продолжай движение, как танцоры, когда появляются на освещенной сцене. Тебе случалось уловить момент начала их движения? Никогда! Они просто уже здесь. Здесь, и все.
Так…
Пусть линия формируется сама.
Пусть линия формируется сама.
Пусть линия…
Джейн посмотрела в видоискатель.
Одна линия.
От правого виска к левому бедру.
Шея оказалась длиннее, чем она предполагала, — от уха до ключицы.
Не отворачивайся — веди линию.
Камера нырнула вниз.
Именно так, как она хотела.
Черно-белая линия.
Правая рука, выбеленная пыльным лучом, скрылась в водопаде света, и нервные тени, будто не желая попадаться на глаза, отступили.
Ключица — изгиб груди — сосок.
Очень даже пригодный для сосания.
Не смей!
Делай снимки!
Ее рука стала затекать.
Не шевелись!
Как странно.
Даже превосходно сложенные мужчины не без изъяна.
Джейн вспомнила, как наблюдала за Гриффом — он, сидя, надевал носки и помедлил, прежде чем подняться. Складка, демаркационная линия, граница располагалась над пупочной впадиной — пупком — и к этой черте постоянно стремились, словно жаждали ее коснуться, лобковые волосы, всегда указуя в центр — в другую линию, на груди. Маленькие стрелки, образующие единую, направленную вверх стрелу.
Рисовать фотоаппаратом…
Вот так.
Я рисую фотоаппаратом.
— Не двигайся. Сиди спокойно.
Ее поразил собственный голос.
— Хорошо, — ответил Милош.
От живота к бедру. Озерцо пота. Волосы.
Две линии: одна ныряет вниз, другая взлетает вверх.
Влага.
Волосы. Волосы поблескивают. Если бы время в этот момент застыло, она бы задержалась и пересчитала их. Но время бежало вперед. Волосы, казалось, тянулись к ней — вверх — к камере — и вниз, в бездну паха.
И вот он — этот самый пенис…
Но почему вдруг этот самый, а не его пенис?
Перестань задавать идиотские вопросы — снимай! Carpe diem — лови момент.
Щелчок.
Первый.
Кадр 19. Хотя амбар был мертв — или представлялся таковым, — в нем еще сохранилась жизнь. Ни коров, ни овец, ни лошадей, ни кур, ни свиней, но остались ласточки. Стрижи. Крылья. Метания. Крики.
Гнезда прилеплены к поперечным балкам: прутики и обмазка — грязь, слюна и солома.
Милош поднял глаза на влетающих и вылетающих птиц.
Джейн попросила его податься вперед, чтобы тело казалось тоньше, не таким приплюснутым. Более гибким.
Волосы на руках и ногах искрились на солнце. Его движение, когда он приноравливался к новой позе, вызвало небольшую пыльную бурю, всполошившую птиц, которые занимались выведением второго поколения потомства. Деловитые, они чинили гнезда и непрерывно стрекотали, как играющие в маджонг китайские мандарины.
Милош улыбнулся.
— Любишь птиц? — спросил он.
— О да. А ты?
— Люблю. Сними их, пожалуйста.
На этой пленке у Джейн оставалось всего четыре кадра.
— Очень прошу, — добавил он.
— Хорошо.
Она два раза щелкнула птиц, а потом, едва сознавая, что делает, подошла к Милошу, коснулась ладонью его бедра и тут же сфотографировала мягкий пенис, который, словно ласточка на яйцах, покоился в своем волосяном гнездышке.
— Птицы, — проговорила Джейн.
Милош опустил на нее глаза. Улыбнулся.
— Да, — ответил он. — Птицы.
Пленка кончалась, и Джейн попросила Милоша встать.
Он уже позировал сидя почти два часа, хотя за это время успел отлучиться за амбар помочиться.
Именно так, Джейн. Он отлил. Облегчился. Пописал. Отметился на земле — написал свое имя.
Когда он вернулся, она последовала его примеру.
Разница в том, что я не могу написать свое имя.
Джейн?
Д-Ж-Е-Й-Н? Ты не можешь написать пять букв?
Господи — ты уж совсем! Брысь обратно в свою нору.
Просто шутка. По-моему, шутка — это как раз то, что тебе сейчас нужно.
Спасибо. Обойдусь.
Вот забрало так забрало. Охота пуще неволи. Ну как, что надо фразочка? Приперло так, что без этого никак?
Прекрати.
Я только подумала…
Не смей.
Извини.
(Неприятная пауза.)
Так ты напрудила лужу? Это и есть твоя подпись?
Меня зовут «Лужа».
Отстань.
Не могу. От тебя — ни на шаг.
Он теперь стоял над ней. Весь.
— Повернись.
— Пожалуйста.
— Наклони голову — прислонись левым виском к балке.
Милош послушался.
— И плечом тоже… да, да, именно так… Джейн больше не могла говорить.
Он был совершенно, абсолютно прекрасен. Что же мне теперь делать?
Господи, что же мне делать?
Снимай!
Джейн отступила назад.
— Вот так…
Его тело дрогнуло.
— Положи правую руку на… задницу…
— Сюда?
— Именно.
Запястье коснулось тела, ладонь раскрылась, большой палец смотрел в сторону.
Одна длинная линия, Джейн, одна линия. Длинная линия от шеи к губам вверх и вниз к внутренней стороне правого бедра.
И вдоль изгиба руки — к ладони. Во всех местах соприкосновения пот; волосы текут вниз по икрам; под ногтями рук чернота, метки труда — земля — как безмолвный возглас, как мягкое напоминание, что он тоже плоть от ее плоти. Оставалось два кадра.
— Посмотри на меня.
Милош поднял голову.
Затвор щелкнул.
Джейн положила фотоаппарат.
— Все.
Они пожали друг другу руки.
Джейн отвернулась.
— Нет, — возразил Милош, коснулся ее плеча и повторил: — Нет.
Она взглянула на него: одно колено на соломе, другое приподнято — весь перед ней.
Он потянулся за фотоаппаратом.
— Нет, не все, — сказал он и поднял камеру, — остался еще один кадр.
Кадр 40. Джейн.
Беглец
Извечный червь сомненья не дает покоя: Судья на нервах, справедлив ли приговор? Улики, показания и ропот — нестройный висельников хор… А нам смешно… такой все это вздор… У. Х. Оден «Детективная история»1
Пятница, 7 августа 1998 г.
Всегда знаешь, что в доме кто-то есть. Не потому, что не заперта дверь, открыто окно или со второго этажа долетел какой-то звук. Просто знаешь, что ты не один, — и все.
Люк это ощутил, как только вошел в дом на Маккензи-стрит, оставив свой фургон на подъездной дорожке. Странно. Вообще-то он собирался поехать с работы прямиком к Мерси, но передумал, решив сначала принять душ, переодеться и выпить пива.
Единственной «ненормальностью» было то, что потух фонарь над боковой дверью — либо перегорел, либо его кто-то выключил. Люк зажег старую настольную лампу у двери на кухню и попытался вспомнить, когда менял в фонаре лампочку. То ли месяц назад, то ли два — он был не уверен.
В задумчивости подошел к холодильнику и достал «Слиман».
Почему бы не щелкнуть выключателем и не выяснить, в чем тут дело? Но он сам прекрасно знал ответ на собственный вопрос. Если свет выключили, значит, в доме есть кто-то, кроме него. А Люк еще не был готов к тому, чтобы принять это. Рад был прикинуться, будто ни о чем не догадывается. Может, пронесет.
Отчего мы всегда пытаемся разыграть безразличие, когда чувствуем, что за нами наблюдают из темноты?
Люк достал из кармана сигареты и зажигалку, бросил джинсовую куртку на спинку стула и сел там, где никто не мог бы оказаться у него за спиной.
Иногда, вернувшись домой, он включал радио. Но не сегодня — сегодня он хотел улавливать любой необычный звук.
Почему воры никогда не пукают?
Потому что они не едят бобов.
Четвертый класс, Ленни Грэгсон — кавычки открываются, кавычки закрываются.
Люк невольно улыбнулся.
Жаль, что у меня нет собаки.
Нет. Больше никогда в жизни не заведу. Это решение было принято после того, как Дэнни попал прямо перед домом под колеса грузовика. Ни за что.
Никогда.
Люк отхлебнул из бутылки и закурил.
А что, если кому-нибудь позвонить… Например Мерси.
Он посмотрел на телефонный аппарат в другом конце комнаты. И тот, казалось, ответил ему нетерпеливым взглядом: «воспользуйся мной — мне наскучило безделье».
Нет. Плохая мысль. Нечего еще кого-то впутывать в это.
Телефон поник и недовольно надулся.
Люк стал прикидывать, что сейчас делает Мерси.
И бессознательно посмотрел на часы: без восемнадцати восемь.
Наверное, стоит у плиты и готовит ужин для Джейн и Уилла, если они не собрались в «Паццо». Стоит у плиты, режет лук или укладывает последнюю деталь в пазле Уилла: он дарит ей это право, как мужчина — любимой женщине бриллиант, если, конечно, у мужчины имеется бриллиант.
Что-то упало на пол — в доме, а может, в воображении.
Зажги больше света. Веди себя естественно. Никогда не позволяй врагу заметить твой страх.
А вдруг это дядя Джесс…
По-твоему, он не враг?
Люк встал. Еще две лампочки на кухне. В заднем коридоре.
На лестнице.
Он принялся мурлыкать себе под нос:
Путь далекий до Типперери… Путь далекий домой…«Типперери» было старинным семейным прозвищем сортира.
По дороге он завернул в комнату, которой пользовался как кабинетом. Зажег медную лампу под зеленым абажуром и, не открывая, запер дверцу шкафа.
Если кто-то засел внутри, потребуется топор, что бы оттуда выбраться. Но там такая теснотища: ложкой не замахнешься — не то что топором…
В столовой никого. Только двенадцать пустующих стульев и гниющие яблоки на блюде.
В гостиной тоже.
И на лестнице.
Люк подергал ручку — передняя дверь заперта.
Теперь на верхнюю площадку. Выключатель коридора второго этажа.
Пусто.
Люк заглянул во все спальни и в каждой зажег свет.
Всего-то и оставалось: маленькая ванная с туалетом и некогда родительская, а теперь его большая ванная и спальня.
Люк осмотрел бельевую кладовую — ничего, кроме белья. Почти разочарование.
Напряжение давило на спину, плечи, колени.
Он потянулся рукой к выключателю на стене своей спальни.
Но свет не вспыхнул.
По-прежнему царила темнота.
Кто-то его ждал.
— Я вывернул лампочки, — раздался голос. — Я вижу тебя, но не хочу, чтобы ты на меня смотрел.
— Почему?
— Не слишком приятное зрелище.
— Ты ранен?
— Вроде того.
— «Вроде того» — не причина, чтобы мне на тебя не смотреть.
— Ну… может, больше, чем «вроде того»… Не хочу, чтобы ты меня видел, и все. Меня пометили.
— Господи! Ты хочешь сказать, тебя порезали?
— Да. Лицо. Так у них принято.
— Тебе больно?
— А разве нам всем не больно?
— Перестань хорохориться — скажи правду.
— Конечно, больно, мудак! Ты что, думаешь, когда режут, не больно?
— Вызвать врача?
— Только попробуй — и ты покойник! Мертвец!
Люк понимал, что так оно и будет: Джесс никогда не грозил зря, и в его заднем кармане всегда лежал нож с выкидным лезвием.
— Послушай, позволь мне тебе помочь. Как-нибудь. Не дури. Разреши хоть что-нибудь сделать.
— Нет, малыш. Я уже промыл порез. Просто не хочу, чтобы ты меня видел.
— Они знают, где ты?
— Наверное. — Джесс помолчал и добавил: — Извини, я не хотел втягивать тебя в неприятности, но мне больше некуда было идти.
Старая песня. Все та же старая песня: больше некуда идти…
— Там на комоде ночник. Можешь ввернуть ту лампу.
Люк подошел к комоду и ввернул лампочку в патрон.
Джесс полусидел-полулежал на кровати, привалившись спиной к подушкам; одеяло сбито. Он подтянул к ягодицам ноги в нелепых детских кроссовках, одной рукой прижимал к лицу полотенце, а в другой держал полупустой стакан с лучшим в доме виски.
В слабом свете единственной лампы Люк не видел порезов на его лице — да еще мешала рука Джесса с полотенцем. Но он разглядел, что оба глаза у дяди подбиты.
— Прикури-ка мне сигарету, малыш, — попросил тот.
— Да, сэр. — Люк невольно улыбнулся. — Ты говоришь, прямо как отец.
— А что в этом удивительного? Я его брат. Мы оба унаследовали этот голос. Так что давай прикуривай.
Люк повиновался и подошел к кровати.
— Не смотри!
— Кончай валять дурака! Куда мне ее совать? В пустоту?
Джесс поставил стакан с виски на прикроватный столик и взял сигарету. Но так и не отвел от лица полотенце.
— Где бутылка?
— Вот здесь, на полу.
Джесс показал.
— Там что-нибудь осталось?
— Конечно. Я пью всего лишь вторую порцию.
Люк обошел кровать, взял бутылку и отправился с ней в ванную, вынул зубные щетки из стакана и налил в него виски. Стаканом для воды воспользовался Джесс.
Только тут Люк заметил окровавленное полотенце за унитазом и пятна крови по бокам раковины: Джесс, видно, хватался за нее руками, когда промывал себе раны.
Интересно, как она темнеет, пролитая кровь. И ни с чем ее не спутаешь. Должно быть, древний инстинкт самосохранения: берегись — здесь льется кровь.
Он вернулся в спальню и со стаканом в руке сел на стул у окна. Закурил, посмотрел во двор.
— Что я должен делать?
— Ты не должен никому говорить, что я здесь.
— Не скажу.
— И не должен вызывать никаких врачей.
— Не буду.
— И, естественно, ни слова полиции.
— Ты просишь очень много молчания.
— И считаю молчание знаком согласия. Ты уже обещал никому не говорить. А это значит — не сообщать и полиции. Ясно?
— Да.
— Вот и хорошо. Учти, я не шучу.
— Знаю.
— Заикнешься — и ты покойник.
— Разумеется. Покойник.
— Я слышал, ты обзавелся женщиной.
— Да?
— Да. Один тип в городе сказал. Мол, у Люка теперь есть подружка.
— Для подружек я немного староват, Джесс. Мне почти пятьдесят. А она еще старше.
— Шутишь? Почти пятьдесят? А я бы дал тебе сорок, не больше.
— Пятьдесят, пятьдесят… так-то.
— Как ее зовут?
— Мерилин Монро.
— Ну, конечно…
— Не скажу. Она просила меня молчать. Как и ты.
— Вот и ладно. И как она — хорошо трахается?
— А ты?
— Хо-хо! Ничего себе, племянничек! Огрызается!
— Короче, Джесс, тебя мои дела не касаются. Давай обсудим твои. Что с тобой происходит?
Будто не знаешь, будто не догадываешься…
— Просто лежу здесь и думаю.
— Неужели? О чем?
— О том, как в старину мы приходили сюда и заваливались на эту кровать. Как по воскресеньям врывались и устраивали кучу-малу. Мама и папа — Марбет и Проповедник — были в чем мать родила, а мы орали и наваливались на них — вдесятером, да еще две собаки и кошки. А потом пели.
— Пели?
— Да, пели. «Велосипед на двоих», что-нибудь вроде этого. «Луна восходит над горой» или «Надень свою старую серую шляпку». А заканчивали всегда «Типперери», потому что, вопя и прыгая, так возбуждались, что кому-нибудь непременно требовалось бежать в сортир отлить. Господи, какие хорошие были времена! Господи, какие хорошие! Господи!
Джесс расплакался.
— Хорошие времена. Чудесные времена. Веселые времена. Постоянно возились… постоянно смеялись… постоянно пели. С мамой и папой.
Люк смотрел, как он вытирал полотенцем глаза.
— Я сделал кое-что плохое, — продолжал Джесс. — По-настоящему плохое. Самое плохое, на что способен человек.
— Знаю.
— Откуда? Я же тебе не дозвонился.
— Не дозвонился?
— Я тебе звонил. В дом Кинкейдов. Несколько недель назад. Сразу после… после того раза, как мы с тобой виделись.
— Да, ты прав. Ты мне не дозвонился.
— Что-то приключилось с чертовым телефоном. Не было соединения.
— A-а… Тогда.
— Да, тогда.
— И чего ты хотел?
— Если бы я знал. Помощи.
— Какой?
— Господи, откуда я знаю? Помощи, и все! Но так и не дозвонился.
— И…
— И… Люк, я так устал — очень устал. И боюсь. Я не знаю этого человека — себя. Не знаю того, кто кажется мной, но я его никогда не встречал — только в самых кошмарных снах. И вот… я… я его боюсь — он меня пугает. Страх такой, что пробирает до самого нутра. Господи, я так не хочу быть этим человеком. Я — это не он. Нет! Я его не знаю. Кто, черт возьми, он такой? Кто мной владеет? Откуда взялся? Как получился… получился из того счастливого ребенка? Откуда объявился? Господи, я никого не хочу убивать! Не хочу! Почему я это делаю? Почему? Господи! Господи, помоги! Кто-нибудь, помогите!
Люк поднялся — сгорбленный, сигарета прилипла к губам, ноги тяжелые, будто налились цементом, — подобрал с пола бутылку виски: надо ему что-нибудь дать. Что-нибудь — хотя бы это. Подошел к кровати, снова наполнил стакан Джесса и коснулся гранью бутылки его лба. Пусть ощутит прохладу. Пусть ощутит хоть какую-то связь: холодное стекло в данном случае — как рука — как палец — нечто почти очеловеченное.
Вернувшись к своему стулу, он подлил виски и себе.
И стал смотреть на дядю. Тот скрючился на кровати — глаза убийцы, что они видели? Руки убийцы, что они натворили? И сердце так и не повзрослевшего ребенка, неспособное к сопереживанию. Джесс всегда сочувствовал только себе: своим неудачам. И не понимал, что другие тоже умели чувствовать. Только он грустил, и только он веселился. Никто другой никогда не плакал.
Похоже на строчку из песни.
А почему бы и нет? Разве песня не может сказать правды?
— Джесс!
Никакого ответа. Лишь взгляд переместился с кончика сигареты на виски в стакане.
— Беглец!
— Что?
— Нечего злиться, гуляка. Валяешься на моей кровати, твоя кровь на моем полотенце и на моей подушке; твои паршивые ботинки извозили в собачьем дерьме мои простыни. Так что нечего на меня катить, Джесс.
Люк знал, что дядя воспримет его слова как должное. Это была его, Джесса, манера устанавливать по собственной воле границы вокруг своей жизни: «Отвали — или подходи, и я тебя уделаю». И никаких других законов: «Либо будет по-моему, либо иди к черту».
— Ну, так чего тебе? — проговорил Джесс и затушил сигарету.
Люка передернуло — дядя вместо пепельницы использовал прикроватный столик.
— Что ты собираешься делать дальше?
— Не понял, что значит «дальше»?
— Перестань, Джесс. Ты в бегах. Скрываешься от полиции. А от кого еще?
— От них.
— Понимаю, что от них. Но кто такие эти «они»?
— Сам знаешь.
— Знаю только потому, что они звонили. И, похоже, голоса мне знакомы. Но я не уверен. Так что скажи: они отсюда? Из Стратфорда? Китченера? Лондона? Или Виндзор-Детройта?
— Из Виндзор-Детройта.
Господи!
Серьезнее некуда. Виндзор-Детройт пользовался самой дурной славой. Там умирали. Там убивали людей. Ворота нелегальной иммиграции, проституции и, главное, наркотиков.
— У них пистолеты? Про ножи я знаю. А как насчет пистолетов?
— Они им не нужны. Дело в том, что они ими не пользуются. Кроме пистолетов и ножей, существуют другие способы: удавка из проволоки или веревки и пластиковые пакеты на голову. У них в запасе много чего есть.
— Джесс, это ты убил тех женщин?
Дядя закурил новую сигарету…
— Джесс, это ты убил тех женщин?
…посмотрел на окровавленное полотенце в своей руке и отбросил его в сторону.
— Джесс, скажи. Ради бога, скажи только «да» или «нет». Скажи мне.
— Не знаю.
— Брось, Джесс. Господи! Ты либо сделал это — либо нет.
— Я не знаю. Богом клянусь, не знаю. Помню только, что был с Ленор Арчер. Но потом вырубился. Она ответила «нет», и я ее ударил. — Он щурился, как человек, который пытается что-то разглядеть в темноте. — Да, я был там. Она сказала «нет», я ее ударил, а очнулся уже у реки. А потом услышал — люди говорят, что Ленор мертва. Мертва. Убита. Укокошена. Каким-то типом, который ее изнасиловал. Но она ответила «нет», Люк. Сказала «нет». Я ее ударил. Может быть, сильно. А остального не помню. Только ощущение, что, наверное, это я. То есть, раз она умерла. Значит, наверное, это я.
Люк ждал. Затем произнес почти шепотом:
— А другие?
— Может быть. Хотя не знаю. Когда ты в ауте, то ты в ауте. Это хуже, чем нажраться, потому что словно проваливаешься в бездну — будто умер, а потом воскрес, а что в середине — неизвестно. Нет никакой середины. Есть начало, есть конец, а между ними — пусто.
Люк выглянул в окно. Сумерки кончались. Скоро наступит темнота.
— Я говорю тебе правду, Люки. Говорю тебе чистую правду. Все, что знаю. Честно. Это все, что я знаю.
Ради бога, перестань называть меня Люки. Я больше не ребенок — и ты тоже. Черт побери, хватит разыгрывать беззащитного крошку!
Слезы ярости наполнили Люку глаза. Но тут же высохли.
Он посмотрел на Джесса. Тот выпрямился на кровати и пытался закурить очередную сигарету, не показывая своих порезов.
Да дядя и был ребенком. Ребенком с ущербным сознанием: все его удовольствия заключались в самих удовольствиях — на самом простейшем уровне — поесть, выпить, поспать, ширнуться и, если повезет, как следует потрахаться. Его ничто не касалось, и он не научился думать о других: когда к нему приближались, застенчиво ретировался — с улыбкой, со смешком, хихикая, — даже, куда уж хуже, бежал, отстранялся от собственной матери: Не надо, не трогай меня! Не поднимался выше желания элементарного. Никогда бы пальцем не пошевелил ради другого. Не сказал бы «пожалуйста». Не понимал, не знал, что значит желать чего-то помимо того, что просто хочешь, что считаешь по праву своим.
Джесс не сознавал, что можно быть желанным ради себя самого. Он был одним из других, из многих, из всех. Некто с улицы. Его никто ни разу не выделял из остальных и не окликал: «Эй, послушай, подожди! Ты мне нужен!» И, наверное, поэтому он создал свой собственный особый мир, где все положено брать, поскольку ничто не дается. Кроме родительской любви и ревнивой дружбы братьев и сестер, у него ничего не было. Ничего рядом и ничего на расстоянии. Кто-нибудь жестокосердный мог бы сказать, что Джесс Куинлан провалил все тесты на желанность и тогда решил добиться высших баллов за отвратительность. Для большинства он был хуже крысы и чуть лучше змеи. Но глаза Люка в сумерках различали человека — личность, — который страдал, сам не понимая отчего, и чье мучительное ощущение потери было основано на том, что он никогда ничем не обладал. Даже достоинством. Даже этим.
— Так что мы будем делать? — спросил Джесс.
Люку пришлось уставиться в пол.
Что мы — мы — будем делать? О господи!
— Можем пойти на танцы, — ответил он.
Джесс рассмеялся.
— Мне как раз. Зрелище будет что надо, — он пожал плечами. Последний отсвет сумерек коснулся его лица.
За окном что-то кричали птицы. Наверное, как обычно вечером, звали птенцов домой: сюда! сюда! Или предостерегали: берегись! берегись! Во всяком случае, что-то громкое и очень отчетливое.
Залаяла собака — та самая, что всегда бывает на любой улице, в какой бы части города ни оказался прохожий. Просила поесть? Почуяла чужих? Другую собаку? Насильника? Кошку? Ребенка, возвращавшегося домой? Может быть, кто-то крался в темноте к двери? Убийца?
О нет. Все убийцы находятся здесь, в этом доме.
Все до единого.
Испакостили постель.
Измазали в крови полотенце.
И цепляются к нему, Люку.
Это и твоя кровь тоже.
Люк спустился на кухню и сделал четыре сэндвича — ветчина, лук-латук и толстые ломти ржаного хлеба. Достал рюкзак, освободил от своих вещей, положил в него термос с горячим томатным супом, сэндвичи, шесть пачек сигарет и бутылку виски — на случай холодной погоды.
Хватит с него Джесса — довольно. Негде его спрятать, никак нельзя защитить и не к кому отправить. Всю свою сознательную жизнь Люк опекал дядю. Был его единственным другом. Но теперь — все.
Черт возьми, есть же все-таки предел всему! Долбаный предел всему!
Люк достал кошелек и пересчитал наличность — к счастью, нынче днем ему заплатил клиент. Две сотни долларов налом. Всегда считалось, что наличность имеет особую ценность. Экономишь на налогах.
Значит, я теперь стал мошенником.
Давно пора.
Он все это отдаст Джессу.
И скажет, чтобы тот больше никогда не возвращался.
Скажет, что все кончено.
В глубине души Люк чувствовал, что Джесс поймет.
Есть же долбаные пределы, Джесс. Такой язык и такое отношение он воспринимает.
Иначе пришлось бы сдать его полиции.
А это, что бы там ни произошло, никогда не случится.
Никогда.
Люк пошел к лестнице, прикрыл глаза и начал подниматься по ступеням.
В спальне он застал Джесса у комода: дядя обшаривал ящики — видимо, искал деньги.
— Мне холодно, хотел найти свитер, — объяснил Джесс.
Может быть, и так.
Человек в состоянии шока способен и не заметить, что жарко.
— Подожди, — сказал ему Люк. — Я сейчас, — и достал с самого дна толстый черный свитер. — Пошли вниз.
На кухне он вручил дяде рюкзак, свитер и две сотни долларов наличными.
— Это что?
— Ты уходишь, Джесс.
— Господи, малыш…
— И не проси меня передумать. Я не передумаю. Ты уходишь и никогда сюда не вернешься.
Джесс скомкал банкноты в руке и сунул в карман.
— Что же мне теперь делать?
— Уходить.
Дядя выдавил из глаз несколько слезинок, и они покатились по щекам. Это он умел. Всегда.
— До свидания, Джесс.
Он смахнул слезы кулаком. Порез на левой щеке был в форме буквы «X» — халявщик. Это означало, что Джесс не сумел отдать долги. Рана не закрылась и все еще кровоточила. Но он, терпя боль, промыл порезы водой и протер спиртом, и теперь рана была, по крайней мере, чистая, хотя ее следовало бы зашить.
— О’кей, ладно.
На этом все кончилось. Джесс проковылял к двери, закинул рюкзак за спину, повязал вокруг плеч свитер и, не обернувшись, толкнул дверь с сеткой и аккуратно прикрыл за собой. Ушел.
Темнота. Собака. И сова на крыше. Это все. Ничего больше. Даже шума уличного движения не слышно. Жил такой торговец с несуразным именем Мелвин Планкетт. Он квартировал на чердаке над складом.
Теперь ему было за шестьдесят, а некогда, в 80-х, он слыл многообещающим антрепренером и предлагал работу неизвестным молодым художникам — мужчинам и женщинам: главное, чтобы они умели работать с мебелью, разбирались в старинной технологии и могли превратить стул XX века с фабрики в Китченере в кухонный стул XIX или XVIII столетия из Тосканы или Прованса. У самого Мелвина таких талантов не было, но зато был дар выискивать таланты в других и снимать пенки с разницы между тем, что заплатил клиент, и тем, что получил мастер. А затем наступил спад спроса. И покупатели растворились в воздухе.
Наркотики оказались для Мелвина Планкетта подарком судьбы. Наркодельцы обращались к нему, потому что он располагал готовой клиентурой — авантюрного склада молодыми миллионерами и изо всех сил карабкающимися наверх брокерами, которые процветали в 80-х и пришвартовались в 90-х с какими-то деньгами за душой.
Многих из них Мелвин помнил по совместному благовоспитанно-бережливому детству бедняка — частные школы и вся надежда на вечно ожидаемое возрождение семьи, которое никогда не наступало. Но были и краткие взлеты: удачная продажа какого-нибудь особняка в Росдейле, парка старинных машин или картин. Когда Мелвин взрослел, люди выживали не только благодаря сомнительному наследству в виде доброго имени, но и долбя имена других со сноровкой хорошего пушкаря.
Джесс общался с Мелвином Планкеттом в лучшие времена и вот теперь, когда совсем припекло, опять явился к нему на чердак. Он помахал банкнотами, которые дал Люк, и ему открыли дверь. А затем Мелвин увидел шрам на его щеке.
— Господи! — воскликнул он.
Джесс схватил его за плечо, развернул к себе и ударил в основание черепа вполне подходящей дубинкой, которую нашел в ждущей утреннего мусорщика куче садового барахла.
Мелвин был в одном исподнем — безобразном, оливково-зеленого цвета. От удара он упал как подкошенный. Теперь не скоро придет в себя.
Джесс часто захаживал к нему на чердак и прекрасно знал, где что хранилось: наркота, иглы и ложки. Он убрал деньги обратно в нагрудный карман джинсовой куртки и затолкал добычу в рюкзак. При этом произнес одно-единственное слово:
— Господи!
В ночи моросило.
Он свернул к реке.
Его любимое место. По поверхности безмолвно скользили призрачные лебеди. Дождь шелестел в листве и капал с деревьев, слышались лягушачьи песни. Японские изгибы ведущих на острова мостов, отраженные в стремнине огни и, издалека, из ресторанов и баров, — фортепьянная музыка. Последнее, что он осознал, была мелодия Джони Митчелл «Both Sides Now» — его колыбельная.
К утру он был мертв.
Как и следовало ожидать, обнаружил его Люк. Джесс скрючился за столом для пикников неподалеку от арены. Напоследок он накачался всем, что имел, не оставил себе ни единого шанса выжить.
Четверть часа Люк сидел напротив дяди спиной к реке и держал его за руку.
Беглец.
Теперь он пробежал всю дистанцию до конца. Марафон к смерти.
Странно, стоило Люку подумать об этом, как мимо к центру города протрусил утренний бегун.
— Привет!
— Привет!
Такой же немолодой, как Джесс, но, в отличие от него, хотевший жить.
Люк проследил, как бегун скрылся в тумане, и принялся осматривать дядину собственность. Джесс то ли съел свои сэндвичи, то ли их кто-то стащил. Вместе с бутылкой. А суп остался. Зато свитер исчез. Так, подумал Люк, надо поглядывать на улице: увижу на ком-нибудь, значит, это и есть вор…
В левом брючном кармане — тело сползло на левую сторону — Люк обнаружил бумажник. Тот, что принадлежал Джессу, украли, но грабитель, видимо, побоялся ворочать труп, и этот остался.
Люк вытащил его и заглянул внутрь: никаких денег, но все карточки на месте. Женщина из Китченера. Люк помнил ее имя по газетным отчетам. Патришия Джексон. Жертва номер один.
Так.
А что дальше?
Без десяти семь появилась патрульная машина с двумя полицейскими. Завидев Джесса и Люка, они остановились. Один из них вышел из автомобиля.
— Доброе утро.
— Доброе утро.
— У вас все в порядке?
— Нет, — ответил Люк. — Он умер.
Из машины с сотовым телефоном в руке вышел второй полицейский.
— Знаете, кто он такой?
— Да, мой дядя.
— И?..
— И… Я думаю, вам лучше посмотреть вот это. Это было в его кармане.
Люк отдал бумажник первому полицейскому.
— Так-так-так, — пробормотал тот и протянул бумажник товарищу. — Так-так-так.
Вызвали «скорую помощь». Люк был допрошен. Все как полагается. Вскрытие покажет, что произошло. Ясно одно: Люк чист. Вне подозрений. Один из полицейских знал, кто он такой.
Со временем — через месяц — вердикт о кончине Джесса будет весьма неопределенным: смерть от передозировки, преднамеренная или случайная. Спорное утверждение. Но это вряд ли имело значение. Зато вердикт по поводу трех жертв был категорическим — основание: отношения Джесса с Ленор Арчер и найденный в его комнате выданный Маргарет Миллер и не предъявленный государственный чек.
И еще: убийства прекратились.
Что бы ни говорилось о Джессе, он на свой печальный манер все-таки любил жизнь — или быть живым. И как-то сказал: Не знаю, что бы я делал, если бы не было завтра.
Иди с миром, уходи с миром, думал Люк, глядя, как тело Джесса грузили в «скорую помощь». Исчезай, как улетает ветерок: шорох, мгновение — и все.
Выводы
Справедливость, объята Кошмаром, Стыдится своей наготы. Подает тебе время знаки Всякий раз, как целуешься ты. В суете, тревогах, мигренях Жизнь твоя незаметно пройдет, День за днем — как одно мгновенье, Время свое всегда возьмет. У. Х. Оден «Как-то вечером я вышел прогуляться»1
Воскресенье, 9 августа 1998 г.
Джейн все еще не привыкла просыпаться одна: рука по-прежнему тянулась найти Гриффа, глаза пытались обнаружить его в постели, уши — различить его дыхание, ей недоставало запаха его кожи и прикосновений беспокойных пальцев его ног.
Но… он исчез.
Зато появился другой мужчина — не ее, а женщины, чье имя ни выговорить, ни написать — Агнешка. Джейн и не называла его — только помнила произнесенным голосом того, кого почти не знала, но тем не менее любила.
Джейн откинула одеяло.
Уилл ее ждет.
Хотя нет, не ждет — бросил ждать много дней назад. Теперь его выживание всецело в руках Мерси.
Босая, но в халате, который однажды в шутку был наречен пеньюаром, она слушала с верхней площадки лестницы доносившиеся из кухни звуки. Закрыла глаза и втянула носом аромат кофе, тостов и ветчины — исключительно воскресной еды. За ее спиной в спальню прошмыгнул Редьярд, никак не прореагировавший на присутствие Джейн. Он тоже скучал по Гриффу, и, более того — все еще ждал его возвращения.
Джейн обхватила пальцами перила балюстрады.
Держаться!
Деревянные ступени холодили ей ноги. Должно быть, где-то открыта дверь. У кого-то косили траву, скорее всего, у миссис Арнпрайр: она назначает мальчишке приходить к семи — раз уж не спится самой, пусть не спят и другие.
Зимой по воскресеньям он сгребает снег, осенью — собирает граблями листья, весной — поливает подъездную аллею и громыхает мусорными баками. Джейн подозревала, что он чокнутый. Какой нормальный подросток добровольно лишит себя единственной за неделю возможности отоспаться? Паренька звали Норманом Феллоу, и он рассчитывал, что через двадцать лет его имя затмит имена Эйнштейна и Хокинга[31]. Что ж, может, и так. Но пока, по мнению Джейн, он был настоящей занозой в заднице. Да еще зарабатывал на этом!
А вот запах свежескошенной травы ей всегда нравился.
— И то слава богу, — пробормотала она. На этот раз не Норман был повинен в ее раннем пробуждении, а пустота подле нее в постели.
На кухне Джейн поставила чашку на столешницу и налила кофе.
— С добрым утром, — улыбка далась ей нелегко.
Ни Мерси, ни Уилл не ответили. Как только Джейн села, Мерси поднялась со своего места.
— Джесс Куинлан умер, — сообщила она и направилась к плите. — Есть хотите?
— Чуть позже. — Джейн опять улыбнулась и взъерошила и без того лохматые волосы сына. — Ты когда-нибудь пользуешься расческой?
— По будням. А по воскресеньям — нет. Где папа?
Подлянка.
Уилл на это мастак: начинает об одном, а заканчивает совсем о другом. Причем всегда рассчитывает на то, чтобы огорошить. Дать по мозгам.
Господи!
— Ты же знаешь, что он ушел.
— Хорошо… Но куда?
Джейн взяла сигареты и спички.
— Отсюда. Отсюда — и все.
— Тебе нельзя курить в доме, когда я здесь, — сказал мальчик. — Ты сама установила это правило. Не я. Мне-то все равно, что ты делаешь.
Но Джейн тем не менее отложила в сторону сигареты и спички.
— Ты правда не знаешь, где папа? — спросил Уилл.
— Правда не знаю.
— Я видел его вчера на улице — на другой стороне Онтарио у «бентли». Я ждал, но он не посмотрел в мою сторону.
Джейн не стала задавать естественного вопроса.
Но мальчик сказал сам:
— Он был один.
— Понятно.
Мерси переворачивала на сковороде ветчину.
— Хочешь яйца? — спросила она Уилла.
— Одно. Только одно.
— Ты что, за ночь забыл слово «пожалуйста»? — одернула сына Джейн.
— Я не обязан говорить «пожалуйста» Мерси. Она прислуга.
Джейн ударила его.
Ладонью — больно, но не опасно.
Он ответил тем же.
Джейн была поражена. Онемела.
Уилл встал и направился на террасу. На пороге обернулся и без всякого выражения произнес:
— Почему бы вам всем не пойти на хрен? Даже не вопрос. Просто слова: Почему бы вам всем не пойти на хрен?
И закрыл за собой дверь.
Не хлопнул — тихо закрыл.
Все происходило, как в замедленной съемке. Джейн ждала; чиркнув спичкой, затянулась.
— Вот так, — только и произнесла она.
Затем встала, сходила в столовую, взяла бутылку «Коте де Рон», вылила свой кофе в раковину, наполнила чашку вином, выпила и налила снова.
— Что вы сегодня намерены делать?
Мерси выключила конфорку и накрыла сковороду крышкой.
— Если бы я не любила Уилла, ушла бы от вас.
— Интересное заявление, — хмыкнула Джейн. — Я хочу сказать, интересное — из уст прислуги. Простой прислуги.
— Я на него не обиделась, потому что понимаю: он сказал это вам, а не мне.
— А я его ударила только потому, что вы стояли рядом и все слышали.
— Значит, если бы меня не было и я бы не слышала, вы бы его не ударили?
— Мерси, вы знаете, что я имела в виду не это. Если бы вас здесь не было, я бы могла его пристукнуть, вышибить из него дух. Господи, Мерси, я это сделала ради вас.
— Спасибо, конечно, только в следующий раз попридержите руки. Я сама с ним разберусь.
— Он мой сын!
— Да неужели? Верится с трудом.
Мерси взяла пустой стакан и присела к столу.
— Можно немного вина?
— Конечно.
Она налила себе и Джейн.
— Учтите, если вы напьетесь до полудня, то пропустите встречу.
— Какую встречу?
— А разве вы не встречаетесь с некоей Элспет?
— Ах да… Спасибо, что напомнили. Она фотограф.
— Вас будут снимать?
— Очень смешно.
— А что вы будете говорить: «сыр» или «слива»?
— Ни то, ни другое. Буду говорить «дерьмо». Запомните на будущее: невозможно сказать «дерьмо», не улыбнувшись.
Мерси рассмеялась и стащила у нее сигарету. Джейн притворилась, будто не заметила.
— А куда девать всю эту ветчину?
— Мы ее съедим. Вы, я и Уилл. Он вернется. Уилл мальчик. Знаете, он из тех юных созданий, которым каждую неделю требуется новая пара обуви, потому что он растет. И зовется мальчишкой. Совсем не похож на девочек. Мы росли только по воскресеньям. В такие дни, как сегодня. Именно поэтому нам надо есть ветчину — это наш день — ваш и мой. А если вспомнить, то когда-то это был и мой выходной. Вот так…
Джейн взяла ее за руку.
— Господи, спасибо Тебе за милость, что послал мне Мерси. И спасибо вам. — Она поцеловала Мерси руку и опустила ее обратно на стол.
Наступила тишина.
Ни одна из женщин не двигалась.
А потом Мерси нарушила молчание:
— Вы слышали — я сказала: умер Джесс Куинлан?
— Нет. Боже мой! Бедный Люк.
— Люк нашел его в парке у реки. Скончался от передозировки.
— Этого следовало ожидать.
— Вероятно.
— А где он был? Я думала, он убежал.
— Гм… вернулся.
2
Воскресенье, 9 августа 1998 г.
В два часа Джейн, как и договаривались, приехала на Морнингтон-стрит к Элли Бентон, где у той был дом, он же студия. В отличие от многих зданий на этой улице, дом Элли не поражал размерами, зато радовал глаз прекрасным эдвардианским стилем. Как и два соседних — очевидно, их проектировал один архитектор.
Элспет Бентон было под сорок. Почти ровесница Джейн, она иногда тоже посещала занятия Джей Ти Уатерби. Элли считалась фотографом-портретистом, но любила делать «портреты» помещений и садов без людей. Правда, люди при этом словно бы присутствовали. Джейн ей как-то сказала: «Ты снимаешь призраков».
И угодила в точку: знаменитейший снимок Элли, завоевавший национальные и международные премии, запечатлел завиток дыма, оставшийся после того, как, по ее просьбе, Орсон Уэллес поднялся со стула и отошел в сторону. Орсон Уэллес, кроме всего прочего, был известен тем, что курил сигары. И Элли подумывала, не уговорить ли его отказаться от курения на время сеанса, как поступил Юсуф Карш, когда работал над портретом Уинстона Черчилля. Но ей не нравилось слово «подражатель», и поэтому она попросила свою модель как следует, по-уэллесовски, затянуться, выдохнуть и уйти из кадра. Подпись под фотографией была проста: «Орсон Уэллес, 1982».
Открыв дверь и пропуская Джейн в дом, Элли немного иронично заметила:
— А я уж опасалась, что ты струсишь и не объявишься.
В студии на столе лежал большой коричневый пакет с напечатанными фотографиями, на котором было написано «Джейн».
— Ну вот… — Элли улыбнулась. — Полагаю, мне не следует спрашивать, как у тебя там все было…
Джейн пожала плечами.
— Ора Ли, так не годится. Пожать плечами — ничего не сказать. В чем, собственно, и цель. Хочешь бокальчик красненького?
— Конечно.
Джейн отставила сумку и села. Пакет, заполненный Милошем, был помещен — возможно, специально — на середину стола. Стол был круглый, обтянутый зеленым сукном, словно женщины собрались играть в карты.
Элли вернулась с вином, налитым в гигантские шарообразные фужеры на толстых ножках. Поставив фужеры, она шлепнула рядом пепельницу.
— Ну что ж, скажу откровенно, недурно. Господи, да он просто потрясающий! — Она плотоядно ухмыльнулась и выпила.
Джейн проделала то же самое, но без ухмылки.
Элли наклонилась к ней через стол:
— Как его зовут?
— Милош. Он не модель.
— Друг?
— Знакомый.
— Понятно. Я бы не прочь его пофотографировать. Только в одежде.
Джейн рассмеялась.
Потом посерьезнела:
— В самом деле?
— Да.
— Знаешь, лицо у него не бог весть что. В одежде он… — Джейн запнулась, подыскивая слово, — не очень выразителен.
— Нет. В нем кое-что есть.
Джейн отвела глаза.
Элли взяла конверт, открыла и высыпала снимки на зеленое сукно. Разместила их так, чтобы каждый смотрел на Джейн. При этом Элли касалась фотографий только ногтями, словно боялась оставить отпечатки пальцев.
— Ора Ли, дорогая, я вижу здесь не изучение натуры. Это — любовные послания.
Джейн по-прежнему смотрела в сторону.
— Они хороши?
— Да.
— И означает ли это, что передо мной открывается совершенно новая карьера: фотографирование голых мужиков? О, пардон, мужских ню?
— Нет. Но, возможно, перед тобой открывается совершенно новый способ видения.
— Неужели?
— Точно.
Джейн откинулась на спинку стула.
— Могу я тебе кое-что сказать? — спросила Элли.
— Разумеется.
— Все то время, пока ты думала, будто снимаешь его задницу, его плечи, его член, ты снимала его. На этих снимках не просто раздетый парень. Здесь личность. Цельная, но не связанная со всеми нами. Неземная. Может быть, даже ангел.
— Как ни странно, я все время мысленно называла его «мужчина-ангел». Только ангелы не раздеваются перед дамами.
— А этот разделся.
Джейн промолчала. И выпила.
— Почему ты на них не смотришь? — поинтересовалась Элли.
— Я их боюсь, — призналась Джейн. — Наверное.
— Взгляни вот на этот. — Элли протянула ей один из снимков. Но Джейн только покосилась на фотографию. — Бери, бери. — Элли помахала снимком в воздухе. — Держи и рассматривай.
Джейн поставила шарообразный фужер на стол и взяла у Элли снимок.
— Что это, по-твоему?
Джейн не ответила.
— Это Ора Ли, дорогуша. Это ты: ты, какой сама себя никогда не видишь.
Одно лицо, глаза смотрят вверх, губы чуть-чуть раздвинуты в улыбке.
Она была красива.
В самом деле. Но не только. Она выглядела потерянной.
Элли взяла ее за руку:
— Никто из нас не способен видеть себя. Мы можем видеть только друг друга.
Джейн прикусила губу, отложила снимок и посмотрела на Элли со слезами на глазах.
— Он даже не фотограф. Просто щелкнул, и все.
— В нужный момент. Он тебя поймал. В этом суть фотографирования. Ловить людей, когда они того не сознают. Даже стул, стол и лампа понимают, если кто-нибудь садится, дует пиво или щелкает выключателем. Но секрет видения — настоящего видения — это когда стул только что освободили, стакан опустошили, грязные приборы положили на тарелку и свет выключили…
— Как в тот раз, с Орсоном Уэллесом?
— Да, как в тот раз, с Орсоном Уэллесом. — Элли взяла фотографию Джейн. — Я колебалась, отдавать тебе ее или нет. Решила: неподходящий момент. Может быть, потом, когда ты станешь достаточно старой.
— Достаточно старой? — изумилась Джейн.
Элли улыбнулась:
— Я не собираюсь ничего объяснять. Никогда не извиняться и ничего не объяснять. Кредо каждого художника. Ты только вдумайся: эта фотография разбила мне сердце и в то же время вылечила меня. Я расплакалась, когда твое лицо стало возникать в проявителе, но когда процесс завершился, мне хотелось смеяться. Это ты, Ора Ли. И пора тебе это знать.
Элли не отличалась привлекательностью. У нее был другой сорт красоты. Честность. Подавать она умела только свои фотографии, но не себя. Всегда носила волосы не той длины: или слишком длинные, или слишком короткие, одевалась не в те тона, вероятно, потому, что, как многие фотографы, видела мир черно-белым. А на ноги нацепляла то, что сама именовала обувью Греты Гарбо — грубые башмаки слишком большого размера.
Джейн подняла глаза, положила свой снимок поверх других, перетасовала с остальными, словно колоду карт, и опустила в конверт. Но все время продолжала смотреть на Элли.
— Знаешь, есть такая книжка о жестоком обращении с детьми — называется «Наш маленький секрет». Так вот, это будет нашим маленьким секретом.
— Ясно.
— Я их внимательно посмотрю, когда буду одна.
— Наверное, разумно.
— Ты в курсе, что Грифф от меня ушел?
— Конечно. Это всем известно. Он постарался.
— Неужели?
— Еще бы…
— А где он сейчас?
— Ты что, не знаешь?
— Иначе бы не спрашивала.
Элли отвела глаза. И солгала:
— Понятия не имею, где он сейчас. Не мое это дело. И, честно говоря, мне все равно.
Но ей было далеко не все равно. Уже потому, что это касалось Джейн. Такова была основа их дружбы — да и любой дружбы Элли. Она не испытала романтической любви. Любовь ей заменяли люди. Если она их ценила. В своем отношении она почти не делала разницы между тем, что ее привлекало: между мужчинами, женщинами, детьми, собаками, кошками и совсем иным — пейзажами, ангелами, дневным и лунным светом, тьмой. Все это дары, когда умеешь их принять.
Джейн открыла сумку, положила в нее фотографии и достала кошелек:
— Я расплачусь наличными, Эл, — не хочу никаких записей.
— Ты что, свихнулась?
— Надеюсь, что нет.
— Ора Ли, дорогая… Я не возьму ни пенни. Мне нужно только знать, как с ним связаться.
— А вот этого я тебе сказать не могу.
— Не можешь или не хочешь?
— Не могу. Это не его профессия. Он этим не занимается — не зарабатывает на жизнь. И я просто не могу тебе сказать.
— О’кей, — улыбнулась Элли. — Тогда обещай мне одну вещь.
— Постараюсь.
— Когда в следующий раз влюбишься и позаимствуешь аппарат, возвращайся более счастливой.
— Решено. Если такое случится.
— Обязательно случится. Я даже знаю, как его зовут.
— Неужели?
— Да. — Элли поднялась со стула. — Его инициалы Г. К. Он вернется. Верь в это. Я верю.
Через полчаса Джейн сидела в парке на самой уединенной скамейке, вдали от дорожки.
Она достала из сумки конверт, но еще не открыла.
9 августа. За один месяц весь ее мир рухнул. Она могла бы поверить, что такое может произойти за год. Но чтобы за месяц…
Трой. День рождения Гриффа. Страстное желание приобрести дом. Перебитый Люком телефонный кабель. Появление Милоша — не только в доме, но и в ее жизни. Таинственное поведение Гриффа. Его слезы ярости и бессилия. Потеря обещанных ролей. Невообразимое исчезновение из семьи. Популярнейший из актеров покидает сцену и закатывает представления исключительно у себя дома — в этом было что-то загадочное и зловещее. И влияние всего этого на Уилла, который уходил от нее с каждым днем все дальше, в полную невозможность общения: ни ей с ним, ни ему с ней. Почему бы вам всем не пойти на хрен. Господи! И Редьярд тоскует. И Джесс мертв. И Лоретта потеряна и скончалась. И Мейбел далеко. И Милош… Что Милош?
Как в дымке… увиденный, испробованный, но все еще незнакомый.
Все быстро началось и так же быстро закончилось. Неужели? Именно. А сможешь? Да. Прощай.
Прощай.
Она коснулась лежащего подле нее на скамье конверта.
Посмотри.
Не могу.
Ее руки дрожали.
Что, если кто-нибудь увидит, как она рассматривает фотографии голого мужчины?
Никто ее не увидит — Джейн это знала, но не хотела поверить.
Паранойя — спутник всякого тайного любовника — так что ты, по крайней мере, не одинока.
Джейн достала фотографии, но некоторое время держала на коленях изображением вниз.
Милош.
Джейн.
Она отделила свой снимок и, чтобы не видеть себя, положила под конверт.
Мимо пролетела стая уток.
Дикие кряквы и чирки.
Джейн следила за ними, пока утки не улетели вниз по течению, где послышался шум, когда они сели на воду. Кряканье и детский голос: мамочка! утки! утки!
Мамочка, утки, утки! Как часто она слышала это от Уилла, кричавшего таким же писклявым голоском.
Птицы.
Джейн зацепила пальцами одну из фотографий.
Милош сидит, подняв колено — голова откинута назад, к балке, кожа поблескивает.
Господи, помилуй.
Она подняла снимок выше, в сочившийся сквозь листву свет.
Какого цвета у него глаза?
Джейн не могла вспомнить.
Темные.
Просто темные.
Кажутся черными, потому что зрачки расширены и фотография немного мутновата из-за витавшей в воздухе пыли.
Джейн положила снимок обратно и не стала смотреть другие. Память о заснятых моментах была лучше, чем их вещественное воспроизведение.
Она закрыла глаза и сидела в полной неподвижности.
После того как был снят последний кадр и камера отложена в сторону, Милош повел ее по ветхим ступеням на сеновал.
Они лежали бок о бок на солнце — теперь оба нагие, оба в пыли и, когда целовались, ощущали привкус красного вина и друг друга.
Их пальцы встретились, соприкоснулись. Она направила его к своей груди. Милош положил одну ладонь ей на живот, а другой накрыл грудь.
Никто не произнес ни слова. Над ними метались и пищали ласточки. По дороге проехала машина, в небе пролетел самолет, на соседнем поле тарахтел трактор.
Джейн скользнула вниз вдоль его тела, волосы струились вслед; она гладила его, ощупывала, ласкала языком.
Милош раскинул руки, даря себя, как драгоценное яство.
Откуда мы это знаем? — удивлялась Джейн. Откуда знаем, что делать? Что можно, а чего нельзя?
Она владела им так же полно, как обычно мужчина владеет женщиной. Нашла в мечтах, когда тянулась за стаканом вина. А теперь упивалась им.
Наконец она откатилась в сторону — ее рука на его бедре, его рука на ее плече. По-прежнему молча.
Птицы затихли. Все замерло.
Когда они проснулись, начинались сумерки: еще не стемнело, но день клонился к закату.
И только в машине по дороге обратно в Стратфорд Милош произнес:
— Спасибо.
И все.
Высаживая Милоша на углу Эри и Онтарио, Джейн сжала его ускользающую руку так, что заболели пальцы. И отпустила.
— До свидания, Милош.
— До свидания.
Он так ни разу и не назвал ее Джейн.
Теперь, в парке, Джейн посмотрела на свою фотографию.
Qui va la? Кто это?
Я.
Просто я.
Но вся.
Джейн сунула снимки обратно в конверт, конверт положила в сумку, бросила сигарету, загасила каблуком, затем подняла окурок и опустила в карман.
И отправилась домой на Камбриа-стрит.
Ночью Джейн приснилось, будто она на вечеринке, где все гости — и мужчины и женщины — одеты, как Моника Левински, — в голубые платья с пятнами. И это никому не казалось ни странным, ни скандальным.
Люди в платьях Моники Левински не прятались — были самими собой. Джейн и знала и не знала, кто они: так бывает во сне — видишь незнакомцев, но кажется, что они ближайшие друзья.
Кто-то пел песню.
Не настоящую — услышанную во сне.
Она была и грустная, и счастливая — то приятная, то какая-то далекая: одни диссонансы.
Все будто бы находились на борту корабля — посреди моря. Солнце то ли всходило, то ли закатывалось — Джейн так и не разобралась. Но это было не важно. Судно куда-то следовало, однако пункт назначения никого не интересовал. Джейн нисколько не боялась. И никто другой не казался напуганным.
Она подошла к борту посмотреть на море — и с ней вместе некто чужой, кого она и узнавала, и не узнавала. Они положили руки рядом на поручни, но не коснулись друг друга. Появлялись и исчезали звезды. Солнце — луна, свет и тьма, а они, одинокие, все стояли бок о бок.
Где мы? — гадала во сне Джейн. Откуда взялись? Отправляемся или прибываем, спешим домой или оставили дом?
На корабле не было детей. И животных тоже. Только мужчины и женщины в одинаковых голубых платьях.
Рано утром Джейн пришла в свою студию и положила конверт с фотографиями в шкаф.
Минуту стояла, соображая, во сне она или наяву.
Заперла ящик, однако ключ продолжала держать; он холодил ей руку, и Джейн поняла, что вернулась домой.
И еще этот ключ ей напомнил, что она пережила кораблекрушение.
Одежда на ней была насквозь мокрая.
Она сняла ее, бросила в сторону и, все еще сжимая в руке ключ, забралась в постель.
Посмотрела на часы; шесть. Еще два часа можно поспать.
3
Понедельник, 10 августа 1998 г.
В половине третьего Джейн стояла в зале супермаркета «Зерс». В руке пластиковый пакет с луком-латуком, зеленым луком, сельдереем и двумя консервными банками тунца. И еще — с майонезом «Хеллман». Все для салата.
За ее спиной сгрудились магазинные тележки, а какая-то женщина, стоявшая рядом, хотела свою сдать.
— Простите, пожалуйста, вы не подвинетесь, — вежливо попросила она. — Я не могу проехать.
— Да, да, — ответила Джейн. — Конечно… извините, но…
— Вам плохо?
— Мне…
— Мэм?
— Я… вы не знаете, где здесь общественный… — Что?
В самом деле… что?
Господи боже мой!
— Общественный туалет? Вам нехорошо?
— Нет… общественный… — наконец она вспомнила слово, — телефон.
— На автомобильной стоянке. Вы уверены, что с вами все в порядке?
— Да, да… спасибо.
Наконец Джейн протолкалась к двери. Телефоны оказались слева снаружи. Она вошла в одну из будок. Дверь хлопнула, но не закрылась.
Она поставила сумку с покупками на пол и, разыскивая монету, чуть не выронила кошелек.
Опустив четверть доллара в аппарат, с трудом вспомнила номер Клэр.
На другом конце линии раздался звонок.
Четыре, пять, шесть гудков — прежде чем ответила запыхавшаяся Клэр.
— Алло! Извините. Я была в саду.
— Клэр?
— Джейн?
— Нам надо увидеться. Немедленно.
Клэр поняла, что это в самом деле очень срочно.
— Хорошо. Хью отправился играть в гольф. Можешь заехать?
— Да.
— Ты где?
— В «Зерсе».
— В «Зерсе»? Потеряла карточку и хочешь позаимствовать тридцать долларов?
— Нет.
— Тогда что?
— Здесь не могу говорить. Скажу, когда приеду.
— Ну давай, детка. Жду. Я дома.
Сумка.
Что?
Сумка. Салат из тунца.
Джейн нагнулась, подхватила сумку, уронила, взяла снова и с трудом справилась с упрямой дверью телефонной будки.
Где же «субару»?
Она обвела взглядом стоянку.
Вон там.
Через десять минут (хотя хватило бы и пяти, но Джейн повернула не там, где надо) машина подкатила к дому Хайлендов на Шрузбери.
Клэр ждала ее у дверей:
— В чем дело?
Джейн переступила порог и прошла прямиком на кухню.
— Ты мне что-то привезла? — Клэр ткнула пальцем в сумку, которую Джейн держала в руке.
— Ах, это… Нет… Забыла оставить покупки в машине.
Клэр уже открыла бутылку и поставила бокалы.
— Садись.
Джейн опустилась на стул.
Клэр налила вино. И ждала.
Молчи, думала она. Пусть заговорит сама.
Джейн сгорбилась и невидящими глазами смотрела в пустоту. Потом распрямилась:
— Мне только что сказали… я только что узнала… никак не могу поверить…
Вот оно… То, чего я ждала.
— Что?
— В отделе свежих овощей толкалась эта чертова стерва… Мери Джейн Рэлстон. А я брала сельдерей и зеленый лук.
— И что же?
Джейн пригубила вино.
— Мы только что пальцами не цеплялись, когда выбирали сельдерей, а она все притворялась, будто не замечает меня, хотя прекрасно видела. А потом подняла глаза и сказала: «Так это бывшая жена Гриффина Кинкейда?» — «Что это значит?» — удивилась я. «Ну как же, — хмыкнула она, — все давно ждали, когда же откроется дверца шкафа. Вот и открылась».
— Джейн, не надо!
— Она говорит, что Гриффин спит с Джонатаном Кроуфордом!
— Джейн…
— С Джонатаном долбаным Кроуфордом, господи помилуй!
Клэр коснулась ее запястья.
— Не надо, — повторила она.
— Что значит «не надо»? У Гриффа связь с мужчиной! У Гриффа! У Гриффа! У моего мужа! Отца моего сына! А ты говоришь: «не надо»!
Джейн сникла, достала платок и высморкалась. Зажала в трясущихся губах сигарету, тщетно пытаясь прикурить.
— Господи, не могу даже спичку зажечь!
Клэр помогла ей.
— Боже мой, Клэр, скажи, что это неправда! Не верю, не могу поверить!
Клэр откинулась на спинку кресла:
— Послушай, ужасно, что приходится тебе это говорить, но это правда.
Джейн в упор посмотрела на подругу:
— Ты знала?
— Да… больше недели… даже больше двух недель.
— Так почему не сказала мне? Почему ты мне не сказала?
— Дженни… как я могла тебе такое сказать?
— Ты же моя подруга.
— Да, я тебя люблю. Да, я считала, что должна тебе сказать. Но потом — правильно или нет — подумала: она все узнает от Гриффа. Так или иначе выяснит сама. И ей будет неприятно, что знаю я.
— Но ты знаешь!
— Да. И никому не сказала ни слова. И не собиралась говорить. Даже Хью.
— А как ты выяснила?
— Слишком часто видела их вместе. И еще слышала, что он живет у Найджела и Сьюзен, и понимала, что там не может быть никакой любовной связи. А Зои Уолкер занята, бегает за Ричардом Хармсом. И потом…
— Что?
— Я видела, как Джонатан поцеловал Гриффина в «Балди». И Грифф поцеловал его в ответ. И слышала про многое другое…
— Вот и Мери Джейн Рэлстон то же самое говорила. Сказала, что видела, как Джонатан гладил Гриффина в парке. Надо же, чтобы именно наша местная Линда Трипп подглядела это!
Клэр пожала плечами.
Джейн отвернулась и понурилась.
— Что же мне теперь делать? — спросила она тоном вконец растерянного ребенка.
— Ничего.
— Ты с ума сошла.
— Нет. Ты ничего не станешь предпринимать. Следующий шаг за Гриффом. Если ты устроишь ему скандал, он хлопнет дверью у тебя перед носом.
— А разве он этого уже не сделал?
— Нет. Потому что ему не известно, что ты в курсе.
— Я его люблю. — Джейн опустила голову.
— Знаю.
— А как быть с Уиллом? Что станется с Уиллом? Что, если и до него дойдут слухи?
— А это, как говорится, в руце Божией. Но мне не верится, что Грифф не вернется. Просто не могу в это поверить. И не верю.
— И что теперь? Господи… с мужчиной! Грифф…
— Не забывай, чего он добивается, Джейн. И не забывай, кто он. Грифф Кинкейд, увы, один из тех людей, о ком мы читаем, но кого не рассчитываем встретить в реальной жизни. Он из тех, кто пойдет на все, лишь бы получить то, что он хочет.
— Но он… он — порядочный человек.
— Мы все порядочные — до поры. И все поступали непорядочно — так или иначе. Каждый из нас. Все.
— Да.
Милош.
Джейн взяла Клэр за руку:
— Неужели после такого можно выжить?
Клэр попыталась улыбнуться, но это оказалось непросто.
— Ты выжила, несмотря на свою мать, детка. И более того, ты знаешь, что ты собой представляешь. Вот что значит выжить. Выжить — это знать, что ты собой представляешь.
— Да.
— Тебе не стоит заглянуть к доктору Фабиану?
— Да.
— Хочешь еще вина?
— Да.
— Если ты не прекратишь говорить «да», я тебя ударю. — Клэр рассмеялась.
— Меня сегодня уже ударили один раз, и этого вполне достаточно, так что спасибо, не надо.
— Хочешь, пойдем посидим в саду?
— Хорошо.
— Послушаем птиц, и я тебе расскажу о том, как в двенадцать лет я обнаружила дома старый томик «Пейтона»[32], а мать вошла и увидела это. Только я уже прочла на форзаце ее имя. Знаешь, что она мне сказала?
— Нет.
— Она сказала: «Господи, а я-то гадала, куда эта книга запропастилась!»
Женщины посмеялись, взяли бокалы и бутылку и вышли в знаменитый садик Хью.
— Мы живы, детка. Помни об этом.
— Да. Живы.
4
Вторник, 11 августа 1998 г.
Доктор Фабиан, как обычно, едва помещавшийся в кресле, откинулся назад и почти молитвенно сложил руки, касаясь пальцами губ.
— Интересно, — проговорил он. — Вы превосходно рассказали: мне казалось, что я смотрел фильм — корабль, люди, море голубых одеяний.
— Да, все было поразительно живо. Но почему меня охватила грусть? Ведь эта сцена скорее комическая.
— Нет. Совсем нет. Она печальна. Печальна до предела. Печальна и по-своему мудра.
— Мудра?
— Именно. Сны обладают определенной цельностью. Не сомневаюсь, что вы об этом знаете. А с цельностью часто соседствует мудрость. Сны — это мы; сон демонстрирует человека. Говорит: я покажу, кто мы такие, — врач отвел взгляд. — На этом социальном маскараде — особенно у нас, в Северной Америке — мы так долго носили костюмы и маски, что убедили себя, будто более невозможно увидеть, какие мы на самом деле. Мы думаем, будто теперь нам нет необходимости тревожиться, что нас разглядят. Но под личиной на каждом из нас — запятнанное голубое платье. И никто не в состоянии избегнуть испытующего взгляда. Никто. Хотя все считают по-другому: не я… не мы… Немыслимо, возмущаемся мы. Как вы смеете сомневаться во мне? Мне нечего скрывать. Но, пожалуй, это самые опасные слова, которые способен произнести человек. Полагать, что вам нечего скрывать, равносильно признанию вины.
Несколько мгновений Джейн не отвечала, а потом произнесла:
— Мне не нравится слово «вина».
— Да, оно резкое, — согласился врач. — Но не я его придумал. Дело в том, что вина в каждом из нас. Что еще?
— Еще?
— Что еще вы хотели мне рассказать?
Джейн закурила.
— Я обнаружила, где Грифф.
— Неужели? И где же?
— Он живет у наших друзей Декстеров — Найджела и Сьюзен.
— Ах да, я знаю: они актеры.
— Учились вместе с Гриффом еще до того, как я с ним познакомилась. Моя подруга Клэр мне сказала. Кажется, я вам о ней упоминала. Клэр Хайленд.
— Как-то говорили. Она преподает.
— Да. Историю. Так вот… — Джейн обвела глазами комнату и остановила взгляд на висевшем за спиной врача трагическом портрете ученого работы Пауля Клее. — Она знает, с кем мой муж.
— С ней?
— Нет.
— Так с кем же?
— Я зашла в «Зерс», хотела приготовить салат из тунца… — Джейн не отрывала глаз от портрета. В этот момент ей показалось, что он — отражение ее самой. Куда все подевалось? — И там встретила женщину, которая работает у нас в театре в отделе реквизита… ее зовут Мери Джейн Рэлстон. Она первая мне сказала. Ее слова были жестоки. А Клэр — поведала о том же, но спокойно и, на мой взгляд, тактично.
Она перевела взгляд в окно.
— Говорите, Джейн, — ободрил ее врач. — В интерпретации любой из них. Тон не важен. Итак, кто это?
— Джонатан Кроуфорд.
— Понятно.
— Учитывая, что я сказала, вы восприняли все удивительно спокойно.
— Что ж… я не собираюсь делать вид, будто такие вещи легко принять. Для вас. И тем не менее…
Джейн рассмеялась:
— Что значит ваше «тем не менее»? Вы этого ожидали?
— Нет. Но не особенно удивлен.
Джейн затушила сигарету.
Фабиан молчал.
— Вы хотите убедить меня, что это нормально? Что это одно из условий удовлетворения амбиций? Так считает Клэр. «Не забывай, кто такой Грифф, — сказала она. — И к чему стремится».
— И в каком-то смысле она права. Совершенно права.
Джейн потерла ладонь о ладонь, сделав вид, будто аплодирует.
— Именно. В самую точку. Вот тебе мой зад и дай мне мои роли! А почему бы и нет? На жену, на семью, на ребенка — на все наплевать. Тьфу! Зато мои роли при мне — я их добыл!
— В самом деле? Добыл?
— Да. Обе.
— Понятно.
— Что понятно?
— А вы?
— Что значит «вы»?
— Это вопрос о ваших желаниях и мотивах. Неужели вы никогда не хотели чего-нибудь так сильно, что готовы были на все?
Джейн подозрительно покосилась на врача.
— Похоже, вы нервничаете? Не желаете отвечать? Напомнить вам о том молодом человеке? Который работает в компании «Белл»?
— Не надо.
— Понятно.
— Понятно… — Джейн смотрела на Фабиана. Он улыбался. — Понятно… Понятно… Понятно… — Пожатие плечами — и снова пожатие плечами. — Вот так устроен мир…
— Так устроен мир, в котором вы выбрали место для себя. И множество других миров. Вы полагаете, Ивана Трамп в самом деле любила Дональда? Или Дональд любил ее? Ничего подобного. Однако они получили то, что хотели: он — красивую женщину; она — деньги.
— Но театр на самом деле не такой.
— Совершенно согласен. Только и в театре есть такие люди. Становятся такими, когда им это надо.
Джейн вздохнула.
Реальность оказалась сильнее ее — в каком-то смысле. Но в то же время, не зная почему, она чувствовала себя умиротворенной.
— Вы получили от своего молодого человека то, что хотели?
Джейн помолчала, а потом ответила:
— Да.
Только, пожалуйста, не говорите «Понятно».
Несколько мгновений Фабиан не нарушал молчания.
— Как Уилл? — наконец спросил он.
Джейн посмотрела ему в глаза:
— Уилл?
— Ну да, Уилл. Как он?
Джейн отвела взгляд.
— Вы умный человек, Конрад.
— Допустим. Но каков ответ?
— Я его теряю.
— Тогда верните его.
— Но как?
— Показав, что вы с ним. С ним, Джейн. С ним. А не в винном тумане и не погружаетесь в совсем не идущую вам жалость к себе. Встряхнитесь! Возьмите себя в руки. Дайте ему понять, что вы — это по-прежнему вы.
Джейн затушила недокуренную сигарету:
— И вы полагаете, он вернется?
— Который из них?
Джейн снова сдержанно улыбнулась.
Ах ты, сукин сын. Но умный сукин сын.
— И тот и другой. Оба.
— Да.
— Откуда вы знаете?
Доктор Фабиан улыбнулся своей странной, заговорщической улыбкой, разомкнул пальцы и наклонился вперед.
— Потому что я тоже надевал голубое платье. И знаю, наступает такое время, когда хочется его сбросить. На самом деле, просто необходимо сбросить, чтобы продолжать жить. И когда такое случится, вы будете с Гриффом вместе. И Уилл с вами.
5
Среда, 12 августа 1998 г.
В воскресенье вечером, расставшись с Джейн, Милош пошел на автостоянку у Театра Тома Паттерсона забрать свой фургон, но полчаса просто так просидел за рулем и в полной тишине выкурил две сигареты — никакого радио, никаких кассет.
А потом вернулся домой. Агнешка ничего не сказала ему, только «Привет» и не обернулась от плиты, на которой тушила голубцы. За ужином они тоже не разговаривали. Антон лежал рядом в стоявшей на полу колыбельке. Он спал — как почти все время теперь.
После еды Милош взял ребенка на руки и прижал к плечу — от мальчика странно попахивало. И не потому, что он испачкал пеленку. Так пахнет от умирающих, которые лежат и ждут конца. Почти что благостный запах — возродившегося естества — когда всевозможные ароматы присыпок и благовоний повседневной жизни сменяются духом самой жизни. Плоть и только плоть. Ничего более.
— Он хоть просыпается? — спросил Милош.
— Мало, — ответила Агнешка, по-прежнему не глядя на мужа. Теперь все больше и больше казалось, что она разговаривала с кем-то за его спиной, или стоявшим в стороне, или только с собой. Она убрала со стола грязные тарелки, вилки и ложки и сложила в раковину — в такую горячую воду, что обожгло пальцы.
Милош опустил сына в колыбельку и поднялся наверх.
В понедельник он вернулся на работу.
О своих проблемах не распространялся.
Не было такого человека, с кем бы он мог поговорить: никто бы не понял. К тому же единственный совет, в котором он нуждался, был ему недоступен — совет врача.
И Агнешка тоже сникла: ушла первоначальная паника по поводу здоровья Антона, но ушли и надежды, что Бог вмешается и все исправит. Она считала себя подвижницей, хотя в истинном смысле таковой не была. Вдохновенно родила и мечтала об одном — быть женой и матерью. И не желала для себя ничего другого. Все ее устремления сводились к тому, чтобы достигнуть положения «независимой» дамы, и это ей давал брак с Милошем. Она стала замужней женщиной. В традиционном понимании своей культуры и религии обрела судьбу. Но слабо воспринимала действительность и ее последствия. Не то чтобы не хватало разумения — вовсе нет. Просто она заключила с действительностью соглашение: если ей гарантированы надежность и уверенность, она станет подчиняться правилам.
И теперь расплачивалась за это соглашение в ситуации, которую едва ли могла оценить. В Польше, где сторонников секты Свидетелей Иеговы презирали и преследовали, родители обещали, что в другом месте жизнь пойдет по-иному.
Но этого не произошло.
Враг просто принял новую личину — вот и все. Раньше он представал в образе человеческого невежества и подлости духа, а теперь стал безликой природой, которой наплевать на людские чувства и собственные ошибки в подборе генов.
Вряд ли Агнешка была способна все это выразить словами, но она это чувствовала, переживая — или пытаясь пережить — то, что происходило с ней, ее ребенком и Милошем, все больше и больше отдалявшемся от нее.
Милош старался не замечать растущей ненависти к жене, которая отказывала сыну в той единственной помощи, что еще способна была его спасти. И к тому же она не хотела спать с мужем, утешать его и не позволяла утешать себя, становилась все более молчаливой, все так же раболепно страшилась Бога и униженно подчинялась тому, что по-прежнему считала Его волей.
Бездействуя, Милош не мог не мучиться чувством вины, но, одновременно, как часто бывает с людьми, когда дело касается их личной ответственности, склонен был обвинять кого-то другого.
Большую часть вторника Милош провел в размышлениях: вызовов было немного, он сидел в укромном уголке «бентли» и пил пиво — не напивался, но стакан из рук не выпускал.
И все время вспоминал Джейн — и то, что они с ней вместе совершили. Она ушла, как будто ее и не было. И он думал о последствиях их встречи — сделан еще один шаг в направлении будущего, и это его ослепило. Стала видна вся протяженность дистанции, и Милошу, как он и опасался, она не сулила абсолютно ничего достойного. Эта определенность убедила его прекратить дальнейшее движение вперед. Главная укоренившаяся в мозгу мысль требовала: «Стоп!» Подобное ощущение безнадежности не могло длиться вечно, Милош об этом не знал.
В ночь со вторника на среду он ждал, когда Агнешка уляжется, и, как только она заснула, встал со своей кровати и оделся.
Зашел в ванную, ополоснул лицо, почистил зубы, воспользовался туалетом, но воду не спустил. Потом вынул Антона из кроватки и положил в переносную колыбельку, которую Агнешка держала на столе рядом с ванночкой, всякими детскими присыпками, маслами и мылами.
Выключил весь свет, кроме ночника, ушел на кухню, выпил бутылку пива, выкурил сигарету и написал жене состоящую всего из трех слов записку: «Уехал в больницу».
Милош припарковался на стоянке Стратфордской главной больницы, вынул колыбельку, наклонился и поцеловал сына, запер фургон и поднялся по ступеням в приемный покой.
Врач появился только в три утра. Его фамилия была Скарлет, и выглядел он моложе медиков, которые смотрели Антона раньше.
Доктор Скарлет пригласил их в кабинет, и Милош объяснил все как мог.
Затем врач произвел осмотр ребенка.
— Он не спит, мистер Саворский. Он в коме.
Последовали другие осмотры, на которые Милоша не пустили. Да в этом и не было необходимости — он все равно бы ничего не понял.
Но он понял, какой они вынесли вердикт — Антону суждено умереть.
В каком-то смысле он был уже мертв. Мальчика приговорили врожденные пороки и бездействие матери.
В шесть часов доктор Скарлет отозвал Милоша в сторону и сказал:
— Как это ни печально для вас и для вашей жены, но Антону не выжить. Его мозг неполноценен, инстинкты моторики чрезвычайно ущербны. Остается загадкой, как он до сих пор был способен дышать. Ему ничто не поможет. Его жизнь кончилась при рождении.
— Он может умереть здесь? — спросил Милош. — Под вашим присмотром. Я не доверяю жене и ее родителям.
— Конечно, — ответил врач.
— Как вы думаете, когда это произойдет?
— Боюсь, что сегодня. А если нет — то завтра.
— Понимаю.
— Вы хотите побыть один?
— Только если вместе с ним.
Через десять минут сестра со слезами на глазах принесла завернутого в белое одеяльце Антона.
— Если я понадоблюсь, позвоните в звонок, — сказала она.
— Спасибо.
Светало.
Милош взял сына на руки.
Как могло такое случиться? И что это означает?
Ничего.
Обыкновенная история жизни.
Он поднес Антона к окну.
Будет хороший день. Ни облачка. Ни ветерка. Только небо, птицы и деревья.
— Посмотри, — сказал сыну Милош. — Вот мир, в который ты пришел.
Ребенок открыл глаза, но их по-прежнему застилал сон. Отец поднял его ручку.
— Мы делаем вот так. Понимаешь? — и он помахал ручонкой мальчика. — Привет! Привет!
Глубоко из горла Антона вырвался звук — звук, который Милош никогда не забудет и который от этого мгновения эхом прокатится по всей его жизни до самой смерти.
Милош прижал сына к себе — так сильно, как только осмелился, — надеялся своим дыханием вернуть его к жизни, надеялся, что утренний солнечный свет возвратит младенцу жизнь, как дарит жизнь всем, кто ползает, ходит и плавает. И летает.
Небо. Птицы. Деревья.
Антон помахал обеими руками. Единственный раз.
И снова погрузился в сон.
Милош перецеловал все его пальчики на руках и ногах, уши, глаза, нос, губы.
И начал качать — как лодка раскачивала бы пассажиров на крупной зыби.
Надо бы для него спеть, подумал Милош. Но его голос не подходил для этого. Он не был матерью. Всего лишь отцом. А отцы беспомощны в такие минуты. У отцов нет грудей, нет молока — только руки.
Он сел на кровать.
И просидел больше двух часов.
Потом позвонил сестре. Ребенок умер.
Передавая сына в руки доктора Скарлета, Милош произнес только: «Спасибо», — и направился к лифту.
В приемном покое толпились люди: кто-то приезжал, кто-то уезжал. Окружающее, как всегда после случившейся смерти, казалось обыкновенным, нормальным, почти до смешного приземленным. Люди все так же смеялись, заказывали в буфете кофе с пирожками, пролистывали спортивные страницы газет и окликали друг друга по именам.
Милош подошел к двери, переступил порог, увидел перед собой дорожку, но не мог вспомнить, где оставил фургон. И повернул назад, в больницу.
Нет, здесь он уже был. Здесь все кончено.
Когда наконец он нашел фургон, то обнаружил на переднем сиденье Агнешку. Она была в том же синем жакете, в котором он привез ее сюда рожать Антона.
Оба всю дорогу молчали.
Не было таких слов, что они могли бы друг другу сказать.
Через две недели Агнешка переехала в дом родителей. Потом Милош время от времени встречал ее на углу Онтарио и Дауни-стрит с брошюрами в руках. Но они больше ни разу не разговаривали. Агнешка отворачивалась, Милош проходил мимо.
Случалось, Мерси видела Милоша в окне кухни. Или во дворе: он мыл фургон или подстригал траву. Он завел собаку — черного лабрадора. И назвал его Шопс — может быть, в честь Шопена — Мерси не спрашивала. Женщин у него больше не появлялось. Мерси судила не по тому, что видела, а по тому, что слышала: музыку и голоса немолодых мужчин, приходивших играть в карты.
Теперь от Милоша веяло покоем — так бывает после того, как человек покорился и даже обрел смирение. Мерси знала по себе. Когда умер Том…
Милош никогда не здоровался.
Но он махал рукой.
И улыбался.
Улыбался и махал рукой.
Мерси не требовалось иных — и лучших — знаков того, что Милош выживет. Хотя бы потому, что он этого хотел. В конце концов, ведь существовала еще целая новая жизнь, которую надо было наследовать и осваивать.
6
Пятница, 14 августа 1998 г.
Мерси накормила завтраком Уилла. Сок, тост и мармелад. Уилл не доел тост, и Мерси впервые видела, чтобы он выпил лишь половину чашки кофе с молоком.
Джейн не появлялась. Мерси это не тревожило, разве что только из-за мальчика. Она ясно понимала, что происходит; когда распадается брак, человек скисает. Но это пройдет.
— Хочешь в парк?
— Нет.
Уилл, не выпуская из руки чашку, развалился на стуле и постукивал каблуками по перекладине.
Мерси чувствовала — она обязана что-то делать — как-то его спасать.
— Тогда пойдем куда-нибудь еще, — предложила она.
— Чтобы мама могла привести сюда друга, пока нас нет?
— Какого друга?
— Мужчину.
— Какого мужчину?
— Того, с которым она трахается.
Мерси не ответила. Ругать его за подобные слова — делать только хуже. Подталкивать к еще большему сквернословию. Уилл прошел до конца путь, на который детей толкает полное разочарование во взрослых. Мальчик выглядел на десять лет старше — бледный, худющий, страшный. Волосы словно выцвели и безжизненно повисли. А ведь ему всего семь лет. Безжизненный и семилетний — не очень вяжется.
Мерси беспокоилась, не хотела об этом думать. Но мальчик сделался неузнаваемым. Глаза превратились в щелочки, уголки губ опустились, зубы стиснуты. И руки — то сжаты в кулаки, то хватаются за все подряд. Он с грохотом передвигал посуду, топал по комнатам, громыхая дверями, или оставлял двери открытыми, и тогда в дом врывались полчища мух и комаров. Он больше не собирал головоломок и не читал книг — так и не закончил «Остров сокровищ». И каждый раз, когда соизволяла появляться Джейн, вставал и уходил. И еще он начал кампанию сопротивления Мерси. Недоедать за столом было только частью его войны.
Уилл прекратил общаться с друзьями — никого не хотел видеть. Друзья требуются только в школе — для того чтобы поболтать о том о сем, потрепаться о хоккее и обменяться карточками с портретами хоккеистов. Детские игры его не забавляли: Все равно постоянно проигрываешь. А если выиграешь, тебе говорят, что ты жульничаешь. Единственной игрой, которая ему нравилась, был крокет. Но мои придурки родители испортили газон — устроили на его месте идиотскую клумбу. А когда Мерси напомнила, что это не Грифф и Джейн, а хозяин распорядился сделать клумбу, он ответил: Могли хотя бы возразить. Рассказать про крокет. На это Мерси не нашла что ответить.
Сейчас она направилась к задней двери и сказала: «Мы идем в парк». Не спросила, хочет ли Уилл, а сообщила — «идем».
— Возьмем напрокат лодку и поплаваем по озеру. Я куплю пепси.
Мерси гребла, а Уилл сидел на задней скамейке, надвинув на лоб козырек кепки, чтобы в тени не было видно его глаз.
Редьярд сидел на носу.
— Через три недели начинаются занятия в школе. На следующий день после Дня труда[33].
Уилл ничего не ответил.
— Пойдешь в третий класс.
— Угу.
— И все твои друзья тоже.
— Да, но у меня будет велосипед. Тогда мне не придется ни с кем гулять.
— Посмотрим, что на это скажет твоя мама.
Мальчик пропустил ее слова мимо ушей.
— Велосипед будет синий, — продолжал он, поглядывая на сады вокруг домов на противоположном берегу. — Всегда хотел синий. Десятискоростной.
— А это не слишком опасно?
— Все на свете опасно. Велосипедистов убивают каждый день придурки взрослые, которые не умеют водить машины. Не все ли равно, как умереть — под колесами или от чего-нибудь другого.
— Давай сменим тему.
— Почему?
— Потому. Я не расположена говорить о мертвецах. И тебе не советую. Посмотри, какой прекрасный день.
Подплыли два лебедя и стали к ним присматриваться. Птицы привыкли к присутствию людей — чего тут только не было: прогулочные катера, гребные лодки, водные велосипеды и каноэ. Но лебеди все равно проявляли любопытство: кто это там? Нет ли тут еды?
Дома, незаметно для Мерси, Уилл сунул в карман недоеденный кусок тоста и теперь извлек его и разбросал крошки по воде.
Подплыл самец, попробовал. Неплохо. И только после этого к нему присоединилась самка.
— Лебеди сходятся в пары на всю жизнь, — заметил Уилл.
— Я в этом не уверена, — возразила Мерси. — Гуси, те — да.
— Значит, мои мама и папа лебеди.
Лучше бы они были гусями, подумала Мерси. И потом: Я все-таки не считаю, что все кончено. Черт возьми, ради Уилла, надеюсь, что это не так.
Час спустя они сидели за столиком на тротуаре перед «Паццо» и ели пиццу.
Редьярд дремал у ног Мерси.
— Что значит «гей»? — неожиданно спросил Уилл.
— Веселый. Счастливый.
Мальчик подозрительно посмотрел на нее.
— А я думал, что-то другое. Плохое. — Он разрезал пиццу и отложил нож.
Мерси ждала. А потом сказала:
— Это слово может означать иные вещи.
— Какие?
— Ну, например… — Она пригубила вино и пожала плечами. — А почему ты спрашиваешь?
— Вон тот человек только что сказал сидящей с ним женщине, что он гей. Он мне не кажется очень веселым.
Мерси посмотрела в ту сторону и поняла, что мальчик говорил о двух молодых актерах из труппы.
— Ну так как? — не отступал Уилл. — Если он не веселый, что он имел в виду?
— То, что он любит мужчин, а не женщин.
Объясняй как можно проще.
— Почему?
— Любит, и все. И никаких «почему».
— А зачем он сказал ей об этом?
— Может, она в него влюбилась, — улыбнулась Мерси. — Иногда так бывает.
— Это плохо?
— Что?
— Быть геем.
— Не плохо. Просто он не такой, как другие.
— Другие — кто?
— Другие — мужчины, которые любят женщин.
— Как папа?
— Совершенно верно.
— А я знаю кого-нибудь из геев?
— Понятия не имею. Какое это имеет значение?
— Просто интересно.
Мерси покосилась на мальчика. Выражение лица у него было странное. Почти отсутствующее, но это только казалось.
— Хорошо было на лодке? — спросила она.
— Нормально.
— Хочешь доесть мою пиццу? — Уилл свою уже прикончил.
— Если только она без анчоусов.
— Откуда? Ты же знаешь. Хорошая пицца: полно грибов.
— Давай. Один кусочек.
Мерси переложила пиццу на тарелку Уилла и посмотрела вдоль улицы.
Редьярд внезапно сел и завилял хвостом.
— Что там? — спросил мальчик.
Пес вышел из-под стола и приблизился к перилам.
— Твой отец, — сообщила Мерси.
Гриффин прошел мимо с Найджелом, который играл Калибана; они направлялись в Фестивальный театр на дневное представление «Бури». Ни один из мужчин не сказал ни слова.
Уилл и Редьярд наблюдали за их удаляющимися спинами, как люди, брошенные на берегу, наблюдают за отплывающим судном, на которое они опоздали.
Мерси налила себе второй стакан вина.
— Хочешь еще пепси?
— Нет, спасибо. — Уилл оттолкнул тарелку.
Редьярд так и остался сидеть.
— Может, пойдем? — спросил мальчик.
— Сейчас, минутку. Только заплачу по счету.
— Давай побыстрее. Здесь так противно.
— Успокойся! — резко проговорила Мерси. — Они нас не видели — спешили. А если бы увидели, то наверняка бы остановились.
Уилл подался вперед и отхлебнул вина из стакана Мерси.
— В следующий раз спрашивай, — сказала она и придвинула вино к себе.
— Если бы я спросил, ты бы мне не дала.
Они помолчали.
— Мама сказала, что отец живет у Найджела и Сьюзи, — проговорил мальчик.
— Так и есть.
Уилл подумал и добавил:
— Наверное, для этого и нужны друзья.
— Иногда, — улыбнулась Мерси.
Принесли счет. Мерси расплатилась, и они отправились в долгий путь домой.
7
Суббота, 15 августа 1998 г.
В половине восьмого, когда Мерси готовила утренний кофе и чай, явился Люк. Уилла на кухне еще не было.
— Я еду к Шеппардам. Можно на минутку?
— Конечно. Садись. Кофе сейчас поспеет. Люк расстегнул куртку и сел за стол.
— Ты в порядке? — спросила Мерси.
— Да. Только немного устал. Шеппарды хотят добавить еще роз. Я их убеждал, что сейчас не лучшее время сажать, но они настаивают. Ну ничего, может быть, все обойдется. Они у меня в грузовике.
— Кто, Шеппарды?
— Нет, — рассмеялся Люк. — Боже упаси — там жена — истинная заноза в заднице. Одни розы. Шесть штук.
— А если цветы не приживутся, виноват, конечно, будешь ты.
— Ну и ладно — они же платят.
— Еще бы.
Мерси подала кофе, молоко и принесла кружки Люку и себе.
— Ты как? — спросил он.
— Ничего. Вот Уилл меня беспокоит. Очень его жалею.
— Да… паршивая ситуация для ребенка.
— Хуже некуда. Боюсь, это плохо на него подействует. А что можно сделать? Только подбодрить — и все. Самое печальное, что он начинает ненавидеть родителей.
— Гриффа, наверное, не видите?
— Только на улице. Вчера встретили.
— А как Джейн?
— Ушла в подполье — мы почти не разговариваем.
— Скверно. Она хорошая женщина.
— Да.
Люк помешал кофе.
— Я вот зачем пришел. Хочу пригласить тебя на ужин.
— С удовольствием. Когда?
— Завтра нормально?
— Отлично.
— Я здорово готовлю спагетти под соусом. И салат. Подойдет?
— Еще как. Когда приходить?
— В семь. По-моему, для выпивки как раз.
— Договорились. Я очень рада. Бог знает сколько времени не была в гостях. Что-нибудь принести?
— Только себя. И, может, немного сыра.
— Хорошо. Я собиралась сегодня в «Соби». Удачно, что ты успел.
Люк обвел глазами комнату — никого, кроме Мерси.
— Мне их недостает.
— Мне тоже. Так что ты не один такой.
— До завтра.
Мерси улыбнулась.
Люк ушел.
Она слушала, как заработал мотор, посмотрела, как грузовик отъехал от дома, и вернулась к столу.
Даже Редьярда нет.
Вороны улетели из сада и теперь не вернутся дотемна. Миссис Арнпрайр распахнула окна. Мерси с грустью вспомнила вот такие же утренние часы в детстве: приезжали фургоны молочника и пекаря, а почтальон тогда приходил три раза в день — уж на их-то появление можно было точно рассчитывать. Но постепенно все это сошло на нет. И теперь не появлялся никто.
8
Суббота, 15 августа 1998 г.
Жара давила сверх всякого разумения.
Неужели там, снаружи, еще осталось что-нибудь живое, думала Джейн.
Она лежала на кровати в белье — опасалась, что может войти Уилл, иначе бы разделась донага.
Электровентилятор на туалетном столике поворачивал голову туда-сюда и мурлыкал нечто, похожее на какой-то электрический мотивчик, сочиненный одним из этих юных умников, бритоголовых и в толстых очках, которых телевидение упорно рекламирует как гениев «поколения некст».
В дверь тихонько постучала Мерси и просунула в комнату голову. А увидев, что Джейн не спит, вошла.
— Что такое?
— Хотела вам кое-что показать.
— А нельзя попозже?
— Нет. Уилл катается на роликах с сыном Роузкуистов. Вам надо посмотреть это, пока он не вернулся.
Джейн села в постели.
— Что он натворил? Пристукнул миссис Арнпрайр, а труп запихнул себе под кровать? Порой мне даже хочется, чтобы он это сделал. Вы ее не слышали вчера вечером, а я слышала. Заклинания луны! — Джейн принялась напевать: — «О Луна, Луна, любезная Луна…» Совсем у нее мозги расплавились.
— Неудивительно, при такой-то жаре. Ну, пойдемте.
Джейн последовала за Мерси в комнату Уилла.
— Я убирала в шкаф чистое белье и кое-что нашла. Подумала, что должна вам показать.
Кровать мальчика была, как всегда, аккуратно застелена — уголки по-больничному подогнуты, подушки расправлены. Этому его научила Мерси, сказав: Тут дело в самоуважении. Как сам к себе относишься, так к тебе станут относиться другие.
— Ну, что? — спросила Джейн. — Где?
— В шкафу. На дне.
Джейн пересекла комнату и заглянула в шкаф.
— Ботинки?
— За ними.
Джейн пошарила рукой и через мгновение наткнулась на четыре обрывка бумаги, затвердевшей от краски. У нее перехватило горло.
— Господи, — пробормотала она. — О Боже!
Джейн стояла и вертела обрывки в руках.
— Не могу поверить.
— И я тоже, — кивнула Мерси.
Эти обрывки были тем, что осталось от акварельного рисунка Уилла, за который весной мальчика наградили в классе; с тех пор рисунок висел, пришпиленный к его доске для объявлений в самом центре, среди прочих сокровищ Уилла.
Тема рисунка — семейный пикник. Джейн и сейчас могла распознать каждую фигуру: вот Уилл кормит Редьярда, а Мерси наливает из термоса лимонад. Грифф, обняв Джейн за плечи, смеется. Лица мальчик набросал карандашом и каким-то образом сумел придать матери выражение спокойной безмятежности.
— Так… — протянула Джейн. — По крайней мере, не выбросил.
— Что нам теперь делать? — спросила Мерси.
— Не знаю. Подержу пока у себя в студии. Может, потом удастся склеить. А в остальном — понятия не имею. — Джейн отвернулась. — Господи, как мы докатились до такого?
Это был риторический вопрос.
9
Воскресенье, 16 августа 1998 г.
Сент-Мерис. Карьер.
— Мы раньше часто сюда ходили, — сказал Уилл.
На нем была майка и шорты. Мальчик надеялся выглядеть взрослее. Купанье не очень для этого подходило. Скрыть свой возраст не удавалось. Руки и ноги Уилла были худенькими — а его идеалом был Гриффин.
Джейн ничего не ответила, хотя все понимала. Но когда человеку семь лет — восьмой, ему многого не объяснишь. Со временем Уилл возмужает и станет таким, каким хочет быть. Но пока он всего лишь ребенок.
Карьер Сент-Мерис был популярным местом купанья — особенно среди тех, кто имел отношение к Стратфордскому фестивалю. Там даже тонули. Если точно — двое. И это придавало месту печальную, несколько романтическую ауру, словно здесь обитали привидения. Утонули не актеры, a — что было не менее трагично — двое подростков из фермерских семей, где так и не оправились после потери. Их расположенные по соседству фермы с тех пор пошли под городские застройки.
Два паренька — четырнадцати и пятнадцати лет — росли вместе. Их подружки были сестрами и жили через дорогу. Родились, росли, умерли.
Поздним вечером летом 1946 года они все вместе отправились к карьеру. Война окончилась. Атомные бомбы были сброшены. Ребята ничего не застали — по молодости. И теперь им принадлежал весь мир.
Но вот…
Джейн об этом Уиллу не рассказывала.
Зачем?
Спасателей здесь по-прежнему не было. На спасателей нужны деньги. Зато имелись многочисленные объявления, предупреждающие об опасности. И веревки, которые ограждали зону купания. Ходили слухи, будто этот карьер — а может, так оно и было — не имел дна. И вел прямиком в ад.
Достоверно одно: там, внизу — не рай.
И тем не менее карьер Сент-Мерис был любимым местом Уилла.
— Что бы ты хотел съесть? — спросила сына Джейн.
— Сэндвичи с копченой говядиной, — ответил Уилл.
Они закончили трапезу и грелись на траве под солнцем. Неподалеку находились столики, но Уилл предпочел траву. Только слабаки сидят за столами.
— Мы раньше часто устраивали пикники.
— Да.
— Мама?
— Что?
— Ты только мне не ври. Папа вернется?
Джейн посмотрела на воду и стряхнула муравья с левого колена.
— Не знаю, — а что еще можно ответить? — Но думаю, что да. И… — Она помедлила. — Я правда верю, что он вернется.
Уилл потер пальцы одной ноги о пальцы другой. Ему следовало бы постричь ногти, но Джейн так и не научила его это делать.
— А если нет, то как нам быть?
— В каком смысле?
— У нас есть деньги?
Джейн коснулась ладонью лба сына и откинула ему волосы с глаз.
— Дорогой, у нас всегда будут деньги: во-первых, мое наследство. И еще — я хочу, чтобы ты это усвоил — у меня есть работа, я каждый день зарабатываю деньги. Так же, как папа.
Уилл отвел взгляд.
— А где мы будем жить?
— Там же, где и теперь. Почему бы и нет?
— Но без папы… Может, придется переехать…
А у меня друзья. Третий класс. Моя ворона. Кто ее станет кормить?
Джейн взяла сына за руку.
— Ты, — сказала она.
— Обещаешь?
— Да. Твердо.
Уилл выдернул руку и вскочил:
— Теперь я знаю, что ты врешь. Всегда обещаешь и никогда не выполняешь.
Ну что тут ответить?
После этого они почти не разговаривали.
Наконец Джейн решила, что пора собираться домой. И велела сыну подобрать разбросанный мусор, положить в пакет из-под сэндвичей и отнести в бачок рядом со столами для пикников. А сама принялась укладывать вещи в рюкзак.
О рисунке семейного пикника она не упомянула. Джейн надеялась, что ее предложение устроить пикник подтолкнет сына к откровенности и он сам все расскажет.
Но…
Не получилось.
Они даже плавали молча — тишину нарушал только смех других семейств, пришедших охладиться в воде карьера.
Джейн заткнула пробкой бутылку вина и глянула в сторону столиков: нашел ли сын бачок для неперерабатываемых отходов?
Но Уилла нигде не было видно.
Она встала.
У столов его точно нет.
Обвела глазами сидящих там и сям на траве людей.
— Уилл!
Никто не откликнулся на ее крик.
Взгляд уперся в воду.
Господи!
Джейн подбежала к берегу и оглядела торчащие над водой головы.
Боже!
— Уилл!
Ей никто не ответил.
В этом месте стены карьера уходили отвесно вниз. Джейн прыгнула в воду.
— Уилл!
Тишина.
Она поплыла вперед. Нырнула, пытаясь рассмотреть, что там, на глубине.
Бездонная пропасть.
Она вынырнула и повернула обратно.
Помогите! Мне нужна помощь! Скорее! Кто-нибудь!
Уилл стоял на краю карьера.
Они посмотрели друг на друга.
И, обменявшись взглядами с сыном, Джейн догадалась: он решил ее напугать. Как Том Сойер:
Пусть все они обо мне поплачут, а я явлюсь на свои собственные похороны.
Выбравшись на берег, она решила не обсуждать эту тему.
— Мне стало жарко, — только и сказала она — словно от нее требовалось какое-то оправдание.
— Ясно.
— Да, мне стало жарко. Иди к машине.
Вечером, когда Джейн пришла поцеловать его на ночь, Уилл сказал:
— Спасибо, мама.
— За что? — спросила она. Но оба все понимали. Когда Джейн вышла из воды, выражение лица выдало ее. Я думала, ты утонул. Это не было произнесено. Только написано на ее лице.
10
Воскресенье, 16 августа 1998 г.
Дом Люка на Маккензи-стрит в семь часов вечера был освещен довольно ярко. Из сыров Мерси выбрала «Стилтон». Проблема заключалась только в том, что от него несло до самых небес, с чем она пыталась бороться, завернув сыр в коричневый пластиковый пакет, который берегла для подарков.
Мерси была в платье из пестрого хлопка — желтые и голубые цветы на белом фоне. Рукава длинные и свободные, ворот с фестонами. Она надела также искусственный жемчуг и вымыла голову.
Машину она припарковала на дорожке и вернулась к передней двери. На затянутой сеткой веранде стояли стулья, плетеная кушетка и несколько старых столов.
И еще там был горшок с трепещущим цикламеном. Красным.
А он что-то планирует, подумала Мерси. Хочет показать, что культурный.
Она позвонила снаружи, хотя вполне могла бы прямо пройти в дом.
Люк вышел на веранду в белой рубашке, заправленной в безукоризненного покроя джинсы.
— Вот и славно. Добро пожаловать, — сказал он. И открыл перед ней дверь.
Сначала они сидели на веранде — пили вино и пиво и обменивались обычными любезностями. Никак не удавалось расслабиться — оба нервничали из-за нового поворота в их отношениях. Они уже спали вместе, но ни разу не сидели вместе за столом — в официальном смысле. Оба чувствовали неловкость, словно их дружба только зарождалась, а не была в самом разгаре.
— Спасибо за сыр.
— Надеюсь, ты такой любишь?
— Да. — Люк помолчал и добавил: — Очень. Обожаю датский голубой с плесенью.
— Это «Стилтон».
— Ах да, какой же я дурак. Конечно, «Стилтон».
Пауза.
Мимо прошли несколько мужчин — у каждого небольшие красные пакеты с золотыми кистями.
— Привет, Люк!
— Привет!
— Привет!
— Привет, ребята!
Они скрылись, и Мерси спросила:
— А эти пакеты… что в них такое? Они идут на вечеринку?
— Нет, там обувь для боулинга. «Краун-роял».
— Понятно. Это их команда?
— Нет. Сорт хлебной водки, — улыбнулся Люк. — Покупаешь бутылку, а пакет потом используешь для чего-нибудь другого.
— Значит, обувь для боулинга?
— Обувь для боулинга.
Снова молчание.
Тема Джесса висела в воздухе.
Наконец, глядя в окно на улицу, Мерси спросила:
— Ты не сомневаешься, что это несчастный случай?
— Что?
— Смерть Джесса.
— Да.
— А последствия какие-нибудь были? Ты ведь говорил о наркоторговцах?
— Нет. Ничего. Больше ни одного звонка.
— А полиция?
— При чем тут полиция?
— Ну как же… они всегда интересуются… человек умер в общественном месте. Что они говорят? Все в порядке?
Люк поскреб левую щеку у губ. Молчи. И ответил:
— Да.
Мерси не поверила. По крайней мере, поняла: что-то недосказано. Но не стала больше расспрашивать. Было ясно, Джесс так и останется загадкой, пока Люк когда-нибудь не заговорит. Но это зависело только от него.
— Дай огоньку, — попросила она.
— Конечно, — он поднес зажигалку к ее сигарете и закурил сам.
Мерси сделала глоток вина, положила ногу на ногу и откинулась на спинку стула.
— Ты часто сюда приходишь? — спросила она.
Люк на мгновение смутился, но, заметив ее улыбку, расхохотался:
— Частенько. Почти каждый вечер. Но тебя ни разу здесь не видел.
— Я работаю в другом районе.
— Понятно, — молчание. — Ты замужем?
— Я вдова.
— О! — недолгая пауза и взгляд на руки. — Собираешься снова замуж?
— Ну… не знаю… это от многого зависит.
— От чего?
— Смогу ли я освободиться. От прошлого. Есть такие связи, которые я не в состоянии порвать.
— Какие, например?
— Речь о человеке по имени Том. По фамилии Боумен. Ну и другое.
— Продолжай.
Люк долил вина в стакан Мерси и открыл еще одну бутылку пива.
— У меня есть дети.
— Наслышан.
— Да. Но это взрослые дети. О них никак нельзя забывать.
— Разумеется. Зачем же забывать?
— Не хочу, чтобы они стали проблемой для кого-то еще.
— А почему ты думаешь, что дети — это проблема?
— Есть люди, которые не переносят чужих детей. Особенно если у них самих детей нет.
— У меня был Джесс. Джесс и все остальные. Все остальные, включая мать и отца.
— Это не дети.
— Дети. Во всех отношениях, кроме одного.
— Какого?
— Возраста. Все мои дети были пятидесятилетними подростками.
— А теперь умерли? Все?
— Мать и отец. Джесс. Гек. Он первый, после Бет. Она умерла при рождении. Марбет после этого так до конца и не оправилась. Роды были тяжелыми, очень тяжелыми, а потом Бет скончалась. Прожила всего дня четыре, но достаточно, чтобы Марбет и Проповедник ее полюбили. Печально.
— Да. Как у моих соседей, Саворских. Их ребенок недавно умер.
— Это не у того парня, из компании «Белл», который приезжал чинить телефон, когда я перерубил кабель?
— У того самого.
— Он показался мне славным малым.
— Хороший парень.
— Ты знала моих родителей? Марка и Эбби?
— Нет. Но слышала о них. Я думаю, все слышали: в ту пору Стратфорд был совсем маленьким городом. Каждый знал о других все.
— И что ты о них слышала?
— Что они много пили. Ссорились на людях. Даже не ссорились, а дрались. И порой полиции приходилось вмешиваться. А когда они умерли, их сын остался один. Вот только твоего имени я не слышала. В те времена. Извини, что я это говорю. Но дебоширы Куинланы были у всех на устах. Им постоянно перемывали косточки.
— Все нормально. Еще повезло — могло быть хуже, учитывая, что они сотворили со своими жизнями. Только Бог ведает, были ли они когда-нибудь счастливы. — Люк на мгновение задумался и продолжал: — Если вспомнить, удачных браков не так уж и много, верно?
— Мой был удачным. С Томом. А не с тем сукиным сыном, Стэном. С Томом — да.
— Мне казалось, вы не были в браке.
— Не были. Но лучшего замужества не представить.
— Ты его любила?
— Да. — Мерси помолчала. — Ты его помнишь? И всех его кошек?
— Конечно. Я заправлялся у него, когда начал водить машину. Его колонка стояла в южной части города, куда моих родителей никогда не заносило.
— А когда ты начал ездить?
— В тринадцать лет.
Мерси удивленно подняла брови:
— Но у тебя в те годы не могло быть машины.
— И не было. А зачем мне? Я катался на их машине. Родители дошли до такой кондиции, когда лучше сидеть дома, чем выходить на улицу.
— А как же магазины? Им же нужно было покупать продукты. Покупать выпивку.
— Нужно… И поэтому…
— Поэтому?..
— Поэтому я их возил. На стоянке перебирался на пассажирское сиденье, а они шли в магазин и дурили продавцов. «Зерс» назывался тогда «Лоблоз». Я составлял для матери список покупок, а она врала продавцам, будто почти слепа и ей требуется помощь…
— Ха!
— Да, да, — хмыкнул Люк и состроил гримасу. — «Пожалейте меня: я почти ничего не вижу. Помогите!» Конечно, как тут что увидишь, когда зенки зальешь. Цеплялась за прилавок руками, чтобы не упасть. Отец составлял свой список сам. Ковылял по рядам, возвращался с полной тележкой бутылок, и я перегружал их в багажник.
— А кто за все платил? Они же не работали.
— В итоге я. А до этого было отцовское наследство. Он получил дом и приличную сумму денег.
— Дом?
— Вот этот дом.
— Понятно. Но деньги? Ведь были и другие дети?
— Проповедник понимал, что другие заработают себе на жизнь. Так более или менее и случилось. А отец никогда бы себя не обеспечил. И Проповедник не хотел, чтобы тот умер в нищете.
— О таких вещах говорят: «подать богатому».
— Справедливо. Отец был богат тем, что, по его мнению, ничего не имел. Богат нуждой. Нужду он превратил в образ жизни, в оправдание бегства от мира. Никто никогда мне ничего не давал. Только материнскую любовь, крышу над головой и стол, как всем детям. Отцу этого было недостаточно. Он хотел большего. Он хотел убежища на всю жизнь.
— Как Джесс?
— Нет, у Джесса было иное оправдание — страх поражения. Отец обожал поражения. Они подкрепляли его статус достойного пьяницы.
Мерси посмотрела на деревья.
Листья трепетали на ветру. Сухие, но яркие. Зеленые.
— Как хорошо, что они у нас есть, — проговорила она и показала на деревья рукой. — Они по-своему рассказывают нам историю наших жизней.
— Да, — улыбнулся Люк. — Наверное, поэтому я — садовник.
Они допили пиво и вино и отправились в дом.
Ужин получился на славу. Еда была простой, но богато приправленной специями.
— А ты хороший повар, — заметила Мерси, нарезая сыр.
— Я прилично готовлю два-три блюда, — рассмеялся Люк, — фритату, креветки под чесночным соусом — все в этом роде. И жаркое из говядины. Но редко приходится готовить. Для себя почти никогда. Слишком усталым возвращаюсь домой. В основном питаюсь кемпбелловскими готовыми супами. Прекрасная вещь для одного. И еще ужинами «Крафта».
— А что это за фритата?
— Никогда не ела?
— Как-будто нет.
— Итальянский омлет. Заполняет всю сковороду. Можно положить лук, помидоры, зеленый и красный перец, немного грибов. И, конечно, яйца. Люблю фритату. И вообще плотно поесть. То, что надо в конце дня.
Они ели салат, сыр и молчали. Люк открыл две бутылки «Вальполичеллы».
— Раз ешь итальянское, значит, надо и пить итальянское.
Мерси уже успела изучить столовую: длинный, широкий стол, двенадцать стульев с гладкими, прямыми спинками, викторианские буфеты, зеркала, канделябры и люстра из красного стекла. И главная достопримечательность — украшенный узором из клевера, дубовых листьев и желудей семейный девиз, дошедший от Марбет и Проповедника: «Стань самим собой». Мерси слышала его историю.
— Люк, почему я здесь? — спросила она.
Он посмотрел на свою тарелку и положил руки по обе ее стороны.
— Потому что этот дом слишком велик для меня одного.
Мерси помолчала, отпила вина и закурила.
— А привидений недостаточно?
Он не поднял глаз и ответил едва слышно:
— Нет.
Она внимательно разглядывала его. Люк сидел и казался таким далеким: серые, седеющие волосы, хорошей формы уши, мускулистые плечи, руки с навсегда въевшейся грязью под обломанными ногтями, лоб, брови, скулы, губы. Опущенный к самой тарелке подбородок, веки с девичьими ресницами. Его полупустой стакан. Белоснежность рубашки. И тело под ней. Наклоненное вперед, но не ссутулившееся. Люк никогда не сутулился.
А он изящен, подумала Мерси. Редкое качество для мужчины, если он не выступает перед публикой — не актер, не танцор, не певец, не хоккеист и не звезда бейсбола…
— Это все, что ты хотел сказать? «Дом слишком велик»?
— Ты тоже одинока, — заметил Люк, словно предлагая Мерси сравнить их жизненные обстоятельства.
— Да, я тоже одинока.
— Зачем оставаться одиноким, если в этом нет смысла?
— Я не хочу быть заменой Джессу, Люк. Кем-то, о ком ты обязан думать и заботиться.
— Ты прекрасно знаешь, что это не так. Меньше всего я думал об этом. — Он запнулся и добавил: — Ты мне нравишься.
— Тебе нужна сожительница, чтобы не таскаться одному по всем этим комнатам. Туда-сюда. Туда-сюда.
— Конечно, нет. Я просто…
— Ты просто не знаешь, как сказать: «Я тебя люблю».
Он поднял на нее глаза.
Мерси улыбнулась, но движения навстречу не сделала. Расслабься.
Люк снова потупился и прикусил губу. Передвинул стакан, затем поставил на прежнее место. Опустил руки на колени.
— Нам не нужно говорить, что мы любим друг друга, — продолжала Мерси. — Мне достаточно того, как ты сказал: «Ты мне нравишься». Потому что ты мне тоже нравишься.
— Это означает «да»?
— С определенными условиями.
— С какими?
— Я сохраню фамилию Боумен. Буду продолжать заботиться об Уилле, пока он во мне нуждается. Я привезу кое-какие свои вещи, чтобы сделать комнаты повеселее. Привезу кошек. И еще: мы разделим обязанности — я буду подстригать траву, а ты — пылесосить ковры.
Люк улыбнулся ей, но очень застенчиво; и именно в этот момент Мерси поняла, как сильно он хотел того, что произошло.
— И еще: я надеюсь, ты не станешь возражать, если я всем расскажу, что живу с человеком младше себя. Я буду этим гордиться. Меня спросят: «И сколько ему?» А я отвечу: «Пятьдесят. Неплохо для такой старушки, как я». И все согласятся.
Люк встал и подошел к ней.
— Договорились?
— Договорились.
Они пожали друг другу руки.
И в ту ночь спали в одной постели.
Ближе к утру Мерси проснулась и пошла в ванную.
Сколько тут комнат, думала она, переходя из одной в другую… И Уиллу я не вечно буду нужна… Столько комнат… Оклеить новыми обоями, покрасить. Сделать еще два туалета. Я всегда мечтала об этом… стать хозяйкой гостиницы.
«Гостиница Маккензи: ночлег и завтрак». А почему бы и нет?
Когда она вернулась в постель, Люк опять потянулся к ней, и рассвет они не заметили.
11
Воскресенье, 16 августа, 1998 г.
В тот самый вечер, когда Люк и Мерси ели спагетти, Грифф, Найджел, Сьюзи, Зои и Ричард Хармс вместе ужинали в «Паццо». По воскресеньям не было вечерних спектаклей, только утренние, и рестораны работали лишь в обеденное время. Но в этот день половину «Паццо» заняли приехавшие на автобусе из Буффало, штат Нью-Йорк, дамы. Они смотрели утреннее представление «Стеклянного зверинца» и теперь подкреплялись. Поэтому вторая половина «Паццо» была открыта для местных клиентов.
По понедельникам спектаклей не было, и в воскресный вечер актеры, если хотели, могли расслабиться и как следует погудеть. И сегодня они настроились именно на это.
Во время первого круга голубого мартини возникла атмосфера праздника.
— Я приняла решение, — заявила Зои, — и хочу, чтобы вы его одобрили.
— Может, одобрят, а может, нет, — хмыкнул Ричард и взял ее за руку. Он явился один, объяснив, что предпочитает провести вечер с друзьями, а не с занудной каргой, именуемой моя жена.
Зои, разумеется, была в восторге.
— Решения, решения… — проговорил он. — Но какое это будет решение? Готов поспорить, Зои хочет бросить театр и начать совершенно новую жизнь в качестве гонщицы. — Ричард подмигнул собравшимся.
— Так о чем идет речь? — спросила Сьюзи.
— Я решила поменять имя, — расплылась в улыбке Зои.
— О нет, — всполошилась Сьюзи. — Дорогая, не надо. Публика только-только начала узнавать твое имя.
— Сьюзи права, — подхватил Найджел. — Нельзя менять имя в середине карьеры.
— Я не в середине карьеры, Найдж. Я в самом начале.
— Но это было чертовски хорошее начало. Продолжай в том же духе.
— Я тоже однажды подумывал переменить имя, — вступил в разговор Гриффин.
— Ты мне никогда не рассказывал, — повернулся к нему Найджел. — На какое?
— Не знаю. Может быть, на Роберт де Ниро. Но кое-кто меня опередил. — Грифф ухмыльнулся.
— Ах ты шалопай! — Найджел стукнул его кулаком по руке, и оба рассмеялись.
— Не смейтесь, — оборвала их Зои. — Я серьезно. Решила и сделаю. И уже говорила с Робертом. Он попросил меня остаться в труппе на следующий год. И к тому времени я поменяю имя. Он согласился.
— Ну хорошо. — Найджел откинулся на стуле. — И какое же будет новое имя?
— Тоже Зои.
— Как? — в один голос воскликнули сидящие за столом.
— Зои. Но без диакритического знака.
— Что это за дьявольщина — диакритический знак? — поинтересовался Грифф.
— Мое имя пишется с двумя точками над последней буквой. А будет писаться без них. Опустить их — и все дела.
— Зачем? — это спросил Найджел.
— Потому что преклоняюсь перед Зои Колдуэлл. В ее имени нет никакого диакритического знака, и видите, как она преуспела. Я видела ее в «Мастер-классе» и буквально влюбилась. Она величайшая актриса нашего века. И вообще всех веков. Гениальная.
— Перемена имени не превратит тебя в гения, — заметила Сьюзи.
— Не принесет успеха в один вечер, — поддакнул Гриффин. — Успех зарабатывается годами.
— Давайте подождем и посмотрим, — возразил Ричард. — Дадим ей шанс. Мне самому не нравится эта идея. Но она хочет, а раз так — что ж, я не против.
— Трудно будет привыкнуть, — вздохнул Грифф. — Но если тебе действительно приспичило, Бог в помощь. — Он взял ее руку и поцеловал кончики пальцев.
— Спасибо, Грифф.
— И когда же мы приступим к перемене? — поинтересовалась Сьюзи.
— Давайте прямо сейчас, — предложила Зои.
— За это надо выпить по новой, — обернулся к ней Найджел.
— Идет.
Подошел официант Стив, чтобы принять у них заказ.
— Передайте Джеффу, что его искусство растет, — улыбнулся Гриффин. — Последняя порция была просто грандиозной.
Джефф, младший совладелец «Паццо», очень гордился своими коктейлями, и это было известно всем.
— Непременно. — Стив закатил глаза и поспешил обратно к стойке.
Зои заметно нервничала, но Ричард сжал ей руку и посоветовал расслабиться.
— Ничего, мы привыкнем, — сказал он. — Очень быстро забудем, что твое имя писалось как-то иначе.
— О, я так рада. Я боялась, ты меня обругаешь. — Она отняла руку и щелкнула зажигалкой.
— Когда ты начала курить? — спросил Грифф.
— Я курю только после шести. Всего четыре или пять сигарет. Сегодня эта — первая.
Они представляли собой очень симпатичную компанию молодых актеров. Все, кто их видел — а на них смотрели, — сразу понимали, что дело не только в приятной внешности этих людей. Они интриговали и привлекали внимание. В них чувствовались стиль и достоинство, и они развлекались, а не рисовались. Они также явно обладали чувством юмора и радовались обществу друг друга. Найджел был плотный и угловатый, а Гриффин — стройный и гибкий. Ричард отличался от них обоих — о таких говорят: скорее интересный, чем красивый. Подобная внешность была весьма удачной для него — уже немолодого характерного актера. Сьюзи представляла абсолютную противоположность Зои: пышная блондинка, наделенная природным пленительным обаянием.
— Мне здесь нравится, — объявила она и обвела глазами зал с многочисленными столиками и множеством официантов — юношей и девушек, одетых в черное и белое. Ресторан славился превосходной итальянской кухней и винами высшей пробы. А посетители состояли из актеров, туристов и местных жителей — поровну. Здесь всегда было много цветов, всегда звучала музыка. И всегда обнаруживался кто-нибудь из знакомых. Вот и сейчас за боковым столиком с каким-то нью-йоркским приятелем сидел Уильям Хат. Он пропустил сезон из-за операции на бедре, но до этого произвел фурор, превосходно сыграв роль Лира.
— О боже! — воскликнула Сьюзи и уставилась куда-то поверх плеча Гриффина.
— В чем дело? — спросил ее Найджел.
— Джейн.
Грифф нахмурился:
— С кем?
— С Уиллом.
— Так… — сказал Найджел. — Давайте подождем и посмотрим, где они сядут. Рано или поздно это должно было произойти. И по мне, лучше раньше, чем позже.
— А по мне, нет, — возразил Гриффин. — Я бы предпочел повременить — еще не готов.
Только Сьюзи, Зои и Ричард видели Джейн и Уилла, которые шли за Ларри, другим совладельцем «Паццо», к столику, стоявшему напротив и чуть наискосок.
— Они нас заметили?
— Джейн. А Уилл — нет. Он к нам спиной.
Принесли по второму мартини. Никто не говорил и не двигался, пока Стив расставлял бокалы.
— Готовы сделать заказ? — спросил он.
— Нет, — ответил Гриффин. — Сначала выпьем коктейль. Дайте нам время.
— Нет проблем. Но должен вас предупредить, у Дина сегодня филе миньон. И если кто-нибудь хочет порцию, лучше заказать заранее. У нас сегодня большой наплыв гостей.
— Есть желающие? — спросил Найджел.
— Да, — отозвалась Зои. Ее поддержали Ричард и Сьюзи.
— Я тоже возьму, — сказал Найджел. — Это уже четыре. А ты, Грифф?
— Нет, спасибо.
— Значит, четыре филе, — подытожил Стив и ушел.
— Грифф, ты уверен? — поинтересовался Найджел. — Его не поздно вернуть.
— Уверен. Я не голоден.
Возникла пауза. На Гриффа никто не смотрел.
Потратив на Джейн и Уилла всего несколько мгновений, Ларри, напевая под нос «Девчонки из Буффало», устремился на кухню мимо актерского столика.
— Веселая компашка в том зале, — бросил он, проходя. — Всем за семьдесят, но веселые. — Удивленный молчанием актеров, Ларри остановился. — Ладно, развлекайтесь, ребята. — Он улыбнулся и неторопливо двинулся дальше.
И еще с минуту никто ничего не говорил.
— Итак, — наконец предложил Гриффин, — давайте выпьем за Зои Уолкер, в скором времени величайшую кинозвезду, — и поднял бокал.
— Не надо так, — одернул его Ричард.
— Что значит «не надо»? Разве она этого не хочет?
— Не хочет. И ты прекрасно это знаешь. Не выпендривайся.
— Ричард, перестань. — Зои накрыла его руку своей. — Давайте все успокоимся. Сейчас для Гриффа непростой момент.
— Да, — поддержал ее Найджел. — Отстанем от него. Мы пришли сюда расслабиться и порадоваться друг другу. Предлагаю выпить за следующий сезон, в котором у нас у всех есть работа.
— Правильно, — подхватила Сьюзи.
— Конечно! — поддержала Зои.
Гриффин промолчал.
Все выпили.
Сьюзи наблюдала за Джейн и Уиллом.
Они заказали вино и пепси. Джейн явно заметила компанию актеров. Сьюзи кивнула и улыбнулась. Джейн ей ответила.
Сьюзи подумала, что Джейн выглядит измотанной — не столько уставшей, сколько подавленной, но ради Уилла старается казаться веселой и непринужденной. Застолья в воскресный вечер — любимая актерская традиция, и Джейн, наверное, хотела создать для сына особую атмосферу.
— А почему никто ничего не говорит? — поинтересовался Грифф.
Сьюзи метнула на Найджела многозначительный взгляд.
Он посмотрел в сторону, потом снова на жену.
— Скажи ему то, что говорил вчера вечером. — Сьюзи понизила голос: — Если не скажешь ты, скажу я.
Мгновение поколебавшись, Найджел повернулся к Гриффу:
— Послушай, друг…
Гриффин глядел на свои пальцы, в которых вертел бокал.
— Да?
— Пора. — Найджел произнес это совершенно спокойно.
— Что пора?
— Пора возвращаться.
Грифф поднял голову — очень медленно, словно неимоверно устал.
— Ты, конечно, шутишь. Ты что, не понимаешь? Не видишь простой истины: я не смогу вернуться. Никогда.
Сьюзи наклонилась вперед:
— Мы не знаем, что между вами произошло. И не хотим знать. Просто…
Грифф ударил костяшками пальцев по столу.
— Никогда! — повторил он.
Зои ближе придвинулась к Ричарду.
— По крайней мере, мог бы поздороваться, — продолжала Сьюзи. Она вглядывалась в лицо Джейн и читала на нем сожаление и тоску.
— Она твоя жена, — сказал Найджел. — А он твой сын. Не превращайся в дерьмо. Это тебя недостойно. Ты на самом деле не такой.
— Они не понимают, что происходит…
— Может быть, и нет, — подхватила Сьюзи. — Но прекрасно сознают, что ты от них ушел. И им глубоко наплевать почему. Почему — не имеет значения. Только факт, что тебя нет. Бум! И ничего — ни мужа, ни отца, ни семьи. Если бы у тебя хватило духу, только хватило духу на нее посмотреть, то совесть бы заставила подойти.
Грифф повернул бокал на триста шестьдесят градусов и выпил до дна.
— Ты не можешь вечно прятаться у нас, приятель, — продолжал Найджел. — Мы тебя любим — верно. Но мы любим того человека, каким ты был, а не того, каким стал. Сьюзи и я, Ричард и Зои — мы все верны тебе прежнему. Но не способны вечно хранить верность тебе теперешнему. Ты постепенно становишься для нас незнакомцем. Я здесь твой самый старинный друг. Но друзья ничто, если они не требовательны друг к другу.
Грифф молчал.
— Ради бога, — наконец заговорил и Ричард. — Никаких подвигов от тебя не требуется. Просто встань, пройди через зал и поздоровайся. Ты уже всех достал, и это становится скучным. Так что давай двигай. Делай что надо.
Грифф опять вздохнул.
Потрогал бокал и спросил:
— Где Стив?
— Ждет, чтобы ты встал и пошел куда следует. Как и все остальные.
Ричард не солгал: вся театральная публика понимала, что происходит. Каждый знал, что случилось с браком Кинкейдов. Они, как и Сьюзи с Найджелом, были одной из любимейших семейных пар труппы. К ним относились с искренней теплотой, и когда они расстались, это огорчило всех.
Грифф оттолкнулся вместе со стулом от стола.
— Хорошо. — Он встал и повернулся к друзьям. — Нет… не могу. — Он оперся кулаками о спинку стула. — Не могу. Извините.
И вышел из ресторана.
Джейн посмотрела ему вслед.
— Что там? — спросил Уилл.
— Ничего, — ответила она. — Думала, там знакомый, но обозналась.
— Вот сукин сын! — проговорил Ричард. — Ведет себя просто бессовестно!
— Перестань, — возразил Найджел. — Никакой он не сукин сын. Загнал себя в угол, а теперь не знает, как из него выбраться. Дома, с нами, он похож на часы с перекрученным заводом. Удивительно, как он еще может играть.
— Это правда, — подтвердила Сьюзи и снова посмотрела на Джейн. — Мне жаль их обоих. Этого не должно было случиться.
— А разве когда-нибудь происходило то, что должно было случиться? — поинтересовался Найджел.
— Да, — отозвалась Сьюзи и взяла его за руку. — Мы.
Найджел улыбнулся и подозвал Стива.
— По третьему мартини, а потом мы закажем. Гриффин пошел прогуляться.
— Понятно, — и Стив удалился.
Ричард сказал:
— Слышали, завтра Клинтон дает показания в Белом доме? Процесс импичмента закрутился. Бедняга! Почему бы им всем не заткнуться?
— Хорошая идея, — похвалил Найджел. — Нам бы всем тоже не помешало заткнуться.
Сияющий путь
Ряды заграждений Проникли даже в глубь наших снов… Мы смотримся в зеркало Сквозь загражденья, И, бодрствуем мы или спим, Образ наш неизменен. У. Х. Оден «Памятник городу III»1
Вторник, 18 августа 1998 г.
В час пятнадцать пополудни к отелю «Пайнвуд» в Сент-Мерис подкатил «бюик» с шофером и американскими номерами. Выбравшись из машины, водитель подошел к пассажирской дверце — ближайшей к ступеням отеля. Открыв ее, он сделал шаг в сторону, пропуская женщину среднего роста, столь безукоризненной осанки, что она казалась на несколько дюймов выше. На ней было распахнутое, свободно струящееся летнее пальто поверх элегантного простого платья из жемчужно-серого шелка. Довольно короткие волосы женщины имели цвет, в точности совпадающий с цветом ее наряда от Диора. Образ завершали шелковая сумочка, шелковые туфли, темные очки и неяркая губная помада.
— Зайдите со мной в вестибюль, Лонсо, там я выясню, что буду делать дальше.
— Si, signora[34].
Они поднялись по ступеням, Алонсо снял фуражку и отворил дверь, пропустив госпожу вперед. Затем осторожно последовал за ней, постаравшись не хлопнуть дверью.
В вестибюле женщина подошла к конторке, сообщила управляющему свое имя и к кому она приехала.
— Он в зале ресторана, мадам. Попросить его прийти сюда?
— Не надо. Будет вполне достаточно, если вы просто укажете, куда идти.
— Хорошо, мадам.
Управляющий вышел из-за конторки, и женщина повернулась к шоферу.
— Подождите, пока не увидите, что мы идем мимо, и тогда можете пойти пообедать. Я вас извещу, когда вы мне снова понадобитесь.
— Si, signora. Grazie[35].
И водитель удалился. Он прекрасно говорил по-английски, но знал: госпожа предпочитает, чтобы он обращался к ней по-итальянски. Это добавляло ей таинственности и как бы поднимало над окружающими.
Добровольно отказавшись от своей прошлой жизни на публике, она была не в силах зайти так далеко, чтобы вовсе исчезнуть из поля зрения светского общества. Отчасти она до сих пор упивалась сопровождавшими ее повсюду любопытными взглядами и шепотком: «Кто это? Я знаю эту женщину. Кто она такая?»
Сняв перчатки, она последовала за управляющим — маленьким, щуплым, невзрачным человечком, — и тот, указав на ресторан так, словно это был бальный зал, вернулся к своим обязанностям.
Войдя, женщина сняла очки, подождала, пока глаза освоились с освещением, и направилась к дальнему столику у окна, отмахнувшись по пути от метрдотеля.
У столика она остановилась.
— Здравствуй, Джонни, — ее голос прозвучал не громче шепота.
Джонатан Кроуфорд поднял глаза:
— Святой боже, Анна! Святой долбаный боже…
— Мы, кажется, условились, что ты не станешь при мне произносить такие слова, — сказала женщина. И улыбнулась.
Джонатан поднялся:
— Извини… извини, но я так потрясен…
— Потрясен?
— Тем, что ты здесь… Почему ты не позвонила?
— Не захотела.
Женщина сняла пальто, села и положила сумочку и очки на скатерть.
— Мне стакан виски. Большой стакан и без…
— Безо льда, воду отдельно. Разумеется.
Джонатан поговорил с официантом и снова опустился на стул.
Он смотрел на женщину и крутил в пальцах сигарету.
Анна отвела глаза.
— Как всегда, красива, — сказал Джонатан.
— Спасибо. — Она взглянула на него и взмахнула рукой: — И ты тоже. Черт тебя побери.
— Что я могу на это ответить? — улыбнулся Кроуфорд.
— Просто будь доволен, что я все еще так считаю.
— Я доволен.
— Да, да. Разумеется, ты всегда был доволен.
Принесли напитки.
И они выпили. Без тоста.
Анна Черчилль вышла замуж за Джонатана Кроуфорда в мае 1976 года, и их свадьбу «Нью-Йорк таймс» и «Пост» назвали браком сезона. Анна была единственным ребенком мультимиллионера Уили Черчилля, который изобрел «Бран Мил» — зерновую смесь, годную и для людей, и для животных — кошек, собак и лошадей. После смерти отца Анна вложила изрядную сумму в искусство, особенно в театр. Таким образом она нашла Джонатана. Таким образом Джонатан был найден.
Сейчас Анна повернулась к нему, вертя в руке стакан и нарочно взбалтывая его содержимое, пока оно наконец не выплеснулось на скатерть.
— Неловкая, как и прежде. — Джонатан усмехнулся.
— Нет. Как обычно, стараюсь обрести уверенность. С мокрой скатерти стакан от меня не ускользнет.
— Ну, конечно.
— Ты уже сделал заказ?
— Да. И успел поесть. А ты не голодна?
— Нет. Просто хотела удостовериться, что ты накормлен.
— Звучит как-то угрожающе.
— Может, так и было задумано.
— Зачем ты приехала? Путь от Филадельфии не близок. Столько времени за рулем… Или вел Алонсо?..
Анна несколько мгновений молчала и мерила взглядом расстояние от их столика до соседнего. А потом проговорила почти с робостью:
— Я должна кое-что сказать тебе. Но не здесь. Надо найти более уединенное место.
— Можно подняться ко мне в номер.
— Нет, нет, только не номер. Я не могу говорить об этом в закрытом помещении. Здесь есть что-нибудь еще?
— Разумеется. Сад.
— Хорошо. Пусть будет сад. Только прежде выпьем.
— Конечно. — Джонатан заказал двухлитровую бутылку вина. Это показалось ему подходящим к случаю.
— Кто все эти люди? — поинтересовалась Анна, рассматривая полный народа зал.
Джонатан улыбнулся, сделал неопределенный жест рукой и вздохнул:
— Не забывай, Стратфорд — театральный город.
— Ах да. Разумеется.
— Они приехали со всего света.
— Да, да, конечно, я не думала об этом.
— А о чем ты думала?
— О том, что я все еще тебя люблю. — Анна отвела взгляд.
Кроуфорд откинулся на спинку стула:
— Что ж. И во мне какая-то часть постоянно тебя любит.
— Только часть?
— Анна, ты меня знаешь. Должна понимать, что большего быть не может.
— Но ты мой муж.
— Был.
— Разве это для тебя ничего не значит?
— Это значит, что я лгал.
— О господи, опять!
— Но я в самом деле лгал. Приходилось. Я тебя любил. Однако понимал, что не должен — не могу жениться. Все так просто. Но ты настаивала. А я оказался слаб и притворился. — Джонатан пожал плечами. — Притворился даже перед самим собой: делал вид, что сумею быть хорошим мужем.
— И сумел.
— Неужели?
— Ты сам это знаешь. Мы были счастливы. Целых три года были счастливы. Мы даже…
— Да. Мы даже…
Принесли вино и бокалы. Кроуфорд потянулся к бутылке.
— Нет! — Анна схватила его руку. — Не здесь. Не в помещении. Снаружи. Ты обещал: в саду.
— Хорошо.
— Какие у тебя красивые руки. — Она положила свою вторую ладонь на его руку. — Золотые пальцы. Волшебные пальцы. Пальцы последнего эстета. Я всегда так считала. Длинные, изящные, сужающиеся к кончикам — необыкновенно красивые ногти. Нечасто увидишь такие руки — особенно у мужчин. Не понимаю почему… Никогда не понимала почему…
Анна посмотрела на Джонатана, не выпуская его руки.
— И длинное, мрачное лицо, — она коснулась пальцами щеки Джонатана. — Почти уродливое, — она улыбнулась. — И от этого еще более красивое. О, мой дорогой, мой дорогой, почему? Почему все так, как было, как есть? Почему?
Джонатан высвободился и положил ее руки на стол.
— Мы все знали заранее, когда решались на это. Сказали себе: Это не имеет значения. И мы свое взяли.
Анна опустила взгляд вниз, на колени.
— Да. Мы свое взяли.
— Пойдем на воздух?
— Да, пожалуйста. На воздух.
Они сели на скамью под деревьями на краю поляны.
Там стоял стол с пепельницей и сложенным зонтом, который они не стали раскрывать. Здесь в этом не было никакой необходимости.
Джонатан разлил вино, прикурил сигареты себе и Анне и повернулся к ней:
— Ну вот, мы на воздухе.
— Да, — сказала Анна. Она посмотрела на свою юбку и расправила ее, подняла сумочку и тут же снова поставила на место. И устремила взгляд на другую сторону поляны, куда выходил фасад отеля.
— Тебе повезло — здесь покойно, приятно, как… не могу подобрать слов…
— Как в надежном укрытии.
— Именно. Здесь все такое надежное. Настоящее убежище.
— Да. Убежище.
— У тебя кто-нибудь есть?
— Да.
— Я его знаю?
— Нет.
— Ты счастлив? Я имею в виду — с ним?
— Как сказать…
— Только «как сказать»?
Джонатан улыбнулся и пожал плечами:
— Он, как и я, семейный человек.
— Понятно. — Анна отпила немного вина, затянулась сигаретой и окинула взглядом деревья. — У него есть дети?
— Да. Сын.
— Сын.
— Да.
— Понятно.
Джонатан внимательно наблюдал за Анной. Она была напряжена. Светская львица всегда присутствовала в ней, как Анна ни старалась от этого отделаться. Что-то всегда ею управляло, не отпускало на свободу. Она никогда не могла отдаваться чему-то целиком.
Наконец Анна повернулась к Джонатану, и вся ее годами отработанная сдержанность вдруг улетучилась.
— Я не могла бы сказать тебе ничего хуже, чем это, — глаза ее наполнились слезами. Она снова схватила Джонатана за руки, обожгла и его и себя сигаретой, но пальцев не разжала.
— Что? — мягко спросил Джонатан. — Что случилось?
Анна посмотрела ему прямо в глаза:
— Наш сын мертв.
2
Вторник, 18 августа 1998 г.
Лунный свет.
Двое мужчин, обнаженные, лежат на разобранной постели.
Окна открыты.
Музыка.
— Неужели тебе обязательно это слушать?
— Да.
— Печальная мелодия.
— Если бы она была другой, я бы ее не слушал. Молчание.
И потом:
— Я о многом тебе не говорил.
— Уверен. Иногда, несмотря ни на что, мне кажется, что я тебя совершенно не знаю.
— Это мое кредо. Именно так я сохраняю свою целостность. С помощью молчания.
— Тебя вряд ли можно назвать молчаливым, Джонатан.
— И все-таки это факт. Я закрыт. Я прячусь. Это необходимо. Если людям все известно, они теряют веру в тайну.
Грифф знал, что это правда.
Он и сам практиковал то же самое.
От этой мысли он улыбнулся.
Быть мной нелегко.
Тоже мне новость! Нелегко вообще быть кем-либо.
Он прислушался к музыке. Кто-то пел.
— Ко мне сегодня приезжали. Днем.
— Да?
— Да. Моя жена.
Грифф молчал.
— Это тебя не удивляет?
— Вообще-то не очень. Хотя я считал, что она в Филадельфии.
— И я тоже.
Джонатан сел, прислонившись к спинке кровати, закурил и налил себе в стакан вина из уже открытой бутылки.
— Хочешь?
— Конечно.
Грифф потянулся за сигаретой.
— Огоньку?
— Да. Спасибо.
Они сидели, касаясь бедрами, и свободная рука Джонатана поглаживала волосы на животе Гриффина.
— Потрясающе, насколько расслабляюще действует примитивная музыка, — заметил Джонатан.
Грифф рассмеялся:
— Я не знаю следующей реплики, а то бы обязательно произнес ее.
— О чем именно ты вспоминал в тот момент?
— Не знаю. Я ни о чем особенно не думал.
— Это я тебе подсказываю следующую реплику.
— Ах вот как… хорошо… О чем именно ты вспоминал в тот момент?
Джонатан перевел взгляд на открытые окна.
— О сыне.
— О Джейкобе?
— Да, о Джейкобе.
Джонатан убрал руку с живота Гриффина и обвил пальцами бокал с вином. Он молчал.
— Почему ты думал о сыне?
— Потому что он умер.
— Умер? О господи, Джон! Мне так жаль. Как? Когда?
— На прошлой неделе. Анна потому и приезжала. Чтобы сказать мне. Ехала на машине из самой Филадельфии… То есть ее везли. У нее шофер-итальянец по имени Алонсо.
— Похоже, она богата.
— Это верно. Она из филадельфийских Черчиллей. Патронирует искусство. Очаровательная женщина. Милая. И очень гордая. Замкнутая. Но воспитала его хорошо. Нашего сына. Очень хорошо. Дала ему образование, какое он хотел. Отправила в мир. И…
Грифф посмотрел в окно. Луна.
— Что случилось?
— Его убили.
— Господи!
— Именно: господи!
— Что произошло? Где?
— Он был в Перу. Кажется, я тебе говорил. Собирался стать археологом.
— Да.
Грифф ждал. Его мошонка сморщилась. И он накрыл ее ладонью — согреть, оградить.
— Чтобы защитить диплом, ему надо было написать работу об одной из знаменитых развалин, и он выбрал Мачу-Пикчу, — Джонатан затянулся и выпустил дым в лунный луч. — Ему всегда нравились горы, — продолжал он. — Его звали Джейкоб[36].
— Да, я знаю. — Грифф пригляделся к Джонатану: его лицо казалось как никогда изможденным и усталым, продолговатые глаза почти закрыты, тонкие губы сжаты. Грифф коснулся его руки.
— Не надо. — Джонатан отнял руку. — Не сожалей о том, кого ты не знал. Это ни к чему.
Грифф скрестил ноги и ждал.
— Расскажи мне, — попросил он.
Последовало несколько секунд молчания, а потом Джонатан заговорил:
— Эти люди — члены секты «Сияющий путь».
— Я слышал о них.
Джонатан долил себе вина.
— Они против правительства. Судя по всему, против любого правительства.
— Марксисты?
— Возможно… какая разница. Они убивают. Это все, что имеет значение. Для них. И для нас.
— Да.
Наступила пауза.
— Он видел вот эту самую луну — в тот день, когда умирал. Эту самую луну, которую видим мы.
— Я очень тебе сочувствую, — сказал Грифф. — Что бы ты ни думал и ни говорил — мне все равно. Я тебе сочувствую.
— Прошу прощения. — Джонатан провел пальцем по тыльной стороне ладони Гриффа. — Я не со зла. Я тебя просто наставляя. — Он издал похожий на смех звук, взъерошил Гриффину волосы и вздохнул.
— Ну, конечно, — отозвался Грифф. — Ты был в своей режиссерской ипостаси, — он произнес это очень мягко.
— Они выдвинули условия, — продолжал Кроуфорд. — Трое заложников, все американцы и среди них — Джейкоб. Американцы — в этом был смысл предложенной сделки. Поскольку я канадец, а Анна американка, у Джейкоба было двойное гражданство. Будь оно проклято — американское гражданство его и убило.
Грифф распрямился и сел.
— И что дальше?
— Дальше?.. Не знаю, каковы были их требования: чтобы Америка прекратила набивать деньгами перуанские банковские сейфы или еще что-нибудь в этом роде… Но они ничего не получили… И тогда убили всех троих. По очереди — одного за другим. Тела оставляли в людных местах: на перекрестках, на площадях, на мусорных свалках. А сами скрылись. Джейкоб был первым. И слава богу.
Не представляю, как бы он мучился, если бы оказался последним.
Джонатан выпил.
— Ему было двадцать два. Двадцать два года. Ты помнишь этот возраст? Двадцать два года?
— Да. И очень хорошо.
— Все перед тобой открыто. Вся жизнь и весь мир.
— Да.
Джонатан тихонько дотронулся до щеки Гриффина.
— Как это было здорово…
Грифф ждал.
— Когда я увидел сегодня жену, — снова заговорил Джонатан, — увидел и вспомнил, что был в нее влюблен… вспомнил, что она была единственной женщиной, которую я любил… единственной женщиной в моей жизни… вспомнил Джейкоба, а потом — как мы поступили с тем, что создали вместе, я подумал… — он не закончил.
— У меня похожие воспоминания, — сказал Грифф.
Джонатан улыбнулся ему:
— Не допусти, чтобы то же случилось с тобой. С тобой и с твоей семьей.
— Не допущу, — ответил Грифф. — Ни за что. Если честно…
— Знаешь, когда я женился на Анне, это было из чистого тщеславия. И только. Ее деньги, ее имя, ее красота и то, что она меня хотела. И я ответил «да». Что-нибудь напоминает?
— Да.
— Нельзя было повторять то же самое с тобой. Я же все это знал.
Гриффин не отвечал.
— Прости, — прошептал Джонатан.
— Нет. Не надо… Я…
— Да? Что ты?
— Я многое узнал о себе. — Гриффин грустно рассмеялся. — И…
— И?
— И хочу вернуться к началу. К своему началу. Я куда-то шел и — заблудился.
— С нами со всеми это случается.
— Да.
— Ты сказал, что многое узнал о себе.
— Да.
— И сможешь этим воспользоваться?
— Да. На сцене и в жизни.
— Ты собираешься вернуться? Когда-нибудь?
— Если меня примут.
— Не будь идиотом. Тебя любят. И ты их любишь.
— Да.
— И я тебя люблю. Но… не для того, чтобы удерживать. Я это уже делал. И в результате ты меня возненавидел.
— Нет. Я не силен в ненависти. Не умею ненавидеть. Во всяком случае, тебя. Может быть, себя. Но не тебя.
— Значит, ты все же способен испытывать ненависть, — улыбнулся Кроуфорд.
— Тут другое дело. Я не могу быть самим собой, недостаточно хорош для этого — вот что я ненавижу. И только.
Джонатан поднялся, подошел к открытому окну и посмотрел на луну.
Луна. И лунная дорожка, там, на поляне. Сияющий путь…
— Мне тоже надо тебе кое-что сказать, — проговорил Грифф.
— Слушаю.
— Только не знаю, что ты подумаешь: хорошо это или плохо.
— Хуже, чем с Джейкобом, ничего быть не может.
— Конечно… Но, по-моему… по-моему, сейчас подходящее время сказать это. Пожалуйста, прости меня. Но я знаю, это подходящее время. И в каком-то смысле именно из-за Джейкоба…
— Продолжай.
Грифф взглянул на Джонатана, стоявшего обнаженным в лунном свете. Рослый, подтянутый, как струна. В паху, в темном ореоле черных волос, светлым мазком выделяется пенис.
Секс. Женщины. Жены. Сыновья.
— Я хочу вернуться домой. Теперь же.
Джонатан ничего не ответил.
— Я скучаю по сыну. Я скучаю по Джейн. Я скучаю по тому, кем я был.
По-прежнему никакого ответа.
Грифф ткнул сигаретой в пепельницу, словно поставил точку — точку в их отношениях.
— Я ни за что на свете не хотел бы тебя обидеть, — сказал он.
— Знаю.
— Но ты понимаешь? Понимаешь, почему я хочу вернуться?
— Да.
Джонатан подошел к кровати и загасил свою сигарету рядом с меркнущим угольком сигареты Гриффина.
Сел подле Гриффа и положил руку ему на бедро.
— Ты был — есть — и останешься самым желанным для меня мужчиной.
— Я не могу… не могу…
— Не надо ничего говорить.
Они выпили вина и снова закурили. Луна переместилась из одного окна в другое. Музыка оборвалась. Часы показывали три утра.
— Я буду всегда тебя любить. По-своему.
— И я.
— В марте нам еще предстоит работать над Меркуцио и Бироном.
— Да.
Они замолчали.
Потом Джонатан сказал:
— В нем было пять футов, десять дюймов. Весил сто шестьдесят фунтов. Опрятный. Худощавый. Серьезный. Носил очки. Возмутительно плохо видел. Был почти слеп! Но главное, он понимал, кем был.
Как Уилл, подумал Грифф.
Они немного посидели. А затем Джонатан произнес:
— Спокойной ночи, Гриффин.
— Спокойной ночи.
Кроуфорд лег, вытянулся со вздохом и положил одну руку на подушку, а другую — Гриффу на грудь.
Некоторое время Гриффин лежал не шевелясь — допивал вино и курил, — сигарета догорела до самого фильтра, струйка дыма полого тянулась в открытое окно.
Погиб. Двадцати двух лет. Мальчик, столько обещавший. Его больше нет.
Гриффину было нетрудно представить брошенный на перекрестке труп. Могли убить кого угодно. Но убили сына Джонатана. Его единственного ребенка.
Грифф мягко освободился от руки Кроуфорда, сел и спустил ноги на пол.
Мне повезло. Господи, как же мне повезло.
Уилл.
Джейн.
Он встал.
Завтра.
3
Среда, 19 августа 1998 г.
Когда «лексус» Гриффа затормозил на подъездной дорожке прямо за машиной Мерси, сама Мерси стояла у плиты и жарила яичницу. Яичница предназначалась для Джейн, которая собиралась на занятия с Эдной Мотт. Было без двадцати пяти девять. Уилл еще не спускался. А Редьярд бегал на заднем дворе.
Мерси мурлыкала под нос мелодию «Дама с острова Шалотт» Лорины Маккенет. Эта песня в настоящее время была ее любимой, вероятно, потому что отражала намерение Мерси «взирать на жизнь из окна». И хотя для Дамы с острова Шалотт это взирание закончилось трагически, для Мерси все трагедии постепенно стали меркнуть. Могло произойти нечто новое. И оно уже было на подходе. Решение жить с Люком и, возможно, сделаться его женой помогло увидеть в новом свете и принять мир. Принять в тех его проявлениях, которые, как Мерси боялась, уже никогда больше не будут для нее существовать.
Мотор «лексуса» не спутать ни с чем: низкий, напористый, растворяющийся в тишине гул сообщает, что подъехал именно «лексус».
В саду Редьярд бросил обнюхивать забор и поднял уши.
Хвост его медленно зашевелился.
Пес вскинул нос и втянул воздух.
Он.
Редьярд прыжками кинулся навстречу.
Знакомая рука погладила его по холке.
Пес встал на задние лапы.
У Гриффина ничего не было. Он решил доставить домой только себя самого.
Потрепав Редьярда за уши, Грифф поднялся на крыльцо.
Тихонько постучал и вошел.
Мерси уже стояла за дверью и смотрела на него.
Грифф улыбнулся.
— А где все? — спросил он.
— Здесь, — ответила Мерси.
— Ну конечно…
Мерси выключила газовую горелку, отставила сковородку с яичницей, накрыла крышкой и положила на стол лопаточку.
— У вас здесь какие-нибудь дела? — осторожно поинтересовалась она, вытирая руки полотенцем.
— Надеюсь, — ответил Грифф, не в силах перестать улыбаться. Редьярд сидел, во все глаза глядел на него и тихонько вилял хвостом.
— Мне положен поцелуй? — спросила Мерси.
— Да, мэм.
Они обнялись.
— Господи, — проговорила Мерси в плечо Гриффина, — как я Тебя молила об этом мгновении.
— И я тоже, — сказал Грифф. — Хотя, скорее всего, вы так не думали.
— Да.
Мерси отступила в сторону, вытерла слезы «Клинексом» и спросила:
— Хотите кофе?
— Да. Пожалуйста.
— Садитесь.
— Нет. Не могу. Слишком нервничаю. Вы их ждете? Я имею в виду… сейчас.
— Джейн — да. А Уилла — не знаю. Он… — Мерси отвернулась налить кофе. — Он ушел в себя.
— Сожалею.
— Можете сожалеть сколько вам угодно, но ему было тяжелее всех.
— Догадываюсь…
— Увидит вас — и как знать… С детьми трудно что-либо предсказать. Но хочу вас предупредить: потребуется время, прежде чем он снова вам поверит. Он страдал от этого больше всего — от утраты доверия.
— Понятно.
Грифф занялся кофе.
Мерси подошла к нему.
— Центр всякой хорошей жизни — кухонный стол, — заметил Грифф, попытался рассмеяться, но не сумел. — Так говорила моя мама.
— Да.
— А вы как?
— Начинаю новую жизнь, — она вкратце рассказала ему о Люке.
— Рад за вас, — сказал Гриффин. — Он замечательный человек. Лучшего не найти. Даже вам.
— Мы будем счастливы — это точно. Люк собирается купить собаку, — Мерси рассмеялась. — Я со своими кошками, а он со своей собакой. Чего еще желать?
— Полный мир и покой — так мне кажется.
И тут внезапно появилась Джейн.
Она стояла на пороге коридора в светло-голубом платье, волосы рассыпались по плечам. В левой руке — ярко-красная лента.
— Привет, — поздоровалась она. — Я… я услышала голоса. Подумала, может, Люк.
— Нет. — Гриффин поднялся. — Не Люк. Это я.
Они с Джейн смотрели друг на друга, не двигаясь. Ни шага вперед, ни шага назад. Мерси следила за своими руками, разглаживающими скатерть.
Потом Грифф спросил:
— Можно мне вернуться домой?
Джейн опустила веки.
— А разве ты уже не дома? — ответила она, открывая глаза и глядя на него.
— Да… Это я…
— Назови свое имя.
— Гриффин Кинкейд.
— Я так и думала. Что-то в тебе мне показалось знакомым.
Мерси отошла к плите.
— Хотите, я позвоню мисс Мотт и отменю ваши занятия? — спросила она.
— Да, пожалуйста, — ответила Джейн.
Она шагнула вперед и взяла Гриффа за руку.
— Пойдем. Прямо сейчас, — она вывела его из кухни. И пока они шли по коридору и поднимались по лестнице, за ними следовал Редьярд. На площадке Грифф остановился:
— Джейн, я…
Она зажала ему рот ладонью.
— Не надо. Не хочу ничего знать. Что бы там ни было, все уже кончено. Только это имеет значение.
— И я ничего не хочу знать. О тебе. О том таинственном мужчине. Пусть это относится и к тебе, и ко мне — то, что ты сказала.
— И еще к кому-то третьему, — улыбнулась Джейн и, не выпуская его руки, повела дальше. Перед закрытой дверью она остановилась и осторожно постучала. — Уилл?
Мальчик сидел в пижаме у открытого окна и смотрел во двор. Еще минута — и он бы полез на крышу кормить ворону.
— Я привела к тебе человека, который очень хочет тебя видеть, — сказала Джейн.
Уилл обернулся и посмотрел на нее. Джейн подтолкнула мужа вперед, встала у него за спиной и все дальнейшее наблюдала молча.
— Привет, малыш.
Уилл не ответил. Грифф подошел к сыну и положил ладони ему на плечи.
— Ну… — буркнул мальчик. Только «ну» и больше ничего. И опять уставился в окно.
Грифф уронил руки и взглянул на Джейн. Она кивнула в сторону сына. И Гриффин снова коснулся мальчика.
После долгой паузы Уилл повернулся и очень тихо произнес:
— Папа?
Они обнялись, хотя объятие мальчика было неуверенным — осторожным.
Время, вспомнил Грифф. Требуется время.
За окном усилился ветер. Вороны взлетели с дерева. Миссис Арнпрайр вышла во двор и принялась развешивать выстиранное белье. Проехала машина. Джейн взбила подушку Уилла. Наконец он может спать спокойно. Она посмотрела на мужа и сына. Вот они. Они здесь — с ней.
Все трое вместе.
Да. И Редьярд у ее ног. А внизу — Мерси. И в студии, в ящике, нарисованная Уиллом семья ждет своего воссоединения.
Лебеди
Время не удержать, Зато так легко убить. Но и за счастье, и за его утрату всегда мы должны платить. У. Х. Оден «Детективная история»Воскресенье, 4 апреля 1999 г.
Воскресный день. Два часа.
Как всегда во время парада, пошел дождь. Но он никого не огорчил. Ничего подобного. Более того, утром Джейн видела миссис Арнпрайр — та стояла на заднем дворе в одной ночной рубашке, подняв лицо и руки к небу: Господь услышал нашу молитву!
В этом году выпало очень мало снега — ползимы земля лежала голой. А край был сельскохозяйственный, и даже горожане имели сады и огороды — с овощами, цветами и деревьями. Поэтому каждый зависел от щедрости природы на влагу. И этот дождь с нетерпением ждали.
У арены собралась толпа людей, целых пол-мира — так, по крайней мере, казалось Уиллу, все под раскрытыми зонтами, среди которых только один был черный. Естественно — нечего даже сомневаться — он принадлежал мистеру Сисенсу, гробовщику. Не смейте произносить Сисенс — только Сизенс, шипел гробовщик на клиентов даже в их самые горестные минуты. А остальные зонтяры — еще одно новое слово в лексиконе Уилла — представляли собой настоящую какофонию цветов, словно кричали: Красный! Зеленый! Розовый! И даже в горошек! В синий.
— Мам, когда они пойдут? — спросил Уилл.
— Когда будут готовы, дорогой, — ответила Джейн. — Не забывай, у них это самый важный день в году. Они волнуются и нервничают, как папа перед премьерой.
Уилл посмотрел на Гриффа, который пытался уклониться от назойливого внимания какой-то разговорчивой женщины. Мальчик подумал: Похоже, папа сейчас окончательно разозлится — совсем как на меня, когда я задаю слишком много вопросов.
Уилл хотел пи́сать, однако понимал, что это исключено. Большой мальчик — он не мог обмочить штанишки. А до сигналов фанфар, объявляющих о начале парада, не оставалось времени сбегать в туалет. Приходилось терпеть.
Исключено. Крепись.
Таковы были последние родительские наставления. Джейн недавно запретила покупать видеоигру, заявив: Это исключено. А Гриффин, когда Уилл грохнулся с велосипеда и пребольно ободрал оба колена, сказал сыну: Крепись, парень.
Редьярд натянул поводок. Ему стало скучно.
Уилл поднял глаза на Мерси: может, она прогуляет пса?..
Мерси давно научилась читать его мысли. Она улыбнулась: «Иди сам. А я не хочу пропустить парад, как в прошлом году, когда Редьярд три раза обмотал поводок вокруг дерева».
Стоявший рядом Люк позволил ей взять себя за руку. Возникавшее у него раньше на людях ощущение неловкости из-за того, что он обзавелся подружкой, стало проходить.
Уилл повернулся к Джейн. Теперь ему было восемь.
— Мам!
— Ш-ш-ш… Не шуми. Потерпи.
Потерпи. Крепись.
Уилл различил далекий хрип труб — первый выдох, который предшествует началу музыки.
Все повернулись направо.
Дождь усилился — казалось, его подхлестнули фанфары.
Словно ружья, нацелились любительские и профессиональные фотоаппараты.
Телевизионщики и фотокорреспонденты выскочили на середину дороги.
— Отойдите прочь! Прочь! — раздалось в толпе.
— Вы нам все загораживаете! — кричали зрители.
— Сами отойдите! Это наша работа!
Мерси посмотрела налево: а вот и ее молодой сосед Милош Саворский. Все такой же таинственный, подумала она. Непроницаемый. Как всегда, в разодранных джинсах, с детским выражением лица. Таков уж его имидж, решила она. Так его можно опознать: джинсовка, мечтательность, желание. Символы его выживания.
Рядом с ним сидел пес. Шопс.
Мерси улыбнулась.
Клэр и Хью стояли поодаль под одинаковыми кирпичного цвета зонтами. Джейн и Грифф помахали им руками. Люк и Мерси тоже. Хайленды улыбнулись и помахали в ответ.
Трубачи уже поравнялись с местом, где стоял Уилл.
Мальчик подался вперед, натянув веревочное ограждение.
Редьярд вскочил у его ног, и пальцы Уилла обжег накрученный на них поводок.
И наконец из-за ширмы шотландских юбок показались они.
Один белоголовый гусь.
Пара черных лебедей.
Два белых гуся с яркими оранжевыми клювами.
Шестнадцать белых лебедей.
— Мам, шестнадцать!
Они шествовали. Они выступали. Шагали — и остановились. Немного посовещались между собой — и двинулись дальше, превратившись в царственную процессию. Смотрели налево, направо, потом вперед, гордо не обращая внимания на зрителей-людей. В конце концов, мы короли и королевы — мы выше всего этого. И еще: они уже почуяли реку.
Воду.
Реку Эйвон.
Озеро Виктория.
Пять месяцев жизни в сарае — жизни, должно быть, казавшейся ссылкой, несмотря на обилие сена, соломы, еды и тепла.
Но не было реки.
Не было озера. Не было свободы.
Редьярд забеспокоился и заворчал: добыча!
Уилл поднял глаза на Гриффа: отец стоял рядом с матерью, положив ей руку на плечо.
Джейн сжала пальцы сына в своей ладони.
— Ну вот, еще один год… И опять выпускают лебедей, — сказала она. И подумала: Мы справились, но вслух этого не произнесла.
Трубачи и зрители начали расходиться.
— Как здорово видеть их снова! — проговорила Джейн. — Прямо рай на земле.
— Успеваешь почти забыть, насколько они красивы, — согласился Грифф.
— И как пуста без них река. — добавила Джейн. — Пошли, Уилл. Пора домой.
Они стали выбираться из толпы.
Дом. Домой, думала Джейн.
Мейбел дала ей денег на покупку дома на Камбриа-стрит — часть наследства. А остальное Джейн получит после ее смерти.
Обещай мне только, что раз в неделю будешь ставить свечу за Лоретту, написала она. И никогда ее не забывай. Никогда. И никогда не забывай в своих молитвах мать.
Джейн держала обещание и раз в неделю погружалась в атмосферу покоя церкви Святого Иосифа; теперь она испытывала там совершенно новое для себя ощущение одиночества — полное мира и удовлетворенности.
Мерси взяла у мальчика поводок Редьярда и шла позади остальных с видом, как она шутливо выражалась, смиренной служанки. Она любила свою работу. Без нее она бы умерла. Работа внесла в опустевшую жизнь Мерси смысл — общество нуждавшихся в ней людей. А теперь рядом был еще Люк. И грела мечта о «Гостинице Маккензи: ночлег и завтрак», которую она откроет в будущем, на что Люк уже согласился. Больше никаких пустующих комнат, заявил Люк. Значит, когда вырастет Уилл, у Мерси найдется, чем заняться.
Они оказались на углу Ватерлоо, где у моста над плотиной сгрудились гуси и лебеди. Уилл перебежал на другую сторону улицы, чтобы лучше их рассмотреть.
Высоко в небе появились стаи ворон, также возвращающихся к своим гнездам. Птицы разбились на группы и кричали, словно раздавая инструкции: вам туда, а нам сюда, — прямо как дон Армадо в финале «Тщетных усилий любви», хотя Уилл об этом еще не знал. Он узнает об этом позже — летом.
— Может, среди них и наши вороны, — сказала Джейн и на всякий случай помахала рукой.
Уилл тоже посмотрел на небо и улыбнулся. Альфа была там. Ее голос звучал громче других.
— «Паццо» совсем рядом, — заметил Грифф, когда они приблизились к углу Онтарио-стрит. — Давайте отпразднуем этот день: выпьем вина и съедим по салату и пицце. Согласен? — он повернулся к Уиллу.
— Да, сэр, — расплылся в улыбке мальчик.
— А как быть с Редьярдом? — поинтересовалась Мерси и слегка ослабила поводок.
— Я уверена, в такой волнующий день они могут сделать исключение, — сказала Джейн. — В крайнем случае, подождет где-нибудь в подсобке. Хотя бы спросим. Джефф и Ларри поймут.
— Писай! — приказала Мерси псу. — Писай, а потом сиди смирно, — и они с Люком отошли с собакой к ближайшим деревьям.
Вино — пицца — «Паццо» — покой.
Направляясь к боковой двери, ведущей в пиццерию, Джейн думала: Год назад я полагала, будто у меня все это было. И ошибалась. Тогда у меня было лишь обещание этого. А теперь — есть. Нет, не говори так. Даже не думай. В мире нет ничего раз и навсегда определенного. Однако кое-что все же возможно.
И они все вошли внутрь — подобно лебедям, возвращающимся на реку, и воронам, возвращающимся на деревья.
Прежде чем закрыть за собой дверь, Джейн бросила последний взгляд на реку. В воздухе висело вечное обещание весны — оно было в аромате непрекращающегося дождя и даже в запахе самой зелени.
Закрывая дверь, она услышала отдаленный шум падающей с плотины воды, зажмурилась и мысленно представила реку, продолжающую свое вечное путешествие к открытой воде, к открытому небу и к обещанию жизни повсюду.
Примечания
1
Здесь и далее стихотворные эпиграфы из произведений У. Х. Одена перев. Е. Пучковой.
(обратно)2
Уистен Хью Оден (1907–1973) — английский поэт, автор более двух десятков поэтических сборников.
(обратно)3
Иниго Джонс — знаменитый английский архитектор и оформитель придворных спектаклей.
(обратно)4
«Виндзорские кумушки» (1602) — пьеса Уильяма Шекспира.
(обратно)5
Меннониты — протестантская секта (основана в XVI в. Менно Симонсом), проповедующая смирение, отказ от насилия, и веру во «второе пришествие Христа».
(обратно)6
«Стеклянный зверинец» — пьеса Теннесси (Томаса Ланира) Уильямса.
(обратно)7
Ч. Диккенс. Рождественская песнь в прозе. Перев. Т. Озерской.
(обратно)8
Артистическое кафе, названное по одноименной пьесе Уильяма Сарояна, посвященной театру.
(обратно)9
У. Шекспир. Много шума из ничего. Акт III, сцена 2. Перев. Т. Л. Щепкиной-Куперник.
(обратно)10
У. Шекспир. Гамлет. Акт III, сцена 8. Перев. М. Л. Лозинского.
(обратно)11
90–95° по Фаренгейту — примерно 32–35° по Цельсию.
(обратно)12
Пьеса Уильяма Шекспира.
(обратно)13
Трипп Линда — подруга Моники Левински, записавшая ее рассказы об интимных отношениях с бывшим президентом США Биллом Клинтоном на пленку и предавшая их огласке.
(обратно)14
Пьеса Уильяма Шекспира.
(обратно)15
Меркуцио — герой пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
(обратно)16
Стенли Ковальски — герой пьесы Теннеси Уильямса «Трамвай Желание».
(обратно)17
Кеннет Старр — независимый прокурор, прославившийся своей бурной деятельностью по обвинению президента США Билла Клинтона в «неподобающей связи» с бывшей стажеркой Белого дома Моникой Левински.
(обратно)18
В ноябре 1978 г. весь мир был потрясен, узнав о страшном конце возглавлявшейся Джимом Джонсом секты «Народный храм». 912 человек, подчинившись приказу Джонса, совершили самоубийство, выпив яд, или, по меньшей мере, не слишком сопротивлялись, когда им стреляли в затылок. Среди погибших было много детей.
(обратно)19
Пауль Клее (1879–1940) — швейцарский живописец. Один из лидеров абстрактного экспрессионизма.
(обратно)20
Герцог Кларенс — герой пьесы Уильяма Шекспира «Ричард III» (брат короля).
(обратно)21
«Отвращение» — фильм Р. Полански (1965) с Катрин Денёв в главной роли.
(обратно)22
Имеется в виду новелла Анатоля Франса (1844–1924) «Лейла — дочь Лилит» (в переводе на русский язык выходила под названием «Дочь Лилит»).
(обратно)23
Бирон — герой пьесы Уильяма Шекспира «Тщетные усилия любви».
(обратно)24
Лаэрд — помещик в Шотландии.
(обратно)25
Бифштекс из говядины.
(обратно)26
Рок Хадсон (наст. имя Рой Фитцджеральд; 1925–1985) — знаменитый голливудский киноактер, герой-любовник и супермен, всю жизнь скрывающий, что он гомосексуал. Умирая от СПИДа, он надеялся уйти из жизни в закрепившемся за ним образе-идеале, но газетно-журналистская шумиха, а также нелицеприятное поведение последнего любовника сделали из его смерти грязный скандал.
(обратно)27
У. Шекспир. Ричард III. Акт I, сцена 1; акт V, сцена 5. Перев. А. В. Дружинина.
(обратно)28
Искаженное произношение слова Acadian (Cajun). Район каджунов расположен на юго-западе штата Луизиана и населен потомками акадийцев, колонистов из поселения Акадия во Французской Канаде, которые в XVIII в., во время войны с французами и индейцами, были сосланы англичанами в различные колонии Юга.
(обратно)29
Карсон Маккалерс (Смит) (1917–1967) — американская писательница. В ее произведениях отражены быт, умонастроения и психологический климат Юга США 30–50-х годов.
(обратно)30
Хокинз — Стив «Vietcong» Хокинз — герой компьютерной игры, сержант американской армии.
(обратно)31
Хокинг, Стивен Уильям (р. 1942) — британский физик. Совершил, как принято считать, второе по значению открытие в области гравитации после разработки А. Эйнштейном теории относительности — ему принадлежит гипотеза возникновения Вселенной в результате большого взрыва. С 60-х годов страдает неизлечимой болезнью нервной системы.
(обратно)32
«Пейтон-Плейс» (Peyton Place) — роман Грейс Металиус, один из первых американских эротических романов, в котором живописуются нравы маленького провинциального городка.
(обратно)33
Первый понедельник сентября.
(обратно)34
Да, синьора (итал.).
(обратно)35
Да, синьора. Спасибо (итал.).
(обратно)36
Библейское Яков — младший сын Исаака и Ревекки. Возможно, намек на видение Якову таинственной лестницы.
(обратно)









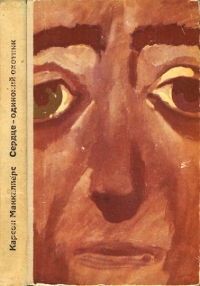

Комментарии к книге «Если копнуть поглубже», Тимоти Финдли
Всего 0 комментариев