Александер Андориль
Это очень странный, оригинальный и в то же время тревожащий роман, который увидел свет при жизни своего героя, великого режиссера Ингмара Бергмана. Книга завладевает нашим вниманием, словно мы присутствуем при вскрытии живого человека.
Дж. К. ОутсЭто роман о воспоминаниях, которые никогда не покидают нас, о великой и маленькой лжи, которая удерживает нас в этой жизни или, напротив, мешает нам жить.
Об отце и сыне, о боли, которую они постоянно причиняют друг другу.
О скользкой и зыбкой дороге к примирению.
«Сюдсвенскан»Режиссер
Посвящается Саге, Юлии и Норе
РОМАН ОБ ИНГМАРЕ БЕРГМАНЕ
В РОЛЯХ: Ингмар Бергман, Кэби Ларетеи, Карин Бергман, Эрик Бергман, Гуннар Бьорнстранд, Ингрид Тулин, Свен Нюквист и др.
1
«Вот и опять скорбный свет летней ночи пойман в стеклянную банку», — думает Ингмар.
Он смотрит на белую улицу, струящуюся меж мутных силуэтов домов, словно вода.
Мужчина примерно его возраста движется по направлению к нему, вздрагивает и вдруг оказывается на двадцать шагов ближе.
Кажется, он в пасторском облачении.
Луч света наполняет пространство и, выгибаясь, вновь исчезает в окне наверху.
Женщина с узловатыми пальцами накидывает оконный крючок на петлю. Она проходит через всю комнату и, миновав напольную лампу, садится на край кровати.
Шепот пронизывает раскаленный металл прожектора. Или он услышал его только сейчас, когда погасил свет?
Немного помешкав, он решает выйти черным ходом, через дверь хорового зала.
Он не хочет ни с кем встречаться.
У него нет сил объяснять, что работу со Стравинским придется прекратить и заняться новым сценарием.
Ингмар выходит в сумерки, воздух холодит веки, вспотевшую шею и забирается глубоко в ноздри.
Комья сухого снега сыплются с двадцатиметровой высоты жестяной крыши Малого павильона, пролетают мимо черной ленты окон и глухо шлепаются на внешнюю лестницу.
Свет уличного фонаря, покачиваясь, неожиданно перепрыгивает через кирпичную стену и освещает его лицо: напряженный лоб, брови, глубокая морщина, что тянется от ноздри и прорезает полукружье у рта.
Мелкозернистые снежинки, словно рваная паутина, мягко кружатся над дорогой, вокруг угла и у отсыревшего фундамента казенного здания.
Он идет вверх по улице. Колючий холод щиплет лодыжки и пробирается в штанины брюк.
Когда Ингмар проходит мимо водосточной трубы и чугунной решетки в асфальте, наверху распахивается окно.
Он оборачивается.
Возле подоконника мелькает обнаженная рука.
За стеклом с неровными бликами проступает лицо. Это женщина с раскрытым ртом. Она что-то кричала ему.
Короткий обмен репликами с техником в коридоре о просторном хоровом зале кинотеатра под названием «Опера». Новые репродукторы так и трещат, говорит Ингмар.
В сумрачной глубине директорского кабинета повис сигаретный дым — здесь только что курил секретарь; белесый туман над стулом и эмалированной поверхностью настольной лампы цвета слоновой кости, папками и шкафом с документацией.
Почти тишина. Стены немного поскрипывают. Кто-то шуршит в коридоре возле комнаты с ротаторами.
Он снимает светло-серую телефонную трубку:
— Бергман.
Прокашлявшись, Димлинг бормочет, что секретарь думал, будто он ушел домой еще в три часа.
— Я удрал в «Оперу», — отвечает Ингмар.
Пытаясь скрыть свое возмущение, директор говорит, что нельзя уделять столько времени опере, когда готовится фильм. Ингмар не объясняет ему разницы, потому что в любом случае Димлинг прав: оперная постановка помешает долгожданному сценарию.
Он смотрит на брызги масляной краски, оставшиеся на оконном стекле, на потрескавшиеся рамы и подоконник из белого пластика.
Весла будоражат желтую воду, пробуждая в ней сонное движение, запоздалое шевеление пряжи. Из мрака выступают черные листья, они, словно лица, попавшие в луч света, теснятся вокруг.
Знакомые и незнакомые лица.
Сестренка Нитти, которая зевает, старательно раскрывая рот.
Плавно кружась, его собственное лицо и лицо отца неуклонно движутся к черной тени под дубом. Медленно поднимается врач с тонкими бровями. За ним следует Димлинг, который улыбается, когда он говорит ему, что все же надеется на последнее лето.
Врач не успевает ответить, потому что лопасть весла разрезает воду и мощным движением увлекает за собой листья.
Ингмар садится на край письменного стола и провожает взглядом этот медленный коловорот.
Мокрые следы ведут к нему по паласу.
Когда он кашляет, Димлинг отводит трубку.
Шмыгая носом, Ингмар распахивает пальто на подкладке. Вена, что тянется от основания носа, натягивается, образуя развилку на переносице.
Ингмар проходит по коридору, за спиной у него звонит телефон. Рука нащупывает опору на пыльной планке над панелью.
Ледяной ветер набрасывается на его причесанные волосы, черные пряди падают на глаза.
Серый автомобиль протарахтел сквозь высокие створки ворот и исчез.
Ингмар кутается в пальто, засовывает руки в карманы и спешит изо всех сил, чтобы холод не успел пробраться внутрь.
Надувшийся полиэтиленовый пакет катится по дороге.
Сощурившись, Ингмар медленно движется вперед.
Нечто огромное, словно свинцовый парус, высится между автомобилями на неосвещенном парковочном месте.
Он останавливается, делает шаг вперед, смахивая челку со лба.
Это громадная грифельная доска. Метра три высотой, подпертая балками. Сбоку тянется след от растаявшего снега.
Ингмар подходит, берет с полки мелок, рисует кривую лошадку и сверху надписывает: «Макс»[1].
Подув на руки, он пририсовывает возле лошадиной морды облачко: «Осенью будем снимать?»
— Будем, — отвечает Ингмар и кладет мелок обратно на полку. — Сценарий почти готов.
Он садится в машину, хлопает дверцей, барабанит пальцами по рулю.
— Что за черт, — бормочет он.
Позади грифельной доски, за невысоким заборчиком, окружающим стоянку, стоит настоящая лошадь. Она отделяется от массива густых ветвей. Тяжело ступает в сторону, ближе к деревьям, видно, как перекатываются мускулы на ногах.
Ингмар вспоминает, как Макс стоял перед машиной, спрятав ладони под мышками, и рассказывал, что его пригласили в Упсалу на роль Фауста, репетиции начнутся в октябре.
— Ты должен отказаться.
Лошадь поскальзывается на обледенелом склоне. Правая нога и бедро замирают в попытке предотвратить скольжение. Крупная лошадиная голова поворачивается в темную черноту деревьев, тело вновь обретает равновесие, резкими движениями лошадь пятится назад.
* * *
Ингмар, одетый в темно-серый свитер с белой изнанкой, берет на кухне чашку горячего молока и идет в столовую.
Гравюра Хогарта на стене отражается в оконном стекле. Она тянется через сад и дальше, в темное поле, будто водная горка-туннель, которую распрямили.
Ингмар просматривает свои прежние записи, когда в фильме должно было рассказываться о пасторе, который запирается в церкви и говорит Богу, что будет сидеть там до тех пор, пока Он не явится, — пусть даже это продлится целую вечность[2].
Ингмар знает: надо скорее взяться за сценарий, но про себя повторяет, что никакой спешки тут нет.
Надо успокоиться.
Надо ждать, идея придет сама, вкрадчиво прорастет изнутри.
Не чувствуя беспокойства, он переходит в другую комнату, кладет возле телефона граммофонную пластинку с «Симфонией псалмов»[3] и вдруг вспоминает светло-серую ночь в пасторской усадьбе рядом с больницей Софиахеммет.
Мать вернулась домой после отдыха в Дувнесе и злобно рыдала в своей комнате.
Ингмар лежал в кровати, но уснуть не мог.
Раздававшееся вдалеке постукивание — наверное, кто-то рубил дрова — увлекло его за собой, прочь отсюда, в глубь воспоминания.
Сквозь дверь мать кричит, чтобы отец не смел к ней входить. Его шаги рассыпаются по всему коридору, жалобный голос: «Что с тобой, Карин? Кай, милая, что с тобой?»
Внезапный грохот, крики, угрозы.
Снова шаги, туда и обратно, вялые всхлипывания матери.
С легкостью распускаемого вязания Ингмар проскальзывает в комнату младшей сестры, чтобы посмотреть, не проснулась ли она.
Та сидит в кровати, глядя прямо перед собой, на гобелен из Даларны.
Светящаяся кожа и испуганный рот.
Он садится к ней на кровать и играет с куклой Розенблум. Это молодой граф, который всех вокруг принимает за слуг. Он уговаривает крокодила помочь ему переправить через реку чемодан.
Нитти смеется в подушку.
Когда крокодил вместо того, чтобы взять чемодан, хватает его за ногу и тащит к воде, Розенблуму кажется, что это досадное недоразумение.
Вдруг половицы начинают скрипеть, шаги приближаются. Железный шарик катится по полу. Ингмар прячется за бельевым шкафом, в комнату тяжелой поступью входит отец, он садится на кровать и прислушивается, хотя вокруг тишина. Он молча кладет свою большую голову на колени Нитти.
Маятник тужится и сухо щелкает, но в деревянном тельце раздается лишь слабый резонанс.
Ингмар набирает цифру за цифрой, ожидая, пока диск вернется на место, слушает долгие гудки в трубке.
На том конце провода поднимают трубку. Тишина.
Отец откашливается и отвечает — как всегда.
Наверное, он сидит за письменным столом с фотографиями в рамках, в пиджаке, застегнутом на все пуговицы. Отец даже не подумал ослабить узел тонкого галстука, хотя в комнате никого больше нет.
— Я подождал до семи, чтобы вы успели отдохнуть полчасика после обеда, — говорит Ингмар.
— Вот оно что, большое спасибо. — Отец смущенно смеется.
Ингмар перестает грызть ноготь большого пальца и спрашивает, не заняты ли родители — может быть, у них гости или они смотрят передачу «Распростертые объятья» с Леннартом Хиландом.
— Я ведь не забыл поблагодарить тебя за телевизор? — говорит отец.
«Неужели он и вправду решил, будто я думаю, что он недостаточно поблагодарил меня», — написал Ингмар на полях романа, но не закончил предложение вопросительным знаком, а продолжил читать о внезапной тишине, что повисла вслед за его невысказанным ответом, о том, как края тяжелого воротника, похожего на цифру одиннадцать, отражались в окне столовой.
Отец откашливается. С шумом откидывается на спинку стула. Светским тоном сообщает, что утром из Анкары звонил Даг.
— Да? Как он там?
— Не знаю, — отвечает отец. — Похоже, твой брат доволен местом посольского секретаря, а вот ты…
— Я всего лишь хотел спросить про его ногу, — перебивает Ингмар, тотчас об этом пожалев.
— Я могу позвать мать, с Дагом разговаривала она.
— Не надо, — быстро возражает Ингмар. — Я бы еще с удовольствием побеседовал с вами.
В темном поле виднеется свет автомобильных фар, мягко льющийся через аллею.
Ингмар теребит обложку пластинки, краешек внутреннего конверта из пластика и спрашивает отца, решили ли они, где проведут лето.
— Наверное, снова будете снимать — как это называется — Сиденвальскую виллу?
— Да, — отвечает отец, думая совсем о другом.
— Ведь вам там понравилось?
— Наверное, да, — бормочет тот.
Ингмар лихорадочно чешет голову.
— Я так и думал.
— Раз нельзя выходить на взморье, то мне без разницы.
— Да, но мне тут кое-что предложили — как бы это сказать — летний домик на Торё, вы могли бы там пожить.
— Нет, — отвечает отец с улыбкой в голосе.
— Это прекрасно бы вам подошло.
— Спасибо, но…
Ингмар слышит, как отец встает, вытягивает телефонный шнур, приоткрывает дверь в кабинет.
Ингмар грызет ноготь, потом разглядывает его и снова принимается грызть.
— Наверное, скоро придет черед новому фильму, — говорит отец, пытаясь поддержать разговор, пока взгляд его скользит по изогнутой ширме, вдоль книжных корешков и по створчатым дверцам.
— Да, он будет идти в октябре в «Красной мельнице»[4].
— Мама обрадуется.
— Сейчас я пишу сценарий для другого фильма. Возможно, вам это покажется интересным. Это фильм о пасторе.
— Смею надеяться, не обо мне.
— Это было бы слишком.
— Мать что-то говорила про оперу.
— Я буду страшно рад, если вы придете на премьеру. Приходите, пожалуйста, — просит Ингмар.
— Тебе лучше поговорить об этом с матерью.
— Стравинский практически…
Ингмар слышит чей-то голос на заднем плане. Отец говорит, что это Малыш, и передает телефон матери.
— Что-то случилось? — спрашивает она.
— Скверные новости, — отвечает Ингмар. — Хотел спросить, не хотите ли вы пойти на премьеру «Похождений повесы».
— В «Оперу»?
— В принципе ничего особенного, но… Может быть, отец хотел бы прийти?
— А мать тебя не волнует?
— Нет, ну серьезно, как ты думаешь, ему это интересно?
— Думаю, да, но ты ведь его знаешь, — отвечает мать.
— Пусть поступает как хочет, — вздыхает Ингмар, поднимаясь со стула. — Я не собираюсь его заставлять…
— Ингмар, постой, — спокойно перебивает она. — Мне не хотелось бы тебя огорчать.
— Поздно.
— Не говори так.
— Как так? Как я не должен говорить?
— Не стоит…
— Какого черта ты его защищаешь, ведь…
— Замолчи, — резко отвечает она. — Я не желаю слышать про…
— Да плевать я на все хотел! — кричит Ингмар, швыряет трубку и выдергивает шнур из розетки. Телефон с грохотом и звоном падает на пол. Он пинает его ногой, хотя уже не чувствует гнева, и выходит из комнаты.
Трясущейся рукой Ингмар ведет иглу по темной водяной глади, по вращающейся поверхности, затем стоит и слушает, как бьется о стенки гобой, прежде чем вырваться на свободу.
Молоко в кружке, стоящей на столе в столовой, покрылось пенкой. Он смотрит на желтый блокнот, но понимает, что даже не может сесть. Скорее с ревностью, чем с неприязнью, он возвращается к воспоминанию о том, как большая отцовская голова лежит у сестры на коленях. Он не ожидал, что отец способен на такой взывающий к нежности жест. Он лежал, закрыв глаза, и совершенно спокойно рассказывал о том времени, когда был пастором в Форсбаке.
Пластинку заело, и лапка граммофона отскакивает назад: в комнату входит кукла Розенблум с бледным лицом. Он подходит и кладет голову на колени Нитти. Ему кажется, он сомкнул веки и уснул, он не понимает, что до сих пор таращится в пространство черными глазами.
Игла граммофона снова соскакивает с дорожки: Даг отрывает кукле руку и показывает Нитти ее дрожащее тельце.
Ингмар подходит к граммофону и переставляет иглу на следующую дорожку: мне страшно хотелось, чтобы у Дага была маленькая сестренка, рассказывает отец, и в конце концов мать сшила небольшую куклу, которую положила на мою кровать в день нашей свадьбы.
— Куклу?
— Да, но потом она забеременела, — говорит отец, и усталая улыбка растекается по его лицу.
— Забеременела мной? — не подумав, спрашивает Нитти.
Ингмар снова открывает дверь в кладовку и роется в пакетах. С глухим стуком падает на пол пачка овсянки, Ингмар пятится назад, вытирая капельки пота над верхней губой. Он не понимает, куда делся шоколад, — может, Кэби проголодалась и взяла его с собой, в аэропорт?
Он рассматривает сизые овсяные хлопья и понимает, что съел последнюю плитку шоколада в четыре часа утра. Он еще сидел и слушал «Похождения повесы» в интерпретации Ляйнсдорфа, а голова раскалывалась от боли. Значит, на эту ночь у меня ничего не осталось, говорит он себе. На случай, если я не смогу спать и писать. На случай, если я попытаюсь удержаться от звонка в гостиницу Бремена.
Он застегивает куртку по дороге к машине, садится на холодное сиденье, поворачивает ключ, трогается с места и едет к выезду с парковки между серо-зелеными кустами рододендрона. Асфальт шуршит под покрышками. Он поворачивает, меняет передачу и потихоньку увеличивает скорость. Свет фар наполняет дорогу между черными садами.
Он барабанит пальцами по рулю, закусив губу, и вдруг видит монету в конце светового туннеля.
На сером песчаном дне, где воды по колено.
А может быть, в запотевшей стеклянной банке.
Она слабо мерцает, за мгновение до того, как идея всплывает на поверхность.
Это молодая женщина в национальном костюме Тюрингии. Она спит, лежа на лугу, а небо проливает на нее трепетный желто-серый свет.
Она просыпается и встает.
Она не знает о том человеке, что дышит, словно собака. Тупые когти громыхают по паркету.
Женщина встает, потягивается и поворачивается. И вдруг останавливается, она испуганно спешит прочь, тем временем две косули проносятся через дорогу и исчезают.
Ингмар чувствует, как пульс в висках стучит все сильнее, и снижает скорость. На крутом повороте машину заносит. Он удрученно чешет затылок, проводит рукой по голове. Пытается собраться с мыслями, думая про новый фильм, уговаривает себя забыть о мистификациях прошлого; он не хочет, чтобы пастор увидел своего Бога сходящим с обоев на стене.
Меня пленяет целомудрие камерной драмы, думает он, повторяя эти слова для себя.
События будут происходить в реальном времени: воскресенье, колокол созывает прихожан в церковь, пастор больше не может сказать им, что верит в Бога.
Он понимает, что на самом деле никогда не верил в Него.
Месса представляется ему невыносимым, совершенно пустым ритуалом.
Точно так же, как всегда казалось мне самому.
Я хочу рассказать о пасторе, который выполняет свою работу.
Я хочу рассказать, каким был бы я, думает он, если б уступил чужим требованиям и стал пастором.
Киоск на площади Юрхольм закрыт, светло-зеленые дверцы заперты, на них висячие замки. Гибкие снежные ленты извиваются над опустевшей мостовой. На холостом ходу он останавливается у края дороги. Интересно, что он собирается делать дальше? Надо вернуться домой и позвонить Кэби, пока еще не поздно. Приготовить ужин. Сесть в своем кабинете и писать. Он принимается медленно бить рукой по рулю, затем откидывается назад и понимает, что пачка шоколада есть у него в мастерской.
В шкафчике над раковиной.
Он, не раздумывая, едет в сторону Стокгольма.
* * *
Ингмар запирает дверь изнутри, разувается, идет к кухонному закутку, открывает шкафчик, видит пакет с монетами из горького шоколада, лежащий на полке, закрывает дверцу и забирается на подоконник.
Дует на руки.
Снег на наружном подоконнике тает, думает Ингмар, глядя на улицу. Ржавая изгородь у бетонной стены. На платформе желтого экскаватора лежит выкопанный из земли дорожный знак с бетонной конической опорой.
Он смотрит на развороченную мостовую возле Карлаплана.
Кучи булыжников покрыты снегом. Дрожащие блики на огненно-желтой оградительной ленте.
С тяжестью в теле он ложится в кровать и думает о том, что завтра утром надо бы прогуляться к Йердет и взглянуть на Дом радио. Жильцов с улицы Кунгсгатан уже начали переселять.
Он звонит в бременский «Хилтон».
По словам Кэби, гостиница расположена неподалеку от филармонии «Ди Глоке».
Через пару часов в маленьком зале она исполнит своих четырех романтиков — Брамса, Шопена, Шуберта, Шумана, — и голос ее звучит спокойно и отстраненно.
Рядом со светло-серым телефоном на тумбочке стоит белый будильник. Задняя крышка с опущенной медной лапкой, два рифленых ушка. Стакан с тонкими известковыми кругами от высохшей воды.
— А по-моему, это у тебя странный голос, — устало говорит Кэби. — Ты дома?
— Да, — отвечает Ингмар, чтобы не пришлось объяснять эту позднюю поездку.
Широкий прямоугольник открывает в выгоревших обоях с медальонами темное окно, оставшееся после фотографии, которая выпала из рамки на пол.
— Что ты хотел? — спрашивает Кэби.
— Ничего, понимаешь… Я разговаривал по телефону с отцом, думал пригласить его на премьеру, но… не знаю.
— Вы поругались?
— Нет, просто я хотел… хотел рассказать ему про новый фильм, чтобы…
— Зачем? — перебивает она. — Вот скажи мне зачем? Это глупо. Ему никогда не нравились твои фильмы.
— Я об этом не знаю, — говорит Ингмар. — Плевать я на это хотел. Надеюсь, он их ненавидит.
— Неправда.
— А все потому, что этот человек страшно недоволен своими сыновьями. Страшно недоволен. Он не понимает, почему мы не стали пасторами. Почему мы вместо этого занимаемся какой-то ерундой.
— Да.
— Поэтому я хочу сделать фильм о том, каким бы я был пастором, — говорит Ингмар. — Хочу показать ему, что бы из этого вышло. Сколько удовольствия это всем доставит.
— Хотя кто знает, как бы все обернулось, — отвечает Кэби. — Я была бы пасторской женушкой.
— Да, если б я не убил ее этой ночью.
— Пока я спала, — с облегчением произносит она.
— Я решил, пусть его супруга несколько лет побудет мертвой. Поэтому пастор и потерял веру, можно и так сказать.
— Значит, женщин в фильме не будет?
— Только одна — учительница, любовница пастора.
— А кто будет…
— Я хотел…
— Что?
— Я хотел, чтобы ее сыграла Ингрид[5].
— А не слишком ли она красива для этой роли?
Ингмар мягко ощупывает свой живот, пустой чувствительный желудок глухо отвечает на прикосновение, содрогается.
— У тебя усталый голос, — говорит Кэби. — Ты поел?
— Не успел приготовить…
— В холодильнике было телячье филе — сходи посмотри.
— Нет, я…
— Иди-иди. Я подожду.
Ингмар кладет трубку, ходит с дурацким видом по комнате, заглядывает в пустой холодильник в кухонном закутке и кричит Кэби, что она была права. Возвращается и бормочет, что поставил мясо на плиту.
— А я как раз вспомнила, что выкинула остатки.
— Значит, я ошибся.
На улице гулко лает собака.
— Ты не дома?
— Дома.
В квартире этажом выше кто-то пробегает по комнате и хлопает дверью.
Ингмар поворачивает будильник, смотрит на отпечаток пальца на стекле циферблата. Вспоминает фотографии, стоявшие на тумбочке у отца.
Портрет его собственной матери и портрет Нитти. Маминого там не было никогда. И фотографии сыновей тоже.
Посреди разговора о мелодике «Похождений повесы», о хоре проституток на второй сцене, после недолгой паузы, раздумий, Кэби вдруг говорит, что, как только он влюбится в другую, он должен ей сразу об этом сказать.
— О чем ты? — спрашивает Ингмар, пытаясь изобразить веселое удивление.
По телефонным проводам, сквозь мигающие соединения, отголоски расстояний Ингмар вдруг слышит какое-то движение в гостиничном номере Кэби, кто-то крадется по металлическому листу, капает на мокрый ковер.
— Мне кажется, что-то происходит, — спокойно произносит она. — Я по себе замечаю, когда я в отъезде.
— Что ты замечаешь?
— Знаешь… — начинает она. — Когда мы встретились, все было в таком, что называется, романтическом сиянии, и это казалось довольно эротичным — правда? Но ведь надо идти дальше… и это не значит, что все к худшему, как ты любишь повторять. Мы получили нечто более реальное. Я согласна, но после моей поездки в Бордо я была немного напугана, потому что твоя потребность во влюбленности гораздо больше моей.
— Кэби, что случилось?
— Ничего, — отвечает она. — Я встретила Святослава Рихтера и поняла, что это очень приятный и интересный человек.
— Ты что, переспала с этим…
— Прекрати, — перебивает она. — Я никогда не стану тебе изменять.
— Но если ты изменила, значит, ты лжешь.
— Мы ужинали в этом самом «Ле Жарди чего-то там».
— А потом? Вы поужинали. Что было дальше?
2
Мы выключили ночники в изголовье и переспали, думает Ингмар.
Все такие же слепые, желательно с закрытыми глазами, мы искали друг друга.
В мерцающей темноте.
Глубоко утопая в затихающей роскоши «Оперы»: изогнутые балконы, ложи и вертящийся пол.
Кэби попыталась прошептать что-то о том, что обоим и без того было известно, одновременно приподнимая зад.
Осторожно, почти деловито, Ингмар задирает ее батистовую ночную сорочку.
Неожиданное тепло.
Их тела наливаются страстной тяжестью при мысли о том, что если они продолжат, то могут зачать ребенка, — и, не сговариваясь, продолжают.
Молча обвиваясь телами.
Он видит это сквозь стеклянную перепонку, наполненную водой, сквозь запотевшую банку из-под варенья, сквозь огромный парник, ледяной кубик, ночью наполненный светом.
На коробке шоколадных конфет «Дросте» куда-то спешит маленький человечек с тростью. На нем остроконечная шляпа, вместо тела шоколадная плитка.
Ингмар трет глаза запястьями и смотрит в окно.
Небо постепенно отделяется от черного поля.
Маленькие листья на ветвях плакучей березы пока неразличимы, хотя солнце уже ласкает кроны деревьев.
Тень от дома падает на весеннюю травку, пробивающуюся сквозь толщу бурой прошлогодней листвы.
В спальне звонит будильник, который тотчас выключают. Кэби идет в туалет, спускает воду и приходит на кухню.
— А вдруг на этот раз я забеременела? — сонно произносит она у него за спиной.
В голосе звучит едва скрываемая улыбка. Ее тело все еще хранит в себе тепло долгого сна.
— Я совсем забыл, что тебе надо в Вестерос, — говорит он.
— Ты давно проснулся?
— Нет.
— Я слышала, как ты вставал без десяти пять.
— Да, я опрокинул полку со всеми продуктами в холодильнике, — отвечает он. — Наверное, крепеж сломался к чертовой матери.
— В субботу попробую починить, — бормочет она, наливает воду в эмалированную кастрюлю и ставит ее на плиту.
Немного погодя кастрюля начинает шипеть.
— Ты едешь в Росунду или у тебя другие планы?
— Пока не знаю, — отвечает он.
— Дорогой, не надо переживать из-за того, что пишут в газетах, — говорит она. — Главное, что всем, кто там был, опера очень понравилась. Понимаешь? Ведь весь зал аплодировал стоя. Причем очень долго. Браво, Ингмар! Браво!
— Да, конечно, это главное.
В окно он видит, как Кэби садится в такси, затем он встает на колени, подключает телефон и, затаив дыхание, звонит Ленн.
Под звуки фанфар тяжелый негнущийся занавес (на нем нарисован еще один занавес) резко подпрыгивает вверх, во время короткой прелюдии обнажая сцену: В Саду Настоящей Любви наступила весна, женщина с испуганным лицом и окладистой бородой сидит в беседке.
— Ну-ка быстро говори! Я готова: раз, два, три!
Маленький круглый человечек, словно отлитый из темного шоколада, выбегает сквозь отверстие в изгороди.
— Постой-ка, Малыш, дай взглянуть. Успех — ты это слово не забудь!
Зрители смеются на выдохе, неожиданно образуя мощный воздушный поток, который сметает с головы шоколадного человечка громоздкую остроконечную шляпу. На мгновение Рагнара Ульфунга охватывает страх, и сквозь грим проступает его настоящее лицо, но вскоре он снова овладевает собой.
— Ты не лжешь? Прошу тебя! Не обманывай меня!
Шоколадный человечек насмешливо напевает, показывая тростью на домик. Дверь открывается, и на сцену, танцуя, выбегает секретарша Ингмара Ленн в нежно-розовых панталонах с потным пятном между ягодицами.
— Я в молодости умным мнил себя. Зовут меня Курт Берг, я старый идиот.
Женщина краснеет, пряча лицо в бороду.
— Моя рецензия прекрасна, успех тут налицо, всем это ясно! Хвала тебе, наш милый Малыш, ты превосходный режиссер, ура тебе, ура!
Дрожащими руками Ингмар вешает трубку на место. Он думает, что, наверное, Ленн лгала ему, чтоб не расстраивать, и сомневается, стоит ли снова звонить ей.
Он завязывает узел на мешке с мусором, кладет новый пакет в мусорное ведро, прикрепленное к дверце шкафчика изнутри, и видит, как входит мать. Окутанная бромураловой дымкой, она вдруг спотыкается о швейную машинку.
Ингмар не знает, что делать. Он идет за молодым краснощеким мужчиной, который бежит в свою комнату.
Долгое время он сидит на полу, закрыв лицо руками.
Затем пытается успокоиться, ищет старый кинопроектор и облезлую фиолетовую коробку со сценарием «Фрау Холле».
При виде отпечатка детского пальчика на отражателе проектора молодого человека бросает в пот.
Он снова хочет спрятать кинопроектор.
Вспоминает, как отец, задыхаясь от ярости, распахнул дверцу, схватил его за волосы и вышвырнул из шкафа.
Он лежал перед отцом на полу, еще не понимая, в чем провинился. Моргал от яркого света, пижамная курточка задралась.
Наверное, он описался от страха перед грядущим наказанием.
Нет, он описался, расслабившись на секунду во время той непрерывной боли.
Он был так чудовищно зол: по щекам текли слезы, а он кричал брату, что убьет его, даже не заметив, что это произошло прежде, чем Даг начал смеяться.
Он просто стоял, не пытаясь этому помешать.
А Даг побежал за матерью, мочу вытерли, и только после того, как Ингмара вымыли, она совершила этот унизительный ритуал, за которым наблюдали отец со старшим братом.
Родители с братом поворачивали его так и сяк, отпускали комментарии, смеялись, а отец вдруг поспешил за камерой.
Звонит Аллан Экелунд[6] и поздравляет с хорошими отзывами в газетах «Дагенс нюхетер», «Свенскан», «Стокгольмс-тиднинген», «Афтонбладет». Ингмар сдержанно благодарит его, переводя разговор на другую тему. Он спрашивает, что думает Аллан по поводу нового фильма.
— Могу я рассчитывать на твою поддержку?
— Да ты, похоже, решил, что тебе все можно после этой истории с «Девичьим источником».
— И все-таки, что ты об этом думаешь? — спрашивает Ингмар, слыша едва уловимую нотку отчаяния в своем голосе.
— Что я могу думать! Сначала надо увидеть сценарий, а потом уже…
— Но как тебе сама идея?
— Не знаю…
— Понимаешь, лично я уверен, что этот фильм обязательно надо снимать, хотя, наверное, это может показаться довольно скучным, если…
Аллан Экелунд с хохотом соглашается.
— А если серьезно? — спрашивает Ингмар. — Думаешь, съемки начинать глупо?
— Может, и так.
Ингмар идет по мокрым плитам садовой дорожки на заднем дворе, видит, что железный цилиндр распылителя воды оставил ржавый след на желтом кирпиче под скрученным шлангом.
Белая кошка прыгнула на наружный подоконник музыкальной гостиной. Она ловко балансирует на самом краю. Похоже, разглядывает ослепительную черноту рояля «Бехштейн», принадлежащего Кэби.
Две сороки гоняются друг за другом вокруг березы, треща во все горло, перепархивают к заболоченной травке под яблоней.
Ингмар делает несколько шагов и останавливается перед серо-зеленым брезентом, накрывающим садовую мебель.
Он рассматривает складки материи: застоявшиеся озера с коричневой хвоей и сухие вершины туманных Альп.
Кто-то жжет хворост и сухую листву. Над одним из садов вдоль улицы тянется вверх блекло-серый столбик дыма.
* * *
Долгоножка бьется о стены подрагивающей стеклянной банки, мечется и замирает на дне. Лесной муравей вновь приближается, и долгоножка опять начинает метаться по банке. Даг смеется, но глаза у него испуганные. Ингмар хочет подойти ближе, но брат отпихивает его.
Он падает навзничь на гравий, ударяясь спиной о бочку с водой позади морга.
Встает и спрашивает Кэби, как прошел концерт. Сквозь помехи в телефонной трубке Кэби отвечает рассеянным, задумчивым голосом, что концерт прошел довольно хорошо.
— Прекрасно.
— Я скоро поеду к Хеландерам, погоди… Слушай… — начинает она со сдерживаемой радостью.
— Что мне…
Он не успевает договорить, как на другом конце провода раздаются смачный щелчок и потрескивание.
— За тебя — поздравляю с отличными отзывами!
— Ты купила шампанское? — спрашивает он.
— Что и тебе советую сделать.
— Знаю, — говорит он, чувствуя, как спокойствие разливается по всему телу.
— Что будешь делать сегодня вечером?
— Лягу пораньше. Попробую что-нибудь написать, — отвечает он, расплываясь в улыбке.
— Как там бедняга пастор?
— Не знаю, я пишу очень медленно, — отвечает он. — Надо почувствовать эту простую будничную драму. Профессиональный конфликт — человека и пастора. Все считают, что это звучит скучно.
Ингмар смеется.
— По-моему, этот пастор начинает тебе нравиться, — говорит Кэби.
— А что мне еще остается? Кроме него, у меня никого больше нет. Мне больше не с кем себя отождествлять. В прошлый раз я мог поделить себя натрое. Мальчик, врач, писатель. А теперь у меня есть один лишь пастор. В этом весь смысл, мне некуда больше бежать. Ведь так бы оно и было, если б я стал пастором.
С левой стороны гравюры на стуле сидит женщина с обнаженной грудью. Она с взволнованным видом указывает на шляпу, лежащую на полу. Оргия подошла к концу, все устали. Розги отбрасывают грязные отблески света. Под треснувшим зеркалом, широко расставив ноги, сидит Ингмар с распахнутым жабо. Волосы у него немытые и давно не стриженные. Утром он не побрился, и на подбородке выступила щетина с блеклой проседью. На столе перед ним среди бокалов и фруктов лежит желтый блокнот.
Взгляд Ингмара падает на ручку с обгрызенным кончиком и потрескавшимся лаком. Большой и указательный пальцы, испещренные годовыми кольцами, со сложной системой переплетающихся желобков и многочисленными руслами рек. Ногтевые валики на розовых пластинках ногтей. Порез от бумаги, поблескивающий красным на фоне розового.
Ингмар пишет быстро, ручка скользит по бумаге. Долгоножка бьется о стеклянные стенки и железную крышку. Он пытается справиться с наплывом мыслей, поймать интригу, но, быстро устав, замечает, что все больше увязает в пространстве, отдельных эпизодах, диалогах и поворотах чувств.
Учительница не отступается от пастора, но у него в душе нет места любви, пишет Ингмар в конце страницы и быстро переворачивает ее.
Пастор чувствует, что не может принять ее, продолжает он, не может удовлетворить ее потребность в нежности и ответить на ее чувства. Он должен быть твердым, потому что не способен ответить на ее чувства.
И вот она оставляет его, думает Ингмар. Наверное, именно об этом и стоит рассказать. О пасторе, который не выдерживает молчания Бога, о том, как он нуждается в заботе. Не ведая о том, что сам копирует его поведение.
Учительница просит любви, а он отворачивается. Он словно безмолвный камень.
Равнодушный к любви.
Наконец она уходит. Так же как покинул его и Бог. Пастор остается наедине со своим одиночеством.
Когда Ингмар записывает слова учительницы о любви, ручка снова быстро скользит по бумаге. Неожиданно пастор становится жестоким. Он толкает ее, но она не уходит. Она остается и выслушивает все его колкости. Плачет, признает, что ведет себя глупо, но отказывается покидать его. Понимая, что тоже была эгоистична по отношению к пастору, она говорит: «Всякий раз, чувствуя к тебе ненависть, я превращаю ее в сострадание».
Удивляясь учительнице, которая отказывается покинуть пастора, Ингмар переворачивает страницу и делает пометку о том, что сделать это ее может заставить только что-то исключительное.
По своей воле она не уйдет.
Потому что она ужасно навязчивая, прилипчивая женщина, пишет Ингмар и тотчас зачеркивает эти слова, чувствуя будто кого-то оскорбил.
Но ведь я задумал, что пастор останется наедине с Богом, говорит сам себе Ингмар, закрывая желтый блокнот. Или, если угодно, окажется покинутым Богом. Ингмар пролистывает старые блокноты и находит ранние записи, где говорится, что она, будучи пасторской женой, покидает его. Покидает с озлобленной душой, как записано в старом блокноте.
Вот вам и предпосылка. И все же она не сдается, даже оказавшись на своем месте, думает Ингмар, нагибаясь к стеклянной банке, которая стоит у кирпичной стены, освещенной лучами вечернего солнца и скрытой парусиновой тенью. Опускаясь на колени, он вдруг слышит, как мать разговаривает по телефону за пожелтевшим окном пасторской усадьбы.
— Какие прекрасные отзывы, вот это премьера! Трудно поверить, что на сцене стоял именно ты, — говорит она. — Мой милый Малыш. Которому так аплодировали.
— А что отец?
— Там были король с королевой.
Потрескивание и стрекот в банке прекратились.
— Значит, он не пришел, — тихо произносит Ингмар.
— Ты же знаешь, если ему нездоровится…
— Я так устал, — обрывает он.
На заднем плане работает телевизор. В трубке слышно дыхание матери. Ингмар чувствует, что она хочет загладить неприятное впечатление, делает робкие попытки поправить ситуацию, знает, что его не волнует Агда, которая тоже была в Опере, что они видели в партере Окерхьельма и старого господина Юсефсона.
Долгоножка похожа на дрожащую свинцовую пульку, лежащую на дне банки, — без крыльев и с длинными тонкими лапками-палочками.
Она замолкает, и за спиной у нее бьют напольные часы из Шернсунда, плавно качается маятник.
— Поздравляю тебя с наградой… Как-никак «Оскар», — заискивающе продолжает мать.
— Да, это приятно, — бормочет он.
— Я хотела тебе позвонить, но потом подумала, что ты, должно быть, занят премьерой.
Ингмар не заметил, что, уходя, оставил входную дверь открытой. В саду холодно. Рубашка трепещет от ветра, холодная потная майка липнет к спине.
Он бежит к выезду. Большими шагами проходит мимо автомобиля, вишневых деревьев и рододендроновой изгороди. Пусть отец катится к черту. Надо отдать его в дом престарелых.
Белая кошка скребет кучу песка, он пинает ее ногой. Та нехотя отскакивает назад, он топает ногой, и кошка, проскользнув вокруг кучи, прячется под штакетником.
Дрожа, он идет дальше по гравийной дорожке, мимо проносится легкий запах дыма, Ингмар вспоминает, как ему нравилось ребенком прокрасться в темноту под лестницей и играть на маленьком органе.
Вдруг музыка затихает, слышно лишь учащенное дыхание. Он делает шаг в сторону, по площадке кто-то идет.
Хруст гравия.
Ингмар бежит по дороге вдоль вилл. Надо проверить, хорошо ли он загасил камин, ведь скоро наступит ночь. Он смотрит на ровные пустые площадки и повторяет, что достаточно крохотного уголька, чтобы огонь снова разгорелся в полную силу.
За дверью лает собака.
Ингмар перебирается через невысокий забор, не задумываясь о том, что на нижнем этаже виллы горит свет, обходит дом сзади, однако не видит ни малейшего признака огня. Перелезает через забор в соседний сад и, почувствовав запах дыма, бежит, но огня не находит.
Сквозь тесное отверстие в еловой изгороди он продирается на газон, минует стальную опору с красными пластиковыми качелями и проходит по гравийной дорожке. Видит, что по другую сторону виллы на земле что-то горит, мерцающая игра мглы. Запыхавшись, он подбегает и топчет землю. Вокруг его ног взвихряется черная пыль, пылающий корабль, переливаясь, растет у него под ногами. От земли поднимается жар, пламя лижет икры, но он все топчет огонь, пока взгляд его не падает на силуэт на краю освещенной площадки.
Узкая голова на уровне его пояса. Влажный блеск больших глаз.
— Я увидел, как что-то горит, — говорит он. — И решил помочь.
— Если б огонь погорел еще немного, ничего не случилось бы.
Ингмар не видел ее лица. Слабый свет проходил мимо, касаясь ее затылка. Изгиб, продолжающий ночь. Кажется, она сидит на перевернутой тачке. Стройная неподвижная нога поблескивает во мраке.
— Я живу здесь, неподалеку.
— Знаю, — с живостью отвечает она.
— Я видел дым.
— Кэби за границей?
— В Вестеросе.
Она облизывает губы мясистым языком.
— Ты решил навестить меня, пока Ян Карл в отъезде?
— Нет, — шепчет Ингмар, глядя на лужицу мерцающего света, темнота поглощает тлеющие огоньки.
— Ты просто решил убедиться, что я затушу огонь?
3
Осторожно, стараясь не повредить эмульсионное покрытие, он засовывает киноленту в стеклянную банку. На ленте раскручиваются бесчисленные отцовские лица, одинаковые кадры с его портретом заполняют банку целиком.
Ингмар завинчивает крышку и ставит банку рядом с собой на переднее сиденье.
Они медленно приближаются к средневековой церкви с белым флагом, за окном по правую руку пробегают воздушно-зеленые поля.
— Могу подвезти вас к воротам, — говорит Ингмар.
— Зачем? — спрашивает отец.
— Чтобы вам не подниматься по горке.
— Я прекрасно могу дойти сам.
Кладбище и длинный дом[7] без башни, со сводчатыми оконными нишами, окружает низкая гранитная кладка с щелями. Розовые разводы струятся по грубым стенам с облупившейся штукатуркой. За качающимися кронами деревьев проступает обгорелая кирпичная крыша с потрескавшимися печными трубами.
Ингмар сомневается, стоит ли оставлять рукопись в автомобиле. Ленн распечатала первый вариант на машинке. Двадцать пять страниц в невзрачной картонной папке. Он думает, не предложить ли отцу почитать ее.
Рука Эрика покоится на стене, манжета загнулась на веснушчатом запястье.
— Тебе больно? — тихо спрашивает Карин.
Он не отвечает, лишь стоит неподвижно и ждет.
Колокольня разражается звоном, ухает большой колокол, и Карин смотрит на выкрашенную красным звонницу, примыкающую к церкви сбоку.
Почесывая затылок сквозь берет, Ингмар рассказывает отцу о фильме, который собирается снять, о пасторе, что утратил веру и почувствовал, что лишь притворяется пастором.
Отец позвякивает монетами в кармане светлого плаща и щурится на непроглядную белизну неба.
— Именно поэтому я хотел сходить в самую обычную церковь, — говорит Ингмар.
— Обычную? — переспрашивает отец.
— Ну да, не в Слоттсширкан, а…
— Какая разница, — перебивает Эрик и идет дальше.
Ингмар спешит за ним, стараясь не отставать.
— У меня с собой рукопись. Первый вариант. Не шедевр, конечно, но….
Он замолкает, пытаясь прочитать сложный узор мыслей на безучастном лице, маленьком, как отпечаток пальца на стеклянной банке. Маленькие отцы в ней варьировались по светосиле, в зависимости от меняющегося ракурса камеры и оттенка фильтров. Раскручиваясь, эта лента не обнаруживает ничего, кроме бесконечного повторения одного и того же лица.
* * *
На глухом масляном полотне висит Иисус на своей перекладине. Шесть тщательно выписанных струек крови сочатся из раны в боку, их тонкие дуги касаются макушек четверых мужчин.
Ингмар стоит в тесном промежутке скамей, тогда как родители уже сели.
Он обводит взглядом латунную люстру, хоры с заостренными сводами и старинный орган. За перилами движется кантор. Женщина в черной блузке и серо-голубой кофте. Встретившись с ней глазами, он отворачивается. Швыряет псалтырь, который так и остается лежать на полу, дрожащей рукой проводит по губам. Он не понимает, кого увидел. Женщина лет пятидесяти, высокие выщипанные брови, плотно сжатые губы и глубокие морщины вокруг опущенных уголков рта.
Органные меха вздыхают, и сквозь трубы пробиваются первые звуки.
Он пытается сообразить, откуда ему знакомы этот прямой и красивый нос, волосы с проседью, копается в памяти, вспоминает друзей Кэби.
Кажется, будто кантор специально фальшивит, причудливо выбирая регистры. Эрик набирает воздуха, хочет что-то сказать, но так и не говорит.
Пастор средних лет в ризе, с прядками волос, свисающими на уши, размахивает тощими руками.
Зеленый бархат с серебряной вышивкой.
Он кашляет, объясняя, что заболел и поэтому хочет отслужить короткую мессу.
Пастор взглядывает на часы и делает непонятный жест прихожанам.
— Это еще что такое? — бормочет Эрик, опираясь на скамью перед собой.
— Ты мог бы продолжить вместо него, — шепчет Ингмар, чувствуя, как сосет под ложечкой.
Он оборачивается и видит рослое тело кантора за перилами возле органа. Одна только мысль о том, чтобы избежать ее взгляда, побуждает его поднять глаза. Она смотрит прямо на него, высунув серый язык.
Что-то переворачивается в животе, потихоньку он вспоминает, садясь на скамью, хотя все прихожане стоят.
Неправда, думает он.
Серая женщина угадывается сквозь скверную комбинацию оптометрических приборов. Всякий раз при наведении резкости картинка перекашивается, обретает контуры, но съеживается и становится уже.
Белая вязаная шаль, широкие бедра. Вскидывает руку, плоть предплечья подрагивает. Вязаный узор накрывает голую кожу.
Картинка прерывисто фокусируется, а женщина отворачивается и выдвигает ящик в кухонном буфете.
Кадр смазывается, затем контур вновь обретает резкость.
Склонившись у края линзы, она приближается, держа в левой руке кухонный нож, хохочет и говорит, что отрежет ему ягодицы.
Теперь она сидит спина спиной к нему, руки ее покоятся на клавиатуре органа, думает Ингмар.
Непроницаемое лицо, крашеные рыжие волосы.
Он не знает, сколько раз он с ней спал.
После репетиций.
«Пеликан» в Студенческом театре Стокгольма.
«Лебедь белая»[8].
Затем он покинул ее, переехав в Воромс. С головой у нее не в порядке, сказал он себе.
Уже тогда он понимал, что все больше подражает отцовской манере наказывать изощренным образом. Ему не надо смотреть на полукруглые шрамы на суставах пальцев, чтобы вспомнить протяжный истерический стон и облегчение.
Ее лицо на полу в ванной комнате, она вытирает слезы и лижет ему кожу между пальцами на ногах.
Он сопротивляется собственной фантазии, уговаривает себя, что она останется в его голове, ведь по правде этого не было, она не испортит хвалебный псалом. Но женщина тотчас встает на хорах позади него, за спиной у нее, словно гигантский панцирь, вырастает орган, и кричит на всю церковь, что Ингмар Бергман лишь обещал и обещал и пялил меня, словно пуделя.
Пастор неподвижно стоит на церковной кафедре, не видя своих прихожан. Его тощее бородатое лицо возвышается прямо над одутловатым ангелом с золотыми кудрями и раскосыми глазами с красной обводкой.
Ингмар думает, не волнуется ли пастор оттого, что узнал Эрика Бергмана, сидящего на скамье в первом ряду.
— Сей есть Сын Мой возлюбленный, — тихо говорит он и замолкает.
Бог в короне и с окладистой бородой сидит, держа на коленях Своего сына, зажав его, висящего на распятии, меж своих ног. Они находятся в центре триптиха, посреди хоров. Их окружают десять фигурок: Иоанн Креститель, Мария с Младенцем, Биргитта со своей книгой, евангелисты и другие.
Ингмар направляется к парковке, оборачиваясь, видит отца, стоящего на гравии возле ворот.
Красные пятна выступили на бледных щеках.
Эрик обводит взглядом поля под нависшим грозовым небом и вздыхает, приоткрыв рот.
Ингмар возвращается и предлагает принести из машины трость, чтобы побыстрее увести оттуда отца.
Он боится, что кантор выйдет из церкви поздороваться.
Пастор чешет бороду и бормочет, что рад их видеть, отец ищет его взгляд, когда тот направляется к ним по гравию.
— Я обожаю «Седьмую печать». — Пастор улыбается, протягивая Ингмару руку.
— Правда? — почти беззвучно произносит Ингмар.
— Раз десять ее смотрел.
— Это мой отец, Эрик Бергман.
— Очень приятно, — отвечает пастор.
— Пастор придворного прихода, — объясняет Ингмар.
Они обмениваются рукопожатиями, Ингмар бросает взгляд в темное преддверие церкви. Видит какую-то фигуру в изножии лестницы, купол с блестящим изгибом.
— Нам пора, — бормочет Эрик.
— А как же кофе? — удивляется пастор, пытаясь увлечь за собой Ингмара в сторону прохода в стене, ведущего в жилую часть. — Моя жена. — Он кивает на пасторскую усадьбу, выглядывающую из-за конька крыши рядом со звонницей.
* * *
Эрик грузно склоняется к полукруглому крылу машины. Они остановились возле обочины где-то в миле южнее Сигтуны. Перед лугом, который обозначен валуном. С одной стороны синяя лесная опушка, с другой — канава и рапсовое поле.
К автомобильной покрышке жмутся луговые хвощи и мята.
Стебли изламываются от сустава к суставу, дольки листьев и тощие колоски.
Неподвижные, обуреваемые насекомыми.
Карин отвинчивает крышку термоса и наливает кофе.
— Он тебя не узнал? — спрашивает она.
— Думаю, узнал, — отвечает Эрик.
— Я надеялся, что отец возьмет его за ухо и объяснит, что к чему, — говорит Ингмар, слыша, как вкрадчиво звучит его голос.
— Прямо как тогда, когда мы должны были слушать епископа Гертца во Дворце, — вспоминает мать. — Полная часовня народу, королева сидит на своем месте, а епископа нет. Четверть часа спустя отец поднялся и сказал, что проведет запрестольную службу.
Королева аплодировала, рассказывал Даг в воскресенье. Но перестала, когда увидела взгляд короля. Она покраснела и стала чесать себе здесь, вот здесь вот, внизу.
Словно ткань свинцового цвета — скорей всего, бархат. С узором из белых кругов, обрамляющих черный жемчуг. Маленькая бабочка расправляет голубые крылья и улетает.
Отец выпрямляется, светлый плащ обтягивает напряженные плечи.
Узкий галстук, помятый жилет.
Бледная кожа под носом и редкие седые усы.
Ноздри раздуваются, но глаза засахарились неуловимым спокойствием.
— Печенья у нас нет? — спрашивает Эрик, дуя на кофе.
— Ты же сказал, чтобы я ничего не брала, — отвечает Карин.
— Но спросить-то можно, — бурчит тот.
Мать теребит бусы, висящие поверх блузки, и предлагает сесть на траву, ведь там совсем сухо.
Отец не дает себе труда ответить на ее слова.
Жидкие волосы на блестящей макушке ерошит ветер.
Ингмар приносит из машины шоколад, отец ест, пьет кофе, слегка втягивая в себя щеки.
— Настоящий шоколад, — говорит он.
— Из Голландии, — уточняет Ингмар. — Марки «Дросте».
— Почему у нас нет такого «Дросте»?
— Не знаю, — отвечает Карин с тревогой в глазах.
Ряд синих и красных бочек из-под нефти стоит у лесной опушки. Над верхушками деревьев беззвучно скользит одномоторный самолет.
— Какое странное богослужение, — говорит мать.
— Странное? Его упростили, — отвечает отец, встряхивая крышку от термоса. — Для Малыша в самый раз, — говорит он, бросая ясный и дерзкий взгляд на Ингмара. — Знаешь, тебе было всего лишь три года, когда ты впервые попал в церковь.
Ингмар пытается сдержать улыбку.
— Это случилось в сочельник, я вез тебя в своих зеленых санях по сугробам мимо завода.
Мать опускает глаза, словно ее осеняет страшная догадка, но она тотчас смущается.
Отец рассказывает, как посреди проповеди с приходской скамьи вдруг послышался тоненький голос: «Довольно, папенька, больше не надо».
Ингмар по-детски смеется, неожиданно для себя самого.
Левая рука матери проводит по воздуху над головой.
Ингмар открывает дверцу машины, помогает отцу сесть, берет лежащую на переднем сиденье тонкую папку со сценарием и говорит отцу, что было бы интересно узнать его мнение.
— Вот как, — вздыхает Эрик, кладя рукопись на колени.
Ингмар снова хлопает дверцей, трогает крышу машины и чувствует тепло, исходящее от черного металла. Смотрит на рапсовое поле, желтый диск которого соприкасается с белой плоскостью неба, к горизонту пространство сужается, белое полотно склеивается с желтым.
Он осторожно притормаживает, останавливаясь возле ворот дома девятнадцать на Стургатан. Кусты у фасада дома подрагивают на ветру. Мокрая варежка с национальным узором лежит под низким штакетником.
— Это была первая церковь, — объясняет он, глядя на отцовское лицо в зеркале заднего вида. — Я собираюсь посетить еще пять — если хотите, можно поехать вместе.
— У меня нет времени, — говорит отец матери.
Ровная медно-желтая тень ложится на Ингмара. Кажется, она проходит через темное стекло — огромная, как шинель. Стиснув зубы, он крепко зажмуривается. Ну как можно быть таким дураком, думает он, решив, что в наказание отправится спать голодным.
Снова оказавшись за рулем, Ингмар закрывает глаза и с большой высоты видит их короткое прощание. Примыкающие друг к другу прямоугольники крыш. Черная и красная черепица, рыжий кирпич. Террасы с установками для чистки ковров. Шахты дымоходов, водосточные трубы. Между домами — улица Стургатан в свете вечернего солнца. Автомобиль поблескивает, как капля смолы на цинковой пластине. Ингмар стоит перед отцом и просит его взять последнюю шоколадную плитку. Отец отказывается, но не сопротивляется, когда тот кладет шоколад в карман его пальто.
Кинолента в стеклянной банке местами лежит в два, а то и в четыре слоя. Иногда кадры накладываются точно, и насыщенность усиливается, а иногда со смещением, делая лица гротескными и уродливыми.
* * *
Ингмар вешает ключи на крючок, ставит банку на шляпную полку, входит в полосу желтого света, спотыкаясь о туфлю на высоком каблуке. Светло-серое пальто валяется на линолеуме в коридоре. В целлофановом пакете угадываются хлеб, ветчина и картонка с шестью яйцами.
— Я сказал Кэби, что останусь в городе, — бормочет он. — Что мне надо немного побыть одному.
Она приподнимает с подушки голову.
— Приезжает Маиму, — продолжает он. — Им все равно хотелось побыть вдвоем.
Она вздыхает и отворачивается.
— Значит… не думаю, что Кэби расстроится, — говорит он, не глядя в ее сторону. — Ведь когда мы повстречались, она жила в свободном браке и…
Он расстегивает рубашку, на лестнице кто-то смеется.
— Она сказала только, будто хочет знать правду, что само по себе является ложью.
За окном слышен женский крик, затем кто-то хлопает дверцей автомобиля.
— Н-да, — вздыхает он, ощупывая свой живот.
Бесчисленные дубли, все менее узнаваемые. Бокал «Шерри» на столе. Тривиальность самой ситуации. Свет вечернего солнца сквозь грязные стекла, его брюки, висящие на стуле, трясущаяся спинка кровати, шелест чулка, соскальзывающего с шершавой пятки.
— Что будем делать? — спрашивает он, обводя взглядом нежно-розовую внутреннюю поверхность бедра и пах.
Лица не видно, напряженная линия шеи. Тонкий лоскут простыни прикрывает чашу, раскрывшиеся в ожидании меха, скользит по тупым грифелям сосков.
— Ну что? — спрашивает он. — Будем изменять?
— Возможно.
— Для этого мы и здесь? — говорит он, и она кивает.
На рожке люстры висит бюстгальтер телесного цвета. Ингмар увидел его только сейчас. Предполагалось, что, войдя в квартиру, он засмеется. Туфли в коридоре, пальто на полу, брюки и так далее.
Она придвигается ближе, прижимается к нему, а он рассказывает о том, что продолжает свои поездки по церквам в Упланде вместе с отцом.
В преддверии нового фильма.
Хотя вообще-то следовало признаться, что речь идет об одной-единственной церкви, отец с ним больше не поедет.
— А вечером он прочитает первый вариант сценария, — говорит Ингмар, слыша, как кто-то остановился на лестничной клетке рядом с их дверью — как раз в тот момент, когда он положил руку ей на бедро.
— Да ты что, — весело воркует она.
— Что хотим, то и делаем, — шепчет он.
— Ты думаешь?
— Но наша жизнь, очевидно, станет немного проще, если мы не будем сейчас заниматься любовью.
— Тогда пойдем доедать завтрак.
— Я решил сегодня больше не есть.
— Ты не голоден?
Он встает с постели и подходит к окну. По тусклой летней улице кружатся бесчисленные семена вяза. Ветер взвихряет дюны из крошечных хрупких чашечек. Они кружатся вокруг ног одетого в черное мужчины с пуделем на поводке.
— Завязка рождается, когда пастор понимает, что не способен почувствовать любовь, — говорит он. — Потому что именно в этот момент учительнице ясно: выбора у нее нет, ее задача — любить пастора. Я много думал о ней, понимаешь… Молить о любви — разве может быть что-то более патетическое?
Не услышав ответа, он оборачивается: она заснула, рот ее приоткрыт, и он чувствует лишь облегчение из-за своей несостоявшейся измены.
Хлопанье крыльев, влажные губы.
За бельевым шкафом слышатся звуки, на шепот они не похожи, скорее напоминают шуршание бумаги, прилипшей к стене и трепещущей от сквозняка, когда дверь в подъезде открывается.
Упершись плечом в торец, он немного отодвигает тяжелый шкаф и видит, что стена вздымается.
Вздымается и опускается вновь, словно неторопливо дышит.
Дотронувшись до стены, он чувствует мягкую поверхность. Нажимает рукой, и та проходит сквозь обои.
Кто-то пытался скрыть эту дыру, думает он. Заклеить отверстие, ведущее в чулан.
Ингмар срывает большой кусок обоев, проводит пальцами по краям дыры, заглядывая внутрь.
Осторожно просунув голову между шкафом и крошащейся кирпичной стеной, он заглядывает туда и видит маленькую запущенную комнату с пожелтевшими газетами на окне.
Прислонившись ко внутренней стене, под черным газовым счетчиком сидит рослая женщина с серьезным детским лицом.
На грязном полу перед ней лежат костыли.
Бесцветные, словно веревка, волосы, заплетенные в косу, лежат на огромной груди.
Кормилица, думает Ингмар. Неужели она не мерзнет, ведь его собственное дыхание паром клубится на фоне серого кирпича дымохода.
— Тут на борту сразу теплеет, — шепчет она, опуская взгляд. — Каждый раз, когда ребенок лишает себя жизни.
— Что ты сказала?
— Извини, — бормочет она, ее шея и щеки краснеют. — Ты разве не помнишь, что мы виделись в Даларне? У прорвавшейся плотины на реке. Я не толкнула тебя, но солгала, не рассказав о боли в груди и о том, что небо чернеет и трясется, как в заиндевелом окне, прежде чем…
4
Море еще светлее, чем ночное небо. Вязкие, словно масляные, волны почти бесшумно переливаются.
Маяк над островом Ландсурт взмывается ввысь, будто столп раскаленного воздуха.
На побережье пока темно, карликовых сосен не видно.
Ингмар думает о том, что валиум надо было принять еще два часа назад. Утро уже совсем близко. Кэби что-то бормочет в постели.
Он вычеркивает одно предложение за другим, когда в ризнице пастор рассказывает учительнице о своих сомнениях.
Ему сложно об этом говорить, думает Ингмар, размышляя о том, что делал бы со своим неверием, будь он пастором.
Он еще сильнее нажимает пальцем на край небольшого конвертика, в котором лежит бритва.
Наверное, это у всех одинаково.
Сейчас ему сложно вспомнить, говорил ли отец о своей собственной вере, затрагивал ли вообще какие-то богословские проблемы.
Ему приходит в голову лишь стихотворение 1925 года, посвященное матери.
Он вычеркивает легкомысленное сравнение причастия с каннибализмом. А потом и остатки повисших в воздухе реплик.
Ему по-настоящему нравится в этой сцене, что учительница слушает пастора, словно ребенок, который рад случаю вовремя вставить свое «да, понимаю» и не встретить в ответ сопротивления.
Но пастор не видит ее.
Как и в историях Пер Гюнта, Дон Жуана и Рейквелла, он хочет на протяжении всего фильма рассказывать о сложном и неприятном человеке. В глубине души зритель всегда готов простить, думает Ингмар. И в то же время он будет болеть за учительницу, которая конечно же должна плюнуть на этого пастора, хватит уже унижаться, он никогда не сможет дать ей того, что ей нужно.
Похоже, летнее утро проступает из белесых ночных сумерек, а Кэби стоит на пороге в спальню.
— В такой жаре спать невозможно, — говорит она сонным голосом.
— Ветра совсем нет.
Он не видит ее: под пеленой тени черты лица расплылись.
— Ну как? — спрашивает она.
— Ничего.
— Это хорошо.
На окошке стоит свинка из розового фарфора, в спине у нее отверстие для свечи.
— Я только что перечитал беседу с рыбаком, — говорит он. — Помнишь, когда мы ездили в Буду навестить пастора, который венчал нас, — они все вели себя как-то странно.
— Да, точно, там кто-то покончил с собой.
— Он был там и разговаривал с пастором много раз, но все же сделал это, — произносит Ингмар с улыбкой, глядя на мертвую муху, застрявшую в отверстии на спине свинки. — Догадываюсь, что отец потребует вычеркнуть сцены, в которых…
— Да не будет он это читать, — перебивает Кэби. — Он и не взглянул на тот первый вариант.
— Но я же сказал матери, чтобы он про него забыл, я сам позвонил и сказал, когда закончил новый вариант.
— Ну смотри, — бормочет она.
— Ты о чем?
— Ведь… у тебя почти не осталось времени, пора раздавать сценарий актерам и…
— Знаю.
В окне что-то дрожит, Ингмар выглядывает на улицу. Немного погодя он замечает, что дрожь исходит от фарфоровой фигурки, вокруг пятачка свинки что-то блестит. Он нагибается и видит, что ее красные губы стали мокрыми, что-то капает с них в пыль на подоконнике.
— Я думала, мне это приснилось, — говорит Кэби, не глядя ему в глаза. — Но вчера, когда я приняла таблетку и легла спать, зазвонил телефон. Как ты думаешь, кто это был? Гун! По-моему, пьяная, хотела поговорить со мной. Знаю, надо было повесить трубку, но я не повесила.
— Что ей надо? — сухо спрашивает Ингмар.
— Она сказала, что ты никогда не говоришь правду.
— Это ложь.
— Она хотела рассказать еще кое-что, — шепчет Кэби и выходит из комнаты.
Ингмар читает отрывок сценария, в котором рассказывается, как пастор идет к тому месту, где было совершено самоубийство. Делает на полях пометку, что он видит тело рыбака только на расстоянии, да это уже и не тело, а могильный холмик, вокруг которого собрались пастор и все остальные.
Они стоят и разговаривают, замечает он, хотя никаких реплик в сцене пока не значится.
Он их не слышит.
Наверное, из-за расстояния. Или из-за шума прибоя, который стучится в скалы.
Пусть так и останется.
Эта дистанция и беззвучный разговор усиливают ощущение, что Бог молчит. Подчеркивают обыденность и незначительность мертвого тела.
На мгновение он уносится мыслями в каменную часовню в больнице Софиахеммет, в морг, солнечный свет, проникая сквозь опаловые стекла, падает на огромную гадюку.
Во вторник после завтрака он спустился на побережье.
Отшлифованные водой камни ослепительно поблескивали на солнце, прямо возле крутого склона у кромки воды.
Ингмар помнит, что в тот момент целиком погрузился в давнее воспоминание о капельках, поблескивавших в ноздрях у отца, когда он замахнулся лопатой на старшего брата, прицелившись прямо в шею и грудь.
Оно всякий раз волновало его.
Он был целиком увлечен этим воспоминанием, когда увидел гадюку, гревшуюся на солнышке.
Тусклый блеск мускулистых колец.
Наверное, именно сама эта неожиданность повергла его в панику, думает он. Он почувствовал опасность.
Сердце бешено колотилось — Ингмар думал о том, что, возможно, змея больна, когда поспешил к ней, держа в негнущихся руках тяжелый камень.
Глухой стук и шелестящее эхо между камней.
Как только конвульсии прекратились, он подошел ближе. Перевернул ногой камень с размозженной головы. Попятился, оставив все, как было. Сказал себе, что останки доест осоед или стайка чаек. К тому же на Торё наверняка водятся норки и лисы.
С каменной террасы, выходящей на море, застекленная дверь ведет в небольшую столовую, в глубине которой стоит маленький флигель. На линолеуме — нежно-розовый коврик, который, проходя под столом, тянется из флигеля до окна без занавесок.
Под потолком висит крепеж для карниза, с одной стороны он сломан, а с другой в стене осталась дыра.
Сквозь огненно-желтый резной абажур люстры проступает кухня: плита и мойка, пакет крекеров и бутылка с букетом маргариток.
Слева, за полуоткрытой дверью, виднеется угол одной из кроватей. Тяжелое вязаное покрывало в сумраке за закрытыми шторами.
Утренний свет пробирается из детской через порог, блуждает водянистыми пятнами в такт торопливому голосу Ингмара:
— Ты про что? У нас тут нет никаких газет.
Шнур телефона обвивает его грудь, когда он поворачивается к окну, чтобы посмотреть, лежит ли Кэби все еще в гамаке.
— Они все щели замуровали, — говорит его мать. — Все окна, все…
— Неужели правда?
— Они говорят, что никакого решения пока нет, все случилось внезапно.
— Ну вот и хорошо.
— Наверное, после всего, что произошло, в Берлине будет спокойнее, — говорит Карин.
— Спокойнее? О чем ты…
На заднем плане слышится голос отца. Словно из жестяной коробки, думает Ингмар.
— Мы сейчас уходим, — говорит мать.
— Да, мне тоже пора, — отвечает Ингмар, садясь на гостевой диван. — Ты не знаешь… Я только хотел спросить, отец еще не прочитал?
— Что?
— Сценарий, который ему присылал.
— Нет, не знаю. Я могу…
— Он ничего об этом не говорил? — перебивает Ингмар.
— Подозвать его?
— Не стоит, — отвечает Ингмар, прикусив ноготь большого пальца.
Земля покрыта ковром бурых сосновых иголок, от нее поднимается теплый аромат. Кэби утопает в крапчатом гамаке.
— Ну что, прочитал? — сонно интересуется она. — Ты ведь наверняка разговаривал только с Карин?
— Отец вышел погулять. Насколько я понял, он был немного тронут эпизодом, когда пастор утешает фру Перссон и спрашивает, не хочет ли она вместе с ним помолиться. Помнишь, она качает головой и отказывается.
— Хорошая сцена, — недовольно говорит Кэби.
— Да.
Он гладит налитые полукружья ягодиц и поясницы. Покачивает сонное тело, покрытое сетчатой тенью от гамака. Он понимает, что обмануть ее невозможно.
— Ты же сам понимаешь, что ждать дольше нельзя.
— Дело не в том, что я дожидаюсь его одобрения. Нет. Я только хотел поделиться, или как-то…
— Делай как знаешь, — нетерпеливо отвечает она.
Тихо поскрипывает крепление гамака. По стволу спускаются муравьи.
— Кэби, я не виноват, что ты говорила с Гун. Не надо на меня злиться за это.
— С чего ты взял, что я злюсь?
— Это уже тебе виднее.
— Слово «злость» в данном случае неуместно. Ты же знаешь, Маиму ночевала здесь, а ты оставался в городе. И ночью меня вдруг осенило… я встала, оделась, взяла ее машину и поехала к тебе в мастерскую.
— Так.
— Ты ничего не хочешь мне рассказать?
— Нет.
— Дверь была не заперта, Ингмар, — с робкой улыбкой говорит Кэби. — Ты забыл запереть дверь.
Сердце колотится в груди, Ингмар вгрызается в ноготь, пытается сохранить ясность мысли, но видит перед собой лишь глупое личико, когда он рассказывает старшему мальчику о том, что Нитти — шлюха. Все это время он помнит, что лишь повторяет выдумки Дага о нем самом, — о всей той грязи, которую он якобы любит и в которую ввязывается, — но остановиться не может.
— Дело было около двух часов ночи.
— Что ты хочешь сказать?
— Мы пытаемся завести ребенка, а ты…
— Знаю, — перебивает он.
— Ингмар, когда я это увидела, меня стала мучить совесть. В чем дело? Ты сам не знаешь. Ты надеешься, что я в это поверила? Думаешь, это просто игра и я не заходила в квартиру?
Ингмар закрывает багажник, идет сквозь заросли крапивы и иван-чая. Спускается по откосу к воде. Чувствует тяжесть накренившегося бидона, жесткая ручка дергается.
Тонкая пряжа сияет в сухой траве. Сотканные пауком нити.
Тихонько булькает бензин, верхушки иван-чая лижут бидон.
На берегу он ставит бидон на землю, надевает садовые перчатки, подходит к змее и, затаив дыхание, отдирает закостеневший на солнце труп, который прочно прилип к камню.
Черная кровь.
Маленькие камешки сыплются с тельца змеи, когда он тащит его подальше от камышовой заводи, к той части берега, которую не видно из дома.
Он сбрасывает перчатки на гравий и открывает крышку бидона.
Пару раз плещет на змею, вытирает руки о штаны, достает спички и зажигает огонь.
Языки пламени разгораются, мягко стелятся по земле. Кажется, они тянутся прямо к нему. Отодвинув бидон, он смотрит, как змея медленно темнеет и скрючивается.
Под конец он поднимает перчатки и кладет их в огонь.
Затем встает на колени и выкладывает на месте костра небольшой курган.
Поднявшись, вдруг улыбается сам себе, берет бидон и, прежде чем двинуться в путь, снова смотрит на каменную горку.
Увидев пустой гамак, качающийся между деревьев, Ингмар вздыхает, чувствуя, как тревога вспыхивает внутри, словно языки пламени на газовой конфорке. Это происходит мгновенно, будто тревога давно притаилась там, бесцветная и почти вытесненная из памяти. Не покидая его, она движется вместе с ним быстрыми шагами вперед, мечется и стучится, смотрит вокруг испуганными глазами.
Сдерживая рвущийся наружу крик, Ингмар идет в дом, ходит по комнатам, заглядывает за двери, в кухню, в чулан, осматривает гостевой диван в детской, туалет, отдергивает шторку в ванной комнате.
Он останавливается посреди темной спальни. Тело подается вперед. Он проводит рукой по губам и немного отступает назад.
Солнечный свет пробивается сквозь пыльное окно. Светлый прямоугольник образует передержанный порнографический кадр.
Маленький блеклый снимок, картинка размыта.
Голая Кэби лежит на надувном матрасе, закрыв глаза. Черные волосы скручены толстыми лентами, шея и плечи, вдоль тела покоятся сильные руки, тяжелые чаши груди, едва проступающие за бликом на стекле, немного припухлый живот с вертикальным следом от кесарева сечения, темный треугольник лобковых волос, длинные ноги, слегка раздвинутые навстречу морю, ступни и пальцы.
Ингмар выходит на террасу и садится в шезлонг, не глядя на нее. И все-таки боковым зрением он замечает, что Кэби перевернулась на живот, панама пошевелилась и водрузилась к ней на голову.
— В чем дело? Что ты хочешь мне доказать?
— Я загораю, — спокойно отвечает она. — Если хочешь, могу одеться.
— Не надо.
Она ищет его взгляд, пытаясь говорить с той же беспечностью.
— Ингмар, вокруг ни души.
— Зачем ты тогда лежишь тут всем напоказ?
— Прекрати, — говорит Кэби, садясь и обнимая колени руками.
— Надеешься, что…
— Ты можешь оставить меня в покое?
Он встает с шезлонга и, пройдя через весь дом, закрывает за собой дверь. Чувствует зуд под коленями, но, не останавливаясь, идет по садовой дорожке перед домом к автомобилю, поворачивает ключ зажигания, включает передачу, жмет на газ и так резко выжимает сцепление, что колесо буксует, выкидывая из-под себя струю гравия.
Развернувшись, он проезжает мимо вывесок, которые они, хохоча, нарисовали вместе с Ленн: «Вход воспрещен!», «Осторожно, злая собака!», «Берегитесь страшных злых обезьян!» и так далее.
* * *
Ингмар стоит у окна, рассматривая неровную асфальтовую дорогу, ведущую вдоль казематов, и мощный дуб рядом с воротами «Фильмстадена»[9].
За спиной у него Ленн выдвигает датский стул из гнутой фанеры с тонкой талией, кладет на стол накопившуюся с четверга почту и, возвращаясь к пишущей машинке, говорит, что позавчера ему звонил журналист.
— Какой?
— Наверное, не стоит называть его имя, но…
— Что ему надо на этот раз?
— Он слышал, — медленно произносит Ленн, переворачивая страницу, — что «СФ»[10] собирается выпустить самый скучный фильм в истории шведского кинематографа. Продолжает писать статью о том, как повернутся события.
— Какой идиот растрепал всем о моем фильме? — спрашивает Ингмар, чувствуя, что его клонит в сон.
Лицо у него уставшее, он, прищурившись, смотрит на летний день за окном.
Листья бьются на ветру, поворачиваясь попеременно ослепительной изнанкой и темным лицом.
Закрыв глаза, он думает о Воромсе. Отец не переносил тамошний яркий свет. Говорил, что это невыносимо, и поверх опущенных жалюзи вешал на окна плотные шторы. Он лежал на кровати с закрытыми глазами.
— А матери сюда нельзя?
Ингмар замечает, что стоит на балконе летнего домика, зажмурившись и облокотившись о перила, над головой потолок с чудным деревянным сводом.
В ноздрях шевелится прилетевший издалека аромат раскаленного гравия.
В животе что-то надрывается.
Серебристая лужайка накреняется в расплывчатой темноте.
Раздаются отчаянный лай Тедди и голос старшего брата, который повторяет что-то у него за спиной, призывный и издевательский.
Даг даже не догадывается, как легко было прыгнуть, думает Ингмар.
Он открывает глаза: неуклюжая фигура проскальзывает в контору, отражаясь в оконном стекле на фоне темного фасада «Фильмтекник»[11].
— Бенгт, — бормочет Ингмар, не оборачиваясь.
— В этом году ты делаешь «Райский сад»[12], — запыхавшись, говорит тот. — А «Как в зеркале»[13] еще небось не готово?
— В каком смысле?
— Сценарий «Райского сада» и этой самой «Росписи по дереву»[14]. А как насчет Стриндберга для Радиотеатра? А «Чайка в Мальмё»? «Похождения повесы» для «Оперы»? Подумай, кому нужен бергмановский фильм про отчаявшегося священника?
— Да, немногим.
— Я разузнал, что в правлении денег хватает, но никто не заинтересован в производстве этого фильма.
— Димлинг считает, что…
— Я сделаю все, чтобы его отменили.
— Спасибо за откровенность.
Ингмар не видит, какую книжку берет с полки и рвет пополам. Швырнув ее на пол, он тянется за следующей, рвет в клочья и бросает в стену. Достает новую и запускает ее через всю комнату, опрокидывает все книги, стоявшие на полке.
Запыхавшись, подходит к письменному столу и набирает номер Димлинга. Руки дрожат, пот щекочет затылок.
— Я тебя разбудил?
— Что? А, да нет, что ты.
Ингмар говорит быстро, рассказывает, что готовится заговор с целью помешать съемкам. В прессу просочились сведения о том, что это скучнейший фильм в шведском кинематографе.
— Могу себе представить их недовольство, — с расстановкой говорит Димлинг.
— Но почему именно сейчас? Ведь «Девичий источник» прошел довольно успешно, и…
— А где наконец сценарий? Без него…
Димлинг кашляет, а Ингмар заверяет его, что сценарий готов. Надо только сделать копии, объясняет он. Отец прочитал его уже трижды.
— Абсолютно готов — завтра он будет у тебя.
— Наверное, лучше все-таки отложить съемки на потом, — отвечает Димлинг.
Началось все с того, что он разложил оловянных солдатиков и зверей в стеклянные банки и закрыл крышкой. Пусть свет, преломившись в стекле, попадает внутрь и отбрасывает тени. Разумеется, он не верил, что они говорили всерьез.
Ингмар в одиночестве сидит за маленьким монтажным столиком с четырьмя тарелками. Нога лежит на педали. Отражаясь, свет падает на его лицо. Слышно только, как жужжит мотор, вращаясь, пыхтит бобина и хлопает лента.
И вот раздаются писклявые голоса. Беседа окончена, и неуклюжий мужчина выходит из комнаты.
На экран проецируется картина: матовая поверхность. Ингмар видит себя, порывистыми движениями он швыряет книги на пол.
Он быстро проматывает этот эпизод и снова замедляет пленку.
— Не стоило ради нас убираться, — говорит Бёрье Люнд чужим низким голосом, расхаживая среди разбросанных, порванных книг.
Почему-то в руке у него ножницы, а Гуннар[15] сделал себе на голове маленький смешной пробор, пошутив, что теперь будет ходить только так.
— Мне нравится.
— Тебе, может, и нравится, — улыбаясь, говорит Ингмар. — А про нас ты подумал? Ведь нам придется любоваться на твой проборчик всю осень.
— Ты бы лучше сделал себе причесочку а-ля Кеннеди, — смеется Бёрье.
— Нет уж, оставлю пробор, — отвечает Гуннар.
Бёрье проводит рукой по его волосам, прихватывает светлые кончики:
— Это у тебя со съемок «Райского сада» осталось?
— Давайте представим себе, — говорит Ингмар, — какой была бы жизнь этого пастора? Ведь никто больше не указывает ему, во что одеваться и как причесываться.
— И что?
— Он покупает ту же одежду, что и всегда, таскается к тому же парикмахеру во Фростнесе, когда припрет.
Они смеются.
— Он не менял прическу со школьных времен, — продолжает Ингмар. — Это, конечно, довольно-таки неприятно, Гуннар, но придется вернуться к дурацкому пробору.
— Школьник! — прыскает Бёрье.
— Который лишь слегка повзрослел, — говорит Ингмар. — Надо постричь его так, чтобы это было понятно.
— Кому вообще нужны актеры, раз есть парикмахеры, — бормочет Гуннар.
— Зачем ты все делаешь таким плоским? — спрашивает Ингмар.
— Хочешь сказать, у меня плоские волосы?
— Да уж, пышностью мысли ты не отличаешься.
Гуннар смеется.
Открыв дверь, Бёрье предлагает постричь его так, чтобы старая прическа угадывалась по отросшим волосам, как будто пастор давненько не был у парикмахера во Фростнесе.
Ингмар заходит в отдельный розовый кабинет в ресторане. П. А. надувает щеки, а Свен[16], отвернувшись, хохочет.
— Иногда я думаю, сколько тут всяких возможностей: шикарное точечное освещение, можно снимать волосы против света, а передние планы какие, перспективы, да…
— Приходишь, например, и говоришь: сделайте так, чтобы ни единой тени, — размышляет Ингмар. — Как в обычный ноябрьский день.
— За это я тебя и люблю, — отзывается Свен, и кожа над его белесыми бровями краснеет. Свен листает альбом с фотографиями из Торсонгской церкви.
— Там красиво, — немного погодя говорит Ингмар.
— Правда? — спрашивает П. А. — Можно сделать почти точь-в-точь.
— Хотя мне бы хотелось, чтобы пространство было более узкое.
— Значит, вытянем его в длину.
— Во сколько это, по-твоему, обойдется?
— Сложно сказать.
— Хорошо, что пергаментная бумага не подорожала, Свен.
— Неплохо бы сделать в церкви крышу, чтобы не получилось халтуры, если будет туго со временем.
— Не надо на меня так смотреть, — отвечает П. А.
— Это дорого? — интересуется Ингмар.
— Дешевле, чем пол, — широко улыбаясь, говорит Свен.
— А что с полом?
— Не надо на меня так смотреть, — отвечает Свен.
П. А. разворачивает свое негнущееся тело к Ингмару:
— Понимаешь, я поговорил с Леннартом, и мы подумали, а ведь было бы здорово сделать настоящий каменный пол. Понятно, что это стоит бешеных денег, но представь, какая будет акустика.
Ингмар видит на экране себя самого в миниатюре: он встает, зажигает лампу на монтажном столе и выходит из комнаты. Возвращается за пиджаком и снова выходит.
Остановив пленку, он рассматривает высвеченный кадр с матовой поверхностью, проматывает немного назад и встает. Когда Ингмар гасит лампу на монтажном столе, жар металлического колпака окутывает руку, словно вода.
Уже в коридоре, запустив руку в карман в поисках ключей, он понимает, что забыл пиджак. Оборачивается, открывает дверь, проходит сквозь тень, такую же огромную, как он сам, и, снимая пиджак со спинки, немного отодвигает стул, а потом выходит из монтажной.
5
Кэби забралась в кресло с ногами и подложила под голову цветастую подушку, она читает копию сценария. Запах выдохшегося спирта поднимается от тонких листов.
Подперев подбородок ладонью, Ингмар стоит у окна и жует крекер.
— Пастор — это по-прежнему ты?
Она кладет на столик очки для чтения.
— Конечно, — говорит Ингмар. — В этом весь смысл.
Она словно бы заставляет себя посмотреть ему в глаза.
— А как же эта черствость, злость на ту, что…
— Просто пастор немного замкнутый человек, — перебивает Ингмар.
— Но ведь ты же не замкнутый, — возражает она, подавшись вперед, так что подушка проваливается ей за спину.
— Если бы я был пастором…
— Прости, но ничего смешного здесь нет, — вздыхает Кэби. — Жена умерла, в любовницах Ингрид Тулин.
— Какого черта! — Ингмар подходит ближе и вырывает сценарий у Кэби.
Он не смотрит, как она поднимается и делает несколько шагов. Не отвечает на ее взгляд.
Проводит рукой по грязным волосам.
Опустив голову, чешет затылок, оборачивается и кладет сценарий на стол рядом с креслом, где она только что сидела.
Он понимает, что им надо поговорить, подходит, дотрагивается до ее густых волос, зарывается в них лицом, осторожно прижимается к чуть влажному затылку.
— А ты не опоздаешь на читку?
— Опоздаю, — отвечает он, пока Кэби выскальзывает из-под его руки, одновременно подчеркивая и прерывая его ласки.
Она проходит мимо своего «Бехштейна» и тихонько садится у «Стейнвея», немного погодя исполняет фарфоровый звон в начале Тридцатой сонаты Бетховена.
Музыка выходит очень тягучей, она все время нажимает на правую педаль.
Звуки умножаются и не приглушаются модератором. Переливаются друг в друга, словно акварельные пятна на мокрой бумаге.
Ингмар переключает передачу, и машина, похрустывая гравием, огибает студию немого кино и останавливается, повернувшись капотом к кирпичной стене конторы.
Замкнутое низкое небо нависло над самой крышей, словно глыба матового стекла.
Не заперев машину, он мчится к двери и взбегает по лестнице на третий этаж.
Но останавливается перед первой дверью, совершенно не запыхавшись.
Вокруг замочной скважины жирный черный налет с отпечатком пальца. Жесткий половик источает запах накалившейся от солнца резины.
Он представляет, как войдет внутрь и встретит всю компанию в фойе у Малого павильона, как они доведут его своими шуточками и комплиментами, когда он попросит их сказать правду в глаза. А еще он почувствует их озабоченность тем, что он помешает им в работе над ролями, предвосхитив весь процесс. Почувствует их беспокойство и боязнь, что он истолкует их потребность дистанцироваться как нежелание работать.
И все-таки они должны встретиться, надо начать диалог.
Он думает о том, кто из актеров отвечает за подготовку первой читки, — может быть, кто-то придумал приятное вступление к работе. Наверное, Ингрид или Гуннар. А может, Макс? Только не Гуннель[17]…
Спустя почти два часа он заканчивает читку — Аллану[18] пора на репетицию в Драматен[19].
— Послушайте, — говорит Ингмар, вытирая потные ладони о брюки, — мне кажется, многие из вас не вполне понимают финал.
— А может, и понимают.
— Хотите, я объясню вам, в чем его смысл — как я его вижу?
— Да.
— Тогда придется рассказать о том, как мы с отцом ездили весной по церквам в Упланде. Как-то раз в воскресенье мы оказались в маленькой средневековой церкви на севере от Сигтуны. На скамьях ждали немногочисленные посетители. Служка и сторож шептались в преддверии храма. Четверть часа спустя после колокольного звона, запыхавшись, явился пастор. Он проспал. Сказал, что болен, у него жар. Но когда он объявил о том, что будет служить сокращенную мессу, отец поднялся со скамьи и…
Ингмар улыбается этому воспоминанию и внезапно понимает, что это ложь.
Опустив взгляд, он продолжает:
— Длинноволосый пастор вышел из ризницы в сопровождении отца в белом облачении: Святый Боже, Святый… и так далее. Я уже написал весь сценарий, но финала пока не было. И вот отец подарил мне его. Заповедь старого пастора: ты должен отслужить мессу — несмотря ни на что. Я поставил пастора в фильме перед выбором. В церкви только два прихожанина, это достаточная причина для того, чтобы отменить мессу. Но он принимает решение отслужить ее — для себя, для Мэрты, для…
После этого Ингмар вспомнит, как в нос ему ударила едкая вонь мочи и скотины в фойе Малого павильона. Пробиваясь сквозь высокие окна, октябрьское солнце поблескивало на алюминиевых планках и освещало стайки пылинок, медленно круживших в воздухе.
Придя домой, он сказал Кэби, что читка прошла довольно-таки неплохо.
Едва не расплакавшись от усталости, он положил голову ей на колени и рассказал, как они сидели вокруг стола.
— Не думал, что мы пройдем по всему сценарию. Я хотел сосредоточиться на ключевых сценах, — повторяет Ингмар.
Карандаш упал на пол.
— Катинка читает страницу с новостями о том, кто родился, кто умер, — тихо говорит он и замолкает.
Проснувшись посреди ночи, Ингмар видит, как он входит в фойе, перешагивая через кучу испражнений перед дверью. На линолеуме лежит несколько затоптанных бумажных тарелок. Стопка белых салфеток и недоеденное яблоко.
Лошадь, положив крупную морду на расшатанный стол, накрытый зеленым полотном, не спускает с него тяжелого взгляда.
Две овцы, одна из которых, кажется, стельная. Муха ползает в уголке гнойного глаза.
Попросив прощения за опоздание, Ингмар, как обычно, начинает говорить о том, что, видимо, он один во всем мировом кинематографе проводит читки.
— В театре это обязательное условие. Но я никогда не понимал этой разницы — ведь ответственность лежит на всех, так же, как в фильме.
Крученый рог царапает край стола, сумка сползает со стула. Заднее копыто судорожно лягается, пока он вновь не обретает равновесие.
Ингмар сбрасывает одеяло с потного тела, прислушивается к спокойному дыханию Кэби, лежащей в темноте рядом с ним, и думает, что у него больше нет сил настаивать на съемках и доказывать всем важность этого фильма.
Закрыв глаза, он видит, как стельная овца расшвыривает страницы сценария своими копытами.
— Вы согласны с тем, что уже в самом начале фильма пастор совершенно раздавлен? Да-да, раздавлен. Нет, формально он, конечно, свою работу выполняет прекрасно. Но именно здесь я представил пастором самого себя. Я должен был написать проповедь, прямо как мой отец, мне надо было рассказывать об утешении, но…
Она разгрызла на щепки карандаш и, немного пожевав собственную слюну, кладет бороду на мягкую скатерть и закрывает глаза.
— Может быть, все-таки не «Четыре всадника Апокалипсиса»?[20] — с улыбкой спрашивает Ингмар, обращаясь к другой овце.
В ее грязно-серой шерсти застряли мокрые жухлые листья. Колтуны с засохшей глиной на шерсти, трясущиеся колбаски на ляжках и у хвоста.
Ингмар видит, как он наклоняется, заглядывает в блестящие глаза и пытается объяснить, что связь учительницы и пастора напрочь лишена всякой любви.
Каждая их встреча мучительна.
Это просто уже нелепо.
И вдруг Ингмара осеняет, что она совершенно не понимает его, он замолкает и начинает сначала.
— Со стороны кажется, что их отношения полны любви — когда учительница в одиночестве пишет письмо, — объясняет он.
За приоткрытыми губами видны зубы.
— Но когда пастор, читая письмо, натыкается на эту наивную любовь, которую раньше она скрывала, внутри у него все переворачивается. Понимаешь? Ему просто хочется блевануть на нее.
Полежав немного без сна, глядя на черный выгнутый потолок, он слышит, как Кэби тянется за стаканом воды, стоящим на тумбочке, и пьет.
— Кэби, можно я тебе кое-что скажу? — тихо спрашивает он.
— Что? — бормочет она.
— Ты спишь?
— Сплю, конечно, но…
— Не буду тебе мешать.
Тяжелое дыхание, влажные губы.
— Это что-то важное?
— Нет.
Она садится на кровати:
— Что ты хотел спросить?
— Да так, ничего особенного…
Он молча ищет ее руку, ощупывая пространство в темноте.
— Хочешь, пойдем посидим немного.
— Знаешь, — говорит он, — я и не ждал ничего от отца. Никогда.
— Чего не ждал?
— Как бы это сказать… Я никогда не думал, как он относится к тому, что я делаю, ни когда я снимал фильмы, ни в театре.
— Да плюнь ты на него.
— Знаю, я о нем даже не думаю.
— Тогда в чем дело?
— Просто сейчас я проснулся, — неуверенно говорит он. — И мне показалось, что рядом со мной в постели лежит Эллен, мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что это не так. Сердце колотилось, как…
— Почему именно Эллен?
На мгновение Ингмар зажмуривается.
— Когда родились близнецы, я из принципа перестал приходить домой, просто не мог. Сказал, что мне надо больше спать, чтобы были силы писать. Тишина и покой, как говорится. Я только догадываюсь, как тяжело ей тогда приходилось — одной с четырьмя детьми. Что ей оставалось подумать? Ведь меня почти никогда не было дома.
— Потому что ты встретил Гун Грут?
— Помню, я решил сказать все, как есть. Приехал после того, как мы не виделись две недели. Она уже легла спать, но так сильно обрадовалась, хотела открыть вино, приготовить еды, но…
Он вздыхает.
— Ее лицо, когда она вдруг почувствовала мое нетерпение, поняла, что я пришел к ней по делу. Понимаешь, Кэби, я не знаю, у меня такое чувство, что я должен к этому вернуться. Этот тяжелый взгляд, когда открылась вся ложь.
Ингмар по-прежнему не видит лица Кэби.
— Ты не спишь?
— Нет, — тихо отвечает она.
6
Стоя на пороге, Ингмар отдает пальто матери, моргает в темноте коридора, говорит, только что был на пресс-конференции.
— Что случилось? — спрашивает она.
— Да так, ничего, завтра начинаются съемки.
— Съемки?
Он вытирает рукой нос.
— Давай включим свет?
— И так светло, можно пробраться на ощупь.
Он хочет войти, но мать стоит у него на пути, держа в руках тяжелое пальто.
— Вы придете на отцовский юбилей? — тихо спрашивает она. — Ему исполнится семьдесят пять.
— У меня никак не получится, Кэби тоже не сможет.
— Значит, мы будем одни, — говорит она, включая лампу на стене: свет вырывается наружу, словно голубая лилия на черном стекле.
Они идут по коридору, осторожно, чтобы не споткнуться. Темнота мягко вибрирует перед глазами, время от времени потрескивая агрессивными спазмами, а потом вновь становится гладкой.
— Могу я пригласить вас погостить неделю в «Сильянсборге»?[21]
— Я с удовольствием, — отвечает она и шарит рукой по дверному косяку. — А отец стал сердюком, как ты говорил в детстве.
— Черт, тьма кромешная, — бормочет Ингмар. — Это просто смешно.
— Ничего, скоро привыкнешь.
Пористый солнечный диск вновь проявляется в пыли на оконном стекле, но в комнату луч пробиться не может. Слабый свет хрустальной люстры поглощает чернота огромной картины, написанной маслом.
— Конечно, с Хедвиг Элеонорой[22] за окном гораздо приятнее.
— Самый паршивый этаж, — говорит она, широко улыбаясь.
Дверь в кабинет хлопает, и, кашляя, появляется Эрик.
— У нас Малыш, — говорит мать.
— Вот как, — отвечает тот, подходя к окну.
— Мы сидим за столом.
На месте отца виднеется едва заметная тень на жемчужно-сером фоне. Он прикладывает к уху свои старинные карманные часы.
— Нет, — вздыхает он, поворачивая колесико завода.
Мать говорит, что эти комнаты напоминают о тех временах, когда они переехали из Форсбаки в многоэтажный дом на Шеппаргатан, 27.
Она усмехается:
— Помню, я была уже на сносях, сидела на этих самых стульях и плакала. Наверное, я немного драматизировала. С тем, что сейчас, не сравнить. Как только ты появился на свет, мы переехали в Дувнес, там было посвободнее. Я помню те времена. Столько света, просто невероятно… тебе был почти уже месяц, когда мы вдруг поняли, что тебя пора крестить.
Ингмар перестает грызть ноготь.
— Отец сам проводил…
Эрик кашляет.
— Да, я был так взволнован, — говорит он. — Даже «Отче наш» прочитал с ошибкой, когда крестил Дага, но…
Замолчав, он, не торопясь, подходит ближе, садится в деревянное кресло, кладет карманные часы на стол. Его рука покоится в мутном свете возле настольной фарфоровой лампы.
— Стоят, — произносит он немного погодя. — Хотя маховое колесико движется.
— Что-то с часами?
— Сам послушай.
Отец ощупывает стол в поисках часов, руки шарят по деревянной поверхности, ищут в темноте.
— Полная безнадега, — бормочет он.
— Когда я работал над сценарием, то думал о нескольких строчках из вашего стихотворения, — говорит Ингмар. — «Помоги мне, храня веру долгу, с белоснежным, чистым сердцем, совершить все мои поступки, на Тебя уповая и зная».
— Пойду пройдусь перед сном, — говорит отец матери, понизив голос.
Ингмар встает и робко произносит:
— Да, было бы весьма кстати.
— Нет, ты останешься с матерью, — отвечает отец, выходя из гостиной.
Листья папоротника шуршат от порыва ветра и затихают. Где-то слышны звуки воды, текущей из крана, затем что-то переворачивается, глухо шлепнувшись на пол.
Ингмар шарит по столу в поисках часов, проводит рукой по полотняной дорожке, закрывающей глубокую царапину на столе. Наверху кто-то стучит в пол, люстра мигает. Погрузившись в свое одиночество, Карин вспоминает о Нитти, она ведь совсем не знает, каково той живется в далекой Англии, Нитти уже так долго не пишет.
Напольная вешалка падает, с грохотом закатывается под столик.
— Хотел спросить кое-что у отца, — вяло говорит Ингмар.
Он встает и идет, вытянув перед собой руку. Упершись в стену, поворачивает налево, к двери в коридор. Встает на колени, шарит по полу, находит вешалку.
— А можно мне тоже с вами прогуляться?
— Мне хотелось побыть одному, — бормочет отец.
— Я только подумал, что мы могли бы обсудить мой сценарий.
— Я не читал его, — резко отвечает отец. — Если говорить начистоту, мне твои фильмы не интересны. Я не считаю это искусством. Понял? Я не разделяю твоих взглядов на человека…
В полосе света, который тянется с лестничной клетки, Ингмар видит покрасневшее лицо отца, прежде чем тот закрывает дверь у него перед носом.
Снаружи слышны неторопливые шаги, хлопает дверь лифта. Ингмар швыряет вешалку об пол, зажмуривается от рези в глазах, бежит вместе с другими детьми через реку, покрытую серо-зеленым льдом. Он проносится мимо мужчины с выпученными глазами, похожего на почерневшее бревно.
Когда Ингмар вошел, мать сняла абажур с напольной лампы и встряхнула ее. Она грустна, кивает на место рядом с собой, свет тотчас снова тускнеет.
— Сесть на диван? — спрашивает он, ощупью передвигается вокруг стола и садится.
— Отец сейчас недоволен всем на свете, — говорит она.
— У нас никогда не получалось толком поговорить.
— Думаю, все потому, что ты хочешь, чтобы он прочитал твой сценарий, — тихо отвечает мать.
— Просто мне пришла в голову идея показать, какой бы из меня был пастор, — продолжает Ингмар. — Каким бы я стал, если б позволил отцу помыкать мной. Дело в том… я понимаю, ему тяжело читать мой сценарий, а потом говорить мне о том, как хорошо, что я выбрал другой путь.
— Ему не так просто…
— Что?
— Я не защищаю отца.
— Нет.
— Совсем нет, — спокойно прибавляет она. — Ему нелегко. Выбрав профессию пастора, отец хотел искупить свою вину перед матерью за то, что провалил экзамен. Прости, что я улыбаюсь, но… знаешь, она ведь работала сверхурочно все те годы, чтобы он мог ходить в школу.
— Знаю.
— Позволь мне рассказать тебе одну вещь… Сядь, пожалуйста, дорогой мой. Я хочу… я много раз собиралась сказать тебе это, но мне всегда казалось, что это будет ошибкой.
— О чем ты? — сухо спрашивает Ингмар.
— Через несколько дней после премьеры «Травли»[23], отец рассказал, что…
— Ты не обязана оправдывать…
— Можешь меня дослушать? — мягко перебивает она. — Да.
— Ты ведь знаешь, когда реставрировали Хедвиг Элеонору, заказали новый витраж для окна возле купели. У всех было множество идей насчет сюжета для этого витража, но решать должен был отец, и он попросил мастера изобразить Христа под березой, занесшего руку над головой младенца.
Карин вытирает рукой уголок глаза.
— Отец как умел нарисовал эскиз — луг с двумя людьми — и попросил мастера, чтобы младенец был мальчиком. Потому что я все время думал об Ингмаре, признался он. Ты знал об этом? Он даже готов был отдать ему один из тех детских портретов, что брал с собой в церковь, но застеснялся, его буквально сковало смущение.
* * *
По дороге на Юрсхольм Ингмар подкручивает ручку обогрева: горячий спертый воздух дует сквозь решетку, но он по-прежнему мерзнет.
В это время суток на дороге почти пусто.
Редкая пелена дождя выступает из тьмы, соприкасаясь с лобовым стеклом. Маленькие блестящие черточки тотчас смываются дворниками.
Он снова думает о витраже у купели, о безжизненном лице мальчика.
Внезапно белый свет фар выхватывает из темноты автобусную остановку. Несколько мгновений световое пятно, помигивая среди черных ветвей, висит над остановкой. Но Ингмар все же успевает увидеть на скамье женщину, полукружья ее запястий и расписание автобусов над головой.
Он медленно притормаживает, меняет передачу, едет не спеша, сворачивает на обочину и останавливается.
Отрезок пути через лес до остановки покрыт мраком.
Он разглядывает отражение в зеркале заднего вида, но остановка погрузилась во тьму. Кроны деревьев вырисовываются на фоне темного неба. Вдали между стволами деревьев мерцают окна какого-то дома.
Он барабанит пальцами по рулю. Дождь рассекает свет фар. Мягкий изгиб асфальта взблескивает и исчезает за деревьями и темным промышленным зданием.
Что-то в облике этой женщины на остановке — может быть, полное тело или опущенный взгляд — напоминает Ингмару о кормилице из его видения. О том вечере, когда он представил, что в стене за бельевым шкафом есть дыра, ведущая в запущенную соседнюю комнату.
Сейчас он уже сомневался, что в стене и вправду есть дыра. Он помнит, как наутро собирал с пола осыпавшуюся штукатурку и клочья обоев, но понимает, что и это могло быть частью его видения.
Позади что-то тихо потрескивает.
Перестав барабанить по рулю, он вглядывается в зеркало заднего вида, но там беспроглядная тьма, и он уже думает, не сдать ли назад, когда задняя дверь неожиданно открывается. Обернувшись, он видит, как женщина пытается перебраться из инвалидного кресла в машину. Он машинально жмет на газ, отпускает сцепление и выруливает на дорогу. Сменив передачу, смотрит в зеркало заднего вида. Сердце бешено бьется в груди.
— Что за черт, — бормочет он сам себе.
По бокам струится пот из-под мышек. Трясущейся рукой он выключает обогрев, проводит рукой под носом.
Он пытается сосредоточиться на мысли о первом дне съемок, о том, что происходит в ризнице, о первых кадрах, но темнота то и дело закрывает картину.
Черное скачущее полотно за молочно-белым стеклом.
Сразу за Стоксундом он подавляет в себе порыв свернуть на встречную полосу и столкнуться с автобусом из Норртельи.
* * *
Забрав из кабинета рукопись со сценарием, Ингмар спускается по лестнице в столовую и садится за стол. В музыкальной гостиной кто-то неспешно разыгрывает гаммы, повторяя их помногу раз.
Он взглядывает на старые фруктовые деревья в темноте за окном.
Сначала он думал, что первыми кадрами будут решетчатое окно, распятие и приходские деньги.
Но теперь он сказал себе, что никакой необходимости в этом нет. Не стоит увязать в деталях и композиции. Мысль о картине в картине. О периферийной символике.
Единственное, что имеет значение, — он остался верен осознанию себя в качестве пастора.
Звуки фортепьяно стихают, у него за спиной раздаются шаги по паркетному полу, сухое поскрипывание. Кэби садится на диван. Скребет ногтями обивку. Бахрома подрагивает.
— Я тоже уже заканчиваю, — говорит он, перелистывает несколько страниц, проверяя реплики, в которых не уверен.
— Ты устал?
— Просто хочу получше подготовиться. Эти съемки должны пройти с максимальным результатом. Знаю, что обычно случается много чего непредвиденного, однако на этот раз мне пришлось просчитать все до мелочей, на самом деле нам надо не так уж и много денег.
— Ты мог бы всем это объяснить.
— Да, — вздыхает он, закрыв папку с рукописью. — Или уж будь что будет.
Вставая, Ингмар успевает заметить, что диван пуст, и одновременно боковым зрением улавливает стремительное движение над серой травой за окном.
Сквозь столешницу, сделанную из тонированного стекла, он видит Кэби. Она лежит на спине на полу.
— Ты видела кошку, что ошивается в нашем саду?
— Нет.
Ингмар садится.
— Кажется, она здесь поселилась, — тихо говорит он, вспоминая, как стриг траву за день до переезда на Торё. Кислый запах яблок, когда стальное лезвие рассекает недозрелые плоды, лежащие на земле. Кошка вздрагивает, отпрыгивает в сторону.
— Ты знаешь, что я жила в свободном браке с Гуннаром, — говорит Кэби. — По-моему, он переспал со всеми скрипачками по всему…
— Да, ты уже говорила.
— Но мы и не пытались это скрывать, — продолжает она. — Мы не лгали друг другу, мы честно рассказывали, что…
— Но я бы никогда так не смог, — перебивает он.
— Не смог бы жить в семье, где никто никого не обманывает?
Он проводит рукой в тесной прохладной щели между подлокотником и диванной подушкой.
— Я никогда не смогу принять тот факт, что ты спишь с кем-то еще, — отвечает он. — Безусловно, я старомоден и все в таком духе, но если человек вырос в доме пастора…
— То это не значит, что человек обязательно станет пастором! — продолжает она, переходя на крик. — Я поняла, что для твоих родителей главное было соблюдать внешние приличия, но…
— Прекрати! — орет он. Кулак с глухим стуком бьет по толстой стеклянной поверхности стола, подпрыгивает и тоненько дребезжит блюдце с яблоком.
— Просто мне кажется, ты слишком высоко ценишь ложь, — спокойно говорит Кэби.
— Не знаю, что тебе на это сказать…
— Начиная с завтрашнего дня ты с концами исчезнешь на своих съемках, в этом году мы едва ли с тобой увидимся.
— Не надо преувеличивать.
— Но в те редкие разы, когда мы увидимся, мне хотелось бы слышать правду, не стоит откладывать это до окончания съемок.
Закрыв глаза, Ингмар думает, не напомнить ли ей, что именно он первым завел речь о ребенке.
Вдруг он вспоминает каверзные допросы, которые им устраивали в детстве. Все, что можно счесть за ложь, раскрывалось при помощи одной только ласки.
— Пойду лягу, — бормочет он.
Сквозь стекло, искажающее картину, она ищет его взгляд.
— Не надо злиться, — тихо отвечает она.
— Я тебя совершенно не понимаю.
— Прости, я только хотела…
— Честно говоря, раньше мне казалось, что это ты ведешь себя не совсем честно.
— Так и есть.
— Ты сама признаешь, но не…
— Не надо, пожалуйста, — просит она со слезами в голосе. — Иногда мне так страшно, что мы потеряем друг друга.
Его взгляд отражается в призмах хрустальных подвесок на люстре и проецируется дальше — на стеклянную чашу для фруктов. Нагромождение звезд — словно трещины в толстой пластине льда.
— Как же так, Кэби? Ведь я хотел от тебя ребенка… Неужели и это ложь?
Склонившись над столом, он запускает руку под стеклянную столешницу и гладит Кэби по голове, проводит кончиками пальцев по густым волосам. Увидев, что она с облегчением улыбается сквозь отражение на стекле, он чувствует, как что-то беспокойно переворачивается в его животе.
7
В спальне стоит южнонемецкий садовый гном — прямо посреди паласа.
Ингмар теряется в догадках: может быть, Кэби решила повеселить его, когда он проснется и откроет глаза?
И вдруг гном оказывается в кровати. С трудом ползет по мягкому одеялу. Садится к Ингмару на колени, приготовившись сладко вздремнуть, но тотчас сползает на пол.
Начнем сначала: Ингмар видит, что у гнома на губах цинковая мазь, а вместо шапочки на голове носовой платок с уголками, завязанными в узлы. Гном вытаскивает из-под кровати пыльную книгу, перелистывает ее до страницы восемьдесят семь и ждет, когда Ингмар начнет читать:
Свет и тишина: в Пятый павильон входит режиссер. Посреди просторного помещения стоит ризница, высоко-высоко над ней перекрестились стальные балки стропил.
Стены источают запах новых красок, клея, свежего дерева.
Он идет вглубь по ковру, огибает бесцветный тыл ризницы с подпорками и задвижками и заглядывает в самое дальнее помещение церкви сквозь вход в низкой каменной стене.
— Не знаю, — говорит он почти беззвучно. — Я думал, мы поговорим один на один, но когда я ехал в машине по дороге сюда…
На мгновение он зажмуривается и тотчас слышит шуршание. По полу тянутся кабели, от них исходит шепот.
Он понимает, что все пространство вокруг него заполняется, а затем заполняется и небольшая комнатка. Покачиваясь из стороны в сторону, он чувствует, как вокруг что-то оживленно копошится.
Ледяная вода из ручья струится у его ног.
— В машине по дороге сюда, — шепчет он и замолкает.
Вдруг он слышит голоса, совсем рядом. Понимает, что скоро пора будет открыть глаза.
— Вы мне скажите, есть объектив с переменным фокусом для «Аррифлекса»[24] в звукозащитном боксе? — говорит кто-то.
— Поговори со Скором, может, у Де Бри есть.
Ингмар садится, опершись о стену, и видит, как их взгляды обращаются к нему. Он понимает, что глаза его раскрыты.
— В машине по дороге сюда, — продолжает он. — Я подумал, что мы должны изо всех сил сосредоточиться на одной сцене.
Он кивает на стол, показывая угол съемки.
— Здесь служка. Гуннар подходит оттуда, камера следует за ним, сначала сюда, потом туда, понимаете? Ну как, получится?
— Думаю, да, — отвечает Свен.
— Сюда и потом немного туда.
Свен кивает, садится на корточки, чешет светло-рыжую голову.
— Оланд, — говорит он, — значит, камера будет здесь.
— Для панорамных съемок вот тут.
— Стало быть, стенку придется перенести? — спрашивает Оланд.
— И все остальное тоже, — отвечает Свен.
— Я вас очень прошу, поторопитесь.
Поблескивают острые кончики скошенных зубов, затем лицо вновь обретает серьезность.
Ингмар знает, что надо сохранять спокойствие, он идет и садится за режиссерский стол.
Ускорить процесс он не в силах.
Технические приготовления и репетиции перед первой съемкой продолжатся до обеда, тут ничего не поделаешь.
Пытаясь придать лицу беззаботное выражение, Ингмар подходит к Стигу Флудину, который стоит в курилке вместе с одним из ассистентов.
— И это все, что осталось? — спрашивает он. — Тихий писк?
— Ты его уже слышал?
Появляется Гуннар.
— Хлопушку упростили, — улыбается Ингмар. — Да здравствует… как там ее?
— Световая хлопушка.
— Да здравствует световая хлопушка! — говорит он, сияя улыбкой во все лицо. — Понимаешь? Никакого тебе мела, от которого столько пыли. Просто праздник какой-то!
Гуннар усмехается:
— И вместо этого дикого грохота теперь…
— Всего лишь тихий писк.
— Настоящая революция, — шутит он.
Подходит Свен, который сообщает, что все готово для проб.
На заднем плане распятие из фильма «Седьмая печать», служка высыпает деньги из сачка для сбора пожертвований.
Пастор ставит на стол термос в тот момент, когда служка начинает считать монеты. Потом он ставит на подложку письменного стола кофейную чашку и садится.
Кашлянув, встает и подходит к окну. Облокачивается на подоконник.
Ингмар втягивает голову в плечи. Волосы на затылке длинные и немного взлохмаченные. Напряженно сосредоточившись, он закусил нижнюю губу, и на лице появилась детская гримаса.
Сосчитав деньги, служка спрашивает пастора, нашел ли тот какую-нибудь экономку.
— Сами вы больше справляться не можете.
— Бросьте, — отвечает пастор. — Пять лет уже как справляюсь, и ничего.
Служка записывает сумму в приходно-расходную книгу.
— Вы могли бы попросить Мэрту Лундберг помочь вам. Она была бы рада. Могу у нее узнать.
— Спасибо, не стоит, — благодарит пастор.
Услышав скрип, оба переводят взгляд на железную дверь.
— Хорошо, — говорит Ингмар, проводя рукой по носу. — Это…
В темноте у звукооператорского пульта стоит Стиг Флудин. Качая головой, он объясняет, что Бриан не может подойти с микрофоном-удочкой в тот момент, когда звучат первые реплики.
— Это еще почему? — возмущается Ингмар. — От него требуется только стоять здесь, и все.
— Нет, тогда тут будет тень от прожектора.
— Черт с ним.
Бриан выходит вперед и пробует, но, как бы он ни поворачивал удочку, она все равно отбрасывает тень на стенку ризницы.
— Да, вы правы, — говорит Ингмар. — Что будем делать? Можешь подойти ближе с той стороны?
— Если только на сантиметр.
— Давайте попробуем, а если не получится, пойдем дальше.
Пятый павильон: Ингмар стоит в стороне, наблюдая, как вокруг ризницы устанавливают кулисы. Рабочие что-то кричат друг другу, передвигают тяжелую секцию декораций.
Он чувствует, что слишком быстро проглотил свой обед. Вареная ветчина с яичницей никак не улягутся в желудке. Осторожно, даже почти рассеянно, Ингмар просит Кульбьорна[25] говорить без лишнего драматизма, сдержанней — совсем чуть-чуть. Никакой проблемы тут нет, просто пришло вдруг в голову — может, стоит попробовать?
Но Кульбьорн уже готов к обороне, он кивает, глаза как-то подозрительно сужаются.
— Черт, да я так и знал, — говорит он, скрестив на груди руки.
— Понимаешь, в общем-то и без того все прекрасно, — объясняет Ингмар.
— Но ты беспокоишься, что получится плохо.
— Вовсе нет, не получится.
— Вот в театре…
— Да, ты совершенно прав, — перебивает Ингмар. — Бывает по-разному. Но здесь не театр, а кино. Поэтому лучше сделать так, как делаешь ты. Этого будет вполне достаточно, а может, даже и чересчур — такое тоже вполне возможно. Вот я и прошу тебя попробовать еще немного сбавить обороты.
Заметив скептический взгляд Гуннара, он поворачивается к нему.
— Ты понимаешь, ведь это чертовски важно: если мы в первый же день поймаем нужную интонацию, то дальше все пойдет как по маслу.
— Какую именно? — спрашивает Гуннар.
— Твоя — в самый раз, все прекрасно.
— Хотя не мешает немного сбавить обороты, да?
— Давайте попробуем разные варианты. Хорошо? Время у нас есть.
Гуннар пытается улыбнуться, Ингмар бросает взгляд на Свена, тот кивает в ответ.
Катинка смотрит на часы.
— Хорошо, — вздыхает Ингмар. — Ну что? К первым съемкам готовы?
Взгляд Гуннара просто невыносим.
— Тишина в студии, мотор!
Пелена падает сверху, накрывая все ателье и окутывая зимой. Слышится чье-то учащенное дыхание, но вскоре оно сливается с дыханием остальных.
— Камера, — немного рассеянно произносит Ингмар.
— Камера, поехали! — отзывается Стиг Флудин, сидящий за звукооператорским пультом.
Раздается громкий голос.
Служка высыпает содержимое сачка для сбора пожертвований себе в руку, пастор ставит термос на стол, и вдруг в воздухе над головами проносится какой-то мужчина.
Он беззвучно парит над землей.
Всё происходит в считанные секунды. Однако все успевают его увидеть. Перекошенный, словно отражение в луже. Лицо бледное.
Он пытается приземлиться на ноги, но весьма неудачно, ботинки едва касаются пола, ноги скользят, и главный удар приходится на плечо и бедро.
К нему подбегают люди. Мужчина садится.
— Здорово я приложился, — бормочет он, глядя перед собой невидящими глазами.
— Что с тобой, Калле? Сильно ушибся?
— По-моему, это прожектор, — говорит он, пытаясь встать. — Не припаяли небось.
Кульбьорн стоит в самом центре суматохи и сам с собой репетирует сцену, проклинает свою бездарность и начинает все заново.
Электрики снимают с камеры стальную раму с маленькими лампочками.
Ингмар отходит подальше и садится на пол в стороне от всех. Учащенное биение сердца сказывается дрожью в руках.
Он прислоняется к стене, и легкая тень заполняет морщинку, полукружьем согнувшуюся у рта рядом со старым шрамом, который со временем превратился в ложбинку.
Вокруг ризницы посреди огромного павильона ходят люди, рабочие, не торопясь, протягивают черные кабели. О чем-то беседуя, снова закуривают.
Ингмару вдруг почему-то приходит в голову, что Стриндберг написал пьесу «Лебедь белая» специально для Харриет Боссе[26], но потом сделал все для того, чтобы роль досталась Фанни Фалькнер[27].
Свен Нюквист подает знак, что все готовы начать еще раз. Взглянув на часы, Ингмар встает за камерой в ризнице. Видит, как все занимают свои места, чувствует, как спокойствие разливается по всему телу, и, когда пищит световая хлопушка, мягкие волны проходят по свету.
— Вы неважно выглядите, — говорит служка, и Ингмар тотчас слышит, что звучит это из рук вон плохо. Голос Кульбьорна утратил ту ноту отсутствия, которую они так долго отрабатывали во время репетиций. Он прижимает подбородок к груди, как они и договорились, но все остальное — настоящий театр.
В глазах у Кульбьорна паника. Он чувствует, что играет хуже других.
Слова так и льются из Гуннара:
— Если бы пойти поспать, то…
Кульбьорн протирает очки, разглядывая их на свету.
— Вы могли бы попросить Мэрту Лундберг помочь вам, — говорит он. — Она была бы рада. Могу у нее узнать.
— Спасибо, не стоит, — резко отвечает пастор.
Вдруг оба переводят взгляд на железную дверь.
— Спасибо, — говорит Ингмар, почесывая затылок и подыскивая предлог попросить актеров повторить дубль, не обидев при этом Кульбьорна.
Стиг Флудин за звукооператорским пультом показывает кулак с большим пальцем.
Ингмар видит, что актеры ждут от него какой-то реакции.
Кульбьорн делает вид, что улыбается.
— Отлично, Гуннар, — говорит Ингмар. — Только мне кажется, это твое «спасибо, не стоит» получается слишком резким. Понимаешь, что я имею в виду?
— Нет.
На лбу поблескивают капельки пота.
Гуннар сидит за столом в ризнице и ждет объяснения. Между бровями пролегает двойная морщина, рот подозрительно изогнулся.
— Давайте попробуем еще раз, — говорит Ингмар. — Может, это вовсе не обязательно, но время-то у нас есть. Ну как? Что скажешь, Гуннар?
Гуннар встает и убирает со стола термос и кофейную чашку.
Тишина.
— Камера! — кричит Ингмар.
— Камера, поехали! — отвечает Стиг Флудин.
Пищит световая хлопушка, покачивается золотая кисть на сачке. Ингмар грызет ноготь большого пальца и вдруг оказывается в Мэстере Олофсгордене после премьеры «Лебедь белая».
Немцы заняли Париж, мать стояла немного поодаль в темном фойе с чашкой кофе в руке, за окнами кружился снег.
— Ты неважно выглядишь, — сказала одна из актрис.
Ингмар провел рукой по губам, не глядя ей в глаза.
Сейчас бы пойти прилечь.
По группе прокатился легкий шорох.
— По-моему, перед нами юное дарование, — сказал какой-то мужчина, понизив голос и кивая на Харриет Боссе. Невысокая женщина чуть старше, чем его собственная мать. Миловидная, подумал он. Гордо посаженная голова и круглые щеки.
Она неторопливо разглядела его, затем, слегка улыбнувшись, спросила:
— Мать с отцом были на представлении?
— Я видел только мать, — ответил он, делая жест матери.
— Ей понравилось?
— Не знаю.
— Могу спросить у нее.
— Нет, спасибо, — отвечает пастор.
Актеры смотрят на кованую железную дверь.
— Спасибо, — говорит Ингмар. — Отлично. Правда, отлично. Вы сами заметили, что на этот раз получилось? Раз — и все. А теперь пора отведать торта.
Он идет за Свеном, но, вспомнив, что надо поговорить с Катинкой, возвращается и сквозь тонкие церковные стенки слышит, как Гуннар говорит:
— Дело тут вовсе не в интонации, он не стремится к стилизации или точности. Ему лишь бы гадость какую-нибудь сказать.
Ингмар краснеет, но сдерживает порыв гнева и не врывается на площадку.
Надо вышвырнуть его со съемок, уходя, думает он. Страх каскадом обрушивается где-то в желудке, скручивая кишки.
Он замирает и ждет, не понимая, что произошло. Мутный свет свисает с арматуры, словно рваная простыня.
Словно застывшие потоки минувшего ливня.
Словно пластиковое покрывало, что тянется с пола до потолка.
В Большом павильоне пустынно и тихо. Кофейная чашка и смятая сигаретная пачка.
Время около трех часов ночи, но он идет дальше.
Посреди пустого пространства на полу лежат черный мужской ботинок и порнографическая газета. Как только он нагибается к ним, что-то проносится у него за спиной. Оборачиваясь, он успевает заметить мелькнувший фрагмент обнаженного тела, который мгновенно исчезает за ризницей. В уголке глаза отпечатываются промелькнувшие ягодицы, мощная ляжка. Кажется, даже бугорки позвоночника.
Слышно, как в ризнице кто-то двигает стол, ножки скребут по полу. Он подходит к двери и прислушивается. Стол волочат дальше, потом раздается стук.
Редкие, но тяжелые удары.
Порывистые вздохи и всхрапывание. На деревянную поверхность сыплется земля.
Стол волочат дальше, он упирается в дверь. Приподнимается кем-то и падает на пол, царапает поверхность двери, упираясь в нее.
Ингмар ложится на пол, пытаясь заглянуть в щель под дверью. Теплый сквозняк, струящийся по полу, приносит с собой едкий и кислый запах.
Он почти погружается в дрему прямо на полу, как вдруг слышит смех Стига Флудина и Бриана Викстрёма[28] у звукооператорского пульта. Ингмар поднимается, щурясь от света люстры, приглаживает волосы.
— Ну что там? — спрашивает К. А. — Хотел приподнять дверь?
— Нет, — отвечает Ингмар.
Спина вспотела, он немного замерз.
К. А. стоит рядом и пьет кофе из блестящей темно-коричневой кружки.
Ингмар заходит в курилку, там стоят актеры вместе со Свеном и Оландом.
— Это просто какое-то сборище клоунов, — говорит Туннель, садясь на стул с табличкой, где написано ее имя.
— Чур я самый смешной, — шутит Макс.
— Пока не дошло до самоубийства, — говорит Туннель. — А потом буду я — у меня самый большой живот.
— Вы-то в этом не виноваты, — вступает Гуннар.
Свен идет к ризнице.
— Ну, если серьезно, то не так уж все плохо, — говорит Ингмар. — Мой отец прочитал сценарий три раза, и он вовсе не показался ему мрачным. Мы ведь и не собирались снимать комедию.
— Хотя получилось чертовски уныло и грустно, — возражает Аллан с улыбкой.
— Кому вообще может быть интересен этот фильм? — спрашивает Гуннар. — Кроме твоего отца. Для кого мы его снимаем?
Ингмар, смеясь, отвечает, что на днях он стоял в пробке, заглядывал в другие автомобили и думал: и ты не посмотришь мой фильм, и ты не посмотришь, и ты и так далее.
— По-моему, над этим стоит задуматься, — бормочет Аллан.
Гуннар отводит взгляд, Макс делает равнодушную мину, а Туннель говорит, что не стоит недооценивать зрителя.
Ингмар покидает свое место рядом со Свеном и кинокамерой и подходит к актерам, сидящим за пасторским столом.
— Прекрасно, — говорит он. — Но давайте попробуем еще раз. Постарайтесь добавить немного воздуха.
— Какого воздуха? — спрашивает Гуннар.
— Не стоит слишком нагнетать в самом начале. Как Андреа Дориа[29]. Ведь настоящие ужасы начнутся потом. Вы о них пока даже не знаете. Тут нужно нечто среднее между стыдливостью и нелюдимостью. Вам не по себе, правильно? По крайней мере тебе, Макс. Вся ситуация кажется тебе просто смешной: помешать пастору…
— Да, именно так я и думаю.
— Это довольно захватывающая сцена, разве нет? — спрашивает Ингмар. — Пастор, который разговаривает сам с собой.
— Мой любимый эпизод, — отвечает Гуннар.
— Спасибо на добром слове, — улыбается Ингмар.
— Да нет, я правда с тобой согласен. Мне нравится тот момент, когда я потрясен собственным неумением изображать жажду жизни.
— Да, ты правильно уловил суть. Именно это с вами и происходит. А ты, Туннель, находишься в самом центре. И ты никак не можешь понять всю серьезность происходящего между этими двумя мужчинами.
— Если хочешь, я могла бы даже сыграть облегчение от того, что наконец сделала этот шаг, — предлагает Гуннель.
— Давай, конечно.
— Мне кажется, я таким образом переложила часть своей ноши на пастора.
— Точно, — говорит Ингмар, глядя на нее долгим взглядом. — Ну что, попробуем еще раз? Что скажете? По-моему, неплохо у нас получается, правда?
Гуннар кивает.
— Но самое главное для всех — сохранять обычные интонации, — продолжает Ингмар. — Должна быть иллюзия обычных шведских будней. Ни в коем случае никакого театра.
В Пятом павильоне сгущается тьма. Единственный луч света, проникая сквозь окошко в ризнице, падает на пасторский стол.
Во время генеральной репетиции Стиг Флудин подает сигнал, что он доволен звуком.
Поправив стул, К. А. выходит из комнаты.
Свен кивает Ингмару.
Бриан занимает свое место.
Тишина.
Вернувшись из школы, Ингмар понял, что мать до сих пор не вставала с кровати. Воздух был спертый. В доме царило сонное настроение, хотя его заливал яркий свет.
Он пошел на кухню, чтобы проверить, позавтракала ли она. Решил заглянуть к ней в комнату и предложить кофе.
Он немного подождал у двери, прислушиваясь. Тихонько постучал, еще подождал и постучал снова.
Затем сел на пол, прислонившись спиной к стене и глядя на пылинки, кружившиеся над дощатым полом в коридоре. Они мягко подпрыгивали в воздухе, попадая в луч света, тянувшийся из окна в комнате Нитти.
Он почесал комариный укус, нащупав небольшой бугорок на коже.
Раздался удар Энгельбректского колокола, а затем, словно из-под земли, прокатилось эхо.
Из комнаты матери послышался шорох. Кажется, она взяла с тумбочки стакан с водой и, сделав пару глотков, поставила его на место.
Ингмар встал, осторожно постучал в дверь и вошел в душную комнату.
— Что ты хотел, Малыш?
Я собирался помочь ей, думает Ингмар. Она ведь радовалась, когда я хотел поговорить с ней о красоте, о том, что нравится нам обоим, об опере, театре, искусстве.
— Я чувствую себя совершенно бессильным. Не знаю, что тебе сказать. Я понимаю твой страх, но надо жить дальше.
— Зачем надо жить? — спрашивает Юнас с прямолинейностью, которая удивляет его самого.
Пастор опускает взгляд.
Немного погодя на лице Юнаса появляется оживление, возможно, даже торжество.
— Пастор болен, не стоит нам сейчас рассуждать. Все равно от этого мало толку.
Воздух в Пятом павильоне тяжелый и теплый. Неспешными волнами он расходится по помещению от статичного жара прожекторов. Упираясь в высокие стены, он приносит с собой кисловатый медовый запах ковра, окутывающий молчащих людей вокруг съемочной площадки.
— Спасибо, — говорит Ингмар, вытирая капельки пота над верхней губой. — Отлично. Вы… Черт, да вы просто молодцы!
— Еще раз? — спрашивает Гуннар.
— Нет, и так все прекрасно.
На лицах актеров читается облегчение, они переглядываются почти удивленно.
Некоторые начинают хлопать в ладоши, Оланд открывает массивные двери павильона, и в помещение врывается прохладный воздух, а за ним и легкий свет, совсем непохожий на павильонное освещение.
Ингмар и Гуннар выходят на грузовой причал, стоят рядом в тусклом солнечном свете, глядя на полупрозрачные кроны осенних деревьев. Вдыхая всей грудью воздух, чувствуют, как прохлада растекается по лицу.
Ингмар косится на Гуннара, одетого в пасторское облачение. Тот слегка ослабляет желтый воротник.
Через всю пристань тянется глубокий след в деревянной обшивке, который оставила кулиса, волочившаяся на прицепе к машине.
Ингмар провожает глазами взгляд Гуннара, наблюдающего за стайкой овсянок, что словно осадок в стакане с водой взвихряются с желтых листьев под кленом.
* * *
Облокотившись на дверной косяк, чтобы немного отдохнуть, Ингмар смотрит на церковные ограждения, на мощные подпорки кулис.
Словно для того, чтобы удержать на месте огромное стадо скота, думает он, перешагивая через кабели и мотки шнуров, перетянутые изолентой, хромая мимо коробки с катушками киноленты. Он медленно пробирается по опустевшему павильону, однако ногу под коленом пронзает такая боль, что он вынужден остановиться и сесть на стул возле курилки.
Задрав штанину, он понимает, что позабыл о протезе.
Он таращится на пластмассовую ногу, на гильзу, блестящие изгибы искусственной лодыжки.
Непостижимым образом руки привычно двигаются, ослабляя ремни, отстегивая протез и массируя культю.
Входит Макс с открытой бутылкой шампанского. Он подмигивает, отстегивает свою искусственную руку и наполняет ее вином. Ингмар смеется, подставляя пластмассовую ногу. Макс наливает туда вина, и они чокаются.
Ингмар сидит в темноте просторного хорового зала между Свеном и Стигом Флудином. Хмель все еще не покинул тело, он улыбается самому себе. Пленки с первыми съемками проявлены.
В светлом прямоугольнике со скругленными концами видно большое распятие, висящее на стене ризницы, бархатный сачок для сбора пожертвований, который опустошает чья-то рука, термос, который кто-то ставит на стол.
Пастор садится, кашляет, встает и подходит к окну.
— Что за ерунда со звуком? — шепчет Ингмар.
Он встает, щурясь на окошко, где установлен проектор.
— Погоди, — говорит Стиг, пытаясь удержать его.
Сев обратно, он видит, как служка протирает очки, и замирает, когда тот говорит с пастором об одиночестве.
— Звук такой, будто дело происходит не в ризнице, а в консервной банке, — говорит Ингмар, когда меняют катушку.
— Давай послушаем следующую.
— Готовы?
— Поторопитесь.
Снова на экране сачок, термос и пастор, который встает у окна. Палец передвигает монеты на столе, очки на фоне ноябрьского солнца.
— Звук просто ужасный, никуда не годится, — говорит Ингмар. — Придется записывать все по новой.
Стиг трет лицо руками и шепчет: «Черт, черт, черт!»
Все разговаривают вполголоса, обсуждая световую хлопушку.
Ингмар чувствует, как учащается пульс.
— Ну что? Все из-за нее?
— Не знаю, — отзывается Стиг.
— Пока не узнаешь, придется все отложить, — говорит Ингмар, повысив голос. — Не хочу никого обвинять, но это стоит чертову кучу денег — аренда павильона и зарплата.
— Пойду позвоню в техподдержку Госкино.
— Давай, Стиг, — говорит Ингмар, грызя ноготь большого пальца. — Позвони.
Он подмигивает ему. Темные взъерошенные волосы. Как хорошо, что я не стал злиться, думает Ингмар.
— Все уладится, — бормочет он, усаживаясь рядом со Свеном. — А картинка и освещение — все получилось прекрасно.
— Правда? — спрашивает Свен, широко улыбаясь. — Мне тоже понравилось.
— Сможешь повторить все в точности, когда будем переснимать это дерьмо?
— Думаю, да.
Ингмар чешет шею, пытаясь собраться с мыслями. Он стоит у режиссерского пульта, чувствуя, что готов опрокинуть его. И разбить в щепки. Накричать на кого-нибудь и выбежать прочь из павильона.
Он хватает сценарий, чтобы разорвать в клочья, и тут взгляд его падает на коробку шоколада «Дросте».
Целлофановая обертка обтягивает новую упаковку, мокрое поблескивание пластика на темной коробке.
Он понимает, что это Катанка села в машину, съездила куда-то, купила шоколад и оставила у него на столе.
— Ну что тут сказать, — бормочет он, перелистывая сценарий.
Опустившись на стул, он просматривает эпизоды, которые надо переснимать из-за испорченного звука. Помечает верно найденный тон, который хотелось бы воссоздать, ищет лакуны, которые можно бы было заполнить.
Мужчина в светло-сером костюме стоит возле звукооператорского пульта вместе со Стигом и Брианом.
Светло-рыжая капитанская бородка и очки в руке.
Ингмар наблюдает за ними, дожидаясь, пока они попрощаются и мужчина выйдет из павильона. Потом подходит и поднимает с пола пятиэревую монетку.
— Что он сказал?
Стиг так рад, что глаза его слегка увлажняются, когда он рассказывает, в чем состояла ошибка, которую они уже выяснили и исправили: хлопушка была неправильно собрана.
— Он так сказал?
— Да, он попробовал…
— И вы уверены, что все дело в этой дурацкой хлопушке?
— Госкино плохого инженера присылать не станет, — отвечает Стиг. — Понимаешь, если сам изобретатель говорит, что хлопушка испортила звук…
Они несколько мгновений молча смотрят друг на друга и улыбаются.
— Значит, можно приступать к съемкам? — спрашивает Ингмар.
— В любой момент.
В одиночестве сидя за столиком на веранде в столовой, Ингмар склонился к тарелке и ест вареную ветчину с яичницей и картошкой.
Оконная рама устало похлопывает в петлях. Там, где отошла белая краска, виднеется черное железо. Занавеска слабо подрагивает от сквозняка.
Он спускается взглядом по склону между деревьями. За окном так холодно, что свет превратился в стекло, повисшее рваными осколками над красным диким виноградом и кирпичом.
Он кладет вилку на стол, чувствуя запах сигаретного дыма. Под окнами веранды кто-то замолчал в разгар оживленной беседы, потоптался на гравии и громко рыгнул.
— У Ингмара на съемках вечно какие-то проблемы с аппаратурой, всегда одно и то же.
— Черт, я тоже это заметил, — говорит мужчина помоложе.
— А все потому, что ему обязательно надо во все соваться, понимаешь, а то без него не справимся: здорово, парни, клево у вас получается, но…
— Ага, только вы… Прекратите, ребята, — смеется третий. — После съемок сами будете хвастаться, что…
Те бурно выражают недовольство, усталый голос говорит что-то неразборчивое. Оконный крюк бьется о железную скобу. Последний окурок, описав дугу, приземляется на гравий.
В столовой вилка бряцает о тарелку, сливаясь с разноголосым дребезжанием других ножей и вилок.
Сладкий кофейный аромат предвещает появление Биргера Юберга. Поставив чашку, он выдвигает из-за стола стул.
— Я сейчас слышал, что вам придется переснимать все с самого начала, — приветливо говорит он.
— Нет, просто чертова световая хлопушка испортила весь звук, — отвечает Ингмар.
— Значит, будете все переделывать?
— Да, но…
— Так будете или нет?
— Но светопостановка, репетиции…
— Вчера я поговорил с Алланом. Он сказал, что тебе будет сложно уложиться в бюджет, даже в тот, который был выделен без учета твоих экспериментов со всякими непонятными хлопушками.
— Ее уже починили.
— Вот оно что, — говорит Биргер, на ощупь вытаскивая пачку сигарет из нагрудного кармана рубашки. — Если ты думаешь уложиться в бюджет и деньги больше тебе не потребуются, лучше скажи об этом сейчас.
Они смотрят друг на друга, понимая, что стали по-другому относиться друг к другу с тех пор, как Биргер заступил на место Димлинга.
— Хочешь, чтобы я попросил? — внимательно глядя ему в глаза, спрашивает Ингмар.
Биргер откидывается на спинку стула.
— Нет, я только сказал, что…
— А ведь я попрошу, — продолжает Ингмар, постукивая по пластмассовой ножке. — Еще как попрошу. Ты этого хочешь? Чтобы я умолял тебя на коленях?
Он берет Биргера за правую руку.
— Кончай дурачиться.
— Нет, я хочу поцеловать тебе руку.
Биргер пытается высвободить руку и удивленно смеется, когда Ингмар не выпускает ее.
— Ну да, я готов поцеловать тебе руку, чтобы…
— Да ты…
Ингмар целует его руку и встает на колени.
— Милый Биргер, — с улыбкой говорит он, — я прошу тебя чуточку увеличить бюджет. Просто чтобы…
— Нет, так дело не пойдет.
Ингмар снова целует его руку.
— Пожалуйста.
Тот вырывается, но Ингмар тотчас хватает его за ногу.
— Прекрати, — шепчет Биргер, глядя по сторонам.
— Я буду целовать тебе ноги, — смеется Ингмар. — Исцелую все ноги до полусмерти.
Стул, на котором сидит Биргер, переворачивается. Он падает, размахивая руками.
Ингмар дрожащими руками запирает дверь в туалет. Вспыхнув четыре раза, лампа дневного света наконец загорается.
Пахнет свинарником. Бумажные полотенца разбросаны по мокрому полу. Из крана бесшумно струится вода.
Потная рубашка прилипает к спине, когда Ингмар отрывает кусок туалетной бумаги и вытирает желтые капли с сиденья на унитазе.
Он садится, и очередной приступ спазмов, прокатившийся по желудку, заставляет его нагнуться к коленям, напрягая лодыжки и пальцы ног.
Кто-то дергает дверь.
Он снова нагибается над унитазом, закрывает глаза и чувствует, как от смущения, слабости и страха его бросает в жар. Вытирая капельки пота над губой, он думает, что прямо сейчас мог бы заснуть.
Кто-то бежит по проходу и стучит во все двери. Затем раздаются другие шаги, потяжелее. Лампа дневного света гаснет. Слегка потрескивает алюминий на арматуре. Крик пробегает меж стен.
Кто-то пытается вскрыть замок в туалетной двери. Острый металлический скрежет, трущиеся друг о друга поверхности. Что-то соскакивает, и скрежет возобновляется. Ручка проворачивается вокруг себя, и замок щелкает.
Затем все происходит очень быстро.
Его выволакивают в коридор, несут. Лампы под стеклянными колпаками ослепляют. Двери распахиваются и захлопываются. Ингмар сопротивляется, хочет увидеть их лица. Вертит головой, пытается вырваться, но со всех сторон только спины.
Его сажают на стул, он моргает от мягкого света. Видит борова, который, сгорбившись, перебирает копытцами монеты на столе.
Коза катает по полу термос.
Камера едет, делая мягкую панораму, затем отъезжает назад. Свет падает на бородатую морду козы. Взгляд исподлобья, она думает об отступлении.
Из носа, не переставая, течет.
Подбородок борова тесно прижат к шее, кожа складчатая. Хриплый голос словно звучит внутри огромной грудной клетки. Длинный желтый клык поблескивает меж пересохших губ.
Ингмар думает, что все они ряженые, которые под масками носят маски.
Коза смотрит на железную дверь. Затем туда же устремляется взгляд борова.
Они начинают по новой, коза встряхивается так, что воротник падает на пол. Ингмар молчит. Свинья прижимается пятачком к сачку для сбора пожертвований, тянет его за собой, запрокинув голову.
— Тишина. Мотор, — шепчет Ингмар.
Тонкий звон пилы, пронзающей стену полуметровой толщины из колотого гранита. Железо с легкостью скользит вниз.
Когда пила натыкается на задвижку, звук меняется, тяжеловесными каскадами пульсирует шпон.
Отсек с окном и глубокой нишей отодвигается и уносится.
Взвизгивают гвозди, и из пола выдергиваются деревянные планки.
Неожиданно появившись в проеме, Свен что-то показывает и отходит в сторону.
И вновь тишина. Петер Вестер[30] шепчет что-то, указывая на свое плечо и щеку.
Ингмар встает на место Ингрид и спрашивает Свена, все ли в порядке.
— Да.
Он отодвигается.
— Ну как?
— Хорошо, — недоумевая, говорит Свен.
Ингмар садится на корточки, Свен кивает:
— Все отлично. Хотя погоди. — Он подходит к камере и заглядывает в нее. — Хорошо, — бормочет он.
— Как насчет того, чтобы снять все за один раз? — спрашивает Ингмар, пряча улыбку.
— Было бы замечательно! — удивленно говорит Свен, делая шаг в сторону.
— Петер, сядь на стул.
— Сюда?
Свен щурится: съемка получится мировая.
— Но если положить рельс, то, может, будет… — говорит Ингмар.
— Тогда у нас тут все превратится в часы с кукушкой, — убеждает его Свен. — Но мы могли бы…
— Но… Прости, что ты хотел сказать?
— Мы могли бы попробовать пустить камеру по мазонитовым щитам.
— Парни, вы это слышали?
Они смотрят на него.
— Пол должен быть из абсолютно натурального материала. Правда, Свен? Отсюда и досюда.
Ингмар бежит по коридору мимо дверей с рифлеными стеклами. Ленн ждет возле ослепительно яркой лампы рядом с его кабинетом.
— Не забудьте про встречу с Харальдом Муландером[31], — говорит Ленн, открывая дверь.
Ноздри Ингмара раздуваются, он смотрит на часы.
— В чем дело? Он хочет, чтобы мы вернули ему Большой павильон, да?
— Понятия не имею, — отвечает Ленн, направляясь в кабинет.
Ингмар идет за ней, садится, берет телефонную трубку, лежащую на столе, и отвечает.
— Нам надо как следует поговорить — раз и навсегда. Я звоню тебе, но никто не подходит. Пытаюсь все уладить, но в ответ никакого понимания, — говорит мать. — Неужели тебя совсем не расстраивает, если такая знаменательная дата в жизни отца будет вконец испорчена?
— Но у меня сейчас съемки в самом разгаре, а Кэби…
— Ингмар, как можно быть таким черствым? Не понимаю. Неужели так трудно освободить один день?
— Двадцать второго у меня не получится.
— Почему?
За стеклянной дверью Ленн печатает на машинке.
— Мне пора, — говорит Ингмар.
В трубке слышится неторопливое дыхание матери.
— Я не знаю, что делать, — произносит она почти беззвучно.
— Пригласи каких-нибудь друзей.
— При том, что из близких никто не придет?
— Не стоит из-за этого ссориться.
Одной рукой он пытается вскрыть конверт с письмом. Это трудно, почти невозможно. И вдруг видит со стороны всю тщету своих судорожных попыток.
— Вчера вечером я рассказывала отцу о твоем фильме, — говорит мать.
— Правда? И что он сказал?
— Возможно, его стоит посмотреть, сказал он.
— Что? Он действительно так сказал?
— Не уверена, что он меня слушал. Кажется, я говорила, что работа пастора в каком-то смысле была препятствием у него на пути.
— И тогда отец сказал, что хочет посмотреть мой фильм?
— Не помню, может быть, он решил, что это напоминает время, проведенное в Форсбаке.
— Ты можешь в точности передать мне его слова?
Газировка ударила в нос, на глазах выступили слезы. Он посмотрел на отца и, увидев, что тот готов засмеяться, засмеялся сам, думает Ингмар, входя в ризницу.
Плотники пока еще не настелили мазонитовые плиты. Они курят, перебирая огромные белоснежные листы с чертежами.
Он подходит к ним и, проводя рукой по губам, спрашивает:
— Ну что, как дела?
— Замечательно, — отвечает один.
Другой смущенно улыбается.
Ингмар слишком рад интересу отца. Не в состоянии как следует разозлиться, он понижает голос:
— У вас есть десять минут, чтобы застелить пол, если вы не хотите лишиться этой работы, — говорит он, прикрывая рукой рот, растянувшийся в нежданной улыбке. — Мне плевать на все ваши сложности, если я найду хоть крошечную неровность на стыках или еще какую халтуру, вылетите отсюда со свистом — всей честной компанией.
Ингрид целует Гуннара в губы и в щеку с отчаянием брошенной женщины. Затем радостно смотрит на Ингмара и спрашивает, хорошо ли, что она не сняла варежку.
— Прекрасно, — смеется Ингмар. — Попробуем так.
— Остановиться? — спрашивает она.
— Нет, спасибо. Не надо.
— Тумас, тебе надо многому научиться.
— И это говорит мне учительница, — шутит тот.
— Здесь ты должен быть совершенно измученным, — объясняет Ингмар. — Ты говоришь почти без всякого чувства. Он так безнадежно устал оттого, что его ни на минуту не оставляют в покое. Стоит ему куда-то пойти, как она тотчас спрашивает, можно ли ей пойти вместе с ним. Когда он отвечает, что нельзя, она начинает плакать и канючить, как малый ребенок.
— Кстати, ты прочитал мое письмо? — спрашивает Ингрид.
— Твое письмо? Нет, пока не успел… — отвечает Гуннар.
— Только не перебарщивай, — просит Ингмар. — Камера подъезжает совсем близко, тебе надо лишь наморщить лоб, вот и все.
Гуннар не отвечает, глядя в другую сторону. Губы его побледнели еще сильнее.
Ингмар садится на корточки перед актерами.
— Попробуем еще раз быть невыразимо унылыми?
Когда дядя Юхан стал часами заниматься переделкой держателя пленки и объектива проектора, он попросил Ингмара об ответной услуге: спрятать его трубку в какое-нибудь надежное место, чтобы Ма не нашла ее и не забрала.
Но уже на следующее утро Даг с трусливыми глазами размахивал трубкой над головой, требуя, чтобы Ингмар засунул палец пуделю в задницу. Он попробовал, но Тедди жалобно заскулил, и Даг медленно сломал трубку.
Ингмар кричал, пытался избить брата и заметил, что обмочился, только когда Даг стал смеяться.
Тепло, неожиданно растекающееся по ногам, и бешеный стук сердца. Затем штаны тяжелеют, а тепло неожиданно сменяется холодом.
— Спасибо, — говорит Ингмар радостным голосом, поворачиваясь к ассистенту оператора. — Сколько метров получилось? Сто пятьдесят есть?
Он проверяет: сто пятьдесят семь.
Птица, ворвавшаяся в павильон, прорезает воздух, резко снижается, парит на месте и, вновь разворачиваясь, летит кверху.
Ослепительный прямоугольник со скругленными углами пульсирует на экране. Дрожащий светящийся лист. Но вдруг на свету проявляются темные пятна: черная спина пастора, тень на каменном полу.
— Это еще что такое? — выходит из себя Ингмар.
Миновав Свена, слова долетают до Бриана, который переворачивает штатив с громкоговорителем.
Почесав затылок, Ингмар смотрит на Бриана. Тот, покраснев, поднимает штатив. Ингмар поворачивается к Свену.
— Грязь в объективе, — говорит он. — Когда это началось? Ты это видел? После восьмидесятой сцены — или когда?
— Наверняка после того, как мы заряжали пленку, — вздыхает Свен.
— Черт, — говорит Стиг.
— Никто тут не виноват, но до чего же обидно, — бормочет Ингмар. — До чего глупо. Придется снова переснимать все это дерьмо…
Ингмар стоит спиной к экрану, затем передвигается вдоль стены по направлению к металлической двери.
Свен разговаривает с Петером Вестером, Стиг смотрит в пол.
Входит Ленн, машет Ингмару и спешит ему навстречу.
— Вы знаете, что Муландер ждет у вас в кабинете?
Ингмар открывает дверь в хоровой зал.
— Встреча была назначена уже…
Он выходит на холодный воздух, слышит, как хлопает дверь, обходит Малый павильон и, миновав наружную лестницу, идет к машине. Руки так сильно дрожат, что ключ не попадает в замок.
— Твою мать!
Он бьет кулаком по крыше машины. Странный протяжный грохот эхом отдается от кирпичной стены. Сердце колотится в груди.
* * *
Ингмар кладет темно-синие носки на свою кровать и выходит из кабинета босиком. Ворс медленно расправляется, и следы на бледно-желтом ковре исчезают.
Он входит в комнату примирения и ставит бокал мартини на стол. Смотрит на улицу сквозь балконную дверь. Колыхание мокрой листвы в полосе света, льющегося с первого этажа дома. Тяжелые яблоневые ветви со зрелыми плодами покачиваются меж реек перил.
Глаза свербит от усталости.
Пальцы проводят по взлохмаченным волосам. Пульсируют часы на запястье.
Мятые брюки, серый свитер.
Он замечает, что Кэби наблюдает за ним, угадывая ее силуэт за «Стейнвеем».
Она говорит, что забыла свой бокал в спальне, и идет следом за Ингмаром, когда он хочет забрать его.
Останавливается на пороге в угловую комнату.
Бокал, стоящий на трюмо, почти пуст. Цитроновый вихрь улегся, оливка исчезла.
Они встречаются взглядами.
Фронтон широкой кровати обит тем же цветастым желтым ситцем, из которого сделаны занавески. Узор криво отражается в латунных дверцах изразцовой печи.
Она, улыбаясь, подходит к нему.
— Неужели я все выпила?
— Почти.
Она берет его руку и прижимает к своей щеке.
Он смотрит на нее.
— Что ты хотел? — спрашивает она почти беззвучно.
Он ставит свой бокал.
— Я думал, у тебя сейчас твои особенные дни.
— Вчера все кончилось, — тихо отвечает Кэби, но все же не переходит на шепот. Она садится в светло-голубое кресло Карла Мальмстена[32].
Ингмар крутит на пальце обручальное кольцо.
— Мне тридцать девять лет, — говорит она. — Прежнего постоянства уже нет, но старой я себя совершенно не чувствую.
Колючий свитер натирает шею, впивается в рыжую шкуру, когда лис поворачивает голову к Кэби.
Она осторожно протягивает блюдо с соленым миндалем и предлагает Микелю попробовать.
Но взгляд лиса скользит дальше, от блюда к руке и дальше, к затылку.
Она кивает на апельсины, но глаз неподвижен. Черный штрих покоится в сердцевине медного облака, неотрывно глядя, как золотистый шлейф колышется в такт биению пульса в шейной артерии.
Внезапный выпад. Кэби со смехом отшатывается. Лис спотыкается о стеклянный столик, голова исчезает в широком вороте свитера, руки ищут опору.
— Ах ты черт!
Ингмар извлекает чучело лиса. Он оцарапался когтями. Розовая нить бежит по мягкому животу, на коже выступает колье из крошечных кровавых жемчужин.
— Что случилось?
Свитер падает, он проводит рукой по животу.
— Завтра мы со Свеном устраиваем пробный показ «Как в зеркале» — ты пойдешь?
— Я ведь его уже видела, когда ты…
— Знаю, но я думал…
— Просто… Извини, что перебиваю. Просто я хотела сказать, что с удовольствием бы пошла, но придется репетировать этот ужасный Concerto Ricercante[33].
— Ясно.
Подбородок напрягается, напрягаются плечи и руки.
— Что случилось? Ты расстроился, что…
— Нет, дело не в этом, — говорит Ингмар, слегка краснея. — Как раз перед тем, как пленку переписывали для премьеры, я решил кое-кому посвятить этот фильм.
— Кому же?
— А как ты думаешь?
— Твоему отцу, — шутит она.
— Прекрати.
— Неужели ты посвятил этот фильм мне?
— Я думал, ты будешь рада.
— Конечно, я уже рада.
— Понимаешь, я никогда прежде никому ничего не посвящал, — тихо говорит он.
— Так почему же ты сделал это теперь?
Он ложится в кровать, скрестив руки на груди, словно хочет уснуть. Кэби смотрит на него. Ложится рядом и кладет голову ему на плечо. Говорит, что от него воняет формалином.
Он улыбается сам себе, шевеля пальцами на ногах.
— Эта кровать гораздо удобнее, чем моя, — может быть, мне переехать сюда?
— Добродетельная мораль предписывает каждому иметь свою комнату, — сухо говорит Кэби в ответ.
— Помнишь, как в самом начале? Когда я тайком крался из твоего номера… да, точно, в «Палас-отеле». Я крался на цыпочках по коридору в одном халате…
— Ага, там еще должна была быть какая-то пресс-конференция, да?
— Про которую мы забыли.
Она широко улыбается: открывается дверь чужого номера и наружу осторожно выбирается Ингмар Бергман в одном…
— Да, здорово они тогда удивились.
— Так что ты сказал?
— Guten Rutsch![34]
Она смеется.
— Ну а что я еще мог сказать? Что я заблудился? Или хожу во сне?
* * *
Ингмар садится за кухонный стол и кладет на хлеб сыр с ветчиной. Кэби достает из холодильника банку с горчицей и возвращается к столу.
— Тебе кажется, я только и думаю что о твоей предстоящей поездке в Ретвик? — спрашивает она. — Вы будете жить все вместе в «Сильянсборге»?
— Нет, только я один, — шутит он.
Она открывает крышку и ставит банку на стол.
— Не забудь, что Ингрид замужем за Харри.
— О чем ты?
Он намазывает толстый слой горчицы ножом на ветчину.
— Да о том, что, по-моему, он не такой добрый и милый, как мой бедный…
— Кэби, о чем ты? — мягко переспрашивает Ингмар.
— Я стараюсь верить тебе, когда ты говоришь, что…
— Дорогая, — перебивает он, — о чем ты вообще говоришь?
— Не знаю, — отвечает она. — Я… я просто не понимаю, почему ты вдруг стал таким внимательным. Посвящаешь мне фильм, ласкаешь меня то и дело, разглядываешь старые фотографии и все в таком духе.
— И что с того?
— По-моему, ты жалеешь меня. Это правда? Думаешь, я больше не могу забеременеть? Да? Ты такой добренький, потому что хочешь уйти?
— Что мне еще сделать? — спрашивает он. — Что ты от меня хочешь? Клятвы?
— Прости. Я не хотела… Просто на меня ужасно давит Нюстрём.
— Но почему ты не едешь в Штутгарт?
— Думаешь, стоит? В любом случае я могу позвонить Марии Луизе, — улыбается Кэби. — Так я и сделаю, может быть, у нее найдется время приехать сюда.
— Не лучше ли тебе самой туда съездить?
— Тебе этого хочется?
В Большом павильоне светло и тихо, входит Ингмар. Он идет к бесцветному нефу. Минует широкий проход между шпоновыми щитами, задвижками и подпорками.
Не заходя в преддверие церкви, он проходит под галереей с органом и направляется по каменному полу между скамьями в длинный дом.
Триумфальное распятие подвешено к балке у входа на хоры. Его перевесили со стены на подобающее при литургии место. Вместо высокого витража виднеется низенькое окошко просмоленного алтарного складня и изображение Бога Отца, который держит распятие с Иисусом между колен.
Ужас растекается по груди, неподдающееся описанию чувство, будто он находится в горящей церкви. Горит остроконечная крыша, и внешние стены тоже тронуты языками неторопливо кипящего пламени. Тихое потрескивание предвещает неожиданный грохот, когда разноцветные стекла летят на хоры, а огонь пробивается вперед прямо под потолком, охватывая фризы и небесный свод.
И, только остановившись возле алтарной ограды, он понимает, что это непонятное чувство ужаса имеет свое объяснение: жар прожекторов вкупе с сухим ароматом свежеспиленного дерева не сочетается в его голове с картиной, которую он видит перед собой — старинная каменная церковь.
— Пора начинать крупные планы с Туннель, — бормочет он, закрывая глаза.
Постояв молча в теплой тишине павильона, он чувствует, как по пространству бегут волны, словно здание накреняется куда-то вперед.
Что-то выкатывается из преддверия церкви в проход. Бряцает, словно деревянная чурка, которую волочат за веревочку, словно копыта спотыкаются на каменном полу.
Прожектор разворачивается с чуть слышным скрипом.
Кабели волочатся по скамьям, застревают в цоколе. Высвобождаются резким рывком.
Лошадь фыркает, деревянная скамья трещит под тяжестью тела.
Ингмар открывает глаза и видит, как Свен, стоя за камерой, беседует с Петером. Он следит за настройкой, оборачивается.
— Ну как? — спрашивает он.
Гуннель сидит на церковной скамье, дыша полуоткрытым ртом. Опухшее лицо, живот выпирает под серым пальто, рядом лежит бархатная шляпка с бантиком.
— Да так, — вздыхает она, потирая бедро. — Здесь немного болит, когда хожу слишком быстро.
— Черт, мы вообще успеем сделать крупные планы?
— Ну я ведь не прямо сейчас рожу.
— Ты обещаешь?
Ингмар встает под сводами хоров, оглядывается, чуть улыбнувшись, делает незаметный жест, слегка поднимая руки, и произносит:
— Agnus Dei[35]…
Прихожане встают.
За спинами Макса и Гуннель что-то мелькает — мощная туша овцы, серая шкура.
Ингмар поднимается, глядя на Свена. Чувствует, как дрожит рука, когда он жестикулирует, обращаясь к животному.
— Ну что? Сделать так, чтобы ее было лучше видно? — спрашивает Свен. — Я думал, ты хочешь ее…
— Можно я посмотрю в камеру?
Спотыкаясь о кабели, Ингмар обходит площадку.
Сквозь объектив он видит Макса и Гуннель, стоящих у церковной скамьи, за ними наискосок сидит Ингрид в светло-серой мутоновой шубе.
— Все нормально, — говорит он, возвращаясь к длинному дому. — Месса в первую очередь нужна для того, чтобы познакомить с главными героями. Юнас, например, поможет своей жене встать со скамьи, мыслями он где-то не здесь, как мы уже сказали. А ты, Ингрид, встань чуть погодя. Ведь ты поступаешь так, как они. Ты здесь, скорее, в роли ребенка, которого совершенно не интересует ритуал.
Ларс Уве садится на стул задом наперед, привалившись грудью к спинке.
— Черт, что за ерунда, — говорит он, сдувая с глаз челку. — Глупо начинать с этой дурацкой мессы.
— Он знает, что делает, — возражает Гуннар.
Ингмар грызет ноготь, глядя в сторону.
— Я тут за всем этим понаблюдал, — продолжает Ларс Уве, — и скажу вам, что это полная ерунда, — к концу вы все больше утяжеляете фильм: бах-бах, ба-бах!
— Мы и не собирались снимать комедию, — вздыхает Ингмар.
— Ингмар, скажи, что все будет хорошо, — улыбаясь, просит Гуннар. — Ведь правда?
Тот пожимает плечами и оставляет их. Ходит туда-сюда по каменному полу молельни, пока камера передвигается для съемок причастия.
Гуннар стоит под триумфальной аркой.
— Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое[36].
— Отлично, сцена будет потрясающая, — говорит Ингмар, подходит к Гуннару и продолжает, немного понизив голос: — Ты на верном пути, все хорошо, но мне хотелось бы немного другого, как бы это сказать… немного пафоса. То есть другого пафоса. Дело в том, что для тебя это как бы только работа, возможно, ты стоишь перед прихожанами, а сам думаешь в этом момент совсем о другом, ты простыл, устал и все в таком духе.
— Понимаю, — тихо отвечает Гуннар.
— Пасторы гораздо лучше смотрятся в фильме, — говорит Ингмар, широко улыбаясь. — Правда? В настоящей жизни они никогда не могут быть абсолютно серьезными, не то что актеры. Разве что только мой отец. Это я к тому, что если бы я был пастором, то церемонии богослужения превратились бы в мытье посуды или что-то в этом роде.
— Попытаюсь мысленно находиться не здесь.
— Только не раздувай из себя…
— Понял, — устало перебивает Гуннар и отходит.
Кладет руку на кафедру.
Глядя на него, Ингмар едва сдерживается, чтобы не пойти за ним следом. Он пытается заговорить со Свеном о том, что надо убрать перила с органной галереи для кадров с органистом, а сам смотрит за Гуннаром.
— Ну что, поехали дальше? — спрашивает он.
Вертикальные железные балки на внешних стенах павильона соединяются конструкцией из тонких железных листов. Ингмар заходит за большую кулису, проводит рукой по ржавой перекладине, останавливаясь на стыке, который скреплен стальным тросом.
Он ковыряет пластик между задвижками, трогает клочья желтой стекловаты, торчащей из щелей. Затем закручивает жесткий стальной трос вокруг пальца, затягивая его изо всех сил.
Он знал, что Гуннар именно так и отреагирует, и все же не мог остановиться.
Закрыв глаза, он немного подается вперед.
Перед глазами появляется усталое лицо Гуннара, из губ вырываются все те же слова.
Совсем близко слышится, как кто-то глотает: женщина пьет что-то горячее.
Неожиданно на церковной скамье рядом с Мэртой появляется кормилица, прикрывающая рот носовым платком. Ингмар открывает глаза и хочет шагнуть назад.
Встав со стула, он хлопает в ладоши, так что туалетная бумага, обвязанная вокруг пальца, разматывается, обнажая кровавый узор.
— Да это было просто чертовски круто, — говорит он. — Настоящий пастор, который старается изо всех сил, но каждое мгновенье страдает от сознания того, что он человек.
— Ну, не знаю.
— Гуннар, это было прекрасно, — говорит Ингмар, ущипнув его за руку. — С тобой иначе и не бывает.
Ингмар бежит к группе монтеров и плотников.
— В чем дело? Вы давно должны быть там вместе с лестницами и всяким другим дерьмом. Я думал, все уже готово! От вас всего-то требуется убрать перила, — говорит он.
— Но их же надо открутить изнутри.
— И кто это будет делать?
— Юке.
— Я хочу сегодня успеть снять сцену с органом.
Ингмар входит большими шагами, распахнув стеклянную дверь. Следом за ним, придержав ее, входит Ленн.
— Утром на меня набросился Экелунд. Говорил, что вы совершенно вышли за рамки, бухгалтерия уже скоро задушит…
— Плевать я на них хотел, — перебивает Ингмар. — Я этот фильм не брошу.
— Куда вы? — спрашивает Ленн, смеясь.
Ингмар взволнован, он машет рукой в сторону конторы.
— Ингмар, мы едем в «Оперу». Встреча…
— Разве я назначал эту встречу?
— Да, вы хотели обсудить порядок переезда в Даларну.
— Ах да! Когда они будут грузить монтажный стол?
— Не знаю, но Флудин сказал, что автобус со звукоаппаратурой уже готов.
— А осветительная техника?
— По-моему, Нюквист сам хотел этим заняться.
Встав из-за стола, Ингмар доедает последнюю ложку кефира и идет к двери. Он вытирает рот рукой и выходит из столовой.
— Да какая разница, кто это, — отвечает Макс. — Но он всем говорит, будто ты боишься, что…
— Это Гуннар?
— Гуннар? Нет, — отвечает Макс и быстро уходит.
Ингмар еле сдерживается, чтобы не сбежать по крутому проходу вниз. Трава схвачена инеем, краски выцвели. Белое небо висит над крышей старого павильона немого кино.
— Но ведь я боюсь не больше, чем прежде, правда?
— Он говорит, что теперь ты снимаешь фильмы для критиков.
— Теперь понятно, почему они меня любят.
— Ага, — смеется Макс. — А если серьезно, я рассказал тебе это потому, что народ начал волноваться.
— И ты тоже? Думаешь, я утратил сноровку показывать настоящие фокусы?
— Нет, но…
— Я не могу устраивать показы только для того, чтобы…
— Хотя сейчас для этого самый подходящий момент, — перебивает Макс. — Чтобы все поняли — если ты только захочешь, то сможешь.
Войдя в Пятый павильон, они видят Аллана с чашкой кофе в руке и блюдечком с крошками зеленого марципана.
Гуннар облизывает ложечку, рассматривая стальные балки и арматуру на потолке.
— В честь чего у нас торт?
— У Гуннель родилась дочь, — отвечает Аллан.
— Дочь? Прекрасно, — остановившись, бормочет Ингмар.
Он вдруг понимает, что сияет, словно комплект новых кастрюль на солнце. Словно искрящаяся гора серебряной посуды, подсвечников, подносов, ножей и вилок.
Сидя за режиссерским столиком вместе с Ингрид и Гуннаром, они обсуждают длинную сцену — письмо пастору от учительницы.
— Надо попытаться понять ее, ощутить это отчаяние.
— Ведь она чувствует, что теряет его, — говорит Ингрид.
— И не понимает, что вся эта тягомотина только убивает любые возможности…
Он умолкает, когда Ингрид отводит взгляд.
— Я не имел в виду ничего такого.
— Нет, просто…
— Но все же она немного противна со своей…
Ингрид встает, он смотрит на часы и пытается сменить тему:
— Сделаем это перед камерой, но я хотел бы, чтобы ты говорила с Гуннаром на репетициях. Всегда есть риск потерять чувство роли, камерность отношений, если…
— Да, но…
— Хочу сказать тебе, что играешь ты потрясающе, — поспешно говорит он. — Вы оба великолепны.
— Если немного порепетировать, я чувствую себя совершенно уверенно, — говорит Ингрид.
Ингмар вспотел, он стягивает с себя свитер.
— Конечно, — говорит он, глядя на Ингрид. — Не знаю, стоит ли обсуждать, что происходит в тот момент, когда она появляется со своей экземой.
— Я бы попробовала по-всякому.
— Да, только не забывай, Ингрид, что пора завязывать с этими вариациями.
Он хохочет, почесывая затылок.
— Но попробовать ведь не мешает.
— Я знаю одно: все должно быть предельно чисто и просто. Я все это уже видел.
— Но актер постоянно должен анализировать, какие… — говорит Гуннар.
— Не забивайте себе голову, — перебивает Ингмар. — У вас и так все уже есть. Отработанная техника и прочее… Но в тот момент, когда вы начинаете думать, что выходит скучно, вот тогда действительно становится довольно скучно. Разве нет, Гуннар?
— В каком смысле?
— Разве не правда, что только посредственности нуждаются в том, чтобы пускать в ход всякие техники?
Он смеется. Гуннар вскакивает и швыряет сценарий.
— Гуннар! Я вовсе не хотел сказать, что…
Тот уходит. Ингмар садится.
— Ну что, я должен его догнать?
— Думаю, да, — говорит Ингрид.
Он встает и выходит из павильона. С низкого бурого неба сыплется дождь, плавно переходящий в мокрый снег. Ингмар идет к стоянке мимо луж с жухлой осенней листвой и садится в машину.
* * *
Миновав Стургатан, освещенную тусклым солнечным светом, который льется словно сквозь купол грубо отшлифованного стекла, они оказываются в квартире и садятся за маленький столик.
Глаза вглядываются в черное пространство вокруг, таращатся на неподвижную темноту, которая начинает медленно вращаться, образуя обитые свинцом пластины.
— Карин пошла на кухню? — шепчет Кэби.
— Не знаю, — отвечает Ингмар, поворачивая настольную лампу.
Его лица касается серый свет. Язвительные контуры напряженных челюстей, темный пиджак почти сливается с чернотой картины, написанной маслом.
Кэби сидит на одном из деревянных густавианских кресел. Она моргает, всматриваясь в очертания Ингмара в темноте, наклоняется и берет его за руку.
Рука совершенно окаменела.
Она вздрагивает от неожиданного грохота.
Словно листы железа громыхают о дерево.
Карин случайно оборвала занавеску, когда пыталась отодвинуть ее, чтобы впустить в комнату немного вечернего света. Она стоит, прижав к себе темную сетчатую ткань.
— По-моему, стало чуть-чуть светлее, — говорит Ингмар.
— Может быть, — отвечает мать.
Ингмар помогает матери сложить занавески. Из своей комнаты выходит отец, от его лба расходится тусклый свет, сотканный из сахарной ваты.
— Отец купил себе налобный фонарь, — говорит Карин и поджимает губы.
Неверной походкой, но довольно быстро, Эрик направляется прямо к Кэби. На нем отутюженный темно-серый костюм с жилетом и галстуком.
Только когда он останавливается, наконец проступает лицо в мутном свете фонарика. Он вцепляется в нее бесцветным угрюмым взглядом. Что-то говорит и, растопырив пальцы, протягивает правую руку. Кэби вежливо улыбается, протянув руку в ответ. На периферии светового поля, словно желтые вольфрамовые нити, слабо мерцают пальцы.
Ингмар спотыкается о стул, отодвигает его, собирается сесть, думая о том, что надо бы рассказать о завтрашней поездке в Ретвик, как вдруг губы отца искривляются.
Это уже не улыбка.
Лоб его краснеет. Рука проводит по усам, затем, двигаясь слишком быстро, ползет к галстуку.
Ингмар приближается.
Кэби мрачнеет, на переносице появляется складка. Губы изломлены в беспокойном изгибе.
— Мы собираемся устроить монтажную мастерскую в «Сильянсборге», — говорит Ингмар, выступая вперед.
Рука Кэби нащупывает его плечо.
— Ты стоял здесь все это время? — спрашивает она.
— Представляете, мы устроим там лабораторию, хоровой зал и все, что надо, прямо на природе — современный монтажный столик, гримерки.
— Извините, — произносит отец. — Мне сейчас должны позвонить.
Ингмар идет за ним следом.
— Мама сказала, что день рождения удался.
— Наверное, так, — бормочет тот.
— Я про ланч у Агды и путешествие на машине в Кафедральный собор.
Открывая дверь кабинета, отец оборачивается к Ингмару.
— Что-то еще?
— Нет, я просто… Мать говорила, что рассказывала вам о моем фильме.
Отец вздыхает, порываясь уйти.
— Она сказала, что он, должно быть, напомнит вам о времени, проведенном в Форсбаке.
Он опять нетерпеливо вздыхает.
— Я понимаю, что это совершенно другое, — поспешно прибавляет Ингмар. — Ведь вас любили в приходе.
— Не думаю. «Любили» — это нечто иное. Я был их собственностью, прихожане всецело владели мной и…
— Совершенно точно, именно это я и хотел сказать, — оживленно говорит Ингмар. — Пастор больше не принадлежит самому себе. Если б я был пастором, меня подавляло бы чувство долга — то, что я обязан творить добро, обязан…
— Впрочем, все намного сложнее.
— Да-да, конечно, разумеется, все сложнее, — говорит Ингмар, широко улыбаясь. — Но я надеюсь, это не помешает вам посмотреть фильм, когда он…
— Не думаю, что…
— Это всего лишь один из аспектов.
— Не думаю, что твой фильм может быть для меня интересен, — дружелюбно произносит отец, заходит в кабинет и затворяет за собой дверь.
Ингмар стоит перед закрытой дверью. Немного погодя он тихонько стучит, но, не получая ответа, подходит к книжной полке и в темноте проводит пальцами по корешкам книг. Прохладная бумага, нежная кожа переплета.
— Ингмар! — зовет Кэби.
— Я здесь.
Она подходит ближе.
— Что он сказал? — шепчет Кэби. — Я догадалась, что вы говорили о фильме…
— Да, я рассказал ему немного о том, каким бы я был пастором. Отцу показалось, что это довольно интересно.
— Замечательно.
— Он хочет посмотреть фильм.
— Ингмар, я ведь только что слышала его последние слова.
— Но до этого он говорил другое.
— Нет, — шепчет она.
— До этого, Кэби. Это правда. Он сказал, что хочет посмотреть мой фильм.
Карин убрала чашки и сахарницу и освещает карманным фонариком альбом с фотографиями и газетными вырезками.
— Хотите взглянуть? Это что-то вроде блокнота с воспоминаниями Эрика, с фотографиями из детства и юности Ингмара.
Кэби подходит ближе, спотыкается, но удерживает равновесие.
— На полу что-то лежит, — тихо произносит она.
— Наверное, сумка Эрика, — говорит Карин. — Он искал ее.
— Скорее похоже на пальто или одеяло.
— Тогда пусть лежит, — отвечает Карин, переводя луч фонарика на фотографии. — Здесь Ингмару двадцать один.
На пожелтевшей фотографии теснятся люди на фоне черной травы и темно-серых еловых ветвей. Тщательно причесанный Ингмар сидит в непринужденной позе, оживленно улыбаясь и держа за руку женщину в белом платье, подол которого немного задрался, обнажив голень. Вспышка застала ее с нарочито мстительной гримасой, словно она как раз собиралась ткнуть Ингмара в живот.
— Кто это? — спрашивает Кэби.
— Марианне фон Шанц, — отвечает Карин. — А это Дитер, который жил у нас во время войны, Сесилия Турсель и Нитти.
Ингмар ощупью продвигается к двери отцовского кабинета.
— Какой серьезный юноша, — нежно говорит Кэби.
— Помню, мы встретили его и еще нескольких студентов в телеге, запряженной белыми лошадьми, — рассказывает Карин.
Ингмар стучит в дверь, накрывая ладонью ручку.
— Красивая фотография, — тихо говорит Кэби. — В ней так сильно чувствуется девятнадцатый век — и шляпа, и воротник.
— Ингмар очень любил Ма.
— Знаю.
Карин переворачивает страницу.
— Лабан, мой младший брат. А это Фольке и Юхан.
— Это дядя Юхан?
— А это малютка Мэрта, — показывает Карин.
Серый снимок, на котором видны обои с косым узором и край написанной маслом картины в золотой раме.
Напротив белоснежного буфета, на котором в стеклянной вазе красуется букет раскидистых люпинов и боярышника, стоит маленький бледный мальчик с испуганным лицом.
Он вот-вот заплачет. А может быть, слезы едва только высохли.
На мальчике белая рубашка и темная юбка. Он боязливо присел, голые ноги в синяках слегка согнуты, мыски зашнурованных ботинок истерты.
Ингмар подходит к колеблющемуся свету фонарика, к матери и жене, сидящим за столом.
— До чего ж он хорошенький, — говорит Карин, улыбаясь и поблескивая зубами. — Когда Малыш писал в штаны, в наказание он ходил остаток дня в красной юбочке или платье.
— По-моему, я похож на маленького идиота.
— Нет, ты…
Они громко смеются.
— Ты похож на…
— На идиота, который написал в штаны, — ухмыляется Ингмар и грызет ноготь на большом пальце.
Кэби встает, не в силах оторвать взгляд от снимка, освещенного неверным светом фонарика.
Она смотрит на мальчика с оттопыренными ушами, тонкими причесанными волосами и ровно подстриженной челкой — до тех пор, пока страница не переворачивается.
8
В темноте гостиницу видно уже издалека. Сначала в просвете между елями на опушке вырисовывается мерцание.
Потом появляется сам «Сильянсборг», блистающий в ночи, словно щит с транспарантом.
Перед вами вырастает деревянное здание с прозрачными светящимися верандами, словно отделанными белой пряничной глазурью, и переливчатым светом, льющимся из вереницы разделенных рамами окон. Это огромное здание с освещенными балконами, лестницами и заиндевелыми гравийными площадками.
Неспешная колонна автомобилей и грузовиков, похрустывая, огибает его, останавливается и делает выдох.
* * *
По утрам двадцать три повозки выезжают из Ретвика и направляются прямо в лес по узеньким дорожкам, посыпанным гравием.
Кто-то замечает, что сваи от стеллажей для просушки зерна валяются в канаве среди прутьев и сорняков, оставшихся после сенокоса. Заячий след темнеет на светло-голубом пятне снега в тени выкорчеванного пня.
Вереск схвачен морозом.
В голых брусничных зарослях между сосен застрял полиэтиленовый пакет из супермаркета «Ика», белка внезапно замерла посреди своего стремительного вертикального восхождения.
Первый съемочный день, прямая дорога уходит в высокий сосновый лес, что-то находит на Ингмара.
Сердце бьется быстрее, руки холодеют.
Отцовские ноги в брюках прижимаются к нему с обеих сторон. Что-то мелькает, когда велосипед начинает шататься.
Затем неприятные ощущения постепенно отступают и почти исчезают, когда они поворачивают к Финнбаке. Дорога круто уходит вверх, оставляя внизу мерзлую землю. Штабели мокрых бревен угрюмо высятся возле начала лесовозной дороги. В глине застыли следы трактора и лесовоза. По земле волокли бревна и ветки.
Подъезд к красному сельскому домику в течение недели был весь изъезжен машинами «Свенск фильминдустри». Под широкими шинами обочины превратились в месиво грязи, полное мутных глинистых луж и глубоких следов от протекторов, которые успели наполниться новым гравием.
Люди что-то кричат друг другу, протягивая к дому кабели через мокрый, поросший травой склон. Полоса снега пролегает вдоль влажного бетонного фундамента. Треснувшую черепицу прислонили к подвальному окну.
* * *
В школьном зале, уткнувшись лбом в затылок Гуннара, сидит Ингмар, усталый и ищущий человеческого тепла. Он поворачивает лицо и говорит, что примерно так ее и представлял.
— Если ты понимаешь, о чем я.
Он ходит между школьными партами, показывает, где должна стоять камера.
— Да потому что сначала будут видны только две спины, а потом уже ты сядешь.
Ингрид кивает.
— Попробуй.
Она садится.
— Ты на нее не смотришь, когда врешь, — объясняет он. — А когда вы переходите к жесткому разговору, Гуннар, то должны быть предельно открыты.
— Что может быть проще, — шутит тот.
— Понимаю.
— Да, раз ты смог написать это за полдня, значит, я запросто это смогу сыграть.
— Предельно открыты.
— Разумеется, — заверяет Гуннар.
Они улыбаются друг другу, но все же невольно чувствуют, что конфликт остался нерешенным. Ингрид садится за орган и играет, Ингмар, остановившись, смотрит на детские рисунки на доске объявлений, на свет, падающий на пол из камина.
— Разожгите завтра камин углями, — говорит он. — С деревом у нас ничего не выйдет, слишком сильно трещит.
— Это точно, — соглашается Стиг.
— Надо бы записать, — добавляет К. А.
— Ну что, пройдемся последний разок по всей сцене? — тихо спрашивает Ингмар.
Все замолкают и встают у стен.
— Я устал от твоей близорукости, — тихо говорит пастор. — От твоих неловких рук, твоего вечного страха, твоих боязливых нежностей. Ты вынуждаешь меня вникать в твои физиологические подробности. Больной желудок, экзема, опасные дни, отмороженные щеки.
Так, все вдруг переросло в театр, замечает Ингмар. Зритель целиком концентрируется на образе актера.
Электрики, монтажники, звукотехники.
Единое дыхание, одни и те же слова.
Под лупой старшего брата вокруг пылающей занозы медленно замыкается блеклый круг.
Пастор грубо хватает учительницу за руку:
— Ты можешь помолчать? Можешь оставить меня в покое? Ты когда-нибудь перестанешь попрошайничать?
Оставив ее за партой, он выходит в переднюю.
Немногочисленные зрители отступают. Они собираются пропустить его и удивляются, когда он останавливается и поворачивается с улыбкой.
Кто-то начинает говорить, понизив голос, кто-то тотчас принимается за свои дела.
Фотограф Леннарт Нильссон из журнала «Се» выглядывает в окно, трет уголок глаза.
В коридоре гостиницы «Сильянсборг», возле гостиной с телевизором, расположена комната номер 605, оборудованная под монтажную мастерскую: светло-серый стальной столик от «Steenbeck & Co», четыре тарелки, матовый темный экран, стопки пронумерованных пленок в желтых блестящих контейнерах из пластмассы.
Из-за белых перчаток кажется, что руки Уллы мелькают еще быстрее, когда укладывают пленку вокруг маленьких колесиков, заправляют и наматывают на катушки.
Опустив шторы, Ингмар видит лицо Ингрид, когда та выступала в последний день в Росунде.
Взгляд умоляющий, в нем все больше и больше мольбы.
Голос и дрожащие губы.
— Отлично, — шепчет Ингмар.
— Да, — отвечает Улла и перематывает пленку обратно.
Он включает лампу.
— Черт, до чего ж она отвратительная, — смеется Ингмар. — Как можно такую любить, просто не представляю. Явилась тут, понимаешь, и требует, чтобы он был с ней нежен… Да после такого хочется только дать ей хорошую оплеуху.
Улла молча меняет катушку.
Лампа выключается, и на экране возникает лицо Гуннара.
Ингмар наклоняется вперед.
Пастор слушает послание учительницы.
Затем снова становится темно, Ингмар трет подбородок.
— Все-таки удивительная штука — лицо Гуннара, — говорит он. — Сначала оно просто скучное — это всего лишь актер, который играет свою роль. И вдруг — оно как бы наполняется изнутри. Становится все более открытым, обнажает весь стыд, весь регистр эмоций. Вот это самое превращение чертовски меня потрясает.
Улла перематывает пленку обратно, не глядя на Ингмара.
— Сказал бы ты это Гуннару хоть один-единственный раз.
— Он и так это знает.
— Воля ваша, — бормочет она.
Ингмар пьет кофе в библиотеке вместе с Гуннаром, Максом, Уллой и Свеном. Они только что пообедали; сытые и усталые после долгого рабочего дня, они сидят и обсуждают оговорки и сны на поскрипывающей кожаной мебели.
Напольные лампы с широкими сплющенными абажурами светятся на ослепительно блестящем деревянном столе, стены обшиты панелями, за стеклянными дверцами стоят ряды старых книг.
— Как хорошо, — говорит Ингмар, откидываясь назад. — Знаете, раньше я проводил здесь каждое лето. Здесь или в Дувнесе. Помню, как июньским утром отец взял меня с собой. Он должен был читать проповедь в Гронеской церкви. На нем был летний пиджак, на штанинах — зажимы, чтобы ткань не попала в велосипедную цепь, желто-серый галстук и белая шляпа. Меня посадили спереди, на багажник велосипеда. Я был босой, в синих полосатых шортах и рубашке вот с таким воротником.
Вспоминая мелькание стволов сосен, он вдруг видит, что между ними происходит какое-то странное шевеление, даже скорее за ними — как мультфильмы в стробоскопе, подрагивающее движение перед щелями в вертящемся барабане.
Ингмар делает глоток кофе и смотрит в спокойные глаза Макса. Светлая улыбка на губах Уллы, она прислушивается и выжидает. Гуннар дает ему время, наблюдает сквозь стеклянные двери, как маленькая компания играет в бридж, сидя в деревянных креслах с обивкой в широкую полоску.
Он продолжает живописать пейзажи своего детства, но с каждой минутой все больше растет подспудное чувство, что впереди его ждет какой-то опасный исход.
Быстро или медленно это свершится — сказать сложно.
Такое ноющее ощущение, будто занесенный для удара топор падает вниз, но вдруг меняет свое направление уже возле самого сучка.
Он понимает, этот рассказ надо прервать.
Однако замечает, что вместо этого сам нагнетает грозовое небо над этим воспоминанием, пытаясь совладать с неприятным чувством, будто он не в силах управлять ситуацией..
Он рассказывает о том, как, остановившись возле небольшого паромного причала на реке, они заметили, как над кронами деревьев нечто темно-фиолетовое скирдуют в сторону берега.
— Прямо над рекой натянули стальные тросы, — объясняет он. — От берега к берегу. Эти тросы пробегали под маленькими ржавыми колесами сквозь железные петли парома. Мы поднялись на борт, и отец повесил на воз свой пиджак, пошел к другим мужчинам и взял такой странный инструмент из просмоленного дерева, как же он называется? Они прихватили этим инструментом трос и потянули паром вперед.
Он не стал говорить, что вид у отца был нелепый и жалкий по сравнению с другими мужчинами. Он даже помнит, как некоторые ухмылялись у него за спиной.
Если только они заранее обо всем не договорились. Отец, наверное, немного шутил, преуменьшал свой вклад в общее дело, отсюда и язвительные комментарии.
Чашечка с кофе вздрагивает на блюдце у него в руках, когда бревно вдруг натыкается на паром. Серо-голубой ствол с протяжным вздохом проскальзывает под плоский остов.
Ингмар дрожащими руками ставит чашку на лакированную поверхность стола, поднимает глаза и видит, как стальные тросы поблескивают в утреннем свете на фоне хвойного леса на противоположном берегу.
Металл с сухим скрежетом трется о металл, маленькие колесики жалобно поскрипывают в своих пазах, когда он садится, опуская ноги в ледяную воду реки. Черная поверхность между двумя руслами плоская, как витрина магазина, солнце вдруг опускается глубоко в воду. Ледяной холод, нежно окутывая лодыжки, осторожно пытается увлечь его вниз, под самый паром.
— Я сидел, опустив ноги в воду, не понимая, как это опасно, — продолжает Ингмар, широко улыбаясь. — Тяжелые бревна ударялись о борт парома, проскальзывали под ним. А я сидел и болтал ногами, пока отец не схватил меня за шиворот и за руку и не вытащил на палубу. Он отчитал меня и влепил три крепкие пощечины.
— Ты мог утонуть, — говорит Свен.
— Я-то этого не понимал. Я был зол, каждую деталь как сейчас помню, — лжет он. — Помню, как пахло смоленое дерево, как лоб отца покраснел, а капелька пота блеснула на щеке. Я тогда подумал: «Я убью этого идиота. Вот приеду домой и придумаю ему самую мучительную смерть».
Заметив удивление Уллы, он продолжает:
— Отец должен лежать на полу и молить о помиловании. А я буду качать головой и слушать его стенания.
Макс опускает взгляд.
— Но в конце концов я ограничился тем, что плюнул ему в ботинок.
Улла смеется, а Гуннар, улыбаясь, почесывает затылок.
Врезавшись в берег, паром опускается вниз. Тонкая водяная перепонка скользит над горячей палубой.
— Понимаю, почему ты выбрал для съемок Даларну, — говорит Свен. — Вместо того прибрежного места, с которого ты начинал.
Ингмар думает о том, что на самом деле он получил всего одну пощечину.
Отец встряхнул его, дал пощечину и сказал строгим, но сдержанным голосом: «Стой здесь и веди себя подобающе!»
А затем — так, чтобы все слышали его слова, — он объяснил, что испугался: «Ведь тебя могло затянуть вниз, и пиши пропало».
И вдруг Ингмар вспоминает собственную реакцию. Вопреки его рассказу, никакой ненависти в нем не было. Он почувствовал стыд. Он все сделал неправильно и расстроился оттого, что плохо себя повел и разочаровал отца. Ингмар боялся, что в следующий раз тот не возьмет его с собой. А ведь он собирался вести себя хорошо, помогать в церкви и заслужить отцовскую похвалу.
Когда они причалили к берегу, отец слегка улыбнулся и, потрепав его по волосам, сказал: «Спускайся, глупыш».
От этого доброго голоса у Ингмара на глаза навернулись слезы. Он старательно вышагивал рядом с отцом, когда тот вел рядом с собой велосипед, и кивал всем, с кем прощался отец.
Как только они остались на дороге одни, отец положил велосипед в канаву, щеки его покраснели, он крепко схватил Ингмара за руки и встряхнул.
В голове вдруг становится пусто, Ингмар меланхолично берет со стола чашку и допивает остывший кофе. Он смотрит по сторонам, на темные панели, деревянную инкрустацию и корешки книг за стеклом с разводами.
Актеры обсуждают затянувшийся день.
— Я уже был готов плюнуть в оба ботинка, — говорит Гуннар.
Макс и Улла перестают смеяться, когда Ингмар проливает кофе себе на колени.
— Забавно, — бормочет он, глядя, как чашка выскальзывает из его рук и, стукнувшись о бедро, с дребезгом падает на ковер.
Ингмар поднимается и, споткнувшись, выходит из библиотеки. Стеклянная дверь закрывается.
Он заходит в свой номер, затворяет дверь и запирает ее на замок. Дергает ручку, затем притаскивает два кресла и подпирает дверь изнутри.
Он садится за письменный стол и, закрыв глаза, слушает длинные гудки. Когда мать подходит к телефону, он порывается бросить трубку, но вместо этого просит ее подозвать отца.
— Ты что-то хотел? — спрашивает мать. — Дело в том, что он…
— Да, хотел.
— Он сейчас отдыхает в шезлонге.
— Опять что-то с мочевым пузырем?
— Боль почти не прекращается, — отвечает мать. — Врачи говорят, нужна операция.
— Серьезно? — тихо спрашивает Ингмар и замолкает.
Кто-то медленно проходит по коридору и останавливается возле его двери.
— Ты не мог бы позвонить завтра?
Маленькие снежинки кружатся в полосе света, льющейся из окна. За дверью слышатся другие шаги, чуть легче, чем предыдущие. Этот человек также останавливается за дверью.
— Ингмар?
— Да, — отвечает он. Ослабляя ремни протеза, он расшнуровывает ботинок, снимает носок, смотрит на подошву ноги и видит, что на пластмассе крошечными буквами выгравировано: «Össur АВ, Hölzernes Bein*®»[37], — он все равно не увидит фильма «Причастие», — «Deutsches Eizeugnis 1945[38]».
9
— Ты не станешь… ты не можешь вот так просто меня оттолкнуть. Не верю, что ты настолько жесток.
Она плачет, раскрыв рот, и немного погодя Ингмар благодарит за сыгранную сцену.
Вытирая со щек слезы и сморкаясь, она говорит, что забыла про паузу.
— Ничего страшного, — утешает Ингмар. — Получилось прекрасно, но я хочу, чтобы мы попробовали еще раз — вместе с Гуннаром.
Ингмар вертит глобус, ковыряет шов на карте, который немного треснул возле Северного полюса.
— Можно попробовать, — тихо отвечает она.
— Я только подумал, что тебе не стоит забывать того, с кем играешь.
Она кивает.
— Никто не знает, куда делся Гуннар?
— Нет.
— Он наверху, отдыхает, — говорит Бриан.
— Твою мать, — шепчет Ингмар, когда кусок карты отклеивается от глобуса.
Гуннар входит в школьный зал, втянув голову в плечи и держа в руке носовой платок.
— Как себя чувствуешь?
— Пошел немного отдохнуть.
— Ингрид нужна какая-то поддержка перед камерой, — говорит Ингмар. — Посидишь тут?
— Конечно. Только я не уверен, что в состоянии сыграть свои эпизоды.
— Попробуй.
— Только бы голос не пропал, — отвечает Гуннар, неуверенно показывая на шею.
— Да, — говорит Ингмар, стараясь, чтобы его слова не прозвучали резко, — я понимаю, что ты беспокоишься за свое горло, но…
Гуннар садится на стул напротив Ингрид.
— Ты можешь сидеть вон там, — говорит Ингмар, думая о том, с какой легкостью она ускользает взглядом от камеры.
После съемок Ингрид вытирает со щек слезы, сморкается и расстилает на полу между органом и кафедрой овчинный тулуп — прямо среди проводов, штативов и ящиков с лампами.
Она ложится на него и закрывает глаза.
Оланд и К. А. стоят у нее в ногах, пытаясь приклеить к глобусу отставший кусок карты.
Леннарт Нильссон фотографирует, взобравшись на школьную парту.
Берта помогает Гуннару одеться, закрепляет на шее желтоватый крахмальный воротничок.
— У тебя температура?
— Наверное, да, — говорит он себе под нос.
— Может, стоит уложить тебя в кровать, — говорит Ингмар. — Понимаешь, у нас нет средств, чтобы так долго здесь оставаться.
— Да и погода какая стоит, — добавляет Свен. — Иначе придется использовать реквизит.
Холодный воздух окутывает Ингмара, стоящего на летней веранде. Он наблюдает сквозь плотный туман за двумя мужчинами в серых комбинезонах. Те пытаются приладить новые ветки к дереву, посаженному на площадке после того, как срубили рябину.
Из передней у него за спиной доносятся голоса электрика и плотника, они обсуждают начальство и сравнивают командировочные. Голоса у них довольно странные, будто они разговаривают, уткнувшись в подушку.
— Да тут всегда одно и то же дерьмо, — говорит вдруг один. — Когда деньги кончаются, съемки прекращают, спасибо за кофе, мы уже это слышали.
— Но тут все-таки Ингмар Бергман, — отвечает другой, словно пытается изобразить чью-то дурацкую интонацию.
Раздается сердитый женский крик, хлопает дверь. Мужчина громко ругается, затем наступает тишина.
Лампы и камеру переносят, кабели сматывают. Кивая на окно, Свен бормочет, что туман сегодня слишком уж густой.
— Освещение будет не таким, как надо, — говорит Ингмар.
— И с другими сценами не состыкуется.
Ингмар садится на край кафедры и ковыряет глобус.
— Мы могли бы сделать крупные планы, — предлагает Свен.
— Да.
— Тогда достаем желтые фильтры, — громко говорит Свен.
Ингмар стоит и смотрит, как Оланд и Хокан натягивают фильтры с внутренней и внешней стороны окна. Он грызет ноготь, еле сдерживаясь, чтобы не крикнуть им, что надо бы поторопиться.
— Ингрид, — осторожно говорит Ингмар, — может, пойдешь наверх, отдохнешь? Если хочешь, я могу сыграть с Гуннаром вместо тебя.
— Я устал от твоей близорукости. От твоих неловких рук, твоего вечного страха, твоих… твоих боязливых нежностей. Ты вынуждаешь меня…
— Стоп, — тихо говорит Ингмар.
— Извини, сбился.
— Ничего страшного, все равно было не совсем…
— Правильно, — заканчивает Гуннар.
— Очень важно, чтобы именно эта сцена не выглядела наигранной, понимаешь? Должно чувствоваться, что он все время носит в себе эту ненависть.
— Ты хочешь, чтобы это звучало так, как на читках.
— Нет, ты понимаешь, о чем я говорю.
— Не понимаю, но…
— Что-то здесь не склеивается. И поэтому ты берешь неверный старт.
— Совершенно не представляю, что я должен делать.
— Давайте лучше начнем с того, что Гуннар будет стоять у окна, — предлагает Ингмар. — Как думаешь, Свен?
— Надо только немного переставить свет.
— Давай попробуем.
Пастор отходит от окна, чтобы вдруг рассказать о своем понимании истины.
— Хорошо, — бормочет Ингмар. — И когда ты сядешь, Гуннар, просто сиди молча, и ненависть сама захлестнет тебя…
— По-моему, я придумал прекрасную причину. Я имею в виду репутацию пастора. Но ты только отмахнулась. Я тебя понимаю. Ведь это была ложь. Главная причина в том, что я не могу тебя видеть. Ты слышала, что я сказал?
— Конечно, слышала, — отвечает Ингмар.
— Я устал от твоей заботы, от твоей болтовни и добрых советов…
— Ну все, теперь ты завелся и решил выложить весь гуннаровский арсенал, — перебивает Ингмар. — Не знаю, если б ты не вынимал руки из карманов, то, наверное, тебе было бы чуть легче войти в то состояние, которого я добиваюсь.
— Да, конечно, не вынимать руки из карманов.
— Ну что? Пробуем еще раз, — улыбается Ингмар. — Прогоним эту сцену еще несколько раз, совершенно спокойно, совершенно… А может быть, потом, на неделе, попробуем ее переделать, если будет необходимость.
Тихо. Кругом стало очень тихо.
— Мотор!
— Камера! — произносит Ингмар с безмятежным видом.
— Камера! Поехали! — откликается Стиг Флудин со звукооператорского пульта.
Пастор отходит от окна, останавливается, когда ему в голову приходит какая-то мысль.
— По-моему, я придумал прекрасную причину…
— Стоп, — говорит Ингмар, поворачиваясь к Свену. — Что с камерой? Она что, все время так будет жужжать?
Гуннар садится на стул, уткнувшись лицом в руки.
— Иногда так получается, — отвечает Свен. — Иногда она…
— Нет, так дело не пойдет, — перебивает Ингмар, затем добавляет, понизив голос: — Согласен? Это никуда не годится.
— Давайте поменяем кассету, — предлагает Свен, не поднимая глаз.
— Только поторопитесь.
Ингмар подходит к Ингрид, которая уже спустилась вниз и сидит за кафедрой, держа в руке чашку кофе. Он наблюдает за тем, как Свен с Петером разбираются с камерой, ожесточенно чешет голову и заговаривает об одной из реплик учительницы.
— Но ведь пастор только что выложил ей всю правду, — возражает она.
— Да. Или то, что он считает правдой. Не думаю, что люди могут говорить правду или лгать.
— О чем ты? — спрашивает Ингрид, слегка улыбаясь.
— Либо мы лжем — и тогда все, что мы воспринимаем как правду, становится ложью.
— Либо?
— Либо наоборот, — весело отвечает он.
— Мы говорим только правду?
— Потому что на самом деле мы говорим правду, когда мы лжем.
— Не понимаю я писаных слов, — вздыхает Ингрид, пытаясь увильнуть от этого разговора.
— Ни один актер их не понимает, — улыбается Ингмар. — Актеры понимают только слово сказанное.
— Да и со сказанным тоже не очень, — смеется она.
— Нет, актер — как животное: он воспринимает одни только интонации.
— Может, хватит? — говорит Гуннар, вставая со стула.
Свен с Петером запеленали камеру одеялами и, одолжив у Ингрид овчинный тулуп, положили его сверху.
Сделав глоток воды, Ингмар берет стакан и подходит к Гуннару.
— На этот раз сыграй так, как ты хочешь, — говорит он. — Я почти согласен с Торстеном Хаммареном[39], когда он говорит, что плевать хотел на ваши мысли, главное — это ваши голоса и выражения лиц. Черт, вы же понимаете, что результат важнее всего. Думайте хоть про блинчики, только пусть это выглядит так, как надо.
Гуннар смотрит в пол, подбородок побледнел, челюсти крепко сжаты, на переносице глубокая складка.
— Пробуем камеру, — говорит Ингмар, вытирая ладони о брюки. — Вставай у окна. Давай, Свен.
— Камера, — говорит Стиг.
— Ты снимаешь? — спрашивает Ингмар.
Свен кивает.
— А ведь тихо.
— Как в гробу.
По губам Ингмара пробегает улыбка, он садится напротив Гуннара и говорит едва слышно, что камера включена, он может начинать.
— Я устал от твоей близорукости, — тихо говорит пастор. — От твоих неловких рук, твоего вечного страха…
— Стоп, — говорит Ингмар, вставая. — Ты должен ощущать тяжесть этих слов. Ты всего-навсего честен. Уйди от этой сосредоточенности. Не надо зацикливаться на формулировании своих мыслей. А в остальном — все прекрасно.
— Что-то я тебя не понимаю, — отвечает Гуннар, не глядя на Ингмара. — У меня не получится.
— Не надо так говорить, Гуннар. Ты все делаешь правильно — у тебя верная ритмика и все остальное. Просто ты слишком сосредоточиваешься на самих словах, ты играешь, вместо того, чтобы…
— Даже не хочу дальше слушать.
— Ну прошу тебя, Гуннар, я же говорил, что мы будем прогонять эту сцену по многу раз, — мягко увещевает Ингмар. — Под конец все будет прекрасно.
— Как на дрессировке, — бормочет Гуннар, сморкается и швыряет бумагу на пол.
Окунув два пальца в стакан с водой, Ингмар смачивает веки. Он смотрит на часы, барабанит по парте и старается говорить как можно мягче, когда спрашивает, остались ли у них силы на еще несколько дублей.
Все молчат, а Гуннар встает и подходит к окну.
— Мотор. Камера. Поехали.
Бревно уткнулось в борт, по всему парому пробежала легкая дрожь, стальные тросы спели в унисон.
Сзади его подхватили за загривок и руку, выволокли из воды, оттащили от края, дали оплеуху — такую, что потемнело в глазах.
— Стой здесь и веди себя подобающе!
Он пытался объяснить, что даже не намочил одежду.
— Слушай, когда я с тобой разговариваю, — перебил отец и продолжил уже гораздо спокойнее: — Я испугался. Понимаешь? А что, если бы ты утонул? Если бы тебя затянуло под паром?
— По-моему, я придумал прекрасную причину. Я имею в виду репутацию пастора. Но ты только отмахнулась. Я тебя понимаю. Ведь это была ложь. Главная причина в том, что я не могу тебя видеть. Ты слышала, что я сказал?
— Конечно, слышала, — отвечает Ингмар.
— Я устал от твоей заботы, от твоей болтовни и добрых советов…
Ингмар помнит, как ему было стыдно за то, что он снова разочаровал отца. Он не понимал, почему ему никогда не удается поступить так, как надо. Ведь он знал, что ему наказали стоять на месте, рядом с возом, на который отец повесил пиджак.
Когда они причалили к берегу, отец слегка улыбнулся и, потрепав его по волосам, сказал: «Спускайся, глупыш».
От этого доброго голоса у Ингмара на глаза навернулись слезы. Он шел за отцом, и нес его пиджак, и подал его отцу, когда они вышли на дорогу, он кивал всем, с кем прощался отец.
Холодная волна внезапно пронеслась мимо, словно трещина в воздухе, и тотчас исчезла в норе на отвесном песчаном склоне.
Отец остановился, ожидая, пока они останутся одни, огляделся вокруг, затем положил велосипед в канаву, где он бесшумно утонул в высокой траве. Лицо его преобразилось, щеки покраснели, он крепко схватил Ингмара за плечи, встряхнул и закричал: «Ты что себе думаешь? Решил, что мне нравится с тобой нянчиться? Да? Так ты думаешь? Вот что я тебе скажу, Малыш: если мать уйдет, остальное меня не волнует. Пусть забирает тебя с собой. Пусть. Значит, у меня больше нет никаких детей. Понял? Я люблю только ее и никого больше».
Отец поднял велосипед, прошипев: «И прекрати все время тереть глаза!»
«Извините», — поспешно ответил Ингмар.
Заметив, что Ингмар идет следом, отец вскочил на велосипед и поехал по прямой гравийной дороге.
— Я устал от тебя, — говорит пастор. — От всего…
— Последнюю реплику надо сделать еще раз, — перебивает Ингмар дрожащим голосом. — Камера едет. Ты начинаешь с паузы и продолжаешь до самого конца.
— Я устал от тебя, — говорит пастор. — От всего, что с тобой связано.
— Почему ты раньше об этом не говорил? — тихо спрашивает Ингмар.
— Потому что я воспитанный человек, — отвечает пастор и замолкает.
— Продолжай, продолжай же, — подбадривает его Ингмар, встречаясь с ним взглядом.
— Плевать я на все хотел, — говорит Гуннар.
— Черт, — отвечает Ингмар, проводя рукой по губам.
— С меня хватит, плевать я хотел на весь этот фильм!
— Да пошел ты к чертовой матери!
Ингмар швыряет стакан с водой об стену. Осколки стекла и воды брызжут на детские рисунки и пол. Шипит металлическая коробка одного из прожекторов.
Комната качается, словно плот, Ингмар несется вперед, опрокидывая стул.
Гуннар отворачивается, но Ингмар хватает его за руку.
— Никуда ты не пойдешь! — кричит он. — Понял? Ты останешься и будешь делать то, что я говорю!
Пообедав у себя в номере, он включает взятый напрокат телевизор. Когда изображение становится четким, на экране возникает Бен Картрайт[40], снимающий шляпу.
Словно только дожидался, когда включат телевизор.
Лицо его блестит, седые волосы немного взлохмачены.
Складка, пролегающая на переносице меж черных бровей, наводит Ингмара на мысль о большом накладном носе.
— Кого ты думаешь обмануть, Малыш?
Бен снимает накладной нос и кладет его на Библию. Ворчливо повторяет вопрос самому себе, вытирая пальцем свой курносый сопливый носишко.
Ингмар смущается.
Бен подается вперед, наклоняясь над камерой, словно глядит в зеркало. Когда он стаскивает с себя красивую накладную верхнюю губу, Ингмар выключает телевизор.
Он вспоминает, как взял со стола письмо Дага, оставленное родителями, и читал его в одиночестве, стоя в столовой. Была зима, Даг уже второй месяц служил добровольцем на фронте в Финляндии. Он отморозил уши и ногу, но писал, что чувствует себя хорошо.
«Врешь», — подумал Ингмар.
Даг сообщал, что рассказывать особо не о чем, хотя все знали, что шведские войска оказались в самом центре бомбардировок Кемиярви.
«Впрочем, о войне писать не буду», — добавляет Даг.
Целью этого короткого скупого письма было заставить родителей прислать ему молочного шоколада и шлем.
— У меня есть немного шоколада, — говорит Ингмар, стучась в дверь.
В самом конце гостиничного коридора, возле начала лестницы, настенные бра отбрасывают мощный, но мутный свет на обои с красными медальонами.
Несколько мгновений Ингмар стоит, не шевелясь, и смотрит на коробку с шоколадом. Затем снова тихонько стучит.
Едва слышный треск, прерываясь, прокатывается по потолку.
— Гуннар? — тихо зовет он и опять стучит в дверь.
Закрыв глаза, он одной рукой ощупывает живот, оттягивает тугой пояс на брюках.
Музыка по радио звучит и вновь умолкает. Сонно перекатываются ноты фортепианной пьесы.
— Нам надо поговорить, — продолжает Ингмар, но больше уже не стучит.
Он медленно бредет по коридору, чувствуя, как деревянный пол под ковром прогибается под тяжестью его тела.
Кто-то движется в лучах бра, скрытый ослепительным светом.
Стройная нога, костыль.
Ингмар приближается, но вдруг поворачивается и идет в противоположном направлении, бежит, взлетает по лестнице большими шагами, немного споткнувшись на верхней ступеньке.
Сердце колотится в груди, когда он останавливается возле дверей в гостиную с телевизором. Он старается думать, что не мог видеть кормилицу, в той запущенной комнате, это был кто-то другой. Он ждет, гладит себя по волосам — надо успокоиться. Хочет вернуть лицу его естественное выражение. Свои настоящие губы и глаза.
Свет за опаловым стеклом время от времени вспыхивает.
Вдруг из трещащих динамиков слышатся звуки марша.
Свет гаснет. Наступает тишина.
Ингмар подходит, стучит в дверь, открывает ее и заглядывает. Шарит по стене в поисках выключателя и поворачивает его. В люстре на потолке раздается звон, но зажигается тусклая настольная лампа в форме маленького бродяжки с гармошкой, стоящая в глубине комнаты.
Ингмар входит и пытается улыбнуться, понимая, что все спрятались. Они втиснулись за зеленые диваны, за драпировку, шифоньер и тумбочку с телевизором.
Но он, как ни в чем не бывало, словно не замечая, что его пытаются разыграть, не придавая значения тому, что Ингрид стоит на четвереньках за креслом, а Макс только что скрылся между окном и гардиной, начинает рассказывать о своем сне.
— Я должен ставить пьесу Стриндберга в Драматене, — начинает он, садясь на диван. — Безобразные декорации — маленькие корявые вишневые деревца и ручьи с настоящей водой, которые текут вот так.
Тумбочка трещит, кто-то елозит за спинкой дивана; вдруг он чувствует, как что-то мягкое упирается ему в лодыжку, и опускает глаза. Стельная овца кладет голову на пол, едва не прижимаясь влажным носом к его ноге.
— Работа началась с репетиции со статистами, — продолжает Ингмар, глядя, как лошадь поднимает голову и мотает ею, чтобы освободиться от кружевной занавески. — Мне надо было рассказать, о чем пьеса, и я попросил тишины. Но все продолжали разговаривать, словно меня и не было. Они нашли старую удочку, играли с ней и смеялись.
Телка с болтающимся поводом медленно и торжественно выходит из своего укрытия за шифоньером. Свет настольной лампы маслянисто поблескивает на ее светло-бурой шкуре.
— Я объяснял им, что это единственная пьеса Стриндберга, которую надо играть совершенно реалистично. Но статисты, не обращая внимания, продолжали болтать и шуметь, и, выйдя из себя, я закричал: «Репетиция окончена!»
Наклонившись, он треплет овцу по пушистой морде. Та зажмуривается, переворачивается на спину и перебирает дрожащими копытами в воздухе, тяжело валится на бок, вскакивает, фыркает и идет вдоль дивана.
Телка толкает мордой дверь в коридор, просовывает в дверной проем голову, затем протискивается сама. Автоматически закрывающаяся дверь скользит по ее плечам, гладкому крупу и слегка прижимает заднюю ногу.
Вслед за ней тяжелой поступью, низко опустив голову, из гостиной выходит лошадь.
Затем овца, с чувством собственного достоинства в глазах. В шерсти застряли комья земли и солома. За ней идет серо-черная свинья с блестящими глазами.
Ингмар в одиночестве сидит на диване. В коридоре тишина. Маленький бродяжка отбрасывает тусклый свет на панель и столик у стены: сквозь прозрачный подбородок льется яркий свет, а гармошка пропускает лишь мутное коричневое сияние.
Салфетка на спинке падает за диван, когда Ингмар встает и подходит к окну. Откидывает оба крюка и распахивает створки навстречу темноте.
Глубоко-глубоко в черной воде мерцают звезды.
Он взбирается на узкий подоконник, крепко ухватившись одной рукой за среднюю раму, другой — за верхнее полукружье окна, и высовывается наружу, окунаясь в холодный воздух где-то на высоте восьми метров от стылого склона. Он чувствует, как мрачное спокойствие разливается по всему телу.
Клочья облупившейся краски падают на подоконник.
Сердце тяжело отбивает удары, опускаясь все ниже и ниже.
Руки немеют, он почти не чувствует ног, далеко высунувшись из окна. Почти незаметно для самого себя он может выпустить эту опору.
Фасад гостиницы, ряды молчаливых окон, истончившаяся листва, терраса где-то внизу, усыпанная осенними листьями вперемешку со снегом.
Сосна под лунным светом отбрасывает тонкие нитяные тени. Четыре звезды выделяются на фоне других, образуя стрелу. Одинокие фонари угадываются в ложбине, а огромное озеро кажется больше неба.
10
Ингмар не решается вскрыть письмо, страшась известий об отце. С каждым днем ему становится хуже. Операцию пришлось перенести, подключили Нанну Шварц[41].
Встретив возле столовой Стига, Ингмар рассказывает, что собирается делать финальные эпизоды в церкви Скаттунге и, наверное, пора посмотреть сцены с местом самоубийства.
— Я думал, съемки прекращены.
Рука с письмом дергается, судорожно, словно лапка долгоножки.
— Почему это прекращены?
— Экелунд звонил и сказал, что…
— При чем тут Экелунд? Извини, но такие вопросы надо решать со мной.
Стиг все время прикрывает рукой рот, когда говорит. Взгляд у него скептический.
— Будешь сегодня снимать?
— Да.
— Понимаешь, я на сегодня своих ребят отпустил.
Засунув руки в карманы брюк, Ингмар встречается взглядом со Стигом.
— Может, попробуешь их разыскать?
— Да, но…
— Попробуй, — говорит Ингмар, поворачивается и уходит.
Оглянувшись в дверях, он смотрит на спину Стига и кричит:
— Надо поработать сегодня, если получится решить эту проблему!
Войдя в столовую, Ингмар останавливается и возвращается мыслями в тот момент, когда рассердился на Гуннара и швырнул стакан в стену.
Острые осколки и круглые капельки.
Он медленно отодвигается в сторону, глядя на искрящееся на солнце жидкое месиво стекла и воды. Смотрит, как детские рисунки, множась, отражаются во внутренней стороне полушария.
Испуганный взгляд Гуннара проступает сквозь дрожащие хрустальные подвески люстры.
Ингмар передвигается, и лицо Гуннара исчезает. Снова появляется и растворяется, когда угол зрения меняется так, что капли воды наполняются светом прожектора. Он встает на цыпочки, потом сгибает колени и видит, что кто-то другой стоит рядом с тем местом, где должен быть Гуннар.
Это ребенок. Наверное, Стефан, думает Ингмар.
Мальчик пытается дотянуться до какого-то предмета, но не достает. Ему мешает чья-то негнущаяся рука, лежащая у него на лбу и вцепившаяся в волосы.
Ингмар подходит к актерам, ставит чашку с чаем на стол и садится.
— Вы что, тоже думали, у нас сегодня свободный день?
— Вообще-то Гуннар болен, — сердито говорит Ингрид.
— Я только хотел сказать…
— Что же ты хотел нам сказать? — перебивает она.
— Ничего.
— У меня тоже немного болит горло. Но я конечно же притворяюсь.
Он смотрит в чашку с чаем. По темной поверхности пробегает рябь.
— Я только хотел узнать, готовы ли вы к поездке в Скаттунгбюн.
— Конечно, готовы, — отвечает Макс, глядя на других и пожимая плечами.
Катинка заходит в столовую и жестом подзывает Ингмара.
К. А. догоняет его в коридоре и, расстегивая манжету рубашки, бормочет, что ему как-то неспокойно.
— Ты с Гуннаром говорил?
— Как раз собираюсь, — отвечает Ингмар.
— Вряд ли у тебя получится уговорить его снова ехать в Финнбаку.
— Да я бы и не решился ему это предложить, — с улыбкой говорит Ингмар. — Думаю, сцену можно будет смонтировать из того материала, что уже есть.
Звонит телефон на стене.
— Не знаю, — говорит Стиг, опустив глаза. — Похоже, народ совершенно… мне кажется, они просто не верят, что фильм состоится. Пока царит такое настроение, ничего не получится.
— Да уж.
— Ингмар, — начинает Стиг, пытаясь встретиться с ним взглядом, — скажи, как вообще обстоят дела? Сколько мы еще здесь пробудем?
— Не знаю, — отвечает он, прижимаясь к стеклянному горлу банки.
Снова звонит телефон.
— Ты должен поговорить с шефом. Как только перестанет светить солнце, мы за неделю управимся.
— Мы могли бы сделать все за четыре дня, — отвечает Ингмар. — На это у нас есть деньги, но ты же видишь, что сегодняшний день, похоже, пропал. А если Гуннар до завтра не поправится, то можно собираться домой.
У К. А. дрожат губы.
— Все будет хорошо, — мягко увещевает Ингмар.
К. А. молча смотрит ему в глаза.
— Если б ты мог разыскать Блумквиста и его команду, мы бы сегодня съездили на машине посмотреть место самоубийства.
Сквозь стеклянные двери ресепшена Ингмар видит Бритт Арпи[42]. Он отворачивается как раз в тот момент, когда та открывает рот. «Бергман», — слышится у него за спиной.
Он убегает, чтобы не слышать ее слов о телеграмме, которая пришла утром.
Быстро идет по коридору.
Ударяется о стеклянную стену и, перевернувшись, вспархивает к потолку, отскакивает, залетает под стеклянный колпак и, обжегшись о раскаленную лампу, падает на пол. Обогнув угол, слетает по лестничному пролету и переходит на шаг.
Останавливается, непонятно зачем глядит на часы, делает еще пару шагов и тихонько стучит в дверь.
— Кто там?
Открыв дверь, Ингмар видит Гуннара, который лежит в постели и читает.
Книга сползает на грудь, он закрывает глаза.
— Решил посмотреть, как ты тут.
— Да вот так, — бормочет тот.
— Горло болит?
— Сегодня работать не смогу.
— Понимаю, — поспешно говорит Ингмар. — А как насчет завтра?
Гуннар не отвечает.
— Боюсь, денег не хватит, если мы… с этим, конечно, ничего не поделаешь, но…
Гуннар открывает глаза, губы сужаются в ниточку и бледнеют еще сильнее.
— Может, принести тебе порошки для моментального выздоровления? — спрашивает Ингмар, не в силах сдержать улыбку. — Отец показал мне поздравительную открытку, которую я нарисовал бабушке, когда мне было лет шесть. Она изрисована красными и желтыми лицами с кучей точек. На обратной стороне моя мать написала: «На картине, без сомнения, изображен большой пожар».
Гуннар снова начинает читать.
— Отец впервые захотел посмотреть фильм, пришлось пообещать ему, что все получится, — лжет он.
За окном раздается автомобильный гудок, гнусаво звучат фанфары. Когда, отодвинув занавеску, Ингмар смотрит в окно, он видит, как незнакомец, стоящий рядом с черной машиной на гравийной площадке, машет рукой.
Опустив голову, Свен ждет в коридоре рядом с его дверью. Взлохмаченные светло-рыжие волосы, уставшие глаза в обрамлении сахарной крошки белесых ресниц.
— Что случилось? — спрашивает Ингмар. — Ты как будто… даже не знаю, как сказать. Все будет хорошо, так всегда бывает.
— Просто из лаборатории сообщили об ошибке.
— Какая пленка?
— Они пока не уверены, что что-то не так, но…
— Это сцены с Гуннаром? Да? — спрашивает Ингмар. — Тогда все пропало.
Свен опускает глаза, щеки и кожа вокруг светлых бровей краснеют. Ингмар не знает, что сказать, он не в состоянии продолжать этот разговор, он слишком устал, чтобы говорить что-то ободряющее. Он закрывает дверь в номере, оставив Свена стоять в коридоре, медленно запирается на замок и ложится на живот в кровать.
Телефон трещит, временами царапая голоса, нереальное чувство кружения и падения пронизывает беседу.
— Нет, я вернулась позавчера.
— Как там Мария Луиза?
— Как обычно, — говорит Кэби. — Nur Ruhe[43]. Разбила все на части, каким-то чудом нашла дирижера, который выучил оркестровую партитуру, переложенную для фортепьяно.
В трубке раздается бульканье.
— А в воскресенье… да, точно, она устроила для нас фортепьянный концерт, — продолжает Кэби. — Пригласила кучу учеников и друзей.
— Ну и как?
— Во всяком случае, я почувствовала, что все в порядке.
— Хорошо.
— А ты как? Голос у тебя немного расстроенный.
— Даже не знаю…
— Что-то случилось?
В трубке раздается пощелкивание, на мгновение становится слышно жужжащее эхо чужих разговоров. Кэби вздыхает, голос не слушается ее, когда она начинает говорить:
— Наконец это случилось. Ты кого-то встретил?
— Что? — удивленно спрашивает он. — Прекрати, у меня тьма проблем с фильмом.
— Ты только скажи. Ты ведь знаешь, что мне можно рассказать. Дело не в ревности, просто я не хочу, чтобы ты мне лгал.
— Кэби, никого я не встретил.
— Ты ведь спишь с Ингрид?
— Вовсе нет, говорю же, все наоборот.
— Значит, ты спишь с Гуннаром, — смеясь, говорит она.
Она хохочет и отвечает, что, возможно, ему стоит попробовать.
— Вы поссорились? — спрашивает она таким же довольным голосом.
— На меня вчера что-то нашло, я орал, как сумасшедший. Гуннару от меня досталось, он заболел.
— Только бы вы успели сделать все, что задумано.
— Похоже, не успеем. Может быть, фильма вообще не будет.
— Ты серьезно?
— Ну я не знаю, деньги кончаются, все усталые и злые.
— Деньги наверняка есть.
— Было немного глупо начинать…
— Но ведь это очень важный фильм, — говорит Кэби.
— Ясное дело, я хотел показать отцу, что…
— Я имею в виду для тебя, важный для тебя самого, — перебивает она. — Все равно он не будет его смотреть.
— Да, ты права.
— Ладно, — бормочет она.
На линии что-то трещит.
— Что?
— Думаешь, ему понравится? — спрашивает она.
— Он скажет, что я ничего не знаю о пасторах, — отвечает Ингмар и поджимает губы.
Заметив сына, бегущего следом, отец быстро вскочил в седло и, слегка пошатнувшись, поехал вперед. Прямо по гравийной дороге, что пересекалась с просеками и свежими лесовозными тропами.
Ингмар видел, как полы тонкого пиджака развевались над сумкой на багажнике.
Видел, как маленький мальчик изо всех сил бежал за своим отцом, а тот, сгорбившись, все сильнее жал на педали, устремившись к тенистой синеве узкой тропинки в еловом лесу.
— Ты должен поговорить с Гуннаром и со всеми остальными, — говорит Кэби. — Сказать, что ты раскаиваешься и не стоило так себя вести.
— Но я не могу, — отвечает он. — Я способен только сидеть в номере и смотреть телевизор.
— Но ведь фильм…
— К тому же по субботам в гостинице танцы, наверняка все пошли туда.
— И ты иди.
— Не переношу танцы, — фыркает он.
— Необязательно танцевать для того, чтобы…
— Не могу, Кэби, я в таком отчаянии, сейчас заплачу.
— Тогда поплачь.
— Ага, — улыбается он, чувствуя, как в носу что-то натягивается, — наверное, это поможет.
11
Ингмар с отцом живут в гостинице Сёдерхамна. После ланча они едут на поезде до Бергвика и идут в кино.
На экране Маяк и Прицеп[44].
Вдруг кто-то стучит в дверь в самом конце салона.
Стучит тихо, но все же Ингмар должен открыть.
На потолке утренний свет. Выключенная лампа, мертвые мухи на дне стеклянного колпака.
В дверь снова стучат, Ингмар встает с постели, отодвигает оба кресла и открывает.
С приветливой робостью посмотрев на него, Свен входит в комнату. За ним идет К. А. с маленьким подносом, на котором лежит завтрак.
— Я только что получил ответ из лаборатории, — говорит Свен. — Они сказали, ничего страшного, просто… — Широко улыбаясь, он опускает глаза. — Просто смех, да и только, — продолжает Свен. — Они сказали, что все отлично.
— Здорово, — бормочет Ингмар.
— Вечером можем посмотреть.
К. А. ставит поднос на тумбочку.
— Я поговорил с Ингрид и Максом за завтраком. Они сказали, что Гуннар чувствует себя лучше.
— Рад за него, — говорит Ингмар, садясь на кровать.
— Что-то случилось? — спрашивает Свен.
— Случилось то, что, кроме меня, никто больше не хочет снимать этот фильм… да я и в себе уже не уверен.
К. А. подходит к окну и немного погодя бормочет:
— Стиг со своими ребятами ждут во дворе.
— А что там с погодой? — интересуется Ингмар.
— Солнце светит, но горизонт пасмурный. Лишь бы нам немного подфартило, и день будет серый.
— Значит, пора одеваться, — говорит Ингмар.
Стоя в фойе, Стиг рассказывает об особой курительной трубке, которую он вырезает из грушевого дерева.
— Каждый день понемногу.
Гуннар и К. А. осторожно разворачивают замшу на стеклянном столике.
— Трубка двойная, — говорит Стиг, выжидательно заглядывая им в глаза. — Можно забить в оба чубука один и тот же табак, а можно два разных сорта.
Те внимательно изучают трубку. Смотрят ее на свет.
— Двойная, — повторяет Гуннар, стараясь не засмеяться.
— Похоже на мотоцикл с коляской, — говорит К. А. Ингмар подходит к ним, и Гуннар протягивает ему трубку.
— Ну и как, работает? — тихо спрашивает он.
— Работает? — переспрашивает Стиг. — Ты о чем? К. А., смеясь, отворачивается, и Ингмар видит, как поблескивают глаза Гуннара, когда, прикрывая рукой рот, он садится на стул.
Входит Свен, он приносит холодный воздух в складках одежды.
— В машину забрались крысы. Сожрали половину сиденья, — пыхтит он. — Конечно же моего. На всей обивке огромные дыры.
— Наверное, от твоего сиденья вкусно пахнет, — предполагает Ингмар, почесывая спину о дверной косяк.
— Вкусно пахнет? И что теперь, надо есть все, что…
— Да шучу я, Свен.
— Думаешь, от него плохо пахло?
Ингмар смеется, они встречаются взглядами. Свен тоже рад.
— Ну что, едем в Скаттунгбюн?
— Даже не знаю, — говорит Ингмар.
— Мы еще можем успеть.
— Если плюнем на солнце и на…
— Не надо ни на что плевать, — перебивает Свен. — Все будет отлично. Именно так, как нам надо.
Когда они спускаются в долину, над дорогой на крутом склоне в ослепительном сиянии солнца вырастает Скаттунгбюн.
Вереница автомобилей и грузовиков сворачивает на дорогу поменьше, проезжает сквозь лес, вокруг которого замыкаются горы.
Они не спеша едут вдоль сверкающей цепочки озер.
Мощные автомобили, автобус со звукоаппаратурой и столовая на колесах — все это останавливается у въезда на грунтовку возле самого разворота. Бурливая вода последнего озера стремительно хлещет из открытого затвора плотины, спускаясь в реку Марнес.
— Это мне нравится, — говорит Свен, выходя из машины. — По-моему, замечательно.
Он показывает на запруду.
Ингмар кивает.
— Правда, пароходов здесь раз-два и обчелся, — улыбаясь говорит Катанка и ищет его взгляд.
Все в одинаковых куртках с подкладкой из овчины топчутся на солнечной площадке, чтобы согреться.
Двухлетние березки дрожат среди поросли тоненьких прутиков, пригибаются к земле.
— Блумквист получил разрешение вырубить немного кустарника возле устья реки, — говорит Свен, главным образом самому себе.
Немного постояв вместе с Ингмаром, он направляется к Петеру, который молча прилаживает закутанную камеру к деревянной подставке.
К. А. подходит к Ингмару и, ничего не говоря, тыкает пальцем в водянистую облачную пелену, нависшую над деревьями.
Ингмар собирает всех вокруг камеры, но долгое время просто стоит молча, не в силах собраться с мыслями.
— Это немного… неприятно, или как бы это сказать… — начинает Ингмар. — Но я решил, что сегодня мы будем делать съемки с дальнего расстояния. Я написал в сценарии, что с мертвым телом не должно быть никакой лишней интимности и…
Актеры и техперсонал стоят рядом и слушают.
— Я понимаю, это моя ошибка, что мы потеряли столько времени.
Сняв шапку, он почесывает лоб.
— Если солнце так и будет светить, то… даже не знаю, тогда придется пойти на серьезные компромиссы, сделать кучу крупных планов, составить грузовики так, чтобы было немного тени, но… Что тут сказать? Мессу придется отменить, вот как это называется. Поступайте как знаете. Насильно никого тут не держат, но я надеюсь, что многие из вас подарят мне пару лишних часов.
Ингмар жестикулирует и кричит, когда репетируют общие планы. Машины едут вперед и поворачивают.
Пастор идет большими шагами, останавливается.
Перебрасывается беззвучными репликами с полицейскими, одетыми в штатское.
Тело накрывают брезентом.
Свен спускается, встает рядом с Ингмаром и просит его проследить, чтобы «скорая» не сдавала слишком сильно назад.
— Вот так в самый раз, правда? — спрашивает Ингмар.
— Да.
— Думаю, просто отлично.
— Правда, я все надеялся, что будет хоть немного облачно, — говорит Свен, шмыгая носом. — Тем более что похолодало — целый час было…
— Я тоже про это думал, — говорит Петер, передавая Свену блокнот.
— Да, лишь бы выпало хоть немного снега, — тихо прибавляет Ингмар.
— Думаю, нам все же надо поспешить со съемками, — говорит Свен. — Пока солнце опять не выглянуло.
— Нет, сейчас у нас будет ланч, — бормочет Ингмар, глядя на воду.
«Еловый лес стал еще зеленее», — думает он и вдруг видит, как пасмурная дымка, вырастая из сгустившегося воздуха, плавно растекается, заполняя все вокруг, словно блекло-серое одеяло стелется над землей и накрывает озеро.
Он осторожно несет тарелку с дымящимся говяжьим рагу между столиками и стульями. Пол дрожит и грохочет у него под ногами. Окно снова запотело. Он садится прямо напротив Гуннара. Посмотрев друг другу в глаза, они начинают молча есть.
Запахнув толстую куртку, Ингмар подпоясывается, и первая снежинка ложится на черно-синюю ель. Стало темнее, он смотрит на облако, которое окутывает съемочную площадку, и легкий снег, кружащийся под порывами ветра.
— Теперь уже не ошибешься, — говорит Ингмар и зовет остальных. — Давайте скорее, снимаем!
Приходит Свен с бутербродом в руке.
— С ума сойти.
— Надо же, как здорово.
— По местам!
— Уберите машины.
Ингрид смеется, Берта поправляет ее одежду и волосы.
— Уберите машины.
— А вот и кровь! — напевает Бёрье, бегая рядом с К. А. с лиловой пятилитровой бутылью в обнимку.
Ингмар поднимается на пристань и, стоя рядом со Свеном, смотрит на снежинки, кружащиеся над разворотом, на блестящие крыши машин и труп под деревом.
— Именно то, что нам нужно.
— Ага, — спокойно отвечает Ингмар.
Машина останавливается возле волнистой поверхности запруды. Пастор быстро обходит черный автомобиль с крыльями в глиняных брызгах.
Сразу же за опорой моста над запрудой, в нескольких шагах от мертвого тела, ждут двое мужчин.
От ветра снег взвихряется над землей.
Последнюю часть пути пастор проходит еще медленнее.
Другие эпизоды отсняты, Гуннар уселся в машину рядом с Ингрид, Ингмар хлопает в ладоши.
Едва они начинают спорить о резервных кадрах, как снегопад прекращается.
Небо опустело и выросло над землей в своем обновленном одиночестве.
Потихоньку проясняется, а когда Ингмар спускается к Гуннару, солнце прорывается сверху, освещая белую поверхность цепочки озер.
— Хорошо получилось, — говорит Ингмар.
— Спасибо, — благодарит Гуннар.
Они стоят и смотрят на разворот в следах от колес и тающие снежинки.
— Постараемся отснять фильм до конца? — спрашивает Гуннар.
— Наверное.
— Тогда сегодня надо успеть снять эпизоды в церкви Скаттунге.
— Было бы здорово.
— Значит, у нас нет времени стоять здесь с кислыми физиономиями.
— Это точно.
Улыбнувшись друг другу, они идут к остальным.
12
Ингмар встает на правое колено. Тянет заледенелый шнурок на ботинке, пытается развязать запутавшийся узел.
Кэби заходит в сумрачный коридор.
Она молча приближается к нему, чуть пошатнувшись, когда он обнимает ее за ноги.
Ингмар прижимает свое прохладное лицо к ее лону и животу.
— Оказалось, я все-таки могу забеременеть, — шепчет она, гладя его по голове и рассеянно перебирая пальцами волосы у самых корней.
Сквозь толщу черепа до барабанных перепонок доносится этот звук, словно шуршание песка.
И где-то далеко-далеко виолончель вторит исчезающему фортепьяно. Нежная мазурка звучит из радио или граммофона. Лениво, будто растекается по сахарному сиропу, диминуэндо.
Так они и стоят, одни в целом мире.
Он слышит ее дыхание.
— Что ты говоришь? — тихонько спрашивает она.
— Потрясающе, — отвечает он.
Кэби расплывается в улыбке:
— Правда?
Ингмар встает.
— Ты к этому готов?
Свет, льющийся из гостиной, освещает ее лицо, повернутое в три четверти. Глядя в зеркало, он видит, как она краснеет.
— Ты рад?
Он кивает.
— А ты?
— Я так рада, что… — Она аккуратно вытирает глаза. — Так рада, что мне даже стыдно. Думаю о Линде и стыжусь, что…
Слова застревают в горле, и она уходит из коридора, прикрыв рот рукой.
В стеклянной банке с закручивающейся крышкой виднеются сценические подмостки из цветного картона с задним планом, разукрашенным под лес, и поднятым занавесом.
Ингмар нервно дергается назад, придвигаясь к спинке малюсенького дивана.
Дверь гардероба открывается, и выходит Кэби в белой нижней юбке и бежевом бюстгальтере.
— Ты успел вчера заглянуть к отцу?
— Нет, понимаешь… то есть успел. Ты же знаешь, я не люблю больницы, — говорит он и поджимает губы. — Не люблю больных. Просто не переношу, когда они лежат и смотрят на тебя. В своих пижамах. С капельницами и пластырями…
— Да, веселого мало.
Он рыгает с удрученным видом и, помахав рукою у рта, подпрыгивает на диване.
Телефон приглушенно звонит, словно из-под одеяла.
Встав, Ингмар тянется, чтобы поставить банку на полку, но промахивается. Банка падает на спинку дивана, а затем разбивается об пол.
Дребезг стекла похож на сухой треск ветки, сломанной об колено. Осколки раскиданы по ковру.
Звонит телефон, Ингмар пробирается по блестящей стеклянной россыпи, идет в свой кабинет и снимает трубку.
Он сидит за столом, глядя на сад в темном окне, на снежные ветви, и рассказывает матери, что в четверг познакомился с Гретой Гарбо. Описывает ее спокойный, надтреснутый голос. Лжет про ее любопытный взгляд, якобы немного напоминающий взгляд матери.
Но мать не перебивает его со смехом.
Наступает молчание.
На линии что-то шумит.
Ветка бьется о жестяной подоконник снаружи.
— Что-то случилось?
— Отцу стало хуже.
Потянувшись за пакетом с крекерами, Ингмар опрокидывает пустую бутылку из-под минералки.
— Хуже? Что значит хуже? — спрашивает он и прибавляет, понизив голос: — Ведь операция прошла удачно. Какого черта ему вдруг может стать хуже?
Дрожащей рукой он отламывает кусочек крекера и кладет в рот.
— Они говорили о каких-то осложнениях, я не знаю, я…
— Что еще за осложнения? Они не сказали? Неужели нельзя было спросить поподробнее? Мы же должны знать, как обстоят дела. Понимаешь, а вдруг ему действительно плохо. Совсем плохо.
— Ингмар, они лишь сказали, что ему стало хуже.
— Ну так позвони и спроси, что они имели в виду.
— Я только что…
— Так позвони еще раз! — кричит он, бросая трубку.
Кэби стучит в дверь и заходит в комнату. Останавливается у него за спиной, отражаясь в окне. Темный силуэт, заполненный еловыми лапами и окруженный желтым светом.
— Я догадалась, что звонила твоя мать, — спокойно произносит она.
Снегопад за окном становится гуще, снежные комья грузно падают вниз.
— Она была в больнице?
Ингмар кивает.
— Ну как он?
— Он поправится, — тихо отвечает Ингмар.
— Но Карин хочет, чтобы ты его навестил? Просит, чтобы…
— Нет.
— Тогда в чем дело?
— Ни в чем, — отвечает он и встает. — А может, я сам не знаю. Я снимаю фильм о тех, кто страдает и умирает.
— Что случилось? — спрашивает она громко.
— Ничего, просто отцу стало хуже.
— Это сказали врачи?
— Да.
— Тогда тебе надо съездить в больницу.
Звонит телефон, лицо Ингмара напрягается, губы бледнеют.
— Это мать, — тихо говорит он.
В полосе света, льющейся из кухонного окна, он видит сороку, с трудом пробирающуюся к черно-зеленому кругу вокруг вишневого деревца. Сорока стучит клювом по земле.
Раздается второй звонок.
— Ты ведь знаешь, что необязательно снимать трубку.
— Я должен только… Вот черт.
— Что такое?
— Наступил на…
— На осколок?
— Не знаю…
Сняв трубку, он прижимает ее к уху и говорит «але».
— Я разговаривала с доктором, — сообщает мать. — Отец подхватил какую-то новую инфекцию, у него высокая температура. Это единственное, что он мне сказал.
— Что значит высокая температура?
— Ты мог бы сам поехать и…
— Я сейчас монтирую фильм.
Кэби снимает с него носок, включает настольную лампу и поднимает его ногу.
— Я сижу у отца каждый день, — говорит мать. — Иногда даже сплю в кресле, а у тебя нет времени, чтобы приехать один-единственный раз.
Кэби пристально рассматривает ногу, слегка нажимает на подошву. Когда она поворачивает лампу, на ее пальцах виднеются капли крови.
— Нет причин беспокоить отца только из-за того, что я волнуюсь.
Кэби осторожно ковыряет ранку ногтем.
— Не надо рассказывать мне о том, что ты волнуешься, — жестко говорит мать. — Если б ты хоть чуть-чуть за него переживал, то был бы уже там.
Кэби встает и кладет что-то на стол перед ним.
— От этого он быстрее не выздоровеет, — отвечает Ингмар, внезапно чувствуя, как дыхание прерывается спазмами.
— Разве можно быть таким черствым?
Ингмар берет в руки маленький осколок стекла и, пытаясь удержать равновесие, опирается о стену, а потом слышит, как его собственный голос шепчет:
— Не говори так.
— Почему я должна…
— Он только разочаруется, когда увидит, что пришел я.
Розовый осколок похож на карманное зеркальце с острой ручкой.
— Это просто смешно. Он тебя совершенно не волнует. Скажи уж честно. Единственное, что тебе…
Кэби отбирает у Ингмара телефон и вешает трубку. Тот стоит, глядя перед собой невидящими глазами.
* * *
Она остановилась в изножье кровати с лупой в руке, тень падает на ковер.
— Подумай о чем-нибудь другом, — говорит она. Ингмар сидит, опустив голову, зажав сцепленные ладони между коленями.
— Он не может умереть от какой-то температуры.
— Врачи говорят, что есть такой риск?
— Не знаю, не знаю я ничего.
— Мы могли бы съездить туда вместе, просто чтобы…
— Кэби, — перебивает он, — не думаю, что я в силах поехать к нему.
Она кладет лупу на прикроватный столик.
— Спасибо, — добавляет он.
— Положи в нижний ящик.
Ингмар подносит лупу к осколку. Под определенным углом он и вправду напоминает карманное зеркальце или даже саму лупу, а при помощи воображения на месте зеркальца или линзы можно увидеть гравюру.
Кажется, на ней изображены два маленьких человечка в виде черточек. У одного из них нет рук.
У того, что побольше, ручка выступает из сморщенной головы.
— Если ты хочешь что-то сказать ему, надо спешить, — тихо говорит Кэби.
— Что?
Лупа дрожит у него в руке.
— Чего ты добиваешься, Ингмар?
Второй человечек-черточка запрокинул назад голову.
Кажется, он смеется, покраснев от запекшейся крови.
Но тотчас голос человечка становится совершенно серьезным, он объясняет, что у него все иначе, чем у других, он никогда не мог поговорить со своим отцом.
— Да ведь это я не мог поговорить со своим отцом, — возражает Ингмар.
— Почему? — спрашивает Кэби. — Почему ты не мог?
— Я снимаю фильмы, и вот…
— Да наплевать ему на твои фильмы! — кричит человечек-черточка с ручкой на голове.
— В этот раз все по-другому, — говорит Ингмар.
Он едет по темной дороге, напевая, кладет в рот шоколадную медаль и барабанит пальцами по рулю.
И хотя он все время едет довольно быстро, капот едва успевает дотронуться до веселого роя снежинок, крутящихся впереди.
Дорожный указатель проскальзывает мимо, покачиваясь, словно кабина на колесе обозрения.
Небесный балдахин возвышается над Слюссеном, окутывая таможню и баржи, стоящие вдоль пристани Стадсгордсхамнен. Словно сквозь комариную сетку угадываются среди льда фарватеры, ведущие к Кастельхольмену и Юргордену.
Свернув на улицу Фолькунгагатан, он припарковывается возле больницы Эрста, но так и сидит в машине, оставив мотор работать на холостых оборотах. Сквозь снегопад он рассматривает большую пристройку из бледно-желтого кирпича.
Остроконечная черепичная крыша, ряды окон с адвентскими звездами.
Запотевшие пятна расплываются на стекле, два слепых глаза соединяются в один.
Тихий шорох пробегает под автомобилем.
Замолкает и снова начинается.
Сквозь мутнеющее окно Ингмар видит, как открывается стеклянная дверь главного входа.
Открывается слишком медленно.
В первый момент ничего не видно, затем в дверь протискивается маленькое черное тело.
Человек, стоящий на четвереньках.
А может, коза, думает он, угадывая очертания крученых рогов и узких висячих ушей.
Да, кажется, это коза стоит у дверей рядом с гранитным цоколем и кивает ему.
Она поднимает голову с жиденькой бородой, и Ингмар тихонько машет в ответ.
Коза топает правым копытцем.
Ингмар думает, что, наверное, она приглашает его подойти ближе, и коза нетерпеливо кивает.
Она оборачивается к нему задом, шкура на спине вздрагивает, и что-то делает передним копытом — что именно, он не видит.
Ингмар вытирает запотевшее окно, но возле входа уже пусто.
Большая стеклянная дверь, покачнувшись, замирает на месте.
Ингмар выходит из машины и понимает, что куртку и кошелек он оставил в Юрсхольме. Он стоит на морозе в рубашке и брюках. Невесомые снежинки кружатся над землей, собираясь в перины у стен и вокруг островков с бордюрами.
Ингмар обходит фасад, идет вдоль старого главного здания, покрытого желтой штукатуркой, заглядывает в окна, но отделений с пациентами не находит.
Погрев ладони под мышками, он забирается на трансформаторную будку и заглядывает в небольшую комнатку.
Неуклюжие агрегаты заслоняют все стены, тянутся по полу, уходят под потолок.
Трубки, проводки и пластиковые шланги.
Стальной компрессор. Слабо подрагивает тонкая стрелка.
На блестящей, словно из хрома, табуретке лежит картонная папка.
Под стеклянным колпаком медленно движется поршень.
С разных сторон тянутся шланги цвета мяса, которые переплетаются в огромном пучке и уходят в отверстие на стене.
Вдруг загорается красная аварийная лампочка.
Ингмар колотит в окно, слезает вниз и, оцарапавшись о железный угол, бежит ко входу, слизывая капли крови на ране.
Заглянув сквозь стеклянные двери, он видит медсестру, которая разговаривает с пожилой парой. Ингмар стучит по стеклу обручальным кольцом. Медсестра смотрит на него, и он машет рукой, подзывая ее к себе. Она отворачивается, продолжая разговаривать, но он снова стучит и машет.
Она выходит и спрашивает, чего он хочет. Плотнее запахивает кофту. Нос и лоб покрыты веснушками.
— Я только хотел спросить, как там мой отец, — говорит Ингмар… Во рту вдруг становится так сухо, что он берет пригоршню снега с края цветочной кадки и жует.
— Ваш отец?
— Он умер? — спрашивает Ингмар почти беззвучно. — Вы не знаете?
— В каком отделении он лежит?
— При чем тут отделение? Вы ведь должны знать, умер ли кто-то сегодня?
— Сегодня?
Ингмару приходится съесть еще одну пригоршню снега.
— Его зовут Эрик Бергман.
— Сегодня ничего такого не было, — серьезно отвечает она.
— А сейчас? Это могло случиться прямо сейчас — так, что вы об этом не знаете. Правда ведь?
— Пойдемте со мной, разберемся, что…
— Разберемся в чем? Собираетесь покопаться в своих проклятых бумажках?
Она опускает взгляд и, немного помедлив, поворачивается и входит внутрь.
Ингмар хочет купить шоколада и оставить его в регистратуре. Он возвращается, садится в машину, хлопает дверцей, чтобы стряхнуть с нее снег.
Он весь дрожит от холода. В руках бегают иголочки.
Заметив, что ключ зажигания все это время оставался в замке, он закрывает глаза.
Сердце стучит, как бешеное.
Рессора под сиденьем постукивает, когда он подбирает колени и съеживается, что есть сил. Он дышит, уткнувшись в брюки.
Ветер хлещет по крыше, лижет кузов. Дует и дует, затем переводит дыхание и замирает.
Тепло медленно растекается по машине, Ингмар отдает швартовы. Дыхание успокаивается, мускулы постепенно расслабляются.
Внезапно он ударяется губами о колени. Носовой отсек натыкается на глинистый берег. Вода заливает палубу.
Женщины сходят на землю, помогают перетащить воз.
— Спускайся, глупыш.
— Что?
Ингмар поднимает глаза. Стекло покрылось серой испариной. В салоне темно. И все же изо рта идет пар, разливающийся над черной панелью.
Из-под воды доносится крик.
Передняя дверь открывается, и с крыши падает снег. Перед Ингмаром стоит мужчина в светло-серой одежде.
— Нельзя так сидеть, — говорит он.
— Нельзя, — отзывается Ингмар.
— Вы здесь закоченеете.
Мужчина едва заметно улыбается, когда Ингмар пытается закрыть дверь. Он крепко держит ее и наклоняется.
— Езжайте домой.
— Я только хотел узнать, как себя чувствует мой отец.
Дверь хлопает, Ингмар закрывает глаза, съеживается и ждет.
Было совсем не больно, думает он.
Отец цепко взял его за плечи, встряхнул и крикнул, что Ингмар ничего для него не значит.
Он поднял велосипед и вывез его из канавы, из зарослей луговой травы и непослушного ельника. И повел его за руль вдоль дороги.
Заметив, что Ингмар бежит следом, он быстро вскочил в седло и поехал вперед.
Ингмар вспоминает, как, вконец запыхавшись, он остановился. Ноги не слушались его и дрожали. Он видел, как отец на велосипеде скрылся с глаз.
Пустынная дорога вела через лес, поросший качающейся овсяницей, кипреем и крапивой. В воздухе жужжали слепни и мухи, сверкающие стрекозы.
Ингмар стоял и осматривался. Отец не возвращался, тогда он повернул обратно к причалу. Немного подождав, он отправился вниз по реке.
Остановился в том месте, где река была глубокой и бурной.
Он смотрел на натянутую над чернотой пелену, которая простиралась вперед, и думал, не переплыть ли ее, чтобы попасть домой. Но понимал, что сил не хватит, вода слишком холодная, а течение чересчур сильное.
На дрожащих ногах он обошел огромный камень и оказался лицом к лицу с молодой женщиной. У нее были большие руки и широкие бедра. Женщина собирала камни в карман передника. На земле лежал костыль. Глаза ее были черны, белое небо отражалось в них, словно заиндевелое стекло.
Ингмар взбежал по склону и помчался через лес. Выйдя на дорогу, он увидел отца, ехавшего на велосипеде. Тот улыбался как ни в чем не бывало.
Ингмар сел прямо посреди дороги, закрыл лицо руками и зарыдал так, будто никогда не сможет остановиться.
Отец осторожно поднял сына с земли и уселся на край канавы.
Ему не надо было ничего говорить. Он просто сидел на опушке леса, обнимая своего младшего сына.
Стук в окно, Ингмар открывает глаза. Сквозь лобовое стекло он видит какое-то движение.
Дверца машины открывается, мужчина примерно одних с ним лет заглядывает в кабину и здоровается. Белый врачебный халат бьется на ветру. Снежинки кружатся над его головой по воздушным дорожкам.
— Я только что от Эрика Бергмана. Температура пока высокая, но чувствует он себя достаточно хорошо.
— Не стоит врать только для того, чтобы…
— Да нет же, ему и правда лучше.
Ингмар благодарит мужчину, долго трясет его руку и вдруг чувствует, как щиплет в глазах.
— Вы можете его навестить, — говорит врач. — Он наверняка будет рад.
— Не думаю.
— Если хотите, можно пойти и…
— Нет, мне пора, — отворачиваясь, говорит Ингмар.
13
В тринадцатой стеклянной банке идут два человека. Такие же прозрачные, как комната вокруг них.
Они проходят мимо гостиничного бара, расположенного по дороге к ресторану. Бесшумно шагают по паласу.
Мужчина с усталым загорелым лицом встает из кресла. Он устремляется навстречу Ингмару, чтобы поздравить его.
— Большое спасибо.
Мужчина запускает пальцы в свои густые волосы и, смеясь, говорит что-то еще на швабском диалекте.
Ингмар и Кэби идут вдоль изогнутой стеклянной стены по направлению к столовой.
— О чем там?
— Это твой новый «Оскар», — отвечает она.
— Я понял, что…
— Ты думаешь только о премьере.
— Я понял, что он что-то слышал.
— Люди еще до кинотеатра дойти не успели.
— Знаю, — вздыхает он.
— Может быть, первые уже и пришли, но…
— Просто я немного волнуюсь.
Кэби разговаривает с метрдотелем, и им показывают уединенное место в пустой столовой.
Ингмар смотрит в большое окно, но грудь сжимается от вида головокружительного альпийского пейзажа.
В то же время весь он умещается в опрокинутом куполе бокала с вином.
Смешная миниатюра с сувенирной шкатулочки, остроконечные горные вершины в снегу, черный лес и бревенчатые избушки.
— Плевать, что они там завтра напишут, — произносит она. — Ведь это шедевр.
— Все равно грустно.
— Конечно, грустно.
— Могли бы мы на этой неделе просто взять и порвать со Швецией? Навсегда.
Она кивает, глядя в окно.
— Ты чего? — спрашивает он. — Переживаешь за Даниеля?
— Нет, просто… Просто я такой человек. Когда его нет рядом, я волнуюсь.
Ингмар подносит кусочек кинопленки к боязливо подрагивающему огоньку свечи.
Четыре одинаковых кадра: тощее огненно-красное тельце младенца на одеяле с эмблемой ландстинга в углу.
Маленький мальчик свернулся, как в материнской утробе, — поджал колени и прижал к груди маленькие кулачки.
Ингмар переводит взгляд на припухшую мошонку между ног, поблескивающую в неверном свете.
— Все-таки надо было взять его с собой.
— Он слишком мал, — говорит Кэби. — Завтра позвоню Бербель, спрошу, не снизилась ли температура.
— Позвони сегодня вечером.
— Это обычная простуда.
— Хотя думаю, все рецензии появятся завтра, — говорит он, убирая кинопленку в коробку. — Просто все время кажется, будто ты пытаешься скрыть от меня то, что сказала тебе Бербель.
Она кивает, избегая его вопросительного взгляда.
— Ты меня знаешь.
— Нет, — мягко отвечает она. — Я знаю только, что в одиннадцать часов ты ляжешь в постель, положив руки на грудь, и заснешь.
— И это все? — смеется он.
Она невольно поджимает губы.
Он кладет меню на стол.
— Ну что, будем заказывать? — спрашивает она.
— Если тут есть что-то съедобное.
— Филе ягненка.
— Где это?
— Вот, смотри. А это — телятина.
Ингмар высыпает содержимое ящика на стол, кладет обратно пять оловянных солдатиков и выстраивает зверей: лошадь, две стельные овцы, ягненок и баран. Черная коза и корова.
— Всем обязательно быть, — говорит он, снова глядя на часы. — Рядом с «Красной мельницей» или в фойе.
— Гуннар, Макс, Ингрид, Туннель, Аллан…
— Впрочем, нет, Туннель не будет, — улыбается Ингмар, убирая одну из овец. — Она у нас едет на второй передаче, не успеет.
Он грызет ноготь.
— Отец придет?
— Билеты я отложил, но…
Он смотрит на тарелку с тонкими ломтиками телячьего филе, посыпанными черным молотым перцем.
— Давай подумаем о чем-нибудь другом, — осторожно предлагает Кэби.
— Давай.
— Не стоит беспокоиться о том, придет он или нет.
— Я только хотел сказать, что ему может быть трудно прийти на премьеру.
После стайермаркского вина во рту остался вкус компоста. Ингмар трет большим пальцем запотевший бокал. К ним идет официант.
Он ставит перед Ингмаром плоскую тарелку. Филе ягненка, кусочки свинины, веточка тимьяна и три крученые горки трюфельного и картофельного пюре.
Официант осторожно подливает в тарелку мясной соус с мадерой, лаймом и ежевикой, розовые брызги остаются у него на руке, он исчезает.
— Хватит уже говорить. Хоть мы и уехали, но мысленно ты все равно там, на премьере, которая…
— Я не нарочно, — со смехом перебивает он. — Это происходит само по себе, постоянно, как баркарола Шопена.
Он видит Кэби, выступающую с концертом в Осло. Она играет, а молния в платье на спине с каждым новым пассажем разъезжается еще на один сантиметр.
— Но теперь рядом я. Я поехала с тобой в Швейцарию, чтобы…
Ингмар накрывает банку из-под варенья тяжелой стеклянной крышкой. Она плотно прилегает к зеленой резиновой прокладке. Голос Кэби не проникает сквозь стенки, она замолкает, кожа под глазами краснеет. Она чувствует себя уязвленной, но гордо задирает подбородок.
— Все ждут в салоне — гости, критики, — говорит он.
Кэби кивает и убирает банку.
Он старается дышать спокойно.
Горьковатые испарения мерло поднимаются из черной бутылки из Сент-Эмильона.
Беспокойство неуклюже ворочается под ложечкой.
— Будешь?
— Я только…
Вилка ковыряет ломтики мяса.
Погружается в мясной соус и прокладывает в нем колею.
— Интересно, что Гуннар в пасторе видел самого себя, — говорит Кэби, воодушевляясь. — А ты видишь, как в роли пастора он играет тебя…
— А что видят другие? — бормочет Ингмар, встречая в зеркале свой собственный взгляд.
— Я как раз сейчас об этом подумала.
Он быстро жует, зубы впиваются в кровавое мясо, кисло-соленый вкус наполняет рот.
Кэби всматривается в его глаза и подливает вина.
— Спасибо.
— Из-за тебя пролила, — сухо произносит она.
Он потряхивает большую банку с густой жидкостью на дне. Кэби трясет мокрой рукой и устало смотрит на него сквозь стекло.
— Извини.
В другой банке Ингмар видит приукрашенную копию самого себя. Он сидит и быстро уплетает ванильное мороженое.
— На вид вкусно, — говорит Кэби.
Он кивает, облизывая ложку.
Смотрит на часы и вытирает салфеткой рот.
— Скоро девять.
Он думает о том, видел ли отец фильм, ехал ли молча в такси до Стургатан. Или мать шла домой пешком в одиночестве. Может быть, вместе с Агдой. А сейчас она, возможно, ставит на густавианский стол чайные чашки или рассказывает о фильме, пока отец смотрит телевизор.
— Я могу посидеть здесь, если хочешь — иди позвони, — говори Кэби.
Он встает, съедает последнюю ложку мороженого и спешит к выходу между круглыми столиками огромного ресторана.
Словно опережая себя, он вставляет ключ в замок еще до того, как останавливается постукивающий лифт.
Когда он идет по тихому коридору, он уже находится в своем номере, возле желтого мебельного гарнитура.
Бороздки блеклого ковра бросаются ему в глаза. Мимо медленно протекает полоска бра вдоль стен коридора. Тускло поблескивает медная обшивка дверей, множась в бесчисленных изгибах карниза.
Он прижимает к уху телефонную трубку, поворачивая в замке ключ и открывая дверь. Идет по розовому паласу, садится в желтое кресло, снимает трубку, заказывает разговор со Швецией.
Сердце бешено бьется в груди.
Но постепенно успокаивается, когда к телефону никто не подходит.
Он сидит, глядя в окно на темно-серые Альпы с белыми разводами.
Думает, не позвонить ли Ленн, спросить, кто был на премьере.
Он снова снимает трубку, просит, чтобы его попробовали соединить еще раз.
Слушая гудки, он вспоминает, как расставлял в ряд свои стеклянные банки.
На тенистой площадке за пасторской усадьбой.
Он ложится и пытается разглядеть что-то сквозь бесчисленные грани, но вереница маленьких обособленных миров уходит в сторону.
Изгибается, меркнет.
Наклоняется то влево, то вправо.
Прежде чем преломленные блики исчезают, Ингмар открывает глаза.
Он снова здесь, один в своем гостиничном номере «Санкт-Морица».
Кэби сидит в ресторане и ест свой крем-карамель.
В трубке раздаются гудки.
— Бергман у телефона, — отвечает отец и, вздыхая, садится за письменный стол.
— Это Ингмар.
— Мы как раз только вошли.
— Позвонить позже?
— Это Малыш, — говорит отец в сторону.
— Я могу с ним поговорить, — шепчет мать.
Ингмар встает, чешет шею.
— Я посмотрел твой фильм, — говорит отец.
— Я вас не заставлял.
— Ну что тебе сказать, — продолжает он. — Помню, ты хотел, чтобы я прочитал сценарий, но… я рад, что не сделал этого.
— Да, наверное…
— Буду короток, мать тоже хочет сказать тебе пару слов.
— Этот фильм был всего лишь попыткой…
— Ингмар, — перебивает отец, — вообще-то я тронут. Это… При встрече мы можем поговорить об этом подробнее, но, признаюсь, никогда не думал, что ты…
Он откашливается, на заднем плане мать что-то говорит, он перекидывается с ней несколькими фразами.
— Да, я даже сказал матери по дороге домой: «Я снова чувствую себя адъюнктом при пасторате в Форсбаке». Моя церковь, мое одиночество — я не преувеличиваю, но… ты должен знать: я благодарен тебе за то, что ты запечатлел это время, или как бы это еще сказать…
Руки у Ингмара дрожат, когда отец передает трубку матери. Он садится и почти не слушает мать, которая весело щебечет о том, что фильм, наверное, пройдет мимо широкой публики.
Босоножки Кэби валяются рядом с желтым диваном, в мусорном ведре лежат ее колготки.
— Там были все, — говорит мать. — Гуннар Бьорнстранд и Макс фон Сюдов подошли к нам поздороваться. Ингрид Тулин в обворожительном…
Она замолкает, потому что отец что-то ей говорит.
— Пойду поставлю чай, — заканчивает она.
Повесив трубку, Ингмар сидит, обхватив руками лицо. Чувствует, как его дыхание щекочет веки на выдохе и холодит их, когда легкие втягивают в себя воздух.
— Ну что, он не ходил на премьеру, да? — спрашивает Кэби.
— Отец? Почему же, ходил.
Стекла в окнах слегка потрескивают, когда налетает ветер.
— Он сказал, что был тронут.
Кэби краснеет, не в силах скрыть раздражения.
— Ингмар, я больше не могу.
— А что?
— Сколько можно врать.
— Да нет же, отец сказал, что пастор — это словно он сам в те времена, когда работал в Форсбаке, и…
— Словно он сам? — скептически переспрашивает Кэби.
— Но ведь так и есть.
— А где же тогда твое место?
— Я пока об этом не думал. Если я сам не пастор, значит, должен… Нет, даже не знаю.
— Ты ведь всегда так внимательно следишь за тем, с кем себя отождествляешь.
— Это всего лишь…
Ингмар встает, наблюдая, как меняет цвет пейзаж за окном. Чувствует, как сквозняк на полу лижет ноги, налетая сзади, и несется дальше.
Еловый лес быстро темнеет.
Серые складки отвесных гор приобретают мягкий оттенок зеленого бутылочного стекла.
Ингмар подходит к большому окну как раз в тот момент, когда Альпы озаряются сиянием, прозрачным и чистым, как на засвеченной фотографии.
— Но ведь кем-то ты должен быть в этом фильме, — повторяет она.
Ингмар чувствует, как все падает и падает вниз, ищет руками опору, хватается за занавеску, слышит, как трещат крепежи карниза.
— Не знаю, — шепчет он.
Остроконечный горный массив вырастает из темноты, словно бледно-розовое стекло, неровный и освещенный изнутри.
— Ведь кое-кто любит пастора, совсем как ребенок, — говорит Кэби. — Кое-кто, кого ты презираешь, но кто на самом деле хочет всего лишь
Послесловие
Несмотря на то что «Режиссер» — это роман и в первую очередь плод моего воображения (безо всяких притязаний на правдоподобие, не считая эстетических), я испытываю большое желание перечислить важнейшие источники и выразить благодарность тем, кто помогал мне в работе.
Помимо обширного документального и художественного материала, опубликованного самим Ингмаром Бергманом, я внимательно изучал письма и дневники его матери Карин, краткое жизнеописание его отца Эрика, автобиографическое сочинение его жены Кэби Ларетеи, а также воспоминания других членов семьи Бергмана.
Кроме того, мне хотелось бы назвать Маарет Коскинен, Лейфа Церна и Биргит Линтон-Мальмфорс; что касается длинной главы о работе над фильмом «Причастие», то важнейшим источником для меня стал дневник Вильгота Шёмана с записями о съемках фильма. Наверное, поэтому я решил отблагодарить Вильгота как-то особенно, позволив ему оказаться в кровати Ингмара в виде садового гнома.
На этом мои благодарности заканчиваются. Не буду оглашать здесь огромный список тех материалов, что прошли через меня и оставили отпечаток на этом романе, также не стану отчитываться о проделанной мной предварительной работе, о посещении съемочных площадок, квартир и других важных мест или о том, как я не всегда законным путем попадал туда, где мне надо было побывать, потому что в остальном я отталкивался только от своей собственной фантазии.
Александер АндорильПримечания
1
Очевидно, имеется в виду Макс фон Сюдов (р. 1929) — шведский актер с мировой известностью, среди прочего снявшийся в роли рыбака в фильме Бергмана «Причастие». (Здесь и далее примеч. переводчика).
(обратно)2
Здесь и далее речь идет о фильме Бергмана «Причастие» (1963), в русском переводе также известном под названием «Зимний свет».
(обратно)3
Сочинение И. Ф. Стравинского для хора и оркестра (1930).
(обратно)4
Кинотеатр в Стокгольме.
(обратно)5
Ингрид Тулин (1926–2004) — шведская актриса, снявшаяся в роли учительницы в фильме «Причастие».
(обратно)6
Аллан Экелунд (р. 1918) — шведский кинопродюсер.
(обратно)7
Здесь и далее: под длинным домом подразумеваются древние постройки викингов. Длинные дома строились из дерева или земли с глиной. Обычно внутри были сени, горница, кладовая, очаг, спальня и стойло для скота.
(обратно)8
«Пеликан», «Лебедь белая» — постановки по драмам Августа Стриндберга.
(обратно)9
По всей вероятности, имеется в виду студия кинозаписи в Стокгольме.
(обратно)10
«Свенск фильминдустри» — шведская киностудия, основанная в 1919 году, которой принадлежит большая часть кинотеатров в Швеции.
(обратно)11
Вероятно, имеется в виду стокгольмская кинолаборатория с таким названием.
(обратно)12
Бергман был автором сценария фильма (1961).
(обратно)13
В России фильм также известен под названием «Сквозь тусклое стекло». Бергман был режиссером и сценаристом этого фильма (1961) — первой части кинотрилогии, которую продолжили фильмы «Причастие» и «Молчание».
(обратно)14
Пьеса Бергмана, положенная в основу его фильма «Седьмая печать».
(обратно)15
Гуннар Бьорнстранд (1909–1986) — шведский актер, снявшийся в фильме «Причастие» в роли пастора.
(обратно)16
Свен Нюквист (1922–2006) — знаменитый шведский оператор, много работавший на съемках картин вместе с Бергманом — в частности, на съемках «Причастия». Также известен как режиссер, сценарист, продюсер.
(обратно)17
Гуннель Линдблум (р. 1931) — шведская актриса, снявшаяся в фильме «Причастие».
(обратно)18
Аллан Эдваль (1924–1997) — шведский актер, сыгравший роль церковного сторожа в фильме «Причастие».
(обратно)19
Разговорное название Королевского драматического театра, основанного в 1788 году в Стокгольме королем Густавом III.
(обратно)20
Немой фильм 1921 года, режиссер Рекс Ингрэм, США.
(обратно)21
«Сильянсборг» — гостиница в лене Даларна.
(обратно)22
Церковь в Стокгольме в районе Эстермальм.
(обратно)23
Фильм режиссера Альфа Шёберга по сценарию Ингмара Бергмана (1944).
(обратно)24
Название 35-миллиметровой кинокамеры производства фирмы «Арри».
(обратно)25
Кульбьорн Кнудсен (1897–1967) — шведский актер, сыгравший роль служки в фильме «Причастие».
(обратно)26
Шведская актриса, третья жена Стриндберга.
(обратно)27
Шведская актриса, с которой, по слухам, у Стриндберга была связь.
(обратно)28
Бриан Викстрём (1935–1989) — шведский кинопродюсер.
(обратно)29
Андреа Дориа (1466–1560) — генуэзский адмирал, патрулировал воды Средиземного моря, участвовал в войне с турками, боролся с пиратами.
(обратно)30
Шведский кинооператор.
(обратно)31
Харальд Муландер — шведский режиссер и продюсер, возглавлявший «Фильмстаден» с 1948 по 1963 год.
(обратно)32
Знаменитый шведский дизайнер мебели.
(обратно)33
Концерт для фортепьяно шведского композитора Йосты Нюстрёма (1890–1966).
(обратно)34
С Новым годом! (нем.).
(обратно)35
Агнец Божий (лат.).
(обратно)36
Евангелие от Матфея, 26, 26.
(обратно)37
АО «Эссур», Деревянная нога (нем.).
(обратно)38
Сделано в Германии (нем.).
(обратно)39
Торстен Хаммарен — шведский актер, в разное время возглавлявший различные шведские театры.
(обратно)40
Персонаж американского сериала-вестерна «Братья Картрайт» (1959–1973).
(обратно)41
Знаменитый шведский врач.
(обратно)42
Первая женщина в Швеции, возглавившая клуб игры в гольф.
(обратно)43
Только покой (нем.).
(обратно)44
Датские комики Харальд Матсен и Карл Шенстрём.
(обратно)








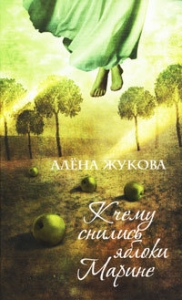
Комментарии к книге «Режиссер», Александер Андориль
Всего 0 комментариев