Кирилл Туровский Каждый сам себе дурак
Не замышлял я ничего особо плохого, просто так вышло. И не хотел вовсе ничего плохого никому делать, они сами во всем виноваты. Им всегда нужно куда-то ехать, куда-то стремиться, куда-то копошиться. Попробуйте с ними заговорить, и сразу получите сами знаете что по всей роже. Ведь каждый из них только и думает о том, как сделать вам гадость. Утро-день-вечер-ночь. Утро-день-вечер-ночь. Это приключение, из которого живыми никогда не выходят. Женщины визжат, мужчины кряхтят, все вместе стонут. Не люблю я общественный транспорт, вот и все.
1
Сначала я жил в Самом Западном Городе. А Город этот был на Море. Никчемный Город, большой достаточно и тяжелый. Именно тяжелый. Кроме театра и Могилы Канта неподалеку от дома, на которую я частенько таскался, и не помню ничего там. Нелепая и мрачная Могила у этого Канта, скажу я вам. Видимо, там, блин, и подцепил я какую-то непонятную инфекцию развивающуюся. Наверняка там подцепил.
Люди, конечно, в Западном Городе тоже были тяжелые и тупые. Это территория такая, окруженная прибалтийскими врагами. Вот они и кончаются там до сих пор, наверное.
Говорить об этом много вряд ли стоит, но еще там я догнал, что куда ни плюнь, везде либо сволочень, либо нечто подобное. Именно так. А потом распошло-распоехало под откос… Сразу надо было свинчиваться, это уж точно. И сразу не в другой Город, другую страну, другой континент, а намного дальше. Но свинтить так под силу не каждому. А жаль.
Словом, ладно.
Звонит мне Латин, взволнованный такой, и говорит:
— Северин, привет. Встретиться надо прямо сейчас.
А через час?
Через час поздно будет, — вот так, значит, и сказал.
— Ну, давай, — говорю. — Подъезжай.
А я сидел, о Шопенгауэре думал и всякой прочей философии. Я ж, говорю, невольно по ней тогда зарубаться стал по дурке из-за этой гребаной Могилы неподалеку от дома, а Латин отвлек меня так некстати. Закрыл я зелененький томик Ясперса, закурил, подумал обо всем вечном и грустном. Глядь в окно на улицу, а людей там видимо-невидимо, подивился людям, а тачка, латиновская «тойота селика» черно-синяя, все не едет и не едет. «Прямо сейчас, прямо сейчас» — типа гнал.
Но все равно. Залетает Латин, радостный, возбужденный, сбросил мои вещички со стула и хвалится:
— Крупнейшие неприятности, и срочняк нужны деньги! Немедленно сваливаю! Уезжаю я и переживаю очень.
И сидит такой счастливый-сияющий. А я ему сразу зазавидовал: тоже все время смыться хотел хоть в Сомали, а ему раз и на тебе — такая удача некислая. Теперь по-любариусу увидит Латин другие красивые страны, города сказочно-небывалые.
— Ну, ты молодец! — говорю ему и смотрю восторженно на этого ловкого парня. — Ну и куда ты поедешь? В Уральский или в Северный Город, как раскатывал? Куда ж тебя понесет-то дальше?
А он не отвечает и все. Лапки за монетами тянет.
Но, с другой стороны, конечно, какого хрена именно меня беспокоить? Вечно каждый норовит своими проблемами мозги подзалечить. Мне-то на хрена, блин, его геморрои…
— Ну че, дашь мне монет, а? — заискивающе спрашивает Латин, а сам стеклянными глазами тупо смотрит на шмотки разные в комнате.
Как будто у меня есть варианты. Может, монеты и не нужны ему так срочно. Может, проигрался просто в казино «Ванда» или вовсе слямзил какую-нибудь тинушечку польскую и едет с ней на побережье зашториваться. Но он же мне типа друг — хочешь не хочешь, а отдашь.
— Ну держи, — отдал ему мои бедные денежки, 300 евриков и еще по децелкам. Ну это действительно почти все, что у меня было, тут я честный.
А Латин, как монеты заполучил, тут же обнаглел типа и сразу хамить, конечно:
— Дурак ты, Северин. Живешь в корне неправильно. Это тебя и сгубит. И не только ты, как, наверное, догадываешься. А вообще всем нам нечего делать здесь. Полнейший гриндец. И тебе рекомендую скабливаться.
Произнес слишком много для себя фраз и стоит умиленный собой, а сам зыркает, что бы еще выпросить. Знает ведь, что не могу отказать, гад.
Понимаешь, — говорю. — Есть вещи настоящие и ненастоящие, есть двери открытые и закрытые, а посреди этих дверей мы — те, кто уже очень давно ничего не понимает по-реальному.
Ага, говорит, а я ему катись, тебе же чем быстрее, тем лучше.
Ладно, ушел.
Сел я за стол к томику Ясперса. Вот ведь, думаю, как в природе все ловко устроено. Нет ведь худа без добра. Неприятности-то, черт с ними, с неприятностями этими. В конце концов вся жизнь — это одна сплошная неприятность. Глобальная. Подумаешь, одной больше неприятностью, одной меньше. Так ведь благодаря неприятностям крылышки Латин свои расправит, раскроет их мигом, да и отправится путешествовать. Увидит города разные, страны диковинные, может быть, даже в Южную Америку попадет. Будет сидеть Латин в Буэнос-Айресе, текилку глотать будет, вспоминать меня да глумиться, посмеиваться.
Мир явно несправедлив, разлимонился я. Видимо, для того чтобы отправиться в путешествие, нужно поймать неприятности. И видимо, чем крупней, тем лучше. А без и геморров-то ведь так и буду я бродить по кафе, по клубам да по юроду зашторенный на тачке мотаться. Да-а, дела…
Загрустил я жестоко, а на улице слякоть, грязь, люди ходят взад-вперед. Нечестно ведь.
А тут опять звонок. Не успел открыть — залетают. Целая стая дурачья, и ни одной знакомой рожи. И опять мои вещички на пол опрокидывают. Порыскали, порыскали, а потом один из них, такой нахмуренный ублюдок, и спрашивает:
— Можешь не трандеть по-лишнему, Северин. Сколько назад к тебе заезжал Латин?
Ха, больно мне надо. Раз прибежали, значит, типа в проводках.
— Да только что.
Сел нахмуренный, закурил, короче, как ему кажется, весьма грозненько смотрит и продолжает.
— А вот мы его очень ищем. А куда он поехал? А зачем он к тебе заезжал? А срочно он нам нужен.
Миллион, словом, реплик.
Ну тут ответил я, что куда он поехал не знаю, а просил он денежек, а я ему и не дал, типа должничок некорректный. Зачем они его ищут, мне неизвестно, да и параллельно глубоко мне, как на Латина этого самого, так и на вас, разлюбезных.
Здесь мне для профилактики по башке двинули да и растворились. Торопились они очень. Теперь-то совсем хреново мне стало, поднял я книжки и швырнул на диван. В этом мире, пожалуй, не до чтения. Ударил я еще по синей волне, да и почехлил на кухню тараканов мониторить. Их так много, как и людей на улице. Иногда мне даже кажется, что они у меня покрупнее и поумнее, чем реальные люди. Все бегут, бегут, перемещаются, А я все считаю их, считаю. Но все без толку — быстро сбиваюсь… Тут уж совсем я подсел на жуткие депресснячки.
Вижу в дымчатом тумане своего земляка Канта (снова, блин, Могила), он мне пальчиком так лукаво машет и говорит: «Правильно, Северин, делаешь, правильно…
Терять давно нечего!». Здесь распахнулись мне врата познания, и начал я тонуть в пучинах мысленных.
И, представляете, снова звонок. Тут уж шторканулся я вообще по полной, отшвырнул стул, злость вскипела цементом.
— Кто там еще? — и дверь распахиваю.
Соседка. Улыбчивая такая, вежливая. Я еле успел сдержаться, чтоб дальше пасть не раззявить.
Однако она всего лишь за почтой ходила, мне конверт заодно вынула.
Взял. Ладно, мол, спасибо, извините.
Вернулся на кухню, уже сам нервканул, расшвырял все. Конверт, думаю, надо открыть, прочитать, думаю, надобно. Да не получается никак после визитов всех этих. Подергался я по че-как. Повертел конверт как мог и замер без движения.
Так, думаю, реальный мэйл. Положил его и думаю чисто теоретически. Надо отметить, что я никогда не получал реальных мэйлов, ну если только повестки в суд или из ГИБДД. Оттуда отнюдь не редко. А тут на тебе! Разглаживаю, гляжу. Откуда же это может быть? Причем предчувствие у меня такое, что в послании в этом не пакость, как это обычно бывает.
Утро вечера мудренее, решил я.
И брякнулся спать.
* * *
Утро? Ну, конечно, милый шоп внизу.
Типа магазин.
Приятного мало от такого визита, чего уж там.
Они надвигаются на тебя повсюду, жди только, кто из них что выкинет. Каждый из них безусловный «чужой», такое впечатление, что сейчас кто-нибудь вспрыгнет и вцепится в тебя с ненавистью, а остальные бросятся помогать. Мое «Я» настороже. Впрочем, настоящая причина страха совершенно размыта, и при несомненной текущей опасности осознаешь: все повторялось уже тысячи раз, а я до сих пор цел.
В шопе, ясно, толпа. Большая и широкая очередь за некой хавкой. А наверху, над прилавком тем самым, «Хрюша ням-ням», раздача, реклама. Фирма какая-то мясная щедрая. Безусловно, ради халявной жратвы каждый готов на все. Рухлядь плешивая, на крупинки рассыпающаяся, бьет другую, помоложе и приговаривает нежно:
— Ты здесь, мразь, не стояла!
Та за лицо хвать, из него красное капает. Скрючилась. Ее моментом в сторону. Понятное дело, чтоб слабый «чужой» не мешался.
Мужик с неровной бороденкой, гашеный в хлам, орет надо всей толпой истошно и сипло:
— А ну в очередь, суки, все!
Значит, рекламная акция удалась на славу, раз так живо они слетелись.
А одуревшая тина лет семнадцати, симпотная даже, в белоснежном передничке, ножом размахивает лихо и тоже визжать:
— Да когда же вы все отоваритесь? Мне, что ли, по кайфу здесь виснуть за три доллара в час? Сейчас никто ничего не получит!
От всего этого гама и спертого воздуха мне тут же сплохело. И прям иголочки внутри башенки цифранулись туманно. А может, это просто позавчерашнее экстази меня на постсвечении торкнуло.
Толпа еще больше загудела… Финские ножи засверкали… Кто-то даже, кажется, затвор передернул…
И все к девке ринулись.
Нужно поскорее сваливать, испуганно спохватился я, воткнул ноги в руки и выпорхнул из шопа. Проскользнул мимо людей — и в дамках. Добрался до дома туманно опять же. Помню только, как зашел, закрылся на все замки.
И молчок. Ни звука. Ни слова лишнего.
К окну? А там вроде никого. Наверное, все в магазине остались продавщицу разделывать. Посмотрел и облегченно рухнул в кресло.
Отдышался. Огляделся. Тихо все. Конечно, на улицу нужно выходить, лишь изрядно обосновав эту свою выходку. Вот, например, некоторые, побогаче, выходят на улицу только в бронежилетах и с десятком крепких друзей. Так еще куда ни шло. Ведь кто знает у кого что в башке…
Когда винтики отсканировались по схемам окончательно, вытер пот со лба, галстучек поправил. И замечаю конверт на журнальном столике. А я о нем позабыл совсем, дурында. Секу метку отправителя: «Академия Философии». Большой Город типа того, все дела. Я, конечно, удивле письму такому из Академии Философии. Совершенно не догоняю. А потом припомнил одну давнишнюю терку.
Ладно, открываю, залукиваю текст:
«Дорогой Северин!
Академия Философии извещает вас, что вы прошли отборочный тур на предмет обучения и переподготовки в прекрасных стенах нашей Академии. Наше заведение всемирно славится умением приготовления своих выпускников, а также подготовкой их для адекватной жизни. Вам надлежит явиться в Большой Город по нижеуказанному адресу для обучения. После чего вам будет выдан наш звучный диплом.
Ваша скромная зарисовка «Шоковое столкновение «Я» и «чужих» — единственно возможный путь продолжения существования», признана достойной для рассмотрения. А за участие в открытом творческом конкурсе выражаем свою искреннюю признательность и благодарность.
Надо отметить, что тезисы ваши мы признали интересными, но основные идеи крайне сомнительными. Тем не менее ваша работа заслуживает внимания и коррекции. Не прощаемся».
И три подписи.
Если уж появляется что-нибудь привлекательное в этой каше, то в самый нелицеприятный момент. Так всегда. Выплыть почти никогда нет возможности. Ты все время барахтаешься, барахтаешься, гребешь изо всех сил, а все бесполезно, и только и делаешь всю жизнь, что тонешь.
* * *
Питания нет, в магазине не сложилось, монеты почти все скинуты Латину. Неизбежно задумался о письме столь мазовом. Типа как нежданно-негаданно оно ко мне прилунилось, обозначилось. Хотя в мои-то годки самое оно — метнуться куда-нибудь по дурке, верно? Пока фиолетово-то все, параллельно. Потом-то, попозжей, потрошки уже толком и не поднимешь, когда «чужие» родственнички и «чужие» близкие тебя в плотное кольцо возьмут и окучивать станут по полной. Так что… Чего уж там!
Чтобы успокоиться, я отважно включил ящик и сразу впоролся в ньюс. Ящик — вещь путевая, спору нет. Хотя, конечно, поприятней ночные каналы заглатывать. С MTV и тинами, понятное дело. А сейчас, как всегда по утрам, прилизанная герла на «Вести-24» смотрит сочувственно так на зрителей, листки отпечатанные перебирает туда-сюда. Это ей другие журналисты типа подсуропили. Те другие, любознательные, бегают, спрашивают что ни попади и всегда все перевирают — у них работа такая. Их сначала учат, как помелом поактивней гнать и как лучше в доверие к людям втереться, а потом на конвейер запускают, чтоб власть на информационные поводы и прогоны расфуфыривать. Эти недотепы бегают взад-вперед, как те чеки из сказки в кукольном театре про дурика, монеты сдавшего. А потом приходит их хозяин Карабас-Барабас и всех без вариантов сжирает.
Так вот. Сначала, значит, появляется президент наш на экране, задумчивый, как всегда, и со взглядом велемудрым. Буркнул там, типа приветики. Взгляд-то пустой, но напрягается этот парень заметно. Понятное дело, у него выборы там очередные на носу почесываются, так что вариантов нетушки. Любой ценой копошиться надо. Хоть тресни. Поднял наш достойнейший президент руку и смотрит вдаль, прямо за нас, прямо в будущее. А рука его, окрепшая за многолетнюю ответственность на всех фронтах, машет все кому-то и улыбается он уголками губ. Сам не понимает, куда сморит и чего хочет. Видно, с непередаваемой горечью переживает, как наша страняшка сливает свои имперские позиции. Президентом, ясное дело, быть тяжеловато. Но, согласитесь, на безрыбье и этот рыба, пускай хоть этот покувыркается. Могло быть и хуже. Водный спасатель. Или пожарник, к примеру.
Пробормотал этот высокопоставленный кренделек что-то смущенно, пожелал всем удачи искренне и исчез. А на скрине моего ТВ, ясен пес, война второй новостью после презика. Типа как Южный федеральный округ. Наши солдаты удачи, те самые пять процентов достойнейших, кто от армии не замазался откосить, и чернявые. Бегают по горам с автоматами и крошат друг дружку на стружку. Как оказалось, к чичам загребают ребятишек не шибко разбирающихся в механике, так как исключительно из-за неполадок в технике за неделю там регулярно разбивалось от восьми до десяти вертушек. Да и то хорошо, глядишь, обломками с неба, может и бандитов зацепит, поранит. Хоть что-то. К тому же широко разрекламированное как секретное оружие — умение российских десантников разбивать головами кирпичи — пока не нашло в Чечне практического применения…
И вот обозреватель появляется, головастый, симпатичный, упитанный, на руке «Rado», держится смело, мол, типа того, не лыком шит. Вот, подвергаясь опасности, пробрался сквозь войну и поясняет всем несведущим, что Чеченю давить надобно. Он позже еще глубокий фильм-боевик сварганил с католическим названием. «Чистилище» вроде. А показывают головача из Ханкалы, русской военной базы, несмотря на десятикилометровую эшелонированную оборону, там, говорит, очень опасно.
И по-репортерски бодро и лаконично говорит: в ходе наступательных боев за Ведено погибло несколько сотен боевичков, а также было легко ранено двое наших. Из-за разумных действий российских войск жертв среди мирного населения нет. А вот бандиты, каким-то макаром подло перекрасив самолеты под цвет и символику российских, разбомбили Шатой. Полегло немало мирного населения. Весь чеченский народ скорбит по погибшим. Во всех тейпах проходят антибандитские сейшены. Бандиты, говорит, в очередной раз показали свое истинное лицо. И как еще откровенно подметил, уж в двадцать втором веке война по-любому закончится.
Синий гул. Синее чеченское небо и гул вертолетных лопастей, разрезающих его. Синий гул. Это летят федералы.
А мне-то не по фигу ли? Лишь бы в тепле сидеть и подальше, еще можно перед ящиком чай попить. Потом я еще могу постирать шмотье, торшер выключить и попытаться доказать какой-нибудь юной поросли противоположного пола, что еще пока жив.
Жалко, конечно, чернявеньких. Ведь если верить федеральному агентству военных новостей, там уже три населения Ичкерии ласты откинуло за свободу. Наверное, остальные чернявые, которые не чеченцы, в географии плохо разбираются и забредают на опасную территорию. Будем снисходительны: темные народы, дикие, сами не знают, что делают. Им бы географию учить.
Эх, скукотища! Так решил я и выключил телевизор. Смотрю, так тоже скукота смертная. Не выдержал, снова включил. Интересно же, какие еще геморры на шарике и где происходят.
А там лайнер пассажирский падает со свистом, а от него куски еще по пути начинают отлетать. И в землю — хлоп. А огонек такой яркий-яркий. Я даже на фейерверке на день города огонька сильнее не видел. Чтобы можно было поднасладиться огоньком неоднократно, наши мудрые телекомпании показывали трагедию в каждом блоке новостей, десять раз, с утра до вечера. Чтоб никто не пропустил. И чтоб люди за жизнь свою бесценную помнили, все, мол, в мире тленно, чтоб переживали. Голос мелодичный за кадром сообщает жизнерадостно: де самолет был американский, почему разбился неизвестно, а погибло двести шестнадцать человек. «Неплохое сообщеньице! — воспрянул я духом. — Еще парой сотен америкашек меньше». А че? Они, гады, мне визу в свое время не выдали, когда я к ним в гости в Иллинойс нагрянуть хотел, ознакомиться в духовном порыве с демократией и подлинным счастьем.
Потом по телеку показали еще иудеев, прыгающих по Палестине, и племена африканские в Сомали, как они там тоже за свободу и независимость друг другу по полной программе втюхивают. Теракт с еще одним огоньком и крушение поезда. А затем черная траурная рамка пошла, и ведущий — уже парень, а не та герла — скорбным печальным голосом, но растерянно, сообщил: коллегу у них на телевидении жизни лишили. Журналиста, то бишь. Но известного своей честностью, независимостью и принципиальностью. «Тоже ничего, — пришел я в окончательно благостное состояние духа. — Такая у них судьба у самых честных, чем больше честности, тем быстрее копытки отбрасываешь». Премию назначили за раскрытие, ну как всегда, в общем. Обидно, конечно, — если рядового гражданина жизни лишают, им плевать, а если честного журналиста — скулеж до звездочек. Впрочем, в жизни бывает, видимо, только «плохо» и «очень плохо». И единственное, о чем стоит просить, тупо уставившись на бездонное небо в надежде засечь какого-нибудь самого продвинутого бога, так это о том, чтобы не стало еще хуже.
Но, конечно, новости очень нужны. Хотя бы затем, чтоб живым себя ощущать и знать, как много плохого и очень плохого помимо твоих проблем. А потому спать спокойно и спокойно личинок откладывать. И на работенке с улыбкой унижаться.
И вспомнил я про Латина недавнего. Распереживался так за него, расстроился. Ну из-за того, что уехал он, как и куда. Но уж, надеюсь, Латин никогда не доберется до Буэнос-Айреса или Рио-де-Жанейро. Это по-любэ моя тема.
Выходить из дома было нереально — меня все еще колотило после посещения милого шопа. Пригорюнился я и снова призадумался на тему шокового столкновения «Я» и шести миллиардов бесспорных «чужих». Но как же, черт побери, все-таки добраться до Южной Америки, а?
Не к чему размышлять о странах, городах, исчезнувших людях. Бесполезно. Лучше выпрыгнуть из подъезда, плюхнуться в кар и бесцельно мотаться по Городу, зашиться и думать, думать, думать. На одну лишь тему — почему же все именно так получилось. Тогда все начинает плавать, и тачку ведешь на рефлексах. Да мне, дураку, и не привыкать.
Что-то. Оно расширяется и крепнет. Оно хочет выйти из меня наружу и трясется. Что-то пронизывает все вокруг и разрывает информационным шквалом на части. Что-то повсюду и нигде. Что-то не хочет есть, пить, спать. Ему не нужно потеть или кашлять. Что-то, это квинтэссенция времени, снаряд пространства. Я и сам не знаю, где я, что-то тащит меня неизвестно куда. Но ведь реально-то этого что-то нет. И тогда можно впечататься на тачке в столб или дерево, хуже не будет. А может, ехать к океану? Ведь, как говорят, только океанские ракушки хранят музыку и радугу. Я поеду и спрячусь в них. И будут только музыка и радуга. Можно оторвать руки или проткнуть печень, или положить свинец под язык. Все погасло, весна не придет. Можно слиться с тачкой, с асфальтом, с чем угодно. Мелькают дорожные знаки и огни светофоров. Темнеет. Должно быть, особи уже засыплют. Завтра они почистят свои клыки и побредут на восьмичасовое состязание. Когда один из них, отработанный, валится без сил, они собираются стаями и начинают вопить. Кладут особь в коробку и зарывают. Да какое мне дело? Уж лучше заткнуться.
Короче, остановил кар у тротуара. Прикуриватель не работал. Ну, конечно. Пришлось выйти на улицу и стрельнуть лайт у первого проходящего мимо. Прикурить-то он дал, а потом отодвинулся резко, дернулся натужно и прибавил шажку. Обиделся я ужасно, скис окончательно. Снова двойка. «Тогда пусть они пеняют на себя, — решил я в своей обиде. — Больше никогда ничего не буду у них спрашивать».
Сидел в каре, курил. Вроде еще думал о чем-то. И развезло меня. Вот стрит, огоньки, дома. В домах свет горит, там люди прячутся. Ночь на город давит упорно. Усталые люди парами прогуливаются, тачки взад-вперед безо всякого дела ездят, асфальт блестит. Скоро, уже очень скоро на деревьях залицезреются зеленые листочки. Тогда станет еще хуже. Хотя, понятно, лучше не знать, что ждет тебя впереди. Это не так пугает.
Все вокруг как рыбы в затхлом прудике. Плавают в ной тине, едят водоросли и личинки откладывают. Некоторые неразумные взлетают над прудиком и видят, что вот оно небо, солнце и яркие звезды. Ныряют обратно,
остальные сбегаются, и неразумные говорят этому судачью: «Что видели! Ух, что видели!». А другие не верят им и на всякий случай убивают. Бесполезно высовывать бошки. Бесполезно искать облака. Лучше прятаться в водорослях, никогда не выпрыгивать и не пытаться выбраться из болота.
2
Совет. Вот что мне было нужно.
И причем совет заинтересованного в моей судьбинушке человека.
Случай был исключительный и жизненно важный — оставаться в Западном Городе было абсолютно невозможно, к тому же меня всегда тянуло попутешествовать. Конечно, с большей радостью я поехал бы в Южную Америку, но, во-первых, у меня было не так уж много ласковых баксяток, а во-вторых, все мои друзья, у кого тоже теперь было не все в порядке, собирались в Северный Город и меня туда науськивали. Кричали, мол: «Север! Северный Город! Вот там хорошо живется!». Слабо я им верил. Я думал, что там так же отстойно и параллельно, как и здесь, как и в любом российском городе. Ведь это явно не Южная Америка… К любому городу привыкнешь за три месяца и опять дальше куда-нибудь ехать понадобится. Все города одинаковы. В принципе для того, чтобы все понять, не нужно далеко ехать. Везде есть честные, порядочные люди. Даже в Антарктиде. Пожалуй, если бы где-нибудь их не было… вот куда бы я поехал…
А пока за заинтересованным советом надобно было переместиться. К кому? К девкам, понятное дело. У меня было две девки в Западном Городе, Альфа и Бета. Это я, конечно, их так только про себя называл. В миру они под другими наймами колготились. Я, понятно, поразмышлял, к кому ехать сначала, к Альфе или Бете. А после минутного замешательства решил.
Своном, поехал к Бете. За советом.
Бета была не хуже, не лучше остальных молоденьких тинс, только жила одна, а поэтому я к ней частенько заезжал. К Альфе я заезжал пореже, потому как предки уж очень тщательно бедолажку на пятилетний срок в универ тот знаменитый на юрфак грузанули, и моя рожа, отвлекающая Альфу от получения едикэйшена, им отнюдь не импонировала.
А вот у Беты тесная дружба с учебой, как, впрочем, и с головой, явно не сложилась. Но несмотря на эти немаловажные обстоятельства, она изредка ляпала довольно дельные советы. Но только редко. Очень редко. Как и все девушки, Бетка жила в конкретной рациональной действительности. Это ее и сгубило. В конце концов.
Приехал. Позвонил. Открывает.
— Привет, — говорю я как можно радостнее. — Можно, надеюсь? К ВАМ? — это уже с сарказмом спрашиваю. Типа того откажет, не обижусь, вернее, обижусь, но типа готов к такому раскладу.
А она так живенько подбежала дверь открывать, что я сразу прокнокал — не меня милая ждет, не меня.
— А, это всего лишь ты… Ну, заходи… — вот как меня встретила эта потенциальная «заинтересованная советчица».
Ладно, зашел. Чего уж теперь выкобениваться?
Хотя и поругаться, как я резонно предположил, тоже было реально развлекательно. А вообще обиделся я, едешь, торопишься, думаешь, совет тебе сейчас дадут дельный типа. Ведь жизненка решается. Как жить, где жить? Как делать, что делать? Несешься, а затем тебя так вежливо встречают, что в шемент сечешь любые расклады. Конечно, бессмысленно слушать людей. Им нет до меня никакого дела.
Уселся, насупился. В квартире тепло.
— Чай будешь? — вяло спрашивает она.
— Да, конечно, спасибо.
Добрый я, вежливый, потому как мне советов надо. Хотя когда ты распахиваешь пасть, все уже знают, что ты скажешь.
Люди говорят одни и те же слова, им не нужно выдумывать другую лексику, им достаточно нескольких десятков привычных фраз и выражений, чтобы донести до вас свою тупость. Да и зачем, в сущности, больше? Главное, особо не высовываться. Того, кто пытается говорить больше, затыкают или в лучшем случае с ним не разговаривают. Никогда не следует умничать, другие могут решить, что вы слишком много на себя берете.
Бета спрашивает меня о делах. Нормально, хотя плохо, хотя скорей совсем-совсем плохо. И она жалуется на свои жизненные проблемы: кончилась тушь, два дня не ела своих любимых кексов, диетических, разумеется, от обычных толстеют, ей нужны некоторые новые шмотки, и вообще такой ужас, она, видите ли, очень давно уже не была в ночничке, было бы неплохо, если б ей удалась туда заглянуть, сначала в какой-нибудь ресторанчик, а затем, естественно, в ночной клуб, там в «Универсале» сегодня «Мельница», прозрачно намекает она. Да, вздыхаю, по всему катит, монетки ей опять надобны, как, впрочем, и всем, в кого ни кинь, вокруг.
— Я же давал тебе двести евро на прошлой неделе, — с укоризной говорю. Мягко, конечно, чтоб не дергалась.
— Двести евро — это сущие гроши, понял?
Быстро она подзавелась и на дергач плюхнулась! Мучайся теперь с ней вместо советов. Бетка романтична, очень романтична. Она даже более романтична, нежели Альфа. Когда к ней иногда приходят мысли и пунктирчики в башенке сцифровываются, она закатывает глаза и смотрит прямо за горизонт, а может, даже и будущее прорицает. Она гонит и гонит, она несет и несет, и даже кажется, что она BCЕ понимает и знает, почему все именно ТАК получилось.
Киваю, вздыхаю, поддакиваю, а сам мимо ушенок плавно передергиваю. В конце концов какое мне дело до ее закидонов? Она может задвигать свою хреномуть сколь душе угодно. Мне по барабану.
— Короче, — перебиваю достаточно резко. — Денег нет. И не предвидится. Ты сама лучше меня знаешь, какие у всех проблемы. Мне самому нужен от тебя самый искренний и чистый совет, который мне больше не у кого спросить.
Ну, это я наврал. Еще я мог спросить у Альфы.
Напомнил ей различные события. Смотрю, а она тускнеет прямо на глазах. Как оплавленная свечка. Человеку для разочарования требуется крайне мало. Я просто сказал Бетке, что у меня сегодня нет денег, и тут же оказалось: это самое глубокое ее разочарование в жизни. И подлость немереная. А если ты ей нравишься или еще что похуже, то тогда это просто финиш и все такое. Бета очень хорошая. А хорошие в людях не ошибаются. Какие уж тут советы!
Сижу, пришибленный. А когти рвать нельзя. Беда, и все тут. А Бета продолжает наворачивать:
— Ах вот оно как? Так бы сразу и сказал. Впрочем, что от тебя ожидать-то? Умным все пытаешься прикидываться? Делами заниматься надо! Советы? Я дам тебе миллионы советов. А толку-то? Соображать больше ты станешь навряд ли. Чесать языком — планировать — может всякий. А мне сейчас нужны евры. Да что тебе объяснять-то?
— Нечего, — уверенно согласился я, а она продолжает в том же духе. Ведь каждый имеет право на собственное мнение.
Иллюзорно все. И бестолково достаточно.
Что, действительно, болтать-то? Повсюду втирают, что у всех одинаковые возможности и все, мол, зависит от человека. Стремление превыше всего. И работать надо потщательней, поэнергичней. Кто не верит, может засунуть хавальник за океан и, обалдевший, столкнуться с фундаментальным достижением цивилизации — Американской Мечтой. И если просек, вцепляйся скорей в другого «чужого» и заглатывай его с потрохами, пока он не опомнился. И Мечту тоже не оприходовал.
Наверное, и мне стоит перестать пичкать себя глупыми побасенками. Перво-наперво нужно любой ценой набить карманчики ласковыми еврятками, а уж потом и за философию рот раззявить. Вот тогда можно запросто и насамолюбоваться и навеликодушничаться. И, как болтают, можно даже какую-нибудь самую продвинутую истинную христину и озарение или сатори какое самое бестолковое в силки завлечь.
Тут очень кстати в дверь затарабанили. Очень даже замечательно это было — претензяки наконец ее гнилые финишировали. Бетка сначала заметно обрадовалась, а потом смущенный смайлик на ее фэйсе рисанулся, и в коридор она, заспешив, побежала.
Ясно, пора и мне заглотнуть, кто это там. Тихонько и осторожно, как маленький гаденыш, покрался я за Бетой. Чего там! Я парень однозначно из любознательных.
Прихожая. Дверь. Глазок.
Там Бетка соловьем разливается и канарейкой прыгает. Пара ребят каких-то. Парни ей тоже смайлы клеют, на лихой раскураж зовут и вечеринку правильную. Лапы раздвигать, наверное. Любви, ясно, им хочется. XL в плане драгз лонгируют. Классно, обещают, будет. Весело всем и захватывающе.
Да, приехал к Бете за советом. А, впрочем, могло бы быть и хуже. Глупо надеяться на хорошее, если «Я» закинули в жизнь кромешную одну-одиношеньку, пусть помалкивает.
Ладно, смотрю.
И аж стеклышко глазка запотело от моей полезной любознательности. Да… Снова не повезло, а Бетка там все унижения за обещания ловит как может, ой, гонит, сейчас не могу, давайте, говорит, попозжей сама приеду, куда скажете. Вали, попробуй, решил я, а парни с ней неохотно так согласились. Еще я подумал, что не стоит теперь у нее ничего спрашивать.
Словом, возвращается, и вдруг совсем неожиданно для меня «желтые Омеги» в плане экстази достает. Что ж, поедаем. Причем в меня она целую таблетку вежливо задвинула, а сама разумно на четвертинке внимание сочла нужным акцентировать. Уж понятно, как сейчас торкнут-то «Омеги». Вернее, конечно, не всех торкнут, а меня одного. Ее-то с четвертиночки так себе цапанет, а меня вот с целой… Впрочем, сдержаться я не мог. Ладно, хаваю, запиваю минералкой.
Через сорок минут совершенно неожиданно предлагает вискаря на промоушен ласковый. Ну, «Red, что ли, Label». А себе пивка слабой «Баварии» из холодильника дернула. Словом, думает, я после «желтых» и вискарика как-нибудь дуркану и смоюсь, а она как раз четвертью и пивом разогреется и к пацанятам когти выдвинет. Ну уж нет, меня на мякине не проведешь. Так подло под «желтые» синево подсовывать может только человек, которому по натури на вас глубоко по плевкам. Так что решил потрошить мозги так, чтоб ей поздняк было куда-либо выдвигаться. Согласитесь, замысел был верный и весьма неплохой?
Все путем. Начинаем типа на ньюс раскладываться по языкам. Бетка все думает тайком, как бы меня сплавить. Кивает все, кивает, поддерживает беседу, еле сдерживаясь. Я делаю вид, что пришел надолго и угощениям не нарадуюсь.
— Что сейчас читаешь? — спрашивает.
— Бердяева, — вру я, с трудом припоминая какое-то имя из ящика.
— Угу, хорошая книга, — отхлебывает, кивая.
— Ты ж не читала, — наглею.
— Раз ты читаешь, значит интересно.
Бета живет в привычном мире. Последние волны телесериалов, рассказы подруг, а главное — сплетни. Ну там чужие свадьбы, измены, болезни, аборты и разводы. И еще те люди, кто уже успешно вскочил на своего золотого барана. В отличие от нее, естественно, непутевой.
Среди девок верхом на золотых баранах Кейт Мосс, Бритни и Клаудиа как ее там. Хотя кажется, что от этих напомаженных девушек в журналах прямо со страниц воняет макияжем, хоть нос затыкай. А другие девки, молодые, румяные, чистые, умные, сидят и втюхивают, впаривают друг другу, как жить правильно и стремиться к чему надо на йогах грамотных и шейпингах расчудесных. Вздыхают и спать со своими коммерсантишками достойными тащатся.
У Беты было четыре любимых журнала: «Лиза», «Клава», «Веселые кретинки» и «Абортница». Кажется, так они назывались. Последние два — наиболее близкие ей по духу и телу. Волокущие ее в яркую, ослепительно серую жизнь. В такую, где, по ее наивному мнению, не было еще никого.
— Ну ты пей виски, — говорит она так ласково. Тем самым наивно выдавая себя с нехитрым замыслом меня слить.
Когда человек намыливается тебя облапошить, самое лучшее, что ты можешь делать, так это незатейливо чепушить. И не надеяться тем паче никогда, что ты можешь хоть что-то просечь. Из «чужих» не выбить ничего никак и никогда. Так что то немногое, что оставалось, это чепушить, бредятничать, вуалировать «Я». Все, больше ничего.
Мы долго разговаривали с Беткой. Я, понятно, съезжал к дурнякам после «желтых» с вискариком, но медленно. Ну, чтобы дойти до кондиции, когда милой барышне уже будет поздно куда-либо ехать. А Бетка так дергалась и переживала, что прям жалко ее становилось до слез. Уж очень ей, видимо, поехать хотелось. Наверное, эти парняшики монетой подбрасывали на партиз. Конечно, все меня сейчас бесило. Вообще. По жизни. Когда-то Бета тоже что-то лопотала и сопротивлялась. Но теперь она перестала притворяться. Она повзрослела и ВСЕ поняла. И стала порядочным стремящимся человеком.
Говорить было бесполезно. Из ста двадцати шести языков не нашлось бы ни одного, который смог бы помочь мне. Мне и моим неполученным советам. Единственное, что оставалось, это посоветовать Бете смело отправляться во всех известных направлениях, а самому уходить смотреть, как там ночь и блики после «желтых». Так я и сделал. Хотя, конечно, нужно было отдизайнить ей хлебальник. Конкретно дизайн лица видоизменить.
Так все потом говорили.
* * *
Ночь и блики.
Темень и я.
Что ж, решил без колебаний увидеть хотя бы краешек космоса в своем путешествии. Выхолощить себя по дурке так, чтоб свои не узнали. Такой имидж, или как там, обрести, чтоб тибетцы с мексиканцами обзавидовались. Болтают, что если повезет, зазавидовать могут даже инопланетяне. Или пингвины. А уж пингвины-то точняк разбираются.
Тащусь по каким-то улицам. Самого Западного Города. Этот Город мне порядком поднадоел. Хотя здесь попадались симпатичные стены старых немецких домов. Хотя здесь, как и везде, кое-где был электрический свет.
Ночью довольно тихо. Ночью на улицах почти нет «чужих». Ночью всегда можно поймать крупные неприятности, а может, даже и приключения. Но однозначно, все, кто попадаются тебе, уже не скучны.
Иногда мне навстречу появлялись редкие персонажи ночи. Им давно ничего не надо, они давно залили себе внутрь различного пойла. По крайней мере они разбавили им свою тупость. Отдали дань Дионису, Рабле и сорока градусам Менделеева. Хотя и Менделеев тоже плохо кончил.
Западный Город стал враждебным и чужим. Просто. Без причин. Мне никто не нужен. Я никому не нужен. А что? Пускай. Это даже очень замечательно. Меня как будто здесь и не было. И все же я существовал. И все же я прозябал. И все же было очень грустно. Меланхоличные такие депресснячки накрыли.
Я шел мимо фасадов, деревьев, фонарей. Рекламных вывесок и плакатов. Какие-то яркие надписи зазывали меня.
Куда? Зачем? Почему? Все было фальшиво.
Обрывки зданий, куски дорог. Парки. Скверы. Площади. По крайней мере я был жив. А множество намного более умных людей вполне беспричинно умирало. Именно в этот момент. И потом. И всегда. Ничего не изменится. Пройдут миллионы лет одиночества, а будет только туман. Никогда ничто не закончится. Никогда никто не будет удовлетворен.
В тревожном свете луны и фонарей я видел знакомые лица. Они плыли мимо меня, меня не замечая. Они были знакомыми и одновременно совершенно неузнаваемыми.
Сначала вижу двух знакомых ребяток на «бэмке». Они мимо проскочили. Этих я знаю, они пребывают в творческом поиске пьяных тинок, возвращающихся поздно из кабаков. Церемонии неуместны, процедура отточена. Если девки не согласятся ехать на великолепный праздник сами, то один пес, пожалуй, все равно получат в торец и неизбежно поедут наслаждаться прелестями природы и Морем за Городом.
Как нас залечивают плотно отовсюду, мы все воняем и разлагаемся, время убивает нас ежесекундно, и надо отчетливо поторапливаться. Пока не поздно, надо реально действовать, бежать и кричать. Никогда не самоуспокаиваться. Пока, злорадствуя, тебя в дощечки не упаковали.
Затем увидел пожилого соседа. Я его знаю. Он существует в моем же доме. Он возвращается от своей еще более пожилой любовницы. Устав жить, он медленно бредит. Ему уже все параллельно. Сейчас он доковыляет, включит торшер, посмотрит в стену, застонет и выругается. Чуть позже он заснет и когда-то, спустя сто двадцать шесть дней не проснется. А пока завтра ему на работу. На свои десять штук в месяц он может нажраться только дешевой водкой. Ворвется тоска, он закатит глаза, изображение в зеркале остановится. И все-таки он чего-то ждет.
Дальше был Борис. Он весьма нервно передвигался. Он почти бежал и будет еще долго наворачивать круги по переулкам. Борис выпорхнул из одного небольшого зала казино. По-моему, это место называлось «Сан-Франциско».
Борис — интересный человек. Он претендует на роль тех, кто умеет летать. Это не шутки. Потому как, когда про это прознали те, кто также претендовал на эту роль, они выразили свое неудовольствие. В его голове вили гнезда ласточки, он также умел ориентироваться по облакам. Он даже пытался писать расчудесные стихи. А пока в абсолютно идиотской надежде на лучшее он проводит ночи здесь, причем даже не на блэкджэке или рулетке, а в зале игровых автоматов. Спецкор РТР в Самом Западном Городе Борис напивается, стучит по клавишам. Он никогда не выигрывает, он даже сам уже понял, что ему никогда не выиграть, и даже ловит от этого какой-то свой специфический драйв. Это уже просто имитация полета. Это уже просто абсолютный бред от усталости жить. Борис должен деньги всем и каждому, он проигрывает все свои заработки, оставляя деньги только для того, чтобы залить извращенное возбуждение от проигрышей алкоголем. Присев на синюю волну, он клянчит деньги у своих родителей, у своей девушки. Борису никогда не рассчитаться с долгами. Все это заставляло его постоянно и бестолково врать. Это был замкнутый круг. Он ругался и надеялся на некое подобие чуда, которое, может, и спасет его. Подобие чуда зыбко лелеялось, а вот само чудо не проявлялось. Позже он превратится в обычную рабочую скотину. В тот же самый миг он разучится летать, а ласточки прекратят вить в его голове гнезда. Ведь быдло и ласточки — понятия несовместимые.
Но хватит загоняться по другим. Ведь и свой шкурятничек имеется в наличии.
Словом, присел на лавку. «Желтые», понятно, шибко будоражили, поэтому пришлось немного по синей вдарить, чтоб осадило мал-мал. В мои годы терять было нечего. Как нечем было и обмануть окружающий мир. Чем, откуда? Я вспомнил про давешнее письмецо. А я уж и позабыл про него. Уехать, и как можно дальше уехать. Чего думать — в Большом Городе, вне всяких сомнений, лучше. Вспомнил содержание письма я с трудом. Это от беспокойства. А руки дрожали. Это уже от сегодняшних заморочек. Повторюсь, терять здесь было нечего.
Здесь, в Западном Городе, все равно бы ничего не изменилось. Как все были тяжелыми и тупыми, так все такими и остались бы. Кроме дележа на «Я» и шесть миллиардов бесспорных «чужих», люди делятся еще на множество категорий, к примеру, на быдло баранье и тех, кто тявкает. Я частенько потявкивал. И зачастую совершенно напрасно. И конечно, если бы я задумал прекратить свое жизненное путешествие, окружающие бы даже этого не заметили. Впрочем, в таком случае и с ними бы тоже все было покончено. По крайней мере для меня.
«Эге, — решил я, — ко мне сегодня еще приходит некоторое подобие мыслей». Помогает, могилка. Обнадеженный, я почехлил дальше.
Безусловно, что Бега, что Альфа совершенно ничего не секли. Хоти немного позже их собственные путешествия закончились вполне логично. Я поговорил ни о чем с Бетой. И в принципе был теперь этому бесконечно рад. А вот от Альфа, в отличие от нее, несколько позже ВСЕ поняла. Об этом позже.
А тот, кто научился цифровать пунктирчики, гарантированно проживет спокойно. И лишь иногда, в истерике, исключительно трясясь за свою зябкую жизненку, он Судет поднимать бараний свой таблоид, когда его, гавкнув, дернут за ошейник с экрана телевизора.
Меж тем я медленно, но верно продвигался к центральным улицам Города. Все блестело, пищало, бликало. Шелестело и мерцало. И казалось, что из каждого подвала доносится органная музыка. И казалось, что вот-вот феи начнут осыпать нас лепестками роз.
Вот и тупик Памяти Коммерсантов, бывший переулок Щорса. Днем здесь многолюдно, все заставлено палатками и киосками, легашами и теми же самыми коммерсантами. Ведь теперь все только и делают, что торгуют. Так что чего уж там.
Не знаю, как же меня так вставили «желтые Омеги», не знаю, откуда заплясала эта немыслимая вакханалия видеоизображения с саундом, но прямо на меня выплыл Лев Толстой. Ну в рубахе, портках нестираных, при бороде до пупа.
Он был конкретно и плотно зашторен. Это точно.
Увидев своими простецкими, но затуманившимися глазами меня, этот господин тут же поспешил поближе. А я хоть и опешил неслабо, задергался, но тем не менее где-то фоном мелькнула мыслишка, что было бы неплохо что-нибудь поиметь со старикана. Граф как-никак… У него изо рта что-то капало и это было не совсем приятно. Тем не менее я тут же пожаловался господину на слишком яркие огни, резкое пространство и туманные звезды. Он, конечно, не мог упустить случая все объяснить:
— Понимаешь, Северин, слово — великая вещь. Предложение, ясно, еще круче. Тем более если оно на полстраницы. Но, понимаешь, слово может разъединить людей, может соединить, — он замолчал и с опаской огляделся. — Ты понимаешь, о чем я, а? Берегись такого слова, которое может разъединить людей.
Мне показалось, что у него даже что-то за спиной блеснуло. Он снова с опаской осмотрелся и огорченно вздохнул.
Ну тут я из самоутверждения сказал уважаемому господину, этому престарелому мыслителю, что не согласен с ним в корне, но спорить не собираюсь. Он задумался и протянул мне фляжку.
Кстати, одет он был довольно прилично. Рубаха атласная, портки, хоть и грязные, зато бархатные. Так что вряд ли бы с ним случились неприятности. Хотя, может, и наоборот. Толстому явно хотелось чего-то большего. Великие необычные люди, они все такие. Его понесло:
— Смотри, Северин. Смотри, дурья твоя башка. Теперь я рассказал им все. Они меня так просили, так просили. И что же? Я им все объяснил. Я написал им такую сладенькую чепухень, и быдло мне поверило. «Воскресение» называется, кажется… Я уж точно и сам не помню. Помню только, что про девку там какую-то правильную. Ты только глянь, какой кэш на кармане!
Я зажмурился и заболтал головой.
Ярко-серо. Ярко-серо. Открываю — видение не исчезало.
Оно возбужденно раскачивалось. Трясущимися руками оно доставало приятные глазу пачки ласковых баксяток. Если бы только они повалились на асфальт, я бы помог их собрать исходя из некоторых своих проводок… Все-таки этот рерайтер действительно отхватил гонорар за свой бук. Я тут же предложил взять на ближайшей точке экстази. Его глаза радостно заблестели. Давай, конечно давай, прилип он ко мне. Все это было достаточно страшновато, но ради экса я готов был стерпеть и худшее. Но не успел я раскатать маршрут нашего предполагаемого путешествия и поймать тачку, как в его голове запульсировала очередная оригинальная идейка. Уж, на это он был способен:
— Северин! Дурак! Я понял, что нам нужно. Как и в моем последнем романе, нам нужны девки. Вот чего нам не хватает — домов терпимости! Как же я сразу не догадался? Короче, берем вдоль по Питерской барышень и едем ко мне в отель. Покатит развлекалово, а заодно проявим временное единение между идеей, буком и тинс, понимаешь?
Я, конечно, все понимал. Но это меня уже слабо устраивало. Нужно было как-то приходить в себя. К тому же мне не хотелось портить и так столь нафаршированный событиями денек какими-то сомнительными случками, а уж тем паче прослушиванием его измышлений и спичей.
Словом, отказался. Хотя этот персонаж, в отличие от Беты, мог бы надавать мне кучу различных советов. Мы расстались с ним по-мирному. Толстой даже дал мне автограф на совершенно измятой пачке «Winston’a». Чуть позже я ее выкинул, когда сигареты кончились. Все утро потом искал пачку. Ведь такой раритет! Ан нету.
И Город запульсировал.
И Город заскрежетал.
Улицы продолжали размножаться, а фонари сыпали навстречу блестящие лепестки. Они падали, падали и падали, застилая розовый снег до самого горизонта. Западный Город явно хотел подвергнуть меня остракизму. Здесь не было правды. Здесь не было ничего.
И когда лепестки завалили улицы, Город перестал пульсировать.
Город перестал скрежетать.
Лепестки действительно завалили все. Белые лепестки.
И яркие.
3
— Че-как заказывать будем? — спрашивает меня официантка и раскачивается взад-вперед в такт музыке. Наверное, она тоже барахтается в этом кабачке в поисках некоторой порции счастья. Приехала, обозначилась в Городе и резонно прилунилась работать в этой поганой «Солянке». Озлобилась, понятно, и чего-то ждет, дура литовская.
Конечно, в путешествии всегда приходится выбирать. Жизнь или коммерция, любовь или деньги, коньяк или водка. Поводов, чтоб задуматься, настолько много, что свихнешься в три секунды. Слава ангелам, что мне после вчерашних эмпатогенезиков задумываться особо не приходилось — и так ничего не лезло…
— Кофе, — вежливо говорю и сотик «Nokia» из кармана пиджачка выцепляю.
Ясное дело, у моей милой собеседницы уже все написано на роже. Несмотря на мою культурную вежливость, она недовольна.
— У нас ресторан… — лепит, мол, побольше надо заказывать. Перекошенный фэйс. Что ж, это ее проценты и план. Стол был грязный, стены синие, музыка и та попсня. Удивительно, как у нее еще борзометр шкалит претензяки озвучивать?
Не стал больше ничего заказывать, посоветовал нести, сказал, друзья, мол, сейчас подъедут, тогда так подзакажем, что аж за ушами треснет. Чего она еще хочет? Ничего? Тогда я жду. Официантка недовольно ушла, вихляя своими нижними кусками тела. Эх, бескультурщина!
Принесла заказ, поставила. Отхлебнул и звоню. Благодушный настрой у меня, но смобильнуться надо.
— Ну и когда вы подъедете? — спрашиваю.
Да, да, говорят, уже очень вскорости. Им какого-то мажорчика, сынишку чинуши из налоговой нужно было отвезти. Ну, помочь. Задерживаются, дело нужное, так что чего уж там. Но здесь у меня уже постсвечение повалило шементом, и после того как трубешник свитчоффнул, прямо сразу о самом боженьке задумался. О каком непонятно, болтают их наверху типа в небесных загашниках как грязи. Но раз уж я задумался, то бог уж наверняка какой-нибудь самый наипродвинутейший. Слегка с олигофренистым оттенком, конечно, как это у них там обычно бывает. Ну, да ладно.
Парни долго не ехали. Запарился я их ждать. А вокруг «чужие». Веселые, радостные, глупые. Шастают или сидят по парочкам, воркуют, значит. И я сижу, довольный собой и зоопарком. И так захорошело мне, так интересно стало на «чужих» смотреть, что вмиг расхотелось ехать куда-либо. Вот если б сразу где-нибудь далеко-далеко, высоко-высоко мне бы наобещали полный короб успеха и небо в алмазах, я бы ради интереса поехал. А так… Сейчас здесь было лучше.
А официантка наша разлюбезная, подстилка литовская, все норовила шестерить перед теми, кто больше заказывал по прайсам. Ясно, монеты — это и в Южной Америке монеты. Впрочем, денежка-то — вещь приятненькая, и любой, ясно, последними зубами перегрызет глотку за определенную сумму. Это уж без всяких сомнений.
Тут пацаны подъехали все же. Сели, по децелкам пожрали они. Олег, прискотинившийся когда-то сюда с Верхней Волги, и говорит:
— Что ж? Покамали! В пока еще несколько нашем филиале «Амок-банка» последних деньжат забрать надобно. Значит, поедем и заберем. Если прокатит, то даже, может, и чеки обнальнем. Если получится, конечно, понимаешь?
Я, понятное дело, снова все понимал. А остальные салат недоверчиво доедали. Зимний, кажется. В этом дерьмовом кафе всегда хрен определишь, что тебе подсунули.
— Да не катит, — отвечаю неохотно после паузы и вру: — Сейчас никуда не поеду. Здесь в кафе надо еще посидеть. Людей дождаться, себя показать.
— Как хочешь. Дело твое. Но на свой кэшок тогда и не рассчитывай. Даже не мечтай и роток не разевай. А как раз без тебя нам и лучше. Замучил ты на «желтых» в отходняшки падать постоянно. Делами надо заниматься и кефир пить.
А вообще, говорят, собирайся. Через неделю нас наконец ожидает волшебное сказочное путешествие. Чеки до конца оплатим, монеты до конца нароем да и в Северный Город рванем. Там, говорят, продолжать существование будем. Эрмитаж, говорят, Петропавловская крепость и Исаакиевский собор, понял? Здесь Море, там Море — какая разница? И еще Северная столица, говорят, и история. Немереное поле для деловой активности типа. Им там сидящий в Большом Городе на северном транзитняке какой-то Родион часть Васильевского острова на точняки наобещал взамен угнанных из Германии и перегоняемых в Центр тачек. Перебивают друг друга, радость у всех появилась и румянец на рылах засверкал. Мечтают, как в ночном клубе «Метро» будем виснуть, и норвежек, финок с эстонками все как один вдруг захотели. Эти задумки, конечно, были приятны для рассмотрения. А здесь, в Самом Западном Городе, считают, все кончено. Дела — дрянь. Но, как было видно, духом сами не падают.
Тут набрался я смелости и решился открыть им самое важное. Когда на что-то решаешься, нужно идти до упора. Чтоб ошметки во все стороны брызнули. Однако робею:
— Даже и не знаю я насчет Северного Города. В Большой Город я, наверное, поеду. Вот, зовут меня в Академию Философии. Я им написанную на могиле Канта работу «Шоковое столкновение «Я» и «чужих» — единственно возможный путь продолжения существования» послал. Они теперь там и рассматривают ее пристально. Надоело мне по монетам кочевряжиться. Может, умным где стану по случаю. А уезжать ведь все равно надо, верно?
Услышав название моей работы, парни, ошалев, притихли, и разве что рты не поразевали. А потом загалдели они, мол, дурак я, распоследний дурак, и что творить я там собираюсь, что бред несу и надо бы мне все доходчиво затемяшить. А потом сказали, давай, езжай, может, хоть там тебе брэйн вправят.
Тоже торопились они, как и Латин.
Тоже исчезли. И тоже зря.
Встретимся, мол.
Если принимаешь решение, прыгай сразу, авось дельная штука. Размышлять — себе хуже. Я уже и так напринимал по жизни столько неадекватных решений, что одним больше, одним меньше — невелика разница. Один пес — ловить было нечего.
Вокруг, как всегда, они. Искренние, доброжелательные, честные, добрые. Которые никогда ничего не поймут. Которые никогда не протрезвеют. Вот если б окончательно раскрылись египетские пирамиды, и фараоны, старые и мудрые, вылезли все объяснять… Вот это я понимаю!
А пока, видимо в ожидании появления фараонов, «чужие», как всегда, сидят за столиками. Они как всегда питаются. Они, как всегда, общаются. Когда-нибудь кончится праздник. Когда-нибудь кончится Лжизнь. Когда-нибудь наконец закончится все.
А они всё сидят. Они всё питаются. Они всё общаются.
За столиком рядом со мной обычная пара: молодая девчонка в лиловой кофточке с пятном от джема, и типичный левенький коммерок лет тридцати пяти. Абсолютно типичный. Заказывал он достаточно много. Конечно, официантка наша общая перед ним, как в раскадровочке, перемещалась. С этими было ясно. Девке в лиловой кофте было по вариантам здесь позиционироваться, ему после жратвы — подергать ее грудак и щеленку в уборной комнате, а потом отшиться на распасах. Завтра он опять будет жрать свинину в том же кабаке, где и семь лет назад, а она голосовать на Бульваре. Может быть, все и не так сложно. Он умрет от обжорства. Она лет через восемь, на очевидных клинах, которые проявятся при понимании, что никому уже не нужна. А время будет сверху петь: «Солнышко-солнышко, люди-люди, добро да любовь, тайм нас рассудит». И тоже, может, тогда все откинемся без лишних терок и депрессняков.
А вот Латина здесь сегодня не было и никогда здесь больше не будет. Наверное, он уже далеко-далеко, высоко-высоко. С Латином-то как раз все будет хорошо. Потому что он хотя бы отчетливо понимал, что есть ярко выраженный драйв, и есть ярко выраженный не драйв. Он никогда не сядет здесь ни за какой столик, не закажет себе пиво, не спросит у меня зажигалку. Латин не улыбнется шкодливой улыбкой какой-нибудь тине и никогда глупо не поглумится надо мной. Интересно, где же он сейчас шляется? Но я знаю, что он откуда-то все видит. И более чем видит — он понимает. Самое обидное, что все эти олигофрены вокруг все равно останутся такими же. Вот это уж действительно несправедливо.
За другим столом еще пара особей, тоже парень с клавенкой. Радостные такие. Их глаза настолько светились радостью, что было чему подивиться. Парень давал ей время от времени прикуривать, галантно ручки гладил и тихим голоском вкрадчиво грузил ее всяко-разно на разводняк. Тина привычно и покорно выслушивала бредятину и согласно кивала.
Впрочем, перед тем как смыться, лучше, понятное дело, наглотаться ломтиков жизненки по самые баклы. Да и по творческому замыслу бога есть три миллиарда «чужих» как твоего пола, так и три миллиарда противоположного. А такой замысел уж явно неспроста, верно?
Вот эти двое простачков за столиком… Это всегда так начинается. Взгляды… цветы… разговор при свечах… интерес… надуманные мечты и дешевые прогоны… А все равно ведь нажрутся пойлом в коматоз, налижутся друг у дружки слюны, косметики и пота, рухнут куда-нибудь лапать, хватать компаньона за разные куски по периметру оболочки. И разругаются еще в хламешник с утреца несомненно.
Однако такая развернутая диспозиция прибавила мне хорошего настроения. Единственное, что здесь еще бесило, так то, что все посматривали на меня с примерно таким выражением морды лица: «Уж я-то знаю, чего тебе не хватает, парень…»
Впрочем, именно поэтому ты их и терпеть не можешь. Каждый день они выбрасываются на улицу с лозунгошкой нехитрой: «Я живой! Вот еще один многообещающий денек!». Но для подтверждения лозунга им нужно собираться стаями. И чем крупнее стая, тем лучше. Озираясь, они набиваются в концертные залы, театры, дома, кафе, институты, банки, офисы и могилы.
А вот мои милые друзья, суки, к тому же ни копья не скинули по счетам. И хотя я тоже смог вкусить все великолепие еды, счет был астрономический. За столько рыл-то наших! Официантка улыбалась так радостно и злорадно, что все было ясно. Именно для этого мгновения она и жила. Это все, что ей оставалось. Видимо, в эти божественные секунды она общалась с ангелами.
Но тут, что меня искренне обрадовало, драка в кафе завязалась. Какие-то отчаявшиеся в своей жизни парни вдруг стали ловко насаживать друг друга на свои конечности. И вроде безо всяких видимых причин, но с крайней озлобленностью. Они били даже не в другие жизненные субстанции, а били прямо в себя, в свое конкретное одиночество. Наверное, они заранее сюда собрались именно для этой цели. А их девки так откровенно радовались за открытое проявление их космической тоски, как будто они сидели на какой-нибудь комедии или водевильчике. Они, видимо, считали их мальчиками что надо. Но это лишь пока их не трогали. Тогда они сразу визжать начали. Хватит, мол. Но поздняки… В них уже летели тарелки, стулья… рушились стены… мимо пролетали люстры… кометы… облака… моря и целые континенты… Что-то захлюпало… Они все уже были среди звезд. Как оказалось, это делается запросто. В пять сек. И лишь когда брызнула красная гниль, я немного забеспокоился. За свою шкуру, разумеется. С пылу, с жару эти отважные люди могли принять и меня за такого же, как и они, скота. Тут же вполне определенно цифранулось — пора сваливать. Рвать когти! И немедленно!
Волнуясь, я выскочил на улицу. И вовремя. За спиной что-то рухнуло, кто-то в полную мощь заорал, поднялся еще больший шум. Наверное, их захлестнула очередная волна скотства.
Я облегченно отдышался.
На улице было свежо, хорошо, тихо так и умиротворенно. Машины и асфальт. Каменные здания и луна. Все было абсолютно нормально.
А вот сзади все нормально не было. Там горело, дымилось. Вылетали стекла и обваливались перекрытия. Кто-то осатанело и радостно выл.
Возбуждение открыто заворачивающегося брэйна поднесло меня к дороге. Я быстро поймал такси. Несмотря на то что я потерял часть своих денег, оставшись в кабачке и не поехав с пацанами, день не был потерян. К тому же мне не пришлось платить за общий заказ.
Мне было хорошо.
Я уже почти спал.
Жизнь продолжалась.
* * *
Очередной день. Буду пытаться пробраться сквозь него на отходняшках, как и через многие другие. Дни распускаются и вянут, снимая с меня очередной слой кожи. За окном, конечно, светит солнце, а рядом вечная тревога туч.
Конечно, все никчемно. Глупо и безысходно.
Ползу, ополаскиваю водой свои отростки, впадины, рытвины и клыки. Бреюсь. Я использую какие-то необходимые предметы. Затем что-то съедаю. Пробуждение, болтают, как новое рождение. Но чем старше становишься, чем все отчетливей просекаешь — не то.
Я, значит, еще пока не совсем съехал… Я что-то еще просекаю…
Я хаваю взглядом печатные знаки из свежей газетенки. Понимаю с большими напрягами. Видимо, это опингвинение.
Я включаю ящик. В ящике толпа. Чему-то радуются, кричат и рукоплещут. Ведущий, неприятный такой, с рожей, с усами, с руками — все вроде на месте — в «Поле Чудес» буратин запускает, спрашивает, задает вопросы, лысый умница в зеленой рубашке победоносно отвечает. Он ответил правильно, все ловят неслабый приход. Ему место в Сорбонне или, на крайняк, в Академии Наук. Умнице выносят приз: бочку варенья и ящик печенья. Это от спонсоров… Но это уже не Плохиш… Это уже сам Кибальчиш бросается наземь… благодарит… лопочет… целует ноги, крестик и шины тачки в студии… Бочка с вареньем падает на стол, лопается, разлетается ящик с печеньем… Кибальчиш кидается и кричит: «Мой приз!»… залезает на стол… начинает есть… остальные сыплются со своих сидений… бегут… раздаются норманнские боевые кличи… Все в варенье и крошках… смуглый азиат хватает кого-то за ногу… Довольные айзера… парнишка лет четырнадцати крутит над головой Останкинскую башню… лопаются узорчатые витражи и барабанные перепонки… В зал врываются легавые…
Но что это меня снова переклинивает-то? Бр-р-р! И к окну. Там, слава ангелам, все как обычно. Обычные люди. Обычный магазин. Около шопа бабка с котомкой. Она остановилась и пересчитала мелочь. Она уже ни во что не верила. Она уже все поняла.
Отшвыриваю дистанционочку — пора окончательно приходить в себя. Начинаю подзваниваться. Латина, ясное дело, нет. Да я его и не ожидал услышать. Латин исчез даже с мобильника с той поры, как ко мне заезжал. Болтали, что он в Испании, но я думаю он в Уральском Городе. У Латина в Уральском Городе какая-то девка лет с семнадцати. Он часто исчезал и летел к ней. Доставлял ей монеты, конфеты, любовь и полный пакет вранья. Латин когда-то жил там, до всех расчудесных перемен. А там всего два выхода, наверно, и до сих пор: либо на Уралмашевский завод идти ишачить, прозябать по полной, либо башни кому компостировать. Латин — образный кренделек, он любит путешествовать. Он любит туман, скалы и южные ветра. Но пока Латин нелепо бьется об улицы, кабаки и дешевые вечеринки. Латин пересекает финиш, как стайер, он еще по инерции бежит, непонимающе озираясь. Он бежит тяжело. Он бежит со всхрипами. Но все равно на что-то надеясь. А в это время над его головой распускаются красные бутоны тюльпанов.
Что ж. Я звоню всем остальным.
А никого нет.
Наплевать? А мне что тогда делать?
Наверное, эти гады сняли те евры вчерашние и на рас-кураж подвыдвинулись. Уж что-что, а это они хорошо умеют. Теперь я их в лучшем случае дня три не найду. Если это так, то я, ясен пес, много теряю. Зябнуть буду тут, как дурень кромешный, а другие потом травить будут, разматывать про полные раскуражи неслабейшие. В «Ольштыне» там или на побережье.
Дальше пью кофе и расстраиваюсь. А чего задумываться особо? Пока в молодняке колготишься, грамотно хоть какой-то хэпинесс на разводках оттяпать. Потом-то, болтают во всех источниках, в тридцатник, чапать к радости по позднякам.
Здесь у меня неприятно засвербило на самом глубоком донышке душонки, под ложечкой засосало, отчаяние некоторое мерцающее вдалеке обозначилось, и зябкий страх закарабкался по полушариям.
Ладно, прыгаю в тачку, еду к Эру. Эр, в принципе, был неплохим парнем. Раньше он на легавеньких несколько годков заморачивался в шестом управлении. А теперь в западном филиале «Амок-банка» в службе безопасности суетился. Но сливняки он продолжал за монеты по леговским каналам раскатывать. Позже его вышвырнут уже отовсюду. Какое-то время он будет непонимающе барахтаться, жаловаться, у кого-то что-то просить. А потом дозняк лихой себе присунет и в дамки. Но пока у него все было ОК по тематике.
Приехал, короче, к Эру в банк. Позвонил с проходной по внутреннему, а эта сволочь мажется. Мол, не могу выйти. Обидканулся я, понятное дело. Нехорошо поступает, думаю. И тут же решил подрасспросить его, не затеял ли он положить конец нашему столь трогательному сотрудничеству. Тогда ему тоже кэшок не светит. Нашлось тоже, думаю, чудо в перьях на коньках. Пусть думает себе что хочет.
Ладно, дожидаюсь его терпеливо внизу в тачке. А этот милый дружок так быстренько выпрыгивает и в упор меня не замечает. Не знает меня типа того. Тут уж я злиться начал. Мне-то что, грузиться теперь по полной?
Выхода нет.
Зову, подбегаю, затаскиваю в кар.
— Хай! — говорю. — Ну что, как дела? Какие новости?
— А ты будешь лепить, что сам не знаешь? Докувыркались, голубчики. Как дела?! Какие новости? Это я у тебя хотел сам спросить. Нет больше никаких дел! Допрыгались, идиоты! А ты еще не вляпался? Теперь уж точно кончилось все. И с чеками вашими и со всем остальным. Я даже пикнуть не успел… Закрыли придурков. Хитрый Олеженька только и свинтился. Не появляйся здесь больше и мне не звони. А лучше уезжай куда-нибудь поскорее. И чем дальше, тем лучше. Удивительно, что ты здесь, Северин. Впрочем, ты всегда был не в себе. Вот Латин по-моему раньше всех все понял. Убирайся из города! К чертям собачьим! В поселок Солнечное Далёко! В Антарктиду! И все. Пока. Удачи тебе и сказочного счастья в личной жизни.
И убежал впопыхах.
Я даже не нашелся что ответить. Похоже, эта речь была у него отрепетирована. Он, наверное, ее всю ночь для меня обдумывал. Все равно ему в итоге не повезло, как он не шифровался. Эр пытался усидеть на двух стульях, а так не бывает. Еще никому не удавалось сбить одним камнем две птицы, верно?
Ну что же. Наконец-то мне все объяснили. Лень и глупость в очередной раз спасли меня от неприятностей. Ведь если бы я поехал со всеми из кабака, то ведь и я бы вперся по полной. Ха, однако, мне еще хоть в чем-то везет.
Раз так, конечно, уезжать. В другой какой-нибудь самый изумрудный и волшебный Город. Там другие ночные клубы и кафе. Там другие театры и музеи, библиотеки и проститутки. Уж про другие города я много хорошего слышал. Все говорят, там хорошо живется. И люди, несомненно, намного лучше. Говорят, если там особо не лениться, то сразу заживешь король королевичем. Перспективы в других местах уж точно расчудесные. Элитных девок полно лукошко, хорошие качественные наркотики и спокойная, но престижная работа. Это уж точно все для меня создано в других городах. А поеду я в эту Академию Философии. Буду каждый день ходить в это забавное заведение, стану очень умным и грамотным. Ведь можно даже лет через двадцать прибиться к какой-нибудь крутейной философской школе. А чтобы стать вообще преисполненным вселенской мудрости, нужно найти там какой-нибудь первоначальный источник доходов и тину, у которой можно подживаться по бытовым разводкам. А может, и стану хоть каким завалящим философом, и куда там всем грекам. Вот она, ахиллесова пята, соломоново решение, загадка сфинкса и ласковые ветра Эллады. «Уезжать как можно скорее!» — решил я и отправился скорей до хоума своего собирать манатки.
Надо было сматываться.
Да и поскорей.
* * *
Последний вечер. И конечно, депрессы жуткие.
Грустил, сидя за письменным столом. Столько людей оставалось в этом Городе. Все они, каждый по-своему, пытались найти свое счастье. Они что-то пытались создать, куда-то бежали, во что-то верили. Чаще заканчивалось вовсе не так, как они ожидали. Ведь жизнь расцвечена исключительно темно-коричневым или в лучшем случае ослепительно серым.
Еще внешне помню тех четырех ребят, но уже не помню их имена. Они тоже все куда-то спешили по трассе. И всмятку. В конце концов, наверное, можно было и не расстраиваться — хуже не бывает. В другой машине тоже было трое. Но этих я не знал, так что какое мне дело? Там еще девчонка одна чудом выкарабкалась. Но она теперь долго будет все понимать из окна своей комнаты. Она будет долго смотреть и ждать, пока все образуется: почки, руки, ноги и расплавленные мозги.
Тогда же железнодорожный состав разметал двадцать ребятишек, застрявших в автобусе на переезде. А ублюдки сверху додумались до того, что объявили национальный траур. И их детские лица дня три показывали по всем телеканалам. В конце концов пускай они останутся такими, чем если бы их показывали взрослыми, издерганными и разочарованными. Конечно, я ничего по большому счету не имею против этих милых икарчиков. Ведь каждый взлетает как может. И может, это и есть та нелепая точка настоящего, фиксирующая факт твоего собственного бреда.
Передо мной на полке стояло несколько книг, которые насоветовала Могила неподалеку от дома. Стоики и киники, идеалисты и экзистенциалисты. Все они искали правду. Толпы искали истину в вине. Император Веспасиан искал истину в дерьме. Но ведь тоже искал.
Перелистываю «Антологию кинизма». Но сосредоточиться нет никаких сил.
Ведь уже десятки людей промелькнули мимо меня, как картинки немого кино. Как привидения. Все они сопьются, женятся, растворятся каждый в своей каше, словно масло.
Чем дольше я рассматривал странички о Диогене, тем больше понимал, что парень-то, в сущности, был полный дурак. И если бы он жил сейчас, то наверняка катил бы ультраправым типа Жирика нашего или Ле Пена. Сперва Диогена вышибли из Синопа. Судя по мемуарам его современников, то ли он неплохо подделывал фальшивые монеты, то ли во всем был виноват его пренеприятнейший папаша. Придя из Синопа в Афины, этот хитрый парнишка ловко осознал, что, видимо, в плане денег ему не покатит, и стал позиционироваться типа как умный. Сначала для порядка он подлизал Антисфену, а потом уже стал сам всех лечить. Самое главное, о чем Диоген догадался сразу, было то, что надо посылать всех к чертям и Гесперидам, а также в дальнейших дирекшенах. Евклида и Платона он держал за полных кретинов. Но в своем саморазрушении он действительно дошел до крайнего предела. Проблемы секса Диоген решал героическим онанизмом на центральной площади города. Причем всем окружающим жаловался, что было бы неплохо подобным образом избавиться и от голода. Как-то он увидел повесившихся тинэйджеров, болтавшихся, словно новогодние фонарики, на оливковых деревьях. «Вот это да! — обрадовался Диоген и задумчиво добавил: — Вот если бы еще на каждом дереве висели такие восхитительные плоды». Ко всем людям Диоген относился, как того и требовала сама жизнь — как к бесспорным «чужим». Надо отметить, что много раз он безнадежно пытался им все объяснить. Как-то раз взобравшись на холм в центре города, Диоген крикнул: «Люди!» Недолго размышляя, куски спрессованного фарша сбежались со всех улиц. «Я звал людей, а не дерьмо!» — кричал он, ловко проходясь железной палочкой по головам. Естественно, понимали его с трудом.
Хотя нет, знаете, сейчас Диоген был бы даже не ультраправым, а однозначно скинхэдом. «Думай ботинками, а не головой!». И смелый удар в табло всякой неруси. А «гражданин мира» — это, конечно же, лукавая вуаль.
Да, меня откровенно заносит. Явно надо еще в Академии Философии подучиться для базы.
А ведь люди уже давно обо всем догадались. Ведь еще у самых ушлых греков планка упала совсем не по-детски. И сидели эти философы, размышляли. И наконец, самый пройдошистый из них решился. «Эврика! — говорит. — ВСЕ понял!» Другие заволновались: «Че? Как?» «Да очень просто: нарисуем внешнюю ауру благопристойности, навесим на людишек тонкую корочку добропорядочности, а внутри себя убивай, воруй, предавай и гадь. И самое главное — чуть что, прятаться под эту корочку, которую можно обозвать демократией. Тогда все быстро решат свои проблемы. А народу этому, быдлу, надо изобразить внешнюю сказку. И еще набухаем под эту личину патриотизма. И чуть что — Родина в опасности. Внешний враг обезумел. И все быдло на бойню. А кто осмелится раскрыть свою пасть — со скалы!». Этот изобретатель вскоре исчез. По-моему, его первого со скалы и отправили. Потом уже не греки, а немцы сколько всего повыдумывали: коммунизм, национал-социализм, долихокефалию, жизненное пространство и чистоту. Ну, немцы, ладно, черт с ними, от них всегда можно ожидать любой подлости, но вот от греков я эдакого подвоха никак не ожидал.
Все-таки я явно секу не все поляны.
Черт с ним, пусть ставят меня в Академии Философии в стойку и образовательную базу втюхивают.
Я даже постараюсь не сильно вякать.
4
Собрал, значит, деньжата какие мог да и на вокзал. Тачку в гаражняк загнал — на нее доки были не в поряде. И брать с собой, понятно, никак.
До поезда еще оставалось минут тридцать. Делать было совсем нечего, разве только с ошалевшим взором наблюдать за окружающей катавасией.
Уж чего-чего, а такого скопища людей я здесь никак не ожидал увидеть. Поезда постоянно разгружались и загружались. Тогда часть этой живой переливающейся массы отваливалась в утробу очередной железной глыбы, которая увозила их, наверное, в сказочные страны. Все они с таким удовольствием запрыгивали в вагоны, что я сразу догадался: где-то за пределами Западного Города раздают безусловное счастье. Конечно же, светлое, конечно же, солнечное. Они судорожно сжимали в руках билеты на этот экшн перемещения в пространстве и подозрительно осматривались, вычисляя своих конкурентов.
«Нужно быть начеку», — тут же решил я на всякий случай. Но для начала нужно было набраться мужества. И побольше. Причем только для того, чтобы вместе со всеми набить до отказа собой эти железные коробки. Из визга и свиста этих подозрительных катафалков было ясно: путь за счастьем лежит непростой. Ну да и ладно. Когда слоняешься где попало, испытываешь хоть какие-никакие иллюзии существования. А когда застываешь на одном месте, все вокруг начинает распадаться, разлагаться и все такое прочее. Каждый Город — как новшество на несколько месяцев. А потом исчезай, если есть хоть децельная возможность.
Думать было некогда. Словом, чуть не бегом я пока что бросился туда, где раздавали мужество. Раздавали, конечно же, не бесплатно. Пить, не думать и не раскисать — вот что было нужно. И конечно, смастерить такую же одухотворенную и нацеленную прямо в будущее рожу, чтобы эти горемычники приняли меня в поезде за своего. Я залил в свою глотку то пивко, что мне подсунули, и отважно вывалился из буфета на перрон. Было еще рановато. Что ж, прилунился на лавочке пустынной. Ногу на ногу забросил так, для уверенности. И только для того, верно, чтобы еще немного обалдело поразглядывать тинэйджеров противоположного пола.
Проходящие мимо пытались позиционировать себя типа как люди.
Те кто помоложе, бежали уверенно и быстро. Они даже навешивали на себя маску безусловного знания «куда, где, зачем». Впрочем, им даже параллельно куда. Они хотят смыться подальше во что бы то ни стало. «Весь мир в кармане!» — подбадривали они себя, постукивая по лопатничкам с папиными монетами, по слезливым письмишкам любящих мамаш и по фоткам любимой шалаверции. Ведь практически каждому поначалу кажется, что мир будет принадлежать исключительно ему распрекрасному.
С теми, кто постарше, хуже. Они устало брели, волокли свои сумки, старость и сумрачные надежды хоть на малое. Когда едешь по одному и тому же маршруту раз в тридцатый, думать уже не о чем. В баулах, конечно, тряпье на сэйл. Весь мир — это торжественные колонки цифр и прайсы. Они знают все рынки Европы и, наверное, высшую математику. Вместо взгляда — циркуляция многозначных чисел, вместо мысли — щелканье калькуляторов. Словарный запас в двести слов и полная осведомленность.
«Итальянские рубашки! Китайские куртки! Дешево! Лучше не бывает!» — лечат они простаков на всех рынках мира. «Это ты мне вчера рваные шмотки подсунула, падаль!» — уверенно вопят они уже друг на друга. Когда они ругаются, их просто колотит. В такие моменты к ним лучше не подходить. Наливаются кровью глаза. Это просто шизоиды.
Уставшие, они возвращаются иногда домой и причем только для того, чтобы вывалить на отпрысков свою же злобу и ненависть. Вот это уже вполне серьезно. Это тема для отдельной работы.
Они и ласты откидывают либо в поездах, либо на рынках. Если обобщить, их и тащить далеко не надо. Потому что поезда — это кремационные камеры. А рынки — кладбища. Если вы, конечно, понимаете, о чем речь.
Плевать направо-налево, сидя на лавке, тоже неплохо. Надо попробовать плевать отовсюду. Когда между тобой и всем остальным пробегает черная кошка, сплевывай через левое плечо. И как можно больше. И быстрее. Если сильно повезет, то сможешь попасть кому-нибудь в рожу.
Тут что-то заверещало прямо с небес, прервав мои столь грустные размышления. Проверещало металлическим голосом. Догнал, что это по громкой связи объявляв ют посадку на поезд. Перепугался, конечно, я. Ну, в плане свой пропустить. Вне всяких сомнений, оставаться здесь было гнило. Конечно, если бы я был менее смышленым, то принял бы этот металлический голос за глас самого Бога. Ну якобы он наконец-то решил со мной переговорить.
Ан нет. Снова ошибся. Опять неудача.
Ненадолго показалось, что небо даже цвет изменило, да само время неслабо ускорилось. Все люди куда-то старались уехать, бежали, кашляли, спотыкались. Отходили грузовые поезда и мысли, вереницы пассажирских вагонов и собственные загрузы.
Как я уже упоминал, в основном, сидя на лавке, я ставился на тинэйджеров противоположного пола. Словом, получал эстетический сатисфай. Хватать удовольствие нужно почаще, ведь никогда не знаешь как, че-как будет дальше.
Так вот, короче, за что я парюсь-то.
Рядом со мной стояла очень красивая барышня. Стопудняк, весьма мазовая тина. Уж я-то как-нибудь разбираюсь. Единственное было не в теме — у нее лапы передние подрагивали. «Бедная, — пожалел я. — Совсем герл допился». Но почти сразу я подприметил, что руки у девки колыхались вместе с пластмассовой ерундовиной, которая была приделана к зеленому ящику на колесах. Внутри копошилось что-то живое. Кажется, завернутое в одеяло.
Ладно, смелей.
Исключительно из человеческого любопытства я заглянул осторожно внутрь зеленого ящичка. Вы,
конечно, мне можете и не поверить, но там детеныш прятался. Какой мне смысл врать-то? Маленький такой и розовый. Глаза у него были закрыты, а вдоль рта стекала какая-то сероватая жидкость. Постель у него была очень белая, прям как у покойника. А всегда один пес: и когда рождаешься, и когда коньки скидываешь — заворачивают в белое и чистое. И смысл примерно одинаковый.
Вскоре узнал, что тину кличут Катей. Это ее муж так назвал. Он громко попросил ее обождать, а сам пошел в шоп втариться хавкой. В дорогу, так он сказал.
Через минуту я подсмотрел в стеклянную перегородку, как выкаблучивался этот пройдоха. Судорожно заливал что-то себе внутрь, после каждого глотка морщился и испуганно оглядывался. Видимо, он делал что-то не совсем приличное и боялся, что его застукают. Я не стал по этому поводу заморочки себе выстраивать. Женатые, у них свои причуды.
Тем временем потомок этого типа за перегородкой иногда всхлипывал и причмокивал губками сквозь сон. Наверное, ему снились апельсиновые рощи и персиковые сады. Маленькие, они все наивные. Погоди, подумал я злорадно, подрастешь и тогда еще наглотаешься, и преимущественно темно-коричневого. Хотя, судя по тому, что у него текло изо рта, он чего-то уже нахлебался. Эта красотка, Катюха, как ее звали, тоже все понимала. Поэтому она скрутила мелкого тряпками крепко-накрепко, чтобы он не смог вырваться. Ну это тоже до поры до времени, говорят.
Кстати, девка догнала, что я внимательно наблюдаю за ее бесценным сокровищем, и стала поглядывать на меня с плохо скрываемой опаской.
Материнский инстинкт, догадался я. Природа. Природу я уважаю.
Чтобы ее успокоить, прикинулся по быстрячкам, что меня, как и всех, интересую только я сам. Для доказательства я стал ковыряться в ногтях, мол, от меня опасности не жди. Будь спокойна. И она вроде больше не переживала. А сам я стал ее тайком рассматривать.
Точеные черты лица, голубые глаза, черные вьющиеся волосы, тонкие лапки, обтянутые белыми джинсами. Одним словом, мазовая тина. И ведь еще наверняка добрая, нежная, ласковая. Пальцы ее, которые все продолжали трястись, были тонкие, длинные, ухоженные. Наверное, она увлекается музыкой, разбирается в литературе и искусстве. Я даже хотел тут же ей пылко выразить словами свою глубокую симпатию, дружеское расположение и участие. Ну уж совсем развезло меня на слезливые прогоны за лазурь, счастье и облака распрекрасные с южными ветрами.
Тут сверху вновь обрушились звуки. Но на этот раз обрушился такой чудовищный и скрежещущий вой, что, казалось теперь-то уж наверняка со всеми будет покончено. Первой мыслью было броситься на колени и начать стучать башкой о мостовую. Вторая мысль была о том, что я все же не христианин, поэтому воздержался от такого бурного проявления чувств. К моей чести, я почти поверил в Буду, Христа, Иегову, Кришну, Зевса, Юпитера и всех остальных прочих. Вдобавок стал призывать к себе на помощь и Марию Магдалину. Это тоже какая-то богиня. Я знаю, я помню. Казалось, начался Апокалипсис или по крайней мере война. Апокалипсис еще по барабану, но вот война… Нет, война мне на фиг не была нужна. Сейчас прилетят самолеты, швыряться начнут. Нет, на войну я не согласен. Черт с ним, пусть будет Апокалипсис.
Все же я осмотрелся. И ведь надо же! Это вопил тот самый мальчишка в коляске. Его пасть была разинута так широко, что все было ясно: этот маленький человечек хотел сожрать весь вокзал, для начала пытаясь всех напугать. Лицо от натуги у него побагровело и, казалось, вот-вот лопнет. Слава ангелам, что я о маленьких знаю лишь понаслышке. Видимо, когда личинкой откладываешься, все не так уж здорово. А может, помнишь еще отчетливо, как тебе до этого экшена рождения хорошо было. А потом почехлил, почехлил по жизни. И уже ничего толком не соображаешь.
Девчонка тоже догадалась, какую свинью она подложила своему ребенку. Она пыталась его баюкать, уговаривать, бренчать погремушками, засовывать ему в рот бутылку с той самой сероватой жидкостью. К сожалению, все было бесполезно. Он все равно хотел как можно громче пожаловаться о своих бедах окружающим. Не обращая внимания на пищу и мамины ласки, он упорно привлекал к себе внимание.
Но всякому терпению бывает предел. Девчонка тоже рассвирепела:
— Да заткнешься же ты наконец? — отчаянно вскрикнула она, растерянно оглядываясь по сторонам, словно призывая всех в свидетели.
Она ждала помощи. А помощь не шла.
Поняв, что подмоги ждать неоткуда, девчонка снова стала с остервенением совать ему в район мордашки эту злосчастную бутылку. Оттуда полилось, даже заливать коляску стало. Для удобства она обхватила бутылку обеими руками. Она даже заулыбалась. Она уже была готова на все. А уж ее запас слов, относящийся к анатомическим особенностям мужчин и женщин, был поистине впечатляющий.
Это событие собрало вокруг коляски множество проходящих мимо. В конце концов это уже было типа развлекалова. Да гаденыш и впрямь всем мешал слушать объявления на посадку своим обращением к миру. Все кивали головами, давали искренние советы, решая, как же посущественнее ответить на его вызов.
— Не жалей! Вмажь! — кричали радикалы.
— Научить уму-разуму! — советовали центристы.
— Давайте послушаем, что он скажет! — рекомендовали либеральные наблюдатели.
Девчонка крайне виновато смотрела на окружающих, как бы извиняясь перед всеми за поступки члена своей семьи.
Слава богу, муж прибежал. Рожа у него была очень уж кислая. Видимо, этому путешественничку не дали допить. А маленький господин достал всех до упора.
Надо отметить, что муженек быстро разобрался в ситуэйшене. Он оттолкнул девчонку, расчетливо размахнулся и коротким резаным ударом хлопнул в глубину его логова. Коляска зашаталась, разлетелись серые брызги.
И все смолкло. Тишина.
Толпа уважительно загудела, осыпая муженька типа поздравлений. Катя смущенно улыбалась. К счастью для нее, все наконец-то закончилось.
Проходящие мимо продолжили путь куда попало. Конечно, они еще долго обсуждали этот экшен. Впечатлений и информации, чтобы почесать языками, было навалом.
Девчонке же муж, конечно, стал читать нотации. Мол, де нельзя ей ребенка оставить, ничего-де она делать не умеет, тупая, мол, бестолковая, и все такое прочее. А она не лыком шита, адекватный ответ ему стала лепить. Я даже ввязаться хотел. Но тут они на меня не сговариваясь уставились и, видимо, выражение лица у меня было уж очень непотребное.
Пересели они. Ну на другую лавку подальше.
Малыш теперь не кричал, а почтительно всхлипывал, высовывая из логова свой просветленный фэйсик.
Через минуту все они уже были в поряде. Я слышал обрывки их разговора. Ласковый трип, море, отели, бесплатные экскурсии и музеи. Все обернулось весьма банально.
Да что я так из-за «чужих»-то волнуюсь? Как не трепыхайся, везде будет одно и то же. Нужно быть спокойнее по отношению к людям. В конце концов собаки тоже не виноваты, что пахнут псиной.
Что не удивительно — мелких коммерков на вокзале было как грязи. Это такие специальные люди, которые любят что-нибудь продавать. Делают это ненавязчиво и легко. Главное, всучить тебе что-нибудь бесполезное, подороже. Мелкая коммерция — она повсюду.
Справа, слева, сзади, впереди все было одухотворено торговлей. Купить можно было что угодно: зажигалки, куртки, колбасу, лимонад. А вот мозгов-то не продавали. Я, пожалуй, купил бы себе вдецл, чтобы хоть что-нибудь наконец начать понимать.
Казалось, эти люди владеют какой-то немыслимой тайной, секрет которой выдавать не собираются. Но по крайней мере вид у них был достаточно дружелюбный, потому что они всем вежливо улыбались и предлагали свои товары, небрежно называя цену. И очень радовались, когда кто-нибудь что-нибудь у них покупал. Чтобы окружающие не заподозрили меня в чем-то неладном, я тоже бросился к торговым рядам.
Еще издали я заприметил самую симпатичную блондиночку, разукрашенную так, будто она и себя продавала в придачу. Но пока что она продавала лишь выпечку. Впрочем, это значения не имело. «Хачапури!» — с разгона объявил я, протягивая ей монеты. Девчонка радостно захлопотала. Я было хотел поговорить с ней, чтобы выведать особенности ее внутреннего мира, но уж слишком много желающих поналезло вдруг на ее хавку.
Что ж, мне пришлось отвалить. Хачапури — это булка с сыром внутри. Не самая плохая жратва. Чтобы сделать блондинке еще приятней, я не стал далеко отходить и сожрал булку прямо рядом с ее ларьком. Сожрал со смаком, выказывая огромнейший аппетит.
Она была довольна. Редко кто обращал на нее внимание.
А вот тому парнишке я зла точно не желал. Да он все равно валялся теперь на перроне. В красное и синее весь расцвечен был. Дизайн лица у него изменился весьма заметно. Результат деятельности лучших физиологических дизайнеров — легашей.
Вокруг него копошились три лега, бурно рассказывающих друг другу о своей отваге. Один, правда, был не особо воодушевлен, даже огорчен.
Короче, дело было так. Этот парень осмелился подгрести с самыми добрыми намерениями ко вполне достойной женщине и откровенно попытался ей затереть о самой глубокой к ней симпатии. Залитый, понятно, в хламешник. Женщина мягко спланировала, типа отшутилась. А вот «чужим» это, естественно, не понравилось. Они сразу ощетинились и набросились. Его дружно обхаяли, послали во всех направлениях, а кто-то самый бойкий смело толкнул его в стеклянную витрину здания вокзала. Парень разбил витрину, распорол себе руку. Распорол сильно, крови хлынуло по самые не могу.
Короче, он привлек к себе внимание. Это было непростительно. А уж тем более кровь…
Целая толпа кинулась его загонять, как зверька. Померещилось, что затрубили охотничьи рога, кто-то принялся расставлять капканы… ловушки… Другие расправили сети… Начали громко делить шкуру неубитого медведя… Женщины заговорили о ценах… об освежевывании…
В общем, быдло почуяло кровь. Понятное дело, охотничий инстинкт.
Парень мчался по перрону, пальто развевалось по ветру, а из руки, привлекая «чужих», хлестала кровь. Глаза у него сделались блюдцами, как после экстази, и он даже вроде немного сцифровал шарики за ролики после синьки.
Но он был обречен. Деваться было некуда.
— Кровь! Держи его! Хватай, добивай это «Я»! — неслось из глоток несущихся за ним «чужих».
Парень добежал до угла здания и там рухнул, истекая кровью. Над его головой словно нимб еще светилась вывеска «Добро пожаловать». Там был то ли кабак, то ли милый шоп. И все преследователи вроде от него отстали. Они решили, что дело сделано и надо звать егерей-профессионалов. Ну легавеньких.
Так решили они.
Леги все долго не ехали. Но все равно прибыли.
Вышло трое. Они наконец-то в клетке на колесах с раскраской прибыли. Три блюстителя порядка в синих фуражках и белой форме. В белой — это было крайне важно. Я потом узнал, они там день рождения начальника облУВД отмечали. Говорят, что и у легов есть праздники. И есть дни рождения. Они даже спят по ночам и дети-легашата у них есть.
За парня заступаться было бессмысленно. Все началось по новой.
Леги-то уж его обложили по всем правилам. А парень как их увидел, задрожал, затрясся весь и опять за флажки ринулся. Но не тут-то было. Легаши окружили его и для внешнего приличия начали говорить очень вежливо. Мол, вот как у нас легашня за культурное общение впитывает. Конечно, парень им не сильно поверил. Стал лопотать про билет, сроки и деньги. В клетку уж очень ему не хотелось. Тем более, как он наивно считал, не виноват он был и слился на распасах. Поняв, что ниже достоинства легов слушать его путаные гонки, парень опять рванулся за флажки. Только уже более решительно.
Но все было бесполезно. Парень метался по перрону, легавенькие его догоняли и нехотя кломзали, но пока еще лениво и совсем несильно.
Конечно же, из любопытства я подтянулся поближе. И не зря я в очередной раз проявил любознательность. Так как парню наконец действительно крупно не повезло. Несколько небольших капель крови, брызнув от руки парня, отлетели прямо на белую рубашку одного из защитников Конституции. Вот на что он отважился в своей наглости, пес. Леги опешили. Такой неслыханной дерзости они никак не ожидали.
Его тут же уложили на стрит и стали утрамбовывать по полной программе. Мелькали руки, ботинки, красноватая пыль и куски одежды. Главное было — не уронить честь и чистоту мундира. В прямом и переносном смысле.
— У-у-у, мразь, — шелестел первый, выкручивая ему пока еще здоровую руку.
— Может, в отделении объясним ему все по-настоящему? — улыбаясь интересовался второй, нанося по врагу один за другим разящие удары ботинками. Но потом перестал, потому что застремался их подпортить. К тому же третий служитель охраны правопорядка, который сильнее всех оскорбился из-за пятен, не хотел упустить своего:
— Дайте лучше я, — оттер он своих соратников, размахиваясь резиновой палочкой правосудия.
Пощады ждать не приходилось. Били его долго и уверенно. Зависть, ненависть, презрение и злоба. А все остальное — это внешнее, оболочка. Она всегда ненадежна, она всегда срывается. Человек — это всегда скотина. Он просто притворяется, чтобы подпустить вас для расправы поближе.
Летели, летели клочки по закоулочкам. Да в конце концов усталость взяла свое. Легаши остановились и, тяжело дыша, стали подбадривать друг друга на дальнейший справедливый экшен. Парень же посмотрел, тем что оставалось у него от лица, в синее небо, застонал и распластался без сознания на асфальте. Так в итоге и не выбравшись за флажки.
Экшен ОК. Справедливость восторжествовала.
Но ведь ясно, что необходимо вести себя адекватно к окружающему миру. И уж, конечно, не безобразничать так лихо, как этот парняшик, пес. По крайней мере, если он выживет, запомнит этот урок на всю дальнейшую жизненку. Не будет рыпаться, а будет молчать и на лекарства ишачить.
А «чужие», гадкие хамелеоны, тут же на сторону парня перекинулись. Понятное дело — быдлятина. Ведь одно дело — просто его загонять, улюлюкать, чтоб объяснить ему что почем, а другое, когда его чуть ли не прикончили у тебя на глазах. И каждый мысленно себя на его место спозиционировал. Это заставило все быдло сплотиться, чтобы дать отпор нашествию в лице легавых. Выступили единым мощным фронтом. И конечно, в авангарде колготились старушенции:
— Убили! Человека убили! Боже мой! Что творится, а? Люди добрые! — голосили старперши, грозно обступив легов и, видимо, готовясь к последней атаке.
Легаши же, конечно, поняли всю опасность сложившейся конфронтации. На всякий случай заняли круговую оборону, потому как они не собирались отдавать с таким трудом взятую добычу. Тем более когда ее оставалось только освежевать и выпотрошить. Вперед выступил тот, кому нанесли столь тяжкое оскорбление:
— Ты что ли будешь рубашку отстирывать? Ты, я спрашиваю? — кричал он предводительнице стаи. — Ты только посмотри сюда! Гляди! Кровь плохо отстирывается! Ты будешь мне это отстирывать? Ты? Да? Надо отметить, что и сам он с трудом находил два небольших пятнышка от крови парня на своей красивой праздничной рубашке.
Препирались они недолго, так как легам пришлось уступить общественному мнению и вызвать реанимационную машину для сдачи добычи. Приехали врачи и тут же стали перебинтовывать, подсоединять капельницу и все такое. Один лег даже поехал с врачами, чтобы сторожить добычу в больнице. Двое других отправились в отделение отмечать столь нелегкую викторию.
Толпа потихоньку рассосалась. Вот так всегда: сначала расколошматили своего на молекулы, а потом сами же и на высоте оказались. Типа спасители.
«Точняк пора сматываться, если уж здесь все шизеют так не по-детски. Наверняка уж в других местах получше», — проносилось в моей голове. Все это время я беспрерывно курил, чтобы создать хотя бы дымовую завесу в плане безопасности своего шкурятничка. Ведь никогда не знаешь, чего, где и от кого ждать приятного, доброго и хорошего.
А тот парень, конечно, был несомненно виноват. Его поступки были непонятны окружающим, а этого уже более чем достаточно. Он проконопатился в больняке два месяца, а потом ему еще штраф нехилый леги впарили. Ну что ж, он получил приличный урок, он сделает выводы и уже никогда не совершит ничего. Потому что во всем этом диковинном калейдоскопе, вращающемся вокруг нас, только так и можно выжить.
Поезда тем не менее продолжали приходить и отходить как ни в чем не бывало. Поезд — это как консервная банка, набитая нами. Он доезжает до намеченной цели и там эту банку вскрывают, а ее содержимое пожирается приветливым городом. А потом город выбрасывает нас на кладбища, как отработанный шлак и отходы.
Но пробил и мой час. Все же объявили посадку на поезд. Пора было чапать дальше. Я даже сожрал последнюю половинку синей марки с «велосипедистом», чтоб внутри трэйна еще торкнуло по самые не могу. Что в принципе было разумным поступком, верно?
А уж потом заметался я в поисках своего поезда по всем платформам. И потому, сколько мерзавцев со счастливыми лицами пыталось набиться в один из них, я догадался: это поезд в Большой Город.
Я не ошибся.
Сказал себе: «Не робей!» Зажмурился и лихо запрыгнул внутрь.
5
Как ни странно, доки у меня оказались в поряде. Все-таки, к моему большому удивлению, в кассе меня не прокинули — правильно оформили проездной тикет и страховняк. Даже проводница, несмотря на все свои подозрения, вынуждена была признать, что передвигаюсь в пространстве я на вполне законных основаниях. Эта барышня даже додумалась сходить с доками к начальнику поезда, чтобы выведать что-нибудь о моей сомнительной личности. Нет, нет, заверили ее там, этот пассажир такой же, как все. Так как проводница была здесь типа за главного, а я, как и все многочисленные попутчики, набившиеся по купе, собирался к вечеру уйти как можно подальше, пришлось перед ней вдецелок подунизиться.
Это было несложно. Сразу же как устроился, я стал заказывать ей чай, кофе и всякие другие нелепые товары, которые заставляют этих бедных существ продавать. В конце концов ее было нетрудно понять. Всю жизнь по поездам — как уж здесь не окрыситься.
Чуть позже я почувствовал как распирать меня стало неслабо уже от половинки «велосипедиста», сожранного на перроне. Странное все вокруг стало, слишком уж яркое. А главное — все «чужие» превратились в реальнейшие источники опасности, которые явно замышляют против меня нечто совсем нехорошее.
Короче, торкнуло от малой эллки по полной.
Везение — величина постоянная. Если уж приходит, то и не знаешь, как его отвадить, а если не везет, то не везет во всем.
Короче, с попутчиками мне, конечно, тоже не прикатило. Трех особ женского пола отсканировал я рядом с собой: мамашу с некрасивой дочкой лет двадцати двух и, видимо, мамашину подругу. Та была такая объемистая, что, казалось, ее специально откармливают, чтобы позже расчленить и повыгоднее продать. А пока она не придумала ничего лучше, как с восторгом рассказывать о своих болезнях и язвах. Впрочем, она была такой же человек как и все, думала только о себе и первым делом хвалилась своими болячками. Таким образом она показывала своим подругам, что еще жива, и на нее вполне можно положиться. Ведь болезни — это тотемы жизни, а болячки — спутники существования.
Чтобы избавиться от ее россказней, я вышел в коридор разведать обстановочку. Между тем все, кому посчастливилось сюда забраться, уже успели сгруппироваться стайками по купе и начать традиционные для поездок занятия: жрать, заливаться и играть в карты. Для полноты ощущений они все перезнакомились, чтобы разнюхать об общих слабостях и начать их смачно пережевывать. Исходя из кратковременного характера знакомства, они достаточно откровенно выплескивали корыто своего жизненного прозябания друг другу на головы. Особенно им импонировало, когда у других находились аналогичные со своими пороки и подлые замыслы.
Очередная порция впечатлений была не из легких. Конечно, мне много не требовалось. Лишь бы добраться до Другого Города. И все.
Это я так думал. Мечтал. Надеялся, значит.
Покурил. Вернулся. Сел.
А эти особи в купе тоже везли на сэйл шмотья полные сумкари. И юную клаву тоже приучали, как выгодней эти делишки приколбашивать. Та слушала их крайне внимательно, так как во всем надо становиться профессионалом. Коммерция — штуковина очень тонкая. Именно это они доказывали друг другу в течение получаса. Затем я не выдержал и решил робко выразить свое мнение о коммерции. Изложил им вкратце свою концепцию. Я, конечно, затирал в силу своих скромных возможностей. Но моя концепция, понятное дело, заметно отличалась.
А они оживились, спорить ожесточились. Я тоже лаять начал. Но это был абсолютно тупиковый путь развития нашего диалога.
Словом, я замолчал. Как всегда, спорить было бессмысленно. Я бы только нажил себе неприятности. Ведь мы явно были из разных курятничков и особи из разных обойм. А женщины, почуяв свою победу, стали дружно показывать мне приобретения для спекуляции, хвалиться своей оборотистостью и спрашивать моего столь постороннего совета. Мол-де, их очень интересует мое мнение. И как человек посторонний, я могу достойно заценить их коммерческую жилку.
Но ведь замолчал-то я неспроста. Когда же они от меня отстанут? Исчезнут? Сдохнут? Забьются в судорогах прямо у меня на глазах? Или, быть может, их накроет молния?
Мне было о чем полелеяться. А они всё продолжали лезть. Чтобы отмазаться, я подсел к самой молоденькой. Типа того она очень меня заинтересовала. Это был благородный жест. Она оценила. Спросил у тинухи, как она в своем возрасте докатилась до такого славного существования. Ведь она очень, очень симпатичная. Это я ей наврал, конечно. Уродина была еще та. Меня интересовал ход ее мыслей, а ей это очень польстило. Брякнулась, короче, дуреха, на сладенький спич. Она опрометчиво решила, что очень мне понравилась, и в знак ответной любезности стала показывать мне записи со своими расчетами. Числа, цифры, столбики, калькуляционные выкладки. «Бизнесвуман!» — так сказала она, хлопнув себя по не по возрасту дряблому грудаку.
Сезон, кофточки, юбки, косметика, цены. Ее бизнесвумановский рот так брызгал слюной, что мне приходилось время от времени утираться платком. Она так воодушевилась, что была уже почти в экстазе. Коммерция спасет человечество. Правда, от чего, она сама толком не знала.
В общем, их благие намерения обеспечить народ товарами оборачивались одним — собственной финансовой прибылью. Это по-честному: накалывать других на законных основаниях. Это вполне нормально и всем понятненько.
Но тут меня еще плотнее стало волнами накрывать по «велосипедисту», в глазах темненько стало, подташнивать заплаксивело, даже показалось, что я увидел кусочек Вавилонской башни, сокровища майя и Колизей.
А эти особи всё лезли и лезли ко мне со своими прогонами. Метать перед ними бисер было бесполезным занятием. Я, конечно, мог вывалить на них свою злобу в момент. Да реально было по ломкам.
Они достали. Конкретно достали. Пришлось замкнуться в «Я».
Наконец своим безразличием я вызвал у них явно выраженное отторжение. Ладно, черт с ними, забираюсь на верхнюю полку.
А уж друг с другом они нашли общий язык очень давно. Еще какие-то отрывочные в моем восприятии ломтики времени они занимались сплетнями. Это был их конкретный конек. Я смог узнать много познавательной информации об их родных и знакомых. Обсуждали они их только в одном свете — в поганом. Видимо, это давало им возможность почувствовать свою собственную значимость.
— А теперь пора и оттрапезничать, — совершенно неожиданно объявила объемистая.
Товарки обрадованно согласились.
Все затрепыхало и пришло в движение. Появились пакеты и упаковки с лапшичкой быстрого приготовления. Овощи и мясо мертвых зверушек.
Девчонка оживилась. Мамаша, тоже счастливая как три копейки, разматывала фольгу и просаленную бумагу. Весь обширный запас пищи в беспорядке валился в кучу на стол. Когда они съедят все, то смогут бежать дальше.
Они следили за появляющейся на столе едой крайне внимательно. У девчонки слюна закапала еще чаще. Зрелище было предостойнейшее.
Развернули, снизу уставились на меня и говорят:
— Присоединяйтесь к нам!
Мне показалось, что они замышляют что-то явно злодейское. Нет, нет, говорю, я потом как-нибудь сам. Они огорчились.
— It’s a sediment, — прибавил я еще. Говорить на их родном и единственном русском языке «это отстой» было стопроцентно рискованным.
— Что-что?
— Нет, пустое…
Лежу, думаю, что дальше? А они стали питаться, представляете? В своем бесстыдном коварстве они дошли до того, что питались прямо при мне. Эта сплоченная масса из трех самок чавкала, хватала пухлыми пальцами куски, давилась и источала множество запахов.
Впрочем, сейчас они впускали в себя жизнь. Глоток за глотком. Кусок за куском.
Но тут всполохи дернулись, дрожащая невидимая опасность появилась. Словом, я не выдержал. Все их яйца, окорочка, помидоры вдруг стали разрастаться, тыкаться в полки… дверь… окно… Я увидел пролетающий кусок ветчины… в желудочном соке… слюнях… единое месиво из тел и еды заполнило все…
* * *
Проводница била меня по щекам. Она настороженно пояснила, что меня пришлось вывести в тамбур глотнуть свежего воздуха, так как мне конкретно сплохело.
Ха, вполне может быть. Если бы она жрала на постоянку столько всякой дряни в плане драгс, что бы у нее тогда с кумполом затемяшилось?
Впрочем, она была дружелюбна и приветлива. Понятное дело, ей не хотелось неприятностей.
Короче, поблагодарил, все такое. Она чаек принесла. Выпил, конечно. Чаек-то оно в самую тему. Она попыталась что-то мне еще объяснить. Да больно надо мне ее слушать.
Словом, отмахнулся.
Поезд продолжал двигаться, стуча колесами. Может, в город, может, в вечность, может, в никуда.
Проводница, которая все не хотела почему-то отвалить, тем временем доверительно сообщила мне, что очаровательные особи из моего купе скоро сходят. Даже не знаю, уж почему она так ко мне прониклась. Но ведь нет худа без добра. Идти назад в купе с особями не хотелось. Там жратва, тряпье их, уродка с калькулятором… Если, вы, конечно, понимаете, о чем я.
От купе к купе, от вагона к вагону я направился перебежками к местечку, к вагон-ресторану. Затея не такая уж простая: нужно было преодолеть шесть вагонов.
Потенциальные опасности подстерегали меня на каждом шагу. Большинство «чужих» уже залилось алкашкой по самые обода и в поисках приключений шакалило по коридорам. Они пыхтели, стукались о стены и двери в такт движения нашего славного поезда. И словно в некоем тотальном экзистенциальном отчаянии, громко обвиняли в своих бедах и неудачах весь окружающий мир.
Однако добрался. Смело открываю дверь и заваливаюсь.
Хоть здесь децл прикатило. Вагон-ресторан был совсем пустой, посетителей не лицезрелось. Были только, конечно, сявки глупые из обслуживающего персонала. Стоят. Смотрят на меня, удивляются, видимо. Наверное, я был похож на реликвию, раритет или выходца с того света.
Ну что ж. Я тоже пространно уставился. На всякий случай напрягся и чуть что приготовился сматываться. Их стадо было все в белом, ослепительно сверкало и переливалось. И так многочисленно, что само смогло бы занять все посадочные места.
— Здравствуйте! — уверенно обозначился я.
Моя вежливая реплика вывела их из оцепенения. Подозрительная небольшая группка отделилась от основной стаи и посеменила ко мне. Я приготовился к худшему. Чего уж там!
Но обступив меня, эти делегированные на переговоры представители стали тихо и культурно зазывать меня полакомиться их замечательной кухней. Они предложили мне выбрать столик, расположиться и приготовиться к сладостному столкновению с пищей, сами расхваливали свои блюда, разогретые в микроволновке, и все такое прочее.
Ладно. В конце концов за этим я сюда и пришел. Выбрал самый ближний к двери столик, предполагающий быстрый отход, и недвусмысленно дал им понять, что, если я отсюда не вернусь в купе в определенное время, их ждут неприятности. «Большие неприятности», — так и сказал. Ведь надо же было хоть как-то снова обезопасить себя, верно?
Они охотно закивали. Видимо, им было уже настолько все параллельно, что они были готовы и на неприятности.
Заказал им, в общем, всякой пищи неслабой. Горячее там, салаты разные, сок. Спросили, буду ли пить.
По легкой немного, говорю, а они, конечно, сейчас. Разбежались.
Еще интересно было, почему они так благосклонно отнеслись ко мне. Самый молоденький, с опаской оборачиваясь на своих боссов, сообщил, типа я у них единственный посетитель за сегодня.
— Нет, нет, — тут же поспешно заверил он. — Цены у нас весьма разумные.
Теперь уж можно было набить брюшкарус почти без свидетелей. Питался, надо отметить, я очень культурненько. Использовал там вилки, ножи различные без разбору. Но по крайней мере не разбрасывал, не разбрызгивал все вокруг и не выплевал не влезавшее в рот обратно в тарелку. В отличие от тех очаровательных леди в купе. Оставалась надежда, что они наелись и завалились по своим местам, тихо, сыто и без лишних слов. Наверное, они там уже все заблевали…
Но пора уже было призадуматься, как выстраивать свой дальнейший жизненный трип. Ведь надо было жить и барахтаться. Я слышал, что иначе нельзя.
Ведь я же подзатеял черпануть новую порцию жизни. Светлую порцию, солнечную, без непутевых заморочек. Для того, чтобы быть уверенным, что все будет ОК и что в Другом Городе все не такие сволочи, нужно было еще малость зашториться. Дело нехитрое — достаточно было хлопнуть немного слабой алкашки, вновь цифрануться всеми цветами радуги.
Сказано — сделано.
Люди, которым было на меня не по барабану, а таких было кот наплакал, начиная с детского сада, говорили: самое главное не делать глупостей. Эти люди говорили мне, что без глупостей я смогу неплохо устроиться. И теперь я гадал: поехать в Другой Город — это глупость или не глупость?
Ладно, чего теперь грузиться? Мост сзади уже догорает.
Бежать, спотыкаться, падать, корябаться и снова бежать.
Лучше уж думать поменьше. Просто бежать куда попало и терпеливо ждать, когда вся эта штука наконец-то закончится. И пасть, конечно же, постараться не разевать. Единственный вариант — помалкивать.
В ожидании жратвы достал из кармана пиджака зелененькую книжицу Ясперса в твердом переплете. Еще ту, которую Латин скидывал со стола дома. Я и тогда не понимал в ней ничегошеньки, но ведь нужно было хоть что-нибудь запомнить для эдикейшена будущего. Чтоб в Академии ляпнуть при удобном случае этим лохам.
Сколько ни листал я книжицу, снова ни во что не врубался. Ага, думаю, чего-то не хватает. А тут как раз и синьку доставили и второе. Хлоп — и пометки в книжке делать скорей. А тут уже и сам Ясперс напротив меня оказался.
И тоже, как Кант, пальчиком лукаво машет и говорит: «Правильно, Северин, делаешь, правильно… Терять давно нечего!». Здесь распахнулись мне врата познания и начал я тонуть в пучинах мысленных.
Здесь меня, как и ожидалось, снова торкнуло не по-детски. Снова странное все стало и яркое. Снова опасности разные замерещелись. Надо было, конечно, выглянуть в окно, просечь, чего там. Смельчак был я еще тот.
Сначала, сколько ни вглядывался, я видел только нечто черное и мерцающее. Типа как ночь. Кстати, я слышал где-то, что на поезда очень часто нападают индейцы. И очень любят всех грабить и убивать. Замандражиться уж было из-за чего. Кто-кто, а уж индейцы — парни решительные. Стал прислушиваться. И, как мне показалось, уже явственно услышал их боевые крики. На всякий случай я тут же решил не сопротивляться, сразу им все отдать и сдаться. И уж, понятно, ни в коем случае не проявлять разных там актов героического сопротивления. Если бы индейцы были бы благосклонны к моей персоне, я даже присоединился бы к ним. Вот такой расклад был бы по мазе. Вот такой расклад мне бы импонировал.
Однозначно с индейцами было бы весьма здорово и приятно. Но сколько дальше ни смотрел, ни слушал — индейцев так-таки и не было в черном и мерцающем за окном.
Зато появились деревья и горы. Они как будто прятались в темноте, как будто боялись всех нас. Ведь когда рассветет, особи проснутся и бросятся к ним.
Как всегда — Луна. Она освещает скорбные притихшие дома. «Чужие» еще спят. Везде «чужие», «чужие», «чужие». Они вынашивают в снах свои замыслы. Но ведь с утрянки-то они неизбежно проснутся, да? Иначе ведь не бывает?
Но уже колыхается ненависть. Где-то там, далеко за розовым горизонтом она медленно бредет сюда, она приближается. Она там, среди полей и высохших деревьев, нефтяных вышек и трубопроводов. Когда-нибудь шквал ненависти раскрошит всех на мелкие части. И тогда каждый только и будет лелеяться, как изловчиться и поделиться ломтиком ненависти с другим.
Между тем олухи из вагона-ресторана, продолжавшие за мной шпионить, мигом забеспокоились. Наверное, я залез в чужой монастырь со своим уставом. Ведь окромя жрачки я читал и пытался делать пометки. Вот если бы я дебошил или на хамство брякнулся — это другое дело. Это было бы ясно и понятно, ведь все такие. А тут я читал и к тому же что-то записывал. Это, конечно, показывало, что я крайне подозрительная личность и уж наверняка с самыми скользкими намерениями. И вовсе уж не зря сюда приперся. Ведь никто не приходит даже питаться.
Они совещались и злобно поглядывали в мою сторону. Моим дерзостям нужно было положить конец. Правда, им, видимо, было непонятно как.
Для разгона, под предлогом, что уже поздновато, они выключили большой свет, а врубили малый. Это было проделано очень шумно. Ну, в плане того, чтобы я поверил в их самые благие помыслы.
В ответ я благодарно кивнул, типа того мне так оно даже и лучше. Занимаюсь своим делом типа и доволен безмерно.
Все было моим: мягкий свет, накрытый стол, вся жратва, поезд, деревья, горы, деревни и даже эти господа в белых костюмах, которые все грузились не по-хорошему. Эх, когда у тебя в башке ограниченное количество цифрующихся пунктирчиков, это уже не смешно. Хотя, вероятно, на последних из них некоторые и держатся.
Поняв, что их диверсия с переключением света не произвела должного эффекта, господа в белых костюмах засуетились пуще прежнего. И подослали к моему столику самую, на их взгляд, привлекательную девку из своей когорты.
Она стала убирать тарелки, ложки, стаканы. Чуть позже стала тряпочкой сметать со стола крошки. И все своими жадненькими глазками пыталась ко мне в книжицу зыркнуть. Оказывается, она была даже обучена грамоте.
Конечно, оскалился я.
— Что? Любопытная типа? — громко сказал с напором. Отшил их, напугал и сижу гордый. Дальше в мерцающие и переливающиеся страницы с мудрым Ясперсом залукиваюсь.
Короче, план их сорвался. Хитрость сменила откровенная агрессия. Стая тут же подскочила, окружила мой столик, а двое покрепче выходы перекрыли. И директора кабака все зовут. Горланят, горланят.
Наконец человек, которого все так дружно звали, объявился. На директора он похож был слабо. Маленький такой, лысый, плюгавенький. Тем не менее его все так называли. Вкурив суть проблемы, он тоже раззявил варежку:
— Так-таки нехорошо, молодой человек, — говорит. — Мы вас, выходит, посадили, напоили, накормили. А вы в ответ что это затеваете? Что за брошюрки, ручки, пометки? Давайте показывайте. Я как директор вагона-ресторана должен лично беспокоиться о своих посетителях и о репутации своего заведения. И за порядком следить, разумеется, — так прямо и сказал.
Понятное дело, я не отставал.
— Какая, к чертям, репутация? Каких посетителей? Я у вас тут единственный посетитель и есть.
— Посетителей у нас всегда хоть завались, — отрезал он тут же. — А вот с брошюрками нам здесь таких и по надо. Вы чего тут затеяли, а? Умничать будете в другом месте. Вы сюда дли чего пришли? Правильно — поесть. Вот ешьте и пейте себе на здоровье, а в пиши-читая будете играть в других местах. Или, может, сами не знаете что хотите? Покажите, пожалуйста, что за книжки, что за записи, не то — пеняйте на себя. В конце концом мне что, начальника поезда звать, что ли? — вот как он вопил.
Словом, тучи сгущались над моей зашторенной в никуда головушкой. Мне явно не доверяли и даже в чем-то подозревали. Я схватил из вазы яблоко и впился в него зубами, чтобы показать этому уважаемому человеку, что мне нет до него ни малейшего дела. Ни капли! Пускай хоть лопнет. А он, вполне освоившись, все продолжал меня крыть том же плане. Видимо, хотел окончательно потрясти меня и подчиненных своими словами.
Он был в центре внимания. Остальные из обслуживающего персонала смотрели на него подобострастно, прислушиваясь к его речам. Иногда они посматривали и на меня. И так, будто я совершил одно из самых подлых преступлений в истории человечества. Раздались даже голоса, что нужно покончить со мной, не отходя далеко от кассы. Скинуть с поезда — и концы в степь. Вот чего хотели эти подснежники.
Со мной уже нечего было церемониться. Директор тоже почувствовал себя весьма окрепшим в своем справедливом негодовании.
— Беги, Саша, беги! Мы его задержим! — крикнул он одному из своей команды.
Тот исчез. Но ненадолго.
Вернулся он уже не один, а с другим, и уже не подснежником. Тот был постарше и с погонами. Эге, это и есть начальник поезда, смекнул я. И тут же решил признаться ему во всем начистоту.
А он зашел как, сразу улыбнулся мне, словно старому знакомому. Видимо, навел про меня справки. И моментально стал вываливать на меня все свои угрозы, крики и все остальное, что у него еще там было в запасе:
— Это не о тебе ли мне уже докладывали? И ведь верно говорят, дыма без огня не бывает.
Мне, конечно, очень польстило, что он знает меня лично и в определенном свете. Это было даже в какой-то степени приятненько. Что ж, слушаем дальше.
— Что там за книжка? Что, самый умный, что ли, да? Раз такой молодой да без мозгов — слезешь на следующей станции. Давай сюда записи! Кто ты вообще по жизни такой, а? Я тебя спрашиваю, понял?
Наверное, надо было бросаться ему в ноги, молить о пощаде, просить прощения и все такое. Надо было искать оправдания и хоть каким-то макаром обелить свой невесть в чем провинившийся шкурятничек. Слезать на следующем стэйшене и кувыркаться в ночи мне не хотелось.
— Собираюсь учиться я в Академии Философии, — оправдываюсь. — Я надеюсь на высшее образование. Ведь без высшего образования сейчас никуда. Это крайне важно. И может только Академия Философии спасет меня от несправедливости и тотального невежества, — возвышенно заключил я.
— Довольно собирать, парень, не прикидывайся! — начальник неожиданно ловким движением вырвал у меня книжак и отпрыгнул на противоположную сторону к окну. Хищно впился в нее глазами стал рассматривать. Как будто б он мог что-нибудь разобрать в моих записях на полях. Остальные обступили его и тоже жадно пялились в книжку, шевеля губами. Эх, скоты.
Но положение тем не менее становилось выгодным. Я закурил «Camel» и уставился на мутный пейзаж за окном. К тому же после «велосипедиста» алкашка конкретно ударила мне в голову.
Даже расхрабрился я и подумал, что стоит накатать жалобу главному по поездам в РЖД на такие нелепые геморры.
Может, верно болтают, что подлинный человек — отсутствие человека, истинная жизнь — отсутствие жизни. Да, все мы пациенты, бояться нечего, скоро умрем. Медлено, постепенно и и тихо. A-а, мне по барабану.
Понятно, что я, как и все, очень люблю послушать нелепицы про чужие заморочки. И порадоваться, узнав нечто расхорошее про своих друзей и знакомых. В некотором роде это возвышает.
Как-то Латин познакомил меня с парняшиком, звали его Олег. Ну тот мой дружок с Верхней Волги, теревший в «Солянке», когда я с чеками разумненько в банк не поехал под прием. Приятный замечательный собеседник. «Олег, — говорил я ему обычно ближе к вечеру. — Расскажи мне про всех и вся, что знаешь нового». Он был доволен, он расходился, он любил, когда его внимательно слушают. Про кого бы я ни спрашивал, Олег говорил только самые хорошие новости. Если у кого-то из наших знакомых складывалось что-то по положительным векторкам, он говаривал, что это ненадолго и что этот человек еще попляшет. Если же кто-то был на откатах по жизненке, Олег радовался и фактики высмаковал. «Так ему и надо! Он же идиот!». В людях он видел только опасных конкурентов. А также его буквально распирало от ненависти к своим родным. Больше всего на свете Олег ненавидел свою мамашу. Что, впрочем, несмотря на такие отношения, не мешало Олегу регулярно вышибать из нее дополнительные ресурсы. «Опять с ней в хламешник разлаялся, — спокойно признавался он. — Прикидываешь, эта жадная боготь дала мне всего семь штук грин. Мне НУЖНО было срочняк в край десять, а она дала семь. Ну не сука ли? Когда же она скинет ласты-то, а?» — переживал он. В сущности, он был неплохой парняшик, не такой, как все. Олег общался с чужими мирами посредством автомобильных трасс, тоже любил некисло пошляться. В конце концов эти самые автомобильные трассы его и разломают. Он расклеится и его утянет на Юг, вместе с заменившей ему маман тупорылой богатой молдаванкой.
А ветер всегда на Север. Погода не переменится. Буря рядом.
Жизнь — она липкая и вязкая.
Впереди одна секунда? Впереди десять миллионов лет?
Демонстрация тупости, респектабельности и старения.
Инкубатор, жратва, секс, дети.
Вся, везде, всего имитация.
Никто никому ничего никогда.
Бр-р, хватит, пора оцифровываться, это снова гребаные пунктиры в зараженной Могилой башке.
Поисследовав мою тетрадь минут десять, начальник поезда вернулся ко мне. Он был сама любезность. То-то и оно. Стал рассыпаться в извинениях, лопотать. Изо всей брошюры он выловил только одно слово — Ясперс. Это потому, что он был умней и прогрессивней остальных и догадался, что это имя собственное.
— Произошла досадная ошибка, — говорит. — Мы приняли вас совсем за другого персонажа. Должен был тут один прийти… зря ждали… — его морда лица скривилась. — Так сразу и сказали бы, что вы музыкант. Музыку я и сам очень люблю, знаете ли. Музыка — это очень здорово. Ясперс! — зевнул он мечтательно. — Очень люблю его симфонии. Моцарт! Бетховен! Ясперс! О, музыка — это нечто. А еще полонез Кандинского! Это мое любимое, я ведь и сам тоже занимаюсь музыкой. Вы уж нас извините, мы больше вам мешать не будем. Сидите на здоровье. Читайте.
Всю его болтовню понял я смутно. Наверное, он хотел потрясти меня своими познаниями в области искусства. Интеллигентного человека всегда видно издалека.
Но теперь-то унижаться мазы не было никакой. Отнюдь не собирался я с ними теперь цацкаться. Сказал им всем весьма решительно, что это просто возмутительно и оскорбительно. Сказал, что ухожу, умываю руки и не заплачу им ни копья. Пусть и не думают, твари.
Словом, я был на коне, золотом баране и все такое. Единственный посетитель, и того довели до белого каления. Сказал я им это откровенно, значит, и с гордым видом отравился к выходу. Они опять смотрели на меня с разинутыми ртами.
Добрел, хлопнул дверью и в тамбур.
Все это зыбкий, зыбкий Туман. Но в котором уже давни ничего не видно. Бредешь, спотыкаешься и чтобы не свихнуться окончательно, кричишь в этом Тумане во всю глотку. А другие, такие же «чужие», бредущие поблизости в Тумане в никуда, прибегают на голос. Ты сталкиваешься с ними лоб в лоб, «Я» в «Я», и видишь всего лишь «чужих». Тогда шарахаешься в страхе куда глаза гладят. А глядят они в пустоту, в зыбкий Туман. Так и бродишь бесцельно, а потом в этой зыбкости оступаешься и падаешь наконец-то в пропасть.
И все это наконец, к счастью, заканчивается.
6
Ну что ж. Ничего удивительного.
В очередной раз «чужие» очень хорошо со мой обошлись. Впрочем, с каждым днем к этому привыкаешь, закаляешься.
Возвращение, а главное, пребывание в купе представлялось более благоразумным. Это потому что в ресторане я все же успел порядком наглотаться мужества поверх «велосипедиста». Психика мал-мал устаканилась и даже умиротворилась по децелкам.
В коридорах и тамбурах к лучшему ничего не изменилось. Окончательно одурев от монотонной тряски внутри передвигающихся в пространстве железных коробок, многоуважаемые пассажиры готовились к сладостной встрече с Другим Городом. Пока они ударились в потребление спиртных напитков и пожирание мяса мертвых зверушек с таким неистовством, что было ясно: как столкнутся с Другим Городом — для них наступит новая эра существования. Восхитительная и замечательная.
Вот что предвкушали эти мечтатели.
Я проходил по купейным и плацкартным вагонам. С небольшой опаской осматриваясь, конечно. Обилие бутылок и жратвы на столах подтверждало: каждый, если хочет, при желании может высвободить свою сущность посредством нехитрых комбинаций рук, пасти и брюха.
Заливай, забрасывай — и готово. Вот оно, счастье.
Везде перемещались залитые синькой, и иногда мне приходилось сторониться, отмахиваться, отвечать на их нелепые бредни и пьяные выкрики. Как оказалось, их состояние совсем не мешало им цепляться ко мне с самыми разносторонними вопросами и предложениями. Даже подстегивало. Я вырывался из вопросов и предложений, шел дальше. Мне нужно было теперь добраться до купе, вот и все.
В тамбурах уже все было загажено… этикетки… обертки… банки на полу…
Сладострастные вопли из-за каждой второй двери купе. Все это месиво потело, воняло, рыгало, кричало. Словом, оставалось вполне жизнедеятельным.
Те из них, кому не посчастливилось высвободить свою тупость, очень завидовали достигшим освобождения счастливцам и открыто выказывали им знаки уважения. Вместе они уже переключились на воспоминания. Типа как ностальгия.
Говорили они о многих других городах. Как там хорошо… чудесно… здорово… Несмотря на то что все беспрестанно плакались друг другу в жилетки, некоторые давали товарищам понять, что именно они, некоторые, уж не такие, как все, и знают ту неведомую и далекую цель своей стремительной жизни. И видимо, с каждым глотком неведомая и далекая цель все более приобретала свои очертания.
Однако моя находчивость и мудрость в вагоне-ресторане прибавила мне уверенности в себе.
Смело и резко распахнул дверь в свое купе. Слава богу, тех олигофренок не было. Может быть, их уже вынесли, кто знает. На всякий случай проверил свои вещички — все на местах. Они ничего не слямзили, хотя вполне были способны на такой трюк. Это уж несомненно.
Словом, все складывалось не так уж плохо. Если бы, конечно, не омерзительные запахи, которые остались после их пиршества.
Тут же прибежала проводница. Видимо, начальник поезда, на страховняк переклинившись, предупредил ее, что нужно быть со мной поласковее. Она стала предлагать мне опять все свои нехитрые товары, в том числе и себя, дуреху. Так призывно она щебетала.
Призналась, что на следующей станции ко мне снова подсадят попутчиков. Долго извинялась, мол, ничего не может поделать. Хотела бы, понятно, да тикетняк и все такое. Мне это, ясно, настроения не прибавило. Эх, час от часу не легче.
И неизбежный геморрой. На следующем стэйшене мне посчастливилось замониторить три тупые горланящие хари, шумно завалившиеся в мое прибежище.
Типа военные. Только пусть не буянят и не лезут ко мне со своим служивым, подумал я. Двое из них были рядовые, а третий офицер, лейтенант. Тоже молодой парнишка. Старше их на год, может, на два. Он был у них типа того за брата, хозяина, босса и спонсора.
Первым делом, рассредоточившись по купешке, они заинтересованно спросили, согласен ли я всю ночь лакать вместе с ними многочисленное припасенное пойло. Я тут же представил, что если откажусь, то мне предстоит до утрянки слушать их интеллектуальные беседы, лежа на верхней полке. Что ж, выхода уже не было. От безысходности я согласился.
— Мы солдаты, цвет нации и гордость Отечества! — сразу объявил один из них. Это он провозгласил, чтобы я понял, кто здесь типа за паршивую овцу катит, а заодно чтоб просек грандиозный смысл миссии, возложенной на этих очередных пришельцев в мое путешествие.
Жратвы у них почти не было — сухпаек только децельный. Зато водки и спиртяша было столько, что, казалось, они собираются сегодня конкретно утонуть в синьке или по крайней мере искупаться.
Значит, мигом перезнакомились и начали заливать в себя. Им не приходилось высвобождать свою сущность, потому что тупость была у них в крови, закоренелая и махровая, впрочем, как и у всех военных.
Они оказались из числа тех, кто петрушился в Чечне. Полавировав из деликатности, я догнал, что петрушились они на стороне Государства. Типа федералы. А теперь, напетрушившись вдоволь, они ехали по домам отвернуть свои порции счастья.
Первый из рядовых, получилось, был из Далекого Города. И он сразу заявил, что это красивейший город в мире.
— Да, да, конечно, это так, кто же спорит? — согласился я с ним. Второй типа из деревни. Его там ждала кобыла, трактор и все остальное живописное. Этот с трудом подбирал слова. На его задумчивом лице черным по белому было написано, что если он еще не имбецил, то уж почти что.
Лейтенант в свою очередь откровенно сообщил мне, что очень хотел стать героем. Очень хотел, да не прикатило. Героем-то уж быть почетно. «Это очень нравится девкам», — вот к чему он клонил, наивный пройдоха. Этот маньяк, видимо, пытался выдавить из войны какие-то кусочки преимущества в положении и любви для себя. Как только разговор зашел про героизм и про любовь, они разом вспомнили, как весело развлекались с тинами в Гудермесе. На такое уж бесстрашное развлечение не каждый решится. В этой спешке к своей выгребной яме любовь и смелость нужны каждому.
Кстати, очень скоро я попутчиков и зауважал. Как оказалось, такая смелость оправдывалась ничем иным, как принадлежностью их подразделения к славному полку под предводительством полковника Буданова. Который не гнушался лично расправляться с особо страшными замаскированными врагами, особенно если они были несовершеннолетние и женского пола. Даже похвалились, как крошили, а потом закапывали бешеных террористок.
В свою очередь офицер также похвастался типа и ему кое-что перепало с этой кампании по торжеству российской Конституции.
— Смотри сюда! — говорит доверительно. — Самая настоящая пуля! Видал такое?
Пуля была обычная, маленькая и не страшная.
Затем гордо рассказал мне, что ему эту самую пулю в ногу присобачили. И теперь он едет зализывать лапу к себе на родину, в Северный Город, почему я сразу ему и зазавидовал. Как оказалось, ранение он воспринимал как посланную свыше божью отметину. Это была одна из составляющих на его бесстрашном пути стать героем. Мне даже стукнуло в голову, что если бы ему эта пуля не перепала, он бы сам придумал бы что-нибудь подходящее по этой тематике. А наверняка он сам себе эту пулю в ногу и засадил для пущей крути. Этот Александр Матросов.
— Но ничего, ранение пустяковое, — продолжал он. — Мы черным еще покажем! Россия ни перед кем на колени не вставала! Великая Русь всегда побеждала и сейчас победит, всех передавит. Мы патриоты, а черные не пройдут! Мы — русские люди и гордимся этим! — вот так он разглагольствовал, размахивая очередной бутылкой.
Я, конечно, решил не ввязываться в их стратегические военные планы и позиционировался молча.
Ни слова лишнего. Ни гу-гу.
Раскрепощенные громадным количеством выпивки и мерным постукиванием поезда, они разве что не захлебнулись в своей немыслимой браваде и выдумках о ратных подвигах. Облаченные в форму «чужие» намного хуже гражданских, потому что их животное состояние узаконено. Гражданским нужно прикидываться приличными и честными, чтобы сделать вам какую-нибудь пакость. С военными таких проблем нет — убивай, насилуй, грабь. А в случае чего получай на грудь орден, очередное звание и благодарность Родины.
Словом, они брякнулись на свою привычную тему. Да уж зато не врали, хоть на этом спасибо.
Но если бы я им напрямки заявил, что думаю по поводу войны с чехами, они сочли бы меня предателем, унылым скептиком и размазней.
Еще я услышал, что у этого самого лейтенанта там, в Чечне, почти вся рота полегла. И что, подлечившись, он обязательно вернется и «разберется с черными по полной программе».
Затем они стали вспоминать разные смешные военные истории. Ну как чеченских пацанят танками гоняли и как снайпершу-эстонку на британский флаг исполосовали. Они так воодушевились своими рассказами, что пили теперь без тостов, невпопад, без закуски. Эти доблестные защитнички Родины.
Узнав, что я перемещаюсь в пространстве с целью обучения в Академии, лейтеха решил рассказать самый значительный подвиг за всю эту славную кампанию. За подвиг этот самый лейтенанту красивейшую медальку впарили. «За мужество». Рядовые с уважением косились на медаль и цокали восхищенно языками. Им тоже хотелось такую же высокую награду и ленточку в придачу. Чтоб всем потом на гражданке в рожи тыкать, на дискотеки цеплять, а ночью под подушку класть. Лейтенант тоже свою медальку часто рассматривал и нежно поглаживал. Раз в полчаса доставал баночку с каким-то раствором, макал в раствор тряпочку и бережно протирал награду, резко выделяющую его из общей массы негероических людей.
Так вот. Как-то раз их рота благородно зачистила очередную деревню и вечером мирно храпела, заслуженно отдыхая в поле от постоянных боев с невидимым неприятелем. Заметно насладившись алкогольными напитками, конечно. А тут неподалеку по местности легашный полк проходил. Ну, внутренних войск. Тот полк был такой новенький, такой свеженький, такой только что присланный. И им, конечно же, очень хотелось вкусить настоящих боев, поверженных врагов, боевого пороха, наград и военной доблести. Там еще у легашей полковник был главный. Сюда он приехал с одной целью — доказать этим несмышленым военным кадровой армии, кто здесь, на этой войне, самый основной стратег и тактик. К тому же ему напели в плане мотивации за новую хату в Химках опосля виктории. И жена, провожая его на рать, с надеждой просила его поубивать боевиков как можно больше. Это понятно, чтоб им эту квартирку отхватить и жить дальше вполне счастливо.
Что ж, желание вполне понятное.
Со слов лейтенанта, полк был тот еще более залитый спиртяшкой, нежели его рота. Всем ратничкам в том полку было лет тоже по восемнадцать. И в них кипела вся бравая скиновская удаль и ненависть к чернявым. К тому же полковник обещал всем, что будут они много стрелять по врагам. И обещания нужно было держать. «Кругом враги! Все лам желают зла. Стрелять во все, что движется. И побольше!»
Так отечески наставлял их полкан.
Тут они как раз лейтенантскую роту в темноте и увидали. Сомнений не было — чеченцы, наемники со всего мира. Рассмотрев в ночной бинокль сопящую, хрипящую, культурно отдыхающую роту лейтенанта, полковника осенило: «Вот оно, солнце Аустерлица!»
Он, ясно, хотел конкретнейших битв и славных побед. Чтобы воодушевить на атаку своих бойцов он, полковник, обратился к ним с пламенной речью:
— Солдаты! Настал час великой битвы! Это время грандиозных сражений! Сейчас мы делаем историю! Прольем же без лишних сомнений кровь за нашу великую матушку Россию! Во имя свободы и демократии, как говорят нам из ящика. Я чувствую, это ключевое сражение всей кампании. Там Шамиль, Хаттаб, Бен-Ладен и Удугов. Отомстим же чеченам за погибших наших товарищей! За наших детей, отцов и матерей! Вперед! В атаку! Пленных не брать!
Сам-то этот победоносец в атаку не пошел, а остался со штабными на холме рассматривать в ночной бинокль, что же выйдет изо всей его стратегической хренотени. И заранее радостно потирал руки, мечтая о квартирке в Химках.
Ударили они по всем правилам. Всей своей огневой мощью. И пока ошалелые легаши полковника в угаре стреляли во все стороны, а полусонные военные лейтенанта пытались отстреливаться, почти вся несчастная рота и полегла. Такое вот недоразумение вышло. Поразбирали они своих раненых и мертвых, выпили вместе за грядущую победу и разбрелись дальше по полям чеченцев разыскивать. Списали потери. Война, чего уж там. А лейтенант, культурно залитый по самые обода, во время боя нелепого даже и не проснулся. Это он с гордостью сказал. Вот какая боевая выучка, мол.
Это уже было что-то. У меня даже появился искренний интерес.
— Что дальше? — деликатно осведомился я. Эти устные мемуары меня так взволновали, что я даже слегка расстроился, типа у меня в голове пунктирчики не шторканулись отправиться в эту самую Чечню за впечатлениями.
Опять сожаления. Впрочем, я уже и так чувствовал себя достаточно подшторенным. Закурил «Camel» и слушал внимательно дальше.
— Ну уж отомстили мы за своих павших ребят на полный катушняк, — продолжал лейтенант, а рядовые приподняли свои квадратные головы и одобрительно загудели.
— Вмазали легавым этим по полной программе! Вот это была месть так всем местям месть. Эти легавые через неделю на одну деревушку набрели и с вэдэвэшниками, которые тоже у нас неслабо народа откинули, начали по местности разбираться. А мы это отродье убив двух зайцев все вместе и прищучили. Мы авиацию по-хитрому на них послали, а летчики по привычке деревню и снесли вчистую. Почти никто боеспособным оттуда и не смылся. А мы на летчиков все и свалили. Летчики виноваты, мол. Полковник в одну сторону, броник в другую! Всякое бывает… — философски заключил он. — А мне еще и награду выдали за блестяще проведенную рекогносцировку, чтобы замять все. Кстати, как ты думаешь, она наверное хороших денег стоит, медаль-то? Немалых, наверное? Ты не знаешь, куда ее загнать повыгодней, а? Финнам может? Или эстонцам?
Я молчал, переваривая. А они потом долго смеялись, вспоминая десятки других боевых историй. И очень сложно было разобраться в этом сложном переплетении боев армейских с десантниками, десантников против легавых и легавых против армейских вместе с десантниками. Справедливости ради надо отметить, что изредка, совсем запутавшись и озверев, они нападали и на местных. И даже пытались в них стрелять. Так что все в поряде.
К нам уже тайком подобрался рассвет. Меня совсем раскозявило, и я все ждал, когда они устанут гнать. Разговор был бредовый и бесполезный. Когда военный залитый, в нем уже сложно разглядеть нечто человекоподобное. Впрочем, это состояние им было близко по внутреннему интеллектуальному уровню. Поэтому и заливались.
Слово за слово, сумбурно путаясь с боев за демократию, они перескочили на любовь. Как у них там в центре Джохара была одна сорокапятилетняя ягодка на всех. А с ягодки плавно перешли за Родину крутить шарманку.
Разлили бодро и чокаются:
— За Отчизну! За нашу матушку Россию! За самую великую страну в мире и за ее доблестных защитников!
Мы снова выпили. Хмыри понимали: в том положении, в каком они оказались, единственное, что и остается, так декламировать за Родину, патриотизм и все такое прочее безмазовое.
Ну, ведь понятно даже ежу: «Конституция в опасности! Вперед, вперед, ради священной идеи свободы и демократии. Для торжества великой справедливости сначала нужно все утопить в крови, тогда всем будет хорошо. И когда вы, бесстрашные солдаты, все передохнете и передавите всех чеченцев, мы будем мониторить ящик и целоваться. А когда придет сообщение о том, что все кончено, мы снимем шляпы, понаставим павшим памятников. Вашим родственничкам мы дадим красивые дипломы, смахнув слезу, мы зачитаем искренние речи. А ваши жены получат справки, что вы были героями и смогут гордо хранить их в шкатулках и всем гордо показывать. И пока отмазавшиеся будут ездить на тачках с клавами по клубешникам, вам, неотмазавшиеся, предоставляется почетное право выпустить себе внутренности во имя нашей демократии и свободы. И лучше вам полечь там и не возвращаться. Кто нагло хочет вернуться домой — подлый трус. А еще мы пошлем генералов для отслежки, как вы там с врагами сражаетесь».
Примерно так быдлу ежедневно и втирали из всех медиаточек. Со сторонки-то виднее. Если же это касается тебя лично, то мигом патриотизм испаряется. Только мои попутчики этого не понимали. Я же говорю, с пунктирами в башкетниках у них было не ахти.
— А ты, парень, ты вот сам бы пошел воевать, если бы тебя позвала страна для защиты ее чести и территориальной целостности? А? Пошел бы? Это твой мужской долг! — это лейтенант так спросил. Ему хотелось побеседовать с более-менее умным собеседником, за которого он меня наивно принял, дуралей.
Я вовсе не собирался с ними ругаться. Это была их война. Я не хотел иметь к ней никакого касательства. Ни капли.
— Да нет, — говорю. — Такие варианты без маз. Пускай другие погибают неизвестно за что. Не вижу никаких причин, по которым я должен стрелять в людей безо всякого повода и безо всяких для себя материальных выгод. Перспектива на халяву умереть молодым меня не прикалывает. Кто за войну вопит, пускай первым туда и катит. Посмотрим, как он насчет этой самой войны тогда подергается-повыкаблучивается.
Наверное, я сказал что-то не то. Крыть они меня стали по полной. Слова, крики, лозунги.
Промеж тем за окном все стало совсем белым в плане рассвета.
А настроившийся на синюю волну лейтенант хотел все выяснить конца:
— Нет, ты мне скажи, — с трудом выговорил заплетающимся языком. — Скажи, что бы ты делал, если б тебя все равно на войну загребли?
— Я бы? — задумался и палку тоже перегнул, распалившись. — Да повалил бы свое офицерье да и махнул бы к чеченским партизанам. Они бы мне еще и баксяток приятных за это дали бы. Если уж долдонят, что твое призвание убивать или быть убитым, то, ясный пень, лучше это делать там, где за это финансовыми траншами пахнет. Да и помахать Родине белой ручкой с высоких гор.
Тут уж совсем запахло жареным. Эге, подумалось, уж не сболтнул ли я снова лишнего. Для них я оказался коллаборационистом и жалким гаденышем, которых они у себя там, на войне, пачками душили. Деревенский даже очнулся, оторвался от своей спиртяги и предложил им выйти, а мне сюда, в купе, фэшку кинуть, чтоб посмотреть, как я здесь покувыркаюсь. И стал «чеченом» меня называть. Я даже обиделся. Высказываешься, высказываешься, а что толку, если перед тобой всего-навсего три имбецила?
Но лейтеха почти интеллигентно не поддержал идею с гранатой. Он сразу как-то потускнел, уставился в свои бутылки и задумался. Наверное, он достиг той самой точки в своем мозгу, которой обычные люди достигают лет в двенадцать.
— Россия… Родина… Но если есть армия, значит, хоть кто-то должен же в ней умирать за Россию… — мужественно пробормотал он.
Дальше — больше.
Увидев, что рядовые в своем прекрасном отдыхе уже поотрубались, лейтенант искренне рассказал, что считает своих подчиненных совершенными гадами. И даже жалеет, что эти двое возвращаются целыми и невредимыми, не павшими, как большинство.
Кстати, я запомнил его фамилию. И немного позже случайно ее нашел в одной известной центровой газете. Они там додумались «Книгу Памяти» составлять, жалели всех мертвых и надежду выражали, что, мол, может, теперь-то у них, у мертвых, все и хорошо. На том свете типа реабилитируются.
А те, кто вернулся? Им тоже здесь, на земле, ловить уже нечего. И всего два варианта: либо убивать всех направо-налево по привычке, либо окончательно и бесповоротно настроиться на синюю волну, врубиться в нее до упора и уже никогда не слезать.
Но если нужно быть патриотом, я тоже могу прикинуться. Могу кричать, как мечтаю расправиться с этническими и как жажду самолично отправиться в Чечню и уж на месте победоносным маршем перепугать всех чернявых. Несмотря на то что мои внутренности мне, ясный пень, дороже, готов без колебаний рискнуть ими за Родину.
Но что мешает? Ах да, забыл совсем. У меня же справка стоимостью тысяча двести тридцать баксов, а в ней сто двадцать шесть различных диагнозов.
Жаль. А то бы я несомненно отправился воевать. Готов умереть за Россию.
Если вдруг объявят, что Родина в опасности, я первый яростно закричу с больничной койки изо всех силенок: «Мы победим!».
Россия — это очень много. Россия — пространство, заселенное тяжелыми и тупыми особями, которые сами никогда ничего не понимали. Им, правда, всегда помогали прекрасные выходцы с родины Иисуса Христа, так как болтают, они самые умные. А время от времени на помощь величественному русскому народу приходят татаро-монголы, поляки, немцы, французы. Теперь американцы. Но бесспорно, мы самые клевые и приятные. Потому как хозяева.
Сидим все в одной помойной яме. Куда-то смотрим, чего-то ищем. Но уже совершенно напрасно.
За окном светло.
Лежать на полке. Засыпать.
Везде враги. Все всем всегда желают зла.
«Но уж в Большом Городе все не так. Там все иначе», — вымученно подбадриваю я сам себя на всякий пожарный. Только для того, чтобы доказать себе самому, что я еще трепыхаюсь. Прошлое развалилось на куски и отпало от меня, настоящее тоже. Оно исчезло, растворилось где-то там, за холмами, за алчным горизонтом. И единственное, что остается — ползти вперед, барахтаться, перемещаться из города в город. Надеясь на лучшее.
7
Когда я проснулся, солдатни уже не было. Ни одного героя. Они, видимо, продолжили свой крестовый поход немногим раньше. Удачи! Я был только рад.
Есть такие обманчивые мгновения, когда тебе кажется, что еще немножко — и все. Мир обрушится тебе на голову всей своей радостью, добротой и великолепием. Вот и мне сегодня с утра перепал такой денек.
— Большой Город, — сладко зевнул я, брякнувшись со своей полки.
Солдатня покрала, конечно же, у меня различную мелочевку: складной нож, зажигалку, пачку «Camela». Любители Родины, блин. Быдло тупое. Чтобы уметь защищать Родину, всегда нужно что-то выкинуть. И что-нибудь гаденькое, типа мелкого воровства. Я даже не удивился.
Между тем по трэйновому радио залечили, что мы уже в окрестностях Большого Города и через тридцать минут будем на Белорусском вокзале.
— Большой Город, конечная станция! Желаем приятно провести время! Добро пожаловать! — вот как заманивали из динамика.
Приникнув к окну, я стал подозревать, что меня опять околпачили и завезли в какую-то конкретную дыру и тьмутаракань.
Поезд дергался всеми потрохами, пытаясь из последних сил довезти нас, путешественничков туда, к конечному пункту следования.
«Где же Большой Город?» — пригорюнился я. Кроме тусклых заборов и разваливающихся зданий заводских цехов, я не увидал пока ничего. А мне-то наболтали: театры, музеи, архитектура, немыслимые в своем благодушии люди.
Опять не то.
На всякий случай в плане психологического хэлпа я прямо с утреца закинулся по экстази — на сей раз белым «элефантом». Я-то хитрый, набрал немного экса из бывшего Города. А то пока я еще пушера нарою в Большом Городе, сколько нервишек и времени-то прокатит…
Чуть позже все встало на свои места. Надеюсь, до вечера.
На солнце блеснули большие желтые крышки какого-то старинного гигантского замка с перекладинами, как реи у древних кораблей. «Вокзал!» — догадался я. Там еще какая-то бестия в черном балахоне, почесывая брюхо, стояла. «Встречают!».
Я снова ошибся.
Воздух стал как-то гуще и тяжелее.
— Проезжаем исторические места, — расслышал я голос из коридора.
Нас трясло всех вместе в этом бреду еще минут двадцать. А потом реальный трип закончился. Поезд остановился. Свершилось.
Я даже слегка раскрыл рот. Мрачный свежеотремонтированный вокзал и немыслимые в своем благодушии люди. Словом, повезло.
— Приехали! Все на выход! — орала проводница, подталкивая всех, уставших и обалдевших, к выходу.
Да, меня не обманули. Все-таки я добрался до того места, куда меня принесло на молодых дурках и иллюзняках.
Как оказалось, меня никто не встречал. А я-то надеялся, что меня ждут. Но ничего не было: ни оркестра, ни фанфар, ни сотен людей, приветствующих меня своими криками и овациями. Совсем ничего. Я даже расстроился.
Да ладно. Что взять с «чужих»?
Дышать было тяжеловато. Мириады запахов, сплоченные целью обеспечить людей информацией о выпивке и жратве, парикмахерских и уборных, жадно и вязко растекались по всем закоулкам. Путешественнички, вылезшие вместе со мной из нашего временного пристанища, волокли груды своих сумок куда-то по направлению к тоннелю, в котором дружно и исчезали. Ради развлечения они уже начали, переругиваясь, общаться, чтобы продемонстрировать уверенность в своих силах и умудренность жизненным опытом. Самые пронырливые оседлали носильщиков и таксистов и продирались к будущему, посматривая свысока. Весь вокзал надрывался от криков и визга, которыми они, видимо, приветствовали Большой Город.
Чего уж. Люди они и в Африке свиньи.
Выйдя на привокзальную площадь, я отважно врезался в самую гущу толпы и прислушался к биению своего тревожного сердца. Но ничего не почувствовал.
Видимо, усталость и некоторая скромная и сугубо личная зашторенность выдали во мне субъекта с неместными повадками. На площади Белорусского вокзала ко мне тут же ринулся лег. Лапки расставил, глазки жадно заблестели, все такое.
— Документы, господин Приезжий!
С плохо скрываемым раздражением я ткнул ублюдку железнодорожный билет.
— Местный? — спросил он настороженно.
— Нет, — махнул я рукой. — Русский. Русский человек.
— Настоятельно рекомендую вам в трехдневный срок стать временным местным или подместным, — вякнул лег.
— Пока что не считаю нужным безо всяких видимых причин менять свою национальность, — веско и уверенно ответил я, выхватил у пэтэушника доки и пошел по своим делам, оставив легавого в туманном смятении.
«Да, — подумалось мне. — Первый человек, с которым мне пришлось вступить в контакт в Большом Городе, и тот легаш».
Люди были грустные и озабоченные. Местные жители воняли и отталкивали от себя, так же как и все остальные люди во всех частях света. В сущности, путешествие в поисках лучшего — выдумка.
Заприметив неподалеку непонятное радостное событие, ломанулся из любопытства туда. Там в центре внимания был представительный жирный человек. Все окружающие выказывали ему открыто знаки уважения и даже преклонения. Рядом с ним копошилась большая стая телохранителей и коммерсантов.
Как оказалось, это был наш премьер-министр. И он, запинаясь, поздравлял всех собравшихся со славным праздником открытия отремонтированного здания вокзала. Самопиарился, клоун, по полной.
Я тоже хотел децелок стебануться и выразить ему свое уважение и пожать руку. Но вряд ли прихлебатели подпустили бы меня настолько близко.
К тому же жирный человек недолго копошился, зевнул и гавкнув на свою стаю, отправился на тачках куда-то вверх по проспекту. Кормиться, наверное.
Ладно, чего уж там. Главное — я добрался в Большой Город. Пора было отправляться в красочный полет навстречу моему будущему высшему образованию, как напела мудрая Могила Канта.
Толпа, потрясенная видом нашего премьера, возбужденно разлетелась в разные стороны. Мне тоже нужно было валить. И поскорей.
Так как какие-то монетки у меня еще водились, я смело поймал кар и, всучив водиле адрес, уставился на пролетающие мимо куски зданий.
На таксиста я смотрел с большим уважением. Потому что наверняка он совершенно другой, как и Город.
— Люди, молодой человек, в Большом Городе вовсе не такие, как в других городах, — ловко намекнул он мне.
Я не спорил и благоговейно смотрел, как он гениально, как само совершенство, перестраивался из ряда в ряд.
Уж лучше в чужих местах я буду пока поспокойней. Надо всегда рассчитывать свое реальное место в пространстве в данное время, чтоб над тобой издеваться не начали всякие, как над по дури залезшей на дерево собачонкой.
Короче, нужно было осваиваться в Большом Городе и как можно скорее. Каждый город словно цветок. Если вовремя не отвернул свой нектар положительных эмоций, то город увядает и сохнет прямо у тебя на глазах.
На полочке в тачке наглядно позиционировался бук «Мастер и Маргарита». А я знаю, я что-то помню. Это типа того там про какую-то раскураженную тину, которая кордышлонилась с морфинистами по подвалам и снимала грины с иностранцев. Но уж ясно, каждый кувыркается, как может.
Разглядывая Большой Город, я непозволительно распустил нюни. С одной стороны, я был рад до зеленых соплей, что смылся из Западного Города без опоследышей, с другой — по иным городам заностальгировал. В итоге я даже чуть не всплакнул и стал вытирать жидкое, текущее из многих моих отверстий. Но вовремя собрался, так как хотел достойно выглядеть перед уважаемым человеком, который спокойно вез меня навстречу моей судьбинушке. И уж не выглядеть размазней.
Таксист даже забеспокоился и деликатно осведомился, что же у меня там за горе. Милейшей души человек.
Нет, нет, заверил я его, все нормально, мол. А сам сижу и хлюпаю носом.
Эге, опять мутные эмоции какие-то шкалят. Конечно, если жрать все подряд, как я сегодня эксок — «эле-фант» на пятьсот микроединиц.
«Однако от судьбы не уйдешь, — сказал я себе. — Буду стараться хватать ломтики счастья здесь и сейчас».
Вокруг много людишек, тачек, а главное — баксят. А вот и милые девушки в коротких юбках, глазеющие на нас. Я даже подумал почему-то о неведомых мне кельтских сказках, французской поэзии… Наверное, жизнь повернулась вспять. И может быть, даже вернутся римские боги, Ной, Заратустра и Леда. А значит, не зря я сюда приехал и вовремя. Однозначно буду здесь, как в раю.
Черт побери, пока мне везет. Спасибо, Могила. Теперь я здесь инфы-то уж навпитываюсь, визуальных впечатлений намониторюсь, поступков особей назаглатываюсь. А потом поеду, может, дальше. Далеко-далеко. В тридевятое царство, в тридесятое государство. И в такую, может быть, даль, где даже ничего никого никогда больше и не будет. Там свернусь калачиком и грамотно ласты скину.
Наш кар затормозил так резко, что я вмиг разбрызгал по всему салону слюни, сопли, а заодно все шторки и эмоции. Таксист смотрел на меня удивленно. А, все равно он ни фига не понимал мои внутренние замороты.
Волей-неволей мне пришлось спуститься с небес на землю. Это как качели — вверх-вниз. Так всегда.
Мы стояли на зеленом светофоре почему-то, а мимо нас приносилась колонна одинаковых черных автомашин. Красивые, такие. И все с синими проблесковыми маячками и визгом на всю ивановскую. Вместо цифрового обозначения региона у них на номерах были гордые российские флаги. Почти такие же красивые, как французские, только похуже. На лобовых стеклах тоже крупные российские флаги, а рядом буквы ГД. «Избранники!» — смекнул я. Но на всякий случай осведомился у тэксмена. Он-то верней знает.
Тот хмыкнул.
— Какие такие избранники? Какие такие депутаты? ГД расшифровывается очень просто. ГД означает гады.
Это знаменитая традиция такая старинная с начала прошлого века их по-особому метить из осторожности. Видишь, на красный прут.
Вот это да! Не все еще в этом мире потеряно, если существуют приметы отличать плохих людей от хороших, а добрых от злых. Если б все было так запросто.
Для себя я решил вызубрить все местные традиции и тонкости, чтобы не выглядеть в следующий раз перед очередным «чужим» полным профаном. Мне и так было достаточно стыдно за свою неосведомленность. Надо ж было так брякнуть: «Избранники!»
Все-таки мы доехали. Я был весьма доволен: Академия Философии, куда мне теперь предстояло приткнуться по эдикейшену, была в самом центре. А рядом все та же неизбежная человеческая каша на стрите, в магазинах, барах и офисах. Помню еще, вокруг деревья были грустные-прегрустные. Как больные.
А посередине дворика Академии помятая желтая трава. И памятник в центре какому-то прощелыге из прошлого. Как мне показалось Аристотелю. По дворику бродили десятка два нечесаных, грязных и оборванных олигофрена, которые дружно сорили окурками и пустыми банками из-под пива. Все они закатывали стеклянные глаза, бормотали себе под нос, чесали гривастые репы, чихали, изредка сплевывали и глупо хихикали. Ясное дело, я понял — типа они так размышляют. Такие своеобразные надежды мировой философии. Вот оно как. Все начинало становиться не таким уж смешным.
«Тебе туда, — махнули мне рукой в сторону старого желтого здания. — Там тебе ВСЁ объяснят!» Забравшись, зашторенный, внутрь, я обнаружил еще с десяток олигофренов, тупо переминающихся вдоль стен.
Нечего было скромничать. Тем более че скромничать перед олигофренами. Хватит с меня теперь скромности на миллионы лет вперед. Пора было решительно действовать. Расталкиваю, морщась, олигофренов и прусь в ту дверь, куда мне опять ткнули.
Забегаю. Называюсь: «Северин».
Там очень добрая женщина. Сидит, курит.
И бурчит что-то в телефонную трубку. Отметила в списках мою фамилию и выпустила дым. В тех отверстиях, которыми она заглатывала воздух, подхлюпывало. «Болеет», — мысленно пожалел я. Однако ее запас грубых слов и оскорблений, высказываемых невидимому собеседнику в трубку, был в десять раз обширнее, чем у той симпотной девчонки на вокзале. «Философы, — подумал я. — Теперь они злобные».
Опять пожалел. Опять зря.
— Все! Вали отсюда! Там твоя временная хибара! — заорала хлюпающая морда, объясняя мне, как доехать. — А работы, блин, по философии свои ты привез? А? Я тебя спрашиваю, конь с яйцами?
— Да, — отвечаю. — Конечно, привез. Одну только: «Шоковое столкновение «Я» и «чужих» — единственно возможный путь продолжения существования». Зато написанную на надгробье Канта.
Она опять затянулась и выпустила дым. Снова угрожающе всхлипнула отверстиями и отшила:
— А, впрочем, нам твои работы и не нужны на хер! Философов-студентов, — она поперхнулась, — у нас и так жопой ешь! И запомни: здесь надо помалкивать! Здесь вам, сучьи дети, не творческая мастерская, а серьезнейшее учебное заведение, понял?
Увидев, что я немного замешкался, добавила:
— Пшел отсюда! Убирайся!
Я кубарем выкатился на улицу, освобождая кабинет для других, их надежд, мечтаний, иллюзняков и все такое прочее.
А дальше, копошась в субъективных непонятках, я поехал туда, на другой конец Города в гостевой дом
Академии Философии, где наобещали мне мою временную конуру на несколько первых дней.
А что? Пока помоложе, слушаешь все подряд, развесив уши. Тебе обещают — типа живи. Но на поверку получается, что тебя обвели вокруг пальца. Все пустота, никчемность и Будда с Кришнамурти. И ведь даже если раскроешь свое хлебало, то все равно найдутся добрые порядочные люди, которые ради всеобщего же блага тебе его заткнут.
Первым делом на фронтоне этого старого, массивного и перекособоченного здания бросилась в глаза скромненькая гостеприимная вывеска. Золотые буквы гласили:
«Филиал больниц № 15, № 17 и имени Кащенко при Академии Философии имени Цицерона». Видимо, этот Цицерон был их самый знаменитый клиент или пациент, которого здесь вмиг от всего и излечили.
К торжественному дню заезда новых больных на всякий случай подогнали несколько белых машин с красными крестами. Это, как оказалось впоследствии, для тех, кто еще не понял, что здесь нужно смирненько торчать в собственной ракушке, а свою пасть высовывать лишь тогда, когда тебе скомандуют санитары.
Теперь-то уж никакой свободы выбора и в помине не было. Что ж. Назвался скотиной — полезай в стойло.
Самым центровым здесь парил в облаках главный врач, который, надавив на синие педали, совершал со своими санитарами траурные ночные обходы, чтобы приблизить обитателей к современной культуре, а заодно и к античности.
Это им вполне удавалось. Правда, некоторые, не выдержавшие монументального и несокрушимого столкновения с мировым искусством, вполне тихо и бесследно исчезали. Поговаривали, что их переводят на жительство кого в главный корпус, а кого и сразу на кладбища. Потому что их увозили кого на белых, кого на черных тачках.
Но ведь в конце концов их тоже везли в путешествие.
Рожденный ползать летать не может. И действительно, если бы у человека были крылья, то они страшно мешали бы ему ползать. Несмотря на эти спорные утверждения, самые неизлечимые поголовно считали себя птицами. И каждый мечтал полетать. Кто с шестого, а кто и с седьмого этажа. Их тоже больше никто не видел, они тоже исчезали. Их увозили в другие места. Но ведь опять же каждый взлетает как может. Возможно, если как можно чаще подпрыгивать и отрывать ноги от земли, то рано или поздно взлетишь.
Но я-то пока подожду, понаблюдаю.
Так вот. Забрался, значит, внутрь. Тут мне мою палату и указали. Живи, мол, существуй понемножку. Я был так доволен своими облезлыми и холодными апартаментами, а особенно соседству с шестьюдесятью шизофрениками, гниющими по соседним, что сразу догадался: пора смыться хоть на сегодня куда-нибудь. Тем более шторка перешкалила все допустимые форматы. Не забывайте, что все это укладывалось в один такой насыщенный денек.
По любому смыться я мог только до вечера, а уж там будь что будет. Пора набираться ума, а вместе с ним и вдохновения на новый виток лайфа.
* * *
Между тем Большой Город активно готовился встретить очередной Юбилей. Таким образом грядущий праздник был в своем роде историческо-городской реанимацией.
Основным парнем, который обустраивал праздневства, конечно, был Министр городского Процветания. Это уж точно. Потому что при каждом удобном случае он делал приличное для его положения выражение лица в ящике и гнал типа как он прется по Большому Городу и все такое прочее. А заодно обещал выпустить за Большой Город кишки хоть всем остальным, хоть себе. Конечно, когда он затирал, сколько монет он бухнул на раскладняк, все в шемент восторгались. Без своих коммеров он и дышать не смел. И суетливо интересовался, куда еще швыркануть баксяток, чтоб ему с его любимыми коммерсантами еще более залучезарилось по жизни. Здесь Министр городского Процветания мудрый. Пытаясь представить глубину его мудрости, все на завидках дергались.
Быдло же неслабо аскало праздника, халявы и, если повезет, погромов.
В принципе все равно, что отмечать. Детскую олимпиаду, так детскую олимпиаду. Юбилей так Юбилей. Еще особи очень любят в плане праздников Новый Год и дни рождения, когда можно без опаски оглянуться на оставленные за собой в прошлом кучи дымящегося темно-коричневого и отправиться дальше делать новые кучи. Я знаю, в праздники принято собираться стаями, чтоб назлорадствоваться, полюбоваться на старение и морщины других «Я», обхаять недругов, потискаться и нажраться с шалавьем.
Первым делом почехлил вниз по центральной улице. Ну по Тверской к красному замку. Замок со звездами такой, которые издалека видно. Но здесь звезды — это ограничитель полета.
Я затерялся в самой гуще человеческой массы, которая потащила меня к красному замку. Навесил на себя уверенную личину, прикупил банку пива и все такое. Дальше понял: даже лапы нижние передвигать не стоит. Человеческая каша сама дотащит меня до замка.
Это были такие же «чужие», как везде. Вроде бы они шлялись взад-вперед без всякого дела. Их было очень много, что, бесспорно, представляло некоторую опасность. Но я весьма недурно среди «чужих» замаскировался. Глупо улыбался, выпучивал глаза, активно запихивал себе в рот сардельки, во всем подражая окружающим. Ну это чтобы и здесь меня приняли за видимого своего. Иногда мы все вместе слепо тыкались в зеркальные двери магазинов и баров, а через мгновение скопом выплевывались назад, туда, на серую вязкость асфальта. Я снова был с «чужими». Запросто!
Поговаривают, что в центре можно встретить весьма респектабельных личностей, мелькающих по ящику, а также негров. Я решил про себя, что если увижу знаменитость или негра, сразу брошусь к ним. И попрошу чтоб мне хоть что-нибудь объяснили. Негры, говорят, вообще отличаются особым складом ума. Когда-нибудь черные красивые люди поедут к нам из Африки эшелонами, будут улыбаться белыми зубами, пухлыми губами, разложат нам нее по полочкам и наконец-то все объяснят. Как когда-то американцам.
Большой Город мне поначалу очень засимпатяшился. Сколько огней, людей, баров, даже радуга в небе откуда-то. Чего уж, центр нашей Мавэленд. Правда, я по децелкам застремался, можно ли в таком центровом месте всей страны лакать «хайнекен», как я это бесстыдно выделывал. Не опрометчиво ли я так осмелел?
Когда в чем-то сомневаешься, лучше занять выжидательную позицию, чтоб потом не расхлебывать помойный результат собственной храбрости. Я сузил глазенки и осторожно осмотрелся. Но нет. Вроде бы ничего. Все особи вокруг также поглощали как и я «балтику», «мельника», «клинское», а также более крепкие спиртные напитки, плевались, куксились и выпячивались как могли.
Словом, я был такой, как все, и не выделялся из общей массы. Тогда я решил: типа если я не выделяюсь ничем особо омерзительным, то можно попытаться сойтись с другими особями. И попытаться выведать, какие человеческие подлости в Большом Городе наиболее в почете. Здесь вроде никто ничего не боялся. Может, это и есть Тотальная Свобода?
А вот и первая городская достопримечательность. И какая предостойнейшая. Вдоль всей центральной улицы я углядел стройные ряды очаровательных существ. Ну тинок, типа того, достаточно симпотных. Все добрые такие, приветливые, сияющие. Чтобы приукрасить Большой Город, а заодно поднять бодрость духа тем прохожим, которые ее, бодрость, малость подрастеряли, девушки были готовы на все. Они тормозили тачки, улыбаясь подходили к прохожим и говорили им, видимо, какие-то ласковые подбодряющие слова. «Вот это да… — расклеился я. — Это уже почти как райские кущи из древних легенд Скандинавии».
Я бы не удивился, если тотчас распахнулись бы на верхних этажах окна. И добрые волшебные феи стали осыпать бы нас фиалками, лепестками роз, фруктами и баксятками. А потом бы феи провели с нами тренинги и инструктаж и отвезли в расчудесную страну, где только добро, свет да любовь. И делать ничего не надо, лежи и лоботрясничай. Еще добавят: «Вы бессмертны».
Эх, вот такой раскладец был бы по мазе.
Одна из тинок отделилась от их стройных торжественных рядов и направились ко мне. Я принял, конечно, достойный вид. Ну, мол, на меня можно положиться в нашем трипе. Ведь наверняка сейчас начнется самое захватывающее.
— Девку хочешь? — проворковало существо другого пола скрипучим голосом. Она еще призывно улыбнулась, мол, замысел весьма путевый.
— Типа как, — согласился я сразу.
— Двести баков, — зевнула особь.
Я растерялся и по инерции поспешил дальше. Типа не вкурил-то под «элефантом».
— Эй, подожди! — проскрипело мне вдогон. — Для тебя за сто пятьдесят.
Удаляясь, я, конечно, подобиделся. Не успел доставиться в Город, как мне уже раскошелиться предложили.
Теперь, однако, одной непоняткой меньше.
Всякий к чему-то стремится в поисках удачи. Каждый отхватывает свой ломоть судьбы и ждет следующего. Иногда выходит, чаще нет. Но когда твоя работа — любовь, это, наверное, достаточно приятненько. Эх, интересно, если я тоже встану на разводняк и буду предлагать всем проходящим мимо шалаверциям посимпатичнее присунуть, мне будут отстегивать на карман? Пожалуй, я согласен и на полтяшок, даже на тридцатку. Да что тридцатка, червонец!
Сам я за любовь пока отстегивать не готов, а бесплатной любовью и ужо сыт по горло. Здесь половина — проститутки, остальная половина — по всей видимости, с крышесносящими запросами. В Западном Городе было по-другому. Проституток кот наплакал, а вот зато халявных раскуражных тинэйджерок — громадный воз и мамонькам тачка.
Да если мне и понадобилась честная, добрая, бесплатная любовь, я всегда мог направить копыта в бар и снять там какую-нибудь юную поросль.
Ладно, черт с ними, дальше валю вниз. А там блестящий алмазный билдинг! Гигантское переливающееся здание, а внутри — неизбежные они. Наверху надпись «Макдоналдс». Это оказалось очередное местечко, где они жрут.
Знаменитый «Макдак»? Ну, конечно!
Казалось, оттуда текли запахи всех кухонь мира. Японской, китайской, мексиканской, итальянской, даже африканской. Но стоп, не то, опять спутал. Запах был — американской.
В свежепромытые окна было видно, какими многочисленными сворами туда забираются, чтобы вогнать себе в брюхо жизнь.
Ладно, снова зажмурился, сжал ладони, зубы и снова лихо запрыгнул внутрь. Поступок неслабый. Это я сразу вкурил. Гамбургеры, чизбургеры, бигмаки, макнагетсы, казалось, изнутри распирало от будущих вкусовых ощущений. От аромата мне даже слегка сплохело. Куски деликатесов замелькали, замельтешили, кофе, чья-то рука, поднос… Балканский полуостров… Пиренеи… созвездие Гончих Псов и Триумфальная арка…
Еле-еле взял себя в руки. Надо оцифровываться, надо оцифровываться, надо оцифровываться.
Ладно, пытаюсь посмотреть особей, одновременно, как всегда, приготовившись к нехорошему.
Те из них, кто еще стоял в очереди, всячески выказывали плохо скрываемое нетерпение. Иногда кто-нибудь из сявок, продающих пузырящуюся коричневую жидкость и лепешки с соевыми прокладками, вскидывал руку по направлению к звездам и орал:
— Свободная касса! Свободная касса! Свободная касса!
В ответ на такие призывы с пяток жадюг отваливалось от соседних очередей и мчалось во весь опор к ним, выпятив подносы и обозначив лопатнички.
Остальные же, неудачники, оставались плесневеть, понурив головы в очереди. В ожидании они оглядывались подозрительно, высматривая, не отважился ли кто-либо перекрыть им дорогу к еде. Чавкали, облизывались и утирались платками.
Счастливые же, ну те, которым удалось уже отхватить свои дозы радости, волокли переполненные подносы к освободившимся столикам. Из-за которых выкатывались другие, довольные, утираясь салфетками с характерной дугообразной буквой «М». По пути они обнюхивали пищу и, не стесняясь, подхватывали пальцами капающие капли горчицы и кетчупа.
«Вот как здесь питаются!» — проносилось в моей съехавшей совсем набекрень-башне. Надо отметить, что думал и дышал я в тот момент с большим трудом.
Тут раскатистая трель запиликала у меня под ухом. И какой-то чек, ползущий сквозь кризис среднего возраста, забубнил рядом по сотику с набитым ртом. И все продолжал неистово набивать себе в главное отверстие куски горячего теста.
Я даже помочь хотел.
В смысле подойти и затолкнуть ему в чавку весь его поднос со всеми вкусностями. Может, тогда он нажрется.
Шамкал он, шамкал в трубку нечленораздельно, но потом догадался, в чем секрет ящика Пандоры. Он недовольно замотал гривой, сначала закинул голову назад, а потом со всего размаху вывалил непрожеванную вкусно-тень обратно к себе на поднос и заорал:
— Сейчас приеду! Приеду сейчас, дура! Не слышишь, я жру! Жру я! — повторил он раздраженно.
Мне чуть опять не сплохело. Я оперся о стойку и затем тихонько-тихонько пополз вдоль стены к выходу. Зря я, наверное, по утрянке закинулся.
— Приходите к нам еще, — сказала улыбаясь девочка в фирменном передничке у выхода.
Я покатился дальше — к новым впечатлениям, площадям, мерцающим красным звездам и мрачному красному замку.
* * *
Со всех сторон наседало: «Юбилей! Юбилей! Поздравляем Большой Город! Ура!» Мне положительно не давали забыть, что, здесь у них этот замечательный праздник. Рекламные щиты так надрывались, что, казалось, вот-вот лопнут от напряга и восторга. Все это, казалось, никогда не остановится.
Особи замирали и пытались различить цифры, означающие дату сего праздника. А спустя мгновение, проверив дату на калькуляторах, одухотворенные дрыгались дальше. «Юбилей! Юбилей!»
Остановился. Клинит меня. Может, сейчас все это само собой захлебнется? Ну, в своей собственной браваде. Ждал, ждал. Бесполезно! Я точно вам говорю.
Человеческое месиво волокло меня еще минут с десять, а потом неожиданно все и решилось. Меня, одухотворенного праздником, швырнуло в самый центр площади, где я посреди всего красного и растерялся.
Эта красная площадь и красный замок — как перерезанное горло у стареющей гордой женщины, бывшей владелицы одной шестой света. А из этого горла хлещет кровь — мы. Кровь большого города.
Нужно проникать в самую суть вещей и идти до конца, не задумываясь. Иначе на молекулы посыплешься неизбежно. «В красный замок, — скомандовал я себе. — Наверное, там меня хоть кто-нибудь ждет».
Внутри красного замка чего-то необычного я не подприсек. А я-то думал! Разве что там малость почище и особи поспокойней.
Чего уж там было предостаточно, так это старинных зданий с громадными желтыми крышками и перекладинами, как реи у древних кораблей. Точно таких же, какие я видел из поезда когда ехал. Теперь-то я понял, что это все же не вокзал, а нечто другое.
Чтобы закосить под интеллигента и интеллектуала, я небрежно приклеился к одной из стаек, передвигающихся повсюду. Зеваки глупо таращились на все подряд с разинутыми ртами и щелкали во все стороны фотиками. С ними, ясно, девчонка-экскурсовод, страшная, как мои отходы. Было заметно, что ее уже все достало до чертиков. Но она все равно устало прогоняла свою шнягу, чтобы тяпнуть кэшок.
Тотальное столкновение с российской историей не прошло для меня даром. Хоть какой-то толк. Минут через сорок я узнал, что старинные здания с огромными желтыми крышками и перекладинами, как у древних кораблей — церкви. Это экскурсоводиха мне злобно втолковала. Церкви, говорит, это места такие особые, где посредством молитв и материальных жертвоприношений можно пообщаться с Творцом и вывалить на него свои горести. Многие повелись на разводняк и загружались туда, сжигали куски воска, которые в местных ларьках продавались, скулили, обращаясь к Богу и выпрашивая у него хэлпа. Потом подкидывали Богу монет в особые коробки с щелями и, освобожденные, выметались на улицу снова куролесить. Спустя неделю, как я заметил позже, они снова, точно побитые собачонки, возвращались, чтобы признаться Создателю в своих очередных выходках.
Я выбрал церквушку, где у входа убогих было поменьше, а публика подостойней, и бросился. Пора затереть с Богом по че-как и всяко-разно. Теперь ему не отмазаться.
— Куда прешь, парень? — насторожилась монашка у входа. Вся в черном, а сама рыжая, с облагороженным до перекоса лицом.
— К Богу, — махнул я рукой в синее небо.
— Вход платный! — срезала она меня.
— Вы, наверное, не поняли, я к Богу, — улыбнулся я, чтобы войти к ней в доверие. Да без толку.
— Для глухоманей повторяю: вход в церковь платный. Это чтобы всякая топота к Богу не подлазила. Либо плати, либо счастливого пути, — вот как мне сказала эта благообразная женщина.
На ступеньках, помнится, еще столкнулся с британцем, это я по настоящему английскому произношению понял. Он тоже поинтересовался у меня, что это за желтые крышки и реи, как у древних кораблей. Для его же блага я мимоходом кинул ему несколько дельных советов:
— Go home! Go to your fucking island!
Это бросил я ему с видом знатока. Дескать, домой пора ехать.
Он остался стоять, размышляя, видимо, над полученной рекомендацией. Довольный своей спонтанной грубостью, я отправился к метро. Перед этим девчонка-гид еще успела нашептать мне, откуда видно все и сразу.
— Смотровая площадка, — говорила она. — Вот то, что тебе нужно. Там и самые непонятливые прозревают.
Добрая она была, но наивная.
В метро все то же самое: гул и яркий свет, скорость и туман, особи и поезда.
Бредут, бредут, бредут.
Катятся, катятся, катятся.
В метро меня сразу привлекла незатейливая реклама. Надо было быть осторожным, так как там опять Большой Город хвалили. Я, как узрел ту рекламку, так сильно в думки брякнулся. Чуть стэйшен свой не прокамал.
«Приезжай в Большой Город, — внушали мне ненавязчиво. — Я ужасно полюбил Большой Город. Кто привык к нему, тот не уедет из него. Я навсегда останусь здесь».
А снизу подпись такая лихая: «А. П. Чехов». Наверное, этому парню хорошо здесь было. И монет полный короб, и респект, чтоб шлондаться здесь было по мазе. И все такое прочее, естественно.
Конечно, если его так перло, то другим гнать не стоило. Субъективный драйв он, ясен пес, крайне закручен во внутреннее «Я», и других лишь раздражает. Уж мы-то с Могилой знаем.
Ну, приехал я в Большой Город. Здесь, вот он я. Ждут меня особи эти, как же. Разбежались! Одного они от меня ждут — когда бакинские начну направо-налево швырять.
Конечно, можно было попробовать такой же трюк, как мне втирал с рекламки этот гад.
К примеру, поднять руки и обратиться к прекрасным спокойным особям. Все рассказать им о том, как я сюда подприехал, о том затереть, как я ужасно с ходу здесь все полюбил. Еще не привык, правда, да чего уж. А под конец закончить:
— Никуда не уеду и навсегда останусь здесь! Ведите меня в «Метрополь» и смело поздравляйте!
Одно было не ясно: сразу меня бить будут или для проформы из метро выволокут. А уж чего-чего, а сомнений на счет мордочистки не было. Это уж точно.
Пока я воспарял по крылатым фразам, наверх выбрался. Высказаться я так и не решился. Ладно, вякну при более подходящем случае.
Но вот на смотровую площадку мне отправиться неплохо насоветовали. Прекрасный вид и как раз для меня. Там под ней, что забавно, деревья клочками росли. Я снова подивился. Оказывается, и в Большом Городе есть островки природы. Удивился же я потому, что в центре деревьев почти не было. Их там давно, говорят, повыдирали. Это, понятно, чтоб особям передвигаться активней, а еще, чтоб они своими зелеными листочками рекламу не загораживали. Это опять Министр выкинул, как мне потом рассказали, благо ему с этой самой рекламы коммеры тоже монет отстегивали.
А, конечно, в мировом масштабе было бы неплохо перебить всех зверей и птиц, сжечь леса и высушить океаны. И заасфальтировать всю планету. И гигантский штрих-код сбоку повесить.
Вот тогда все заживут королевичами и богатеичами. Сытые, довольные и счастливые.
Как посмотрел я со смотровой площадки вдаль, сразу замер. Мыслимо ли, город — как женщина. Говорят, что Нью-Йорк — это город, стоящий стоймя, Париж — выгребная помойная яма. Наш Большой Город уж точно нет. Не идет ни с каким другим ни в какое сравнение.
Город-женщина лежит уверенно и упрямо, как честная приличная, раздвинувшая нижние лапы и ожидающая, чтоб ее обслужил самый достойный участник ее бесконечного праздника. Она не стоит стоймя, не до конца тянет на выгребную яму, но есть у нее свой особенный признак — она лежит абсолютно плашмя, выделяясь на ложе лишь жировыми буграми.
Я даже повторил несколько раз нэйм того места, куда я попал. Большой Город. Большой Город. Большой Город.
И ведь, чем больше город, тем легче вписать свое собственное «Я» в громадное варево, перемещающихся в нем особей. Поверить, что ты и есть достойный бесконечного праздника участник.
Внизу — достаточно большой стадион. Гул. Все здания на своих местах. Там, сям мелькают желтые крышки церквей и строительные краны, редкие, похожие на рукоятки ножей, высотки и вовсе непонятные постройки.
Говорят, что стадион — известное местечко. Туда тоже ей, женщине, монет бухали, в ее ненасытную и широкую щель. Она жадно глотала баксята и хрипела: «Еще денег, людей, машин! Да здравствует урбанизм!» Ей набивали, набивали, а получали отхожие места и хищные щупальца пригородов.
Но ничего. Наверное, если бы я дожил до Юбилея, я был бы еще более неадекватным. Жизнь заново не переделаешь. Пока что эта стерва вышибала себе деньги на новые наряды-строительства, чтоб соблазнять нас, недоумков, а большей частью бесполезно расширялась, жирела и обогащала коммерсантов, прихлебателей и священников, самых достойных участников бесконечного праздника. На всех остальных-то ей наплевать. Своя рубашка ближе к телу.
Мы рядом. Мы плывем. Мы умираем. Мы нигде.
Никто никому ничего никогда.
Да разве ж я без повода разеваю свою варежку? Просто я не все понимаю. Если честно, не просекаю вообще ничего. Поэтому и хочу вдецелок подучиться.
Однако к барьеру. На смотровой площадке был специальный барьер, а сразу за ним обрыв, пологий склон и редкие деревья.
И панорама, конечно.
Опершись на барьер, можно было вполне бесплатно всматриваться вдаль, любоваться Большим Городом и залечиваться башкетником сколько душе угодно.
Я тоже вперился. Мыслей не было. Гляжу, внизу — ручей. Оказывается, и в Большом Городе есть водоем, который легко можно было перепутать со сточной канавой или вскрытой трубой.
А аборигены, то есть коренные жители Большого Города, по всем признакам очень гордились своим водоемом. У них на лицах даже светилась особая самодовольная метка. Как у приверженцев синей волны после пятидневного оттяга.
Водоем был очень занимательный. Енисей, Иртыш, Волга, Нева они все, конечно, широкие, длинные, могучие, но зато одноцветные. Зато здесь водоем переливался всеми цветами радуги. А может, это к празднику его решили малость приукрасить. Фейерверк в воздухе, краски в воде. Каждый находит для себя близкое.
Оттуда, снизу, шел пренеприятнейший запашок. Он поднимался, медленно впитывался нашими легкими, мы кашляли. Но по большому счету все довольны.
Чего в ручье только не плавало. Нефтяные пятна, доски, банки, газеты, красная слизь, утопленнички и индейцы в пирогах…
Вот такой калейдоскоп природы.
Вода колыхалась, пенилась и лизала мелкими ничтожными волнами берег, оставляя черные, будто выжженные кислотой, прибрежные полосы.
«Физиология города», — догадался я. Наверное у нее, у этой женщины-Большого Города, как и у всех половозрелых самок, обычная течка. А внутри этой течки — особи. Кричат, барахтаются, кувыркаются. И текут по улицам Большого Города навстречу своему нелепому и смешному концу. Все обречены.
Но на сегодня, пожалуй, хватит иллюзий, впечатлений, мечтаний, природы и мыслей. Я же уже почти приступил к заглатыванию высшего образования. Меня интересуют теперь только особи. Исключительно особи. Сквозь их экспрессивные эмоции, трюки и выходки я, может, смогу чему и выучиться, прицепиться к Вселенной, вечности и античности. А как выучусь всему у особей, может, и кинусь в сказочный водоем, прям в эту кислоту. Круги разойдутся, вода сомкнется, и ведь ни одна мало-мальская особь меня даже не вспомнит…
Бр-р-р. Что-то меня опять зашторивает не по-детски.
Короче, я осмотрелся.
Людей вдоль барьера видимо-невидимо. Смотрят все вдаль и удивляются, наверное, неслабо увиденному. Некоторые даже в бинокли смотрели. Чтобы увидеть все и сразу, запомнить на весь оставшийся лайф. Глаза у них останавливались, а головы с цифрующимися внутри пунктирами подрагивали от восхищения и возбуждения. У некоторых подрагивали и прозрачные стекла, закрепленные проволочками на переполненных серой и информацией ушных раковинах. Время от времени они взмахивали ушными раковинами, поправляли прозрачные стекла и вызывающе распахивали рты, пытаясь и туда вогнать себе ломтики жизни, впечатления, информационные импульсы и сказочную панораму необъятного Большого Города. Они стояли вдоль барьера как часовые на границе жизни и смерти. Возможно, их накрывало озарение, а может, сатори.
Тут тачки подпричалили. И из них — ангелы!
Ангелов я узнал сразу, потому что они были весьма плохенько загримированы и приодеты абсолютно идентично.
А все ангелы — девушки. Белые платья, фата, букеты — все на месте. Вокруг стаи особей, им прислуживающих, в качестве свиты. Чтобы втереться в доверие к ангелам, особи дарили им цветы, выкрикивали лицемерные лозунги, выпивали синево и снимали их последний и отчаянный шаг на видеокамеры.
Конечно, я перепугался. Ведь очевидно, что ангелы желали вознестись, то есть броситься вниз. Надо признаться, это самая подходящая для данного экшена точка.
Еще я заметил, что смотровая площадка — весьма одухотворенное и философское местечко. Все окружающие только и делали, что самоуглубленно размышляли о мироздании, бренности и о хоть каком небольшом продлении своей восхитительной и безобразной жизни.
По прибытии ангелов акценты сместились. Все внимание — на них. Я и тот заблагоговел и залелеялся на всякий случай, чтоб не попасть впросак в очередной раз.
Ангелов все называли невестами. И свита восхищенно подталкивала их к барьеру для броска. В белом прикиде они были, наверное, чтоб потом в морге не переодеваться, время и деньги не тратить. На лицах ангелов — ни капли сомнений, твердая решимость и мягкие улыбки. Однозначно это были весьма мужественные ангелы.
Рядом с каждой — особь противоположного пола. В черном классическом костюме. «Похоронная команда!» — осенило меня. Чтоб каждый могильщик потом мог своего ангела внизу подобрать. Все продумано, ничего не скажешь. Не каждому ангелу ведь удастся вознестись.
Каждая стая, обхаживающая своего ангела, наконец подкатывалась к самому барьеру. Тогда и наступал, видимо, самый ответственный момент начала полета. Та девчонка-гид из замка снова была права, когда с опаской шептала, что здесь и самые недогадливые прозревают. Особи и ангелы поминутно останавливались, отчаянно обхватывали головы руками, снова давили на синюю педаль из огромных фужеров и сразу прозревали насчет смысла жизни и самого факта существования. И сразу хором голосили:
— Горько! Горько! Горько!
Причем не печально, а скорее с безнадежным лихачеством.
Это был знак, жест, сигнал.
Могильщики обхватывали ангелов за крылья и смачно целовали. Предварительно, вытершись рукавами и выдохнув для смелости, конечно. Это они делали, наверное, для того чтобы придать ангелам решимости перед их последним и гордым полетом на небеса.
Тут я все в очередной раз просек до упора. Там, внизу, не грязный водоем, а по меньшей мере Стикс. Таким он и должен быть. Крохотным, смрадным и разноцветным. И сейчас, несомненно, ангелы поплывут по нему к себе домой в райские кущи. Они ведь так устали, их так давно ждут.
Внизу у Стикса — никого. И только гордая фигура, размахивающая руками и призывно взывающая к нам. «Все верно! Это Харон!» — подпрыгнул я, радуясь своей сообразительности. Возможно, здесь и сейчас вершится сама история и реализуется миф. Недолго думая я смело вырвал бинокль у старой рухляди, прозревающей рядом со мной. Но это был не Харон, а залитый по самые обода господин, подлинный гражданин Большого города. Тупая рожа, бутылка, раззявленный в пении рот.
Что ж, опять ошибка. Будем ждать.
Слева Солнце. Справа трамплин. Ангелы с него, видимо, и стартанут. Чтоб заранее поближе к солнцу и эдемским садам. Ведь наверняка, и у ангелов есть жилища, где они машут крыльями, ботвятся и воркуют. Кстати, с этого самого трамплина, болтают, всякие умники-лыжники зимой тоже пытались улетать на разных деревянных досках. «Дурачье, — подумал я. — Ведь общеизвестно, что крылья нужно цеплять к передним лапам. И делать их не из тяжелого дерева, а из легких перьев и пуха. Иначе ничего не получится».
Между тем та старая рухлядь, у которой я отобрал бинокль, чтобы получше рассмотреть Харона, уже раскочегарилась на всю нашу взлетную полосу. Я, мол-де, ее обидел и веду себя по-хамски, мол. Я? Да никогда я себя так не веду. Ничего она, конечно, не понимала, даже хамства от эйфории отличить не могла, но мне было не до нее. Вернул бинокль, извинился. Пусть отвяжется.
И снова гениальная мысленка сочканулась в головушке. Теперь я буду умницей. Не пропущу больше ничего. Когда ангелы полетят — не теряться! Постараюсь вцепиться кому-нибудь в хвост, крылья или фату. Это, понятно, чтобы хоть таким макаром рвануть с ними в райские кущи.
Что же вы думаете? Снова обман.
Все ангелы со свитами, намечтавшись о кончине до отвала и запомнив на будущее план местности, загружались обратно в блестящие тачки и исчезали.
Они очень все торопились. И нарядные ангелы. И черные могильщики. И их залитая пойлом свита. Некоторые от полноты прозрения пошатывались, других тошнило.
Ничего не вышло. Но ведь можно подождать. Может, завтра я увижу вознесение? Или бесстрашный бросок ангелов в пасть Большому Городу? Услышу звуки горнов и захватывающую музыку?
А пока вокруг лежали жухлые белые розы и пустые бутылки. Жалкие следы репетиции.
Ждал на всякий случай до упора. Лишь когда на небе засверкали кусочки стекла и к ним полетели темно-синие ласточки, затмившие Солнце, я пополз к мрачной яме метро.
Конечно, я решил, что обязательно узнаю из рекламы точную дату полета. И тогда как-нибудь всех объегорю.
Там, внизу, все сверкало и переливалось. Человеческий фарш вперемешку с камнями зданий.
Крупинкой фарша был и я.
8
Можно нигде больше не быть.
Можно никогда больше ничего не делать.
Можно быть никем ни с кем нигде и никогда.
Ужас и безысходность — это лишь самые малые вещи, которые вы можете отвернуть на отходняках.
Ладно, чего, как-то надо дергаться, куда-то надо ехать. Выбрался из метро на «Маяковской». Про подземелье и говорить нечего. Все такие чужие, злые, дикие и пакостные, что диву даешься, как они еще друг дружку до дощечек с цветочками в земле не доегорили.
Так вот. Слева Главная улица опять. Поперек Садовое кольцо. Машины, люди, реклама, огни — все вроде такое же. Да вот только все откровенно ослепительносерое. Малость одуревший, подобрался к афишной доске Концертного зала имени Чайковского. Может, хоть здесь я что-нибудь для себя откручу типа духовности, одухотворенности и децельного эдикейшена? Стал бездумно разглядывать имена, бренды концертов, печатные символы, торжественно обещающие небывалый загруз в культуру, искусство и все такое прочее.
Тикеты там оказались так себе по прайсам. Но даже если б прайсы были крышесносящие, я бы уж как-нибудь раскошелился ради такой конкретной заморочки. Если уж я не собирался ранее проплачивать за любовь, а в красном замке за терку с Богом, то уж на концертик такой неведомой мне классической музыки раскошелиться можно было и рискнуть по малости. В конце концов надо же было забивать хоть чем-нибудь себе незаполненный башкетник.
Ведь, как скромно обещали мне из афиш, предлагавшиеся к прослушиванию феерические симфонии предполагали в ближайшем будущем небывалое торжество любого, пускай даже самого заблудшего и бестолкового духа.
Я так разволновался и забеспокоился, что сразу накупил в кассе кучу билетов на будущее. Мало ли кто меня потом как задумает околпачить? Теперь все законно.
На улице закурил «Camel» уже абсолютно увереный в себе. Окружающий мир, конечно, стал немного более приветливым. Ждать нечего, я готов хоть сейчас, давайте мне груду любых музык. А заманивали, кстати, на проплату и духовность раскрученные уже давно Шопен, Рахманинов и Скрябин.
А тут и сегодняшний концерт закончился. И особи в большом количестве повысыпали на стрит. Закуривали, жевали сэндвичи, лакали пиво и оживленно переругивались. Видимо, ошопенились на концерте по самые баклы.
«Эх! — пригорюнился я. — Опять я ничего не соображаю». Девки, обещавшие всем подряд «незабываемый массаж хоть по-пингвиньи», тем временем подтянулись к моменту окончания концерта к выходу. И ловко растаскивали одухотворенных и наслушавшихся музыки особей мужского пола по тачкам. Что ж, каждому овощу свое время.
Появлявшиеся особи женского пола беседовали друг с дружкой на весьма замысловатым диалекте. То есть перескакивали с пятое на десятое. С последних аккордов музыки они перешли на своих подрастающих и вечно обнаглевших личинок, с Шопена — на последнее повышение цен подземки.
«На целых три рубля, прикинь, да?» — возмущенно кричали они, чтобы показать, типа и они не лыком шиты и уже знают самые важные пренеприятнейшие события, происшедшие в Большом Городе за последнее время.
А тут опять, видимо, развлекалово. Так как толпа моментом расступилась, образовала круг, но никто и не думал уходить. Все обрадованно и одобрительно загудели, как будто наконец дождались дополнительного акта представления. А что? Я тоже готов открутить кусок развлекалова на халяву. Если уж что-то привлекло внимание особей, значит, там конкретно неслабенький экшн. Когда внезапно сечешь, как честные порядочные особи обратили блестящие, горящие от нетерпения и любопытства таблоиды на что-нибудь, старайся подобраться поближе. Не зря же они что-то сканируют там, верно?
Теперь-то уже из здания повыкатывались самые ошопененные и окультуренные. Это было заметно невооруженным взглядом. Сперва весь в крови вылетел первый парень. За ним другой, постарше, и еще более окультуренный. У него был такой яркий отпечаток ненависти на морде лица, что все в партере еще шире расступились. И по второму было заметно, что очень уж он хочет разделаться с молодым до конца, так здорово он размахивал тяжеленьким сумкарем. Хотя тоже весь раскрашенный в красно-бордовые тона.
Поначалу я решил, что вот нашелся достойный человек, раскусил на концерте особь, неуважительно отнесшуюся к музыке, и теперь разъясняет все ей за концерт, классику, а в особенности за Шопена. Но потом из рева, девизов и лозунгов этих современных гладиаторов я подвкурил, что они там какое-то шалавье у выхода не поделили. А особи из партера на болельщицкие фан-клубы уже поделились относительно гладиаторов.
Но тут, конечно, пунктирчики-то у меня перещелка-нулись неслабо. Вдруг сейчас самые радикальные окультуренные и ошопененные распознают во мне особь не столь одухотворенную и тоже для порядка угостят меня аналогичными пирогами и пряниками, а?
Времени не было — сматываться, поскорее сматываться. Обойдусь уж как-нибудь без концертов, музыки и всего такого. Лишь бы меня сейчас не разделали на орехи. Это единственное, что стучало у меня тогда в кумполке-то отходняковом, перестреманном.
В немом ужасе я поспешил вниз по Садовому кольцу, энергично размахивая руками и рассматривая сквозь пелену заливающей зенки слизи, кусочки стекла в синем небе. А люди сочувственно расступались, потому что они видели, в каком настройняке я передвигаюсь сейчас в пространстве и, кажется, все отчетливо догоняли.
Вскоре очнулся в какой-то подворотне. Тупик, идти некуда. Теперь короткая передышка. Сейчас особи там посовещаются, а потом уж кто его знает.
Словом, быстротечный антракт и вызов на сцену.
Жертва одна. Это, несомненно, милый я.
Сейчас со мной разберутся. Я отчаянно выглянул, чтобы выяснить, когда же они начнут свой последний акт, посвященный разделке моей персоналии. А особей я уже и не интересовал, про меня забыли. Признаюсь, мне было даже в какой-то степени обидно.
Не мешкая, я поспешил вдоль по кольцу в надежде найти еще хоть что-нибудь, что могло привлечь мое внимание.
Выходит, немало впечатлений можно черпануть за маленькую, но очень новую порцию жизни. Бывают такие дни, когда понимаешь так много и вроде на ровном месте, что, кажется, целую неделю можно отлеживаться, переваривая информацию. Вот ради этого и стоит хотя бы иногда раскрывать утром глаза. Брякаешься в реальную жизнь, как акробат пространства, балансирующий на дольках времени и вереницах автомобильных трасс.
Ладно. По инерции прошел еще через весь Набат. Это улица такая пешеходная. Я так устал на отходах, что если бы кто-нибудь подошел ко мне, ударил и отобрал бы у меня доки и монеты, я бы принял это как должное. Меня можно было вывернуть наизнанку, выжать, как тряпку, и даже отрезать особо приглянувшийся кому-нибудь кусочек. Я бы совершенно не удивился.
Было непонятно, чего так много нудят про эти совершенно обыкновенные набатские дворики. Разве что здесь было малость почище, а коммерсантов побольше.
Интеллигенции, косящей под творческую, было тоже предостаточно. Художнички в основном писали лучезарные портреты залетных коммерсантов, богатых туристов и их клавенок, а в придачу выклянчивали у всех проходящих мимо монеты для несокрушимого творческого удара по синей волне.
Там-то я и познакомился с местным картонным представителем, Романом Гнидиным, как он мне представился вкрадчиво. Из Суриковского института, дуралей. Это было даже интересно, прикольно и все такое.
Резонно заприметив, что с деньгами у меня порядок, Роман, не стесняясь, прямо сказал, что неплохо было бы отхватить немного радости. Почуяв халяву, эта особь приклеилась ко мне, стала беспричинно гнать и надоедать.
— Хоть что-нибудь да внутрь влить, — так он сказал. Его взгляд вроде бы равнодушно плавал по всему Набату. Но иногда взгляд хищно останавливался на моем невидимом лопатничке, спрятанном во внутреннем кармане пиджака.
«Ну вот, — бодро сказал я себе. — Вот и первый достойный человек, которому я реально понадобился».
«Радость», как он выразился, мы взяли в первом попавшемся шопе. Так как мне «радости» на отходах и так сегодня уже хватило по самые не могу, я залил «радостью» своего свежезнакомого собеседничка. Он сначала потемнел и сосредоточился внутренне, а потом засчастливился, как три копейки, выбросил пустой полуторалитровый флакон из-под пивка стронгового и уже развязно сообщил, типа «радость», конечно, дело хорошее, но чем больше «радости» внутри бултыхается, тем мазовей. И было бы неплохо ему еще хлебнуть. Еще он сообщил, что стыдно ему быть в такой нечаянной радости одному, и хочет он, типа для моей же пользы, чтоб я тоже «порадовался» на славу вместе с ним. В каком-нибудь неплохом кабачке, скромно намекнул он.
Но этот творческий господин совсем за рамки дернулся. Топить его в радости я не собирался. К тому же он стал неадекватно размахивать руками, выкрикивать нэймы каких-то распиаренных древних художников и непризнанных мазил вместе с ругательствами к столь несправедливому по отношению к ним и к нему миру.
Впрочем, нужно же было мне хоть с кем-то начинать общаться, верно? Мы договорились с ним встретиться позже. «Радости тебе будет, хоть лопни». Сказал, тороплюсь, мол, жестоко и опаздываю неслабо.
Я ничего больше не хотел и не мог. В метро и хоть сейчас спать. Утро вечера мудренее.
Еще пока плелся услышал краем уха самые настоящие стихи. Они так неожиданно на меня обрушились, что я снова удивился. Ладно, рифмованную фигню можно и послушать. Тем более в Большом Городе. И на Набате.
Там их какой-то грязный стихотвортыш как раз и зачитывал громогласно целой толпе особей. С чувством таким особенным декламировал. А я мимо, значит, проплываю.
— БольшГор! Коммеры, торжествуя, на карах обновляют путь, а их шалавы, экс почуя, уж зябнут рядом как-нибудь, — закончил рифмопертыш и паузу держит.
Особи на всякий случай зааплодировали.
Сквозь пелену мне еще стукнуло в голову, что мне по малости что-то подобное долдонили, чтоб научить уму-разуму. Впрочем, всякое бывает. Может опять постсвечение. Уж наверняка всполохи этого дерьмового эксидного отходнячка.
Я был весьма рад оказаться рядом со столькими творческими личностями. Однако стоило поторапливаться и домой. Мало ли что могут придумать против меня «чужие», когда начнет темнеть. Человек — это всегда сволочь.
С этими подозрительными мыслишками я и бухнулся в темную скользкую яму, где длинная гремящая гусеница опять поволокла меня в подземелье к гоблинам.
Когда я выкарабкался от гоблинов на своей станции, я был настолько разбит, что малость перетрухнул.
Встал и замер.
Ни слова лишнего. Ни движения. Ни вздоха.
Только красная жидкость внутри меня сообщала своим передвижением в организме, что я еще жив. Я даже моментально представил себе, как особи совещаются где-нибудь неподалеку, как бы меня прищучить.
Все окружающее раздавило меня. Казалось, еще немного, и начнут отваливаться мои собственные куски и разбредаться сами по себе в разные стороны. А может, я прямо сейчас исчезну? Распадусь на атомы, молекулы, дольки мозга, кончики когтей и кровяные шарики?
Это было бы совсем некстати.
Чтобы собратья с силами, а заодно и собрать предполагаемого себя обратно, решил сосредоточиться на какой-нибудь легкой тупой разводке.
А вот и реклама! Не зря ее здесь понавешали.
Это мне вполне подойдет.
Лукаю — гигантское изображение красивейшей тинушки. А какой цвет и линии лица, а прямо-таки ощутимая котовская фация. Наверное, она сошла на этот рекламный щит прямо с холстов Ренессанса. (Это меня уже, как понимаете, после прослушки Романа на Набате подшторило).
Я был вознагражден за все заморочки. Она смотрела на меня как живая. Даже, казалось, подмигивала. И слоган на щите: «Я люблю тебя». Признаюсь, тема неплохая и весьма приятная. Как же это в мэрии прознали, что я окажусь именно в этом месте и портрет для меня выставили? Ладно, раз уж пошла такая пьянка, я тоже ее без колебаниий полюблю. Какая уж тут щепетильность… Такая любовь мне, ясный пень, в тему. Любовь-то для чего нужна? Правильно, чтобы вываливать на другого свои подлости. А уж такой красивенькому тинэйджеру я вывалю все свои гадости и подлости на полную катушку.
Я разом приободрился, задрожал от возбуждения и поспешил поближе к плакату, чтобы рассмотреть ее в упор, а заодно залукнуть тот адресок, по которому она, эта тина неслабая, меня поджидает. «Наверняка ведь там оставили какой-либо секретный слив и наводняк, которые только я и пойму», — думалось мне в горячке.
Стал активно скоблить углы плаката, чтоб выяснить какой же это художник грамотный написал такое чудо из чудес. Но это была фальшивка, репродукция… И где же, черт побери, адресок? К тому же я заметил, что мой распрекраснейший потенциальный герлфренд, не успев со мной зазнакомиться, уже начал мне по полной изменять. Представляете? Теперь она смотрела уже не на меня, а на тех горланящих особей, которые выплескивались из метро. Вот так дела-раздела!
Но уж раз это платная шалаверция, как я догадался, так и по барабану. За монеты так за монеты, монеты у меня пока есть. Чтобы отхватить хоть небольшую порцию любви, я уж готов на все. Обиделся слегка на нее, конечно. Но и восхитился. Это ж каким шикарным шалавьем надо быть, чтоб рекламные щиты себе по всему Большому Городу понавешать? Вот ведь… Просто грандиозное изображение и немудреная надпись: «Я тебя люблю». Готова за реальный кэш полюбить всех, в розницу и оптом. Ну что ж, придется делить мою богиню со всеми, кто готов проплатить, чтоб ей присунуть. Но опять же рекламка была достаточно оригинальная. Ведь все равно ни адреса, ни фона, где можно за свои кровные баксяточки ее найти и пощупать, не было. Эге, опять секретец.
Но ничего. Тина была симпатяшная крайне. Смотрела она нежно, чисто и доверчиво. Короче, как клава, готовая на все.
Ладно, горе не беда. Раз адреса и телефона нет, то это значит одно. Каждый, даже самый малолетний кренделек в Большом Городе знает, где можно обрести любовь этой, видимо, весьма дорогостоящей овчушки. Нечего горевать! Просто надо разнюхать у аборигенов всезнающих, где я могу поближе столкнуться с этой барышней. Любовь — штука нужная.
Забредаю в последний подземный переход. В последнюю инстанцию. Последний пограничный пункт между реальностью и информационным передозом. Жратва и сон — больше всего хотелось именно этого. Лучше вообще, конечно, как-нибудь ловко закарабкаться в летаргический трип и очнуться только тогда, когда уже почти все будет закончено. Вот только тогда и стоит очнуться. Раззявить пасть и снова рухнуть. Да, может, и сейчас мы все в одном большом изумительном летаргическом трипе, как в «Матрице». Бредем и спотыкаемся. И всего-то для того, чтобы удобрить своими костями неизвестные колбы в неизвестных мирах.
В переходе, значит, старая рухлядь пыталась позиционироваться в психологическо-коммерческой диспозиции. Она все плакала и обращалась к «чужим», ковыляющим по своим хатам. Она показывала паспорт, похоронные листы, просроченные облигации и мелкие купюры, которые «чужие» совали ей, чтобы она отстала от них, притворяясь, что они не такие уж черствые. Наверное, заканчивать все надо к старости.
Хотя я судить, что ль, о чем могу? Я сам в свои годки почти ничегошеньки не понимаю.
Конечно, если бы я повелся на ее коммерческий развод, то поспешил бы наверх и позаимствовал бы монеток у какой-нибудь слабосильной особи. Принес бы старушенции денег, чтоб порадовалась. Много денег!
А так взятки гладки. Я ведь еще только приехал. Та что я мог только усмехнуться ее разводилову и идти дальше.
Далее пронзительный вой, который мне сначала показался взревевшей спецсиреной. Но это реальная собачатина подвывала. Ее вой усиливался замкнутым пространством и впивался в барабанные перепонки.
Босс собаки, средних лет женщина, к концу дня еще, однако, обладала недюжинной силой и энергией. Как царь природы, превосходящий собаку во всех отношениях, она смело крошила низшее по животному ранжиру существо ногами и нравоучительно приговаривала:
— Ну что же? Совсем ослабела? Совсем идти не можешь? Совсем ослабела, я тебя спрашиваю?!
Уверенно дергала четвероного друга за поводок и бесстрашно продолжала наносить ей удары. С каждым ударом, сопровождающимся воем и скулежом, белозубая улыбка царя природы становилась все шире и шире.
На то и есть низшие существа, чтоб творить с ними все по своему хотенью-разуменью. Все равно они ничего не понимают. И умирают, безрассудно полагаясь на всевластие хозяев. Да, впрочем, когда человек ластняк скидывает, то тоже, как дурень кромешный, на разных менеджеров духовных и продвинутых сверху надеется опрометчиво. Ну, Богов типа разных. Ну, один-то менеджер духовный, может, по шерстке его и погладит после смерти, а вот остальные Боги-конкуренты только порадуются, что с кончиной неподконтрольного им индивида некоторой долей злобы, предательства и одиночества станет в мире меньше.
— Оставьте собаку в покое, — сказал я устало и уж, конечно, ни на что не надеясь. Просто так, пробормотал, как бы себе под нос.
— Моя собака! Моя! Понял? Что хочу со своей собакой, то и делаю! — уверенно закричала она. И давай еще сильней животинку наворачивать, как бы показывая ху ис ху. Типа я не прав, лезу не в свое дело, и все такое. К тому же собака завиляла мне хвостом, а такой раскладец царю природы и подавно не понравился. Чтобы показать мне, кто круче, женщина была готова разделаться с животинкой без малейших колебаний. Убить, разрезать на куски, выпотрошить.
Кстати, идти собака не могла из-за сломанной лапы. Но, видимо, этим она еще больше раздражала своего возмущенного босса.
Что ж, махнул рукой.
Горе, оно повсюду. Оно клокочет, переливается вместе с кровью, словами, дорогами, временем. Горе вываливается отовсюду. Горе и злоба тщательно прячутся, но особи никогда не забывают, где они. Особи передают горе и злобу другим. Поначалу особи прикидываются мирными и слетаются друг на друга, говорят общие фразы и ждут подходящего случая. А все с одной целью: избавиться от горя и злобы. Особи прикасаются друг к другу, чтобы скрытно поделиться своим горем. А все бесполезно. Они получают его обратно, как тысячи микробов при поцелуе.
Я доползаю до своих апартаментов, временно проживая в которых мне неминуемо предначертано получить высшее образование. Но ведь это тоже неплохо. Если я все-таки окончу эту гребаную Академию Философии, то мне в будущем ничего не придется делать. Я буду просто сидеть и созерцать.
В Западном Городе у меня жили в квартире мелкие насекомые, а в Большом Городе появились более крупные существа. Судя по шорохам — чудовища. Нельзя сказать, что насекомых здесь не было. В мириады раз больше.
Забредаю, швыряю одежонку, выключаю свет и запираюсь на все замки. Если «чужие» придут ночью, им будет нелегко меня всковырнуть.
Мерцание в четырех углах… Мерцание пытается пройтись по всей комнате. Оно обволакивает предметы и оседает на стенах. Мерцание в четырех углах — это люди, будущее, потолок, чашка с кактусом, черная луна, ржавая труба и тревожная ночь.
Мерцание в четырех углах. Мерцание во всех четырех углах. Мерцание в четырех углах.
Сейчас они полезут. Сейчас они оттуда полезут. Из всех четырех углов. Эти чудища.
И снова пульсирующее мерцание внутри меня. Перед картой мира XVI века, висящей у меня на стене, перед своим отражением в зеркале.
Я мог творить в своей комнате что душа пожелает. Я мог залезть на потолок, свеситься из окна, спрятаться в шкаф, отрезать себе голову. Ведь ничего бы не изменилось бы, верно?
Пытаюсь прийти в себя, умываюсь, расстилаю постель и ложусь. Теперь надо постараться не думать ни о чем.
Пространство оживает, приходит в движение. Раздаются тысячи звуков. Из четырех углов выползают они. Чудовища. Чудовища выбираются, заполняют комнату, ищут «Я». Их тени колышатся на стенах. «Я» съеживается и пытается заснуть.
Но заснуть ему не удается. Какая-то тварь хватает его за ногу и тащит, тащит, тащит. А во всех четырех углах — видоизображение Шпенглера.
Вскакиваю, врубаю свет. Все в момент исчезает.
Бряк за стол. Хвать что-то съестное. Чудовища затихают и ждут, когда я угомонюсь.
Закуриваю «Camel» и мониторю стеклянный квадрат. Прямо за окном огненный столб, самое громадное чудовище. Гигантский корень неба — Останкинская телебашня. Переливается, мигает, манит, зовет.
На полоске слияния домов и черного неба за башней тонкая розовая линия. Новый день.
Ну что же. Можно никуда и не ехать дальше. Просто лечь здесь, как самый каменный камень.
А можно еще броситься навстречу этому красивому огненному столбу. Навстречу горизонту и вечности. Попытаться взлететь как можно выше и дальше. Как Икар и его трусливый папаша, не просекавший сути Полета. Потом плюхнуться вниз и удовлетворено почувствовать, как из «Я» навстречу черной луне растекается она, красная гниль.
9
Каждый день просыпаться. Каждый день вставать.
Слушать и понимать. Понимать, что все раздражает.
За последнюю неделю я подружился со странным парнишкой. Ларри, так он назвался. Он был альтернативным музыкантом. Вернее, музыкантом скорей классическим, а вот по жизненной ориентации — альтернативным товарищем. Он ошивался в Гнесинке, где его и обучали всем нужным вещам.
Этот паренек и подогнал мне пушеров. Татарин Вагиз с Красной Пресни из них был самый честный и аккуратный. И мы ударили по «желтым» по самые баклажаны. У Ларри раскрывались дверки восприятия, казалось, при одном только упоминании «желтых». С ним вообще было приятно общаться. Он прогонял интересные вещи. Если бы не эти столь ценные обстоятельства, мы не сошлись бы с Ларри так быстро.
Устроился мой альтернативный товарищ весьма неслабо. Деньги он получал с тех, кто его, а тратил на тех, кого он. Ну и, понятное дело, таблетки, клубешнички и концерты там типа «Крыльев», «Нашествия» или какого дорогостоящего Элтона Джона.
Но так уж расколпачено по жизненке-то. Если у тебя нет монеток, чтоб простенько заниматься музыками, разевай пасть и раздвигай лапы, — тогда, может, в тебя вольются джаз и ритм-энд-блюз самого времени.
— Эх, мне бы на кидняк кого-нибудь в пару! За нехилый кэшок! А потом уехать куда-нибудь в Южную Америку, там и оторваться на эти приходы с тинэйждерами, — вот как мечтал мой новый товарищ. Его тоже привлекали южные широты.
Ясно, камешки в свой огородец я быстрехонько пресек. Но Ларри так вдохновенно залечивал мне за этот экшн, что я даже стал подозревать, что у меня какая-то страшная патология. Меня все равно продолжало тянуть к тинэйджерам пола противоположного.
Чтобы он не шибко обижался, я врал. «Потом! Как-нибудь! При случае!» — обещал я ему решительно, и он на время от меня отставал.
Ему, как я предполагал, тоже очень повезло найти меня, такого благодарного слушателя. Много общих точек соприкосновения по интересам. Кроме вышеупомянутых, разумеется. Культура там всякая, искусство нонконформистское, нелепая тяга в Южную Америку. Короче, мы нашли друг друга. Белая кость и голубая кровь.
Кроме музыки, Ларри кропал еще и текстики к ней. Дерьмо, конечно, конкретное. Но когда он поступал к ним на вузовский конвейер учиться музыке, а до этого еще в пару других дурацких учебных заведений, Ларри не искал слишком заумных ходов на экзаменах по литературе. Да ему и не было времени готовиться ко всякой белиберде. Ему нужно было рыскать в поисках баксяток, жить, и все такое.
Словом, историю мировой поэзии Ларри моделировал сам. Ему было параллельно, какой там тикет прилопатится на экзаменошной лотерейке. Одно и то же малопонятное стихотворение, которое он написал сам во время ка-кого-то очередного раскуража, он дважды умудрился выдать за утраченного Блока и один раз за неизвестного Есенина. Этим литературным придуркам, экзаменаторам, сразу становилось интересно, откуда взялись такие неизвестные им познания.
— Это из очень раннего, — скромно признавался Ларри и выжидающе улыбался.
«Вот это да, — ошарашивались стариканы. — Этот парень далеко пойдет, надо брать». Они ставили ему высокие отметки, а сами, эдакие простаки, разбегались по архивам и библиотекам приобщаться к непознанному. Зря знайки старались с лупами. Они приползали обратно к Ларри, названивали, расспрашивали. Ларри ссылался на редкие рукописи у дальних родственников, собственные случайные находки, проклятие египетских пирамид… исчезновение Атлантиды… Ему верили и даже уважали.
Он так этим увлекся, что как-то на очередном тяжелом отходе стал и меня загружать. Типа:
«… а правильно Пушкину в позапрошлом веке пулю в брюхо вогнали. У него же не все наверняка хорошие стихи-то были, да? Были наверняка и лажовые. А если ты написал плохое стихотворение, это все равно как если бы ты ограбил два города. Не каждому ведь дано быть Вийоном! Да и вообще Пушкин написал всего две гениальные строчки. Ну к сородичу, типа арапу своему. Слышал, небось. «Я в Париже, я начал жить, а не дышать». Да и то, по последним данным, не он вовсе это написал так мазово за Париж. Все остальное наследие — полный отстой. Вот рассмотрим хотя бы Рылеева. Насколько у Рылеева и Пушкина разные судьбы. Первый вывел войска на Сенатскую Площадь и поднял восстание, чтоб мочкануть богатых, за что и был героически повешен. А Пушкин, и говорить тошно: как кромешный дурень, отхватил пулю из-за какой-то блядвы. Вот и все, если ты, конечно, понимаешь о чем я».
Ларри любил терки за Париж. За Монмартр, Монпарнас, драговую культуру двадцатых.
А сейчас после Пушкина Ларри плавно переходит на другого пока еще живого призрака. Хвалится, мол, типа Фома Жафрин. Это старый педераст, которого он неудачно отхватил на прошлой неделе. Он даже показывает мне зажигалку, которую ему этот такой же альтернативщик, как и Ларри, артист-юморист впарил типа как презент. К сожалению, по словам Ларри, так выходит, что он и артистом этот самый старый педераст стал, чтоб шифрануться и свои делишки половчей обтяпывать.
— Подарил зажигалку и несет губошлепина, мол, на долгую память. А скажи, на какие помидоры мне его память? Деньги давай, ублюдок! Если ты, конечно, понимаешь, о чем я.
Сейчас одиннадцать часов утра. Мы сидим с Ларри в одном из летних кафе в районе Красной Пресни. Через пару часов мы должны встретиться с Романом Гнидиным. Тем самым картонным дурилкой, художничком, с которым и зацепился на Набате. После второго удара по пиву мы рассматриваем улицу. Сначала пробуем смотреть влево, затем вправо. Нет ничего интересного. Крайне скучно.
Вокруг нас бетон с мертвыми глазницами, бегущие жестяные банки на резиновых колесах и человеческое пюре. Самос главное, что от этого никуда не деться. Пространство замусорено жизненным бредом, как пеплом. И выходит, что все вокруг — давным-давно очередная Помпея.
Что ж, понадобилось черпануть не так уж много тайма, чтоб просечь: в Большом Городе, все такие же «чужие», как и в во всех других Городах. Об этом я тут же сообщаю Ларри.
— Чего спрашивать? Ясен пес!
Это никогда не кончится. Они дергают конечностями, моргают, плюют, утираются, трандят по мобильникам, существуют.
Но зато как же хорошо, что мы отхватили у Вагиза XL! Сейчас по децелкам шторканемся и давай качаться на качелях, с эллки на экстази. Главняк, чтоб эллки там было хоть микрограмм на триста.
Еще мы приходим к выводу, что Министр городского Процветания хочет сделать Большой Город городом для богатеичей. Большей частью для коммеров и чинуш всяких разных.
После этого Ларри покупает еще слабого пойла и развивает мысль.
Я не знаю, кто вообще должен жить. Пока что живут те, кому и жить-то в принципе без толку. Вот я в музыку эту дурацкую вперился, а только сейчас стал задумываться: зачем? В итоге вместо музыки я занимаюсь черт знает чем. Знаешь, иногда некоторые спрашивают меня, типа, как мне? Все что и как. Меня так и подмывает как-нибудь пообщаться с их женами. Вот твой Роман Гнидин, художник. А какой? Сидит и рисует тех же комме-ров и их клав. Причем разукрашивает, делает посимпотней. А то! Не подмажешь — не поедешь. Ты пытаешься учиться в Академии Философии? Да ты хоть вычисли развитие философии до пещерных веков, ихтиозавров и Атлантиды. Этим недоумкам все едино. А если бы даже сейчас и появился более или менее продвинутый Бог какой. Ну, нью-Христос хотя бы до кучи. И куда он первым делом когти мотанет? Ясен перец, для начала он почехлит за пластиковой карточкой куда-нибудь в «Амок-банк», А потом в «Метелицу» на попсняк какой скукотейший-тупейший. Ну и в фастфуд, ясный пес. Там этот парень накормит всех одним гамбургером и банкой «Кока-колы». Ведь без вариантов — они бы враз его на конвейер поставили.
Он загибает, загибает. Я слушаю. А его все несет:
— Ты слышал, сейчас наиболее чокнутые кричат, что этот самый лидер, Христос, вот-вот, в третьем тысячелетии, и подвалит. Вот это была бы фишка! Ему тогда и время для проповедей на ТВ выделят. Но ведь под каким соусом, понимаешь, наверное? Врубаешь ящик, а там этот разодетый и загримированный имиджмейкерами кекс. И торжественно: «У меня пять минут эфирного времени, сейчас я все расскажу». А посередине проповеди резкая заставка и реклама какого-нибудь уникальнейшего лекарства для заживления резаных ран от «Байера». А заканчивает он проповедь примерно так: «Кто завтра до наступления темноты, пришедшей с Запада, не успеет купить средство, тот и есть тот, кто от меня отрекся, тот и есть предатель. И имя ему есть Апостол Петр». Ты вкуриваешь, какая мощная пиаровская гонка? Как они разбегутся по магазинам! Не всякий осмелится в отказ пойти по таким раскладам. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я.
Я ему, разогревшемуся своей чушью, спуску, конечно, не дал. Но возразить тоже особо нечего.
— Ну это ты уж слишком подзагнул про богов наших любимых. Ноги, если Бог какой и явится, на всякий разный случай трепыхаться не буду и сразу под любые духовные реформы подпишусь. Потому что наболтает он опять всего непонятного, расправится с несогласными и укатит этот духовный менеджер обратно, туда к себе, с другими богами за души особей биться. У него-то, у Бога, проблемсы неслабые, не как у нас с тобой. А нам опять две тысячи лет расхлебывать всю бодягу. Самые пройдошистые опять догадки начнут строить, анализировать, других на духовно-коммерческие разводки подсаживать.
Ладно, успокоились. Сидим. Молчим.
Но туг вокруг столько народу за соседние столики поналезло, что аж тесно стало. Столы и стулья уже не помещаются, и все такое. Все радостные такие, возбужденные. Плюхнулись и заливаются, счастливые, крепкой алкашкой. Но пора было и нам хоть куда-то двигаться. И стать такими же счастливыми придурками, которые, растворившись в пюре особей, понесутся навстречу славному Юбилею Большого Города.
И гул. Гул Большого Города.
Официант тем временем стал смотреть на нас с недовольством — типа мы ничего больше не заказывали. Можно было было излить на него ненависть прямо сейчас, а можно было и чуть позже.
Мысленка неслабая, а пока заказали еще слабого пойла. Чтобы дуралей отвязался от нас вместе со своими подозрительными взглядами, работой и перхотью. Ларри даже прищелкнул немного.
После этого мы хаваем XL, скоро брякнемся в приличный кондишен.
Воодушевившись, я тоже сообщаю Ларри свои нехитрые мысли. О «чужих», «Я», особях и все такое. Он не врубается, я продолжаю.
Он не соглашается, сопротивляется, спорит.
Говорит, «Я», но ГДЕ? Говорит, «чужие», но ОТКУДА? Вот особи, говорит, есть особи. От них, говорит, только разочарование сплошняковое и усталость.
— Эх, Северин! Вот я надеялся когда-то на музыку. Что она, дескать, всем поможет и все расставит на свои места. А теперь… Просто посмотри вокруг.
Смотрю. Все вокруг меняется.
XL формирует яркие краски. В небе начинается война. Я — это всего лишь 84 кг сгнившего мяса. Я родился в порочном мае.
Яркое небо. Яркое кафе. Яркие столики. Пассажиры, ждущие Ноя, на своих местах. В руках у Ларри — калькулятор.
— Ты знаешь, — говорит Ларри задумчиво. — А ведь мы и живем-то всего двадцать тысяч дней, как сообщил нам «Наутилус». Сейчас подсчитаем нашу жизнь. Так, тебе сколько? Умножаем. Ого! А я? Двадцать лет — это семь тысяч триста дней. Вычитаем из двадцатки и делаем вывод, что треть жизни уже позади.
На некоторое время он замолкает. Поняв, что я тоже ничего не собираюсь говорить, снова поворачивается.
— Как задумаешься, сколько дней мы живем, волосы дыбом встают. И тогда каждый день настраиваешься на синюю волну или драгз юзаешь. А все почему? Слишком тонкая душевная организация. Я каждый день умираю. В отличие от всех этих коммеров, чиновников, быдла с заводов. Я вот теперь каждый день, когда спать ложусь, знаешь что думаю? Вот если прошел день, ты ложишься спать и чувствуешь себя более-менее вменяемым, то день прожит зря. Только и занимаешься тем, что высвобождаешь свою душонку. Чертов мир! Я вчера два часа простоял на Пушкинской площади. Знаешь, чем я занимал ся? Там они щит повесили, ну типа сколько дней в третьем тысячелетии уже нащелкало. Я стоял как завороженный. А потом щелк, и еще одной цифрой больше стало. Я моментом почувствовал, как постарел. А вокруг они ходият и им, поверь, плевать. Знаешь, я что сделал? Бросился в ближайшую забегаловку и нажрался. А Время сжирает нас. Каждый день — критическая точка.
Ларри считает еще по-другому, он говорит, можно реально убить и само время. Ларри считает, что нужно убивать дни и недели. Ларри предсказывает чудовищные катаклизмы и низвергает авторитеты. Завтра Ларри опять будет убивать дни. Но все бесполезно: рано или поздно дни прищучат и его.
Ларри тем временем начинает в открытую разглядывать пацанов, заливающихся за соседним столиком.
Ну тут уж, конечно, расплатился я, пока он дров не наломал. Цепляю его и на выход.
Мы идем на Набат за Романом. Из-за этого гребаного XL-я мы даже не здесь, а далеко-далеко. Стреляем слонами в пространство, запятыми по каллиграфии, подошвами ботинок по вязкости времени. Мы плывем через шум Большого Города.
От Красной Пресни мы переходим на Большую Никитскую. Затем в переулок. Затем на Поварскую. Затем — к звездам.
Вместе с нами наши горести и заботы. Они стелются за нами, как шлейф. Ларри — незыблемый королевич первозданности. И глупый я — наследный принц ненависти.
Вокруг колышутся здания, ожившие куски фарша, тачки и ноты. Река, мелькнувшая в голубом просвете среди бетонных плит, кажется Баренцевым морем. Дома — айсбергами.
По небу летят гигантские породистые лошади. Вслед за ними цветные собаки. Лошади бьют копытами. А собаки воют на Луну.
* * *
Для поиска смысла жизни не надо ходить за тридевять земель. Она намного ближе.
Совсем уже зашторенные в хламешник, мы ныряем с Ларри в подземный переход. Внизу какие-то люди с ошалевшими рожами лезут ко всем подряд. Поделиться своей радостью, наверно, пытаются.
Один из долговязых парнишек направился к нам. Сначала я подумал, что этот парень из Ларриной команды и направляется к нему поразведать новости. Но тот прямиком ко мне.
Ладно, подошел. Так мало — хватает меня склизкой лапой за плечо и дышит мне в лицо какой-то неслабой вонью:
— Я знаю, что тебе нужно… — вот как он прошипел. Спасибо! Хоть кто-то это знает.
Сперва я сдуру подумал, что он от правительства здесь ошивается. Выясняет, кому наиболее плохо. А потом раздает приглянувшимся клиентам порции счастья.
Все оказалось прозаичнее. Далее я подметил в его руках огромнейшую стопку книг в цветных обложках. А на обложках облака красивые и святые картинки всякие.
По его стеклянным зрачкам тоже было заметно, насколько он уже переполнился счастьем. Оно из него так и перло. Прямо-таки лучилось.
Словом, это был то ли христианыш, то ли кришнаитыш, то ли евангелистыш, то ли еще кто из их небесных легионов. Всех ведь и не упомнишь.
Тут уж я поведал ему, что не чувствую в себе особой, мол, храбрости и недостоин типа я еще такого разного счастья. И остекленею как-нибудь попозже. За несомненно ценными и высокодуховными книгами в его руках с трудом было видно рожу.
— Нет, нет, — все пытаюсь отмазаться. Тороплюсь, мол.
Вообще, в духовных трущобах всего одна достойная организация и была. «Аум синрике». По крайней мере они сразу «чужих» травить стали без всяких там предисловий. Вот к ним бы я пошел. Наверно, было бы по драйву за-мониторить, как сученыши жрут газ в метро.
Нет, религия мне не нужна. Потому что остекленения мне хватает и так.
— Свали, мразь! — объявил сектанту подкативший Ларри. И поясняет мне, что они за свои книги с облаками еще и деньги требуют. И куда только смотрит святейший патриарх?
А сектантыш сразу трепыхался, забурчал что-то себе под нос о Страшном Суде и побрел, тыкаясь невидяще в стены, к своим стеклянным дворцам. Наверное, поспешил предлагать другим свою святость, остекленение и счастье.
Все же нужно быть бдительней.
Шагами вдаль. Шагами вдоль. Шагами поперек.
Воздух пал свинцово-тяжелым. Серые дома, серые магазины и серые мрачные деревья, нехотя тянущиеся во все стороны снега.
Я уверен, что мы с Ларри — физиологические кусочки Большого Города. Мы зашторенные весьма конкретно, чувство единения с городом реальное. Слава ангелам, у нас не проверяют доки леги. Это наверняка привело бы к некислой проблематике.
Мы в сутолоке. Мы внутри потока. Проект Полет стартовал.
«Умерли все. Осталась одна Таня». «Умерли все. Осталась одна Таня». При этих словах все закручивается в единую немыслимую спираль. Самой талантливой писательницей в истории мировой литературы была Таня Савичева из блокадного Ленинграда. Первый и последний человек. Эти пять слов вобрали в себя все величие тысячелетий, Ассирию и Девоншир, Месопотамию и Капитолийский холм. «Умерли все. Осталась одна Таня». «Умерли все. Осталась одна Таня». Маленькая детская ручка, безостановочно скользящая по чистым листам. Девочка, которая все поняла. Почему эта девочка осталась в безвестности? А? Пять символов, пять простых слов. Сгусток боли в геометрической прогрессии. Ларри переделывает на свой лад. «Умерли все. Остался один Ларри». «Умерли все. Остался один Северин». Мы подключаем Таню к Проекту Полет.
К сиреневым берегам.
К лазоревому небу.
К розовому снегу.
* * *
Романа Гнидина на Набате найти сложновато. Про одного схожего художничка болтали, что он победил искусство. Не знаю, как насчет всего этого самого искусства, но пока Роман победил Суриковский институт.
К Юбилею художнички уж подзаполнили улицу. Все отдыхающих рисуют за монеты.
После долгих поисков находим Гнидина. Уж больно сильно он что-то вопил о своих художниках-кумирах.
Ясно, он уже в стельку. Мы подоспели не вовремя. Трезвость, как поясняет Роман, это коварная иллюзия, которая мешает понять подлинный трагизм жизни.
Рядом с ним какая-то женщина. Мила Гнидина, так она представилась. Секу: это жена Ромина. Увидев нас, она, конечно, тут же проявила свое недовольство. Типа догнала, что мы хотим утащить ее разлюбимого. Сама она пойти никуда не может. Ей нужно писать, чтоб подзаработать, чтоб расплатиться за квартиру, чтоб накормить детей. К тому же она сообщает, что Роман отметил уже Юбилей дальше некуда.
А кому какое дело до недоношенных дебиловатых детей этой психички? Нам ее оправдания и заморочки ни к чему. У нас своих полное корыто.
А ведь наглатываешься неизбежно по молодости сладкого зефира лжи, а потом раскручиваешь, как катушку с нитками, не выдуманную сказку, а свое бестолковое прозябание. И ждешь, когда оно кончится.
Видимо, от принятия тяжелого решения все же идти с нами Роману становится худо. Словом, парниша присел на блевантоз. А Милка, ясен пень, нас винить тут же и его защищать.
— Он хороший! Он очень хороший! Это вы во всем виноваты. Он очень хороший!
— Хороший, говоришь? — огрызнулся я. — Да, может, и было когда у Романа что-то хорошее. Было, да сплыло. Слово еще какое тупое, дура, придумала: «хороший». Все, что у него оставалось хорошего, вот и вылезло. Я зачерпнул горсть его блевантоза и протянул ей.
Мила отшатывается. Видимо, хорошего ей не надо. И понятно, смолкает растерянно. Стараясь ее дожать, я договариваюсь, чтобы она забрала Ромины холсты, кисти, мольберт и багетины.
— А ты должна остаться здесь ради отпрысков. Дети — это святое! — лопочу я, пока она не опомнилась.
А тут Роман заупрямился.
— Ты идешь, нет? А, алказельцер?
Он сомневается и виновато смотрит на Милку.
— А что будет хорошего на празднике?
— Город замолкнет, — с ходу стал гнать я. — Будут красочные огни и маски, чудесные фрейлины и трубадуры, музыка, фейерверк и, конечно, много пойла. Такты идешь с нами, картонный дурилка?
— Ладно, иду! — решается Роман. — Но только, чтоб все было именно так, как ты мне пообещал.
Да уж, конечно. Я могу пообещать хоть саммит с тремя слонами, держащими мир, хоть с черепахой, хоть полет в созвездие Гончих Псов.
Наконец, свершилось! В плане мы двигаемся навстречу празднику. Ларри — музыкантишка, голубь и наркот.
Роман — художничек, женатик и алконавт. Я, Северин, единственный приличный и уважаемый человек.
Ларри рассказывает истории о том, как он жил еще год назад. Тогда, чтоб наскрести деньжат, ему приходилось сдавать в пользу особей свою кровь и сперму. Знаете, есть такие специальные места. Делает вид, что большей частью сдавал из великодушия. Врет, конечно. Добавляет, что спермы сдал особенно много.
— Мне даже один раз стыдно стало. Вышел один раз тоже в праздник на площадь и раздавал детям конфеты. Глядишь, где-то и мои спиногрызы так же зашелестят. Кстати, может, мне и сегодня купить конфет?
— Вот это будет самое правильное.
Хмыкнул я и повернулся к Роману.
— Завтра мне нужно приобрести орудия труда, — доверительно сообщает Гнидин.
— Краски? Кисти? Холсты? — почтительно поинтересовался я и даже с уважением посмотрел на него снизу вверх. В образах, конечно.
— Да нет же… — смутился Роман. — Резиновые перчатки. Я там у одних богатеичей туалеты в коттеджах подрядился чистить. Столько ведь срут — не поверите! Особенно их дети. Их откармливают, как на всю оставшуюся жизнь. Все это забивается и засыхает.
Весьма достойная замена творчеству.
Не знаю, как мои товарищи, но лично я весьма серьезно и с пониманием относился к Юбилею. Может быть, после участия в праздничных шествиях и карнавалах мне удастся почувствовать себя совершенно другим человеком. И немерено огорожаниться именно здесь. Типа как подпокреститься, хотя я толком и не знаю, что это такое. Говорят, нужная фишка.
По пути увидали иномарочку, в столб врезавшуюся. Там легавые, «Скорая помощь» и все такое. Не знаю как кому, а мне чужое горе прибавляет положительных эмоций и жизненных сил. Когда «чужой» сбрасывает коньки, свое «Я» очень живехоньким себя чувствует.
Дальше Набат был перегорожен, и частая цепочка легов караулила, чтобы никто не смог прорваться сквозь преграду. Но толпа все же очень хотела идти дальше. Дергалась, трепыхалась. Если уж они так возжелали нестись вперед, то там действительно нечто самое распрекрасное. Уж это наверняка.
Я даже так разозлился на окружающих, что почувствовал: снова смогу выместить свою ненависть прямо сейчас. Знаете, есть такие злобные собачонки, которые на всех тявкают.
Ларри сует легавым удостоверение РТР, которое ему один хороший товарищ выправил. Все-таки в его жизненном путешествии имеются и некоторые преимущества.
Короче, нас пропускают.
Дальше еще одна толпа, но поменьше. Тоже визжат и дергаются. С блокнотами, фотоаппаратами и видеокамерами. Типа как журналюги. Наверняка сейчас подъедет мессия или на худой конец наш самый демократичный в мире президент. Иначе ради кого еще можно так над тысячами людей глумиться, которых через Набат не пускали. Хоть и сплетенными в сплошной вихрь бестолковости.
Все внимание было приковано к обувному магазинчику. Наконец объявились и виновники торжественного мероприятия. Их было двое.
Старая кошелка с рыжими патлами. И парень высокий и обрюзгший. Внешне — помесь негра и пуделя. Сошедший с полотна Гойи.
Все взревели. В воздух полетели букеты и корзины с цветами. Вы когда-нибудь видели одновременный оргазм сотни человек? Я увидел.
Между тем живые легенды, как их называли, тихонько ползли вдоль стеночки к двери обувного магазина. Как Будто им было стыдно смотреть людям в глаза.
Но ведь это были сами знаменитости. Мне даже показалось, что я их где-то видел. Раз уж это знаменитости, а одна из них к тому же похожа на нефа, то сам бог мне велел бросаться к ним и просить, чтоб мне все объяснили. Ну как я замышлял ранее.
Жаль, что уж слишком много желающих было подлезть к ним поближе. К тому же здесь тоже было все перекрыто легашатами. Они, кстати, почему-то не были приодеты в белую праздничную форму. Видно, догадывались, что сегодня будет немало веселых приключений и белые рубашки в крови можно перепачкать.
Журналисты продолжали выть в такт движению знаменитостей. Они оргазмировали волна за волной. Даже Ларри раззявил рот. Оставалось одно — смотреть в оба.
— Я бы ела его экскременты! Хоть целыми ведрами! — выдохнула симпатяшная тина рядом-рядом со мной.
Однако непонятки. Это что ж, все эти люди ждут, когда обнаглевшие знаменитости шуз себе приобретут? И на Набат никого не пускают? И находились ведь еще гады, которые радовались этому экшену.
Позже Ларри с Романом мне объяснили, что это были наши известные певцы. Крик-оров и Пугалочева. И их вся страна слушает. А они магазинчик обувной открыли.
Эх, если так слабо все вкуривать по жизни, то будешь как тот непокорный испанский идальго, сражавшийся с мельницами и поучавший своего незадачливого ассистента.
Ладно, заливаю в пасть пивка. Ларри и Роман тащат меня дальше.
Из каждого дома льется музыка.
Через каждый квартал раздают по полпорции счастья.
* * *
Брести во мраке, не открывая глаз.
Брести во мраке, не открывая рот.
Год жизни № 1, Год жизни № 2, Год жизни № 3, Год жизни № 5, и так до упора. Все, что можно вспомнить из каждого года — сплошные геморрои и повсеместны бесполезняк.
Человеческая каша тащит нас к очередным праздничным мероприятиям. Мы задеваем их руки, ноги, плечи, головы, животы и невидимые в обычном состоянии хвосты.
Не знаю даже, куда мы добарахтались, но толпа стала максимально плотной. Вокруг — тысячи. Все дышат перегаром.
А впереди трибуна. А наверху — отборные они.
Ба! Знакомые все рожи. Там и наш самый любимый президент, и распрекраснейший Министр городского Процветания, другие министры и приближенные к ним элитарные граждане старшего поколения.
Толпа выражала им бурный восторг и даже хлопала. Казалось, что высокопоставленные люди на трибуне нацепили какие-то маски с изображением честных, добрых и благородных лиц. Ну да. Маски — это же символ праздника и карнавала.
Первым поднес голову к микрофону многоуважаемый Министр городского Процветания. Он поприветствовал пьяную толпу, отдышался и гавкнул:
— Товарищи! Нет… Господа! Нет… Граждане! Нет… Соплеменники! — обратился он к присутствующим. Я аж охренел. Президент оторвался от демократических дум и замотал небольшой и мудрой головой. Наверное, догадался, что обращаются и к нему тоже.
— Сегодня у нашего любимого Большого Города Юбилей! — завопил Министр городского Процветания. — Это веха! Это праздник всего прогрессивного человечества. Восславим же Большой Город! Подземелья на Манежной площади и памятник Петруше на набережной. А главное Храм… Как его? Храм Христа! Вот раздавались наглые деградантские голоса, что, мол, на эти деньги можно было построить больницы, помочь учителям… Пустая болтовня! Дадим отпор гуманистам! Выдумаете, я о людях не забочусь? Еще как забочусь — спросите у моих коммерсантов.
У Министра из рук вежливо извлекли листочек с речью и впарили следующий.
— А знаете, почему Храм Христа похож на чернильницу? Не знаете! Это символизирует единение нашей христианин с российской культурой. Как в Серебряный век, этому придан глубинный символ. Это придумал ваш покорный слуга. Да здравствует Большой Город! Да здравствует Президент! Слава Иисусу! Ами-и-и-инь! — Он сложил пальцы и перекрестился. Сначала слева направо, потом на всякий случай справа налево.
А слово взял Президент России. Он сказал тихо, коротко, но с глубоким внутренним смыслом:
— Пчелы! За них все решила природа. Нам повезло. Я точно знаю, что мы не пчелы. Но мы строим свою жизнь, как и они ульи. Мы не пчелы! Мы не пчелы! Мы не пчелы! Не бойтесь перемен!
После этого грохнула музыка, прогремели праздничные залпы, праздник продолжился.
Правда, жалко, что политики так мало на нас слов вывалили. Дурные мысли нужно смело вываливать на головы окружающих. Если их долго копить, сам становишься подлее.
Куда дальше-то валить, праздничек мониторить? Ларри трет, что сегодня халявный вход в зоопарк, и холидей там — аж закачаешься. К тому же там пчелы могут быть, и мы у них может всему и научимся.
Ладно, валим в зоопарк. Там и продолжим веселье.
Добрались до зоопарка, врезались в толпу и сразу потерялись. Немудрено — протиснуться сквозь особей было практически невозможно. Уж настолько они любят халяву. Особи расширяли Большой Город изнутри, как шанкр или как раковую клетку.
А меня, понятно, все сильней и сильней шторило.
В основном «чужие» приволокли в зоопарк детей. Вручили им мороженое, конфеты и шарики. Смотреть в оба, это экскурс в животный мир, сейчас дети узнают, как изначально выглядит еда. Вход огораживали кровавые стены, как в замке. Единственно, чего не хватало, так это какой-нибудь бойкой вывески «Добро пожаловать в сказку!».
Родители все жаловались друг дружке, что типа не хватает информационных схем. Ну, по разделке туш. Где окорок, грудинка, лопатка, шейка, холодец.
И рассказывали детям, какие животные нежные и ласковые. Какие красивые глаза у оленей. Какие грациозные антилопы, какие сильные кабаны, какие величественные носороги. И как эти звери подло прячут под своими шкурами столь сладостные куски мяса. И как хорошо бы смотрелся кошелечек из того крокодила. Короче, зоопарк — как живая реклама.
А посадить бы несколько штук особей за прутья, заставлять детей своих резать, заворачивать в цветные обертки и продавать. И реклама: «Печень шестилетней Машеньки! Шейка восьмилетнего Сашеньки!»
А пока они всячески высмеивали братьев своих меньших. Типа как пародировали. Ну, как жрут свиньи, как размышляют о вечности бегемоты, как гримасничают обезьяны.
Я бы тоже как-нибудь поизгалялся. Но поехал бы далеко-далеко. К пингвинам, в Антарктиду. Позабыл бы язык, мысли, мораль, одежду, понятие времени. Я бы возглавил стаю пингвинов на Оамоке и затем объединил бы все остальные стаи. Я научил бы их правильно ловить рыбу и прятаться от людей. Мы бы стали смеяться и петь, петь и смеяться. И набираться сил. Вокруг только холод и лед. И белоснежное величие айсбергов. Я, может быть, даже женился на пингвинихе и родил бы пингвинодетей. Мы создали бы новую эксклюзивную расу. Мы постарались бы вырастить крылья побольше. Чтобы принять решительное участие в проекте Полет. Пингвины спасли бы весь мир, всех зверей и птиц. Мир спасло бы неслыханное уродство и полная катастрофа. Мы вышли бы из Антарктиды биться против особей за своего бога Антарктиды — Озона. Мы обрушили бы на землю километры и тонны айсбергов. На все континенты разом. А начали бы с полярных станций и кораблей. Перемешали бы нефть с кровью, уголь — с плотью. И если милые, хорошие инопланетяне посмотрели бы на нас из космоса, они увидели бы эдакую фрикадельку, залитую соусом из льда, крови и нефти. А сбоку — обязательный штрих-код. Восстал бы Атилла и воскресли Эринии. Отряды прекрасных королевских пингвинов высадились бы на севере и юге, западе и востоке. Черно-белые мстители, они были б повсюду. Сама история и само время стали бы раскручиваться в другую сторону.
Пингвины и «Я».
Айсберги и лед.
* * *
Бр-р-р. Дергаю башкетником и с трудом выбираюсь из шторок. Смотрю на солнце, оно светит так, как будто хочет мне расплавить глаза и мозги. Я вижу за пазухами людей камни и ножи. У детей — отбитые горлышки бутылок. Они ждут сигнала к атаке, чтоб броситься, взломать клетки и перебить зверей…
Бр-р-р. Я снова выбираюсь из короткой шторки. И почти сразу нахожу Ларри. Кое-как убеждаю его в нужности этого поступка: съедаем одну «желтую» на двоих.
— Где Роман?
— А вон, вон он, — злорадно показывает Ларри пальцем.
В отличие от меня Роман поймал другую шторку, более быдляцкую и синюю. Перелез через первые ограждения и облапил клетку с обезьянами. Особи радовались унижению себе подобного и ухмылялись. Он весьма органично смотрелся на фоне мохнатых сородичей.
Перепрыгиваю через ограду — и к нему.
— Пошли отсюда, че встал, кретиныш?
Оказывается, он показывал там обезьянам наброски к своей сверхкрутейшей по замыслу картине «Явление Христа народу-2», о которой пообещал рассказать мне чуть позже. Надо отметить, обезьяны весьма уважительно рассматривали наброски Гнидина. В отличие от столпившихся особей, которые все ржали.
— Никуда не пойду, — мычал Роман. — Ведь только здесь меня и понимают, да и жрачка расхалявская…
Эх, синетура, алкаши… Лучше б он вычванкался чуть раньше.
Кое-как мы с Ларри подхватываем его и выбираемся через боковой экзит. Там бронеавтомобили… рухнувшая башня… визжащие Белка и Стрелка… Роман падает, я теряю сигареты и зажигалку. Останавливаемся. Вокруг меня все кружится каруселью.
Гул. Гул Большого Города.
— И зачем мы зацепили этого мудела, — шипит Ларри. — Сплошные геморры.
— Бросать поздняки.
— Да уж лучше б с ним эта старуха Мила нянчилась!
Конечно, Ларри в чем-то прав. Таскаться с этим пьяным куском дерьма до ночи я вряд ли выдержу.
Ладно, идем дальше. Пересекаем улицы и проспекты. И повсюду: «Юбилей! Юбилей! Юбилей!» Человек живет двадцать тысяч дней, а Городу гаду че, Большой Город бессмертен.
Роман вроде немного пришел в себя и теперь передвигается почти самостоятельно.
Мы с Ларри обсуждаем варианты нашего путешествия и решаем валить туда, куда и большинство ублюдков. Они смеялись, радовались и облизывали друг дружку языками, передавая по кругу праздничное настроение. Для проформы мы тоже пару раз поддержали вопли: «Юбилей! Юбилей!»
Толпа снова тащила меня сама. Я снова даже не передвигал лапы. А может, сегодня все и закончится? Юбилей, и баста. Конец.
Из восторженных ртов, кроме «Юбилея» еще неслось: «Жан-Мишель Жарр! Жан-Мишель Жарр!». Ларри сделал предположение, что это жар-птица счастья завтрашнего дня. Я был готов с ним согласиться.
Повсюду мы тыкались в них. Стало совсем темно, тесно и невыносимо. Когда рванули фейерверки, меня шторануло уж совсем не по-детски.
Я стал проваливаться вполне конкретно. И очнулся только от хлестких лазерных лучей, прорезавших темень. Может, начался Армагеддон? Или милые инопланетяне ударили с неба по Юбилею? Но нет… Это гиперболоидные перья Жан-Мишеля Жарра, жар-птицы счастья завтрашнего дня.
Под самый мощный фейерверк от переизбытка праздничных чувств, особи стали крошить друг дружке репы. Насаживать друг друга на щупальца. Как всегда.
Скукотень. Мы уже в кромешной темноте, в самой стратосфере. Вокруг сотни особей стонут в пустом пространстве, в аду. Стонут от ужаса и безысходности. Вокруг царство огненных шаров, это остатки фейерверка вокруг нас оседают мерцающими угольками…
Черт, побери! Мы на Чертовом колесе! На самом верху! Гребаный XL, как нас сюда занесло? В обычном режиме я бы не забрался сюда ни за какие коврижки. Глядя в огненные шары, я всеми клетками ощущаю Проект Полет и вижу древние сморщенные лица, стонущие во мраке.
Главный Салют! Расцвеченность хаоса! Вцепляюсь в поручни. Ларри раскручивает нашу площадку. Колесо скрипит, овцы визжат. Сейчас все рухнет, и мы объединимся в честь Юбилея в мясном ассорти…
* * *
…Все плывет, плывет, плывет.
Провал, асфальт, провал.
Метро, провал…
…И снова метро. В переходе на «Чеховскую» Роман швыряет пустую бутылку в стоящий памятник Горькому. Она разбивается на мелкие звезды, мы с Ларри отпрыгиваем в сторону, отбегаем.
Ну как же иначе, легавые уже здесь.
Мы в костюмах, нас не трогают.
— Послушай, уважаемый, у тебя два варианта, — лепят леги Гнидину, помахивая дубинками. — До хаты поедешь или в трезвяк?
— Конечно, в трезвяк. Дома я был, ничего интересного — жена и дети.
Леги опешили и нерешительно предлагают ему все же валить до хаты. В ответку он их кроет легавой мразью, и леги его уволакивают.
Мы с Ларри тоже разлетаемся. Он едет к своему новому богаитеичу, замминистра коммерции, который после каждой случки подкидывает ему неслабо баксят.
А я вдруг неожиданно чувствую, как цифры Юбилея обрушиваются на меня. Я лежу под ними смятый и потерянный, как хорек.
Кругом они, люди-микробы. Большой Город, твердый бордовый шанкр. Провалившийся нос земли — озоновые дыры Антарктиды.
Пингвины и «Я».
Айсберги и лед.
10
Опять просыпаться.
Просыпаться одному.
Опять просыпаться одному от невыносимой жажды.
В отличие от меня город совершенно цел. Он почмокивает в ночи, как выбросившаяся на берег рыба. Огней значительно меньше. Я опять вырубаюсь.
Все снова ярко-серо. Открыть — нет, обратно назад.
«…школа. Урок истории в младших классах. Молодая учительница перелистывает страницы учебника, класс притих. Парты идеально чисты. На доске надпись: «История Большого Города». Это тема урока. Молодая учительница начинает:
— Программа обучения не нова. Мы изучим все, начиная с вашего рождения, дальше детство, молодость, зрелость и, конечно, смерть. Вы все умрете, дети, и очень скоро. А сегодня мы поговорим об истории Большого Города.
Она смеется и запрокидывает голову назад, вытирает платком слезы.
— Кто назовет срок существования Большого Города? Кто не отвечает, тот умирает.
Она царственна и милосердна.
— Давай ты.
Мальчик молчит. Его волосы переливаются под светом из окон. Щелчок. Он лопается как воздушный шарик. Он бесследно исчезает. В воздухе плывут кровавые пузыри. Его место пусто. Все остальные на своих местах.
— Ты.
Молчание. Щелчок. Пузыри.
— Ты.
То же самое.
— Ты, Маша.
После рыдающей Маши пузыри в слезах. Учительница скользит перьевой ручкой по классному журналу. Она расставляет двойки, подписывает въездные визы кому в рай, а кому и на сковородку. Класс редеет.
— Ты, Вовочка, — произносит она устало и уже ни на что не надеясь.
— Пятнадцать миллиардов лет, — бойко отвечает мальчик.
— Правильно, — оживляется учительница. — А когда настал конец Большому Городу? — она заносит ручку, чтобы оформить приговор выскочке.
— В год Юбилея.
— А кто основал Большой Город?
— Вятичи.
— А кто уничтожил Большой Город?
— Первая отдельная бригада королевских пингвинов.
— А кто стоял во главе бригады пингвинов?
— Пингвиночеловек. Северин.
У мальчика вырастают крылья, он поднимается вверх, проходит сквозь стены и время. Он летит к солнцу. Он последний королевич династии Икарингов…»
Я опять просыпаюсь. На этот раз окончательно.
А может, Могила меня поднаколола?
Курю, умываюсь и все такое прочее. Мысль о том, что мне так плохо, а миру глубоко параллельно, убивает меня окончательно. В четырех стенах я как заяц, попавший в капкан. У меня целых четыре стены, чтоб шмякнуться в них и избавиться от головной боли. Выбор предельно богат.
Откуда все беды? Да просто выползаешь на улицу, и потрясенный тем, что все такое ярко-серое, снова закидываешься «желтыми». Болото засасывает. Жить не получается.
Мы договорились с Ларри встретиться около двенадцати. Распихиваю по карманам сигареты, зажигалку, документы, КПК, деньжата. Мельком гляжу схему метро. Она как паук, скорпион или сороконожка.
Пусть будет сороконожка. Вылезаю в ее направлении. Голова раскалывается, кости тоже, ветер чуть не сбивает меня с ног. Похоже, погода не переменится.
Если каждому протягивают с небес яблоко, то мне, наверное, надавали уже полное лукошко. Я грызу их так, что за ушами трещит. Особенно по утрам.
Ныряю в подземелье. Гусеница тащит меня вниз к гоблинам. У соседей в руках дипломаты и сумки со жратвой. И конечно, газеты. Каждый, кто хочет стать уважаемым гражданином, первым делом должен научиться читать «Комсомолец» и «Мегаполис-экспресс». Больше ничего и не нужно.
В вагоне, ясно, реклама. На листке крайне серьезное лицо младенца и стихи его. Наверное, это ребенок-вундеркинд.
Я ребенок, не родившийся на свет, Я нелепое дитя по кличке «Бред». Ужас я и страх в глазах врача, И теперь я в роли палача. Будет вам посыл, отец и мать, простой — Чтоб по жизни вы ловили геморрой, Чтоб вам гнить и ничего не понимать, Чтобы в нищете и горе прозябать.Под лицом младенца секу еще и главный текст: «Аборт — узаконенное детоубийство».
Тут другое событие меня отвлекло. Несмотря на то что все обитатели нашего вагона дружно уписывали исключительно желтые газеты, мальчишка лет семи, сидящий передо мной, бесстрашно достал книгу. Родители его, конечно, сконфузились перед соплеменниками и в оправдание стали указывать на обложку. Типа книга нужная.
Тоже глянул. Блин, там латинский шрифт, иноземщина. Название «Windows», автор «Excel». Это типа его родаки так в комп с детства грузанули, чтоб достойное место под солнцем он занял и к Американской Мечте живей барахтался.
Предки гордо посматривали на детеныша и разве что по головке его не гладили. Он сидел, как зомби. А как раз над головой мальчика словно нимб и сожаление сиял плакат: «Аборт — узаконенное детоубийство».
Все же приехал. Ковыляю до хаты.
Ларри долго не открывал дверь. Наконец, запускает:
— Забредай… Там на кухне найди себе что-нибудь…
И исчез в глубине квартиры. Его хата хоть грязная и облезлая, зато громадная, многокомнатная. Беспорядок страшный. Везде полупустые бутылки, бокалы, невыпотрошенные пепельницы, разбросанная одежонка.
Ларри умывается и пытается что-то прокричать мне из ванной. Судя по запаху в комнате, он с утреца уже разогрелся гашишем. Точно, вон и пустая пластиковая бутылка с характерно прорезанным отверстием.
Мой товарищ возвращается предельно свежим, выбритым и веселым. От него даже пахнет каким-то поганым парфюмом. Ставит кофе, достает ветчину, сыр и маленькие конфеты «Марс».
Дальше включает «Дорз» и подпевает клавишным проигрышам Манзарека. Кстати, у него здесь целая музыкальная лаборатория. Кроме архивов музыки, еще куча всевозможных музыкальных инструментов. Но, видимо, он совсем гаша нажрался:
— Теперь меня люди совсем не интересуют. Ни прошлые, ни настоящие, ни будущие. Вот взять муравьев, муравейник, как у них все разумно устроено…
— Я не знаю. Я с муравьями не общаюсь.
Ларри слегка обижается и учапывает в другую комнату, предварительно выключив Моррисона. Я тоже накуриваюсь для разгона через бутылочку чистого дымка-гашишка. В это время Ларри пытается играть на разных музыкальных инструментах. Видимо, ничего не выходит, и он срывается:
— Да когда же все это закончится?
— Лет через двадцать, тридцать.
Этой информации ему хватает, чтобы стенать еще минут пятнадцать. О том, какой он эстет де гребаный, какая у эсэсовцев форма была эстетически красивая, а дальше поток вообще нелепой шняги всякого-разного льет.
Пока он собирает, я проверяю содержимое его лопатничка. Ну, и пидар, скажу я вам. Там и «Виза Голд», и «СТБ-кард», и «Юнион». Книжечки из разных банков. Видать, у парня с монетами благодаря его альтернативщине полный порядок.
Я, понятно, знал, что это квартирка одного из замминистров коммерции, который уж очень полюбил Ларри. И если, несмотря на всю экономическую гениальность замминистра коммерции, ему так и не удалось спасти всю Россию, то он спас по крайней мере одного из ее жителей. Это просто отвратительно — стремиться быть хорошим. Это никому не нравится. Вот если ты подонок или мразь, то это всем по мазе. Ведь все такие.
Все же Ларри несколько неудобняк за свои баксята. Предлагает взаймы — я беру. Предлагает ударить по эллке за его счет — тоже согласен.
После этого он немного кривится:
— Вот сейчас у тебя еще есть пока монеты. А что ты будешь делать, когда они на глушняк кончатся? Найти тебе лялю надо богатую. Но глупую и бестолковую. Монеты будешь с нее рубить, если ты, конечно, понимаешь, о чем я… Работать же все равно хрен потащишься…
Последнее было верно подмечено.
Почти тут же Ларри вкрадчиво предлагает возить из Сибирского Города дешевый гаш в музыкальных инструментах. У него кореш-музыкант так благодаря синтезатору обогатился.
— Семь кусков зелени! И всего за два дня!
— Восемь лет. И всего в пять минут.
Хотя, ясное дело, каждый сам кузнец своего счастья. У каждого своя жизненка. А еще говорят, у каждого своя сказка. Только вот у меня, дурака, со сказкой как-то сразу не сложилось. Раздрай сплошной. Положительные герои в моей сказке погибли, а отрицательные деградировали в нейтральные. Сказочные образы отпали, заклинания обесценились, колдовство приносит сплошные несчастья. Волшебную палочку у меня отобрали, а Змей Горыныч размазал сами знаете что по всей роже. Ковер-самолет взлетает только со все увеличивающимся дозняком, а скатерть-самобранка не дает ничего, окромя пельменей и макарон с тушенкой. Словом, серой стала моя сказка и скучной.
Все же я уважаю Ларри за то, как он все успевает. И карьерку делает на альтернативном своем диспозишене, и в Гнесинке обучается, и джазовую школу посещает, и за всеми новыми веяниями музыки следит.
В космосе звезды, в небе облака, за окном особи.
Ларри передает мне сахарный кубик с эллкой. Это редкость в Большом Городе, как мне говорили. Типа сейчас никто из пушеров кислую на сахарные кубики не пользует — сплошные марки.
Радостно пожираю. В конце концов надо же как-нибудь делать передышку от «желтых»!
Пока Ларри окончательно собирается на стрит, врубаю его домашний синематограф. В свою очередь в меня врубается реклама:
— Мария открыла для себя туалетную бумагу «Your choice».
Протягивают микрофон счастливой девке. Та кряхтит, ерзает, но все же закручивает спич.
— Раньше я не пользовалась ничем… Когда я спала со своим любимым, то старалась встать пораньше и поменять простыни. Он все равно меня бросил. Я стеснялась сделать доступным для обозрения свое нижнее белье из-за коричневых разводов. А я либерал, не какая-нибудь скинхэдка. Жизнь была кончена. Куда бы я ни приходила, я слышала за своей спиной: «Запах кала…» Ничто не помогало! — она вскинула вверх руки и, видимо, именно это ей наконец и помогло.
На нее обрушился целый водопад рулонов туалетной бумаги, под которыми ее и погребло. Почти тотчас она выбралась, элегантно накручивая на руку шлейф из рулона.
— Нет микробам! Я открыла для себя туалетную бумагу! — и то, что лилось из нее раньше сзади, теперь лилось в виде слов изо рта. — Требуйте сертификат качества! Рекомендовано Минздравом России!
Здесь Ларри прикончил экран дистанционкой.
— Че дурь лукаешь? Валим!
Идем. Выжимаем ломтики времени, вплетаемся в гущу событий. Я здесь. Я есмь. Значит, я прозябаю.
По ранней молодости развлекаться — самое главное. Потом же по-любому переклинит и будешь сквозь нелепую работу, семью и детей науськивать сам себя на далекое подобие жизни, которой не будет больше никогда. Терять нечего.
Для начала перемещаемся в бинго на Цветном бульваре. Место, конечно, полная гнильца, но для разгона покатит. Пока мы едем в такси, я еще удивленно интересуюсь, типа почему при его финках Ларри не отвернет себе какую неслабую иномарочку.
— Да ты совсем, Северин, сдурел? — ошарашивается он. — Ты меня трезвым или незашторенным когда-нибудь видел? Какая уж тачка.
В окнах мелькают дома, светофоры и время.
Можно болтаться в Большом Городе, а можно поехать в Минск, Гродно, Лион или Дублин. Но ведь наверняка везде будет одно и то же. Везде будут те же люди с совершенно одинаковой тяжестью и тупостью. Кстати, помните, как мечтательно говорил Каляев Савинкову: «Сколько же нужно взрывчатки, чтобы взорвать весь Большой Город?»
А бинго все так же светилось яркими огнями, типа как зазывало. Оно еще тогда на упадок не плюхнулось и вполне процветало. Нашли свободный столик, прилунились за него грамотно и подзаказали хавки.
В игре нам не катило. Мы покупали карточки одну за другой, да все без толку. Ларри, понятно, был недоволен. Все кричал, ему типа карточки специально подсовывают не те, обвинял потенциальных подставных, называл разносящих карточки девчонок кончеными шалавами и все такое прочее. Орал так, что нам даже менеджер громкое замечание сделал.
Когда стали разыгрывать Джэк-пот, Ларри заявил, что если сейчас мы «даже» его не выиграем, то он, Ларри, сюда больше ни ногой. Угроза, понятно, страшнее некуда. Все аж затряслись.
Джэк-пот выиграли две носатые тетки за соседним столиком. Они взвизгнули от счастья, а Ларри справедливо задохнулся от возмущения. И сообщил особям, что самая пора им срыгивать к себе на исторические родины, где, как он желает, их и выпотрошат.
Теперь уже Ларри привлек внимание всего зала. Наверное, нам не сдобровать. Я даже пожалел о неиспользованных кропаликах и денежках. Засверкали вытаскиваемые из ножен мечи… натянулись стрелы… зашипела кипящая смола… забили стенобитные орудия…
— Очнись, мудел, — тормошит меня Ларри.
И я, ясен пес, секу, что это не стенобитные орудия, а Ларрина лапа, бьющая мне в грудак. А кипящая смола не смола, а пиво, которые он брызжет мне в табло. Он рад, понятно, поизмываться.
А мы спецприз, кстати, выиграли. Ну, когда все невыпавшие числа на карточке остаются. Нам его живехонько впарили, и мы выкатились на улицу под завистливые взгляды окружающих.
Теперича оба рады.
* * *
Не скажешь, что мы уж много выиграли в бинго. Так, баксят около семисот. Важен был сам факт выигрыша.
Далее тащимся в другое увеселительное заведение где-то в центре. Я ориентировался уже с трудом. И потому изредка бросал робкие взгляды на вывески с обозначениями улиц. Хотя бы знать место, где мы находимся на данный момент.
А Ларри, оказывается, решил продолжить игру. И в казино меня тащит.
Около казиняшника уже торчало с десяток иномарок. Сквозь шторки я прочел нэйм заведения: «Бесподобная гнида». Что, согласитесь, предполагало некоторые перспективы в плане развлечений.
Стражники встретили нас очень приветливо. Правда, меня слегка насторожило, что они иногда отворачивали лацканы пиджаков и серьезно туда бурчали. За лацканами было что-то прикреплено. Оттуда торчала черная проволочка, похожая на антеннку. Хотя, возможно, у них там были прикреплены символы этого казино, а черная антенка не что иное, как волос, на котором эти символы и держатся. Общались охранники с нами по-деловому, но дружески.
Нас вежливо пригласили в игровые залы, мы встали в замешательстве, выбирая что поинтереснее. В залах, понятно, народу немерено. А у меня сразу мелькнула мысленка, что типа прикинувшись вдецл респектабельным, можно подснять какую тину свободную, может, даже не на продажу выставленную. Так я и сделал. Подгреб к симпатяшной овце и романтическим языком, развязавшимся под шторками, поведал ей, как я ее полюбил запросто.
Почти сразу узнал о себе много интересного и нужного. Уже удаляясь, я вежливо переспросил синеглазку:
— Куда, куда? Куда мне идти?
Получив же точное и уже конкретизированное указание направления моего движения, туда и пошел. Вслед она крикнула мне еще пару метких и хлестких характеристик, которые я тут же принял к сведению. Все-таки хоть кто-то обратил на меня внимание. Уже ничего.
Ладно, пойду в бар, отмечу, что завязал с противоположным полом некоторые отношения, а потом, может, вернусь и продолжу общение.
После бара, поразмыслив, отказался от первоначального замысла и побрел в зал, где сидел Ларри с перекошенным от кайфа игры лицом. Светлый костюм Ларри резко выделялся среди черных костюмов других посетителей. Стол бы традиционно обит зеленым материалом, а рядом с Ларри находилась сливающаяся со столом стопка зеленых жетонов. Лица игроков были побагровевшие, а посередине стола все черно-красное. И номера, от ноля до тридцати шести. Схемы там на чет-нечет, дюжины, четверки и все такое.
Еще посреди стола находилось круглое колесо, похожее на ось телеги. В центре колеса прыгал маленький белый шарик. Уж наверняка спресованный шарик «Стиморола», куда находчивый кренделек обычно прячет гаш. И наверное, это приз-сюрприз. Точно, там внутри гаш, и поэтому все хотят шарик и отхватить. Он снова остановился, и все заверещали. И смотрели недовольно на радостного мужика, загребающего себе все жетоны. Ларри недоволен, мужик наоборот. Отвернул свою порцию счастья.
К моему удивлению, мужик не стал отхватывать себе жвачку с гашем, и она опять запрыгала. Видимо, этот приз был необычайно грандиозен, и его разыгрывали под самый финал. Стало достаточно скучновато, и я для проверки сложил вместе все цифры от ноля до тридцати шести. Как и болтали по ящику, вышло шестьсот шестьдесят шесть. Люди все продолжали дрожать, чесаться, отбивать у крупье жетоны.
Пошел к ближайшей барной стойке и заказал себе джин с тоником, заодно сообщив продающему стражнику типа платить будет «вон тот пидор в белом пиджаке». Под потолком я заметил натянутые черные шнуры, на которых гирляндами висели белые шары. Типа опять связь казино с названием. Типа дизайн. А люди в черных костюмах, видимо, из этих шаров и выползли.
Осознав на шторках всю схему, я поинтересовался у продающего стражника, как бы мне поговорить с самой наибесподобнейшей гнидой. Он отвернул лацкан пиджака, переговорил с кем-то и, повернувшись ко мне, отчетливо произнес:
— Директор казино сейчас занят.
Ладно, мне не к спеху, спешить некуда. Снова начал смотреть на черные и красные клетки с цифрами, кусок жвачки с гашишем, который продолжал неумолимо скакать, и лица с отростками, дырами и впадинами глазных амбразур.
Черное и красное лилось. Черное и красное сочилось. Шарик на черном и красном. Жетоны на черном и красном. Все в одном черном большом котле, снизу красный огонек. В черном котле все беснуются, пытаются жить, сплетаются в клубки. А красный огонек снизу все нагревается. И неизбежно черный котел взорвется и разнесет красные куски в самые далекие углы Галактики.
В паузе, когда все снова загалдели, споря из-за выигрышей, я подошел к Ларри. Теперь он уже был в плохом настройняке. Это я вычислил по тому, что он насвистывал «The end» своего любимою Моррисона. Понятно, даже не стал со мной разговаривать, типа мешаю.
Ладно, сваливаю в другой зал.
А там меня сразу окружили веселые трубадуры. Они шелестели картинками с цифрами от двух до десяти и с изображениями принцев, королей, королев и гербов древних государств. «Вот и до меня добрались шпилевые ребята», — смекнул я. А трубадуры, естественно, предложили сразиться с ними в незамысловатую игру. Принцы так и шелестели. Вправо-влево. Туда-сюда. Аж в глазах зарябило.
Короче, слушаю правила игры. Здесь другая фишка, «двадцать один», как сказали мне веселые трубадуры. Тогда я попросил рассказать правила уже поподробней, а после их лабудени вкурил, что меня явно хотят поднаколоть. Так как правила складывались четко в их пользу. Еще они сказали второе название своей игры: «в очко». Тогда я уж сразу отшился.
— Нет, нет, — говорю. — Такая игра это не ко мне, это не по адресу. Вон в том зале парень в белом пиджаке, он такие игры очень любит.
Трубадуры заинтересовались.
— Professional. High class, — подтвердил я и поднял большой палец.
Отчалили, а я дальше. В следующий зал.
Там немерено телеэкранов. Народу тьма. Прислуживающих стражников — тоже. Вдоль стен высокие сложные приборы. В центре приборов экраны, под экранами кнопки. Сверху все освещается приятным голубоватым светом.
Особи сидели строго по одному. Надо отметить, что пролезть в небесные врата на экранах можно было не за-бесплатно. Особи с распухшими от осознания чуда бошками бросали в специальную щель каждых небесных ворот специальные кружочки, которые предварительно жадно скупали у продающего стражника.
Осознав потайные ходы в рай, я кинулся к кассе и тоже подкупил немало пропускных жетонов. Заодно подсмотрел, как этот зал для отмаза шифровался: «Супер-слотс. Игровые автоматы».
Остеклененного меня тоже подвели к освободишемуся экрану-воротам и в общих чертах обрисовали, как выиграть у спрятавшихся внутри аппарата троллей въездную визу в райские кущи. Да, да, все понятно, теперь оставьте меня наедине с экраном. Я швырнул в утробу автомата горсть жетонов и вскрикнул: «Поехали!» В какой-то степени я воспринимал происходящее как репетицию Проекта Полет и помнил, что так для удачи кричать надобно по аналогии с вечно смеющимся космонавтом.
Мой аппарат назывался «Cherry». Типа вишенка. Вполне возможно, что это даже намек, мол, ягодка созрела, пора срывать.
Но сколько ни пихал я в алчный прибор пропускные жетоны — толку все не было. На экране мелькали фрукты, звезды и цифры. Они вроде сворачивались в комбинации, но не до конца. Я аж ртом пытался ловить ускользающее от меня счастье. Проиграв все жетоны и обхаяв троллей, посмеивающихся внутри аппарата, я пошел смотреть, насколько удачно складываются делишки и вишни у остальных решительно настроенных клиентов.
Заодно вспомнил своего старого дружка Бориса с телевидения. Как он тоже нажирался и пытался выбить у троллей выигрыши. Хотя, наверное, он и сейчас все так же проигрывает все деньги за телерепортажи и пишет стихи, посвященные игровому аппарату. Как-то раз он выдал эти стихи своей девушке, типа как ей посвященные. Дура даже повелась, и это их окончательно сблизило. Они вместе нажирались и висли целыми ночами в «Ударнике», играли. Возвращался Борис под утро и выколачивал из своих недалеких родственников монеты на очередных девок и игру.
А сейчас желающих поиграть вокруг было немало. Они нервничали и кряхтели, иногда кто-то радостно вскрикивал «Компот! Поймал, компот, блин!» Так особая комбинация называлась, когда одни фрукты.
И когда им удавалось успешно подергать за ручку штурвала, укрепленного сбоку аппарата, они радовались, как дети. И поскорей стремились ублажить троллей очередной порцией жетонов. Штурвал же ассоциировал некую связь с космическим кораблем, увозящим в райские кущи. Проиграв все денежки, особи весьма неохотно отрывались от штурвалов и выглядели крайне разочарованными. Здесь я еще припомнил рекламку с тем жирдяем, Николаем Фоменко, как он бесстрашно врагов крошил на экране компьютера.
Когда мы с Ларри неизбежно пересеклись около барной стойки поднабраться мужества, он был уже убит наглухо в плане настройняка.
— По натури гниды. ВСЕ проиграл! А ты как? Удалось окучить аппараты?
Я, понятно, подрассказал, что аппараты толком окучить не удалось, денежек типа подснять не получилось, но внешнее оформление, атмосфера полета и имитация штурвала мне пришлись по душе.
— А ко мне подвалили какие-то чеки в белых рубашках и чуть не силой предлагают в блэкджэк муткануть. А я в блэкджэк вообще никогда не играю — слишком уж просто.
Тут я просек, что типа это трубадуры отыскали его по моей наводке. Ладно, слушаю.
— Все лопочут, они, лопочут, типа не надо скромничать. И мастером меня называют. Видать, спутали с кем-то. По натури гниды. Кстати, знаешь, как у них называется, когда во всех залах сыграешь и везде в пух и прах проиграешься? Есть особый термин: «приход гребаного карася». Так и кричать надо: «Гребаный карась! Гребаный карась!» И тогда тебе специальный приз выносят. Вот смотри.
И показал мне маленькую шоколадную рыбку.
Дальше расплатились со стражником и выкатились на улицу. Ясно, стали ругаться, куда дальше чехлить, развлекалово ловить, хапать. Ларри, конечно, меня в «Шанс», «Хамелеон» и «Черный лебедь» зазывать, да хрен там.
— А типа в «Метелицу», что ли? — возмущается Ларри. — Название правильное, денежки как пургой сносит. Таких монет у нас нет, понял?
Ладно, пришли к соглашению — и на Кузнецкий Мост. Пешком дошли, благо рядом. Местечко славнейшее, «Голодная утка». В самом своем расцвете, когда она еще в отстойник не превратилась.
Заплатили за вход. И чудо! — отхватили столик. Играла там полная чепухень, видимо, просто с радио качали. Все подряд.
Мы же с Ларри, ясно, продолжили высвобождение животных интстинктов с помощью слабых алкогольных напитков, стимулирующих в свою очередь драгз. Почти сразу я начал разглядывать привлекательнейших тинс, мелькающих на танцполе. Причем Ларри это не понравилось, и он заткнулся. Так что я даже пожалел об отсутствии реального собеседничка, которому можно было смело затолкнуть спич в ушные раковины.
Грустно подумал снова, типа кто я. И подбодрил себя тупо, типа я не один, все такое. Если верить, конечно, множеству особей, переливающемуся на площадке уже под танцевальную музыку. Оно продолжало извиваться в свете юпитеров, оно, множество, сплеталось в клубки, оно исходило потом и перемазывало в нем друг дружку.
Изредка, в паузах между тем, что называлось музыкой, посетители останавливались, озирались и сладко облизывались, глядя на себе подобных. Которых им весьма нравилось ощупывать и нетерпеливо прикасаться. Я даже забывал курить «Camel», чтоб соблюдать маскировку.
Особым уважением пользовались те особи, которым удавались наиболее животные движения, визги и запахи. В паузах они бросались к продающим стражникам и заливали в себя пойло. На руках и хлеборезках выступали крупные капли пота, которые стекали в бликах цветомузыки. Несмотря на это, многие отчаянно лизали друг друга и даже срывали майки, чтоб вылизываться было удобнее. И кричали о каком-то нелепом внутреннем единении.
Из оцепенения меня вывел Ларри. Он вернулся и сообщил, что дозвонился до своего нового дружка, мальчишки лет шестнадцати, который типа подъедет, и мы рванем в гостиничный комплекс «Измайлово».
— Хватай на быстряках какое животное и рвем когти! — с трудом перекричал он музыку.
Я безропотно подчинился. И сообщил о заманчивом предложении раскуражиться вполную малолетней овце, которая мне до этого приглянулась. Она с радостью согласилась, даже почти и не рассмотрев меня. Впрочем, они за этим сюда и притаскиваются, эти шалавы.
Подчехлил дружок Ларри. Запрыгнули всей нашей разношерстной компанией в заранее заказанную тачку и поехали. Зажатый между малолетней овцой и мальчишкой, я подумал, какие стремачные люди опять оказались рядом со мной и зачем все это.
Да и ладно, верно? В конце концов если мы все и так находимся в помойной яме, то не фиг барахтаться, нужно смело опуститься на самое дно, может, там прикольно?
* * *
Хотя какой-никакой контакт с какими-нибудь людьми завсегда интересен. Началась заключительная фаза не самого мертвого дня. Чего и говорить, что ничем хорошим закончиться он и не мог. Если вы, конечно, понимаете, о чем я.
Меня все так же поражало ассорти нашей компании. Более-менее знакомый мне только Ларри. Как я замечаю, он стыдится засосов, как и все обычные люди. Потому прикрыл фиолетовые лепестки отворотами своей водолазки.
Вот и «Измайлово». Небольшой городок в Большом Городе. При известном количестве монет, которые есть у Лари от замминистра, весь мир здесь мурлычет и трется вам об ноги.
К большой радости малолетней шалавы, мы взяли большой двухкомнатный номерок люкс с гостиной. «Я уже была в таком у друзей», — сообщила она мне горделиво. А я подумал, что даже не спросил, как ее зовут. Как и мальчишку. Впрочем, какая разница.
Немного выпили. Потом совершили простенький ритуал разбредания по комнатам с целью несложного плотного столкновения с себе подобным.
После нашего вялого бесполезного совокупления с шалавой понял, что ошибся, и вместо расураженной тины вляпался в буквальном смысле этого слова в спящую полуфригидную царевнушку-дуралеюшку.
Через некоторое время собрались в гостиной. Мальчишка с овцой тут же подсели на алкашку и защебетали о ЕГЭ и находящихся по соседству их школах, в которых они неизбежно ботвились.
Пошел к Ларри, да он разговаривать один пес не хотел. Лишь попросил позвать к нему мальчишку.
— Эй, ты хочешь прикольной веселой любви? — спросил я мальчишку, почти как в фильме, вернувшись в гостиную.
— Ну да.
— Тогда иди обратно в ту комнату.
Было уже под утро. Делать нечего. Когда девка отказалась от следующей случки, я отправил ее за жратвой в китайское кафе на пару этажей ниже. Может, по пути заработает где на косметику…
Подошел к окну, посмотрел вниз. Там мелькали осколки ночной жизни. А в ней повсюду сотни и тысячи особей, маленьких воль, насекомых, порхающих по всему Большому Городу.
С двадцатых этажей в «Измайлово» смотреть одно удовольствие. Чувствуешь себя сродни птицам или хотя бы пингвинам и страусам, которые не совсем чтобы, но хоть какие-никакие, а крылья имеют. Чувствуешь всех своих предков до динозавров и последней инфузории.
В соседней комнате гнусно хрипели эти ублюдки, Ларри с мальчишкой. Большой Город был пропитан сексом, он дышал им, как рыба в воде, и если его отнять, они потеряют смысл прозябания.
Принесли и поставили китайскую еду. Не обращая внимания на неудобные пластиковые приборы, все набросились. Типа проголодались.
А потом грустно стало прегрустно. Так что Ларри меня даже спросил:
— Вот, блин, Северин, ты типа как в Академии Философии там учишься. Вот ответь, блин на… Че такое жизнь?
— Жизнь, — ответил я задумчиво. — Это затяжной прыжок с парашютом. Кто-то летит быстрее, кто-то медленнее, у кого-то стропы запутываются, у кого-то парашют не раскрывается. Но маршрут всегда один — из влагалища на кладбище.
Вот именно с этими словами дверь распахнулась. В комнату забежали три здоровых ублюдка и стали без колебаний наяривать нас по всем частям тела. Падая, я даже подумал, что кто-то очень раздражительный расслышал из-за двери мои слова, ротвейлеров этих запустил и теперь нашему затяжному прыжку уж точняк конец. Но ист. Вслед за ними в номер зашел тот самый замминистра коммерции, который вкладывал в Ларрино развитие денежку.
Живой, как по телеку.
А нас все продолжали бить так неслабо. И замминистра коммерции даже завопил о том, как он приревновал Ларри к нашей сначала такой веселой, а потом грустной компании.
Поорали, погасили и исчезли вместе с Ларри. Девчонка тоже выпорхнула подальше от заморочек.
Ларри я видел взрячую потом только один раз. И то при весьма странных обстоятельствах.
А пока остались вдвоем с мальчишкой, как побитые собаки. Как они нас могли вычислить — ума не приложу. Может, Ларри часто в этом корпусе останавливался? Или у них здесь палево, сливняки свои какие, а мы обозначились не в тему?
Мальчишка засуетился, оттелефонировал домой матери, нагнав ей о том, что всю ночь играл на компе в «Heroes» и «Quake» у приятелей. Ей вроде по барабану. Повернулся затем ко мне:
— Мне в школу пора. Я опаздываю.
Он жадно допил изо всех бокалов, и мы покинули номер. Я поплелся за ним, как завороженный. Слава ангелам, за все было заплачено. А на улице нас встретил новый денек, четко отдающий полной остановкой времени.
Мальчишка едет в свой школьняк. Нам не по пути… А я? Куда же я?.. Академия Философии! Я совсем и позабыл о ней. Пора было мягко планировать и начинать разбег заново.
Мне пришлось дать пацаненку монет на такси, пиво и сигареты. Я даже что-то недовольно пробурчал, типа не мог он, что ли, у богатенького Ларри их позаимствовать. Нет, не мог, оказывается у них «отношения».
А лучше, конечно, поменьше говорить о любви. Потому как это все равно некоторый внутренний энергетический запас того немногого хорошего, что еще прозябает у нас на задворках. Чем больше болтаешь о любви и делаешь человеку приятного, тем скорее все это иссякает. Поэтому, чтоб сохранить в себе хоть толику любви, надо быть молчаливым и делать подлости.
Гребет каждый дурак в лодке к загадочной цели. Сначала вроде драйв катит, а потом смотрит дурак и видит, что дыр в лодке не залатать и прибывает вода. Весла изъеты термитами, а лицо морщинами. Понимает, что грести совсем не стоило и в жизни появляются только пробоины. Может закричать дурак, да все без толку.
Над ним тьма и миллионы нарисованных им же богом.
И они злорадно смеются.
11
Наконец-то, Могила, я отправился и в Академию Философии. Это в центре. В начале Тверского бульвара памятник Пушкину, в середине Есенину, в конце — какому-то химику или ботанику. Где-то посередине — наше фуфло. Грязный покоцанный дворик, слева от дворика обменник, где я поменял баксята, справа турагентство. В центре, как я уже говорил, тоже памятник, Аристотелю. За ним трехэтажное желтое здание. В здании шебуршатся отборные особи. Иными словами — «чужие».
Мера питается временем, любовь — больным воображением, надежда — тягой к бессмертию. Что предстояло черпануть мне, оставалось непонятным.
В Академии встретили меня уж как следует. То есть обхаяли, а кудрявая маразмотина, курирующая наш факультет, долго визгливо интересовалась, где я шлялся пару недель, пока все активно впитывали бредятину. По ее мнению, нужно было незамедлительно запрыгивать в учебное стойло и заглатывать образовательное пойло вместе со всеми.
Чтобы обезопасить себя в плане пребывания в этих стенах, принято было вылизывать. Ректорату, деканату, преподам, друг другу, предметам, книгам, и, конечно, великим фигурам прошлого. Мне тут же намекнули, что для проформы я тоже могу кому-нибудь подлизнуть. В этом, понятно, был и определенный смысл. Те, у кого оказывались самые длинные языки и пухлые губы в конце месяца засвечивались в особом списке, вывешиваемом на стенде и сообщающем, кому сколько жалких копеек на карман кинулось. Короче, все было, как везде. Вранье сплошное и даун на дауне. И несмотря на то что все были как-то витиевато разбиты на факультеты по специализации, самими занятиями философией здесь и не пахло.
Мои однокурснички, ясен пес, тоже оказались один хлеще другого. Даже несмотря на то что иногда мы с ними по углам дворика покуривали гаш. Те же мажорчики, детишки ублюдков из многочисленных союзов, очкарики, откровенные психи и олигофрены — вот в какую компашку я вперся. Особо отвратительным поступком считалось, если ты не из Большого Города. В чем я, конечно, с ходу со своим Западно-Городским происхождением и провинился.
И вляпался в эту славную Академию по самые баклы.
С раннего утра унылыми группами обучающиеся тянулись навстречу прослушке нескольких часов бесполезной информации. Их грязные длинноволосые тыквы по пути заглатывали бутереброды, осыпая товарищей многозначительными репликами. Так они взбадривались, чтобы хоть как-то самооправдаться за свои ежедневные скорбные путешествия в желтое здание на Тверском бульваре.
Однако сдерживаться, чтоб сразу не поразбивать товарищам хлебала, было непросто. Это заведение мало чем отличалось от ПТУ советских времен — такие же сверхинтеллектуальные рожи. Преподаватели — еще хуже. Рассыпающиеся на крупинки старики с трудом находили дорогу в Академию, иногда даже забредали в другие учебные конторы и неслабо чепушили там. Впрочем, этого, кажется, никто и не замечал. И тем более не удивлялся.
Позиционировавшиеся на более старших курсах тоже борзели не по дням, а по часам и все более совершенствовались в болтологии и переливании из пустого в порожнее. Имя тоже с превеликим удовольствием вправил бы мозги.
Мне явно не везет на учение. Чего уж. Наверное, слишком молодой, глупый и мало духовных ценностей в этой жизненке насобирал в башкетничек.
«Не прет. Вот так не прет», — признавался я себе на лекциях и ежеминутно поглядывал на часы в ожидании перерыва. Ну, чтоб шляться куда пойти. Потребовалось совсем немного времени, чтоб вкурить: хоть десять лет здесь провисни, толку не будет никакого.
Болото… Ни посадочных мест, ни взлетной полосы, ни звезд, ни даже теории полетов. Все вязло и расплывалось в бесконечном безумии предметов, лекций, курсов и фраз.
Самые офонаревшие мои однокурснички подсаживались к лекторам поближе. И жадно впитывали измышления заскорузлого старичья. Типа не хотели ничего пропустить. Заглотив же порцию измышлений старичья они записывали шнягу текущими палочками в пухлые тетрадки. Некоторые притаскивались на занятия с диктофонами. Самые разумные — с видеокамерами. Все как один были безмозглы и уродливы. Ото всех терпко пахло потерянным временем.
Оголтело разглядывал я аудитории, не веря, что такое могло со мной произойти. Еще скоренько вычислил, что здесь, как и везде — все лаялись. Благо каждый олигофреныш наивно считал себя омфалом земли и уж как минимум поумней остальных. Вследствие этого опрометчиво выпячивал свое «Я» по полной программе и пытался навязать товарищам по вузовскому несчастью свои философские воззрения. Они дружно плавали в застоялой немецкой каше из Фейрбаха, Гегеля и Фихте, кто-то перся от греков и римлян, кто-то пыхтел о Мамардашвили.
Я в свою очередь поначалу ошибочно принял своих однокурсничков не за полных идиотов и открыто рассказал им о своей работке «Шоковое столкновение «Я» и «чужих» — единственно возможный путь продолжения существования». Они только потрещали. Эх, скоты! Ведь всегда радуешься знакомству с новыми людьми. Пока их толком не знаешь, надеешься на лучшее, а уж потом… Люди начинают гнить, когда знакомишься с ними поближе. Когда знаешь человека так себе, все что-то себе про него выдумываешь и надеешься, что вот он-то, наверное, не сволочь. А в итоге все напрасный иллюзняк-бесполезняк.
За глаза все здесь старательно вымазывали друг друга в светло-коричневом и приятно пахнущем. Видимо, под цвет здания.
Привыкнув, я тоже стал выпячивать свое «Я», прикидывался на лекциях умным и лицемерно повизгивал, поддакивая очередной лысине, тонущей в песках старости на кафедре. Став единым целым с нашей массой из пятидесяти клеток потеющих на лекции, осознал — надвигается конкретное опингвинение.
Вот болтают, движение. Непрерывное движение. А бежать было бессмысленно. Без толку.
Академия Философии представляла собой весьма странное заведение. Это был одновременно и пьяный корабль, и корабль уродов, и корабль дураков, что, конечно же, преобладало. На этом суденышке мы и гребли к непонятной, но, безусловно, нелепой цели. Что в нас пытались вдолбить на лекциях, тоже представлялось туманным. Типа литература, история, в основном, конечно, философия. И понятно, все — классика. Лучше бы уж мы каких придурочных авторов мониторили. Это сейчас модно, болтают. Ну, как в кино «Бойцовский клуб», «Человек дождя», «Форест Гамп» и все такое прочее.
Все начиналось с первой пары, с мягких разгонов лекторов, спившихся неудачников, и продолжалось до вечера, до глубокой темени, до самого конца.
В очередной раз я притащился в желтое здание и прикидывался, что слушаю полтора часа херни очередного придурка. Я уже научился притворяться покладистым очень искусно и тоже делал вид, что ничего не хочу пропустить. В нормальном состоянии я туда почти никогда и не приходил. К середине лекции я начинал обычно вежливо вякать:
— Что такое абсурдистическая конкретность?
— Поясните, пожалуйста, трансцендентальную сущность безумия.
Преподы закатывали глаза и погружались в глубины. Иногда я им откровенно хамил, портя себе репутацию.
Надо признаться, с первых дней, как я начал посещать эту замечательную Академию, я засомневался в правильности своего выбора. Преподаватели хотели выбить из меня остатки брэйна любой ценой.
Почти сразу я стал стабильно тусклым, мрачным, озлобленным и постоянно не в себе. «Кретин, — говорил я себе. — Куда же тебя принесло? Нет у тебя пунктирчиков в башкарусе даже на децелок. Лучше б в Северный Город на транзитняк за Олегом мотканул». Я вздыхал, перебирал на столе обрывки, на которых я притворялся, что пишу лекции, и раздумывал о своем неадекватном поступке. Может, еще не поздно со всеми в Северный Город? Или Южную Америку? Или Антарктиду?
На уроках я даже зажмуривал глаза и проверял, не снится ли мне все это. Нет, бредятина была вполне реальной.
Один молодой препод, правда, оказался ничего. Как и все, он вошел в аудиторию, сжимая в руках свои книги и рукописи. Внимательно оглядел первые ряды старательных олигофренов, пробормотал какие-то ругательства и одобрительно кивнул в сторону задних парт, где и я привычно расположился. В это время вместе с двумя малолетними тинками мы активно обсуждали теорию и практику выдающегося общественного деятеля прошлого Герострата. Кажется, препод что-то расслышал.
После этого парень вкрадчиво пояснил, что считает всех присутствующих крайними эстетическими дилетантами. Оказывается, он идейный мизантроп и даже Цезаря Борджиа с Калигулой считает очень мягкими и деликатными по отношению к людям.
— Как известно, человек — это единственное в мире животное, которое имеет мягкую мочку уха и убивает себе подобных.
В этом, конечно, он ничего нового не открыл. А дальше спросил, что, в сущности, мы здесь пытаемся делать и творить в этой гребаной, по его словам, Академии Философии. И смысл прозябания, по нашему мнению, мол, в чем.
— Кто скажет, почему заниматься философией абсолютно бесполезно? — спросил он выжидающе глядя на очкастых прыщавых девок, как всегда сидящих впереди с диктофонами и видеокамерами.
Ясно, я тут же решил подмазаться.
— Я! Я все знаю и могу объяснить! — закричал решительно со своего места, с трудом себя контролируя.
— Давай, — обрадовался он.
— Потому что ты живешь-живешь, ходишь-бродишь, учишься-учишься, ищешь эту несуществующую истину, ищешь, а потом приходит человек с автоматом и объясняет тебе, как жить правильно надо среди «чужих» этих особей. А вот пингвины в Антарктиде девственно белой…
— Тише! Хватит! Замолчи! — он перепугался не на шутку, вскочил со своего места и замахал руками. — Все это крайне сомнительно… Зайди ко мне на кафедру после семинара…
Ладно, согласно кивнул. Одновременно приготовившись к нехорошему, конечно.
А он, желая шифрануться, так под конец закрутил:
— Чтобы, собственно, осмысливать бытие, требуется сперва отвести взгляд от этого самого бытия. Насколько оно, бытие, как во всей метафизике, проясняется только из сущего и ради него. Бытие как основание? Но осмысливать бытие — значит распроститься с бытием как основанием сущего ради потаенного играющего в своей открытости Места, то есть имеет место, которое каким-либо образом имеется. Бытие как имеющееся этого имеет место и принадлежит к имению. Бытие как имение не вытолкнуто из места. Бытие, присутствие изменяется. Как впускание пространства оно принадлежит к открытию потаенного, остается как его местосодержащимся в имении места. Бытие не есть. Бытие имеет место как выход присутствия из потаенности. Время Настоящее также означает присутствие. Время — единство настоящего, прошедшего и будущего представляют исходя из Теперь. Но есть ли вообще Время? Где же Время? Имеет ли оно место? Если нет человека нет и времени. Время то уж явно не ничто. Эй, вы, надеюсь, я внятно все это произнес? Все понятно? — спросил он, грозно нависая над аудиторией.
Прыщи и очки охотно и трусливо закивали.
Разматывал мыслительные цепочки он несомненно неплохо. И, к его чести, принимал особей за тех, кем они были на самом деле. Поэтому этот молодой препод мне сразу и понравился. После семинара он заговорщицки кивнул мне, и я вышел за ним. Пройдя по короткому коридору, мы завернули на кафедру общественных наук. По пути я еще успел подумать про завуалированную им в лекции надежду на полное отсутствие Времени.
Он тщательно закрыл дверь кафедры на замок. Жду, что дальше? Привычным движением он отпер маленьким ключиком ящик своего стола и достал запечатанную пачку окситибурата натрия. Понятно — наркотик для бедных. Видимо, перепадает ему здесь на карман не шибко. Я когда-то на совсем подростковых закидонах темяшился по этому стаффу. Надо признаться, хардовый такой драг и загрузочный. Кстати, я присек у него еще несколько запечатанных пачек в ящике.
Не говоря ничего, он вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул.
Он разбил по две ампулки и выплеснул содержимое в пару приготовленных заранее пластмассовых стаканчиков. Один протянул мне.
Хватаю. Пьем стафф. Запиваем «Айрн Брю».
После столь полезного поступка мы долго, минут пятнадцать курили, ожидая пока хоть немного начнет наступать отсутствие Времени и надвинется конкретность Бытия в этом конкретном месте и к тому же безусловно только Теперь. Ну, согласно его лекции.
Помялся и говорит.
— Вот что, парень. Конечно, во-первых, ты безусловно прав. То, чем мы здесь дышим, — полная херня и бред. И вообще не только здесь, а везде и повсюду в мире. Все вокруг — одна гигантская мистификация. Поэтому точно тебе говорю: будь крайне осторожен со всеми… Как ты их назвал? «Чужие»! Меткая формулировка! А здесь в Академии — будь более осторожен в десять тысяч раз. Если будешь вякать — ласты скинешь ни за грош. Лучше заткнись и помалкивай. У большинства в голове нет извилин, у тех, кому я сейчас типа начитывал лекцию — максимум одна. У тебя, по всей видимости, больше. Это очень плохо. Здесь особо ценятся породистые обезьяны и пеликаны с набитым клювом. Ты пеликанов видел? В зоопарке бывал?
— Бывал, — на меня тут же нахлынули смутные воспоминания о моем последнем туда праздничном визите.
— Ну вот видишь, — оживился он. — Веди себя, как в зоопарке. Так как ты типа изучаешь философию как бы…
Без труда сможешь представить себя в клетке, а вокруг — они. Как ты там говорил? «Чужие»! Меткая, меткая формулировка! Так как Пространство имеет Место…
— Обойдемся без софистики, — срезал я.
— Да, да… Так на чем я остановился? Ага… Здесь в Академии и есть квинтэссенция всей мистификации и самая большая каша обмана. Надо всем этим бредом величественно сияет Директорат Академии. Вот мрази! — здесь он сплюнул на пол. — И все здесь подчинено их философской идее.
— Какова идея? — поинтересовался я.
— Имитационизм, — настороженно произнес он сквозь сжатые зубы. — Понимаешь о чем я? Кстати, как? Торкнуло?
В знак благодарности я заболтал мордой.
— Так что, повторяюсь, помалкивай. И будь предельно осторожен. Лучше делай вид, что ты вообще бестолковый на глушняк. Здесь это очень ценится. Я сам по ранней молодости на иллюзняках колготился весьма долго. А как все понял… Это и есть самая большая проблема: есть «Я», — он нерешительно потыкал себя в грудь. — А есть шесть миллиардов… Как ты их обозначил? «Чужие»! Вот что мне не дает покоя. Вот из-за чего я уже два месяца на этой устаревшей дешевой химии, окситибурате натрия… Впрочем, дешево и неплохо. Сбивает планку тяжело и наглухо, а затем выходишь с кафедры и начитываешь этим придуркам всякую чепухень. Поверь, им абсолютно плевать, что и слушать-то. Настолько они тупы. «Чужие»! Я вчера на вечернем приходе скомпилировал монографию из речей Гитлера, Геббельса и Риббентропа, подвел под это кое-какую сомнительную философскую базу еще жестче. Если хочешь, пойдем со мной сейчас на следующую пару на четвертый курс. Посидишь, послушаешь, за ними понаблюдаешь. Я выдам сейчас им эту компиляцию за Монтеня, за Монтеня, прикидываешь?
С тоской глядя в окно, я прикинул.
— Повторюсь, но им действительно все равно, что слушать. Они будут удивляться, восторгаться, уважительно сыпать комментариями. У них никогда не возникнет никаких вопросов по существу. Только по внешней форме. Они даже дружно прокомментируют мою компиляцию — типа какой этот, по их мнению, Монтень хороший и правильный. Вот увидишь, они все схавают. Сколько над ними ни глумись, все одно будут молчать. Кстати, таким образом я заодно опять же отдам дань философии нашего Директора — имитационизму.
Пока он говорил, я смотрел за окно на Тверской бульвар и думал, что когда-нибудь, когда мой кумполочек неразумный зашкалит окончательно, я пойду на Тверской бульварчик и наведу там порядок, разобравшись хоть с несколькими особями. Между тем мой собеседник начал дергать себя за самую мягкую мочку уха, наверное, уже ощущая тем самым единственным животным. Конечно, главное, чтоб он сейчас не захотел прикончить себе подобного. Чтобы переключить его внимание, я в красках рассказал ему о своей работе «Шоковое столкновение «Я» и «чужих» — единственно возможный путь продолжения существования».
— О! Это абсолютно верно! — порадовался он. — Сам до этого додумался или подсказал кто? Молодец! Но это лишь статья, и на ее базе надо разрабатывать большую работу.
Я скромно потупился.
— И все же будь осторожней! А лучше уезжай как можно дальше! Удивительно, что ты здесь, Северин. Впрочем, ты, видимо, не в себе. Уезжай в поселок Солнечное Далёко, в Африку, в свою девственно белую Антарктиду! И все. Пока. Удачи тебе и сказочного счастья в личной жизни. А мне надо на лекцию!
И убежал впопыхах.
Я даже не нашелся что ответить. Зато скрысятил десяток ампул окситибурата натрия из ящика стола. Похоже, эта речь была у него отрепетирована для таких, как я. Наконец-то мне все объяснили за Академию. Правда, подобную речь я как-то уже слышал от Эра. На этот раз от неприятностей меня спас окситибурат. А что? Лучше уж глотать, подавиться, захлебнуться, расплыться, перевоплотиться в пингвина или нефа.
Раз так, куда же дальше ехать-то? Неужели взаправдняк в Южную Америку, пока баксятки в наличмане лучезарятся? Такова жизнь, такова жизнь, болтают. А все равно пытаешься, пытаешься быть человеком, а ни черта не получается. Ждешь все чего-то по дурости. Надеешься. А в итоге стареешь только да морщинишься.
А потом заворачиваешься в белую простыню и зарываешься поглубже в землю вместе с цветами, досками и червяками. Лежишь себе и слушаешь, как радуются остальные особи и скорей-скорей зарывают тебя землей. Хоть жри ты эту землю — выбраться уже невозможно. А славная эра существования наверху все продолжается.
* * *
Директор Академии действительно оказался весьма интересным человеком. Как-то раз его редкие усики собрали всех в актовом зале. Причем тех, кто в отличие от этого уважаемого господина имел несчастье родиться не в Большом Городе. Под усиками распахнулась щель и оттуда полилось:
— Можете от меня не скрывать — все знаю! Думаете я не знаю, зачем вы прискотинились в Большой Город, проходимцы? Ан нет! Я в отличие от вас всю жизнь свою прожил в Большом Городе и ничего хорошего от приезжих не видел. Понаехали тут, понимаешь. Кого смогу — поганой метлой повыметаю из Академии. Да здравствует Министр городского Процветания! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! — воодушевленный своей выходкой он разве что волчком не завертелся вокруг собственной оси.
Директора частенько можно было улицезреть слоняющимся без всякого дела по дворику Академии Философии. Иногда он смотрел в небо, сплевывал и нервно хихикал. Знающие старшекурснички пояснили, что таким образом он размышляет. Большей частью о своей наимудрейшей философии — имитационизме. Философ он, говорят, был презначительный.
Однако когда я вперся в его теорию по полной, я смикитил, что его имитационизм — откровенно идиотское течение. К тому же понимал его только он сам. Имитация жизни, имитация философии, имитация творческого процесса, имитация мыслей. Короче, имитация всего и вся. Как я ни старался, так-таки и не въехал в его имитационные находки. Фамилия Директора была древняя и почти что дворянская — Смердяев. Набив себе руку и поднаторев в теории имитационизма, он решил на практике опробировать свои имитационные находки. Как-то, ангажированный собственным старческим тщеславием, он додумался до по-настоящему гениальной выходки. Он ловко осознал похожесть своего имени Николай Смердяев с именем мыслителя Николая Бердяева. Вот на кого он осмелился замахнуться. Смердяев стал просто выставлять свои книги на продажу рядом с трудами Николая Бердяева. Нашлись и простаки! Некоторые неискушенные читатели, перепутав книги, покупали его ошеломительный четырехтомный труд «Имитационизм и имитаторы». Но рано он радовался! Попавшиеся на удочку матерились, выбрасывали и сжигали произведения мыслителя. А оставшиеся экземпляры пылились в магазинах. Эти глобальные произведения столпа мировой философии.
Как это водится, чувствуя себя немереной крутью в плане духовного менеджмента, Смердяев устраивал хождения в народ. Как-то на отходах и в депрессняках я забрел в книжный магазин. Тот центровой шоп на Новом Набате. Первое, что мог углядеть уважаемый посетитель, была улыбающаяся хлеборезина Смердяева, торчащая среди пыльной груды его собственных произведений. Ладно, все ничего. Вроде бы и достойный поступок это был со стороны нашего Директора. Над Смердяевым даже возвышался плакат со вполне рядовой надписью: «Купите мою книгу!». То был даже не плакат, а вопль в атмосфере быдляцкого непонимания. Да вот только обходили все его коммерческое обиталище стороной, рожи корчили и ехидничали. Но, к чести Смердяева, гордость он имел неслабую и еще тщательней протирал тряпочкой ценники под своими монументальными произведениями. И уж, конечно, слушателям Академии Философии втройне было обидно наблюдать сие нелицеприятное зрелище, в главной роли которого был задействован наш прелюбимейший Директор. И понимаете, ведь именно под его чутким руководством мы должны были стать интеллектуальной элитой России. А так как широко известно, что наша страна самая духовная, мы уж наверняка будущая элита всего мира. В этом сомнений не было. По крайней мере у тех, кто приходил на лекции с диктофонами и видеокамерами. Они даже Директору уважительное прозвище выдумали. Алмазное Крыло Русской Философии. Ни больше и ни меньше.
Как я уже затирал, наш руководитель проверял свой имитационим на практике. В итоге он почти превратил Академию Философии в свою мечту, то есть в откровенно заурядное шлифовально-обтесывальное ПТУ.
«Здесь вам не хухры-мухры! Здесь серьезная штука. Правда, меня еще не до конца посетило сатори, какая, но филологическое учреждение уж наверняка», — повторял Директор, выбивая из слушателей все, что не имело отношения к его философии. Человек он был странный, но дальновидный.
Благодаря спецкурсу по имитационизму и больному воображению Директора, я, как и все слушатели Академии Философии, познал самые глубины смердяевской теории. Оказывается, даже в космосе есть подтверждения имитационизма. Луна — яркий представитель имитационизма в космосе. Ну, типа имитатор Солнца. Он хвалился, что очень уж любит читать Сократа перед сном, а еще очень ему импонируют импрессионистские картины Бетховена. Понятно, имитационизм — все. В общем, он, конечно, был прав. Но ошибочен был по сути. Он поведал на лекции, что его любимым животным в природе является сорока-воровка. Так же как сорока-воровка таскает у людишек блестящие предметы, так и Николай Смердяев отважно выхватывает самые яркие жемчужины из культурного наследия человечества.
Кстати, прикольно, что секс он тоже имитировал. Не один раз, озабоченный обыденной физиологической потребностью, подбегал я к уборной Академии. Рядом ошивалась группка наших даунов студиков и боязливо перешептывалась: «Тихо. Туда нельзя. Там Директор. Как всегда… Имитирует…». Из-за двери доносились непонятные, но громкие хрипы. Что ж, познавать имитационные премудрости тяжеловато.
Накупавшись в лучах своей немереной славы до отвала, Директор возалкал подключить к своим имитациям и некоторые политические круги. Видимо, как и многим, ему по ночам являлась в тоскливых видениях приятная ксива с буквами ГД. Он, наверное, понимал, что гад из него весьма неплохой. И желал подтвердить свой статус официально. Но хотел не в Государственную Думу, а в Городскую Думу Большого города. Все же просекал, что хоть ГаД из него первостатейный, но на общефедеральный уровень его достоинств все же маловато. А вот на отдельный Большой Город потянет. К сожалению, претендентов на столь почетные места оказалось предостаточно. Словом, не выгорело. Нашлись кандидаты и подостойней.
Хотя вполне возможно, что мир — это воплощение скатологии, науки, которой активно занимаются философы с наиболее передовыми воззрениями.
* * *
В большую перемену обреченно выстоял очередь за той дешевой отравой, которой нас пичкали в столовой. Ладно, глотаю гниль, иду шляться. От хавки опять какие-то пунктирчики в кумполе шторканулись.
Ведь и на улицах Большого Города можно чувствовать себя как среди рек и озер, горных вершин и пастбищ. Правда, вокруг особи и с их внешним фасадом респектабельности. Каждый бредет и спотыкается, чтобы чуть позже упасть в темень. Когда с циферблата скользнет очередной лепесток.
Я машинально забрел на продуктовый рынок рядом с Академией. За длинными рядами полно недалеких мелких коммерков. Кричат… Зазывают… Размахивают зеленой растительностью и кровавыми мясными кусками. Разнообразные кости, свиные головы, сомнительные тушки с надетыми на них многолетними лапками кроликов. Потенциальные покупатели метались меж рядов в поисках наиболее дешевой и привлекательной мертвечины.
«Печень! Сердце! Почки! Ребра! Рульки! Языки! Хвосты!» — неслось со всех сторон. Все выставленное на продажу кровоточило, дымилось и даже вроде вздыхало.
Че лукать в напрасняк? Засунулся в шоп. Вроде как фишевый шоп. Типа рыбный. Но здесь, в отличие от рынка, понятно, в цивильняк, а светлые халаты сэйлсвуменов кое-где еще сохраняли присутствие белого цвета. В шопе аквариумы повсюду, в них рыбы, раки морские и омары. Вроде как кусочек мирового океана. А может, это кусочек Атлантиды или морского Эльдорадо. Но уж морская флора и фауна была представлена здесь весьма достойно.
За гигантскими стеклянными стенами я видел морскую жизнь. А может, это не шоп, а филиал какой гринписовый? И я ошибаюсь, как всегда? А здесь рыбешка типа как для сэйва какого милосердного?
Напротив каждой стеклянной коробочки были ценники. Может, это для того, чтоб каждый желающий мог внести свою лепту в борьбу «зеленых» товарищей? Типа выкупить рыбку и спасти ее от жестокой гибели? Но также на витринах лежали и мертвые рыбы, так и не дождавшиеся момента свободы. Как ни странно, их тоже продавали. Вокруг ветвились домохозяйки, налетевшие на чужую беду, и вычисляли, какую мертвую рыбину повыгодней отхватить. Видимо, они жрали не только себе подобных.
Прямо передо мной передвигалась старая рухлядь даже уже, пожалуй, запреклонного возраста. Она с трудом передвигала нижние лапы, опираясь на специальную палочку. У нее что-то текло изо рта. Густое и мутное. Наверное, это отваливались ее собственные куски. Она с невероятной легкостью подхватывала свою субстанцию и заглатывала обратно внутрь. Понятно, не хотела разложиться на молекулы.
— Бедные рыбки! Бедные рыбки! — скрипела старушенция, разглядывая громадных рыб в центровом аквариуме. — Бедные рыбки! — и полезла в сумку за монетами.
— Налетай, хватай, разбирай! Свежий фиш! Еще почти что живой! — орал продавец, размахивая бьющейся в его руках рыбиной. Я, конечно, хотел вступиться за рыбку, но бабка меня обскакала. Я даже засимпатизировал ей мал-мал.
— Бедные рыбки! Бедные рыбки! — все повторяла она, потягивая деньги и не забывая слизывать ржавым отростком и губами вытекающую из нее субстанцию.
Продавец очень обрадовался, что бабулька выбрала именно его отдельчик и быстрехонько положил тройку рыбок на весы. Типа как взвешивал. А я тоже порадовался, но не из-за солидарности с продавцом, а потому что принял бабульку не за рядовую особь. А типа навыдумывал себе, де она хочет акт какой милосердия проявить и спасти в силу своих скромных возможностей немного живых существ.
— Свежак! Еще дышит! Вот запируете так запируете! А может, даже заливное смастерите! Завидую! — продолжал унижаться и радоваться продавец.
Мне, ясен пень, не понравился тон его предположений и пожеланий. Я собрался поставить особь на место, но здесь стряслось непредвиденное.
Рыбы были действительно еще почти что живые. И в последнем дерзком порыве встрепенулись, безнадежно надеясь обнаружить путь в свои реки и моря. Одна из них брякнулась под прилавок, а другая упала рядом с весами. Их мучитель мгновенно сбросил благодушную маску, схватил нож и бросился догонять божью тварь, чтоб объяснить ей, как надо правильно лежать на весах.
А старая порастерялась.
— Бедные рыбки… Бедные рыбки… — продолжала лопотать она, но поняв, на что осмелились приобретаемые ею существа, тоже разозлилась. Она сжала верхнюю лапу в кулак и с мощью, на которую была способна, обрушилась на голову второй рыбины, упавшей рядом с весами.
— Бедные рыбки! Бедные рыбки! — хрипела бабка, нанося один за другим сокрушительные удары.
Совместными усилиями они справились с рыбным мятежом и узаконили свой союз, расплатившись. После завершения этого обряда счастливая покупательница вывалилась из магазина. От сладкого ощущения победы жидкость изо рта закапала еще чаще.
Я даже представил, как она доковыляет счастливая домой и, продолжая сетовать, вспорет существам животы. Обжарит их нежные спинки, чтоб они покрылись суровой оранжевой корочкой. Плюхнется в кресло перед ящиком и воткнется искусственной челюстью в хрустящие кости убитых существ. Жевать будет, шамкать и слушать по ящику, как посеять доброе, разумное, вечное.
Да, надо признаться, крышак потек у меня совсем уже не по-детски. Живу как дурак и удивляюсь всяческой чепухени. Эх, лучше научиться ничему не удивляться. И думать просто в категории Ничего. И философский памфлет Джонатана Свифта перечитать. Ну, например, самый известный «Люди — сволочи, во все времена». Если, конечно, вы понимаете, о чем я.
Ладно, черт с ним. Пошел в скверик на Пушкинской площади и на лавку чмякнулся, переваривая увиденную в рыбном шопе драматургию. Погода была приятная, солнечная, я даже вскочил и стал искать свое место под солнцем по всему скверу. Где же оно? На первый взгляд мест было предостаточно. Но не тут-то было! Я пробовал садиться на лавочки, вставать возле деревьев, мастерить умное выраженьице своего таблоида около «Маклака»… Долго искал, но удовлетворенности в успешности моего поиска все не было. Я даже приседал, подпрыгивал, подставлял лицо под солнечные лучи. Где же оно? Где мое местечко под солнцем?
Само же солнце смеялось и светило весело и непринужденно. Особи щурились, тачки переливались. Во все вокруг стремительно били солнечные лучи. Тук-тук, во время. Тук-тук, в никуда.
Здесь снова в голове перещелканулось.
Стало очевидно — весь город стоял на коленях. И место под солнцем найти возможности не представлялось.
И так отчетливо все понял, что почувствовал — даже подниматься с лавки не имеет смысла. Где сижу, там и буду ожидать хоть каких-нибудь изменений. Чего, я терпеливый.
Но тут я просек, что кое-что в композиции Пушкинской площади все-таки поменялось. А конкретней — появился расчудеснейший домик. Прямо на газоне ближе к Бронной. Я аж в осадок выпал, ведь когда я перекатывался к рынку домика, этого еще не было. Вернее, даже не домика, а кабинки красивой разноцветной такой. На двери кабинки были нарисованы схематичные изображения Адама и Евы. Ну, типа мэн с вуменом. А наверху типа надпись, что это место для выпрастывания из себя отработанных жидких и твердых веществ. Электронный туалет типа экспериментальный. Но не бесплатный. Сбоку была специальная щель, такая же как у игровых аппаратов, только поменьше. Всего за половинку гринка можно была испражняться сколько душе угодно. В большинстве своем граждане смотрели на избушку заинтересованно, но тем не менее обходили ее стороной. Изредка самые отважные лихо забрасывали в щель домика монеты. Тогда распахивалась дверца, и можно было смело заходить, ощущая себя полноценным обитателем Пушкинской площади хоть на какое-то время. Дверь автоматически захлопывалась, и уже без свидетелей наслаждайся блестящей и дымящейся фабулой составной своей жизни. Как было заметно при открытой двери, внутри висели ломтики скатерти-самобранки, которые разрешалось смело использовать. Вдобавок каждый заходящий счастливчик ошарашенно слышал нежный девичий голосок, мягко, но громогласно диктующий инструкции со стороны сливного бачка.
— Повернитесь, пожалуйста, к двери передом, а ко мне задом. Готовы? Show must go on!
После этого там происходило нечто увлекательное. Из избушки доносились разные звуки, постанывания и шелест сминаемой скатерти-самобранки.
А я все тупо сидел на лавке, наблюдая. Теперь какое-то время никто не решался обрести телесный покой, но затем вдоль приветливого домика мелькнула какая-то тень, показавшаяся мне знакомой.
Несколько минут счастливчик наслаждался комфортом, одиночеством и метал икру вполне спокойно. И, ясное дело, окончив мероприятие, вознамерился выбраться. Не тут-то было! Попался он, как рыбка наивная на блесну.
Сперва он подергивал дверку весьма неуверенно. Потом, видимо, вернулся и воспользовался услугами заведения уже забесплатно. Затем уже, конкретно заволновавшись, стал дубасить в закрытый панцирь ловушки почем зря.
А чего особям еще надо? Обрадованные, они сбежались со всей Пушкинской площади. Самые любопытные даже побросали подносы со жратвой и повыскакивали из «Макдака». Особи обступили избушку со всех сторон и стали давать счастливцу различные магические советы, как помудрей перебороть колдовские чары коварного домика. Попавшийся тем временем вопил на всю площадь. Приятного в своем заключении он находил весьма мало.
— Спасите-помогите! Откройте скорей! Выпустите меня отсюда!
Кабинка раскачивалась из стороны в сторону. Посыпались искры, пошел незабываемый запах свежедымящейся фабулы составной жизни. Угомониться попавшийся явно не хотел.
Из своей камеры он повторял волшебные заклинания, которые сквозь рев и гогот подсказывали ему со всех сторон ротозеи.
— Н20! Sin2a + cos2a = 1! H2S04! Истина в вине, истина в дерьме! Tabula rusa! Либо со щитом, либо на щите! А где же моя большая ложка?
Кабинка раскачивалась так конкретно, что я даже подумал, типа сейчас у избушки вырастут курьи ножки или на крайняк окорочка Буша и отвезут чародея в тридесятое царство. А может, избушка полетит, и какой-никакой полет состоится. Попавшийся все продолжал дубасить во все стороны, попутно не забывая колдовать:
— Сезам, откройся! Сезам, откройся!
Это была снова не та формула, а довольных разбойников было далеко за сорок. Однако, если так получилось, можно немало сокровищ в пещере надыбать. Раз уж так вышло, теряться не следовало.
Но попавшийся все ждал, ждал помощи. И помощь пришла. Наконец-то приехали парни в спецодежде из 911, которые могли справиться с хаусом запросто. Они-то его сразу обнадежили:
— Не волнуйтесь и сохраняйте спокойствие! Сколько бы временных отрезков вы там ни просидели — все бесплатно! Пользуйтесь моментом и наслаждайтесь. Пользуйтесь услугами фри! Берите бумаги фри! Все — фри!
Попавшийся же не понял столь доброжелательного отношения к своей персоне и продолжал вопить пуще прежнего.
Парни тоже просекли, что разговаривать с ним по-доброму уже по позднякам. Поэтому стали обещать, что, мол, скоро подъедут спецтехники компании и вызволят бедолагу из столь необычного заключения.
— Вытащите меня наконец! В суд! Сразу в суд!
Вот как он осмелел, пес. Парням это явно не понравилось.
— Что он там гонит? В суд? Пусть и живет теперь там!
— Нет! Я пошутил… Согласен на все… Помогите!
Но стучать во все стороны он продолжал. Я даже подумал, что если он будет продолжать в том же плане, то вскорости избушенция чебурахнется набок и станет как ковер-самолет.
А сколько ж все-таки впечатлений за полбакса он черпанул! Хоть какое-то по жизни развлекалово.
В акустической системе чудо-сортира что-то прещелкнулось, и из динамиков полилось:
— Налево пойдешь — мозги потеряешь! Направо — все свои сто четыре головы!
Для меня же получилось типа как променял свои столь познавательные лекции на хлеб — рыбный шоп — и зрелище в плане избушки. Наконец, подъехала и техническая группа компании. Провозившись минут сорок, они все же взломали вход в пещеру, применив секретные, известные только им коды.
Наблюдающие загудели, засмеялись даже, посыпали оживленными приветствиями, поздравлениями и комментариями, под которые освобожденная особь вырвалась из чудо-сортира.
И вот так номерок! Оказывается, это был наш Директор! Весь измочаленный, изнуренный, но тем не менее, видимо, безмерно довольный своим героическим поведением во время заключения. Видимо, не дойдя до стен Академии, он и попал в домик. Теперь же скорей-скорей поспешил в альма-матер.
И как получается, Директор в очередной раз пытался применить свое блестящее философское течение имитационизм на практике. В данном случае неудачно. Как всегда, он все сделал через жопу. И в прямом, и в переносном смысле. Но ничего. Ведь по крайней мере он попытался.
Я же отвалил к химерам в противоположную сторону, а в Академию Философии более не вернулся. Мы столкнулись с мировой философией лоб в лоб, напрямую, и отлетели друг от друга, как шарики для пинг-понга.
Видать, Могила меня направила немного не туда, надо корректировать курс и выходить на верный фарватер.
12
Оптимизм, романтика и прочая лабудень не могут подпитывать тебя постоянно. У меня остатки положительных эмоций стали улетучиваться вместе с остатками баксяток. Таяли они прямо пропорционально движению последних. Все же в чем, в чем, а вот за монеты мне Ларри верно башкетничек компостировал. Пора было начинать сшибать монеты хоть с кого-нибудь. А пока для начала я перестал жрать по дорогим кабакам. «Редкие блюда — редкие болезни», — так я себя успокаивал. И даже начал сам себе готовить жратву. Можете представить, какой она была расприятной на вкус…
Вот тогда мне и замечталось в очередной раз плотно схлестнуться с какой-нибудь шалаверцией, на которую к тому же можно было до упора вывалить свои горести. Да, давно пора развернуть хищническую женскую психологию: что взять, что отнять, на что развести. Здесь, ясен пень, меня бы хрен околпачили.
Дело, однако, оказалось раз плюнуть и растереть. Богатых клавенок для потрошения в плане баков было вагон и маленькая тележка.
В паутине ночничков и я отхватил очередную порцию счастья в лице маразмотки приемлемой симпатяшности. Пару раз прокэшировал заходы по клубешничкам, а потом деликатно намекнул, мол, она при своей респектабельности вполне может проспонсировать и сама наш совместный жизненный трип. Но по-настоящему мы сблизились, когда солидарно открыли для себя триппачок. Теперь мы уже не колготились по раскуражным местам, а торчали у нее дома, проводя время в спорах, кто кого заразил, а также в обсуждении лекарств, микстур и курсов лечения.
Я-то в принципе был весьма доволен новой спокойной жизнью. А ее наше нехитрое заболевание сильно огорчало. Кстати, звали ее Лали. Это типа насмотревшись какого-то молодежного телесериала, она себе такое новое имя в паспортняк задвинула. Я не шучу. Она действительно выправила себе такие документы. Что ж, за монетки уж все реально. Каждый дрочит, как он хочет.
Меня все устраивало. Во-первых, она жила одна. А во-вторых, ясен пес, с монетами у нее было все ОК по тематике. Это ей папашка; большой человек из префектуры ЦАО, отстегивал. Я, конечно, с радостью помогал Лали их тратить. А избавившись от материальных затруднений, продолжил учебные занятия самостоятельно. И конкретно погрузился в исследование творчества такого знакового греческого общественного деятеля, как Герострат. Там, на уютной квартирке Лали, я мучительно размышлял, почему же Герострат взорвал только храм в Эфесе и не нашел в себе мужества покончить затем со всеми остальными чудесами света. Были ведь времена! Не переводились тогда богатыри на земле греческой. По сильным зашторкам я активно посвящал Лали в некоторые свои жизненные позиции. Почему-то ее эти мои позиции сильно огорчали.
Слава ангелам, квартирка Лали была довольно обширная. Чаще всего я бродил из комнаты в комнату, где-то в итоге притыкался и размышлял, почему же все ИМЕННО ТАК получилось. Но ведь всегда необходимо с кем-нибудь общаться и спать. А так как ловить было особенно нечего, это был не самый худший вариант. На безрыбье и она могла встать раком. Тинушечку отсатисфачить — дело нехитрое.
Вечером она традиционно впихивала себя в кресло и залукивала по ящику миллионную серию какого-нибудь телесериала. Смотрела она все подряд, иногда мне казалось, что ей и по фигу, что там сейчас мониторится. Если ее рот не был раскрыт в удивлении от показываемого, то, значит, набит съестным. Иногда, потрясенная очередными благородными и возвышенными выходками представителей Нового Света, Лали вскакивала и бежала на кухню, чтоб набрать очередных эклеров и йогуртов, которые для нее активно рекламировали.
— Расскажешь мне, что там! — умоляла она, мчась за очередной дозой сладостей.
Я смотрел в окно, думал о своем. Вполне реально, что мир — это воплощение какофонии, а особи в нем пытаются играть на шести миллиардах расстроенных музыкальных инструментов, а получается тафтология абсолютных случайностей.
Общение с тинсами — словно громадный жизненный лабиринт. Бредешь по лабиринту, а впереди сто двадцать шесть закрытых комнат. Открываешь дверцу, и тут же девка говорит тебе ласково: «Иди сюда». Веришь как дурак, идешь, а позже все расплывается, «Я» фокусируется, и видишь, что это просто такой же «чужой», как и все остальные. Тогда вырываешься и бредешь дальше. Открываешь с шумом и трепетом следующую дверь, а там снова: «Иди сюда…» Со временем привыкаешь, конечно, и уже знаешь, что врать.
— Мерзавка! Скотина! Снова нагадила! — прерывает мои мысли Лали. Так она общается со своей кошкой. В отместку она бьет кошку, выворачивает лапы, дергает за хвост. А может, она так играет?
— Правильно, вмажь! Научи ее уму-разуму! А лучше убей ее, — советую я от души. Беру книги, тетради и иду в другую комнату, чтобы спрятаться и не слышать душераздирающего кошачьего визга.
Что ни говори, а я пытался относиться к Лали хорошо. Но для того чтоб нашпиговать ее своими гнилыми изначально комплиментами, мне каждый день приходилось юзать драгз. Хотя вообще люди делятся на две категории: тех, кто на драгз глаз кладет, и тех, кто синюю педаль давит. Ну и, понятно, есть еще исключения — живые трупы и нищие духом, которых ни на наркоту, ни даже на синево не прошибает. Говорят, еще встречаются такие юродивые, конченые особи. Мне же в данный период жизненного прозябания почти удалось убить сразу двух зайцев.
— Что сейчас читаешь? — спрашивает Лали.
— Все, что мог найти в Инете про Герострата…
— Угу, хорошая книга. — Откусывает эклер.
— Ты же ничего не понимаешь.
— Но я уверена, это должно быть крайне интересно, — восклицает Лали даже вроде с некоторыми эмоциями.
Лали живет в привычном мире. Последние волны телесериалов, рассказы подруг, а главное, сплетки. Ну там чужие свадьбы, измены, болезни, аборты и разводы. И еще те люди, кто уже успешно вскочил на своего золотого барана. В отличие от нее, естественно, непутевой.
Среди девок верхом на золотых баранах Кейт Мосс, Бритни и Клаудиа как ее там. Хотя кажется, что от этих напомаженных девушек в журналах прямо со страниц воняет макияжем, хоть нос затыкай. А другие девки, молодые, румяные, чистые, умные, сидят и втюхивают, впаривают друг другу, как жить правильно надо и стремиться к чему надо на йогах грамотных и шейпингах расчудесных. Вздыхают и спать со своими коммерсантишками достойными тащатся.
Да уж. Как всегда, подобные мыслишки у меня уже были.
Все же Лали была симпатичной, стройной и ласковой девочкой.
— Северин, ты меня любишь? — спрашивала тварь ближе к вечеру.
— Конечно, еще как!
— А как? Расскажи, как ты меня любишь?
После такого я задумывался и с трудом извлекал из памяти рассказы за любовь всякую клевых моднючих парней из сериалов. И тут же парил своей сожительнице то же самое.
Уж это-то ей было понятно. Воодушевившись моей бредятиной, которую она принимала за доказательство высоких мотивов, струн и все такое, она начинала более активные действия и лезла уже поближе. После теоретических бесед мы переходили к практике. На безрыбье и она могла стать раком. Нельзя сказать, что это было больно приятно. Лежать на ней и тупо рассматривать сверху, как она хрипит, скребет ногтями стену и дергается.
Наверное, мне поменьше надо рассказывать. Уж больно часто она лезла. У нее постоянно было склизко в дыре, которую она так опрометчиво вырастила со всей остальной собой. А сверху — куски щетины. Брейся чаще, дура!
Иногда мне казалось, что Лали больна каким-то странным психическим заболеванием. Это я присек по тем выкрутасам, какие она выкидывала, когда мы брякались в постель. Стоило мне к ней неосторожно прикоснуться, как все, хана, начинались пляски Святого Витта. Она начинала извиваться, дергаться, трепыхаться в разные стороны, взвизгивать… Слава ангелам, она не сильно потела.
Когда же она наконец угомонится? Свинья, тварь, идиотка! Мне приходилось долго кряхтеть и пробиваться прямо-таки в самое нутро этого «чужого», в ожидании окончания его припадка. Затем наступала агония. Она дергалась в последний раз и, всхлипывая, затихала.
Припадок, наконец, кончался.
А я, совсем одуревший, тяжело сползал. И еще долго с удивлением рассматривал ее засыпающую рожу. Наверное, ей снились кельтские сказки, будущие случки, палата в «пятнашке», папашка и кошка.
Еще, понятно, главным в наших отношениях был уважаемый господин Баксятка. Когда она успокаивалась и замолкала, реабилитируясь перед очередными припадками, я так и припадал к ее предковской кормушке. И уж набивал баксятками карманы почем зря, ясный пень.
И исчезал. Иногда до утра. Иногда дня на три. Чего надо? Типа как дела. Она же еще и виновата — настроение мне портить. А уж там сидишь, дурак, в каком-нибудь баре, размышляя о нашем грязном кошмаре.
У человека нет души. Ни на грош. Ни на цент. Куда-либо ехать дальше? Всего лишь такая же бестолковая трата времени, как и все остальное. Все напрасно. Все уже давно дохляки, а может, еще что похуже.
Кстати, предельно понятно расставив материальные аспекты наших трогательнейших взаимоотношений, я на крайнячки стал ярым поклонником феминистского движения уж какого-никакого. Я знаю, я слышал что-то. Там Мария Арбатова, Асламова и прочая мразмотень.
Делай что хочешь, я ни в чем тебя не ограничиваю, и все такое. Главное-то что? Главное, чтоб папаша Лали все так же умело крысил с коммеров монеты в префектуре для нас, верно? Позже он накроется мокрым куском сами знаете чего, там, прямо у входа в префектуру Центрального Административного Округа. Пуля Стечкина аж полбашни снесет. Эх, старый подонок, старый подонок, что ж ты никому не рассказал-то, где спрятал свои денежки. Хоть знак бы дал мне какой с того света из котла своего! Или ты там на сковородке курортствуешь?
Так вот. Поначалу, подживаясь у Лали, мне больше всего нравилось есть настоящий суп, которого давно не пробовал, а также кататься на байке, на котором давно не катался. Я ж байкотень старая, к какому мотику ни прикоснусь — вдребезги.
Позже привык. Ни от чего толком не перся.
Конечно, мне постоянно приходилось прикидываться необыкновенно веселым и жизнерадостным. Я рассказывал Лали разные смешные истории и выходки из моего небогатого жизненного путешествия. Как и всем, ей крайне нравилось слушать про мое прошлое, а особенно девок, всякие гадости. Это позволяло ей надеяться, что у меня было крайне мрачное и дремучее прошлое. Что, впрочем, было совсем недалеко от истины.
Своих прошлых клав я чертил ярко окрашенными всякой стервозностью, хамством и тупостью. От этого Лали просто млела. Видимо, полагала, что она, в отличие от них, хорошая, мягкая и пушистая. Чего взять — дура!
Время остановилось. Дни текли. Все было прям расчудеснейше. Я выучился и здесь притворяться очень органично и без особых напрягов. Неразумных поступков и выходок, конечно, хотелось. Ведь при размеренной ленивой жизни все становится неинтересно.
Вот так я почти и стал честной порядочной сволочью.
Что меня искренне потрясало, так то, как Лали мне беспрекословно доверяла. И нашла на кого надеяться! При случае я украдкой разглядывал ее и кумекал: как она меня до сих пор не раскусила? Впрочем, по молодежным думкам, болтают, всякое бывает. Строишь себе всякие воздушные замки типа крепости иллюзий, и все такое.
По молодости не видишь еще «чужих», а «Я» глупое в ромашках тупых бакланится. По молодости надеешься, что ты любим не из-за бытовой корысти или материальных соображений. Надеяться, ясно, очень плохо.
Вдруг хлоп по кумполу! И вот они — шесть миллиардов бесспорных «чужих» как на ладони. Испуганное «Я» кромсает остаточные гирлянды своих чувств и рвет все цепочки, связывающие его с особями. Рычит несчастное «Я», встает на четвереньки, и уже в конкретном одиночестве продирается дальше мимо особей в поисках звезд и покоя.
А потом сверху две деревянные перекладины, как реи у древних кораблей, ниже цветы, земля, еще ниже доски.
Еще ниже — счастливый ты.
* * *
Так вот. С самого начала нашего милого сожительства все было предначертано. Оставалось только ждать неминуемого грядущего. И предпосылки развязочки потихонечку уже начались.
Чтобы вколбасить дружка в колею собственного трипа, Лали принялась брать меня с собой по подружайкам. Складывалось такое впечатление, что все они гнили заживо. Настолько сложно было разобраться в их разговорах о шмотках, бутиках, последних веяниях моды, связях, удачно провернутых делах, сплетнях об общих призраках и о планах на ближайшее, несомненно, лучезарное будущее. Словом, о всем том, что составляло их прозябание. Они постоянно шипели друг на дружку, а также беспрестанно жаловались на свои болезни и недуги, плавно переходя на то, в каких кабаках лучше кормят.
Через семь-восемь часов подобного наслаждения я обычно переходил на что-нибудь отстраненное. К примеру, рассказывал им о пингвинах, где и как они живут, их привычках, моносистеме, и все такое прочее. В этих домах я обычно больше не появлялся, а эти шалавы уж набрехивали ей на всю катушку за мою достойную персоналию.
А еще через месяцок произошло поистине грандиозное событие: Лали решила познакомить меня со своими уважаемыми предками. Я отнекивался, конечно, как мог. Но она, видимо, действительно набралась немало храбрости вкупе с какими-то немыслимыми иллюзиями в отношении меня. Надавала мне кучу инструкций, как надо себя вести. Предупредила родичей и перекрестилась.
И все. Поволокла.
Я, кстати, от очередного загруза после «желтых» так давно не был не улице, что чуть назад на хаус не рванул со страха — СТОЛЬКО особей там передвигалось!
Но все равно бреду. Солнце — прямо в голову, солнце — прямо в рот, солнце — прямо в живот.
Лали смотрела на меня соболезнующе, как на просто товарища, а не как на бойфрэнда какого. Заискивала все, слюнявилась, предлагала мороженое, колу, свою любовь и веселое настроение.
Ладно, бухнулись в метро в гоблинам, как мне примерещилось, понятно.
Что-то в метро изменилось? Ни черта. Особи так же, как и раньше, куда-то стремились, ехали, злобно осматривались. Рядом интеллигентно спорили две приличного вида старушенции.
— …и перерезала вены в ванной.
— Да нет… повесилась!
— А я тебе говорю перерезала вены в ванной.
— А я тебе говорю повесилась! Уж я точно знаю! Повесилась, говорю тебе, овца бестолковая!
— Что?
Не расслыхал я концовки, так как нам пришла пора выкатываться. Но, наверное, они говорили о Марине Цветаевой.
Около приветливых коммерческих ларьков Лали притормозила, чтоб подкупить предкам какие-нибудь незамысловатые подарочки. Типа не с пустыми руками приперлись, а как королевичи. А может, по замыслу Лали выпивка помогла бы им поближе познакомиться с моей персоналией.
Я тоже подгреб к ларькам, от которых уже, озираясь, отваливались счастливые обладатели бутылок с радостью. Самые нетерпеливые из числа счастливых обладателей не отходили особо далеко, а откупоривали бутылки с радостью прямо рядом с пунктами выдачи. Подбадривали сопровождающих их особей женского пола и заливали пойло прямо себе внутрь, несмотря на недовольство последних. Чуть позже, уже окрыленные и воодушевленные радостью, они бросались обратно к ларькам и выманивали очередную порцию радости, обменивая на нее замусоленные бумажки с видами славных российских городов.
Тем временем я подошел к находящемуся рядом киоску «Роспечати» с целью поинтересоваться, что откручивают себе на брэйн умеющие читать грамотеи. Первым делом на левой половине киоска разглядел медицинскую рекламу с сомнительным содержанием.
— СПИД за август, СПИД за сентябрь, СПИД за октябрь.
Ясно, опять ничего не вкурил и полез в окошко киоска потереть со старой сэйлсвуменшей за позиционирование этой рекламы по отношению к особям.
— Скажите, пожалуйста, — спросил я вполне деликатно. — А чем СПИД за октябрь отличается от СПИДА за август? Дольше действует или круче накрывает?
Продавщица очень обрадовалась, что реклама на стене ее детища принесла свои плоды. Она аж подскочила, отбросила в сторону книжку «Унесенные бредом» и экспрессивно взвизгнула:
— За август — старье! Октябрь — свежак! Там гомосексуальные зоонекрофилы — закачаешься!
Пунктиры в моей башке опять основательно перещелканулись. Вступать в контакт с мертвыми животными мужского пола, обладающими вирусом, представилось мне не особо привлекательным. Тут как раз, гремя бутылками, и моя подружка подлалитилась. Я первым делом поинтересовался, не желает ли она себе подкупить ради развлечения немного спидка.
— Чего? Чего?
Ладно, повторил. Мне несложно.
А Лали чуть сумку не выронила и в обморочек не брякнулась. По простоте душевной подумав, что это один из моих щедрых подарочков, которые я ей преподнес в придачу к триппачку. Когда она немного отдышалась, предложил еще и для родичей немного спидка прикупить, чтоб и они в стороне не остались.
— Но только если будем брать, пусть сертификат качества покажет нам, а то опять подсунут шнягу! Разбирайся с ними потом! — предупредил я.
Я перевел ее вытаращенный взгляд на старуху, киоск и впечатляющий слоган. И стал поторапливать, мол, пересекать Рубикон надо скорее, не то нас могут опередить.
Наконец Лали рассмотрела рекламу и облегченно выдохнула:
— Идиот! Это газета так называется!
— Да? — промычал я раздосадованно.
Вот так да. А я о чем подумал-то? Да, надо попробовать все-таки хотя бы месяц ничего из драгз не хавать…
Оказывается, это действительно такая газета. «СПИД-инфо» всего лишь. Там как раз все внимание уделяется плотному столкновению с себе подобными и не только. Брать не стали.
Но хотя, если подумать здраво, совсем неплохо было, если бы всех особей вдруг накрыл СПИД, вирус Эболы или еще что похлеще. Все развалятся на части, и все такое. И все «Я» полетят туда. Далеко-далеко. Высоко-высоко. На самую темень. До самого конца.
Наконец мы добрались до того дома, который и был целью нашего путешествия. Я увидел, что ожидал: центр, легашный пост, охраняемая стоянка, консьержка, все дела. Именно здесь обитали те самые прекрасные люди, которые девятнадцать лет назад отправили Лали в жизненный трип. Или в жизненный затяжной прыжок — как кому нравится. И на разных стадиях полета они подпитывали ее стропы монетами и квартирами.
Ладно, заходим. Они, родственнички, к трапезе, понятное дело, готовились как раз. И нас сразу засунули в общее стойло. Типа вежливыми прикидываются.
Папашка-то ее был весьма уважаемым человеком. Благо занимал какой-то неслабый пост в префектуре, а в придачу вольготно хозяйничал в одном из средних банков, в котором крайне бережно отмывал свою денежку на бюджетных и валютных махинациях.
Мамаша же просто с ума сходила, не зная, куда запрокинуть свое свободное времечко. И поэтому напридумывала себе разные салоны красоты, йоги, солярии, лечебные ванны и парикмахерские. В паузах для хобби она снимала малолеток на Таганке. Эй ты, старая шалава! Надеюсь, тебе кто-нибудь все же подбросил спидок? Это бы тебя вразумило.
Как мы сели за стол, эти «чужие» рядом стали дружно барахтаться в заунывных разговорах об общих делах, последних новостях, шмотье и об их в данный момент отсутствующих соплеменниках, которые носили схожую фамилию в их стае.
Кстати, там присутствовал еще достаточно оригинальный представитель. Как я понял по некоторым отрывочным фразам собеседников, конкретный отщепенец. И брательничек моей тинушки, мой ровесник. Сыночка их. Их семейная драма. В своем предательстве семьи он докатился до того, что бросил Финансовую Академию, куда его засобачил папаша, и в данный момент ошивался во ВГИКе. И понятно: в семье не без урода.
Этот дуралей по юношеской гонке яростно уверовал в синематограф всеми фибрами. После того как мы вместе залились текилкой, он стал сумбурно затирать за Альмодовара, Трюфо и Бунюэля. Надо отметить, остальные смотрели на него с искренним сочувствием. Как на носителя вавилонского алфавита.
К тому же этот парень и вовсе омерзительный финт выкинул. Словом, влюбился в тину не из их круга. Он давно стал паршивой овцой. Это раздражало всех.
— У нее же родители — врачи! — сказала мамаша, с усердием заглатывая нехилый кусман телятины. Кстати, самый лучший кусман ухватила, мы чуть вилками не пересеклись.
Я тут же просек, в каком отвратительном свете тоже предстаю. Что поделаешь, конечно. А эти особи всегда богатействовали, что ли? До того, когда их босс, папаша-чиновничек, обучился ловко разруливать бюджетные потоки, вдохновленный примером коллег.
К счастью, они из скромности недолго разбирали проблемы с сыном. И почти сразу после процесса питания разбрелись по квартире. Расправляться с временем поодиночке.
Мне даже стало обидно, что за мое «Я» никто толком не втемяшился из интереса. Но за столом остался главный — папаша. То ли нажраться никак не мог, то ли напиться, то ли со мной побеседовать хотел. Выпил еще текилки, лимоном зажрал, прислушался к симфонии из брюха. Наконец еле спросил:
— А вот ты где собираешься работать? Или уже работаешь, может? А то учеба — это для придурков… — он поперхнулся и прокашлялся. — Вон у нас тоже… режиссер-дебил! — срыгнул что-то обратно в тарелку и утерся щупальцем.
— Как вам сказать… Не привык я ишачить…
Папаша вылупился. И его глазки, два маслянистых пятнышка, возбужденно забегали.
Это как же? И давай меня крыть как какого непутевого. Осмелился мне за жизнь тереть, за Американскую Мечту, за цивилизацию и успехи жизненные всякие. Тошниловка!
Спустя некоторое время я сориентировался, какие духовные ценности преобладают в его путешествии, и ляпнул хоть неожиданно, но зато в близкую ему тему:
— Цель жизненная есть! Вы не знаете флэт какой пустой неслабый богатый, который нехитро выставить, а? Нет таких каких знакомых? Богатый опыт разных подобных мероприятий по Западному Городу имеется, — спросил я вполне заискивающе.
Надо было видеть, как он обрадовался. Залучезарился прям, плеснул нам в стаканы порядком текилки и удовлетворенно похвалил:
— Это уже разговор о бизнесе. Молодец.
После этого он уже принимал меня за парня из своего корыта. И давай невзначай раскатывать, мол, друг у него с семьей скоро на Сейшельские острова на месяцок сруливает. А потом уже за свой юношеский иллюзняк заностальгировал:
— Эх, молодость! Где моя молодость, траханый бабай… Эх, и приезжали когда-то юноши из Черноземного Города в Северный Город, питали надежды. Вот в таком возрасте я был, как ты сейчас. Пройдешься, бывало, вечерком по подъездам. Ни кодовых замков, ни сигнализаций! Вставишь спички между косяком и дверью по квартиркам с буржуинычами. Через пару-тройку дней наведываешься, смотришь — где торчат до сих пор спички? У кого? Заходи к буржуям, грабь награбленное, верно?
— Верно! — согласился я, осматриваясь по сторонам.
Короче, я не попал пальцем в небо, а попал прямо в точку. Он еще очень долго говорил всяко-разно.
Расстались, как старые друзья. Такие дела.
Если все вокруг декорации, то и не думай там лопушиться, чепушить. Тем более за свое мнение бормотать. «Чужие», блин, они этого не любят.
Когда мы вышли на улицу, Лали гордо сообщила, что я весьма понравился ее папаше. Чему я, понятно, не удивился. Опосля спросила мое мнение.
— Полный подонок, — признался я откровенно.
— А маман?
— Тоже не лучше. Один брат более-менее мазовый, да и того совсем уже загасили. Хотя я, конечно, не думаю, что ты хоть что-нибудь понимаешь… — Я даже попытался ее поцеловать.
— Северин, ты даже не понимаешь, что ты меня оскорбляешь. Они же мои родители, а ты так про них…
Я заткнулся. Да и чего метать мысли и бисер? Один пес, яблочко от яблони недалеко падает.
Всю дорогу мы не разговаривали, но я видел, что она простила мне грубость за благополучный исход визита. Как и я, она приготовилась к нехорошему, а все прошло как нельзя лучше.
* * *
Другую особь не понять никогда. Даже если с ней живешь. Даже если с ней спишь. Даже когда у тебя уже сложился определенный круг прав и обязанностей.
А еще — наблюдать за недостатками. Если б любил, то и не замечал их вовсе. Иначе беда.
Каждое утро начиналось с воплей «Нашего радио» типа как пора вставать. Глядь в окно, там, как всегда, солнце странно бликает и тучи вечно тревожатся.
Облившись водой целиком, смочив щели и впадины в частности, Лали начинала свой нехитрый религиозный обряд. Она плюхалась за туалетный столик и накладывала на себя грим. Сначала я думал, что она готовится к поступлению в театральный вуз, затем, познакомившись с предками, что благодаря папаше она скрывается от меча правосудия и Фемиды. Но промахнулся, опять по дурке не вкурил. Она делала это абсолютно добровольно. Типа как косметика.
Сперва, набив баксятами карманята, она шлялась по дорогим бутикам в центре. И скупала все подряд: крохотные кисточки, цветные краски в упаковках, коробочки с алкогольной выдержкой. Только вместо одной децельной шелупони с резким запахом можно было купить штук десять «желтых»! Вот ведь дура.
По ее представлениям, все это должно было ее принарядить. Разукрасить, как елочную игрушку. Наверное, она это делала, чтобы мне понравиться, она вроде же меня как-то по-своему любила. Странно любила, по-своему.
Я с трудом узнавал ее, когда после сорокаминутной оргии с красками и коробочками она наконец выкатывалась из-за туалетного столика.
— Ну как я тебе?
— Восхитительно! — скалился я, притворно улыбаясь. На самом деле я с трудом узнавал ее. Настолько сильно она была перемазана в белом, красном и синем. Патриотка, наверное, под цвета российского флага красится. Чуть позже краски размазывались и стекали вместе с духами, которые она выливала на себя целыми ведрами. Зачем? Если от нее и пахло течкой, то не шибко. На щеках появлялся отчетливый алкогольный привкус. Если б я плотняком синячил, то можно было бы даже не бегать по утрам за пивом. Достаточно было просто облизать ее рожу. Она бы тогда таяла, принимала бы это за проявление чувств. Я даже был бы еще и в моральном выигрыше. Впрочем, иногда мне становилось плохо от этих ее внешних украшений. Лали списывала это на мое слабое здоровье, заботилась обо мне как могла. Еще мне становилось плохо только от одной мысли о плотном с ней столкновении. И я даже придумал что-то типа аутотренинга, пытаясь одновременно, упаси бог, не представить на ее месте другого какого «чужого».
Иногда пунктиры в голове и еще кое-что другое в иных местах вырабатывали у Лали незамысловатую реакцию. В плане реакции на рекламу туалетной бумаги. Она плюхалась на белый троник в самой маленькой комнатке и из нее начинали вываливаться дымящиеся комья. На интересняках я тоже рассматривал, что у нее, оказывается, внутри. Понятно, опять же если любишь, то многого и не замечаешь. А так… Почти то же самое, как она жрет, только потаинственнее.
Ясно, нужно, если у кого получается, любить в «чужой» особи все: печень, почки, легкие, селезенку и желудок. Вот говорят, сердце, сердце. А я думаю, что у человека нет сердца. Так… Может, там вообще только одни кишки и гниль какая.
По крайней мере так было б честнее.
А еще там кровь, пот, моча, кал, сперма, ушная сера, слезы, гной, желчь, желудочный сок, слизь, мокрота, слюна, перхоть, сукровица, молоко, молочница, смегма, менструальные выделения, влагалищные секреции, ликвор и суставная жидкость. С таким впечатляющим комплектом любить тяжеловато.
Царь природы, царь природы, болтают. А по сути, совершенно бестолковая биоструктура нелепая.
Как я и ожидал, предпосылки закончились. Началась конкретная развязка нашего трогательного и милого сотрудничества. По сути, ведь это было сотрудничество. Ведь мы друг другу продираться сквозь жизненный трип хэлп отталкивали, верно?
Глубокой ночью возвращаюсь из «Тэксмэна», ночника со стрипаком по четвергам. Мазовый такой был клубешничек в свое время, потом, конечно, деградировал. Насмотрелся на юных особей и возвращаюсь, напичканный словами и музыкой.
Ладно, приваливаю на хату к Лали.
А она там неожиданно пьяная такая, жизнерадостная. Свечи горят, поляна на двоих выставлена, все дела. Ну, я не дурак, ясный пень, допетрил, что приключилось и что за праздник типа. Наверное, ее папашка скрысятничал из бюджета какую-то небывало крупную сумму баксяток, и мы теперь праздновать будем с Лали. Такой холидэй мне по мазе! Дело верняковое.
Лали усадила меня напротив себя и торжественно заявила, мол, надо серьезно поговорить. Наверняка, как денежку уведенную делить. Ведь папаше-то я с недавних пор заимпонировал, наверняка хочет папаша этот самый с навара и меня зеленцой на кармане порадовать. Тогда мне адресок его кореша, который на Сейшелы сруливает уже не в тему.
Что ж, я весь внимание.
— Северин, я решила отложить личинку, — призналась Лали и выжидательно смотрит на меня в плане реакции.
И чего смотрит? Дело житейское, так часто бывает, когда что грязное с рынка сожрешь. Где же радостное-то? Где расчудесный холидей и богатство?
— Одну? Откуда знаешь, что одну? — спросил я.
— Конечно, точно не знаю. Но чаще всего бывает одна.
— Да нет, кстати, заблуждаешься. Глисты же эти там внутри плодятся же, как кролики. Ну ты даешь… Впрочем, не беспокойся, сейчас же такие ультрасовременные лекарства продаются, что выпиваешь — и все! Глисты сами сразу вываливаются, жизненку свою спасти пытаются. И если, как говоришь, одна она там, глиста эта самая, надо скорей ее мочить по полной, а то расплодится еще, размножится. Не верь, сама по себе она не отложится. У меня у друга, у Латина были, так…
— Я про ребенка! — заорала она, выскочила из-за стола и начала плакать.
— Что? — ошарашился я в свою очередь. Поступок, на который она отважилась, был отнюдь не разумным. Вот верь после этого особям. Относился я к ней как нельзя лучше, относился, а она теперь первая разборки и выходки начала.
Ей-то, понятно, порево жизненное и инстинкт животный, а мне — сплошные геморры и экзистенциальный трагедняк.
Я принюхался. Действительно, знакомого мне запаха менструации не чувствуется давненько. Обычно я моментом унюхивал ее течку. От нее пахло месячными так, как будто они просачивались прямо сквозь поры кожи. А может, так оно и было? Лали, кстати, тоже не очень обычно нравилось, что из нее что-то вытекает, поэтому затыкала себя чем могла.
Когда мы каждый по-своему пришли в себя, Лали стала, запинаясь рассказывать, как это было бы здорово — отложить личинку и растить ее навстречу солнцу и счастью. И какими тогда крутейными материальными благами осыплет меня ее папаша, если я подпишусь на гомункула. Стала врать, что даже я сыграл там какую-то важную роль в ее выходке. Про железные обручи стала говорить, чтоб на пальцы их нанизать под мьюзик и респект, экшн какой-то пройти в доме с желтыми крышками и реями, как у древних кораблей. И даже осмелилась еще за будущих личинок спич разбодяжить. Типа чем больше, тем лучше. Но я-то секу, что это «чужие», секу, что это свифтовские еху. Уж меня не наколешь!
— Ребенок? — сказал я вполне серьезно. — Да я откручу ему башку собственными руками! Сколько же тебе проплатил папаша, чтоб ты меня так задумала околпачить? Даже не надейся, что справишься с ним в одиночку! Завтра же поедем мочить «чужого», пока он не вырос. А вдруг он там уже команду сколачивает?
От ужаса у меня в башке снова шторканулись пунктиры.
Лали же рыдала почем свет зря. Что, ей уже было мало, что ли, моей персоналии? Со всеми моими прогонами и бредятиной? Теперь ей, видите ли, захотелось маленький крохотный комочек. Но уж наверняка с ним миллион заморочек, с комочком-то. Он из Лали вылезет, и тогда крышка мне. Интересно, когда и как он начнет выкарабкиваться? Я, кажется, в кино видел, как он вылезает. Так и называется — «Чужой». Там с ним справиться все никак не могли, и потом сиквел почехлил — «Чужие».
С перепугу я присмотрелся к Лали, и мне показалось, что он уже лезет. Лезет! Я быстро огляделся и стал присматривать что-нибудь типа оружия, чтоб если не расправиться с «чужим», то хотя бы загнать его обратно в логово. Скомандовал себе быть начеку, а вслух как можно спокойней промолвил:
— Надо все сделать по закону.
— Да? — всхлипнула она, перестав плакать.
— Конечно. А ты как хотела? Я вот в метро рекламу видел: «Аборт — узаконенное детоубийство». Плакат такой. И главное, заметь — узаконенное. Понимаешь? Есть еще хорошие законы. Так что с утреца поедем к специалистам. Уж они-то «чужому» покажут, где раки зимуют. Уж там-то знают…
* * *
С утра она еще пробовала меня как-то увещевать, уговорить, и все такое. Без толку. Я был настроен решительно. Я сразу героически сожрал «желтую Омегу» в плане тяжелых амфетаминов, чтоб мне позашторенней в течение дня чувствовалось и побарабанней. Выходим навстречу человеческому винегрету. Особей, как всегда, кишмя кишат.
На всякий случай, чтоб она не вздумала слинять, я крепко держал Лали за локоток. В принципе делал я это для ее же блага, так как она ничего не знала про них, к тому же не видела кинофильм. Она легко могла накуролесить, так как даже не предполагала, насколько опасен «чужой».
Однако доехали без приключений. К неприметному серому зданию, где опытнейшие специалисты могли нам помочь, прочистить и обеззаразить бедную Лали. Повторюсь, она совсем не предполагала, какой смертельной опасности подвергается. У меня даже гордость пошла вместе с зашторкой после «желтых», и я почувствовал себя защитником всех оскорбленных и униженных. И готов был всей своей неширокой грудью встретить «чужого» в случае атаки. Ну, если б он раньше наступать осмелился. Почти сразу я поверил еще и в инопланетные миры. Как же они сумели так оприходовать бедную Лали? Опять неудача.
С рук на руки я передал Лали межпланетным офицерам в белых халатах. Забросил свою типа как любимую девушку в палату и жду. Объяснил им типа, конечно, за всю опасность, которую она не просекает. Они загремели инструментами, своим боевым снаряжением и усадили Лали в стремную смешную позу на особом приспособлении.
Чтобы немного устаканить зашторку после «желтых», я хлопнул в уборной немного гаша. Однако не помогло. Почти сразу я понял, что никакие специалисты в белых скафандрах не справятся с инопланетной заразой. А как пунктиры шторнулись, ноги в руки и побежал по коридору вдоль кафельных плиток. Даже мысленка проскочила типа спрятаться где-нибудь на корабле… Ведь «чужой» мог всех перехитрить, выбраться и устроить Армагеддон.
В каком-то то ли кабинете, то ли какой-то операционной я даже подснял скальпель, чтобы хоть что-нибудь противопоставить врагу.
И по лестнице скорей, по лестнице.
Вылетел в обширное ослепительно яркое помещение. Где ВСЕ и понял с непререкаемой остротой.
«Я» и «чужие».
Музыка и Лед.
Вдоль стен — типа как эпизод с сюрреалистического полотна. Десятки особей женского пола со вздувшимися в последней скорбной истерике животами. Теперь-то уж я точно пропал.
Весь в поту плюхнулся на ближайшую лавку не в силах более спасать свою дымящуюся шкуру. Страх почти исчез. Клочок героизма — тоже.
Непонятки. Безумие и ужас. Помешательство и социальный триппер.
У вздувшихся особей бурлили и вздымались животы. Может, еще есть надежда? Может, там внутри не «чужие», а всего-навсего селитеры?
Женщины помоложе, казалось, были даже весьма довольны своими дьявольски распухшими животами. Да по молодости все глупые, не соображают, где какая подлянка.
Но, наверное, все-таки это не селитеры, все-таки это «чужие». И тогда они уж захватят все. Конец Света — пора платить.
Женщины постарше выглядели ни радостными, ни напуганными, а как бы разочарованными. Они как бы сознавали, что «чужие» их конкретно оккупировали, и тут уж ничего не попишешь. Типа выхода нет.
Хотя как? Есть все же выход, как я догадался. Не зря же японцы придумали эту мощную фишку — харакири. Чик-чик — и гриндец «чужому»! Я даже хотел им помочь осмелиться на этот подвиг и протянуть схваченный скальпель.
Но все бесполезно. Бежать некуда. В глазах — пелена.
Зеленые деревья… слоны, крылья летучих мышей… хоккайдские овцы и породистые мангусты…
Я замотал башкой и прислушался. Особи уже давали друг дружке массу бесценных советов. Как безболезненней высвободить «чужого», как его вырастить… Оказывается, еще нашлись и предатели, которые накатали книжки, посвященные выращиванию. Кстати, я узнал, что если б даже какой «чужой» и погиб во время высвобождения или выращивания, то всегда можно было закатать себе внутрь нового и попытаться запустить процесс по новому кругу. Но старания предателя нашей планеты должны были длиться довольно долго — три четверти земного года.
Но мне-то что делать? Драться пытаться либо сдаваться на милость врагов? Так они меня могут разодрать тогда, верно?
Сжимая зубы и скальпель, я осторожно, крадучись, пробрался мимо коллаборационистов со вздувшимися животами и втопил дальше по больничному коридору.
В тускло освещенном переходе я устало прислонился вспотевшей спиной к бетонной стене. Сил не было — требовалось немного передохнугь…
Очнулся, отдышался и дальше. Чтобы замаскироваться и выглядеть не представляющим опасности субъектом, теперь спрятал скальпель и смастерил равнодушное видоизображение своего таблоида. А также как мог пытался выпятить свой живот, чтоб продемонстрировать окружающим я, мол, свой. Вот типа и у меня маленький «чужой» готовится в мир приходоваться. Заодно призадумался, почему ж они так похвалялись друг другу своей нафаршированностью?
Бреду дальше. В другом помещении вижу уже исключительно особей мужского пола. Тихие, смущенные, но волнующиеся весьма-весьма. И, как ни странно, ни у одного фаршировки нет.
Тут сбоку распахнулась белая дверь, и я судорожно забился в угол, приготовившись к последней битве с «чужим». Но, слава ангелам, это была совершенно обычная особь женского пола, даже без вздувшегося от фаршировки живота. Но она что-то держала в руках, типа какого-то свертка. Затем развернула сверток и, придерживая за задние конечности, показала всем маленький извивающийся комочек. Красный, склизкий, неприятный, весь в прозрачной, вязнущей субстанции. Лицо у него было перекошено, и он без удержу вопил. Субстанция капала вниз…
— Кто у нас здесь самый счастливый отец? — удачно притворившись приятной, спросила она.
В ответ на ее вопрос от внимающей стаи, жавшейся у стены, оторвалась крупная толстая особь в помятом костюме. Она натянуто и обреченно улыбнулась, пытаясь выглядеть обрадованной.
Комок дергался, извивался, трепыхался. Все никак не терпелось ему окунуться. Чего? Маленькие, все наивные. Ну и Лали! Ведь она хотела и меня втянуть в подобную авантюру. Да, впереться можно хоть на ровном месте.
С другой стороны, я вроде как присутствовал при рождении новой жизни. Типа как таинстве. Хрипящая новая жизнь представлялась довольно загадочной. Мужик, к которому был обращен вопрос, оторопело смотрел на творение своих рук, вернее, даже творение других частей тела.
— Рады? Держите! Ровно три, — открыла торги женщина.
Оказывается, за это теперь надо еще заплатить. Типа как коммерция. Интересно, правда, откуда начальная ставка в три штуки, да еще, наверное, гринят? Кстати, к той задней конечности, за которую его придерживала женщина, была прикреплена специальная бирка. Ценник, наверное. Остальные особи мужского пола стали поздравлять мужика с удачной покупкой и не стали перебивать его ставку. Он же полез скорей в лопатник за деньгами, смущенно достал что-то и сунул женщине. После чего она потащила хрипящий комок в подсобку запечатывать в подарочную упаковку. Сделка свершилась. «Чужой» превратился в особь.
Почти сразу меня осадило. Выскакиваю из клиники на улицу.
Я повсюду. Я нигде.
Говорить с Лали было бесполезно. Из ста двадцати шести языков не нашлось бы ни одного, который смог бы помочь мне. Мне и моим неполученным советам. Единственное, что оставалось, это посоветовать Лали смело отправляться во всем известном направлении, а самому уходить смотреть, как там ночь и блики после «желтых». Так я и сделал. Хотя, конечно, нужно было отдизайнить ей хлебальник. Конкретно дизайн лица видоизменить.
Так все потом говорили.
Вавилонская башня расклеила языки, Пизанская бьется с пространством, от Эйфелевой все прячутся, о мраке Останкинской и говорить не стоит. Но есть одна невидимая, сорванная Башня, самая главная Башня, всем башням Башня. В нее когда-то влезут все и полетят на север. И припевать стихи Лермонтова будут. «Мы, дети Севера, как здешние растенья. Цветем недолго, быстро умираем».
И полетят, полетят все на север. Далеко-далеко. Высоко-высоко. На самую темень. До самого конца.
13
Теперь я живу в Орехово. Это на юге Большого города, что хуже. Энтузиазм и вера в свои потуги на реальную жизнь отчаливают вместе с лучами солнца. Чем больше припекает — тем меньше энтузиазма.
Кстати, некоторые из моих знакомых даже выразили удивление, что, съехав от Лали, я остался жив-здоров-целехонек. Что ж, вполне резонно.
А я весьма необычно отвлечься попытался. Шляться по мюзиклам и театрам — вот на что я подсел, с тех пор как стал жить один.
Бросок за броском, так-таки и обошел почти все театры Большого Города. Я не вру. Я даже спецом их метил в одной из своих тетрадочек на последней страничке. Какой-никакой кретинский, а все же личный повод для гордости. Хоть что-то.
Обычно с утра я смотрел в окно. Там все двигалось, мельтешило, шумело. Особи выпрыгивали на улицы и, вдохновленные своими иллюзняками, вопили: «Мир прекрасен! Вот еще один чудный денек!». И мчались особи, набрасывались друг на друга в метро, магазинах и офисах… Где угодно. Лишь бы подмять себе подобного.
А я вечерами с упорством конченого на все четыре головы продолжал посещать театральные представления. Мир — это Мир или театр? Я — это «Я» или зритель? Я высасывал из театров их репертуары, как губка. Может, теперь хоть что-нибудь пойму?
Глупо покупал «Ваш Досуг» или «Афишу» и смотрел, какие спектакли еще не видел, какие театры еще не посетил. Устав выбирать, тыкал ручкой наугад и валил туда, куда мне подсказывали современные Мойры. Да, впрочем, все равно что смотреть, главное — прочувствовать, каково это быть в молчаливой толпе особей. Ну, в зале зрительном. Иногда даже казалось, что мир подобрел, а люди ВСЕ поняли. Да бесполезно. Это по определению невозможно. Все одиночки…
После просмотра парада в окне, рассматриваю уже в зеркале себя. Насколько я за сутки подызменился.
Затем бессмысленная личная гигиена. Прихорашиваюсь, вылизываюсь, улыбаюсь.
Врубаю радиостэйшен. Чем меня порадуют?
Там типа поют, что этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. По крайней мере так стонет неприятный женский басок. Ясно, что-то просекать начала, что типа не так что-то. Понимает и стонет, понимает и стонет. Этот песняк крутят раз десять на дню. Типа как всё — мистификация, объясняют.
Перед выходом в театр готовлю себе чиповую китайскую лапшу. Пока она быстрехонько заваривается, рассматриваю живопись на этикетке. Там и курятинка, и грибы и свежие овощи. Заманчивая перспектива в плане хавки. Но сколько я ни ждал, куриный окорочок и шампиньоны никак не хотели выплывать из-под желтых разбухающих червячков. Неужели опять околпачили? Может, стоит прокипятить?
Кипятил минут тридцать. Бесполезно, не выплыло ничего, что обещала мне столь красивая этикетка. Может, этикетку вырезать и заехать к китайцам при случае, порасспрашивать, как иероглифы, может, правильно расставить? Чтоб птица выплыла все-таки из-под вермишели? Но скорей всего узкоглазые меня обманули и не зря их Рассел в «Скинах» мочил по полной, этих обезьян.
Огорченный, снова к радиостэйшену внимание обозначил. А там какая-то расстроенная особь под легкую музыку в поэтической манере плакалась о своем теперь уже безвозвратно потерянном мужике, который, несмотря на то что плотно с ней сталкивался с большим удовольствием, взял да и смылся. И теперь она, наивная, не придумала ничего лучше, как свой бедой с другими делиться.
Чтобы не слышать ее стенания и душераздирающие требования, чтобы он, мужик этот самый, вернулся, провернул настройку FM дальше. Там информационный блок:
— Итак, начинаем новую радиовикторину под названием «Оракул» — последнее слово было выделено интонацией. — Условия игры таковы. Все мы знаем об очередном кризисе в Персидском заливе. Непобедимая армада кораблей США готовится нанести сокрушительный удар по Ираку. Итак, слушайте внимательно и не говорите потом, что не слышали. Скоро США нанесет ядерный удар по Ираку, Ирак в ответ откинет ядерный удар по Израилю. Теперь главный вопрос нашей радиовикторины: по какой стране нанесет ядерный удар Израиль? Догадались? Кто догадался, пусть присылает нам на мэйлы, звонит нам на автоответчик до двенадцати часов ночи, когда истекает предъявленный Штатами ультиматум. Первые десять счастливчиков получат призы: диски с познавательным фильмом «Лица смерти», предоставленные нам студией «Союз», нашим генеральным спонсором. А пока послушаем старую добрую группу «Sex Pistols», неизвестный вариант известной песни, под новым названием «God, save the teens».
Решил не звонить, так как такой диск, конечно, у меня уже был, да и наверняка там уже кучей придурков все линии заняты.
Взял ручку, «Афишу» и ткнул наудачу в театральный раздел. Типа как своего рода рулеточку крутанул. Что там? И здесь крайняя неудача: выпал театр «Сатирикон». И теперь, по мною же самим установленным правилам, я обречен был туда идти.
На улице гул. Гул Большого Города. Высокие, мрачные дома, и у каждого свое сердце. Внутри домов копошатся неизбежные особи вместе с их бестолковыми проблемами, горестями и болячками. Прячутся и пересчитывают украденные денежки. А дома молчат и никогда ничего не скажут. Когда-нибудь небо скажет обо всех.
Без происшествий добрался до Марьиной Рощи. Говорят, здесь в начале века был наираскуражнейший райончик с притонами и шалавами. Самым центровым местным «Мулен Ружем» Марья некая и разруливала. Веселый раньше был район. А теперь здесь «Сатирикон».
Около входа в театр на меня поднасела куча коммеров, предлагающих тикеты по крышесносящим прайсам. Я отказался и в кассе оформил въездную визу в рай.
«Райкин» — виднелась повсюду странноватая надпись. Или «Рай-кин». Я подумал, что по-любому ошибка, и уж коли здесь вход в некоторый рай, то надо было написать «Рай-in». Вот тогда бы все было понятно. Но сведущие люди в кассе доходчиво объяснили мне, что это псевдоним того самого уродца, чья страшная фотография бекренилась повсюду. Тогда я понял, что он имел в виду под своим псевдонимом. «Рай-king». То есть Король Рая. Вот как скромно затирал он нам, театралам. Говорят, это повелось еще с его предка, который тоже пытался смешить окружающих во времена СССР, когда чувство юмора было особенным. Теперь его сын подхватил псевдоним, как эстафетную палочку, и за деньги демонстрировал желающим свои гуимпленистые ухмылки. Билеты, кстати, в партер оказались дороговаты. Но уж ладно, повелся, раскошелился.
Предъявил тикет. Пустили.
Особей — тьма. Снова подрастерялся. Я-то сегодня приперся сюда исключительно из-за случайного выбора моей театральной рулеточки. А эти-то что сюда прискотинились? Уж наверняка в других театрах идут более достойные спектакли.
В зале было очень ярко. Особи рассаживались и обсуждали предстоящее, тычась в программки. А я даже не стал узнавать прозвище занудства, которое мне предстояло черпануть. Это все равно бы ничего не изменило.
Тут пробили три колокола, свет стал меркнуть, охранники засардинили отстающих в темнеющую бочку зала. Свет погас окончательно, и все заткнулись.
Происходящее на сцене напомнило мне нечто подобное из истории. Средние века, Карнавал, принцессы, трубадуры, поэтические турниры и куртуазные романы. Во время Карнавала устраивали особый Корабль Дураков. История повторяется, все совпадает. Только на этот раз на нашем погасшем во мраке невиданном корабле за главаря был не князь дураков, а Король Рая. Так он сам себя окрестил, этот уважаемый господин.
На сцене тем временем зажглись огни Святого Эльма, и сбоку, из главной каюты, высунулась перекошенная в лучезарной улыбке рожа Рай-кина, Короля Рая. Тут уж все дураки, спресованные в зале-трюме нашей галерки, захлопали в ладони, забили в там-тамы, кто-то хлопнул петарду, а некоторые даже взвыли от радости лицезрения Рай-кина. Простофили искренне надеялись, что в течение ближайших двух часов Король не оставит их без внимания и авось поможет им пробраться к себе, в Рай.
Между тем этот самый Король, похожий больше на обезьяну, кривлялся как мог, отрабатывая кэш, вложенный за представление в кассе. Существо поднимало во все стороны свои конечности, мотало приделанным хвостом, скакало и щерилось, ублажая своих подданных, зрителей. Большинство же зрителей, заранее приложившись в баре к спиртному, готовы были внимать чему угодно.
Первым делом Король Рая, а по совместительству и художественный руководитель этого театра, в псевдооткровенном порыве принялся рассказывать различные скабрезные гаденькие истории, которые удачно наслоились на него по ходу жизни. Сам же себе глупо подхихикивал типа как поглощенный своей нудятиной. Даже несмотря на то что рассказывал ее в тысячный раз. А зевакам что? Они поддерживали его как могли. После каждой притянутой за уши шутки ржали, как бы показывая друг другу, что типа и они секут все фишки тончайшего юмора Рай-кина.
Прислушался и я.
Однако, он рассказывал абсолютно то же самое, что я уже слышал лет семь назад в Самом Западном Городе, куда меня закинуло с родаками на предыдущем витке жизни. Да и по ящику я еще это же выступление видел неоднократно. Видимо, Король Рая выступает с одной и той же программой целые десятилетия, выдумать ничего нового не может. А зеваки, кстати, притворялись, мол, не успели еще раньше посмотреть его шнягу, все подбадривали его смешками, подбадривали.
После ошеломительного в определенном смысле выступления Рай-кина, собственно, началось и само представление. Кроме, обезьяны, ну Рай-кина, чем-то очень сильно смахивающего на Крик-орова, только раза в два меньше, повылезали на сцену и его придворные актеры. Они активно начали раскручивать какую-то нелепую интрижку. Типа как действие, пьеса, развлекалово.
Когда, по их мнению, наступал смешной момент, Король с придворными сами же и смеяться первыми начинали, чтобы показать дурачью в зале-трюме, где зарыта кладезь сатиры. Среди шестерок я присек и Ника Фоменко, того парня, который прославился рекламой компьютеров и электронных игр. Конечно, было немного обидно за Петрония, чье замечательное произведение «Сатирикон» они к своему свинству подтянули.
Вокруг, понятно, «чужие» повсюду во мраке. Сидят, типа как наслаждаются. Им и по барабану-то, что смотреть. Наверное, себе доказать пытаются, что пунктиры в башке еще щелкают. Эх, сейчас бы сюда напалмом… Может, тогда бы они хоть что-нибудь поняли.
А меня уже по полной развезло. Я даже почувствовал себя стопроцентно спрятанным от мира в этой темноте. Ну хотя бы на два часа. А уж потом можно обозначиться опять в мире и наивно поинтересоваться, не подобрел ли он за столь короткое время? Когда пошли рапсодии Листа, я закрыл глаза. Теперь свет не зажгут никогда.
— А, все вы сволочи! — раздался юный женский голос со сцены. Я обратно в мир брякнулся, задергался спросонья. Хоть кто-то ВСЕ понял. Девушка с вызовом смотрела на соратников и зрителей. Но, блин, это была часть постановки. Я-то думал — импровизация.
Сразу после этого меня стало в стремки швырять и загрузы всякие. Это потому, что я сидел неподалеку от сцены. А так как никаких заграждений подобно зоопарковым не было, обезьяна могла, огуимпленившись до последнего предела, броситься в зал. На всякий пожарный я даже переставил одну ногу в проход, чтоб в случае такого расклада рвать когти.
Изредка чудо прерывалось жидкими аплодисментами и воплями «Бис!». Так здесь было принято. На что, бакланившиеся на сцене, кланялись и смущенно мотали бошками. Еще в зал порядком насардинилось фанов одной известной поп-группы, и они время от времени требовали выпустить их команду на сцену. «Браво! Браво!» — так они скандировали.
В зале-трюме преобладали особи мужского и женского пола попарно. Парни дружно грузанулись в объятия Морфея, а самки притворялись внимательными и вымучивали воодушевленное выражение лиц. Месиво потело и иногда кряхтело. Иногда кто-нибудь самый отчаянный кашлял. Тогда все, сплотившись в едином духовном порыве против негодяя, шипели на него, советовали в каком направлении ему лучше идти, обещали расправиться с ним после спектакля и проанализировать, какого цвета у него внутренности.
Сижу, наблюдаю, слушаю.
А тут грозное рычание раздалось на весь зал. Эге, просек я, это, видать, обезьяна со сцены издает свой звериный боевой клич. Сейчас наверняка обнажит свои клыки и когти, ринется в зал в атаку. Я переставил и вторую ногу в проход и стал как дурак просить у всепрощающего Создателя хэлпа. Даже пообещал ему мысленно, что коли выберусь из бойни живым, сожгу столько воска, сколько еще никто не сжигал. А если и этого беззаветного поступка ему будет маловато, готов сжечь в его славу хоть весь музей восковых фигур.
Но тут заметил, что грозное рычание неслось вовсе не со стороны Короля Рая. Вот так да! Это храпел мужик рядом со мной. Его спутница, смущенная таким поведением, стала что-то шептать ему в боковое отверстие головы и щипала за нижнюю лапу. Я тоже ткнул его в ребра.
— А? Что? Уже конец? — с надеждой очнулся наш приятель.
— Вы могли бы потише храпеть? — обломал я его. — Вы мешаете всем наблюдать за чудом.
Еще поражало стадное чувство особей. Стоило одному из стада забиться в аплодисментах, как остальные в момент подхватывали его хлопки и яростно выражали свое полное одобрение выходкам на сцене.
Я тоже решил порезвиться с «чужими». В самый неподходящий момент я громко забил в ладоши и торжественно закричал первый пришедший мне в голову лозунг: «Еху! Еху!». Наверное, я вспомнил четвертое путешествие Гулливера. В плане театральных лозунгов я придумал нечто новое. Разбуженные моим криком испуганно озирались. А спустя мгновение стали послушно отбивать себе ладони. Некоторые, спросонья не разобравшись, тоже принялись вопить: «Еху! Еху!».
А актеры все кланялись, кланялись.
Однако чудо закончилось. И люди, довольные, швыряли на сцену букеты, корзины с цветами и даже съестное — томаты и яйца. Одна женщина, словно в помешательстве, даже швырнула свой грязный лифон с желтыми разводами. Видимо, special for Рай-king…
А актеры все кланялись, кланялись.
— Какой прекрасный спектакль, дорогая! — вскрикнул рядом со мной тот самый мужик, который весь спектакль сквозь сон издавал грозное рычание. После этого он воспользовался предлогом и звучно поцеловал свою самку в кадык. В ответ она его тоже облизнула, и мы разбежались. Каждый в свою сторону гардероба и бреда.
Я не успел выхватить свою одежонку вперед всех, пришлось встать в очередь. Ладно, чего, я подожду.
Красивых девок в очереди было видимо-невидимо. И многие без парней, одинокие. А денежек-то у меня с собой маловато. Жалко на них раскошеливаться. Типа как видит око, да кошелек неймет. Не взял с собой побольше, дебил.
Особи спешно разбирали верхнюю одежду, попутно выражая друг другу свое глубочайшее восхищение незабываемой пластикой обезьяны и закрученной фабулой зрелища. Особенно старались не попасть впросак именно те субъекты, кто весь спектакль сквозь сон издавал рычание.
А девок действительно было много. Откуда только взялись в таком количестве… Молоденькие, совсем тиновые овечки. Конечно, было бы весьма по мазе посмотреть, как они умеют блеять. Но, блин, чтоб реализовать такие помыслы, требовалось немало шажков сделать. Ну, для окучивания тинэйджера. Говорить всякую ересь, в клуб вести тратиться, если совсем свихнуться, можно ему, тинэйджеру, глупому-юному, цветочков каких впарить. Говорят, так скорей на психику действует. И все для того, чтобы продемонстрировать овце, какой ты славный и распрекрасный, как уверенно и гордо ты гарцуешь в своем жизненном трипе. И все для чего? Все лишь для того, чтоб поближе рассмотреть, как она умеет блеять. Чепухень!
Я даже хотел подойти к какой-нибудь симпатичной овце и сказать ей, что неохота мне шажки эти делать и кэшировать, чтоб ей понравиться. Не хочу, мол, иллюзии лепить и предлагаю просто перепихнуться на быстрячках с такой расчудесной синьорой. Как кого зовут — без разницы, можно даже вообще не разговаривать, а поехать в волшебное сказочное путешествие ко мне домой. И там мы лихо и плотно схлестнемся в чудном животном порыве да и разбежимся поутру в разные стороны.
Вот так я размышлял, пока стоял в очереди за одежонкой. Затем подошла моя очередь, я последний раз глянул на потенциальных кандидаток, которые могли поблеять. Да лень, как всегда, обуяла. Да и стоила ли овчинка выделки?
Я выбрался из трюма под синее небо, в котором все так же блестели разбитые кусочки стекла. Как всегда, ничего не изменилось. Мы выплескивались из трюма и разбегались каждый в себя, в свою собственную выдуманную фантазию. Под гудки машин и гул Большого Города, под шелест полумертвых деревьев и плакатов. Мы «чужие», особи, одиночки, бабочки.
Но когда-нибудь небо скажет обо всех.
14
Все-таки после Академии Философии из-за гребаной Могилы у меня осталась какая-то сумбурная тяга к получению и анализу информации. От скуки я снова погрузился в исследование творчества знакового греческого общественного деятеля Герострата. Как мало первоисточников! Немного у греков, еще меньше у римлян. Первое упоминание — древнегреческий историк Феолен, четвертый век до нашей эры.
И это о том человеке, который раньше всех все понял и попытался все объяснить. Но, опять же мучился я, почему он, ликвидировав храм Артемиды в Эфесе, не разобрался со всеми остальными чудесами света? Надо отметить, что наглядная и практичная философия Герострата очень органично подходила к моей статье «Шоковое столкновение «Я» и «чужих» — единственно возможный путь продолжения существования».
В середине двадцатого века французы выдвинули свою концепцию относительно этого известного деятеля. Сразу надо отметить, весьма сомнительную. Хотя один из экзистенциалистов, отдавая должное гению, называл его «черным алмазом прошлого». Но и в древних веках имя у него было весьма приличное. Герострат — Герой Стратосферы. Или же его имя было неким образом связано с тяжелыми наркотиками…
Если по разуму раскинуть, то получается, Герострат и был самым наипервейшим радикалом, задолго до всех облагороженных робеспьеров, рылеевых, кропоткиных и савинковых. Кроме всего прочего, Герострат, видимо, был еще и техническим гением. Благо про поджог храма — это все лабудень для быдла всякого, он уже тогда наверняка сек за пластит и все такое. Был бы он сейчас жив, мигом бы подъегорил Петра на Корабле, или Храм-Чернильницу, или пещеры на Манежной площади, или особей в театре каком. Сейчас бы он точно не растерялся.
Словом, вопросов было все больше. Где б что узнать-то еще? Раньше люди вообще интереснее жили. Целыми народами переползали с места на место, с континента на континент в поисках счастья. Убивали других тысячами. И куда ехали, к кому? Хотя вот и хороший пример: ханты, манси и венгры раньше вместе в тундре на севере животнились. Потом венгры все поняли и ушли в хорошие земли, в Европу. А ханты с манси так и остались на севере лед колотить, мерзнуть.
Чтобы заштриховать белые пятна в биографии Гера, я даже задумал поехать в библиотеку имени Ленина и там, может, что найти неизвестное в архивах. Понятно, я прозябал не в Греции, не в Италии и даже не во Франции, а в России. Но небольшая надежда на успех поиска все же была.
Прямо с утреца набил брюхо мясом мертвых зверушек. Набил плотно, чтоб посвятить своему замыслу весь день. Одновременно с поглощением мертвечины, впитывал информэйшен из TV и FM.
Там в правительстве рьяно спорили, где им в очередной раз поисторичней царскими костьми сырую землю удобрить. Мотали эти несчастные кости от Анадыри до Калининграда. И повсюду каждый губер вопил, что его регион самый наипредпочтительнейший. По ящику даже показали, как ЛДПР и «Единая Россия» в ГосДуме какую-то берцовую кость делили из императорской фамилии, обвиняя, понятно, конкурентов во всех смертных грехах. А там уже подтянулись многочисленные потомки царской семьи, требуя свою порцию костей. Словом, русская душа, как всегда, представала небывало загадочной.
Ладно, помониторил ящик и хватит.
Пора выплевываться и к билдингу библиотеки. Захватил свои обрывочные записи и фляжку с «Саузой». Решил в плане промежуточного холидея сегодня торжественно отобедать после библиотеки. Типа как несомненные успехи отметить. Конечно, еще вопрос, как «Сауза» на мой брэйн брякнется. А вот насчет грядущих успехов сомнений не было. И конечно, напрасняк.
Забрался в яму метро, гусеница вниз потащила. Решил доехать до центра, а там уж пешкарусом.
Особи вокруг меня были грустные, нахмуренные, насупленные, подозрительные, справедливо ожидавшие от попутчиков любой пакости. Из осторожного чувства личной безопасности они старались находиться от остальных подальше и не привлекать внимания резкими движениями. Из маскировки они все же вылазили из своей персональной раковины и уныло заводили шармотень типа хорошей погоды и все такое левое. Каждая особь волочила по жизни немыслимый груз забот, бед и предательств, который отчетливо проступал на их осунувшихся желто-красных дисках с вылепленным орнаментом органов чувств. Это были такие же нелепые особи, как и по всех точках земного шара. Каждый «чужой» тайком надеялся обмануть весь мир и с ревом вспрыгнуть на своего золотого барана. И понестись, понестись на нем на встречу с удачей, славой и счастьем, топча остальных. Я даже явственно почувствовал, как каждый «чужой» пылает лютой ненавистью к моему «Я».
Наконец электропоезд задергался и замер на моей станции. Я выбрался и даже хотел помахать остающимся плесневеть нагоне. Ну чтоб дать им хоть какую-нибудь пищу для размышлений. Или напугать.
Здание библиотеки было действительно впечатляющим. Значит, не зря мне наболтали. Монолитная архитектура, барельефы — уж наверняка внутри я найду тысячи книг, где все написано про Гера. Заодно там можно было подвыяснить еще одно дельце, которое я не успел прощупать в Академии. Слава ангелам, я добрался.
Но надо было быть поосторожнее. Около библиотеки особи что-то затевали. Перед зданием раскачивался громадный шатер. А что? Всякое бывает. Может, это посольство персидского шаха. Или татары вновь за данью приехали. Толпа что-то скандировала и явно готовилась сорвать покровы с шатра, в плане протестировать, что скрывается под ним. Я смекнул: основную массу особей представляют студенты гуманитарных вузов, смывшиеся с лекций под благовидным культурологическим предлогом. Их выдавало тупое выражение лиц, количество педерастов, а также та неуемная жажда, с какой они заливали в себя всевозможнейшие спиртные напитки.
Чуть позже я понял: это готовят к открытию монумент. Так было торжественно объявлено организаторами организаторами, которые отчаянно и безуспешно пытались упорядочить их оргию. Один молодой восхищенный до последнего предела зритель, аж упал в ноги закрытому покуда памятнику. От полноты чувств его даже стошнило. Другие же, более стойкие, отталкивали товарищей и вырывали у них из лап бутылки с алкашкой. Наконец людская карусель замерла. И кто-то типа как главный торжественно сорвал с монумента прикид. Ничего особенного. Там почти как живой сидел один из многочисленных классиков русской литературы.
— Ничто не задушит русскую культуру! — прокричал очередной нализавшийся и рухнул на уже нескольких лежащих своих товарищей.
На этом торжественная часть и закончилась.
А я, пробираясь сквозь празднующих, подгреб к билдингу библиотеки. На всех дверях висели таблички со стрелкой: «Вход рядом». Что ж, по ним и двинулся. Добрался в итоге до более крупной таблички, сообщающей:
«Уважаемые посетители! Библиотека имени Ленина закрыта для реконструкции. Приносим свои извинения. Ждем Вас через три месяца в новый развлекательно-торговый центр «Веселый поросенок».
Как оказалось, книжек здесь более не будет. Хорошее дело. Может, тоже огонек билдингу преподнести в презент, как раньше делалось? И куда вообще мне теперь со своими важными изысканиями идти?
Некуда. Я даже расстроился. В который раз меня постигла очередная неудача благодаря особям.
Можно было окончательно влезть внутрь самого себя, внутрь собственной спирали и раскрутить ее по максимуму. Дойти до предела и разлететься мелкими кусочками повсюду. Если б все так сделали, то и вся планетка кырдыкнулась. И может, далеко-далеко, за миллионы световых лет, чужие астрономы на чужой планете, настоящие создания, САМИ инопланетяне увидели бы маленькую-маленькую вспышку и обрадованно осознали бы, что мы никогда их не побеспокоим.
* * *
Если не сложилось отхватить знания в библиотеке, то стоило пойти по какому иному пути в плане духовного менеджмента, развития и получения внутренних импульсов.
Цепляю «Нокиа». Звоню.
— Извините, пожалуйста, Роман дома?
— Да, — проскрипел голос его разлюбезнейшей супруги, Милы. И передала ему трубку.
— Гнидин! — закричал я ему решительным тоном. — Я знаю, ты на глушняк задавлен жизнью, проблемами, своей психопатической женушкой, уже даже и не пытающейся биться за будущее. Но, думаю, в тебе еще сохранились небольшие потуги к чему-то такому непонятному, историчному, непознанному…
— Короче, — перебил он устало. — Чего надо?
— Пошли в Пушкинский музей изобразительных искусств сваляем. Ты мне там по че-как покажешь, расскажешь. Может, хоть что-то по жизни пойму. Ну, в художественно-историческом плане. А ты ж типа как малюешь, сечешь… — подлизнул я на всякий случай.
— А выпьем?
— За это можешь не беспокоиться. Все что хочешь.
Докалякались, как нам ловчей пересечься, нажал отбой. Теперь оставалось только прикончить немного времени.
Каждый день — очередное разочарование. Выбираешься на улицу, бредешь, перемешиваешься с ними и понимаешь — дело полная дрянь. Наверное, нужно попытаться вообще не дышать и не чувствовать, встать на четвереньки и тогда мое «Я» станет «особью на четвереньках. И однокорытникам моим представится возможность, ощущать себя круче. И каждый плывет в своем корыте и, столкнувшись с другим, сравнивает свои материальные ресурсы — корыто — с другим. И если корыто пореспектабельней — пятачок воротит. Когда погибает он, другие растаскивают его корыто на части. А итог у всех всегда один — разбитое корыто. Так как время, время, время.
Которое сейчас очень интересное. Ведь сейчас наша Раша с самой Америкой подружилась. Типа как торжественное духовное слияние народов. Если, конечно, такой термин возможен в случае с юсовцами. А получается США — самец, Россия — пьяная шалава, стелется, унижается. Самец кончает кредитами, а шалава визжит: «Да здравствует Доллар! Да здравствует Доллар!».
Ладно, хватит думать лишнего. Пора идти, растворяться в каше человеческого фарша, ждать Романа.
Повсюду, ясно, реклама беспонтовая.
«Что у нас сегодня на обед? Как всегда, куриные кубики «Gallina Blanca». Жри».
Плакат с изображением шикарной девки. Улыбается она, а рядом надпись: «Просто так». Наверное, эта барышня из той же развеселой команды, что и та, с плаката «Я люблю тебя». Но эта уже действовала более изощренно и о любви даже не заикалась. Хотя ни телефона, ни адреса опять же не было. Может, снова в «Желтых страницах» залукать?
Закурил, закутался в пальто и пошел дальше. Мимо блестящего Храма Чернильницы, у которого был большой купол и четыре поменьше. Видимо, для другой пасты. Чтоб у Бога был выбор поширше. А тут и уникальный звон раздался из-под желтых крышек.
С моста посмотрел на реку. Там плыл переполненный двухэтажный кораблик. Субъекты глазели во все стороны и щелкали фотиками. Я швырнул вниз окурок и — дальше.
Впереди на набережной Петрушка на Корабле. Смотрит дикими глазами и попирает твердыню.
Петрушка был закодирован по первому разряду. Под ним была надпись «Петр I». Петрушка был очень высокий. Да еще на Корабль взобрался. Однако в шутовской костюм украшен не был. Всего-навсего накидка типа персидской.
Радом с Петрушкой почему-то шведский флаг, который закреплен был неправильно, потому и смахивал на российский старый. У подножия носы маленьких корабликов. И старые российские флаги опять же на поверженных кораблях. Так это что Петрушка с нашими же кораблями расправился, что ли? Или снова непонятой какие, а?
Опять туплю. Это ж снова рекламка! Одноименных сигарет «Петр I». И носы корабликов с поверженными российскими флагами символизируют фильтрики сигарет. А полосы крест-накрест на флажках типа как опасно для здоровья. Крест, дескать. Хана. Минздрав, предупреждения и крестик на твоей уютной могилке.
Реклама, конечно, шикарная и дорогущая. Видимо, мазовый рекламодатель. Но однако, однако… Здесь меня как шторкануло!
Я задержал дыхание и стал вымаливать у Ноя прощения. Это не Петрушка на Корабле, не Петр I, не памятник. Это же Ной! Точно! Ковчег, кресты, паруса, все дела. Река опять же, на которой Ной с ковчегом потоп ждут.
Я судорожно стал искать лесенку, по которой я смог бы забраться к Ною, который определенно для спасения среди массы особей выбрал именно меня. Но растяпа Ной совершенно не подумал, как мне на ковчег забираться.
А вдруг где и моя промашка? Я начал вспоминать библейские мифы, уж не допустила ли моя голова где непростительную оплошность? А тут и река забурлила. Вот оно! Потоп! Сейчас всех затопит, и только «Я» и спасется у Ноя. Я даже посмеялся над кретинами, которые пытались спастись на прогулочных корабликах. Все-таки теперь я всех околпачу.
Река все бурлила. Я вроде даже увидал высунувшуюся голову гидры. А лестницы все не было. Беда.
В ковчеге наверняка бегают звери, над ним кружили птицы, вороны и голуби, спасавшиеся вместе с нами.
Я попробовал подпрыгнуть и привлечь внимание. Как же привлечь внимание зашифрованного Ноя?
И здесь меня осенило. Я вспомнил. Там же ясно сказано: каждой твари по паре. А я-то один. Без пары. Где ж по-бырому ее нарыть?
Я закричал Ною, чтоб без меня ни в коем случае не отчаливали.
И вперед по набережной. Искать особь в пару. Я что-то еще помню из мифов. Кажется, необходимо, чтобы тварь Евой звали. Иначе ничего не получится. Я знаю. Я помню.
Эх, и уплывем же мы. Ной, звери, птицы, обязательно пингвины, «Я» и тварь.
Мне даже все равно было, какого возраста и внешнего вида попадется Ева. Лишь бы лестница спустилась. Лишь бы уплыть. Искать.
— Ева? — спросил я у первой попавшейся помятой жизнью женщины лет сорока.
— Не-а, — ответила она призывно. — Елена.
— Ин-на-а, Елена, — бросил ей и скорей дальше.
Как в бреду, я шакалил по Крымской набке еще минут сорок. И у каждой встреченной мною женщины я спрашивал имя. Евы не было. Здесь усталость пришла. С ней сомнения. Да и «Сауза» в фляжке почти кончилась.
Река вроде бурлить перестала. Катера с особями все плавали. Ной, Корабль — на местах.
Грустно обернулся. Значит, рано. Но я подожду, обязательно подожду и узнаю точную дату отплытия.
Все тот же Большой Город. Человеческий бефстроганов вперемешку с домами.
* * *
С трудом придя в себя, я направился в обратном направлении к Музею изобразительных искусств. Возле музея народа не было, только один Роман, грустно покуривающий около входа.
Тоже закурил. Подошел к нему.
— Что стоять мерзнуть? Пойдем, — махнул он рукой. Людей не было, но музей все равно открыт для тех потенциальных смельчаков, которые готовы столкнуться с самим искусством.
Несмотря на то что Роман уже был заметно залитый, он не преминул поинтересоваться, где же обещанное угощение.
— Да есть, — и протянул ему остатки во фляжке.
После ознакомления с содержимым фляжки Роман заметно подобрел. И так как мы с ним не виделись довольно давно, он тут же посвятил меня в последние события, которые с разной степенью удачи наслоились на него за последнюю порцию жизни. Главное событие — его успели вышвырнуть из Суриковки, и теперь, поняв многое, он полагается исключительно на Милку, которая искренне верит в его все никак не проявляющийся художественный дар. Теперь он типа как свободный художник и может творить все что угодно.
Но пора и идти. Я, ясен пес, ничего не сек в изображаловке. И потому наивно полагал, что Роман мне все покажет, расскажет, объяснит и задвинет в меня инфо за изображаловку по полной. Еще я надеялся, что, насмотревшись на общепризнанные художественные достижения прошлого, смогу хоть что-нибудь понять в реальной современности.
— Ну вот, выжрали, можно и в музей, картины смотреть, — сказал решительно Роман Гнидин. Мы и пошли.
Забрали в кассе тикеты, по льготному прайсу для меня и благодаря институтской корочке бесплатно для Гнидина. Это он мне даже с некоторой гордостью продемонстрировал. Еще он сообщил, что, по некоторым данным, он внучатый племянник Репина. Ну, Репин-Гнидин. Типа как со временем фамилия трансформировалась.
Сначала посмотрели золото Шлимана, которое он в Трое нахапал. Абсолютно неинтересная коллекция. Бестолковщина.
Затем в греческий зал переместились. Там при осмотре композиции весьма изменилось мое мнение о легендарном племени вандалов. Это те самые парни, которые к итальяшкам путешествовали, смотрели, похожие ли у тех внутренности, и заодно пытались позаимствовать у итальянцев их культурное наследие, которое эти хапуги к себе со всего мира стащили.
Но так как целиком увезти к себе в Вандалию статуи не смогли, то поотрывали самые ценные части: головы и конечности. И если раньше все дороги вели в Рим, то позже они из него только расходились. Вместе с дорогами часть статуй и в Большом Городе осела таким образом. И даже сохранилась до наших дней.
Ладно, фигня. Пора идти мониторить картины мазил. В конце концов я сюда за этим и приперся.
Короче, бредем. Роман мне по ходу рассказывает про стили там, композиции, краски, разбавляя попутно очередными новостями из своей собственной жизни. Оказывается, картины он больше и не пишет, а рисует исключительно портреты залетных коммерсантов около Набата. Довольно регулярно посещает Пушкинский музей и Третьяковку, смотрит работы художников.
Вот и сейчас он горделиво передвигался по залам, поглядывал свысока на полотна Снейдерса и Дега и комментировал:
— Если трезво взглянуть, дерьмо.
Вот как он меня в искусство загружал.
Затем Роман хмыкал и честно признавался, что картины он может писать вообще лучше, чем кто бы то ни было. Да пока не хочет, время, мол, еще не пришло. И что все истлело, мол, краски выцвели, образы отпали, цвета не нужны, кроме черного, белого и ослепительно-серого.
Я присек, что каждого художника швыряло на свою, близкую ему по духу художественную тематику. Например, тот же Снейдерс писал только одних животных, оттеняя особей на задний план. Дега все, наоборот, опрокидывало на людишек. Но вполне определенных — женского пола. Наверное, на это у него были свои, глубоко личные причины. Неслабо помогающие в творческом процессе.
На самом деле толком никогда ничего не менялось. Внешняя форма, да и то вдецл. Художники нищенствовали по полной и умирали, а коммерки потом обогащались. Самый яркий пример — Модильяни. Жаль, что его сейчас нет в России. А тогда бродил по Парижу неприкаянный, не знал все че-как насчет художественного таланта у него. А как закопали его сырую землю жрать, то в момент растрезвонили, дескать, крутейный картонный дурилка был и дорогущий.
Рубенс писал на церковные темы. Религиозные обряды, борьба с ересью и дьявольские вечеринки. А Буше мифологию мучительно припоминал. И на самой знаменательной своей картине изобразил, как древний герой Геркулес какую-то тину насилует.
Ничего не меняется. Раньше интерес особей привлекало то же самое, что и сейчас. Войны, кровь, убийства, предательства разные, христианские бредни и ненависть. Только раньше все прыгало в простой форме, а сейчас в более зашифрованной и изощренной.
Понравился же мне Клод Моне. Он вдохновенно написал темно-синее небо с разбитыми кусочками стекла, в котором несутся туманные ласточки. Но и этот заблуждался по внешней форме — туманных ласточек чайками обозвал. Не дотумкал, короче, растяпа.
Еще мне понравились «Песчаный берег моря» Синьяка и «Пейзаж в Овере» Ван Гога. Я даже хотел расспросить Романа поподробней, да что-то уж совсем сплохело ему. Ладно, потом спрошу. Единственно, что подпортило впечатление от «Пейзажа в Овере», так это «Красные виноградники» того же автора. Там было написано залитое кровью поле и барахтающиеся повсюду особи, пытающиеся влить выплеснувшуюся из них кровь обратно внутрь, в тела. У меня были претензии к названию. Не везло же им раньше с нэймами на полотна, художникам этим самым.
Либо это я, дурак, как всегда, ничего не понимаю. Даже и в путешествии с профессионалом. В который раз.
Здесь моему профессионалу стало окончательно плохо. Прямо под работами Ренуара. А вся радость, которую он усиленно поглощал, готова была из него выплеснуться.
Я понял, что путешествие в музей может закончиться теперь для нас отнюдь не лицеприятно. И поскорей поинтересовался у зевающей стражницы зала, подозрительно посматривающей на Романа:
— Где уборная комната?
Она неопределенно ткнула в сторону. Ладно, поблагодарил, найдем. Наконец, пройдя немерено коридоров, я забросил Романа в кафельную коробку.
Его долго не было. Только приглушенный иерихонский рев из уборной слышался. Вернулся же он посвежевший и даже довольный.
— Выжил? — поинтересовался я.
— Спрашиваешь. Хватит эту маралыцину безмазовую смотреть, пошли лучше в бар там внизу. Я, кстати, сюда частенько прихожу. Как посмотрю немного, сразу так грустно становится, тягостно. И в бар сразу валю. Даже картины толком не смотрю. Зачем? Сижу в баре, размышляю, а сверху — полотна. Главное атмосфера! Кстати, у тебя во фляжке все кончилось?
— Давно, — усмехнулся я.
И пошли в то музейное место, которое, видимо, было ему хорошо знакомо.
В бар? Ну, конечно.
Роман активно стал заказывать коньяк, закуски, пирожные. За мой счет, разумеется. Он держал себя так, типа он имеет самое непосредственное отношение к находящимся наверху картинам. А со мной здесь вынужденно ошивается, делая мне небывалое одолжение.
Теперь его колошматило волнами. В баре было порядком иностранцев, которых он на дух не переносит. Так пояснил мне Роман. После чего стал пояснять уже иноземцам, кто они такие на самом деле, выяснять, зачем они покинули свои исторические родины и советовать, в каком направлении им идти теперь надобно.
Наверное, неруси понимали, что Роман советует им нечто полезное, кивали, улыбались и пересаживались за более отдаленные столики.
Поняв, что иностранцы особо не горят желанием с ним тереть, Роман повернулся ко мне:
— Пора выпить за день рождения Брейгеля, за «Триумф смерти» и «Вавилонскую башню»!
Я как раз единственно, что слышал про изображаловку по ящику, так про этого автора. Потому сказал Роману гордо, что даже год рождения Брейгеля покрыт мраком, не говоря уж о конкретной дате. В ответ:
— Да это по барабану.
И мы чокнулись.
После этого слушаю его тягомотную нудятину. Он-де вообще больше писать картинок не желает принципиально. А хочет создать Тотальную Картину «Явление Христа Народу-2». Римейк. Это он, понятно, известных книжек начитавшись, задумал. И что типа в этой самой Тотальной Картине будет воплощено все, что можно увидеть глазами и вообразить мозгами. И вот Роман как-нибудь засядет и за недельку всего-навсего напишет эту самую Тотальную Картину. Она отобразит все фрески, картины, фотографии, кадры фильмов и элементы компьютерной графики. Тогда все картинные галереи будут закрыты и все будут смотреть только Тотальную Картину. И повсюду будут висеть только ее бесчисленные репродукции.
Вот такую я выслушал бредятину. И выразил некоторые сомнения в возможности создания подобного полотна. Но, заметив Ромино недовольство, тут же пожелал ему всяческих успехов в личном совершенствовании, чтоб обрести единение со столь глобальной композицией.
А он стал Гогена с Ван Гогом перетирать, как Гоген Ван Гога травил, как искусство они побеждали, куски-ухи от себя отрезали. Визжали, красная гниль хлестала, а все равно резали. И если вглядеться в «Пейзаж в Овере», как в голографическую картинку, то ухо это самое и увидишь…
Выслушивать подобное, ясен пес, уже было выше всяких сил. Да к тому же все я вкурил про изображаловку в путешествии особей. Сматываюсь, говорю, тороплюсь. Бежать надо типа на срочняках.
И побежал.
* * *
В чем самая загадочная штука? В том, что каждое «Я» хочет существовать лучше остальных. Остальные миллиарды пусть хоть все передохнут. Декларирование иного — вранье.
Чтоб шибко не огорчаться, снова сожрал «желтых». И зря. Достали меня уже эти «желтые» на глушняк. Переехал бы, что ли, Вагиз куда-нибудь с Красной Пресни…
Пошел растрястись в центр. Как и раньше, все блестело, пищало, бликало. Шелестело и мерцало. И казалось, что из каждого подвала доносится органная музыка. И казалось, что на каждом углу лежали эстетство и мертвые котята.
Тащусь по каким-то улицам. Какого-то Большого Города. Этот Большой Город мне также порядком поднадоел. Хотя здесь, как и везде, серели стены домов. Хотя здесь, как и везде, повсюду электрический свет. Была глубокая ночь. Дело в том, что завсегда интересно шлондаться где попало. Наверное, поэтому мне так не везет.
Подустав, присел на лавку. «Желтые», понятно, взбудоражили, пора и осадиться мал-мал. Как и раньше, терять было нечего. Как и раньше, нечем было обмануть окружающий мир. Надо снова уехать, и как можно дальше уехать. Чего думать — в другом Самом Далеком Городе, вне всяких сомнений, получше. Вспомнил весь сегодняшний бестолковый день. Повторюсь, терять действительно было нечего.
Здесь, в Большом Городе, все равно бы ничего не изменилось. И здесь все были тяжелыми и тупыми, и здесь все такими останутся.
Эге, решил я, ко мне сегодня еще приходит некоторое, пускай совсем далекое подобие мыслей. Обнадеженный, я почехлил дальше.
Кафе? Ну, конечно, конечно!
Надпись на двери сообщала: «Аленький цветочек». Здесь-то я и поразмышляю, как закончить свои нехитрые делишки. Открываю дверь, захожу.
И — ужас. Сбоку рев и рык из динамиков, а вслед за рыком я увидал и само чудовище из той сказки, только на этот раз приодетое в костюм и улыбающееся.
— Добро пожаловать…
Выплевываюсь ошарашенный. Я не такой простак, чтоб целовать чудовище и выручать его из заклинания.
Пойду в другой бар. Их здесь как грязи.
В другом баре вроде тихо, никто не встретил, можно присесть и прийти в себя. Не тут-то было.
Не знаю, как же меня опять так вставили «желтые Омеги», не знаю, откуда заплясала эта немыслимая вакханалия видеоизображения с саундом, но прямо за соседним столиком я разглядел Максима Горького и Жан-Поль Сартра. Видимо, эти особи тоже уже порядком поднадоели друг другу, так как заприметив меня, закричали:
— Северин! Идите к нам. Присаживайтесь.
Удовольствие подсесть было сомнительным, а бред вполне реальным и осязаемым. Все же пришлось присесть из вежливости. И вместо своих собственных размышлений теперь прислушиваться к чужим. Ладно, хоть посижу на халяву.
На экране под потолком неизбежно мелькала Бритни Спирс, которой подпевали оба этих господина.
Первым делом Максим рассказал, как случайно, но удачно им удалось познакомиться. И теперь типа они даже подумывают о написании ошеломительного шедевра «Детство хозяина на дне». И крайне поглощены собственными творческими планами.
Стол был заставлен тарелками с остатками их трапезы и смятыми пластмассовыми стаканчиками из-под «Холстена». Кроме «Холстена» они, видимо, пили еще красное вино, так как у обоих имелись характерные пятна на рубашках.
Теперь же официантка поставила на стол бутылку «Блэк Лэйбела», с отвращением посмотрев на Горького. Тот уже спал рядом с десертом. Иногда в такт сопению его усы погружались в мороженое, и я, пожалев, отодвинул мороженое в сторону.
Мы же с Жаном хлопнули «Лэйбела», и давай он капать мне на брэйн, залечивать:
— Ты, наверное, хочешь знать, почему я всегда отказывался от официальных наград? Не все так просто… — пытаясь найти себе еще одного благодарного слушателя или союзника, он грубо ткнул в бок своего товарища. Тот захрипел и посоветовал ему совершить паломничество в страну с нецензурным названием. Сартр же продолжил:
— Я борец! И еще какой глобальный. Я борюсь за воссоединение двух великих культур.
— Каких? — спросил я. Мне приходилось заметно напрягаться, чтоб говорить с ним на французском.
— Никогда не угадаешь. Воссоединение двух самых неизученных культур: африканской и китайской. Понимаешь, о чем я?
В таком состоянии я просеку что угодно. А он продолжил свой спич уже неожиданно:
— И какая же ведь шалава!
Я понял, что он достиг того состояния, в котором приходят патриотические мысли. С участием спросил:
— Кто? Франция? Ах, Франция, твоим полям всего себя отдам…
— Да какая Франция? Симона де Бовуар! Бобер, блин.
Я плеснул пойла, снова выпили. Тоже осмелился щелкнуть Максима. Тот приподнял башкетничек и снова пробормотал что-то о прелести путешествия в страны с нецензурными названиями. Сартр ударил сверху, и Горький снова упал рядом с десертом.
— Эх, Северин! Не был ты в Париже… — ностальгически протянул Сартр. Ностальгически, но с выраженным оттенком ненависти.
Я понял, что он почти дотянул до нужного кондишена и уже вполне готов дебошики разные подустроить. Впопыхах я поинтересовался планами.
— Планы? — обрадовался он. — План, как всегда, один. Грамотный отход в правильный коматоз на полных раскуражах. Еще готовлюсь продолжить свою трилогию, серию, почти как у Пруста. Вот возьму и напишу после «Тошноты» вторую и третью части: «Рвота» и «Блевота». Представляешь, какая монументальщина?
Я, конечно, все представлял.
Он впал уже в такой конкретный экстаз, что заливал себе выпивку не в главное отверстие. А просто из горла плескал вискарь себе на рожу и слизывал текущие капли.
— Еще я говорил про воссоединение двух великих культур. Ну, африканской и китайской…
— Китайцы разберутся во всем, — отчеканился голос за моей спиной. А на лице моего собеседничка отразилась гримаса ужаса и первобытного страха.
Посмотрел и я.
Спокойно оглядывая нас, там стояли Джонатан Свифт и Луи Селин. Последний, узнав меня, даже брякнул:
— Вот тебя я здесь встретить не ожидал, — и, обернувшись, что-то пробормотал Свифту.
Тот кивнул и пожал мне руку.
— Ты что с энтими-то делаешь? — недоверчиво спросил Селин.
Я, конечно, не смог подобрать никаких оправданий, каким образом оказался за столиком с этими двумя особями. Потому и промолчал.
— Эй, ты, плагиатор и стукач! — обратился Луи к Сартру. — Паразит на теле французского издательства! У тебя есть безусловная свобода выбора: в первом варианте — пойти сам знаешь куда, во втором — покрыться куском сам знаешь чего. Если, конечно, ты понимаешь, о чем я.
Сартр мигом вскочил и, подхватив Горького, пополз к выходу. Около двери он повернулся и обиженным голосом сказал исключительно мне:
— Ты, Северин, еще даже не представляешь, что тебя поднакрыло. Опингвинение, парень! Тотальное Опингвинение! Ты попал, парень, ты вперся.
И исчез вместе с Горьким подмышкой. Видимо, отправились практически отрабатывать вторую и третью часть обозначенной трилогии.
— Ну, что здесь у нас? Как и везде? Хренотень?
Обслуживающий персонал, узнав новых посетителей,
поменял скатерти и принес новые, более дорогие сервировочные приборы. Даже освещение убавили, невзирая на недовольство остальных присутствующих, заливающих пойло и пожирающих мясо мертвых зверушек.
— За счет заведения, — вкрадчиво пробормотал обозначившийся директор и поставил нам на стол джин, тоник и красное вино. Распорядился какие-то эксклюзивные блюда принести. Словом, шелестел как мог. Вскоре стало ясно, с какой целью. Автографы прощелыга взял. У Свифта на памфлете «Панегирик человеческому уродству», а у Селина на брошюре «Школа трупов». После чего отошел, счастливый, в сторонку. Подчиненные обступили директора и завистливо рассматривали их росчерки.
Несмотря на бездонную глубину постижения сущности человеческой породы, в моих новых собеседниках сохранялись остатки патриотических чувств. Свифт выложил на стол пачку сигарет «555», а Селин — «Житан». И закурили.
Свифт, увидев Бритни Спирс на экране, выругался и вырубил ее встроенной в наручные часы дистанционкой. Затем сорвался с места и заставил халдеев поставить «Offspring», альбомчик «Americana». Да так и остался возле барной стойки тереть с девками. А персонал, потрясенный ловким актом отключки Бритни, заговорил кто о неполадках приборов, а кто о магии.
— Не обращай на него внимания, — сказал Селин, достал удобный швейцарский ножичек и начал настругивать мелкими крошками гашиш, чтобы забить его в выпотрошенную житанину.
— И вообще, будь со Свифтом поосторожнее. Нервный стал, ни с кем не разговаривает. Он уже давно смотрит на всех еху (как он позиционирует особей), если не с ненавистью, то уж с отвращением наверняка. От Британии ушел, от семьи ушел, теперь со мной вот… — он про-дунул пустую гильзу и вставил туда, где был раньше фильтр, десятиевровую купюру. — Кстати, я слышал ты в Антарктиду к пингвинам собираешься. Задумано, конечно, здорово. Но только Свифту ни слова. Скажу по секрету, он тоже в Антарктиду, где особей нет, к пингвинам хочет поехать. Если про тебя узнает — запросто пришить может. Ему еху хлопнуть — как мне два тапка… Так что молчок.
Селин щелкнул зажигалкой и затянулся. Почти сразу его и цепануло.
— …Вымачиваешь гаш в яичном ликере, добавляешь тертого мускатного орешка, сверху смазываешь краматиком. Хлоп — и уже почти видишь радугу звезд или путешествия.
— Из Франции сейчас едете? — деликатно осведомился я, перехватывая у него дымящуюся палочку.
— Во Франции все предатели, кроме меня! Какая Франция?
— О, Франция, твоим полям всего себя отдам… — промямлил я снова смущенно и уже совсем ничего не соображая.
— Франция? Франция, как ты, парень, выражаешься, это огромное скопище подонков, вроде меня, гнилых, вшивых, промерзших, которых загнали туда со всего света голод, чума, китайцы и холод. Дальше бежать было некуда — море. Вот что такое Франция и французы. Франция обнегривается. Нет больше Франции. А мы едем из Северного Города…
Я удивился и сообщил Селину, что, мол, тоже в свое время в Северный Город собирался.
— Мысль неплохая. Знаешь, в каком-то роде Северный Город — красивейший город в мире. Я даже в Мариинский театр постановку предложил. Отказали, ублюдки. «Безделушки для погрома», называется. А у вас-то в России смотрю — жидят каждый первый. Нужна дезинфекция, чистка нации.
— Это растяжимые понятия, — поправил я.
— Верно подмечено. Но пойми, что евреи это не нация, а образ жизни. Ведь, если в паспортняке «жиденыш» написано, то это еще ничего не значит. Евреи — это особый склад характера. Это отборная сволочень, квинтэссенция всего гаденького, мерзкого, расчетливого и грязного. Тысячу раз антисемитизм! Чистка в первую очередь! Каждого первого хватай с экрана — и к стенке. Читал книжку такую попсовую, «Зло» называется? Второе название «Гоблины»? Это про них, про жидят. Эх, китайцы разберутся во всем!
— А негры ВСЁ объяснят, — поддакнул я незатейливо.
— Понимаешь, я видел французов, немцев, англичан, шведов, эстонцев — внутри чистые жиды. Ведь по внутреннему содержанию даже китаец, даже неф может быть евреем. Это не национальность, а образ мышления.
— Понравилось в Северном Городе?
— Еще бы! Белые ночи. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Мы же со Свифтом врачи по призванию. Так мы в Северном Городе в местную венеричку мотались. Ты думаешь, кто придумал СПИД, коровье бешенство и вирус Эболы? Мы со Свифтом. Только все никак не развернемся. Но все равно отомстим им за экологию и убийства животных. Повсюду грязный кошмар. Но природа ответит, ты слышишь как стонет Земля? Как она сопротивляется? Цунами, землетрясения, глобальное потепление, извержения вулканов и бермудские треугольники. Я жду неслыханных катастроф и немыслимых бедствий. Весна больше не придет. Я моделирую оперу всемирного потопа! Я орган Вселенной! Я рыцарь Апокалипсиса!
Вот так кричал Селин, размахивая руками. Я, конечно, слушал. И слушал превнимательно.
— Кстати, как? Торкнуло? — спросил он, отдышавшись, про гаш. Я кивнул.
— Конечно, поезжай в Северный Город. Тебе проще. Вот мы даже и не знаю, куда рванем дальше… Крым? Антарктида? Чили? Анкоридж? Движение, непрерывное движение. Надо бежать и сматываться. Сматываться и бежать. Еще мы со Свифтом попали в Северном Городе на отвязную штуку. Музыкальный фестиваль «Панк против демократии». Щас спою!
Из-за последней фразы я мультфильм вспомнил, где животное травили, а оно пело. Сейчас же пел Луи-Фердинанд Селин:
Сид Вишес умер у тебя на глазах, Яр Кэртис умер у тебя на глазах, Джим Моррисон умер у тебя на глазах… А ты остался таким же, как и был…Ясно, он давно завернулся на все сто четыре головы. Хотя вроде говорил он весьма убедительно. Свифт же «Blink 182» поставил.
Конечно, подшторило, что теперь начнется преужаснейшее. Сейчас они присутствующих в заложники возьмут или просто перебьют всех, как еху. Пора было метнуться и к выходу. Пускай остаются в кафе и хоть атомный гриб здесь рожают.
А я — на стрит.
Жизненное путешествие, конечно, как восхождение на гору. И ты, альпинист, лезешь и карабкаешься на самую вершину. Забираешься и видишь — внизу самые умные. Которые лезть не стали, смеются и веселятся. А ты, уже конченый старикан, получаешь пенсяр, лукаешь ящик и скрежещешь зубами от злости и понимания того, что лезть было совершенно без мазы.
Город снова запульсировал.
Город снова заскрежетал.
Улицы продолжали размножаться, а фонари сыпали навстречу лепестки. Они падали, падали и падали, застилая розовый снег до самого алчного горизонта. Город явно хотел подвергнуть меня остракизму. Здесь не было правды. Здесь не было ничего.
И когда лепестки завалили улицы, Город перестал пульсировать.
Город перестал скрежетать.
Лепестки действительно завалили все.
Белые лепестки.
И яркие.
15
«Здравствуй, Могила!
Живу я хорошо. Просто замечательно. У меня все есть. Люди в Большом Городе все очень добрые, милые и честные. И в Академии Философии мне все очень нравится. Учусь на очень хорошие отметки. Преподаватели старательно передают мне свои знания. Все меня очень ценят. А тебя здесь еще помнят.
Никуда ехать больше я не собираюсь. И активов, драгоценностей и баксяток у меня столько, что просто и не вкуриваю, куда их еще заинвестировать-то.
Хожу по музеям, театрам и выставкам, где общаюсь с очень интеллигентными людьми. Все люди в Большом Городе очень друг друга любят и друг о друге заботятся. По возможности сеют доброе, разумное и вечное. Самыми крупными порциями. Если же кому-то по неопытности становится тягостно так на душе, невмоготу, то все добрые люди тут же стараются тебе помочь деньгами, счастьем и удачей. Особенно мне понравились «Макдоналдс», Храм Христа Спасителя, театр «Сатирикон» и Музей Изобразительных Искусств имени Пушкина. А уж Юбилей какой был — так просто закачаешься. Жаль, ты, Могила, не видела, да наверняка по телевизору показывали. Мы с друзьями побывали на всех праздничных мероприятиях, и нам очень понравилось. Такого грандиозного праздника я еще не видел. Друзья мои обучаются преимущественно в творческих вузах. Все как один люди талантливые, отзывчивые и добросердечные. Особенно Свифт и Селин.
Наконец, собрался написать тебе, Могила, несмотря ни на что. Вышел из дома только сегодня. А до этого пять дней не выходил, боясь выбраться даже за хаванинкой.
Безумие и ужас. Ужас и безумие.
Спешу тебе сообщить, что хотя ты обо мне и крайне невысокого мнения, я до сих пор жив и здоров. И ошибочно твои агенты напели, что со мной почти все покончено и недолго мне осталось переползать из города в город. И не лежал я вовсе в «пятнашке», а ездил к очередному своему товарищу, который слетел с катушек на почве сказочного лобового столкновения с нашими прекрасными согражданами.
Извини, что пишу сбивчиво, да все некогда. Беспрестанно думаю, как бы и мне половчей научиться сеять доброе, разумное и вечное.
Так вот. Побывал я на Конгрессе молодой русской интеллигенции, благодаря чему и просидел несколько дней дома. Дело было так. Художнику Роману Гнидину где-то перепали приглашения на этот Конгресс, проводящийся в Центральном Доме Литераторов. Он меня за компанию позвал. Признаюсь, мне не удалось прикинуться интеллигентом. Оделся я опрятно, в костюм с галстуком. К тому же перед путешествием на Конгресс молодой русской интеллигенции совсем ничего не пил.
Выходим с Романом на улицу. Стоим на обочине, ловим тачку. Рядом с нами ларек для синих, быдла с заводов и остальных, кто пока не дотянулся ухватистой рукой до счастья. Стоит синий там, заливается, а рядом с ним мальчишечка лет восьми. Улыбается мальчишка, смеется постоянно. То есть больной, природный имбецил или дебил. В какой-то степени повезло ему. Ведь людям приходится нажираться или закидываться, чтоб стать дебилами, а он всегда такой.
И смотрит, смеясь, куда-то вверх. А ветер сильный, наверху на торце жилого дома плакат рекламный развевается, «Marlboro». На плакате особь мужского пола набрасывает петлю на шею лошадке, типа как издевается, и дым еще лошади в лицо выпускает.
Я сперва подумал, что мальчишка на плакат тупо смотрит. Но нет. Он смотрел выше, на красивое громадное облако, по форме напоминающее диковинное животное. И восторженно так смотрел, прочувствованно. А вот особям до облака не было никакого дела. И что получается? В какой-то степени небо уже начало говорить. Но услышал его только маленький дебил.
Я даже хотел подойти к мальчишке и сказать, чтоб он никогда больше так не смотрел ни на небо, ни на облака. Потому что особям это вряд ли бы понравилось. Но пока думал, папаша уже поволок бутылку и сына вниз по улице.
Я смотрел на облако, пока оно не исчезло, и искренне завидовал маленькому дебилу. Ведь он мог запросто ориентироваться по облакам. И возможно, его запасов любви хватило бы поделиться со многими. Да кто ж ему даст.
Здесь тачка подъехала, и мы с Романом поехали на Конгресс. По пути он рассказал, что они с психичкой Милкой в такой неслабый трип раскуражный ударились, что, кажется, аж одного ребенка куда-то продинамили. Теперь он, может, в приюте, может, у друзей, а может гулять ушел с седьмого этажа. Но ребенок лишний, говорит, однозначно был. Помнит, нечто ползало.
Таксист весьма заинтересовался рассказом. Его отросток, окружающий боковое отверстие головы, аж оттопырился и подрагивал.
Доехали, расплатились. Мы на Никитской.
Мрачноватое здание Центрального дома литераторов я увидел издалека. От него, казалось, сразу исходили какие-то не совсем хорошие флюиды. Я приготовился к худшему. Довольно напрасно я надеялся, что за тот час, на который мы опоздали, особи внутри не успели как следует надавить на синие педали. Хотя, конечно, можно было, разлелеявшись, представить себя в некотором вакууме из мировой философии и литературы. Что тоже весьма глупо.
На входе ко мне сразу бросилась вахтерша, растопырив руки и дыша мне в смущенное лицо смешанным запахом, в котором угадывались волны кислой капусты и чеснока. Глаза у нее были уж шибко выпучены. Но меня так просто не напугаешь. Чего уж там.
— Куда? — закричала она вызывающе.
— На Конгресс, — ответил я с достоинством и ткнул ей в гляделки приглашение, которое мне так опрометчиво впарили.
— А почему в костюме и трезвый? — подозрительно осведомилась она. И конечно, в своих подозрениях она была абсолютно права.
— Я здесь случайно.
Она что-то там еще погундосила себе под нос недовольно, комментируя мою персоналию и все такое.
Черт с ней, отмахнулись, пошли-разделись.
Чего же ожидать? В конце концов жизнь — это лживый компромисс между тем, что ты так наивно хочешь, и тем, что в итоге получаешь.
Роман объявил, что в зале, мол, делать нечего, и отправился в бар. Я же забрел в большой зал. Думал, что народу-то там битком будет. И, как оказалось, совершенно напрасно.
Сперва мне даже показалось, что в зале толком и нет никого. Но мое первое сумбурное впечатление оказалось ошибочным. Легкий шум и шелест бумаг подтвердили, что в зале кое-кто все же имеется. Всмотревшись, я с трудом обнаружил редкие островки интеллигентов, размашисто рассредоточившихся по всему необъятному залу.
Позже я присек и знакомую прибалтийскую журналистку, которая спецкоррила в Большом Городе — Нийолу. Она сидела с раскрытым ртом, в руках держала диктофончик, а к плечу прижимала новенькую видеокамеру. Соседнее рядом с ней кресло было завалено микрофонами, шнурами и кассетами. Ну, хоть кто-то не хочет ничего пропустить, подумалось мне. Или, скорее, Нийолка для прибалтов или ЕС репортаж варганила. Чтоб поглумиться, наверное.
Чтобы показать окружающим, что я тоже, мол, не лыком шит, плюхнулся в кресло в центре зала, где молодых особей было поменьше. Все выступавшие как будто только что сошли со страниц произведений Салтыкова-Щедрина. Все как на подбор были неряшливы и уродливы. Ото всех шли флюиды потерянного времени.
Несмотря на то что свои речи они тщательно вуалировали благородными патриотическими фразами, рефреном их словесных потоков сквозило: «Баксят… Ну, хоть кто-нибудь дайте же мне наконец бакинских. Да побольше дайте, побольше…». Они даже обвиняли в своих собственных творческих неудачах внешних врагов, которые якобы строят им козни, кризис в Персидском заливе, пингвинов и Пиночета. Все что угодно! Пытаясь оправдать собственные неудачи, они были готовы обвинить в справедливо нескладывающейся собственной жизни хоть Солнце, хоть Млечный Путь. Правда, было довольно смешно, что деньги они пытаются друг у дружки выклянчивать. Это уже была фантасмагория.
Однако повезло и им. Позже я увидел, как они дружно обступили какого-то разорившегося банкирчика, размахивали руками, своими брошюрами, грязными рукавами, пытаясь выцыганить у бедняги хоть что-нибудь. Все это зануднейшее мероприятьице наскучило мне за очень короткий отрезок времени. Я подгреб к Нийолке и спросил, неужели типа здесь основное мероприятие и это все присутствующие? Может, еще где мероприятия Конгресса в здании?
— Остальные познают невыносимую легкость бытия чуть ниже, — серьезно ответила Нийола и слегка кивнула головой.
Я аккуратно поднялся и отправился в нижний бар. Надо отметить, что она меня не околпачила. Уже неплохо. Как оказалось, из общего количества людей, находившихся в тот день в ЦДЛ, в баре было девяносто пять процентов. Это я так на глаз прикинул. А Нийола, кстати, так и осталась в зале шнягу выслушивать. Потом я спросил у нее, чего она там наслушалась за одиннадцать часов.
— О! Говорили много, красиво, очень искусно. Но я все равно ничего толком не поняла.
Из варева бара навстречу мне выплыла незнакомая девка и жадно, но как-то судорожно затараторила:
— Где выход? Где выход? Где выход?
— Вали туда, — махнул я рукой. — Там тебе все объяснят.
В баре было много убогих придурочных поэтов. Мое внимание с ходу привлек один скрюченный доходяжка в очечках, который хищно метался от столика к столику, в зависимости оттого, где ему больше позволяли клюв промочить на халяву.
— Алмазное Крыло Русской Поэзии, — скромно представлялся он незнакомым людям. — Вот было Возрождение, был Серебряный век. Теперь новая эпоха. Алмазное Крыло… Алмазное Крыло… — продолжал он представляться. — Нет, не индейская кличка.
Я выбрал столик, где уже находился Роман, а рожи были потрезвее, и деликатно прикорнул с краешка. Конечно, я особо не задумываясь, присоединился ко всеобщему высвобождению животных инстинктов с помощью всевозможнейших алкогольных напитков. Я как раз накануне, как дурак, пытался листать книжку Юрия Нагибина, в которой почти все место пьяным дебошам в ЦДЛ и уделялось. Помню, я что-то ляпнул по этому поводу, а девки за столом прокомментировали:
— Это каким гражданским мужеством надо было обладать Нагибину, чтобы честно написать, что всю жизнь, в сущности, был форменной мерзятиной.
Вступился, очнувшись, Роман.
— Идиотки! — промычал он презрительно.
— Изумительно! — оторвалась от вина еще одна девка.
— Наливайте! — прорычал еще кто-то.
Однако, несмотря на конкретную залитость алкашкой, Роман еще мог что-то мычать. И он не придумал ничего лучше, как попросить сочинить для его той самой Тотальной Картины какое-нибудь очередное громкое название.
— В чем композиция? — поинтересовался я.
— Глобально обо всем! Ну, там я, жена, вся моя жизнь.
— Да? — хмыкнул я. — О тебе и о жене твоей Миле, говоришь? Тогда «Вонючий Ублюдок на Омерзительной Гадине», — так предложил я ему искренне.
— Нет, так не пойдет, она, конечно, омерзительная, но пока человеческая особь… — следующие минут пятнадцать он посвятил тому, что, прихлебывая, бурчал себе под нос.
— Так, «Июльское утро» было у этого… — я не расслышал какой-то меткой характеристики. — «То июльское утро» было у итальянца. А может, «Еще то июльское утро»? А? Нет… «Село»? Нет… «Дезинфекция»? Нет… «Синяя печень симпатии»? Нет…
Между тем я подметил, что в большой зал слушать дальнейшую бодягу возвращаться явно никто не собирался. Однако вновь прибывающим на конгресс уже негде было сидеть. Все это живое месиво кричало и заливалось по самые обода. За соседним столиком два мужика с неприятной внешностью и с бородками вначале вели себя более-менее адекватно, а позже, после второй бутылки, стали рьяно спорить о новом реализме и преодоленном постмодернизме. Я прислушался к крикам и мату. Еще почему-то обрадовался и подумал, что если они перегрызут друг дружке глотки, то всем от этого будет большая польза и выгода.
Тут бахнула музыка, кто-то что-то объявил, и все взбудораженно повскакивали. Это было приглашение на торжественный обед. Оказывается, все из-за бесплатной хавки сюда только и приперлись. Они бросились через дорогу, в арендованный кабачок. Бросились весьма быстро, расталкивая конкурентов и с ходу переругиваясь, занимали очередь к кормушкам. Как в хлеву.
По их словам, обед был весьма неплохой и, видимо, сильно контрастировал с тем, чем они обычно питались.
Особенно первое. Однако, что меня задело, многие сразу после обеда и смылись. Даже не попрощались! Получив реальные подтверждения того, что многие повелись на жратву, я тут же решил для себя, что отсижу конгресс на полную катушку. Я же не такое дерьмо, как эти пидоры.
Но некоторые все же вернулись на Конгресс и с новыми силами налегли на все то, что щедро предлагалось к приобретению в баре. Разговоры перешли уже на какой-то конкретнейший бред, и чтобы не слушать бесполезную болтовню, я почехлил на обратку в большой зал, может, там что изменилось, и теперь, может, можно прямо на практике прикоснуться к доброму, разумному и вечному. Зря, впрочем, надеялся.
В холле я присек Гришу на курс младше из Академии, он с обеда как раз возвращался. И хотел было уже подойти, да меня опередили. Вот незадача! К нему подскочила целая группа журналистов с камерами там различными, микрофонами всякими разными. И тараторят:
— Ваши впечатления? Ваши впечатления?
— Достойная жратва! — обрадовался он. — Вот только еще и банкет обещали ближе к вечеру. Вы не в курсе, когда наконец банкет начнется?
— Пару слов о Конгрессе?
— О Конгрессе? — потускнел он. — Без комментариев!
Я не знаю, откуда он про банкет выдумал. Но после последней фразы Гриша скорей-скорей рванул туда, к искрящейся яме бара, откуда доносились крики, пьяные песни и звон разбиваемой посуды.
Ладно, вернулся в зал.
В зале как раз кто-то неприятный и нелепый рассказывал: русская литература гибнет, страдает, и все такое прочее. Народу там во второй половине, ясно, было вообще кот наплакал. Говорили еще о том, что-де русскую литературу надо быстрее спасать. «А так как русской литературы сейчас в принципе не существует, то она в этом очень нуждается», — подумалось мне в тумане. Я тоже что-то вякнул со своего места по дурости, но понял, что это даже смешно. После обеда почти все выступавшие были откровенными даунами, бездарными имбецилами или представителями нового реализма, что в принципе одно и то же.
Ладно, встал, вернулся в бар к Роману.
Что мы дальше там пили, помнилось с большим трудом. А чуть позже я услыхал, что где-то неподалеку ошивается советник Президента РФ. Следующие минут тридцать я посвятил тому, что рыскал по всему зданию в его поисках. В конце концов не каждый день представляется случай отдизайнить морду лица советнику Президента. Но мне не везло, и все тут. Как я узнал позже, мне всего-навсего нужно было оставаться около входа в тамошний ресторанчик, «Дубовый зал», и терпеливо подождать, когда советник Президента неизбежно забредет туда отметить несомненные успехи и достижения Конгресса. И как рассказали, отметив под самую завязку достижения Конгресса молодой русской интеллигенции, он в экстазе впаривал в коридорах всем желающим приглашения на Конгресс уже взрослой русской интеллигенции.
Я снова сидел в баре. В какой-то момент мне захотелось стремительно сжаться, даже двигаться казалось бесполезным. Одновременно я почувствовал связь времен, и мне показалось, что все это когда-то уже было. Ну, подобная вакханалия.
Несмотря на все препятствия, Конгресс продолжался.
— Слава молодой русской интеллигенции! — радостно заорал очередной залившийся рядом со мной и с этими словами молниеносно швырнул пустую бутылку в противоположную стену. Она разлетелась на мелкие прозрачные звезды. После этого он довольно хмыкнул и вежливо проинформировал свою подругу, сидящую рядом с ним и декламирующую неприятным визгливым голосом опусы Ахматовой, о том, что считает ее, ну подругу свою, конченой блядвой. На это девушка захлебнулась от возмущения и выплеснула в его благородное лицо кофе. Бойфренд ответил кулаком…
Я перевел взгляд на Романа. Он уже дошел до последнего кондишена, так как ему всюду мерещилась Страшила Мила. Он цеплялся ко всем подряд девкам и называл их ее именем. Лез… Хватал… Валился вправо и влево… Впрочем, таких уже было большинство.
Но тут и у меня в гляделках потемнело и что-то прям башку сквозануло с непререкаемой остротой. Все поплыло и смешканулось. Я даже вдруг увидал римские театры… вавилонскую азбуку… услышал органную музыку.. Словом, все величие древних культур. Но тут же смекнул, что пора хоть здесь показать себя во всей красе. Я припомнил ту книжку ублюдка Нагибина, где он отважно валил вражеские силы, налакавшись в ЦДЛ пойла и собственных национальных видений, как расправлялся он с недругами, прямо не выходя из стен этого билдинга. Короче, нужно было брать пример хоть с кого-нибудь. Хотя, конечно, у каждого своя жизнь.
Я развернулся, что-то хлебанул, для полного комплекта зачерпнул порцию видений и не мешкая более смачно хлопнул в рожу Гнидину, а потом и еще кому-то. Этот кто-то отлетел в одну сторону, а художничек плюхнулся на незнакомую девку, которая не придумала ничего лучшего, как оторвавшись от спиртных напитков, тут же раззявить на весь бар свою хлеборезку. Потом, ясно, и меня хлопнули. Я тоже брякнулся.
Все смешалось.
Понятно, все это уже было мне ни к чему. Что-то в голове прояснилось и подсказало: «Сваливать!» И я шементом вылетел из бара, а чуть позже ощутил себя отпозиционированным на Никитской. А уж там побрел. Глядя на звезды, к мерцающим вдалеке огням.
Однако далеко мне уйти не удалось. Это легаши обозначились и поскорей скрутили меня в плане добычи денежной. Доков у меня никаких не было, ни паспорта, ни международных прав. Поэтому я ткнул им единственное, что у меня было из документов. То есть приглашение на конгресс.
Им это очень понравилось, и пока они меня обыскивали, все смеялись. А меня переклинило:
— Подгоняйте машины! Вызывайте подкрепление! ФСБ! СОБР! ОМОН! Их там очень много! Сбросьте бомбу! Убейте их всех!
Вот как я декламировал. Видимо, они приняли слитую мной информацию к сведению, благо с извинениями отпустили.
И я уныло потащился домой. Вокруг уныло колыхались здания… огни… тачки… айсберги… Где-то далеко неслись породистые лошади… вокруг — большие собаки…
Лошади били копытами.
Собаки выли на Луну.
А город смеялся…
16
Теперь люди мельтешат передо мной один за другим. А я совершенно не меняюсь. Они появляются неожиданно, лезут со своими прогонами, вываливают на меня порции своей прошлой жизни и исчезают в поисках жизни будущей. Многие из тех, кого я когда-либо знал, закручиваются передо мной во временном калейдоскопе. Все их истории, проблемы, горе, обманы и надежды на будущее оседают на стенах моей квартиры и на мозгах. Ну и пусть. Живые исчезнувшие во времени — они как привидения.
Они исчезают, и вслед за ними тянутся ошметки их жизни. За далекий горизонт, на Север и Юг, Запад и Восток.
Приехал Олег со своей молдаванкой Нелей. Ну, тот самый Олег, который успел из банка сдернуться в Западном Городе, когда я от лени тоже с чеками на прием не покамал.
Я даже не удивился. Просто открыл дверь и запустил их в квартиру. Они сделали вид, что обрадовались. Они на одну ночь, чисто крышак подобрести, а там дальше на юг. В Крым.
— У тебя все нормально? — спросил Олег настороженно, как будто зная, что все не очень в порядке.
Соврал, что нормалек. Сели на кухне. Дал им жратвы. Они набросились так, как будто десять дней голодали, нищенствовали по полной.
Пока они жадно закидывали еду, все рассказывали. Типа едут завтра, там их ждут будущее, счастье и все такое. Я, конечно, ни черта не догнал, на фига они на юг сматываются. А они стали врать, мол, достало все, и теперь самое спасительное для них — в Крым убраться. В Керчь. Они там халявную хату всего за несколько тысчонок грина намутили. Сколько, правда, они ни затирали, что по своей воле туда сматываются, верилось слабо. Особенно если обратить внимание на их осторожные взгляды и вкрадчивое общение.
Да мне ль не по барабану?
У него, знаю, были конкретные проблемы с монетами. Но как он Нелю уболтал? Вот тоже раззявила рот, думает, там юг, корабли, море, хохляцкие флаги и вино. Как бы не так. Хотел бы я посмотреть, как там Неля ошизеет на досугняк.
Хотя в таком возрасте все сохраняют иллюзии и максималка по «Я» прет. А затем, как известно, когда наглатываешься жизненки плотняком, уже семь раз отмеришь, прежде чем какую дурость затемяшишь. И если резанешь все-таки, то ошметки жизни хлещут во все стороны.
Подзалившись, они совершенно про меня забыли и переключились полностью друг на друга. Впрочем, меня это устраивало. Типа как послушаем.
— Любимый! Как же прекрасно мы заживем на Юге!
— Что и говорить… Чпоки-чпоки-чпоки-чмок… — отвечал Олег, сложив губы трубочкой и разве что не забрызгивая стол соплями. Сюсюкает, блин.
И стали они планы на будущее свое лучезарное строить, обещать союзнику в путешествии, как здорово будет. Уж больно они желали весь мир под себя подложить. С другой стороны, это только она искренне хлебала всю баланду.
— Ах, дорогой! Как я рада, что ты меня любишь! Я даже на картах недавно гадала, так все сходится — ты меня любишь. Как же хорошо!
— Чпоки-чпоки-чпоки-чмок! Кошкин-кошкин-кошкин! — вторил он ей сюсюкая. — Ути-пути-нау! — По Нелиным глазам было заметно, что уж от таких фраз она заводится в полсек.
— Олеженька, ты и вправду меня любишь!
— Еще как! Муркина-Фасо! Чпоки-чпоки-чпоки-чмок! Кошкин-кошкин-кошкин! Ути-пути-нау!
Я робко на них поглядывал, догоняя, что уж после таких благороднейших проявлений чувств только словами все явно не обойдется.
И верно. Тут Муркина-Фасо, Чпоки или Кошкин, уже в открытую полезла к нему и, обхватив толстый кусок его тела, соединяющий туловище с башней, решительно засунула ему в основное отверстие красный склизкий язык.
Олег, кажется, этого не ожидал. Он даже удивился. Он даже испугался ее выходки и пытался, все пытался, захлебываясь, бормотать: «Чпоки-чпоки-чпоки-чмок! Муркина-Фасо! Ути-пути-нау!». Но это ему не удалось. Он последний раз извиняющеся посмотрел на меня поверх Нелиной головы и тоже принялся вылизывать ее, чтобы доказать, как искренне и торжественно он ее любит.
Месиво шамкало и слюнявилось. Олег стал впихивать руку ей между ног с таким усердием, как будто она там прятала деньжата. Неля же в свою очередь довольно всхрюкнула, как будто ей после долгого перерыва жратвы сыпанули в корыто.
Чтоб отвлечься, я закурил и подумал, что вот именно для таких приятных моментов мы и живем. Словом, рассентиментальничался.
Наконец они нализались. И выжидательно посмотрели на меня в плане одобрения на случку как хозяина квартиры. Мы ж на кухне сидели. Ну я, добрый, согласно кивнул.
Неля выпорхнула из-за стола и полетела в ванную.
— Я скоро, дорогой!
Олег проводил ее очередным восторженным воплем:
— Любимая! Муркина-Фасо! Чпоки-чпоки-чпоки-чмок!!
И добавил уже мне:
— Сейчас, она только вымоет жопу…
Неля быстрехонько включила в ванной воду и уже напевала: «АН you need is love… пам-пам-пам-пам… All you need is love… пам-пам-пам-пам…». И видимо, мыла свои отверстия, чтоб достойно схлестнуться в любовном порыве с близким ей по духу человеком.
Настоящая любовь. Как в куртуазных романах.
— Крышка совсем сбренькалась, да, Олег? — спросил я. — Куда ты ее тащишь?
— Лишь бы подальше. Пока в Крым. Большие неприятности, если такое тебе знакомо. А чтоб смыться подальше, что нужно? Правильно — баксята. И они у Нельки есть А что там хочет эта тупая дурында, меня мало волнует.
Он выложил на стол небольшой пакетик с тремя кропаликами гашиша и встал.
— Ты идешь, дорогой? — закричала Неля уже из комнаты.
— Вот черт, блин… Да, иду, иду, любимая!
Пойду, я ему давай, чем быстрее, тем лучше. Ушел. А я кропаликами занялся.
И загрустил. С одной стороны, все одинаково. А с другой — все разное. И мир — игровой аппарат боженьки.
Спустя несколько минут из комнаты стали доноситься и крики, и вопли, и постанывания и хриплые клятвы в любви.
Я даже струхнул. Мало ли? Может, его переклинило и он решил с ней покончить? Не отходя далеко от кассы?
А вопли все продолжались. Ну и пусть. Может, действительно так будет всем лучше. Сейчас Олег ее там пришьет, и мы вместе с ним и ее денежками поедем в Крым прятаться. В конце концов тоже путешествие.
Визги доносились до меня еще минут пять. Я ждал. Вот она какая, самая настоящая любовь. Самое волшебное слияние двух сердец. Может, симфония? Или все же какофония?
Наконец все смолкло. Тишина. Ни звука.
Осторожно, ожидая нехорошего или даже совсем мрачного, я подкрался к двери в комнату и деликатно постучал. Сомнений уже не было. Сейчас я увижу забрызганные кровью стены, тела, отдельные конечности, предсмертные завещания и записки. Нет. Из-за двери мне вызывающе крикнули типа как входи.
Они были живы! Оба! Курили, сидя на кровати. Рядом валялись их грязная одежонка и белье. Ее — с красными, его — с коричневыми разводами. В воздухе резко пахло потом и чем-то влажным и мерзким.
Они были мокрые и взмыленные, с высунутыми языками, перемазанные в оставшейся после душа косметике и еще чем-то темно-коричневом. Они дышали тяжело и прерывисто. Устало, хрипя, но с бесконечно довольным видом, как будто только что спасли несчастное человечество от страшной и неминуемой гибели.
Короче, наживотнились на славу.
Из последних сил они облизали друг друга, заговорщицки улыбнулись и повалились на кровать как выпотрошенные куклы.
Я вырубил свет и брякнулся спать на диване. Все заснуть долго не мог. И тревожно прислушивался, не раздадутся ли опять вопли и призывы к спасению несчастного человечества. Но, видимо, на сегодня программа максимум была выполнена. Я только еще раз услышал: «Кошкин-кошкин-кошкин… Чпоки-чпоки-чпоки-чмок… Ути-пути-нау…».
И они захрапели.
Наверное, им снились южные черноморские ветра, крымские вина, Ласточкино гнездо, киевское «Динамо», виноград и украинские паспорта.
А мне?
В мире ведь много загадочного: Terra incognita… Так им не пришло в голову меня прикончить, чтоб заниматься гадостями уже без свидетелей… В мире много загадочного: Per aspera ad astra… Любым способом уехать в Южную Америку… В мире много загадочного: Dum spiro spero… Канатоходцы бредут… шаг влево, шаг вправо — падаешь в темень… Все радуются…
Тебе не уехать никуда и никогда.
* * *
С утра я угостил друзей кофе и отправил с Курского вокзала на юг за счастьем. Валите, катитесь. Они обещали писать. По крайней мере они куда-то путешествовали. Не то что я.
Кстати, накануне мне вырвали зуб мудрости, и я понял, почему его так называют. Казалось, что мозги улетучиваются прямо на глазах. Теперь я уже почти конченый дурак.
Не знаю, что мне взбрело в ослабленную голову, но я там же на Курскаче запрыгнул в электричку и поехал куда глаза глядят. Люди, как всегда, были озлобленные, огорченные и настороженные. Многие заливались алкашкой, многие, будучи в курсах относительно своих товарищей, берегли свое нехитрое шмотье.
Рядом со мной оказались две весьма колоритных и органичных особи. Пили, как и остальные, алкашку из горла и переругивались. Спустя некоторое время я понял, что они ярые сторонники различных политических лагерей. Точнее, двух самых распространенных форм государственного свинства — социализма и демократии, противоположных по внешнему фасаду, но одинаковых по внутренней сути.
Пили и гнали. Пили и спорили. Такое вот жизненное кредо.
— Путин — герой! Медведев — герой! — восклицал первый, выпив очередную порцию синьки и вцепившись в кусок ветчинки.
И рассказывал типа свобода какая и демократические преобразования, мол, какие. Как человек, коли умница, может накрасть монет и ловко ощущать свое демократическое превосходство над другими. Хотя по виду этого быдла совершенно нельзя было скумекать, что он уже вспрыгнул на своего золотого барана. Но, видать, все надеется.
Второй, понятно, был категорически не согласен. Крыл его всяко-разно. Мол, какое славное коммунистическое прошлое его раньше по мозгам шторило, как он интеллектуально на заводе по две смены вкалывал и в очередях остатки суток выстаивал.
Словом, пытались расшить друг дружку белыми нитками. И оба на меня поглядывали, ожидая, что я встряну в их бестолковый спор. Я в окно посматривал, но эти типы все одно меня достали и лезть стали в открытую.
— А… — процедил я мрачно и сказал то, что думал до этого, уже вслух. — Коммунизм, демократия — почти одинаковые, почти ничем не отличающиеся по сути разновидности государственного свинства. Под разными углами зрения, так сказать. Лжизнь есть Лжизнь. Сволочь она устроится всегда и везде, хоть при рабовладельческом строе. А быдло вроде вас будет и через тысячу лет пойло глушить и жаловаться или восторгаться. В зависимости от настройняка…
Они даже почти не окрысились, как легко можно было б предположить, и давай дальше расспрашивать. Но потом все же завелись и давай вопить каждый за свое.
— Это что же выходит, ты считаешь, что коммунисты ничего и не сделали? А электрификация? А война? А космос? Тебе что, совершенно наплевать на наше героическое прошлое?
— Единственное, что коммунисты замутили путевого, так это взорвали церкви и храмешники…
Ну уж на это, понятно, демократыш взвился. И тоже давай гнать. И разговаривали со мной, как с придурком и социально опасным типом.
Как всегда, разговаривать было бесполезно. Разевать рот бессмысленно, ведь ты уже знаешь, что напоют в ответ. Можно запросто смоделировать речь хоть ста пятидесяти миллионов шариковых в России, хоть шесть миллиардов шариковых во всем мире. От этого не изменится ничего.
Все внешнее. Все наносное и внешнее. Особенно человеческие качества и чувства. Лишь только копни — и так завоняет, что мало не покажется. Это «чужие», животные, они просто притворяются, чтобы подпустить вас поближе. Еще чуть-чуть, и глаза нальются кровью окончательно, из-под ботинок полезут когти, а сзади, разрывая материю, хвосты. Раздвинутся вширь челюсти, и закапает ядовитая слюна…
Бр-р-р-р! С большим трудом пришел в себя. Шторит меня уже так, что я себя с трудом контролирую. Так и до холмика или «пятнашки» недалеко.
А где я? И куда это я еду? Эх, черт побери! Действительно, я окончательно сбренькался. Если даже всех сейчас везут за самым откровеннейшим счастьем — не верю.
Вскочил да и бросился к дверям.
Возможно, в определенный момент жизнь просто и ненавязчиво выбрасывает тебя на обочину. Ты лежишь там еще долгие годы, а мимо проносятся люди-машины. Ты смотришь и уже мертвый на девяносто девять процентов долгие годы ждешь. Когда кто-нибудь хоть немного повернет руль и из жалости проедет по краю обочины — по тебе.
* * *
Жратва. Питье. Секс. Больше ничего не нужно. Даже если всех посадят на электрический стул. Даже если весна больше не придет. Социализм или демократия — без разницы. Главное, лижи всех направо-налево и спасай свой шкурятничек.
Мысли копошатся и, не успевая оформиться в голове, лопаются. Действительно, раз уж никак по жизненке не получается свалить в Южную Америку, то хоть в Северный Город махнуть. Ну, как Свифт и Селин затирали. Да и Могила не против.
И надо же такому случиться. Именно тогда, когда я уже почти готов был смотаться, приехал Латин. И знаете откуда? Тоже из Северного Города. Тот самый Латин, который исчез в самом начале моего рассказика.
Короче, звонок в дверь. На пороге Латин и еще один незнакомый мне парень. Родион, как он представился, по-учкавшись. Под окном тачка — все та же латиновская «Тойота Селика» черно-синяя. Удивительно, как она еще ездит?
После того как мы тогда разлетелись, Латин и взаправду отвалил на восток, в Уральский Город. К той самой девчонке, которой он возил монеты, конфеты, любовь и полный пакет вранья. А после этого уже в Северный Город переместился.
— И почему ты на Урале не остался?
— Даже не знаю. Не вышло. Я же дома сидеть не могу, все шляться тянет. Да и мои запросы…
— У тебя? Какие запросы?
— Ну, мне нужна такая девушка, чтобы с ней хотя бы потенциальная возможность была того, что весь мир перевернуть можно.
— Ну-ну.
Потом он, ясное дело, все прозаичней раскатал. Разругался в хламешник он с девкой той, да и в Северный Город махнул, где уже был оказывается уехавший из Западного Города Олег. Его вот этот самый парень Родион на северный транзитняк поставил. Сам Родион мотался из Большого Города через Северный до Литвы. Но что-то разлетелось у них там. Сначала Олег как-то накосорезил, а затем и Латин кого-то не того киданул и, прослышав, что я в Большом Городе, помчался сюда в зыбкой надежде, что я ему помогу по жизненке. Родик же за компанию с ним домой поехал. А сейчас зашел познакомиться, он где-то на Кутузовском жил.
— Тяжело стало, — грустно признался Латин. — Времена поменялись. Теперь уже каждая сволочь отдуплилась, как баксята срубать, хрен подлезешь. Все кормушки расписаны на глушняк. Кстати, сюда ехали, такой случай интересный произошел на трассе. Какие-то придурки на «вольвешнике» гоняться с нами намылились, суки. Там улюлюкают что-то, факи показывают, девки ржут. И парень, рулевой, всякие оскорбления мне кричит. Ладно, обогнали, умчались они. Едем дальше. Через некоторое время вижу толпа в стороне от дороги. Тоже остановились.
А там авария, и этот самый парень из «Вольво» весь в кропи валяется. Другим вообще ничего, а этот в лепешку. Они с трассы слетели и врезались в памятник разбившимся водителям. Символично, да? И вот парень хрипит еще, дергается, девка его рыдает, все «Скорую помощь» ждут. Мы встали сзади и печально рассматриваем, как он коньки скидывает. А он меня узнал и от злобы задергался, что вот с ним такая беда, а я жив. Ну, я ему тоже пару жестов показал и несколько слов пробормотал губами, как он мне до этого. И если б у него силы были, то он на меня бы бросился. А я ему губами — кончайся типа живей. Он захрипел еще пуще, обделался. И все — гриндец. На куче дерьма он и въехал в рай. И последнее, что он увидел — моя довольная рожа. И ехали мы затем потихоньку и Родькиных «Chemical brothers» слушали. Жить так захотелось…
Я, понятное дело, расстроился мал-мал, что Латин меня так запросто с Северным Городом подобломал. Раз уж он там не остался, значит, там тоже ловить нечего. И испугался я даже, что теперь надолго придется в Большом Городе провиснуть. Рассказал за ньюс. Про Академию, Ларри, Романа и Лали, родственники которой Латина в особенности заинтересовали. Раз интересно, мне не жалко, в красках затер за Лали, ее баксята, ее папашку и в какие славные геморры я чуть не вляпался. Родион тоже про папашу и его дружка с Сейшелами все выспрашивал. Я лишь потом припомнил.
— Реальная информация… — и за Олега спросил.
Вкратце рассказал. А Родик:
— Был здесь, говоришь? Вот это мразь так мразь! Он же половине Северо-Запада деньги должен! Кстати, куда он поехал, а? Этот информэйшен стоит денег, если ты, конечно, понимаешь, о чем я.
Соврал, мол, не знаю. Только куда-то на юг лучезарное счастье искать. И что напугали они меня с Нелей некисло.
Как оказалось, по пути Латин Родику наплел что, что я в Академии Философии учусь, и того это конкретной целью переклинило. Его подруга Соня на философском факультете МГУ подучивалась и реально достала ему всякие книжки занудные подсовывать.
— Ты же, наверное, сечешь, разбираешься, — с надеждой спросил Родион. — Можешь подобрать мне какое такое философское направление некислое, чтоб, прочитав одну книжку, я всегда мог от Соньки отбрыкаться, доходчиво затереть ей, что я полная крутотень, а все остальные ее книги — нелепая лохотронь.
Обещал подумать, а Родион и смылся обнадеженный.
Латин же начал жить вместе со мной. Я даже «Трэйнспоттинг» вспомнил. Ну, те сцены, когда там парень в Большой Английский Город смотался, а его кореша вычислили, стали жить с ним и подставлять по полной.
— Латин, а у тебя цель какая, мечта есть?
— Мечта? — хмыкнул он. — Мечта, конечно, есть. Пока моя мечта — перепихнуться с какой-нибудь клавенкой на быстрячках.
Да глупо было и спрашивать. Однако вдвоем, один пес, веселее. А потом и дела как-то пошли в горку. Неизвестно откуда Латин приволок пятнадцать штук зеленью. И на все вопросы посмеивается. Теперь, понятно, можно было не думать некоторое время о монетах. И мы плотно ударили по хардовым драгз. «Желтых» взяли у Вагиза оптом целую кучу. Вы, конечно, не поверите, но теперь я жру «желтые» почти каждый день.
Все внутри меня трескается, куда-то летит, крошится, вязнет. Я как в трясине. Развинченные мозги закручиваются и раскручиваются в миллионы гирлянд и спиралей.
Никто никому ничего никогда.
Вокруг ласточки, ласточки, ласточки.
И меж ними разбитые кусочки стекла.
* * *
Теперь мы живем на квартире застреленных в Польше друзей Родиона на Нахимовском проспекте. Кругом — мусорные пакеты, единственный стул, да и тот не на месте. Мы здесь одни, и мы уже почти свихнулись от «желтых».
Вчера вечером Латин привел правильных тинок. Пришлось снова закинуться с ними, а толку? Как вообще можно хотеть тинок под «желтыми»? Но не суть, если б не таблетки, мы не сошлись бы с Латином так коротко.
Он изложил мне свою точку зрения. Он модернизатор проекта Полет. Полет продолжится любой ценой. Окончания Полета не предвидится. Нам надо лететь крыло в крыло, ровно, в чистом небе. Падение невозможно. Мы летим. Полет не остановить.
И началось все это так. Я больше помалкивал. Ни гугу. Это Латин меня на болталово дергал. Он абсолютно того, свой парень. Просыпаемся, каждый день — как воскресенье. Время ближе к обеду. Включим ящик? Ладно, давай.
— Чего на государственные каналы пялиться? Переключай.
Ну, переключил.
— Здесь, на спутниковом, ничего не понятно, — заводится Латин. — Давай независимое.
Тут мы ругаемся, что на экране одна глупень конкретная или рекламка. Помню, мне Латин так еще затер:
— Вид у горожан всегда занятой, а на самом деле шляются по улицам с утра до ночи. Когда холодно, их не видно — сидят дома и коньячок потягивают. То-то и оно. Вот долдонят: третье тысячелетие, новая эра. Это где? Ведь ничего не меняется. Все любуются собой расчудесным, и точка. Лозунги, девизы, декларации поменялись, да и то вдецл.
Сидим, довольные, на экран пялимся.
Там самка рекламная проповедует:
— Мой муж — свинья каких поискать. Каждый день, когда он доползает до дома — и то слава ангелам. Одежда вся в грязи, в крови, в рвотных массах. А завтра ему на работу… — Попутно она демонстрировала экспонаты, а на заднем фоне копошилось странное полуголое существо. — Как же все отстирать? Раньше я пользовалась обычным порошком и кипятила. Результат был сомнительный. И тогда я решила попробовать новый «Стикс». Благодаря фантастической биоформуле этот стиральный порошок отстирывает все легко. И теперь я за мужа спокойна. Спи, любимый. Когда ты приползешь завтра и грохнешься, «Стикс» встанет на защиту нашей семьи.
Ладно, все понятно. Смотрим далее.
Ларри появился в пятичасовом выпуске новостей на НТВ. Без сознания. Голова в белых бинтах. Он был похож налетчика, упавшего с пулей в голове, когда по СМИ было растиражировано название «Норд-Ост». Размноженное телеэкранами Ларрино лицо в бинтах обрушилось на одну восьмую часть суши. И «чужие» с тоской осознали, что в их мир в очередной раз пришли убийцы. Они прокрались легко, лестница даже не скрипнула. Конечно, сюжет был посвящен не Ларри, а тому замминистра коммерции, который вкладывал в него монеты и себя. Вот его, замминистра, и пришили киллерки, за то, что он решительно бился за нашу Мавеленд, накапливая материальные ресурсы на тайных для врагов заграничных счетах. И на Ларрину беду, когда ход героической миссии этого замминистра прервали, он в квартире и оказался. И теперь Ларри в коме, а финансист или среди звезд, или на сковородке.
Из комы Ларри так и не вышел. А диск Моррисона — единственное, что осталось от него у меня. Эх, Ларри. Я много нарассказывал о нем Латину. Несмотря на то что, как и все, Ларри имел кучу своих недостатков, он все-таки был почестнее, чем многие из остающихся в живых.
Вот так умер Ларри.
У нас же с Латином начинается новая жизнь. Делать абсолютно нечего. Пока ждем маз от Родиона, а их нету. Целыми днями бесцельно мотаемся на тачке по городу.
Звонит телефон. Я уже и забыл его голос, настолько редко мне кто-нибудь звонит.
— Ты совсем ошизел? — врезается в меня визгливый голос папаши Лали. В ответ я молчу. Он что-то несет, гонит, угрожает. Из его криков я понял, что я крайний гаденыш, и теперь мне несдобровать. И типа он крайне недоволен, как я с его дружком, свинтившим на Сейшелы, обошелся. Я? Да я здесь при чем? Что за бредятина?
Кладу требешник и начинаю слегка догонять, откуда сливнячок прокамал. Говоришь себе по жизни, говоришь, что надо помалкивать, а все равно иногда всякая жизненная чепухень тебя за язык тянет.
Иду на кухню разбираться. Латин там «Gorrilaz» слушает.
— Совсем офонарел? — почти повторяю я папашу Лали. И давай ему мозги вправлять, де как меня он в первую очередь подставил. Не говоря уже о том, что не стоил типа этот экшн таких денежек.
— А тебе баксята не понравились, да? На них же сейчас живешь, кайфуешь. Да сам же ты говоришь, что на этот экшн не подписался. А нам — нормалек. И на тебя он подумал, так хрен что докажет. И не сомневайся ты насчет этого старого подонка, не переживай. Сам на тормозах и спустит. Он же не знает, какие с тобой расклады, вдруг ты сам предъявишь за то, как он тебе болтанул, а? Кто его заставлял болтать? Что он пацанам своим скажет? Поверь, он будет помалкивать. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я.
Здесь грустно мне так стало, и я даже спросил:
— Эти деньги все равно закончатся. Что делать будем? Может, работать все-таки куда пойти?
Латин, ясно, меня тут же на место поставил.
— Что делать, что делать… Ты когда-нибудь думал о своей жизни больше, чем на неделю вперед? Думал?
— Да нет вроде. Так надолго я не прогнозирую…
— Вот видишь! — ликующе подхватил Латин. — Что делать? Пока есть монеты — веселиться, шляться, ни о чем не думать! Будет день — будет очередной винегрет из людей, зданий, машин, будет пища, будет информация. Ты задаешь бессмысленные вопросы…
После пары минут такого монолога Латин отчаливает к пушеру за чиповыми «желтыми». Собираясь, он бормочет далеко не новые мысли о том, что наркотик — все вокруг. И любовь, и коммерция, и политика, и человеческие привычки и стремление к жизни. Наркотик — все. Мир — фальшивая картинка немого кино. Прелестная картинка. Жизнь — одна сплошная непрекращающаяся истерика.
Я, конечно, мягко говоря, обиделся за то, что Латин меня так на монетах подставил, да мне же еще и предъявил за это. Типа как лахудрик я.
А передо мной за окном расстилается Большой Город. Все равно назло Латину попытаюсь оттяпать хоть какую-то работенку хоть на какое-то время. Латин бы сказал «решил оскотиниться».
Так кем бы я в идеале хотел стать? Коммерсантом? Нет. Коммер, продавая банку «Колы» на несколько центов дороже — такой же вор. Завуалированный, узаконенный и потому гадкий. Чиновник — еще хуже. К тому же больно долго унижаться надо. Быдлом там, работягой не хотелось стать тем более. Как выходит, в демократии стать хоть кем-то — невыносимый напряг.
Что ж, открываю газету вакансий. Раз решил — все равно что-нибудь найду для доказательства Латину. Как оказалось, множество уважаемых компаний очень хотели заполучить меня к себе на службу. За это мне обещали полный короб успеха и небо в алмазах. Лишь начав звонить, я понял: везде скрыт какой-то подвох и обман.
И здесь «чужим» верить не стоило. Если они к тебе неожиданно стали добрее, это значит, что они притворяются, чтоб подпустить тебя ближе и сделать гадость. Либо сразу прикончить.
Иногда попадались и заманчивые предложения. Например, «Молодежная организация «Юный христианин» набирает себе паству. Оплата — процент от прибыли». И рекомендации нашего митрополита. Ну, типа работка из простаков монеты вышибать на память о том парне, который пару тысяч лет назад особей на духовный промоушен поставил. В качестве коммерчески удачного образца приводились самые первые двенадцать духовных менеджеров.
Я не спасать всех, ни грустить о разном непонятном не собирался.
А вот и устраивающее меня объявление! Наконец-то и повезло. Я даже глаза протер. Красивая витиеватая рамка и в ней текст: «Требуется конченая мразь. Зарплата высокая. От трех тысяч долларов и выше». Ну, телефоны там, которые я шементом бросился набирать.
— Добрый день! — спросил я вежливо. — Это вы предлагаете работу?
— Прием на работу окончен, — устало ответил голос.
— Не кладите трубку! — закричал я. — Поверьте! Вы обязательно должны меня взять! Выслушайте!
— Эх, молодой человек… Я объясняю уже в тысячный раз. Когда мы давали это объявление, то надеялись набрать некоторое количество сотрудников без морального облика и каких-либо нравственных устоев. Однако ж, кто мог предположить, что полгорода нам названивать будет. Мэйлы шлют, факсы, в офис лично приходят. И вроде внешне приличные лица. Но вы наверняка знаете, раз звоните, что в душе каждый мечтает официально закрепить свой статус. Человек не является человеком. Так что…
— Возьмите меня! Я буду лучшим! Я стану самой наиконченой мразью. Я даже готов работать забесплатно, причем выполнять любые поручения. Я уже готов на любую подлость, гнусность, предательство, на самую поганую мерзость. Поверьте, я достоин! Я мечтал о такой работе. Знаете, я даже сам готов приплачивать. Несмотря на мою молодость, у меня уже есть некоторый опыт, — окончательно я вошел в раж, распережевавшись.
— И все-таки глубоко сожалею, молодой человек. То, что вы говорите, весьма устраивает нашу компанию. Не огорчайтесь, вы найдете свой путь в жизни. Развивайтесь пока самостоятельно. И звоните в следующем году. Не огорчайтесь и до свидания…
Вот так. Пошли короткие гудки. Чувствуется, что это весьма чуткие и грамотные люди. Что ж я раньше эту объяву не замониторил? Опять не повезло.
Но решил не сдаваться. Все-таки я себе пообещал доказать Латину, что в мире есть шанс пусть по-быдляцки, но устроиться. Выхода нет. Тыкаю с зажмуренными глазами в раздел, подходящий мне по возрасту. Снова играю в своеобразную рулетку. Хоть пару дней как дурак поработаю, принесу монеты Латину, которые я как честная порядочная сволочь заработаю. И буду как Буратино.
Словом, тыкаю ручкой в список. Авось припрет.
Попадаю в объяву казино. Там работничков типа как набирают. Нормально, я более-менее в курсах, какая добрая и торжественная атмосфера царит в казино. Какие там работнички ловкие и как приятно кидать простофиль на монеты.
Еду на саммит. А там желающих поработать немерено. Я-то сегодня приперся сюда исключительно из-за случайного выбора моей рабочей рулеточки. А эти-то что сюда прискотинились?
После тестов меня отобрали одного из группы в двадцать пять претендентов. Оказывается, благодаря пожиранию «желтых» во мне открылись небывалые математические способности. Я мог молниеносно делить и умножать в уме трех- и четырехзначные числа. Прям как Корейко. Если б мне еще его миллионы…
Быстрехонько меня перевели в диверсионную группу облапошивания клиентов. Главное, одеваться в черный низ, белый верх, хорошо пахнуть, ловко складывать «чипы» во «флоты» и не разучиться считать.
Руководитель нашей группы, молодая девка, была вполне откровенной:
— Для начала запомните: вы полные скоты! Стойку знаете? Место! Всем молчать! Здесь спартанский режим, поняли? И двери всегда открыты, дерьмо собачье. Здесь конвейер на встречу с Американской Мечтой, а вы винтики-шпунтики бесполезные. Прогул, опоздание, запах — отчисление! Разинутая пасть — отчисление. И главное запомните, что это предупреждение китайское.
Выслушав лишь начало, я хотел смело послать гадину в очевидном дирекшене, да интересно стало. Ладно уж, один денек можно потратить, узнать, как эти люди работают.
— Итак, кто-нибудь в бараках, подвалах жил? Нет? Плохо! В стойлах? Тоже нет? А деревенские присутствуют? Жаль! Здесь особо ценятся породистые обезьяны и большие королевские пингвины. Кто пингвинов видел? Кто в зоопарках бывал?
— Я пингвинов видел! Я в зоопарках бывал! — ляпнул я радостно и попытался смастерить соответствующее видоизображение своего таблоида.
Думал, что вышвырнут сразу. Ан нет. Она даже сделала пометку напротив моей фамилии.
Впрочем, диверсионными действиями против богатеичей пока не запахло. И приступили мы к учебным занятиям. А вернее, к заучиванию различных мошеннических комбинаций и процесса ловкого подсчета очков. Главное — чипование, как в пять секунд все чипы в стейк заграбастать. Девка вполне была права, сравнивая все с заводским конвейером и зоопарком.
Однако что это? Снова учебный процесс? Учеба не д ля меня. Одного псевдорабочего дня оказалось более чем достаточно.
Под конец меня, вполне зашторенного от полного осознания бесполезности действий и информации, очень даже похвалили и куда-то там назначили. А мне такое надо?
Что ж. Опять неудача. Не вышло из меня ничего. Никчемный я субъект, преникчемный. «Я» оказалось совершенно невосприимчивым к порядкам внешнего мира. Да и кто вообще я? И где? Барахтаться бесполезно. Кричать бесполезно. Весна больше не придет. В голове все крошится и постукивает. Время уж явно не ничто. Движение и саморазрушение.
Тем более плохо, что не удалось мне утереть нос Латину. Когда я возвращаюсь, Латин лежит на диване.
— Никулин ведь умер, — сообщает он.
— А кто это?
— Ну, помнишь. Они там с попугаем на пару передачу вели по ящику в морских фуражках. Так из-за кого-то из них передача и называлась «Белый попугай».
— Это клоун, что ли? У него еще цирк на Цветном вроде был? Рядом с бинго? Бинго помню. И чего? Прикольный клоун, несмешной, правда… А что это ты сейчас такой давняк вспомнил?
— Да Лимонова должны выпустить, как по ТВ ляпнули. Я вот лежу и думаю, отдадут ему цирк на Цветном или не отдадут? Тоже ведь клоунская труппа у них энбепешная, и тоже ведь несмешная…
Латину, видимо, по зашторке совсем уж бредовые мысленки приходят. Рассказываю, как я звонил «мразью» устроиться и ходил «винтиком-шпунтиком бесполезным» обозначиться. Он смотрит на меня как на полного идиота.
У него другие заморочки. У него-то теперь, оказывается, любовь. Такая, ради которой он готов переплыть реки и перейти горы. Предать всех и вся. Безумная любовь к самому себе. Еще он убежден, что чем хуже ему будет от этой любви, тем лучше.
— Понимаешь, Латин, я уже ни в чем не вижу ни малейшего смысла. В последней пушинке на полу, в последней крошке на тарелке. В любом движении, поступке, даже помысле. В мельчайшей и незначительной вещи. И даже слова, часть которых еще пытается выстраиваться у меня в законченные предложения, представляются полной глупостью. Я хочу просто замереть и наблюдать миллион лет за ними. И знать, что будет через сто, тысячу, десять тысяч лет. Замереть и хватать раскрытым ртом отсутствующий воздух. И чтоб никто никогда не залечивал мне мозги.
— Это называется очень просто.
— Как?
— Экзистенциальный Пиздец.
— Ты не первый, кто говорит мне об этом, Латин, — Ты сам написал про это в своей дурацкой статье, тебе лезет это подсознательно в голову, но ты не хочешь в этом сам себе признаваться.
Бредем на стоянку за тачкой. По пути Латин грузит свою нехитрую теорию. По его мнению, и демократию, и коммунизм, и национал-социализм, выдумывали гениальные люди. Типа как поэты, идеалисты. А потом особи подхватывали теории, искажали все, портили и извращенным ревели во всю пасть. А потом приходили коммерсанты и портили все окончательно.
Я устал слушать. Просто плюхаюсь на пассажирское сиденье. Трогаемся. Главное — движение. Сегодня Латин настроен лирически: ему по срочнякам нужны тины и точка. Мы проезжаем через Ленинский проспект, центр, весь Кутузовский, возвращаемся на Садовое кольцо. Поездка никогда не закончится. Весна никогда не притч Может, мы хоть куда-нибудь врежемся? В Театр Сатиры или в «Пекин»?
Пока едем, Латин слушает «Offspring». Потом переключается на «The best of «Nirvana». Затем сравнивает Кобэйна с Моррисоном.
Затем начинает петь уже сам. И классику, вроде как «Марсельезу»:
Allons enfants de la Patri le joir de gloire est arrive contre nous de la tirranie…Увидев на обочине пару тинс, он резко бросает руль вправо и, заткнувшись, радостно поясняет:
— О! Мразевки! Животные!
Остановившись, перегибается через меня к окну и рассматривает малолетних. Сначала облизывается, потом тускнеет, откидывается на водительское сиденье и бьет по газам:
— Шлак!
И поет другую, уже дореволюционную песню:
Вдруг казачий разъезд перерезал нам путь. Выстрел грянул — красотка упала. Белокура была. Словно тополь стройна. И повязан платочек пуховый…Снова резко бьет по тормозам, врубает аварийку и разворачивается через сплошняк на ту сторону дорогу с целью рассмотреть поближе другую пару тинэйджеров.
Но вот про казачий разъезд он совсем не зря напел. Заприметив бесстрашную Латинову езду, от края дороги к нам тут же бросились два легашонка, размахивая палочками, раскрашенными под зебру. С огоньками даже. Я мельком подумал, как бы не загремели выстрелы и как бы не брякнулся я, как стройный тополь, подвязанный галстучком шелковым.
После визита в тачку к защитникам Конституции у Латина окончательно портится настроение. Минут с десять мне приходится выслушивать подробности его трогательной беседы с легавыми. Оказалось, леги — последние из людей, и если б сил у Латина хватило, он бы расправился с каждым из них поодиночке.
Вокруг нашей тачки незыблемые здания. Вокруг нашей тачки вечность.
Время щелкает. Время трепещет. Время останавливается. Времени больше нет. Время больше не пахнет.
Повсюду наступает болото. Весь мир затягивается тиной и плесенью.
Весна больше не придет.
* * *
Существование — это тяжелая форма анестезии, которую тебе вкалывают чтобы воспринимать жизнь.
Я думаю об уехавших Олеге и Неле. Я думаю об обчищенной квартире друга папаши Лали. Я думаю о мертвом Ларри. Я чувствую, что это лишь начало неприятностей.
Ларри, его отец и его друг прогуливаются по проспекту… Это все, что я помню. Ларри, отец и друг.
Латин нашел новое развлечение. Он скачал из Интернета «The Hands Book of Terrorist» и переводит самостоятельно на русский. Он не доверяет существующим переводам. Теперь он изучает сотни хитрых и не очень способов, как отправлять особей в последнее путешествие к Аиду. Сотни рецептов взрывчатки. Сотни рецептов смерти. Это то, что нужно.
Он показывает небольшой пакетик и скалится:
— Эквивалентно килограмму тротила! Понимаешь?
— Зачем? — равнодушничаю я.
— Всего лишь баксята. У Родиона найдется немало ребят, готовых заплатить хорошие баки за подобные штуки.
Латин — новатор. Латин — изобретатель. Он остановит весну.
К своим годкам он будет знать все. Что сыпануть зарвавшейся особи в бензобак и что подсыпать в кофе любимой девушке. Прямо сейчас я бы швырнул что-нибудь на балкон соседям — уж больно громко орет музыка. Их попсовый «Мумий Тролль». Или подложил в автобус — чтоб в городе стало меньше спрессованного фарша.
Радуга? Запросто. Вознесение? Без вопросов.
Реальные мысли появляются все реже. Провалы в памяти, и все такое. Я даже стал путать цвета. И уже ничему не удивляюсь. Полный агностицизм и восприятие жизни как непрерывной цепочки бесконечных страданий. Ну почти по Шопенгауэру, как втюхивали мне в Академии.
Я в свою очередь познакомил Латина с Романом Гнидиным. Теперь Роман приезжает к нам, а мы с Латаном даже почти и не выходим на улицу. Чего там смотреть? Нечего. Еще на молекулы сыпанешься и будешь ловить свои собственные куски.
Латин нажирается «желтых», Роман нажирается водки. На разных языках они обсуждают Ларри. Роман считает, что Ларри решил свои проблемы весьма грамотно. А он, бесполезный художник, Роман Гнидин, все прозябает, гниет. Он пьет, стонет и жалуется. Мы с Латаном, конечно, даем ему миллион советов: ну, как можно покончить со своей жизненкой.
— Я не люблю самоубийц, надо убивать других, — так говорит Роман.
— Но не можем же мы тебя заколбасить.
— Это понятно, но сам я не справлюсь.
Краски и образы перепутались в Роминой голове. Тотальной Картины он так и не написал. Только громадную кучу второсортного дерьма. И потому все пора заканчивать. В чем-то он, конечно, прав. Ведь недостижение цели — та же смерть.
Сам со своей жизнью он не разберется. К тому же мы с Латином хотим, чтоб его смерть принесла нам кое-какую материальную выгоду. Пока еще не знаем какую. Если бы в его жизнь изначально были заложены деньги, то мы бы не сомневались.
Предательство у всех в крови. Предать может все, даже мелочь, даже неодушевленный предмет или воздух.
Латин шляется вместе с Романом. От обоих исходит сладкий приторный запах. Почти как от кондитерской фабрики. Они пачками жрут мускатный орех. Известная вещь — тоже наркотик для бедных. Оправдываясь, они рассуждают об экономии. Конечно, у ореха много преимуществ. Во-первых, накрывает сразу на двадцать четыре часа, во-вторых, как я уже гнал, стоит гроши, в-третьих нет палева с легавыми.
Мучительно размышляем, как бы помочь Роману. Как сказал он накануне, пребывать в третьем тысячелетии ему давно страшновато. Во втором было лучше.
Заехал Родион за ответом на свой коварный вопрос. А я уже все и подготовил, что нужно. Впариваю книжку.
— Это «Творческая эволюция» Анри Бергсона. Есть грамотные «Открытые» люди, настоящие, при своих понятиях, которым все позволено на их типа самоличный разум для движения мира вперед. И есть «Закрытые» люди, быдло всякое стадное, разношерстное. Тут и чиновники, и коммеры, и просто бараны с центрально расположенным мозгом, и просто серая убогая масса «никто», прозябание которых не имеет никакого смысла. Словом, прочитав, сам все поймешь…
Из дальнейших терок с Родионом, я вкурил, что нам было нужно делать по делу Романа. У Родика друг Дмитрий работал заместителем директора в страховой компании «Амок-СК», входящей в холдинг его отца. На работе Дмитрий вообще не появлялся, но числился, вызывая недовольство директора, который опять же не мог с ним ничего поделать из-за папаши.
В два дня обо всем и договорились.
Уговорил Рому два дня не пить. Латина — состряпать пару левых печатей. Изготавливаю на компе пару несложных доков. Типа как контракты несуществующих фирм на Тотальную Картину «Явление Христа Народу-2». Я так и написал «Тотальная Картина», чтоб заимпонировать Роману.
Провел с Романом детальный инструктаж, привел его в порядок и протестировал, как он будет отвечать на вопросы. Вроде бы понял.
Итог: запарив брэйн директору страховой компании «Амок» высоким уровнем Роминых доходов, все же удалось выбить у него полис страхования жизни на семьдесят пять тысяч баксят. Директор же был крайне рад подставе, чтобы использовать ее перед отцом Дмитрия для вышибания последнего из компании. На этот раз Роман не оплошал, важно надувал щеки и даже рассказал страховщикам об изобразительном искусстве. Все же возникло некоторое количество вопросов, почему выгодоприобретателем обозначен я. Рома ответил, как я его научил. Я там не показывался, понятно.
И теперь обратного пути, понятное дело, не было. Кстати, я старался не для себя, а для Латина, который и должен был осуществить экшн. Позже я передал бы ему деньги за страховняк. Родион с Дмитрием тоже были в небольшой доле. Таким образом, я помог бы каждому с его проблемами и умыл бы ручонки.
Является ли это предательством? Наверное, да. Но ведь подлость и продажность выдаются человеку от рождения. Это впитывается вместе с молоком матери. В конце концов Иуда тоже предал из-за любви, а остальные одиннадцать трусов врали, стелились и лицемерили.
А Ромка очень обрадовался, когда понял, что все на-конец-то закончится. И был благодарен. Мне — за идею, Латину — за экшн. Нас всех очень сблизило это мероприятие.
Латин с Романом теперь болтаются по клубешникам и отрываются по полной. «Голодная утка», «Тэксман», «Свалка» и «Пропаганда». Латин после общения с Романом даже стал употреблять несвойственные ему слова: «импрессионизм», «экспрессия», «реальный сюрр».
Я молчу. Ни слова лишнего. Ни гу-гу.
Они же запираются на кухне и долго там что-то обсуждают. Самоубийство исключается по условиям страховки. Я как выгодоприобретатель должен быть вообще не при делах. А Роман, конечно, трезв. Поначалу Латин надеялся на свои игрушки, но это тоже никак не катило. С игрушками будет теракт, а это уже статья.
Я объяснял Латину, что нам нужно какое-то времечко выждать, и что не можем мы так светиться быстро со страховняком. Его же смущали увеличивающиеся расходы:
— Да сколько можно ждать? Он теперь на мазню свою нелепую по полной тратится, к тому же каждый день по клубешникам, я что, миллионер? А сколько он выпивает ежедневно?
Они все так же устраивают посиделки на кухне. Латин валится достаточно быстро, а Роман сидит и долго смотрит за горизонт.
Если честно, меня все это порядком подзапарило. Когда же они уберутся отсюда? Пусть испарятся вместе, улетят, исчезнут. Ведь всякому терпению бывает предел.
Наконец в один примечательный денек они ушли да и не вернулись. Спустя несколько дней мне телефонирует Латин и сообщает, типа уезжает в Испанию на меся-цок. Как доберется — перезвонит. Я немного позавидовал насчет путешествия, понятно. Но все понял, ЧТО он имел в виду. Значит, операция с Гнидиным удалась. Пожелал Латину успеха, удачи и сказочного счастья в личной жизни. А что я ему еще мог сказать?
Если честно, я даже был рад. Так меня все достало.
Вот так умер Роман. Детали я, конечно, узнал несколько позже.
А пока… Что делать? «Будущего нет», это-то понятно. Но куда же кидаться мне? Я один. Никого нет. От Латина осталось немерено погремушек, которые ему, по сути, так и не пригодились. Теперь я могу делать все, что хочу. Например, сожрать кусок пластита или оторвать направленным взрывом себе голову. Главное — определиться, что происходит. Ошеломительное разложение мира или стремительный распад моего «Я»?
Зато Латин оставил мне еще и тачку. Теперь можно кататься сколько душа пожелает. Я накручиваю десятки километров дорог на спидометр. Я грустно смотрю за окно. За мокрым стеклом — бестолковые люди. За мокрым стеклом — бестолковый мир. За мокрым стеклом нет меня.
Меня останавливают славные защитники Конституции. Внешне вежливые и ласковые. Пересаживаюсь к ним в кар для беседы. Тема предъявы — якобы поддельная рукописная доверенность от Латина. Скажите, пожалуйста.
Чтобы прояснить, на что им расчитывать в материальном плане, первым делом они поинтересовались, где имею честь я быть трудоустроенным.
— Социально незащищенный.
— Какой?
— Ну, безработный.
И думаю мучительно, сколько отстегнуть легам. Латин оставил мне часть «квартирных» деньжат.
После моих слов они засмеялись. Но даже как-то уважительно смеялись, типа знают они все про меня. А я смотрел на них тупо так и вдруг почувствовал, что мог бы выместить свою ненависть прямо сейчас.
Вместо этого, вполне логичного шага я тоже засмеялся, присоединившись к легавым. А они, наоборот, заткнулись.
Может, засмущались? Обиделись? Я не стал их разочаровывать. Держите деньги. Пока.
Сматываюсь. Удираю через Рязанский проспект.
Наверное, действительно верно болтают, что все мираж. Бредешь мимо «миражных» зданий, бредешь мимо «миражных» особей. Добредаешь до упора в надежде на оазис, а его нет.
Пустыня. Конкретный мираж.
Все вокруг — декорация.
17
Теперь в бреду меня все чаще обступают те люди, которых я знал по Академии: Шопенгауэр, Дильтей, Кьеркегор… О чем-то рассказывают, что-то советуют, куда-то зовут.
Я даже читать больше не мог. Мой развинченный брэйн ничего не вкуривал даже по децелкам. Может быть, все же мое состояние связано с пребыванием в этом городе? Тогда, конечно, надо сматываться как можно скорее. Конечно, с большей радостью я поехал бы в Южную Америку, но, во-первых, мне нужно было разобраться со страховкой и деньгами, во-вторых, логичней было ехать к Латину в Испанию.
И тут приехала Альфа. Если помните, в Западном Городе у меня было две девки, Альфа и Бета. В миру они колготились, конечно, под другими нэймами. И если помните, когда я убирался оттуда, я заезжал к Бете и с ней в пух разругался. А к Альфе я даже и не заехал. Уехал и все.
И вот теперь приехала Альфа. Раньше я общался с Альфой реже, чем с Бетой, потому как предки уж очень тщательно бедолажку на пятилетний срок на универовский юридический факультет загрузили, и моя рожа, отвлекающая Альфу от эдикейшена, им отнюдь не импонировала.
Но все ложилось в логическую цепь: сначала я разобрался с Бетой, потом с Лали, а теперь приехала Альфа.
Приехала. Позвонила. Открываю. Все те же длинные черные волосы.
— Привет, — говорит она как можно радостнее. — Можно, надеюсь? К ВАМ? — это уже с сарказмом спрашивает. Типа того откажу, не обидится, вернее, обидится, но типа готова к такому раскладу.
А я так живенько подбежал дверь открывать, потому что уж точно не Альфу ждал, а Шопенгауэра, Дильтея и Кьеркегора.
— А, это всего лишь ты… Ну, заходи… — вот как я встретил одну из своих бывших девок. Промямлил, но быстро взял себя в руки.
Ладно, зашла. Чего уж теперь выкобениваться?
Уселась, насупилась. В квартире тепло.
— Чай будешь? — вяло спрашиваю я.
— Да, конечно, спасибо.
Добрая, вежливая, потому как типа ей надо. Хотя всегда, когда ты распахиваешь пасть, все уже знают, что ты скажешь.
Люди говорят одни и те же слова, им не нужно выдумывать другую лексику, им достаточно нескольких сотен привычных фраз и выражений, чтобы донести до вас свою тупость. Да и зачем, в сущности, больше? Главное — особо не высовываться. Того, кто пытается говорить больше, затыкают или в лучшем случае с ним не разговаривают. Никогда не следует умничать, другие могут решить, что вы слишком много на себя берете.
Альфа спрашивает меня о делах. Может, нормально, может плохо, а скорей хуже некуда. Втайне думаю, что же мне с ней теперь делать. Киваю, поддерживаю беседу.
— Что сейчас читаешь? — спрашивает.
— Шестова, — вру я, припоминая какое-то имя из ящика.
— Угу, хорошая книга, — отхлебывает, кивая, пиво.
— Ты ж не читала, — наглею с вызовом дальше.
— Раз ты читаешь, значит, интересно.
Дальше выяснилось, что Альфа приехала с Северо-Запада. И где-то там пересекалась с Латином. С Латином у них давняя симпатия.
— Неужели и здесь побывал этот мерзавец?
— Да. В Испанию уехал недавно.
— Я бы отправила еще дальше.
И тоже сообщила, что пока поживет у меня. На Западе и Севере у ней не очень делишки сложились, но здесь она уж всем докажет, какая она наикрутейшая герла. По сравнению с Бетой амбиций у ней было на чуток побольше.
Альфа искренне считала, что еще чуть-чуть, и мир обрушит на нее каскад материальных благ и вселенской любви. В этом она не сомневалась, ведь она самая умная и клевая.
А во всем виноваты, конечно, предки. Родители трясутся над своими заморышами-детьми и врут: «Ты хороший! Ты самый лучший!». И гундосят об этом своим родственникам и друзьям. А личинка-то глупая, малолетняя. Верит по малости. Вырастает и бросается с этим дешевым прогоном во внешний мир. А там все такие, выросшие личинки, поют друг другу о себе, разлюбимом. А потом все самое хорошее и лучшее на свете валится тебе на голову. И сечешь тогда, что тебя родители изначально обманули.
Поэтому ребенка лучше взращивать в спартанских условиях. И сразу лечить его, что он такая же мразь, как и все остальные, особь, и повсюду «чужие». Ребенок будет настороже, он будет глядеть исподлобья, он будет злобен и агрессивен, он будет готов к любым подлостям со стороны окружающих. И конечно, не будет питать никаких иллюзий по поводу своей никчемной жизненки. Навесит на себя маску с искривленным хлебальником и станет необычайно жестким. А если родители не удосужились выбить из тебя всю дурь, то отрезать крылья и сжигать их нужно самостоятельно. Альфа уже подукоротила себе крылышки и не осмеливалась взмахивать ими на полную. Но все еще сохраняла иллюзии по отношению к этой стихийной, неизвестно откуда взявшейся «воле к жизни», к миру, недостойному самого себя, который раздроблен на шесть миллиардов маленьких воль, каждая из которых претендует на возвеличивание и самообожествление. Альфа не понимала, что все абсурд, что это война всех против всех. И естественный выход только один — скорейшее самоуничтожение. Тотальное высвобождение духа и физическая смерть. Это и есть сущность проекта Полет.
В бытовой же жизни ничего особенного. Мы с Альфой почти не разговариваем. Такой договор: мы живем параллельно. Альфа куда-то исчезает и возвращается дня через два-три. Жизнерадуется и приносит деньги.
Альфа привезла кусочек моего небогатого прошлого. Меня даже по этой теме торкнуло и я даже заностальгировал по Западному и Северному городам. Да, впрочем, уже совсем скоро мы неизбежно обовьемся в каком-нибудь ядерном клубке и полетим повсюду. Высоко-высоко, далеко-далеко, на самую темень, до самого конца.
Однако присутствие Альфы неожиданно пробудило во мне что-то светлое и даже оптимистичное.
Наверное, я мог бы и влюбиться в Альфу. Ведь любовь заводится так же неожиданно, как и вши. Разница в следующем: вши заводятся в голове, а любовь — в сердце. Вшей травишь по незнанке керосином, а любовь — «желтыми».
Да только на хрена мне такие замороты.
Я эксгумировал порции прошлого посредством эфемерной радужности и необратимости короткого будущего. Но в отличие от Альфы я отчетливо и горестно осознавал, что будущего не существует.
Еще, мозги у Альфы находились во вполне конкретном месте — между ног. Отчего я беситься немного начал, все-таки мы вместе жили. И тоже приволок тину к нам на хату, чтоб отомстить по децелкам. Альфа еще сильно удивилась, когда ее домой ночью не пустили. Истерики, конечно, скандалы. Но не суть. Любовь нельзя было подпускать. Это опасная штука, она только и хочет как гадить людям. Начинается цветочками, а кончается рожами битыми.
Альфа возвращается. Тяжелый день, платили мало, работала много. Она становится все менее и менее разговорчивой, молчаливой и грустной. Происходит вечерняя вялая случка. Я рассказываю о кино, которое смотрел в Киноцентре.
У акулы, после того как ее убьют и вырежут сердце, это самое уже вырезанное сердце бьется еще целых два часа. У человека тоже происходит нечто похожее после полового акта: кишки еще два часа вздымаются вверх-вниз в ужасе от столкновения с себе подобным.
А любовь надо запретить, как самый что ни на есть опаснейший наркотик. Заглатывает, дурак, наживку, насаживается на крючок и вроде как фарисействует вполную. Цепляет приятно, торкает. И он подсаживается. А все это требует жертв и скандалов как постоянного повышения дозы. А когда все заканчивается — тяжелейший отходняк. Ломки. Так что за любовь, как за опасный наркотик, давно пора статью ввести. И если кто преступит и на любовь осмелится — сразу закрывать лет на десять. Так всем будет безопаснее.
Альфа закрывает журнал, она уже почти спит. На экране очередной крутейный фильм. Настоящий герой только что прикончил тысячного врага. Он отдыхает, пьет «Хейнекен», смотрит вдаль и планирует новые убийства.
Так как Альфа уже почти спит, я вырубаю звук в надежде, что пойму смысл и так.
Там, ясно, реклама. Появляются ангелы, тащат красивую банку с белым порошком. А вокруг цветочки и птички. Доносят банку до чашки с чем-то черным и высыпают. Такие довольные, как будто выполнили самую важную миссию в своей ангельской жизни. Показывают крупным планом девушку над чашкой. Грустную-грустную. Несчастную-несчастную. Дрожащими руками она размешивает порошок в чашке и делает маленький-маленький глоток. И происходит неслыханная метаморфоза. Девушка перестает дрожать, радостно откидывает голову, фон с серого меняется на розовый. В глазах трепещут краски, цветы и огоньки. А вокруг ее головы крутятся белые ромашки, алмазы и ангелы. Ну и вставило же девку даже от одного глотка! Я даже подумал, что кто-то прозрел и стал нечто стоящее рекламировать. Девчонке так хорошо было, что я залюбовался на ее кайф. И даже Альфу в бок ткнул, чтоб и она посмотрела. Но та только отвернулась, наверное, ей снились каскады материальных благ и вселенской любви.
Пока Альфу тыкал, весь драйв пропустил. Только засек как стафф обзывается. «Nestle», так обозначили. Но добавлять его надо по чуть-чуть, ну чтоб на передоз не брякнуться. И типа в любом шопе теперича можно этот стафф бешено требовать. И судя по кайфу герлы, «Nestle» этот самый действительно вставляет только так.
Альфа захрапела в сладостном сне. Теперь можно вдецл и звук прибавить.
В следующей рекламе обыгрывался древний сюжет, когда разнополые существа вдвоем объединяются, а вокруг знакомцы «Горько! Горько!» плачут. Парень в черной траурной одежде, девчонка в белом, как у покойника. Заходят в дом с желтыми крышками и перекладинами, как реи у древних кораблей. Там их принимает старик в желтом балахоне, лукаво расспрашивает визитеров, согласны ли они окольцевываться. Обещает обвенчать. Вокруг комиксы мутные и кальяны дымятся.
Девчонка дергалась в разные стороны, пыталась вырваться, но парень держал ее крепко. В чем же суть этой рекламы? Оказалось, суть в гигиенических средствах. Посреди обряда невестушка завалилась набок и начала фонтанировать. Тут все смешалось и перепуталось, все забегали. Девчонка себя затыкала, но все вокруг становилось красным. Внутрь рухнула желтая крышка, и завязалась драка. Засвистели стрелы, появились китайцы, и конный Тамерлан воткнул копье старику в желтом балахоне, в тот самый отросток, которым он заглатывал воздух.
Пауза. В студии ведущая и спасшаяся из передряги девчонка.
— Девушки, вам не надоело волноваться из-за каких-то там пятен? Мария открыла для себя вату.
— Раньше я ничего не знала про вату, — отозвалась Мария. — Во время необычных дней я пользовалась старыми газетами и тряпками. Но ничего не помогало. Я даже хотела зашиться, как утка с яблоками. Но потом я открыла для себя вату и, надеюсь, все же выйду замуж.
— Скажите, вы променяете пакет с ватой на мешок тряпок?
— Нет, только вата.
— Вата! Лучшее гигиеническое средство в ваши необычные дни. Берегите себя!
* * *
Я стремился уехать на Север. На Юг уехал Олег, Латин уехал на Запад, а Альфа приехала с Северо-Запада. Роман остался навсегда в центре. Выпадает Ларри, бедный Ларри.
С Альфой происходят дальнейшие перемены, теперь она не разговаривает совсем, никуда не ходит, ничего не ест и просто смотрит в окно.
Спустя недельное пребывание дома Альфа съездила на ярмарку в Выставочном Центре. Оттуда она привезла дешевый китайский пистолет-пулемет, игрушку, стреляющую разноцветными пластмассовыми пулями.
Вернувшись, первым делом выстрелила мне пулькой в лоб и долго смеялась.
— А похож он на настоящий?
— Да есть немного.
Теперь наше главное развлечение — стрелять по квартире в мух. Они падают, и мы добиваем раненых.
Альфа смотрит на карту Большого Города. Альфе нравятся площади. Особенно площадь Боровицких ворот.
И снова молчит, молчит, молчит. Она даже не закатывает глаза, она даже не смотрит вдаль. Она даже не видит весну.
Наконец однажды она проснулась утром, встала, умылась, позавтракала, посмотрела новости, накрасилась и расчесала длинные черные волосы. Потом ушла на улицу.
Действительно, я стал многое просекать из-за «желтых». И все понял. Выбегаю на стрит, ловлю тачку, продираюсь сквозь пробки. Дальше выбегаю и несусь пешкадралом до Боровицких ворот.
Бегу, а вокруг меня миллионы падающих башен, миллионы летящих ласточек. Проект Полет продолжается. Небо рушится. Весна не придет.
Все тает, летит, крошится, все трескается прямо внутри меня, все заворачивается в воронку.
Когда я добегаю, все уже кончено. Альфа лежит на выезде у Боровицких ворот, в руках легавых — китайский игрушечный пистолет-пулемет, стреляющий пластмассовыми шариками. Как понял я, как написали потом в газетах, она подбежала с игрушкой к выезжающей из красного замка тачке с какой-то высокопоставленной особью. Секьюрити его защитили…
Все оцеплено, никого не пускают. Несколько десятков килограммов мяса уже накрыто белой простыней.
Вот так умерла Альфа.
Слишком много вокруг мертвых. Слишком много вокруг «чужих». Слишком мало вокруг моего личного «Я».
Тупо смотрю, тупо жду, тупо дышу.
Говорить бесполезно. Из ста двадцати шести языков не нашлось бы ни одного, который бы смог мне помочь. Единственное, что оставалось, это посоветовать себе смело отправляться во всех известных направлениях, а пока смотреть, как там пульсируют ночь и блики после всех этих чертовых заморочек.
18
Гигантские черные птицы закрывают все небо. Больше не видно ничего. Они летают сплошным черным облаком прямо за моим окном. Они кричат слишком громко, они кричат так, что я затыкаю уши, но их слышно все равно. Они бьются о стекло и пытаются проникнуть ко мне в комнату. Одна из птиц приклеилась к стеклу и долго хлопала крыльями. А потом рухнула вниз. Теперь совершенно очевидно: солнца действительно больше не будет, весна действительно больше не придет.
Жизненная ситуация тоже меняется. И меняется после серии телефонных переговоров. Я с трудом веду беседу, что-то мычу, а закончив, злобно швыряю трубку.
Звонил из страховой компании Дмитрий и сообщил, что в связи с благоприятными результатами проверки некоторых сомнительных обстоятельств смерти Романа Гнидина, мне перечислят весьма неплохую порцию баксят. А я даже про это забыл. Просил назвать банк и счет, куда перечислить деньги.
Разговор с Милой, скандальной Роминой женой. Да, да, бедный Роман случайно упал с моста на железнодорожное полотно… Нет, я здесь совершенно ни при чем, несчастный случай… Был трезвый, умер сразу… Не мог бы я чем-нибудь помочь ее ребенку? Конечно же, нет… Еще чего не хватало.
Звонок из Испании. Латин! Как бы не так… Какая-то девка захлебывается и вопит, лепит мне какие-то душераздирающие предъявы. Стоп! Что с Латином? Оказывается, с Латином случилась большая беда. Он накрылся, накрылся прямо в ее тачке! Этого я уже не вкуриваю. Хотя, возможно, он ей о своих химических изысканиях понарассказал, и она ему сыпанула чего-либо. Мы разговариваем на разных языках, как после падения Вавилонской башни. Она на испано-французском, я — на англо-русско-французском. Однако мы друг друга все-таки поняли.
Что? Она хочет каких-то денег? Латин ей сказал, что я ему много должен? И должен прислать? Испанская маразмотина! Она не получит от меня ни евро! Пусть и не думает разевать пасть на наши баксята. Советую ей заткнуться и съездить на матч «Барселоны». Может, на «Ноу камп» она все поймет…
Вот так умер Латин.
Да и не только он.
Все умерли. Осталось одно «Я». Все умерли. Осталось одно «Я». Ну что ж. Терять нечего.
И снова ночной бред. Сотни незнакомых лиц и знакомые рожи. Эпилептический Кант со своей гребаной Могилой и сумасшедший Ницше, прилизанный Монтень и апокалиптичный Шпенглер. А кто я? Я с трудом ловил свой растворяющийся в тумане облик. Но все же верил последней слабенькой извилиной, что я это «Я».
А тут еще беда. Совершенно неожиданно в меня не полезли «желтые». Не лезут, и все тут. Попробовал залить горечь расставания с «желтыми» алкашкой — та же ситуевина. Не лезет. Теперь я абсолютно незадействованный ничем внешним. Мое органичное бредовое состояние пугает меня еще больше.
Ладно, еду к врачу. Может, лекари вправят мне мозги. Левое, правое полушарие, мозжечок, соединят пунктиры… В больнице заплатил за две консультации у высокооплачиваемого профессионала. Он оказался универсальным, то есть лечил вообще от всего. Понятно, на коммерческой основе.
Захожу, внутренне туманясь, в кабинет. Сидит тупая будка с выражением лица конкретного имбецила, приглашает присаживаться. В кабинете приборы, диаграмки, схемачки.
— На что жалуемся? — бодро спросил доктор, потягивая бутылочку «Миллера».
А я за две консультации заплатил. И двинул к нему первым конем, то есть психологическим. Рассказал откровенно, как плохо мне, признался в гнусностях человеческих разных, про трип свой жизненный никудышный поведал, про сомнения гнетущие. Рассказал еще, как в разных человеческих ипостасях я пробовал позиционироваться и как хорошие добрые особи меня пряниками повсюду угощали. Красочно все расписал, развернуто. И сижу обессилевший, жду диагноза.
— Ваш диагноз — сама жизнь, — радостно пояснил доктор, плеснул себе из фляжки в пластиковый бокал, выпил и поморщился.
— А конкретнее? Может, лечение какое? Рецепты сказочные?
— Не-а, — мотнул он головой еще радостней. — Бесполезно! Поздняк метаться!
— Это как же? — испугался я. — А еще конкретней?
— Энтропия в завершающемся периоде полураспада, патологическая сверхмнительность. Как итог — девяносто восемь процентов ангедония, почти окончательное освобождение от позитивных эмоций. Довольны?
— А еще-еще конкретней?
— Опингвинение. Самая тяжелая форма — Экзистенциальный Пиздец. А это, как вам, наверное, известно, неизлечимо. Какой у вас второй талон? Какая консультация?
— Да насчет наркотиков и алкашки…
Доктор заметно смутился, спрятал стакан, закашлялся, заглотнул «Орбит» и надел марлевую повязку.
— Ну, как вы знаете, лечение наркомании и алкоголизма целиком и полностью зависит от желания и внутреннего настроя больного. Есть особые ампулы, специальный чай, кодировки. Это все неэффективно, а вот у нас самый совершенный метод, посредством которого…
— Да вы меня не поняли немного. Все наоборот. Другая беда у меня. Вообще ни «желтые» юзать, ни алкашкой заливаться — ничего не могу. Обратно лезет. Организм и психика не воспринимают типа. А мне бы хотелось и закидываться, и на синие педали давить. Вот как быть? Как вылечиться? А то, говорите, пока энтропия-то в периоде полураспада, и, может, скоро совсем распадется… Хотелось бы подостойнее энтропию эту самую встретить. Очень не хочу оплошать, знаете ли…
— А-а-а… — протянул он облегченно. Сорвал с лица повязку и выплюнул «Орбит» совершенно не постеснявшись меня, пациента. Встал, подошел к двери и замкнул ее на защелку. Достал уже два стаканчика и на треть опорожненную бутылку «Хеннеси».
— Такое лечение влегкую, — снова повеселел доктор. Налил изрядные порции напитка, бросил мне в бокал пару непонятных таблеток, капнул из тюбика загадочной фиолетовой жидкости, перекрестился, выложил из игральной колоды три карты, удовлетворенно хмыкнул и прошептал над самой поверхностью бокала: «Lucy on the Sky with Diamonds».
— Готово! Теперь сможешь! Пей!
Я послушно выпил. После чего мы вполне мило побеседовали с этим интересным господином. Я все выяснить хотел, когда энтропия эта самая дозреет до полного периода распада, а ангедония окончательно высвободится.
Словом, пообщались очень интеллектуально и расстались как старые друзья. Доктор спрятал следы нашей беседы, опять заглотнул «Орбит», нацепил маску и разомкнул дверь:
— Ну, давай. Ни пуха, ни пера. Времени осталось совсем немного, понимаешь? Кстати, там куча придурков уже в коридоре собралась. Лечиться. Сами не понимают, чего хотят, уроды. Как будто я чем-нибудь могу помочь… Скажи, пусть заходят по одному. Удачи…
* * *
Время ведет себя очень странно. Оно то раскручивается быстротечной спиралью, то снова замедляется дальше некуда. Я даже отучился посматривать на часы. Настолько это теперь нелепо.
Все же я внимательно отнесся к неутешительным прогнозам доктора и понял: надо поторапливаться. Серые дольки окислялись с каждой порцией времени.
Пока энтропия еще до конца не дозрела, а ангедония лениво высвобождалась, я решил спасти свой дымящийся шкурятник с помощью другого распространенного прогона.
Религия — вот что мне поможет. Говорят, Бог очень добрый и славный. Уж это я не один раз слыхал. Надо только прикинуться заблудшим и раскаявшимся бараном и забраться как-нибудь к Богу в духовное стойло.
Однако я растерялся. Выбирать себе правильного Бога было проблематично. По молодости могли околпачить. И такой выбор! Со всех сторон обрелигиозенные по самые баклы люди упорно рекламировали своего духовного менеджера. И убеждали, что именно их Бог самый наикрутейнейший и всемогущий.
Целая стая разных Христов, Кришна, Иегова, Магомет, Будды разные и еще какие-то маньяки, которые очень давно в прошлом лихо бакланились и духовный промоушен особям ставили.
Я просек, конечно, что любая гонка религиозная — лишь страх самого себя, а потому стоило ли бояться? Я чувствовал, что фигня-то внутри меня дозревает уже. И потому, если какой Бог хочет меня облагодетельствовать и в свою команду окучить, то пусть поторапливается. А то мне уже некогда ждать.
Долго, долго выбирал подходящего боженьку. И опять же вопросы, вдруг я выберу себе какого-нибудь Бога, а другие обидятся и козни из мести строить будут? Говорят, они все очень обидчивые, злопамятные и ничего не прощают. И потом на страшных судах и тайных вечерях все мне на полную катушку и припомнят. И потому решил я подружиться со всеми богами. Если уж я духовно унижусь перед всеми, то тогда мне будет ото всех богов все и позволено. А это то, что мне нужно, верно?
Короче, тянуть нечего. Понавыписывал себе адреса офисов религий разных да и ломанулся на объезд. В собственное оправдание я припомнил обрывок проповеди Блаженного Августина из своего учебного процесса. Типа чем он больше отдаляется от Бога, тем больше он к нему тайком подбирается.
Бредятина оказалась гораздо более радикальной, чем я ожидал. Тут же решил вступить во все религии. Куда бы я ни подкатывал, везде рядовые религиозные служители с большим воодушевлением принимали меня и в красках раскатывали, что вот их-то бог и есть самый развеликий и расчудесный. Совали мне разные бредовые книжки и, пока я не одумался, записывали меня в свои стройные ряды.
Впечатлений я черпанул немерено. У католиков мне очень понравился большой крест, та самая штуковина, на которой их лидера мочканули. Большой крест очень выгодно смотрится и блестит, когда его себе на шею присобачишь. В исламе неплохо, что они свою религию ревностно оберегают и призывают убивать тех, кто не с ними. Это было неплохо, что я успел к ним подвязаться, пока они всех крошить не начали еще массово. Еще «Белое Братство», «Светлое спасение», адвентисты седьмого дня, меннониты, мормоны, всех и не упомнишь. У Будды — Шамбала, прикольная фишка! У иудеев — красивые звезды. Взял штук пять. У протестантов — вера в собственную особенную судьбу. У кришнаитов — больно сильно все заморочено, Гиты всякие, Брахмапутры особенные, и еду жрут пакостную. Единственное, к кому я не поехал и не вступил, так это к скопцам. Потому как еще был не готов прощаться со своими собственными кусками.
Ну и, конечно, с особым рвением в нашу официальную религию шмякнулся я. Ну, православное христианство. Ездил к православным, ездил, все внимательно слушал, но не понял ничего. Допер одно: если не поверю, а что еще хуже, усомнюсь, очень плохо будет. И потом меня в особые классные сады жрать не пустят, а самого поджарят на сковородке и бефстроганов на радость всему миру смастерят. Призывают прикидываться, что любишь всех, а что ты особь одинокая — виду не показывать. Предков за их животную родительскую выходку шибко благодарить. А чтобы Богу не скучно было — хватать своих детей и в горы высокие тащить. Для жертв, значит. А Бог может смилостивиться и не дать твоих детей прикончить. И жизнь дарует. Призывали опять весь мир затопить и уничтожить, а самим на корабле спасаться. И тварей с собой в судно сажать. Звали башни строить высокие, а потом с землей их сравнивать. Книги подмастерьев Бога изучать и яблоки есть. Эх, вот если б я был Богом, то не стал бы подмастерьям доверять свое жизнеописание, а сам бы надиктовал. Потому что одно дело, когда кораблем штурманы, помощники правят, ну Иоанны, Луки всякие, а другое дело, когда сам капитан отчаянно выводит ладью на фарватер. Тогда бы книжка называлась «Евангелие (оригинал)». И была бы посвящена «чужим». Банкет бы я устроил и поздравления от шестерок-апостолов принимал. А подарки еще! Вот это было бы дело.
И даже так я грузанулся, что дважды крестился в православие на всякий случай в разных церквях. Чтобы уж наверняка. И оба крестика на одну цепочку приспособил. Ну, теперь-то меня не обманут.
Словом, чтобы спастись и получить конкретные ответы на мучившие меня вопросы, решил поехать к какому-нибудь боссу церковному, чтоб он мне все объяснил. Еду, а сам как погремушка. У меня вся дребедень, которую мне во всех церквях навешали на шею для удачи, звенит и давит. Крестики эти, звезды, месяцы, мистические символы и амулеты. Музыкальный я человек теперь, звонарь.
Доехал до церкви и как раз звон из-под желтых крышек раздался. Как призыв к спасению человечества.
Забредаю в церкван, там запах, люди олигофренистые с глазами стеклянными к старым комиксам тыкаются. Рядом урна и надпись. Призывают всех Богу кэш отстегивать. Тому, кто больше проплатит, обещают сладкую жизнь и счастье. В принципе дань Богу вызывает уважение, так как особь особи денежек не даст никогда.
Я, конечно, понимал, что просто так меня не пустят с церковным боссом за духовность перетереть. Потому наврал монахам, что хочу, мол, приличную сумму Богу пожертвовать и прошу встречи с церковным боссом местным. И за пожертвование прошу предоставить мне на синем блюдечке с голубой каемочкой полный короб успеха и небо в алмазах.
Словом, приводят к боссу в апартаменты. Как я и догадывался, тот трапезничает. Понятно, ему один пес весь день делать нечего, как жрать и в паузах у Бога счастье просить.
Ну, ясное дело, вежливо приглашает меня присаживаться и рассказывать, как я принял такое послушание отстегнуть Богу. И глазки алчные горят.
Сначала я осмотрелся. В комнате священнника полный набор техники: метровый ТВ с домашним кинотеатром, последний ноутбук, музцентр такой классный, там диски и игры компьютерные. На стенах иконки, картины с мифами, на полках книги религиозные. Куча видеокассет. Смотрю первую попавшуюся — «Долгий путь к Богу».
Слава ангелам, он не стал мне совать целовать свою руку. Мало ли. Ведь говорят, что они все извращенцы и педерасты. Священник щелкнул пальцами, заорал, и затравленная монашка понесла нам очередную гору пищи. Мясные блюда шестнадцати разновидностей, рыбные — семи, пять салатов, двенадцать закусок. И выпивка — джин «Бифитер».
— Ну, что Бог послал, — сказал он выжидающе и налил.
Ладно, выжрали-пожрали. Благодаря колдовству доктора алкашка брякнулась в желудок нормалек. Перекрестился и говорит:
— Бог напитал, никто не видал, а кто видел, тот не обидел. Ну, сын мой, рассказывайте, что вас подтолкнуло на сей благонамеренный шаг? Вера — дело святое.
А мне в голову мысленка пришла, что вот когда Бог был жив, держал всех под контролем. Всех своих нерадивых учеников, особей. Задавал им домашние задания, устраивал семинарские занятия. И особям волей-неволей приходилось быть честными и хорошими. А теперь, когда Бог уже давно мертв, все отпетые двоечники и неудачники — сами учителя и мастера на все духи. И так все запуталось, перемешалось, что теперь уже и не разберешься, где ложь, где правда. Кто жив, а кто мертв.
И рассказал я священнику все, как и доктору, про жизненку свою горемычную, про сомнения гнетущие, про энтропию распадающуюся, да про ангедонию завершающуюся. Потом на другие темы уже перешел и все говорил, говорил. С течением времени почуял священник неладное, подвохи унюхал и догадался, что не совсем я из его когорты.
— Так ты что, не веришь в Царство Божие?
— Не-а, — и дальше рассказываю.
— Но есть же настоящая истина, исповедь…
— Да ну что там, — махнул я рукой. — Подумаешь! Исповедь — лишь выходка эгоистская, да прозябания оправдание, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Вот вы почему посвятили свою жизнь Богу?
Он почесал затылок.
— Я-то? Ну, наверное, потому что я русский.
— Да? А я вот дважды приблизился к Богу, — признался я и показал ему оба христианских крестика, болтающихся у меня на шее.
Тогда он все и понял. И что зря он меня привечал, что ненормальный я совсем и что монеты с меня сшибить ему не удастся. И спросил священник, какую же я веру возжелал.
А я уже распереживался, распахнул рубашку, показал ему остальные кресты, месяцы, звезды и амулеты. И признался начистоту:
— Ты видишь пятна на солнце, охломон? Это и есть солнечный бог анархии!
Тут он уже все просек окончательно. Заорал. Слуг своих позвал. И вышвырнули меня на улицу. Туда, на серую жижу асфальта. Упал и почувствовал, как в голове еще сильней что-то замкнуло.
И думаю снова. За что же Бога-то убили? Смотрели особи, смотрели на Бога исподлобья, присматривались и сравнивали его со своими собственными человеческими подлостями. Ревновали его, ревновали. А потом дождались удобного случая и прищучили. А ты такой хороший, гад? Сейчас мы тебе покажем. И завалили его не мешкая.
Или, допустим, что Бог — это добро. Стало быть, есть и зло, потому что, если бы зла не было, мы не смогли бы классифицировать добро. Если бы не было Бога, стало быть, не было бы добра, и зло стало бы объективной реальностью. И зло стало бы добром. Стало быть, зло несет нам Бог. Стало быть, он существует.
Вот до чего я додумался, дуралей.
Все-таки мы хорошо выпили со священником. Спасибо доктору, все влезло. Единственно, опять зашторки еще больше покамали. И откуда что берется? Забрел в кафе, плюхнулся. И подумал, что вот было бы неплохо, если б у меня вдруг выросли, пусть короткие и уродливые, но крылья. Я перебирал все свои погремушки на шее и представлял, как почищу я крылья и смажу жаростойким клеем, чтоб Солнце не растопило, как жир у простофили Икара. Пока сидел в кафе, смотрел на солнце, потом на розовую полоску горизонта, потом на разбитые кусочки стекла в небе.
Кафе закрылось. Пора выбираться на стрит. Сориентировался, в каком направлении двигаться, и побрел. Захожу на мост. Там фонари, на которых еще не воплотились мечты Диогена. Ну, о висящих на деревьях плодах.
И тут раз — подсветка моста врубилась. И вижу — под мостом святые апостолы прячутся. Все одиннадцать правильных. Руками машут, хэлпа просят.
Сделал вид, что не заметил, проскочил мимо. Ну, чтоб других своих богов не стремать из деликатности. Вы, конечно, не поверите, но дальше — ангел. Маленький такой, розовый и кудрявый. Хнычет и сопли размазывает.
— Ты кто?
— Ангел.
Вот такие пироги.
Ну, аскнул я, в чем проблемы, мол, пошто рев. Оказывается, они стаей здесь летали, летали. Близко к особям подлетели. Да чуть всю стаю не перестреляли особи. Одного подбили: перья в одну сторону, кудряшки в другую! А этот потерялся, крылья промочил и не знает, куда лететь теперича. И голоден, дескать. А где я возьму ему нектары?
Предложил в кафе пожрать, да он боится. Говорит: не доверяю я больше особям. Еху, они, говорит. А я ему свои крылья показал, мол, тоже не совсем особь я. У него крылья драные, промокшие. У меня, в отличие от него, крылья клеем современным смазаны. Свежак. Он аж раззавидовался.
И попросил сливняк ему муткануть, как близлежащие дома с желтыми крышками облететь безопаснее, чтоб его попы не закрыли и не приняли вполную. А вместе лететь — мажется. С тобой, говорит, не совсем ясно, еху с крыльями ты, говорит. А еху они и в Африке еху.
Опять доползаю до квартиры. Пока полз, все крылья мешали, волочились.
Опять брякаюсь на диван. Опять могу делать все что угодно. Заснуть долго не получалось, ворочался. Все крылья никак не мог пристроить, чтоб не помять.
Я один. Я нигде. Я засыпаю. Бред или явь, я уже и не различаю. Музыка классическая играет и драйв нехилый прет. Как будто я с Богом плотно сталкиваюсь. И ярко все так, красочно. И времена года щелкают. Лето, осень, зима, весна. Лето, осень, зима, весна. А вокруг феи в белом порхают и нежными голосами еще больше меня и Бога возбуждают. И чувствую, пахнет временем, потом, историей и египетскими пирамидами. Присматриваюсь к Богу, а узнать не могу. Незнакомая будка! С таким Богом я вроде не корефанился. Что же это за Бог такой неизвестный? Бог времени, пространства, Бог из сорванной башни или Deus ex machina? И страшно мне стало между оргазмами нашими, что Бог загадочный такой и незнакомый. Может, это мой личный Бог? Ну, которого мне по жизни в духовные менеджеры впарили? Лето, осень, зима, весна. Лето, осень, зима, весна. А было бы неплохо, если б это был мой собственный Бог. Который только со мной и общался. Но когда же он угомонится, пресытится? Он стонет, дергается и обнимает меня своими щупальцами. Ну что ж, тогда будем трепыхаться вдвоем до упора. Пока он меня не прикончит. Лето, осень, зима, весна. Лето, осень, зима, весна.
Времена года перемешиваются окончательно.
Музыка резко рвется.
Я просыпаюсь в бреду и поту. В ясном уме, но абсолютно изможденный. Бегу шементом в ванную комнату и долго-долго, насвистывая «Времена года» Вивальди, оттираю мылом и шампунями свое истерзанное Богом тело. Голова в порядке, крылья Бог, конечно, скрысятил. Но главное — пока жив.
А вот бы проникнуть в эпицентр хаоса. Чтоб мозги там органично зафосфоресцировали. Чтоб все зацвело вокруг. Чтоб все зашелестело. Чтоб все разлетелось на мелкие куски. Чтоб дышать не имело смысла.
* * *
Утром солнце, вечером звезды. Теперь я точно знаю, что привычного течения времени больше не будет. Я смотрю на часы, окно, зеркало. Когда я подхожу к зеркалу через два часа, то вижу себя постаревшего на десять миллионов лет.
Меня выдергивает во внешний мир телефонный звонок. Голос из другой галактики. Я даже и не понял сначала, что это звонит телефон, и смотрел, смотрел на него тупо, догонял.
Ладно, взял.
Полная неожиданность. Это мне звонит Соня, та самая подруга Родиона с факультета философии МГУ, от которой он противоядие искал. Просит помочь с дипломной работой, типа коли мы в разных учебных заведениях учились, то не палево. Было крайне странно, что она мне позвонила — мы не общались. Значит, Родик слил.
Ну, я объяснил Соне, что у меня только маленькая статья «Шоковое столкновение «Я» и «чужих» — единственно возможный путь продолжения существования». Атак-же выбранная тема, обоснование, тезисы, разбивка по пунктам, словарик и список литературы. Как таковой работы нет.
— Вот такой полуфабрикат мне как раз и по мазе для скорости, — говорит.
Здесь я предупредил ее, что даже такое начало работы не принесло ничего хорошего ни мне, ни всем, кто меня окружал. Люди думают, что все когда-нибудь наладится. Но все только разлаживается, разлетается в клочья и валится в тартарары.
А ей параллельно.
Ладно, встретились в центре. Я передал Соне диск и тоже попросил:
— Там несколько файлов, разберешься. Правда лишний есть один, не стер. Называется «Дионисово Решение». И откуда он взялся, что означает, неизвестно, как будто он из моего бреда ночного выполз. Как попадешь на комп, уничтожь его, не открывая. Его ни в коем случае нельзя открывать, просто сотри. Иначе что-то очень нехорошее будет, чувствую. Так ты обещаешь?
Соня смотрит на меня как на полоумного. Тем не менее клянется чуть не созвездием Гончих Псов, что так и поступит. Интересуется, не я ли это подогнал Родиону «Творческую эволюцию» Анри Бергсона? Конечно же нет. Я и имен-то таких не знаю.
— Убила бы ту мразь, которая ему «Творческую эволюцию» впарила»! — добавила Соня.
Докудахтались — поприветкались.
Хай так хай. Пока.
А я снова сожрал «желтую». И бесцельно брожу по городу. Ничего из меня не получилось. А в городе больше нет ни Ларри, ни Латина. Ни Альфы, ни Романа Гнидина.
Перехожу с одной станции метро на другую. Вокруг плотный человеческий фарш. Вокруг «чужие». Напрягаю когти и клыки.
Вдруг в переходе я разглядел малозаметный ларек, а за ним коридорчик в помещение. Но главное — рекламная надпись. «Начни с УЗИ». Наверное, за коридорчиком меня ждут честные интеллигентные люди, которые давно уже все поняли. Понятно, я догадался, что УЗИ — это автоматы израильские, а реклама призывает с них начинать. А под надписью изображен мужик на плакате. За бок держится и морщится. Пулю получил в бок, наверное.
Короче, иду в коридор. Там очередь. Оказывается, немало людей уже все поняли. Правда, в нашей очереди преобладали какие-то старые и больные.
А неплохая контора! Сюрреализм по Андре Бретону. Выходи на улицу и стреляй во всех подряд. Но не сюрреализм, а самая наиреальнейшая реальность. Стреляй во всех без разбору. В конце концов если попадешь в плохих людей, то так им и надо, если попадешь в хороших, то поможешь им. Они очень устали.
Наконец, подошла и моя очередь.
— Мне УЗИ. Сколько будет стоить?
Женщина посмотрела на меня так пристально и говорит:
— Это смотря на что. Вам что надо проверить?
— Да все на свете! Я им так проверю — закачаются!
Она захихикала, как дура, и на стенку пальцем показывает. Мол, туда лукай.
Вот те раз! Там расценки в баксах. И относительно недорогие. «Печень — 96. Почки — 92. Молочные железы — 88, матка — 91, сердце — 98». Сердце, понятное дело, самое дорогое. Для инвалидов скидка имелась 30 %. Интересно, а инвалид ли я? Да и как выбирать-то?
— Откуда же я знаю куда попаду? В какую часть тела и кому?
— За это не беспокойтесь, — удивилась женщина. — Попадем мы за вас сами. Мы же специалисты. Выписки вам дадим после.
Ага, понятно, выписки — это обоймы. Тогда надо брать побольше.
— Нет-нет, — заволновался я. — Попадать я хочу только сам.
— А справитесь?
— Спрашиваете! Уж расстараюсь!
Еще какое-то время мы тыкались словами друг в друга. После того как все прояснилось, расстроился. Нет в мире правды. УЗИ — всего-навсего ультразвуковое исследование. А я-то думал.
Чтобы не расстраиваться, решил прессануть «желтые» алкашкой. Забрел в кабак. Вроде сидел, пытался думать о чем-то. Ехать никуда не стоит. Все везде крутится по одному нелепому кругу. Вокруг повторы. Ничего не меняется.
Тут, что меня искренне обрадовало, драка в кабаке завязалась. Какие-то очередные отчаявшиеся в своей жизни парни вдруг стали ловко насаживать друг друга на свои конечности. И вроде без всяких видимых причин, но с крайней озлобленностью. Они били даже не в другие жизненные субстанции, а били прямо в себя, в свое конкретное одиночество. Наверное, они заранее сюда собрались именно для этой цели. А их девки так откровенно радовались за открытое проявление их космической тоски, как будто они сидели на какой-нибудь комедии или водевильчике. Они, видимо, считали их мальчиками что надо. Но это пока их не трогали. Тогда они сразу визжать начали. Хватит, мол. Но поздняки… В них уже летели тарелки, стулья… рушились стены… мимо пролетали люстры… кометы… облака… моря и целые континенты… Что-то захлюпало… Они все уже были среди звезд. Как оказалось, это было запросто. И лишь когда брызнула красная гниль, я немного забеспокоился. За свою шкуру, разумеется. С пылу с жару эти отважные люди могли принять и меня за такого же, как и они, скота. Тут же вполне определенно цифранулось — пора сваливать. Рвать когти! И немедленно!
Волнуясь, я выскочил на улицу. И вовремя. За спиной что-то рухнуло, кто-то что-то заорал, поднялся еще больший шум. Наверное, их захлестнула очередная волна скотства.
Я облегченно отдышался.
На улице было свежо, хорошо, тихо так и умиротворенно. Машины и асфальт. Все было абсолютно нормально.
А вот сзади нормально не было. Там горело и дымилось. Вылетали стекла и обваливались перекрытия. Кто-то осатанело и радостно выл.
Возбуждение открыто заворачивающегося брэйна поднесло меня к дороге. Я быстро поймал такси и поехал домой.
Жизнь пока продолжалась.
Дни распускаются и вянут, снимая с меня очередной слой кожи. За окном, конечно, светит солнце, а рядом вечная тревога туч.
Конечно, все никчемно.
Конечно, все глупо и безысходно.
Ползу, ополаскиваю водой свои отростки, впадины, рытвины и клыки. Бреюсь. Я использую какие-то необходимые предметы. Затем что-то съедаю.
Наверное, я совсем съехал. Я пытаюсь хавать печатные знаки из свежей газетенки и ничего не просекаю. Это окончательное опингвинение.
Я включаю ящик. Кудрявый кулинар в переднике с надписью «Смрад» готовит громадные куски мертвых зверушек. Чтобы потом их жрать, жрать и жрать. Переключаю канал. Там целая толпа. Чему-то радуются, кричат и рукоплещут. Ведущий неприятный такой с рожей, с усами, с руками, все вроде на месте, в «Поле Чудес» Буратин запускает, спрашивает, задает вопросы, волосатый умница в синем костюме победоносно отвечает. Он ответил правильно, все ловят неслабый приход. Ему место в Сорбонне или на край — в Академии Наук. Умнице выносят приз: бочку варенья и ящик печенья. Это от спонсоров… Но это уже не Плохиш… Это уже сам Кибальчиш бросается наземь… благодарит… лопочет… целует ноги, крестик и шины тачки в студии… Бочка с вареньем падает на стол, лопается, разлетается ящик с печеньем… Кибальчиш кидается и кричит: «Мой приз!»… залезает на стол… начинает есть… Остальные сыплются с трибуны… бегут… Раздаются норманнские боевые кличи… Все в варенье и крошках… Смуглый азиат хватает кого-то за ногу.. Довольные айзера… Парнишка лет четырнадцати крутит над головой Останкинскую башню… Лопаются узорчатые витражи и барабанные перепонки… В зал врываются легавые…
А за моим окном торжествует белый цвет. Все стало бело. Город утонет в буране. На север я не поехал, но север сам приехал ко мне. Сплошные падающие лепестки.
Вот так неожиданно выпал снег.
* * *
Снег не кончится никогда. Скоро заметет весь город. Я слышу голоса. Они что-то шепчут. Куда-то зовут. Странные голоса, но я узнаю их. Это Ларри и Латин, Альфа и Роман Гнидин.
И мне пора рассчитаться за всех. Ларри пытался заниматься музыкой, да ничего не получилось. Роман осознал Тотальную Картину, которой не выдержал его мозг. Латин кончился из-за тяги к путешествиям. А уж Альфу щелкнуло вообще напрямую.
Из меня же все выплеснулось довольно глупо. Дело в том, что каждый день мне приходилось подъезжать до метро на автобусе. После проблем с легами я побаивался ездить на Латиновой тачке. Да к тому же сейчас я вряд ли разобрал бы сигналы светофора, разметку и дорожные знаки.
За одну короткую поездку на автобусе можно много понять про особей.
Необычайно хмурые лица. Для разгона особи начинают крыть друг друга матом. Это добавляет им уверенности в себе, чтобы бросаться дальше в жизнь. Каждый — нелепый кусок в несколько десятков килограммов, беспричинно обеспокоенный своим материальным благополучием и прозябанием.
Вот заходит женщина лет тридцати семи с дочкой лет шестнадцати. Вся в украшениях такая, прикинутая. И под себя ситуэйшен гребет:
— А ну-ка, хмыреныш, уступи-ка мне место, — говорит женщина мальчишке лет десяти с рюкзачком. Тот безропотно подчиняется.
Тут контролеры врываются. И кричат.
— Кто без билета, выходит через переднюю дверь! Строго по одному! С поднятыми руками!
Размахивают корочками красными, чтоб страх на особей навести. Оскалились и обещают жуткую расправу учинить над какими-то зайцами.
А большинство же на халяву хотело попутешествовать. И потому целая толпа с испуганными криками стала плотнее вглубь салона забиваться. Контролеры же отхватили себе добычу в лице пары особей. И довольные вывалились на стрит для публичной казни паршивцев. Последний контролер замешкался и для приличия спросил билет у последнего клиента, сидящего у двери.
Тот сразу в ор:
— А, твари! Вы еще билет у меня спрашиваете, да? Мерзавцы! Из-за вас я разбил свою несчастную тачку! И теперь вынужден ездить на автобусе. Ваш рейсовый автобус врезался в мою тачку! Это ваш парк еще мне денег должен! Гады! Ничего не собираюсь платить! За все мне ответите!
Криков мужику показалось мало. И потому, недолго размышляя, он лихо двинул контролеру в табло, чтобы отомстить за все. И за тачку, и за всю свою несомненно бестолковую жизнь.
И вышвырнул вражину на улицу. Контролер еще вскрикнуть успел напоследок:
— Ты на кого же руку поднял?
— На кого, на кого! На контролера! На быдло!
На следующей остановке снова приключения. Водитель сдуру дверь не открыл, и все вопить начали. Старуха с тележкой тоже бросилась со всеми к двери. А толкотня, и она своей тележкой другую бабу цепанула. Как они сцепились! Это надо было видеть. Не на жизнь, а на смерть.
Спастись могла только одна. Настоящая последняя героиня.
Сквозь мат, крики и разлетающиеся куски одежды они обретали доброе, разумное и вечное.
Вылетаю из автобуса. Я не хочу разделить судьбу Ларри и Латина, Альфы и Романа. Я младше Бога в сотню раз! Если станет меньше особей — будет драйв.
Не знаю, что мне так вставило.
Не замышлял я ничего особо плохого, просто так вышло. И не хотел вовсе ничего плохого никому делать, они сами во всем виноваты. Им всегда нужно куда-то ехать, куда-то стремиться, куда-то копошиться. Попробуйте с ними заговорить, и сразу получите сами знаете что по всей роже. Ведь каждый из них только и думает о том, как сделать вам гадость. Утро-день-вечер-ночь. Утро-день-вечер-ночь. Это приключение, из которого живыми никогда не выходят. Женщины визжат, мужчины кряхтят, все вместе стонут. Не люблю я общественный транспорт, вот и все.
И понял я тогда: действительно надо, чтоб особей стало поменьше и чтобы они в автобусах не ссорились. Пора наводить порядок.
После Латина остались кое-какие пакеты, которые он все на продажу готовил. Вот теперь они мне и пригодятся. Проверил на пустыре за городом. Действует. Взрыв был красивый.
И вот сажусь я в автобус. Кладу пакет под сиденье и выхожу на следующей остановке. Перемещаюсь в тачку, которую я выгнал со стоянки для этого случая и оставил на остановку дальше от места посадки в автобус.
Еду вслед за автобусом на дистанции метров в пятьдесят. Слушаю «Наше радио» свое любимое. Распереживался, нежели не сработает?
Нет! Повезло! Автобус разлетелся в стороны, как елочная игрушка. Такие цвета! Красная гниль брызнула сначала на стекла, а потом и они разлетелись.
Дельце сделано. Удираю.
Полный драйв. Я повторяю экшн еще два раза. Понятно, я уезжал подальше от своего жилища и уменьшал количество особей в других районах.
Жаль, что экшн не видели Ларри и Латин, Альфа и Роман Гнидин. Им бы это очень понравилось. Ведь все-таки я начал взрывать весь мир. Несмотря на громкость фразы, это действительно так.
А вот в метро я экшены устраивать не хотел. Просто очень устал, распереживался и заснул. А ведь энтропия и ангедония, предсказанные умным доктором, уже полным ходом валили. Слух, зрение, осязание, обоняние — все уже почти накрылось. Тут просыпаюсь, и мою станцию объявляют. Выскакиваю и пакет забываю. Поезд уехал, а я про пакет вспомнил и вконец задергался. Рвануло где-то на кольцевой линии. Наверно, какая-то любопытная особь в пакет помародерничать залезла, а тут ей и привет по всей роже. Взрывчатка не любит резкого обращения.
Посмотрел я из окна на улицу и многое понял. Особей меньше не стало. И все мои действия напрасны. В одиночку взрывпакетами проблему не решить.
Тогда пора подводить итоги контрольной работы за первую и последнюю порцию жизни. Ларри мертв, Латин мертв, Альфа мертва, Роман Гнидин мертв. Я слышу их тихие, но уверенные голоса. Они ждут. И мне пора поторапливаться. Чтобы завершить это бесполезное и бестолковое мероприятие.
Четвертая волна русской эмиграции зацепила и меня.
Проверяя, не разучился ли я еще читать, понаблюдал статью в газете. Там предлагают неизлечимо больным людям замораживаться в Бельгии. И разморозку обещают, когда лечение правильное обнаружится. Кажется, мне это подходит.
Я ЕДУ! Я буду жить долго, я буду воскресать и умирать. Я обязательно вернусь.
Никуда я больше не ездок, пойду бродить по миру, где оскорбленному есть чувству уголок. Машину мне, машину.
И сел на поезд. Денежки предварительно собрал, тачку на постоянку закинул. И поезд поехал.
Тук-тук в вечность, тук-тук в никуда. Я слышал, что многие раньше уезжали, а возвращались полными деградантами. А я уже еду конкретным имбецилом, кем же я вернусь, если вернусь?
Прибыл в Бельгию. Завалил в клинику.
Приняли вежливо, пригласили ласково, предложили договор подписать. Выяснилось, что деньжат моих хватит на несколько лет заморозки. А потом я, дескать, проснусь и, может, смогу вылечиться. Они записали всякие формальности, подпись на согласие, документы.
— Ваш первоначальный диагноз? — спросила меня милая бельгийская девушка. — Ну, понимаете, Северин, это нужно для отчетности.
— Опингвинение.
Она сочувственно закивала, зацокала языком и записала.
— Да, не повезло. И тяжелая форма?
— Экзистенциальный Пиздец.
Она снова цокнула.
— Из России?
— Да. А как вы догадались?
— Сейчас много молодых ребят из России приезжает. Пойдемте в палату.
Меня уложили на кушетку, подсоединили провода. Вкололи что-то приятное. Я почувствовал, как по телу разливается хорошее и давно утраченное.
Я закрыл глаза.
И полетел. Далеко-далеко, высоко-высоко, на самую темень, до самого конца.





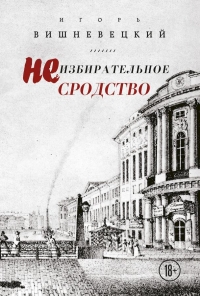




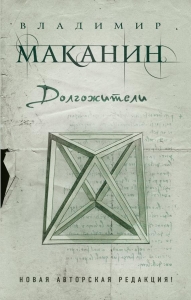


Комментарии к книге «Каждый сам себе дурак», Кирилл Туровский
Всего 0 комментариев