Пьяная Россия Том второй Элеонора Александровна Кременская
© Элеонора Александровна Кременская, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Гении
Вместо предисловия
– Гений! – говорят ценители изобразительного искусства и вздыхают, с завистью обсуждая шедевр новоявленного мастера.
– Гений! – произносят театралы, с восхищением глядя на игру великолепного артиста, и аплодируют стоя.
– Гений! – комментируют любители спорта и толпой преследуют выдающегося футболиста.
– Гений! – констатируют врачи и опускают руки перед грандиозным хирургом, проделавшим невероятно сложную операцию.
Так кто же они, гении? Откуда берутся эти чудо-люди? И почему в обычной семье рабочих и крестьян рождается вдруг ребенок с такими музыкальными способностями, что ого-го! И почему в семье спившихся ленивцев рождается ребенок с математическим талантом? Да, много еще можно приводить примеров, когда вроде бы по всем фактам, когда наследственность и генетика должны были сыграть роль, но не сыграли и вместо армии дебилов, мы получили армию гениев! Что это? Ошибки ангелов или намеренное издевательство, а, мол, поглядим, как ты, его величество гениальность выберешься из семейки ограниченных, тупейших людишек, вся жизнь которых в том только и заключается, как бы брюхо себе набить, престарелых родителей на тот свет загнать и квартиру забрать, а после лежать, полеживать да бока наращивать под треск и болтологию телевизионных мыльных опер?! А, ну-ка, поглядим, позабавимся, как гений выберется из этакой передряги? Но, почему? Почему именно к гениальным людям применяются столь жесткие меры, что в них особенного? Может, крылья за спиной? Вроде бы, не видать. Может, нечто не от мира сего, отличающего гения от человека, как отличает, скажем, великий рост слона от маленького муравья? А, может гении в большинстве своем и не люди вовсе, а ангелы? Да, да, те самые, шатающиеся и не могущие выбрать, с кем они, с Богом или Сатаной? Не желающие идти войной против собственных братьев и избравшие, таким образом, особенно сложный путь – путь людей, как известно предавших Бога и оказавшихся в ужасающих условиях земного бытия. Некоторые гении, по секрету вам скажу, даже считают наш мир ответвлением геенны огненной, первым кругом геенны, с чем вас активно и поздравляю!
Вступление
Мир затаил дыхание, один – единственный мальчик остановил страшенной силы ураган, разразившийся над Черным морем и грозивший смертью многим людям населяющим крымский полуостров. Мало того, остановил и исчез, едва эксперты по сверхъестественным явлениям занялись им. Вскоре к экспертам подключились спецагенты из службы связанной с государственной безопасностью. Мальчика повсюду искали, тем более выяснилось, что людей с такими способностями хватало. На гениев спецагенты принялись натыкаться повсюду…
Алексашка
Фиолетово-темные тучи раскололись зигзагами молний. Многоголосый грохот упал на голову, завопившего от страха маленького худенького человечка. Сильный ветер подхватил капли дождя, ударил в лицо. Завывая, человечек ужом залез под развесистые заросли душистой сирени и замер, поскуливая.
Двое наблюдателей, сидевших в черном автомобиле с тонированными стеклами, переглянулись. Один с сомнением в голосе произнес:
– Мне кажется, это просто сумасшедший!
Второй не согласился:
– Гений, а гении на то и гении, чтобы быть не похожими на нас, простых смертных!
С этими словами он вышел из машины и направился к укрытию человечка.
Вскоре, трус оказался в автомобиле. Безропотно, маленький человечек дал себя пристегнуть к сидению и только сильно вздрагивал при очередном ударе грома.
Наконец, автомобиль тронулся с места, и тут же в лобовое стекло врезалась молния, прошла насквозь и убила, вначале, одного за рулем, затем второго. Произошло это в доли секунды.
Но маленький человечек успел крепко зажмуриться и напрячься. В следующее мгновение в автомобиле вспыхнули невесть откуда взявшиеся гудящие и шипящие огни нескольких шаровых молний. Молнии неторопливо бились о невидимое препятствие, возникшее было на пути к маленькому человечку. Жертва их нападения сидела неподвижно, напряжение, царившее в автомобиле усиливалось и тут распахнулась дверь, в мгновение ока некие сильные руки расстегнули ремень безопасности, выдернули маленького человечка наружу и захлопнули перед метнувшимися было молниями, дверь. Шаровые молнии попытались пройти сквозь обшивку автомобиля, но не смогли. Силовое поле, возникшее в салоне, принялось сжиматься, сгоняя шары в одну гудящую и трещащую кучу. Через мгновение молнии под давлением, взорвали сами себя. Машина загорелась, трупы обоих наблюдателей скрылись под ярким пламенем.
Маленький человечек был уже далеко, он почти летел за крепкой фигурой костистой старухи.
– Сколько раз тебе говорить, – сердито орала старуха, – никогда не связывайся с ангелами!
Маленький человечек молчал, быстро перебирая в беге ногами.
– Мы сами по себе, они сами по себе! – негодовала старуха.
Она втолкнула человечка в двери одноэтажного кирпичного дома и встала, напряженно раскинув руки.
Молния не заставила себя ждать, ударила вблизи дома, после, сияющим зигзагом попыталась ударить в двери, но была отброшена силовым полем.
Старуха запела, низко, басовито. Человечек после недолгих раздумий, к ней присоединился. Совместный хор сделал свое дело. Силовое поле разрастаясь, пошло вверх, к тучам. Люди пели, тела их раскачивались в такт ритмам. Голоса от низких, переходили к высоким, маленький человечек тут преуспевал, пел почти на ультразвуке. Напряжение нарастало, силовое поле выжимало тучи. Через несколько минут усиленный ливень прошумел по земле и стих. Небо очистилось, тучи исчезли, уступив белоснежным облакам.
Старуха стремительно распахнула дверь, с наслаждением вдохнула воздух. Пронзительно пахло свежевымытой травой и мятой.
– Отбились! – весело бросила она маленькому человечку.
Человечек кивнул, потер лицо, усиленно заморгал.
Старуха заметила его состояние.
– Устал? Ничего! Быстро восстановишься!
Маленький человечек не ответил, а вышел на крыльцо, приложил ладонь козырьком ко лбу и недоверчиво оглядел сияющее небо.
Старуха обнадеживающе ему улыбнулась, протирая запотевшие в безумных действиях, очки.
– Авось, внучек, теперь ангелочки посчитают тебя убитым и забудут проверить, в каком мире, ты на самом деле!
– Авось! – понадеялся он.
– Ну, а те двое, кто такие? – вспомнила старуха про двух мужчин погибших в автомобиле.
– Люди в черном, – мрачно отозвался внук выглядевший, как обычный подросток пятнадцати лет, – охотники за головами гениев.
– Да ну? – удивилась старуха.
– Вот тебе и ну, – передразнил маленький гений, – так что ангелы вернутся, новые люди в черном наведут их на мысль обо мне!
– Есть же поговорка: «Не трогай болото, пока не воняет!» – сердито вскрикнула старуха.
– Уехать мне надо! – с тоской в голосе произнес мальчик. – Прыгнуть!
– Вместе прыгнем! – решила старуха. – Пошли собираться!
– Алексашка! – позвала она из дома. – Вещей возьми немного, прыгнем к родне, в Туву!
– В Сибирь поедем? – переспросил Алексашка.
– В Сибирь конечно, брат, Богдан сильнее меня, небось, поможет нам спрятаться, да и сестра твоя двоюродная, Мила, говорят в страшную силу вошла!
Воители
Родной дядя Алексашки, Богдан не всегда жил в Туве, был момент его жизни отшельничества в качестве лесника в дремучей тайге, на севере России.
Алексашка с бабушкой приезжали тогда к нему в гости. Они составляли колоритную компанию. Бабушка Алексашки стоически выдерживая удары судьбы, растила внука сама, зять ее спился и перестал походить на человека, пропал где-то на Кавказе, куда бежал от семейных передряг, за новыми, так сказать, свежими ощущениями. Мать Алексашки, как это часто бывает в колдовских семьях, отреклась от дьявола, бросила сына и сбежала в монастырь, где через месяц послушничества приняла постриг и другое имя, мужское. Тут надо сказать, в женских монастырях инокини и монахини нередко откликаются лишь на мужские имена, правда, несколько переделанные, такие, как «Серафима», «Константина», «Павла». Таким образом, считают монахини, они прячутся от происков дьявола, не соображая, что дьяволу, в принципе, нет никакого дела до каких-то там монахинь…
Алексашка бывал в монастыре и вглядывался в осунувшееся, потемневшее лицо матери. Неистово молящаяся, мать была неузнаваема. Куда подевалась ее веселость, озорство, когда она, будто девчонка, играла с сыном в прятки. А как она прыгала через скакалку, как заразительно смеялась, раскачиваясь на качелях!
Мать, вся в черном, встречала сына в обыкновении у ворот монастыря и торопливо перекрестив волокла за собой, в церковь. После долгих коленопреклоненных молитв, она со слезами на глазах, уговаривала Алексашку отречься от Сатаны.
– Почему? – спрашивал тогда Алексашка.
– Он злой! – ревела мать.
– Нет, – вспоминая спокойную самодостаточную личность Сатаны, которого, к тому времени, Алексашка, как и всякий колдун из сильного рода, видел уже не раз, не соглашался он и добавлял, наблюдая ее тревожное состояние, – я поговорю с ним, обещаю, я добьюсь, и он тебя отпустит!
Мать смотрела сквозь пелену слез.
А Алексашка, покидая монастырь, куда приезжал за тридевять земель, навещать мать раз в месяц, шагая по вытоптанной паломниками тропинке к полустанку, думал, с ожесточением в сердце, что слабых, никчемных колдунишек и ведьм надобно отпускать. Слабые вообще не должны получать силу рода, они либо обезумеют, либо разбазарят свою силу так, что их детям нечего будет наследовать.
После нескольких упорных попыток прорваться к Сатане, Алексашка все же добился справедливости, доказал Князю мира сего, что его мать глупа и Владыка снисходительно улыбнувшись на заступничество сына, отпустил инокиню с миром.
Однако, когда окрыленный победой, Алексашка примчался к монастырю, он даже за врата не смог зайти. Материализовавшийся невесть откуда, Страж принявший облик высоченного монаха встал на пути сына к матери.
– Но она моя мать! – попробовал было возразить Алексашка.
Страж молчал, сверкая глазами, и медленно наступал.
Опасаясь, как бы, не разгорелась битва ангелов, которая, как правило, ведет к разрушению и смерти множества людей, Алексашка отступил. Издалека он крикнул растерявшейся матери, застрявшей в воротах:
– Я буду тебе писать!
И видя, что страж положил руки ей на плечи, удерживая на месте, не давая подбежать к сыну, посоветовал:
– Не сопротивляйся! Не надо!
Отвернулся, чтобы мать не видела его слез и разрыдался. Плача, он припустил к полустанку, где сел на электричку, забился в угол последней скамейки и плакал, беззвучно роняя слезы в рукав куртки, уткнувшись так, чтобы другие пассажиры не приставали с вопросами. Через два часа, Алексашка бросившись в объятия бабушки, все ей рассказал.
И бабушка засобиралась. Это было первое бегство от ангелов Бога.
– Так ты утверждаешь, страж тебя видел? – сердилась бабушка, упаковывая вещи в старый потрепанный чемодан.
– Он смотрел мне в глаза! – вспоминая тяжелый блестящий взгляд исподлобья, которым одарил его Страж, воскликнул Алексашка.
– Это война! – заявила бабушка, останавливаясь посреди избы, жестом зануды поправляя очки на носу. – Видит дьявол, моя дочь всегда была туповатой, в школе училась плохо, стихи не запоминала. Бесы нашего рода ее жалели и никогда не показывались ей в истинном виде.
– Как же она с ними общалась? – удивился Алексашка.
– Прикидывались кошками, – ответила бабушка, со вздохом, – у нас в доме мяукало тринадцать кошек!
Алексашка расхохотался, живо представив себе эту картину.
– Бесы играли с ней, забирались на крыльцо дома, поджидая из школы, притворялись промокшими и озябшими котятами. Всех, представь себе, всех, она тащила в избу! – и бабушка презрительно фыркнула. – Бесы вынуждены были оборачиваться кошками, птицами, собаками, даже детьми, лишь бы охранять ее, наследницу рода, наследницу силы, а она вон как их отблагодарила, в монахини подалась, идиотка!
И бабушка плюнула на чистый пол.
В тот же день, они рванули к дяде Алексашки, сильному колдуну, Богдану.
Богдан жил, как это уже и говорилось выше, отшельником, но все же не совсем отшельником, потому как дочь Мила была тут же, при нем.
Мила, будучи старше Алексашки на два года росла веселой и легкой. Она, словно пушинка, взлетала кверху и через мгновение насмешничала над двоюродным братом с верхушки сосны.
– Как ты это делаешь? – недоумевал Алексашка.
Мила учила:
– Забудь про вес тела, вымести его куда-нибудь!
– Куда? – торопливо спрашивал Алексашка.
– К облакам! – лукаво щурилась Мила и советовала, – закрой глаза, сосредоточься, вымещай вес и взлетай, а ветки сосны тебе помогут на первом этапе.
Алексашка бился месяц, через месяц упорных тренировок задача была решена, он научился вымещать вес тела за пределы Земли, научился перелетать от сосны к сосне.
Часто, они с Милой играли, выстраивая воображаемую широкую лестницу с перилами. Лестница вела к небу, к белоснежным пушистым облакам.
И тогда сторонний наблюдатель был бы поражен необычайным зрелищем. Двое детей, под веселое чириканье птиц, азартно прыгали, забираясь все выше и выше и все это, в прозрачном воздухе!
Достигнув облаков, легко сбегали вниз, опять-таки, как бы по ступеням лестницы, изредка, правда, они задерживались у верхушек кедров, чтобы нарвать шишек полных кедровых орехов. Отец Милы любил растолочь кедровые орехи в ступке и после, перемешав с медом лесных пчел, ел вместо конфет, частенько запивая крепким настоянным на травах, горячим чаем.
Иногда, им вслед несся крик бабушки:
– Не поднимайтесь выше облаков, там нет щита!
Щит поставил колдун. Богдан умел создавать щиты да такие, что сильные дожди с грозами обходили его избушку стороной.
Используя щиты, Богдан приманивал зверей и кормил диких волков с рук. За ним бежали и летели все звери, птицы лесные.
С помощью птиц он знал происшествия в округе. Нередко, первым прибывал на лесной пожар, первым спасал заблудившегося грибника, выхаживал раненых животных, а на браконьеров насылал такой морок, что браконьеры могли проплутать не сходя с места несколько дней и ночей. А после, повредившиеся в уме, рехнувшиеся от ужасных видений, браконьеры отпущенные на свободу, вылезали на четвереньках из леса. Люди находили их невменяемыми и абсолютно безумными.
В округе говорили, будто колдун заставляет браконьеров с помощью морока переживать минуты, а порой и часы страха, когда жестокий охотник преследовал беззащитную зверушку, с той только разницей, что на место зверушки он ставил самого браконьера…
Алексашка спасался у дяди все лето и осенью решил вернуться, полагая, что ангелочки уже позабыли о его существовании, бабушка поддержала внука, лишь Богдан был против:
– Учись держать щиты! – говорил он Алексашке. – Тогда сможешь выжить!
Алексашка кивал и обещал. В последующие дни, недели, месяцы и годы он прилежно учился, донимая ведущих рода, нескольких сильных демонов вопросами о щитах. Скупые крупицы информации, что он получал от ангелов сатаны, Алексашка использовал в полную силу, что-то дополняя, что-то преобразовывая, с матерью он больше не виделся, не решался съездить и таким образом, напомнить о себе Стражу монастыря. Письма писал редко, мать ему почти не отвечала, а с маниакальной тупостью присущей всем фанатикам Бога без исключения, в каждой открытке, в каждой строчке напоминала сыну о необходимости отречения от дьявола, забывая, что именно дьявол ее и отпустил…
Кока
На самом деле его звали Костя. Прозвище Кока прицепилось с детства и перешло во взрослую жизнь благодаря усилиям трех старших братьев. С братовьями у Коки не заладилось с самого начала. Они – крепкие, мускулистые парни с запросами сексуально-озабоченного свойства посвятили свою жизнь поверхностным бравадам, а он, болезненный, тщедушный писал стишки в тоненькой тетрадочке. Тетрадку прятал в кладовке, где посреди старых вещей наполненных пылью, она и хранилась, недоступная для братьев-чистюль.
Братья начищали ботинки до зеркального блеска и лачили волосы маминым лаком для волос, а он дотаскивал ненужные им, растянутые в гимнастических упражнениях футболки и спортивные штаны.
Он читал книжку со стихами Есенина, и его братья строили насмешливые рожи:
– Наш Кокочка влюбился!
Он засиживался за уроками, и братья напевали, стоя у него за спиной:
– Наш Кока – гений, профессор кислых щей!
Братья, один за другим, они были погодками, отслужили в армии, а Коку не взяли. Медицинская комиссия завернула его безо всяких оговорок домой с вердиктом: «Негоден к службе!», что дало новый повод для насмешек братьев.
Братья, помогая друг другу, организовали семейный бизнес, втянули в этот бизнес родителей, построили большой дом на четыре семьи, женились. Кока сидел в сторонке, наблюдая за жизнью родственников. Ему отписали старую родительскую квартиру.
Кока остался один и прожил один, никем не потревоженный, целый год.
На день рождения, покорный своей судьбе, Кока купил маленький тортик, съел его в глубочайшем одиночестве, взобрался на перила балкона, безразлично поглядел в небеса и… прыгнул.
Земля приближалась слишком быстро, Кока зажмурился, напрягся, не желая удара и… взмыл кверху. Через секунду он обнаружил себя стоящим на перилах балкона. Осторожно слез, потер лоб, не в состоянии объяснить самому себе, что произошло, вернулся в квартиру, прилег и проспал без сновидений до самого утра.
А утром поехал к родне. Особняк, что выстроили братья, красовался красной черепицей и в целом сильно выделялся на фоне облезлых избушек вокруг.
Кока заглянув в окно особняка, с трудом поверил собственным глазам, новомодный дизайн в такой дыре?
Комната, в окно которой он заглянул, сверкала хиповыми штучками, присущими новому времени: белые обои без рисунка; легкая пластиковая мебель красного цвета; круглые табуреты и стулья из алюминия и пластика; ровный ламинат на полу; плоская панель плазменного телевизора, подвешенная на стену – все словно говорило о ненадежности современного бытия, где принято сидеть на неудобной мебели и носить неудобные, но такие модные джинсы, подчас едва удерживающиеся на бедрах.
Коку укусил комар, следом за первым присосался и второй, третий. Повеял ветерок и до кокиного носа донесся запах свежего коровьего навоза, как видно неподалеку располагалась ферма.
Загремела цепь, проснулся цепной кобель, вылез из будки и, обнаружив непрошеного гостя, застывшего у окна, бросился, рыча.
Кока удрал. Он бежал через заросшие бурьяном поля, куда глаза глядят. Бежал, пока не наткнулся на деву.
Озадаченно взглянул на нее:
– Ты – ангел?
Дева звонко рассмеялась. Но воздушные белокурые волосы, небесно-голубые глаза и белое, длинное платье отороченное кружевами сами за себя говорили.
Ангел собирала букет из полевых цветов. Кока тупо следовал за ней повсюду. Ангел привела его в простенький деревянный домик, где ступеньки крыльца потрескались и из щелей выросла крапива.
– Хорошо хоть репейников нет! – пробормотал на увиденное, Кока.
Присев на скамью в тени вишневого дерева Кока пригубил чай со смородиновым листом. В воздухе чувствовалось прохладное дыхание надвигающегося дождя. Усиливающийся аромат садовых цветов и трав подтверждал это впечатление, но несмотря на угрожающего вида тучи нависшие, казалось, над самой головой, Кока никуда не торопился.
– А я летать умею! – похвастался он.
Ангел взглянула недоверчиво. Кока встал, распахнул руки, зажмурился и пожелал оказаться на верхушке вишневого дерева. Открыв глаза, он обнаружил себя стоящим на крепкой ветке, на самом верху. Ангел восторженно аплодировала…
И тут, кто-то стремительно налетел на него, практически мгновенно сбросил на землю, у самой поверхности, правда, затормозив.
– Ты что, – сердито зашипел на Коку маленький ростом, щуплый с виду, подросток, – ангелы же заметят!
И он со страхом оглянулся на громоздящиеся тучи. Рядом с юношами переминалась старуха:
– Скорее Алексашка, пойдем, может, ему не нужна наша помощь, может, ему смерть нужна!
Кока взглянул на деву, но ни девы, ни домика он не увидел:
– А где?.. – растерялся он.
– Что? – резко спросил Алексашка, пристраивая обратно на спину тяжелый рюкзак.
– Ангел! – и Кока коротко рассказал.
Вместо ответа, его новые знакомые бросились бежать, Коке ничего не оставалось делать, как последовать за ними, хотя бы для того, чтобы получить ответы на возникшие было вопросы.
Далеко от места событий, люди, с официальными лицами получив распечатку фотоснимков со спутника-шпиона, задумчиво переглянулись.
– Прямо, эпидемия какая-то, гениев-то развелось, – пробормотал один из людей в черном, – пристально разглядывая выражения лиц летающих мальчишек.
Мила
Не прошло и часа, как на новом месте работы она приобрела невиданную популярность. Молодые мужчины так и вились возле ее стола, женатики строили глазки, как бы невзначай оказываясь в углу огромного офиса, где она обитала, а пожилые сластолюбцы одаривали ее маслянистыми улыбочками.
Но всех обошел начальник отдела. Быстрыми, твердыми шагами он подошел к ней, нагло пригласил на обед. Она растерялась, промямлив согласие.
Начальник привел ее в кафе, маленькое, сиреневое заведение с круглыми деревянными столиками на которых лежали ноутбуки и планшеты, и посетители не замечая хода времени уткнулись в экраны смартфонов.
– Здесь, бесплатный интернет! – пояснил ей начальник.
Она растерянно огляделась, не находя свободных мест, но бойкий расторопный официант, подскочивший к ним, быстренько вытряхнул парочку развалившихся за планшетами подростков и успевая шипеть рассерженным змием на возмущенных геймеров, одновременно улыбался лучезарной улыбкой новоприбывшим. Ловко обмахнув белым полотенцем безукоризненно чистую столешницу, изогнулся, услужливо подавая меню.
– Что будете заказывать? – готовый записывать, официант уже достал блокнотик и ручку.
С огромным трудом она подавляла желание раскрыть рот от изумления, впервые она оказалась не то что в кафе, но впервые приглашена на обед мужчиной да еще каким мужчиной, начальником! Надо же какой успех и в первый день работы!
Он, между тем, заказал тарелку борща, пюре с сосисками и кружку пива. Она выбрала летний салатик и стакан яблочного сока.
– Только не говорите мне, что вы – вегетарианка! – воскликнул он. – Мила вы милы!
Она кокетливо рассмеялась.
– Кстати, мы так, толком и не познакомились, – не сводя с нее алчного взора, заявил он, – в офисе я начальник – Эдуард Петрович, но для вас Милочка просто Эдик!
Она польщено хихикнула.
Он восторженно присвистнул.
– Что? – поежилась Мила, чувствуя себя неуютно под взглядом двух геймеров, привалившихся к стене. Подростки явно ждали, когда они отобедают и уберутся прочь, чтобы вернуться на свое место.
– И имя у вас красивое! – влюблено глядя на нее, пролепетал Эдик.
«Ах, какая женщина, какая женщина, мне б такую!» – неустанно мурлыкало у него в голове.
Потрясающая всякое воображение красавица с безупречно белыми длинными волосами, струящимися по прямой спине. С такими стройными ногами, обутыми в маленькие хорошенькие туфельки, что и, боже ты мой! А тонкая талия, а шикарный бюст! Во взгляде ее темно-зеленых преисполненных печали глаз, ему хотелось утонуть.
Повинуясь некоему вдохновению, Эдик сорвался с места.
– Я сейчас, ладно?
Она кивнула, потерянно наблюдая в окно кафе, как он бежит к соседнему магазину – цветочному.
Ее скромность только подстегивала его, в мыслях роились надежды, а может при такой-то красоте, да еще и домашняя девушка? Домашних девушек Эдик встречал, но они не были столь ошеломляюще красивы, скорее наоборот. И его ухаживания с последующей близостью (для чего же еще ухаживать?), они воспринимали как подарок Небес. Во всяком случае, в последнем он был полностью уверен.
Эдуард знал себе цену. Молодой, тридцати лет от роду, подтянутый, стройный, высокий брюнет с холодным циничным взглядом карьериста привыкшего взбираться к своей цели по плечам друзей и недругов. Он был холост и не собирался жениться вообще, а зачем, если девки сами прыгали к нему в койку? Одни, от вида его шикарной иномарки, другие, потому что мечтали его охомутать, как же, трехкомнатная квартира в центре города, автомобиль, загородный дом, престижная работа с хорошей зарплатой! Да, он был завидным женихом и без зазрения совести пользовался этим.
Покупая шикарный букет белых роз, Эдик весь трясся от любопытства, кем же окажется Мила? К какой категории женщин она принадлежит и не мог пока найти подходящего ей определения.
Мила, покорно, будто неизбежную кару, приняла букет.
Подростки, наконец-то дождались, когда двое придурковатых освободят их столик.
Провожая взглядом странную парочку, они вслух высказали недоумение по поводу сексуально-озабоченного поведения вроде бы не чокнутого мужика наворачивающего круги возле жирной, не красивой девахи с жидкими пепельно-русыми волосами.
Их обоих пока еще не особенно увлекали девушки, они предпочитали мир виртуальной реальности настоящему миру…
Дома, Мила перевела дух и внутреннее напряжение, которое сковывало всю ее на протяжении целого рабочего дня, наконец, отпустило. Она стала сама собой.
Прошла в свою комнату, неторопливо переоделась, и не глядя на себя в зеркало, причесалась.
На кухне сполоснув под краном большую чашку с уродливым цветком на боку, поставила кипятиться чайник. Цветок напомнил ей о букете белых роз позабытых в прихожей.
Она усмехнулась своим невеселым думам, первый букет за всю жизнь, жизнь в восемнадцать лет, как не забыть!
Из шкафа достала пыльную вазу, вымыла под струей холодной воды. Розы пришлось обрезать, но укороченные наполовину, они все равно смотрелись непревзойденно.
Мила поставила вазу с цветами на середину обеденного стола. В этот момент в дверь требовательно позвонили:
– Это откуда же такое диво? – кивнул на розы через минуту отец.
– Ухажер подарил! – не задумываясь, тут же ответила Мила.
– Ну да? – хохотнул отец. – Воспользовалась маской?
– Нет, папочка, круче, использовала щит, – улыбнулась Мила, – правда, вроде бы двое подростков меня видели.
– И устроилась в мужской коллектив? – уточнил отец.
– Да, – подтвердила Мила, – ни одной женщины, никто не видит, не заинтересованных нет. Мужчины все сплошь молодые, гиперактивные, одним словом, самцы. А букет мне подарил начальник!
Продолжала хвастаться она. Отец вдруг нахмурился, прислушиваясь к чему-то:
– Мила, дочка, – начал он.
Мила встревожилась:
– Ненавижу, когда ты так говоришь, что случилось?
– К нам родственники приехали, вон, сейчас по лестнице поднимаются, проблемы у них.
– Какие проблемы? – уже идя открывать, спросила Мила.
– Ангелы их преследуют, придется строить максимальную защиту, – вздохнул отец.
Мила открыла двери, когда Алексашка как раз поднялся на площадку перед квартирой. Следом шла его бабушка, ведя за руку Коку.
– А это у нас кто? – спросил Богдан, отец Милы, с удивлением разглядывая Коку.
– Кока, – коротко доложил он, – вернее Костя.
И покосился смущенно на Милу.
– Разберемся, – кивнул Богдан и подмигнул дочери, вновь превратившейся в сногсшибательную блондинку.
А Мила в свою очередь улыбнулась обалдевшему от встречи с потрясающей всякое воображение красавицей, Коке.
Магик
– Ни за что не поверю! – покачала головой строгая на вид тетка лет пятидесяти. – Не родной ребенок, как можно было решиться на такое?
Дело происходило в скромной двухкомнатной квартирке провинциального городишки России.
Двое взрослых, мужчина и женщина, загнанные в угол кухни теткой, стояли, тесно прижавшись, друг к другу и мычали нечто невразумительное в свое оправдание.
– Ну и что, подумаешь – бесплодны! – фыркнула тетка. – Жили бы себе, многие живут, ни детей, ни домашних животных – красота!
И тут она развернулась к нему, схватила за руку:
– Ну-ка посмотрим, что ты есть такое?
Он поморщился от боли, но промолчал, тетка продолжала сдавливать его руку длиннющими цепкими пальцами.
– Фи, – скривилась она в презрении и зацокала языком, выражая свое неодобрение, – худющий, бледнющий, а может и больной. Вы на инфекции его проверяли?
Двое промычали нечто невразумительное.
– Ну да, – не поверила тетка, поди-ка сын алкашей, а то еще и рецидивистов. Вырастет, зарежет вас во сне, а квартиру себе захабает!
Двое промычали нечто отрицательное.
– Знаю я вас! – прикрикнула тетка и двое мгновенно, покорно сникли.
Тетка, наконец, отпустила его руку, села нога на ногу, продолжая его оглядывать, набила табаком трубку.
Один отделился от другой и почтительно склонившись, поднес горящую спичку к ее трубке.
– Ну и кто же ты таков будешь? – спросила тетка.
– Я? – переспросил он и ответил уверенно. – Гений!
Тетка немедленно фыркнула. Ее щеки затряслись от безудержного веселья:
– Гений! Ой, держите меня! – хохотала она.
Он невозмутимо смотрел на нее.
Отсмеявшись, она вытерла тыльной стороной ладони слезы, невольно выступившие от продолжительного смеха и спросила, не скрывая иронии:
– И в чем же твоя гениальность?
Он, без слов, протянул вперед ладонь и тут же осыпал тетку золотыми монетами.
– А, фокусничаешь! – разочарованно протянула тетка, но монеты подобрала.
Он проследил, как золото исчезло в бездонных карманах теткиного пиджака. В углу, двое хранили напряженное молчание.
– Ну ладно, – встала тетка, – поиграли и будет!
– Отправляйте, вы, этого, – кивнула она на подростка, – сироту, обратно в интернат!
– Нет! – тихо выговорил он.
– А тебе вообще никто права голоса не давал! – заверезжала тетка и повернулась, к двоим. – Выбирайте либо он, либо квартира!
И ехидничая, показала фигу юноше:
– Что, съел? Я тут хозяйка, квартира моя, а они, – кивнула она на двоих, – всего лишь квартиранты и мне каждый месяц платят! Иные и зарплаты-то такие не получают, сколько они мне платят! Даром, что ли моя сестра родная, будет жить на моих законных квадратных метрах?
– Пошла вон! – четко выговорил он.
И когда ее закрутило, заповорачивало, когда невидимый вихрь понес ее к выходу, он быстро проговорил:
– И дорогу сюда забудь, а как вспомнишь, снова забудь! И сестру свою грабить не смей, не смей с родных людей деньги требовать, а как захочешь ограбить, так память у тебя и отшибет на веки веков!
Тетка, было, раскрыла рот, заходясь в беззвучном крике, забилась, в попытке сбросить колдовство, но была безжалостно выкинута, вытолкнута из квартиры, из подъезда и опомнилась только возле собственного дома, за тридевять земель, на той стороне города. Перевела дыхание, огляделась, ничего не соображая и машинально двинула в располагавшийся по соседству продуктовый магазин. Набрав покупок, рассчитываясь на кассе, полезла по привычке в карман пиджака, где хранила мелочь, вытащила на свет божий пригоршню золотых монет.
Ничего не понимая, долго глядела на диво дивное, пока взбешенная ее поведением очередь, застрявшая на подходе к кассе, не разразилась криками:
– Долго еще пялиться будешь?
– Набрала желтых кругляшек и тупит, смотрит!
– Плати и уходи!
Она расплатилась обыкновенными деньгами и, спрятав золотые монеты обратно в карман, пошла, приседая от страха и недоумения. Множество вопросов роилось у нее в голове, но ноги сами принесли к лавке антикварных ценностей, где уверенный в себе знаток древностей, разглядев монеты, твердо заявил:
– По десять долларов за штуку и ни цента больше!
Обмен тут же состоялся и она, чрезвычайно довольная добралась до своей квартиры, где в заветной шкатулке уже хранились кое-какие деньжата. Запирая неведомо откуда взявшееся счастье в виде ценных зеленых бумажек, ликовала и было подумала о своей сестре, которую всегда считала простофилей, а не позвонить ли ей по телефону, похвастаться? Но тут же отчего-то и позабыла, пошла набивать трубку табаком, чтобы покурить всласть. То, что она сдает квартиру родной сестре, она и не вспомнила, и это являлось очень хорошим знаком для нее, что, впрочем, она и не поняла вовсе…
Начало
Магик родился в крестьянской семье. Родители его не были колдунами, но мать разговаривала с растениями, обихаживала вишневые сады, что принадлежали совхозу. Отец у Магика выучился на комбайнера и куда как лихо управлялся с пшеницей, овсяными полями и прочими зерновыми культурами. Родители его любили русскую землю, любили природу, в лес ходили, как к себе домой и невдомек им было, что в их семье родился необычный ребенок, Магик.
Заприметил мальчика колдун, что жил на отшибе села. В каждом селе, в каждой деревушке должно быть можно встретить такого колдуна.
Держался он холодно и надменно. Серые глаза будто бы метали в сторону селян ледяные стрелы, тем не менее, к нему шли погадать на судьбу, приворожить, вылечиться, обращались за удачей, а иногда, хотели отомстить обидчику.
Колдун не всем потакал, многим отказывал. Магика, не без труда, он заманил сам, для разговора, но войдя в крепкую бревенчатую избу колдуна, мальчик сразу заметил непорядок:
– Ты поклоняешься Сатане, как божеству? – изумился Магик, оглядывая алтарь сооруженный колдуном прямо в гостиной дома.
– Да! – прижал он руки к груди.
– Но Сатана – не бог, – покачал головой мальчик, – он не приемлет поклонения и жертвы ему не нужны. Жертвы нужны Богу, так он сам говорит.
– Откуда ты знаешь? – возмутился колдун. – Без году неделя, а поучаешь!
– Как мне не знать, – мягко произнес Магик, – когда я из древних душ и помню тысячи своих воплощений в людях, животных, птицах, даже насекомых!
Колдун изумленно разинул рот.
А Магик продолжал:
– А ты служишь черные мессы!
Устало присев на краешек табуретки, Магик сказал:
– Все это игрушки для ищущих, для так называемых сатанистов и неплохая ширма для жизни настоящих ангелов Сатаны, по тем или иным причинам, очутившимся посреди людей. Я вижу, ты не сатанист и до ангела тебе далеко, так зачем же ты служишь мессы, зачем совершаешь жертвоприношения?
– Хочу добиться милости от Хозяина, – прошептал колдун, потрясенный речью мальчика.
Магик задумался:
– Неправильное решение, на самом деле тебе достаточно будет лишь мысли и желания. Ангелы Сатаны очень собраны, дисциплинированы и решительны. Колдуны и ведьмы им необходимы, это правда, но необходимы лишь в качестве кандидатов в малые войска.
– А как же сила? Как же заклинания, передающиеся по наследству, из уст в уста, как же месть недоброжелателям? – не сдавался колдун.
– Сила дана не для того, чтобы погубить род человеческий, это сказки христосиков, – отмахнулся Магик, – побасенки глупых верующих!
И продолжил:
– Людьми занимается горсточка ангелов с одной стороны и горсточка ангелов с другой. Люди жалуются на происки бесов, но при ближайшем рассмотрении, воображаемые бесы всегда оказываются мстительными призраками или мерзопакостными, которые были колдунами и ведьмами при жизни, но опустившись до уровня людей, то есть, застряв в болоте этого мира мести и злобы, умерев, они принялись бегать от Хозяина, превратившись в вампиренышей, сосущих жизненную энергию в качестве пищи. Питаться-то им чем-то надо! Вот почему, живые испытывают суеверный ужас перед мертвецами! Мертвецы тоже едят, но пожирают они энергию живых, если мертвецов вовремя не выгнать на тот свет, где создан другой мир, мир для тех, кто обнажен, кто – душа!
– Но в церкви отпевают мертвецов! – попытался возразить Магику колдун.
– Церковь ничего не дает, – категорически отрезал Магик, – да и не могут священники ничего сделать, силы нет, а у кого из предстоящих Богу сила есть, сразу сбегают.
– Куда?
– В скиты, закрытые монастыри, куда угодно, лишь бы подальше от этой напасти!
– Трусы! – горячась, воскликнул деревенский колдун.
– Да, – согласился Магик. – И всегда празднуют труса, сражаются с сумасшедшими призраками и мерзопакостными, в основном, ведьмы.
– Почему, ведьмы, а как же колдуны?
– Потому что, ведьмы – женщины, по природе своей они понимают умерших людей, сочувствуют им и, проявляя благородство, даже ратуют за иных мерзопакостных, заступаясь за них пред Сатаной.
– Сбереги меня Сатана, чтобы я мог послужить тебе в этом и другом мире тоже! – суеверно начертив в воздухе пентаграмму, произнес колдун.
Свою необыкновенную проницательность и знания, присущие скорее взрослому и чрезвычайно образованному человеку Магик ни от кого не скрывал. Родители его пребывали в шоке, не уставая удивляться на странного ребенка, особенно сильно поразило их откровение о скорой гибели…
Мать Магика, молодая женщина тридцати пяти лет, после откровения сына, произнесенного спокойным и рассудительным тоном, так и не смогла заснуть, проворочавшись с боку на бок добрую половину ночи, наконец, встала и на цыпочках, стараясь не разбудить сына, прокралась на кухню. Кухня в ночную пору выглядела чужой, сквозь тюлевые занавески лился мертвенный свет одинокого уличного фонаря, и у нее сжалось сердце при воспоминании. Воспоминание привело ее к медленному звучанию одного из тех вальсов, которые так любил напевать ее супруг и отец Магика. Всего шестнадцать лет назад, влюбленные друг в друга, они сидели на этой самой кухне и, уплетая праздничный ужин, обсуждали свадьбу. После свадьбы в упоении восторга иногда полуночничали, коротая время возле холодильника. А с рождением ребенка ночные посиделки на кухонном пространстве прекратились вовсе, она уставала от возни с малышом и домашних хлопот, он от сверхурочных и дополнительных заработков на тракторных работах, которые вынужден был набирать, чтобы прокормить семью.
Сын рос быстро. В два года он уже вовсю помогал ей, гармонично вплетаясь во все домашние дела. Был серьезен и неулыбчив. Мать замечала странное, когда сын помогал соседским старикам обрести здоровье, когда и ей он оказывал помощь, просто наложив руки на скованную болью поясницу, радикулит – бич всех деревенских жителей привыкших кланяться земле-матушке не являлся исключением и для матери Магика. Боль моментально уходила, не оставив по себе даже воспоминаний.
В школу сын пошел с великой неохотой. На уроках скучал, зевал и засыпал, но при окрике учителя, всегда четко излагал не только устное объяснение педагога, но и дополнял его такими невероятными фактами, что у учительского состава начальной школы от удивления округлялись глаза. Магика нарекли гением, принялись переводить из класса в класс, так за один год он переступил три класса, а поступив в четвертый, мигом осознал, что мог бы учиться и в пятом, но тут и сам сообразил, что маловат ростом и посреди рослых одноклассников будет выглядеть белой вороной. И потому затормозил, спрятав свои таланты от жадных, ищущих взоров педагогов желающих прославиться за счет гениального ребенка.
Отец Магика был прост душой, наивен и неприхотлив. Искренняя светлая улыбка всегда озаряла его лицо, он был любим и сам любил. Сына обожал и не верил в его сверхспособности. Магик был для него самым лучшим, самым, самым ребенком на свете. И потому на все замечания жены он только рукой махал и смеялся, удивляясь на глупости, которые говорит вроде как не сумасшедшая жена. В конце концов, он решил встряхнуть семью, разогнать смертную тоску, поселившуюся после откровения Магика в сердце жены, купил путевку на Черное море, откуда оба родителя так и не вернулись, пропав в ужасающем реве урагана. И Магик впервые пережив нападение ангелов Бога, вернулся домой один. Ребенок пятнадцати лет не может жить один и потому, не без помощи сельской общественности, не без вмешательства школьных педагогов, Магик и оказался в интернате, откуда был забран приемными родителями.
Сказать, что он не переживал смерть настоящих родителей – ничего не сказать. Конечно, переживал и определив их на покой, в Сады смерти, как известно имитирующие рай, решил попытаться разобраться с происками ангелов, справедливо рассуждая, что этот мир и без того тяжел для жизни, зачем же еще нагнетать, зачем нападать, зачем вмешивать людей в битвы ангелов? Зачем?!
Щит
Два мужика, светлым днем, в городском парке заняли всю скамейку, расстелили газету, уставили бутылками с портвейном. Выпивали. Закусывали сушеной воблой, вели неспешный разговор.
И тут мимо них проследовала женщина, разговор, да что там разговор, забылось даже такое святое дело, как выпить, потому как… На ней была юбка сшитая из нескольких шерстяных платков, кофта мало чем отличающаяся от юбки дополняла необычный наряд. Копна седых волос покрывала плечи. Руки и пальцы, унизанные серебряными браслетами и перстнями с крупными каменьями, просто ослепляли, украшения сверкали на ярком солнце и придавали неизвестной даме еще более экзотичности.
Один из алкоголиков взглянул на ее ноги и вздрогнул, протирая глаза, на мгновение ему почудились копыта.
– Как на ходулях ходит! – кивнул алкоголик, зачарованно глядя на ярко-рыжие туфли незнакомки.
Туфли были на огромной платформе.
– Точняк! – согласился его собутыльник, также не сводивший глаз с экстравагантной незнакомки.
В этот момент она обернулась и оба алкаша замерли, потрясенно глядя в ее лицо, а затем рухнули со скамейки, на землю, без сознания.
– Ненавижу пьяниц! – прошипел Алексашка, полностью стряхивая с себя щит и превращаясь в обычного мальчишку.
Мила с Кокой хохотали невдалеке, они видели всю сцену.
– Ну что, Алексашка, понял теперь, как влияет щит на людей? – задорно прокричала Мила, будучи под щитом великолепной блондинки.
– Теперь бы узнать, как он влияет на ангелов, – пробормотал Алексашка.
– Они тебя примут за другую! – хохотала Мила.
– Теперь бы Коку обучить!
– Я не обучаем, – не согласился Кока, – и вообще, за мной ангелы не охотятся!
– Ты что? – удивился Алексашка. – Разве не знаешь?
Кока взглянул заинтересованно.
– Это, как семейное проклятие, распространяется на всех, кто попадает в орбиту нашей семьи. Заставляет страдать людей абсолютно не причастных к проклятию! Заражает тех, кто просто проявляет сочувствие нам!
– Ничего себе, – удивился Кока и весело взглянув в глаза Милы, добавил, – но я готов помучиться, за Милу, хоть в огонь, хоть в воду!
– Благодарствую! – благосклонно улыбнулась ему Мила.
– Ну что же, – раздумчиво протянул Алексашка, – щит я освоил, теперь начну искать магика!
– Кого? – хором воскликнули Кока и Мила.
– Того, кто может дать бой ангелам, кто заступиться за нас сможет! – терпеливо объяснил Алексашка. – Или вы собираетесь всю жизнь прятаться за щитами, не иметь собственной жизни и бояться любого стихийного бедствия? А магик нам поможет, я знаю!
Уверенно кивнул он и с вызовом поглядел в высокое чистое небо…
Богдан
В детстве Богдан жил у деда, в обучении. Дед шаманил, был в сговоре с духами природы и политкорректен с ангелами Сатаны.
– Мы им не мешаем, а они нам не мешают, – говаривал он.
Богдан рос мечтательным мальчиком, дед приручил его слушать невероятные сказки, которые даже в книжках не сыщешь. Дед знал прорву всяческих легенд и Богдан частенько играл, воображая себя героем той или иной дедовой сказочки, вот и тут, он выбежал во двор.
Снежинки мелькали в тусклом свете уличного фонаря, падали ему на ладонь, почти мгновенно таяли. Рука окоченела от холода и Богдан нехотя нацепил варежку. Запрокинул голову кверху, выдохнул, увидел, как белые клубы его дыхания окутывают падающие снежинки и будто бы затормаживают их падение.
– Ага! – торжествующе рассмеялся он. – Я хладный дракон, мое дыхание ледяное, всех застужу!
И помчался, порыкивая и пофыркивая, напугал стаю ворон, обедающих чьим-то батоном, наверняка выпавшим из продуктовой сумки. Вороны недовольно каркая взлетели кверху, а пропустив мальчика-дракона немедленно вернулись обратно, к своему занятию.
Между тем, Богдан мчался дальше, по улице, воображая себя огромным, страшным, с хвостом и такими лапищами, что ого-го! Расправив воображаемые крылья, Богдан решил взлететь к небу и тут наткнулся на живую стену. Ощупал, медленно приходя в себя, не веря и вглядываясь в роговые пластины, заметил, что стена дышит. Поглядел назад, увидел фонарь с тусклым светом и стаю ворон, поглядел вверх, разглядел большущую голову, увенчанную остроконечными рогами.
– Ах! – отшатнулся он и сел на землю.
– Что не нравлюсь? – насмешливо произнес кто-то, у него в голове. – Между тем, я дракон!
– С ледяным дыханием? – машинально переспросил Богдан.
– С ледяным, – подтвердил дракон.
Богдан моргнул, открыл рот, снова закрыл.
– А откуда ты?
– Ты позвал! – тут же заявил дракон и склонил голову, разглядывая мальчика. – Хочешь, покатаю?
Что-то в голосе дракона Богдана насторожило, и он замотал головой.
– Ну как хочешь, – произнес дракон с обидой в голосе.
Тяжело топая, он отошел, развернул крылья и взлетел. Богдан смотрел, разинув рот. Дракон гордо продемонстрировал себя. Огромной тенью пронесся он над мальчиком и вернулся, смирно усевшись наподобие человека, с любопытством рассматривая Богдана:
– Скажи мне, – начал дракон, – ты на самом деле существуешь?
– Это я у тебя хотел спросить! – возмутился Богдан. – С языка снял!
– А люди вкусные? – продолжал расспрашивать дракон.
– Не знаю, не пробовал, – отрезал Богдан и пока дракон не задал новый вопрос, выпалил вслух, – откуда ты? Где живешь? Как тебя до сих пор не заметили?
– Заметили, – задумчиво повторил дракон и облизнулся, – я бы тебя попробовал, но ты, кажется, нашего роду, а?
– Какого еще роду? – повторил Богдан, недоумевая.
– Ты колдун! – веско сказал дракон. – Я это всем нутром чую!
И продолжил, весело улыбнувшись и показав острые зубы:
– У нас тоже есть колдуны, но немного, совсем немного. Колдунов боятся. Они творят невозможные вещи, а еще, – перешел он на шепот, – колдуны добровольно присоединяются к войскам Сатаны!
– Ну и что в этом страшного? – не понял Богдан.
– Не знаю, – честно признался дракон и рассмеялся, – мне и так хорошо!
– А ты колдун? – спросил Богдан.
Дракон повалился на спину, задирая к снежному небу толстые лапы. Он хохотал:
– Ой, уморил, колдун! – и сел, – я смотрю, ты не в курсе, как должен вести себя настоящий колдун!
– Ну? – с обидой в голосе воскликнул Богдан.
– Колдун должен соблюдать дистанцию, вести себя осторожно с теми, кто не является колдунами, должен контролировать свою силу, а не то, результат будет плачевным! – важно, будто по заученному тексту, проговорил дракон.
– Почему? – прошептал Богдан, вспоминая житие своего одинокого деда.
– Да, потому что ненароком ты можешь рассердиться и поразить смертью себе подобного, – рассердился дракон, – как ты можешь этого не знать?
– Я только учусь.
– А, так ты еще маленький! – понял дракон. – А взрослые у вас толстые?
– Есть и худые! – машинально, думая о своем, отозвался мальчик.
– И эти толстые достигают хотя бы до моего подбородка? – с надеждой, заглядывая в глаза Богдану, продолжал допытываться дракон.
Богдан посмотрел, дракон был высок, очень высок, ростом приблизительно с пятиэтажный дом. Теперь настала очередь Богдана смеяться, повалившись на спину.
Дракон ждал, пыхтя от обиды. Наконец, Богдан смог произнести:
– Люди маленькие, самый высокий человек на Земле, мне кажется, едва тебе до коленки дотянется!
Дракон разочаровано фыркнул:
– И как вы живете? Маленькие, худые и толстые, планета у вас не обжитая, повсюду дикие леса и выжженные солнцем пустыни, груды мусора, грязные реки и озера. Я в океане поплавать хотел, так все лапы и крылья мгновенно черной пленкой покрылись, еле очистился! – пожаловался он.
– А ты, разве не с нашей планеты? – удивился Богдан.
– У нас мир, – мотнул головой дракон, – огромный, просторный, чистый, с вкусной водой, скажи, у тебя есть вкусная вода, очень пить хочется?
– Пойдем! – поманил его за собой Богдан, думая о колодце, за деревней.
Колодец соорудили давным-давно, для усталых путников, что имеют свойство передвигаться, как правило, в летние и осенние месяцы, кто с дальних огородов, кто из лесных зарослей с полной корзиной ягод, кто с пашни, кто из соседнего городка. Да, мало ли кому мог понадобиться глоток чистой воды! Вон, хоть тому же дракону!
Схватив ведро, и нетерпеливо бросив его в темную глубину колодца, дракон торопливо завертел колесо. Цепь со звоном наматывалась на барабан, быстро вытаскивая ведро полное воды. Дракон выпил одним духом и бросил ведро опять. Проделав так раз двадцать, наконец, напился:
– Маленькое ведро! – подытожил он. – И все-то у вас маленькое!
– Маленькое, толстое и худое! – подхватил Богдан.
Оба засмеялись.
Дракон протянул Богдану лапу:
– Ну, будем знакомы, колдун, как тебя зовут?
– Богдан!
– Хорошее имя, – кивнул дракон, мигом расшифровывая, – богом данный и колдун? Смешно!
В раскрытой лапе дракона лежала горсть сверкающих камней:
– Люблю я камни, – доложил дракон, – ты мне понравился, тебе и дарю!
И насыпал к ногам Богдана целую горку удивительных камней.
– Ух, ты! – по-мальчишески задорно вскрикнул Богдан. – Какие красивые!
Дракон, любуясь на восторг мальчика, вздохнул, подпер щеку лапой и глядел, с умилением.
– Можно я себе оставлю хотя бы один камушек? – попросил Богдан, вертя в руках синий сапфир.
– Дарю, я же сказал, все дарю! – развел лапами, дракон.
И встал, прощаясь:
– Ну, пока, может, когда и свидимся!
– Ты прилетай! – попросил Богдан. – Мы с тобой поиграем!
Дракон с удовольствием рассмеялся:
– Нет, уж ты прилетай, когда уйдешь из этого мира!
– Куда? – не понял Богдан.
– К нам, ко мне, хладному дракону, буду рад тебе, юный колдун, всегда и во все времена!
И он, развернув огромные крылья, впрыгнул в воздух, пролетел над самой головой мальчика:
– Буду ждать, Богом данный колдун!
– Я прилечу! – восторженно прокричал вслед хладному дракону, Богдан.
Нападение
Ему снилась тишина. Беззвучно плыли по голубому океану неба белоснежные облака, высоко, над горами парили орлы и проскальзывали сияющими искрами боевые корабли.
Мир выглядел таким безмятежным, надолго ли? В памяти его еще живо бушевали пожары страшных битв с ангелами, когда его покой нарушили.
Кто-то тряс Магика за плечо:
– Сынок, в школу пора!
Он открыл глаза, с трудом возвращаясь в действительность.
Приемная мать беспокоилась о нем:
– Зачем мне в школу? – строго спросил Магик, заглядывая в самую глубину ее души.
– Ну, как же, – пролепетала она, теряясь, – образование. Все дети в школу ходят!
– Я – не все! – напомнил он ей и встал. – Некогда мне заниматься вашими глупостями! Обучение должно быть мгновенным, а не длиться десять, а то и больше лет!
Вихрем пронесся до ванной, после, к шкафу переодеться и выпрыгнул за перила балкона, в воздух.
Мать улыбалась, провожая потерянным взором стремительно удаляющуюся фигурку сына.
В комнату заглянул муж и приемный отец Магика:
– Опять? Наш гений упорхнул? – коротко спросил он.
Она машинально кивнула и разразилась слезами. Рыдая, кинулась к мужу:
– Ну, почему, мы? – потрясенно шептала она, цепляясь за мужа. – Мы ведь самые обыкновенные люди.
– Наверное, поэтому, что, обыкновенные! – успокаивая ее, сдержанно вздохнул муж.
– Кто он? Может, бог? – дрожала она.
– Может! – задумался он.
И встряхнул ее:
– Прекрати плакать! Если наш сын – Бог, то так тому и быть, и тем более надо помочь спасти наш мир от нас самих, надо быть стойкой, понимаешь?
– Понимаю, – плакала она, – но я так устала и я вовсе не Богородица!..
Обнявшись, они вышли на балкон посмотреть в пустые небеса, приемного сына нигде не было видно.
Магик, тем временем, рассекал воздух далеко, вдали от дома своих приемных родителей. Когда позади кто-то объявился. Зашел справа и просто прилип едва ли не вплотную приблизившись к телу мальчика. Невидимый. Но Магик быстро стащил щит с невидимки. Его преследовал служка смерти:
– Зачем летишь за мной? – строго вопросил Магик.
– Приказ! – кратко ответил служка, не отставая.
Магик, понимая, что явление служки не случайно, зорко вгляделся в пространство и сразу углядел нетерпеливую толпу мерзопакостных. Мерзопакостные бросились без предупреждения, но, недолго думая Магик подтянул и открыл двери в короткий туннель, ведущий в покои Сатаны. Влетел. Мерзопакостные, улюлюкая, предчувствуя пиршество, когда столько молодой неизрасходованной энергии достанется им, не разобрались, последовали за своей жертвой.
Сатана был Дома. Одним движением, он обезвредил мерзопакостных, просто смахнул их в геенну, где огненные бесы радостно приняли свеженьких грешников. Притянул юного гения. Заглянул в глаза:
– А, древняя душа! И охота тебе дурью маяться, – узнал он его, легонько щелкнул по носу.
Кувыркаясь, Магик вылетел из туннеля, обратно в небо Земли. Служка исчез, оставив мальчика жить, как видно, Магик с честью выдержал испытание смертью.
Отряхнув пыль нездешнего мира, и вздрагивая от прикосновения Сатаны всегда схожего со смертью, пытаясь избавиться от воспоминания о пристальном взгляде Владыки Мира, Магик упрямо продолжил свой путь. Направлялся он в Туву, где, по его мнению, горели ярким пламенем души древних воинов способных выволочь этот мир из мрака духовной нищеты к свету собранных высокоразвитых душ…
Телепортация
Кока быстро учился и сам учил. Ах, как ему нравилось обучать Милу!
Он восхищался Милой и совершенно не замечал ее превращений. Кока видел душу девушки, а не ее внешнюю оболочку. Такое качество присуще скорее женщинам, нежели мужчинам. Однако, Кока владел именно таким даром и был безмерно счастлив, что его невозможно обмануть ни щитом, ни ведьмовскими чарами, ни похвальными речами с грамотами и медалями, он видел саму суть человека. На Милу он глядел не дыша да и было на что посмотреть. Блестящие крылышки за спиной, густые длинные ресницы, вот только портило впечатление выражение лица. Смотрела девушка надменно, свысока. Так смотрят короли и тщеславные дураки, в данном случае, дура, если только не королевна.
– У тебя в роду цариц не было? – спросил Кока.
Мила удостоила его презрительным взглядом и отвернулась, не желая поддерживать разговор.
– А вот у меня были! – и Кока скорчил насмешливую гримасу в ответ на ее поворот головы и повышенное внимание. – Ваше, преваше, заваше величие!
Заблеял он.
– Шут! – бросила Мила, встала, шурша юбкой и перешла в соседнюю комнату, выступая так горделиво, будто перед ней были не подростки, а по крайней мере коленопреклоненные вельможи.
Алексашка, наблюдавший всю сцену, сотворил из воздуха большой букет алых роз:
– Мила!
Она выглянула и обрадовалась, поймав брошенные братом цветы:
– Красивые! – кивнула благодарная, снова скрываясь в соседней комнате.
– Откуда ты взял букет? – изумился Кока.
– Украл! – покраснел Алексашка. – Из цветочного магазина.
И он подошел к окну:
– Видишь, как близко?
Кока поглядел:
– Принципиально, чтобы близко?
– Быстрее телепортируешь, – согласился Алексашка.
– Долго тренировался? – завистливо вздыхая, осведомился Кока.
– Всю жизнь! – кивнул пятнадцатилетний Алексашка и сощурился. – Но и у тебя способности, дай бог каждому!
Кока немедленно взмыл под потолок, быстро обогнул люстру и с победной улыбкой встал перед Алексашкой.
– Не надо обольщаться! – нарочито строгим голосом произнес Алексашка. – Хамелеон из тебя не очень получается.
Кока упрямо мотнул головой и в мгновение ока обратился в сгорбленную, морщинистую старуха. Старуха вышла идеально, проковыляв в соседнюю комнату, Кока умудрился напугать ничего не подозревающую Милу.
– Разойдись! – прокричал, смеясь и оттаскивая раздраженную Милу от Коки, Алексашка. – Обещаю телепортировать нам шикарный ужин!
– Из Рио-де-Жанейро! – все еще сердитая, потребовала Мила.
– Почему из Рио-де-Жанейро? – опешил Алексашка.
– Я так хочу! – отрезала Мила.
Вместе они освободили большой стол в гостиной и Кока, обернувшийся прежним молодым человеком встал с краю стола, на всякий случай.
Случай скоро представился. Тарелки и блюда с изысканными яствами вылетали из воздуха подобно ракетным снарядам, Коке пришлось максимально убыстриться, чтобы словить все.
Мила смотрела с издевкой на метания Коки, но ни в чем ему не помогла.
Алексашка телепортировав пятьдесят блюд, наконец, успокоился.
– Ограбленные станут переживать? – сухо осведомилась у брата Мила, с сомнением оглядывая переполненный стол.
– Не-а, – лукаво усмехнулся Алексашка, – все блюда приготовлены для огромного количества свадебных гостей, там даже не заметили пропажу, я проверял!
Удовлетворенная ответом брата, Мила, без лишних слов, уселась за стол, но только приступила к трапезе, облюбовав мясную запеканку на красивой позолоченной тарелке, как в квартиру вошли старшие, бабушка Алексашки и отец Милы.
– О! – одновременно воскликнули они.
Эти двое всегда завораживали молодежь. Они синхронно замирали, синхронно поправляли волосы, синхронно говорили.
Молодежь была потрясена удивительной схожестью, которую родственники, по всей вероятности, беззастенчиво заимствовали друг у друга. Недаром, людей долго проживших под одной крышей в мире и согласии, следователи подозревают в соучастии, если, скажем, один из них совершил преступление. Или, если кто-то из родственников склочен, раздражителен, то и на другого, люди смотрят с недоверием.
– И почему так? – усомнился вслух Кока.
– Что? – хором воскликнули отец и тетя Милы.
– Ничего!
– То-то же! – назидательно и совершенно синхронно кивая головами, произнесли родственники, усаживаясь за стол.
Кока исподтишка взглянул на Милу и получил в ответ одобрительную улыбку.
– Пир горой! – довольная, что не надо готовить, заявила бабушка Алексашки и вдруг замерла, глядя в окно:
– Кто это?
Все, разом, развернулись к окну:
– Магик! – облегченно рассмеялся Алексашка, бросаясь открывать. – Нашел нас, какое счастье!
Дракон
Всю свою жизнь Богдан жил воспоминанием о встрече с хладным драконом. Возмужав и войдя в силу, он выяснил о драконах практически все. Вызнал, что они ушли с Земли очень и очень давно, потому как для них, на голубой планете было слишком мало места. Владыка мира организовал для них огромадный и прекраснейший мир, полный суровых гор с заснеженными вершинами, глубоких озер с хрустально-чистой водой и широких бурных рек, где драконы любили охотиться за жирной рыбой. Что и говорить, эта рыба превышала человеческий рост, в два, а то и в три раза! На заливных лугах мира драконов паслись стада буйволов и разных диковинных животных, о которых у нас слагают легенды и сказания. Люди не верят в драконов, как не верят сами драконы в существование людей. Люди, какие они? Маленькие, толстые и худые!..
Богдан пытался прорваться в мир драконов, посылал своего энергетического двойника, изнемогал в поисках и попытках продвинуться туда, куда не позволительно было совать нос даже колдуну. И, когда уже отчаялся, понял, что услышан.
Среагировал дракон-колдун. В одно мгновение, притянул он Богдана к себе и заглянул в самую душу. В глубине кошачьих глаз дракона плясали искры интереса. Дракон не стал меряться силой с человеком-колдуном, он был выше этого, но поняв, кто ему нужен, испустил вздох облегчения:
– Ах, ты, успел подружиться с одним из наших?
– Да, – выдохнул Богдан, изнемогая под немигающим взглядом дракона-колдуна.
Хладный дракон прилетел быстро. Прошел через портал, из которого и вылез дракон-колдун и, откланявшись со своим собратом, растопырил лапы:
– Ты пришел! – но тут же изменился в лице (морде), – так ты не умер?
Печали его не было предела. Дракон уселся, горестно подвывая:
– Зачем меня разочаровал?
– А, если умру, что тогда изменится, – возразил Богдан, – людей к вам не пускают!
– Ну, какой же ты человек! – махнул он лапой. – Когда, из тебя знатный дракон получится!
– Как так? – не понял Богдан.
– Переделать тебя пара пустяков, – оживился дракон, – я бы прямо сейчас приступил, но боюсь, не потянешь ты, пугать всех начнешь.
– Огнем буду дышать, что ли? – насмешничал Богдан.
– Не-а, – отмахнулся дракон, – я не дышу огнем и ты не будешь!
Богдан кинулся к дракону, обнял, как мог:
– Какая радость! – всхлипнул он. – Ты не представляешь!
– Что такое? – всполошился дракон.
– Трудно жить, не зная своего будущего, – пояснил Богдан, – я ведь старый, в своем мире старый.
– Ну да, – не поверил дракон, – недавно был маленьким.
– Но не толстым, – рассмеялся сквозь слезы Богдан.
– Не плачь, – посерьезнел дракон, – я к Сатане пойду, он разрешит забрать тебя раньше времени.
– Благодарю, – поклонился Богдан.
С тем они и расстались. С тем Богдан и обратился к своим товарищам по несчастью, а вдруг хладный дракон способен помочь не только одному Богдану, но и другим? Спрашивал он, но друзья его стойко молчали. Старуха, сестра Богдана отводила взгляд, молодежь обдумывала небывалое событие – встречу дракона и человека.
– Как же он проник в наш мир? – недоумевал Алексашка.
– Через портал, наверное, – пожал плечами Богдан.
– Дракон, – мечтательно произнес Магик, – хотел бы я стать драконом, сильным, независимым созданием, свободным, как само небо!
– Да, – вздохнул старый колдун, – но возможно ли такое на деле?
– Я не слышал, – тут же кивнул Магик.
Старуха замотала головой.
– А, может, попросить, – робко вмешался Кока.
– У кого? – разом воскликнули все присутствующие.
– У дракона-колдуна, – высказал свою мысль вслух Кока, – авось, он пойдет нам навстречу и ангелы перестанут нас страшить!
– Отстанут, факт! – кивнул Магик.
– Перестанут преследовать, – подтвердил Алексашка.
– Но, как это сделать? – вмешалась тут Мила. – Вы сможете до него добраться?
– Попробуем! – опять разом воскликнули все присутствующие.
Гении
На улице было прохладно. Пар вился из ноздрей и рта, не стойким туманом задерживаясь ненадолго у лица, и тут же растворялся бесследно.
Магик вздрогнул от холода, клацнул зубами и притянул дверь, ведущую в преисподнюю. Вышедшим за ним на утренний холод колдунам ничто не угрожало. Потоки теплого воздуха из приоткрытой двери так и накатывали, согревая и приободряя. В преисподней всегда плюс пятьдесят шесть градусов по Цельсию.
– Интересно, кто же туда лазал с термометром? – высказался вслух Алексшка.
Ответом ему стал смех и слова Магика:
– Никто! Просто – это известно и все!
Бабушка Алексашки тут же вмешалась и пока они все двинулись в заданном Магиком направлении, поведала молодежи одну историю из своей жизни.
Еще летом она почуяла неладное, в воздухе пахло такой стужей, что руки коченели. Быстро сообразив, что в привычной обстановке квартиры не выживешь, бросилась в деревню, к старому отцу.
Отец, выслушав ее сбивчивые объяснения, с пониманием кивнул, все-таки, он был колдуном и разрешил действовать во спасение семьи. И она принялась за дело.
В ход пошли все денежные накопления и скоро дом по самую крышу оказался забит съестными припасами, а оба сарая заполнены дровами. Для комнат и кухни были куплены шерстяные ковры, призванные сохранить тепло. Кроме русской печи, которую отец любовно называл «матушкой», она приобрела еще и военную печку без дымоходной трубы, которая также работала на дровах.
Осень подошла быстрее быстрого. Зима пришла в октябре, до Покрова. Еще не облетели листья с деревьев, еще кое-где виднелась зеленая трава, но уже замело, завыло, облепило снегом провода.
У нее было заготовлено несколько керосиновых ламп и в сарайке закопаны две бочки керосина.
Провода под тяжестью снега, в конце концов, оборвались, свет погас и они зажгли одну лампу.
– Экономить надо! – кивнул отец, выглядывая в окно, он видел сквозь хлопья летящего снега огни керосиновых ламп в окнах других изб.
– Ишь ты, соседи достали керосинки, – прокомментировал он, – а еще бают, цивилизация, технократия, которая перевернет мир, а тут, на-ко, непогодь и куда делась цивилизация? Правильно! Ко всем чертям!
В последующие дни, отец скептически морщился, выслушивая панические новости о непрекращающемся снегопаде и как следствии, заносах на дорогах и многочисленных авариях.
– Накупили автомобилей, нелюди, а после не знают, как проехать, – бормотал он себе под нос.
Вслед за ветродуем и снегопадом наступила тишь. Звезды высыпали на небе. Мороз крепчал. За одни только сутки столбик термометра опустился ниже двадцати градусов. В городе опять началась паника, лопались старые, выслужившие свое, трубы. Целые районы замерзали. Температура, между тем, опускалась. Ниже тридцати, ниже сорока. Дом трещал, обе печи топили и, сменяя друг друга, отец с дочерью, поддерживали тепло.
Сквозь замерзшие окна не было видно насколько холодно на улице и радио смолкло. Напрасно отец крутил переключатели, ни один русский канал не вещал, а прочих, заграничных, маленькое радио осилить не могло.
Так прошел месяц. После миновал второй и в канун Нового года отец откупорив бутылку домашней наливки неожиданно разрыдался:
– Даже президент с праздником не поздравит! – пояснил он испуганной его слезами дочери.
А напившись пьяным, выдал:
– Одни мы с тобой остались, вот придет весна, Россия оттает, а тут на тебе и прикатят инстервенты, все трупы схоронят, нас с тобой в рабство загонят!
– Куда? – переспросила она.
– На галеры! – сердито отрезал отец и полез на полати спать.
Замечание отца ее встревожило и она беспокойно закрутилась возле радио пытаясь поймать хоть один живой голос, но лишь треск и неразличимый шум был ей ответом.
На следующее утро она решилась. Оделась плотнее, закрыла лицо шарфом, прошла в сени, к входной двери, долго отдирала, дверь сильно обледенела.
Она вышла, прищурилась. Снег под лучами зимнего солнца сверкал и переливался. Ледяные дома вокруг не подавали признаков жизни, дым вился только над трубой их дома. Это отец топил русскую печь и одновременно варил в чугунке гречневую кашу.
Мороз пробирал, ей сделалось холодно, замерзли руки и она вернулась, обратно в сени. Пока она совершала нехитрые действия по открыванию и закрыванию дверей, вся закоченела и вынуждена была прижаться к горячему боку печки, чтобы согреться. На улице она пробыла от силы минуты две-три.
– Ну? – коротко спросил отец.
Она рассказала об увиденном.
На следующий день она сумела добраться до уличного термометра, что висел на оконной раме. Сквозь замерзшие окна, изнутри избы, не было видно значения температуры, но тут, на вольном воздухе она осторожно заглянула и чуть не упала, пораженная. На градуснике было ни много, ни мало, но минус пятьдесят шесть градусов по Цельсию.
Едва добежала до печки, прильнула к теплому боку «матушки». Выслушав, отец с горечью произнес:
– А в преисподней с точностью до наоборот, всегда плюс пятьдесят шесть. Нам бы чуточку их тепла, чай не обеднеют!
– И как это сделать? – привыкшая к действиям, а не рассуждениям, спросила она.
– А окошки открыть, – оживился отец. – Всего лишь окошки, они и не заметят!
– Владыка заметит! – угрюмо возразила ему она.
– Оправдаемся! – уверенно заявил отец.
В тот же день они открыли одно окошко. Особых усилий для этого не потребовалось, как всегда в таких случаях лишь желание и сосредоточенная мысль.
Луч тепла из преисподней, до которой, как известно, из нашего мира рукой подать, всего лишь полметра, упал на крышу дома. Через час с замерзших стекол уже сползли последние ледышки и обнаглевший от такой роскоши отец, стоя на крыльце, заявил о своем намерении дочери.
– Ты с ума сошел! – испугалась она.
– Не боись, прорвемся! – засмеялся отец и в тот же день расширил луч так, что луч накрыл волной тепла всю территорию России.
В январе началась оттепель, ожили растения и те, немногие, уцелевшие люди, похоронив своих замерзших родных, друзей, соседей принялись размышлять, что же делать дальше? Шло время и в Россию понаехали представители южных народов.
Наступила весна. В согревающей энергии тепла преисподней уже не было нужды и отец неохотно закрыл окно, сетуя на то, что раньше, пока были живы его соотечественники, не додумался отогнать стужу таким простым для любого колдуна способом… Теперь же приходилось пожинать плоды своего безумия, на каждом углу звучала тарабарская речь и орды «черных» заполонили русскую землю.
– Погоди-ка, бабушка, – перебил тут ее Алексашка, – в годы твоей юности был Советский Союз и какие еще инстервенты, где они?
Бабушка поправила сползшие на кончик носа очки, тяжело вздохнула, впрочем, не отставая от молодежи ни на шаг:
– История повторяется, Алексашка. И в прошлую цивилизацию, и в позапрошлую был Советский Союз, который распался, и была Россия.
– Ничего себе, – Алексашка даже остановился, – ты помнишь свою жизнь из прошлой цивилизации?
– Все мы помним, – кивнула печальная старушка, – но не все это понимают.
– Пришли! – коротко доложил Магик.
Перед ними высился золочеными куполами и башенками огромный монастырь.
Колдуны, почтительно прижимая правую ладонь к сердцу, поклонились вышедшему к ним высокому седобородому монаху. Под пронзительным взором монаха чувствовалась такая сила, что Кока, самый слабый из группы пришедших, закачался.
Келья монаха не уступала в уюте лучшим комнатам благоустроенных квартир, когда-либо виденных колдунами.
Оклеенная голубыми обоями с белыми облаками, украшенная синими кружевными занавесками, комната создавала иллюзию воздушных потоков. Гости разулись в дверях и босиком перешли на шерстяной палас синего цвета, чтобы присесть на стулья, расставленные вдоль стены. Стулья, обыкновенные, деревянные, тем не менее, были обтянуты голубыми чехлами для мебели. Обстановка комнаты казалась пришедшим изумительной. Конечно, в красном углу присутствовал иконостас, но тут же ширма в тех же голубых тонах, с теми же белыми облаками скрывала постель монаха от взоров случайных посетителей.
У окна стоял большой письменный стол накрытый белой кружевной скатертью. Над столом в два ряда виднелись книжные полки забитые толстыми фолиантами. И на столе, и на полках в изящных вазочках благоухали чудесным ароматом свежие белые розы.
Монах, не долго промолившись у иконостаса, дал время колдунам оглядеться и прийти в себя.
– А я-то думал, что монахи живут в сумеречных кельях, – шепнул Кока на ухо Миле.
Мила кивнула, подтверждая, что и она также думала.
– Может, желаете потрапезничать? – повернулся к гостям монах.
– Есть освященную пищу, – скривился Магик, – думаю, что не всем присутствующим это придется по вкусу.
Монах понимающе кивнул:
– Тогда к делу!
Магик коротко изложил суть вопроса.
Монах задумался, поглаживая бороду:
– Трудное дело. Но, может, обратимся к старшему демону? Меня тут каждый вечер посещает ведущий моего рода.
– Зачем? – вырвалось у Алексашки.
– Требует прекратить борьбу, – невозмутимо доложил монах, – негоже служить сразу двум господам и нет колдунам, переметнувшимся от Сатаны к Богу, прощения.
– На что же вы рассчитываете? – продолжал допытываться Алексашка.
– Надеюсь на заступничество Богородицы, – развел руками монах, – только на нее и уповаю!
Тут вступил в разговор Магик:
– Как вы уходите от внимания ангелов Бога?
– Никак, – опечалился монах, – уж больно они прилипучие!
Пожаловался он.
– Но я всеми силами демонстрирую им свой нейтралитет!
– Тогда отстают? – уточнил Магик.
– На время, – кивнул монах, – у них время течет по-другому. И потому выдержав атаку и оставшись в живых, многие колдуны могут прожить в этом мире с десяток лет спокойно…
– Но после опять нападут? – заголосил Алексашка, вспоминая недавнее нападение ангелов Бога и убийство людей в черном.
Монах коротко кивнул.
В подавленном настроении, они вышли из монастырских ворот.
– Ну, хватит! – выступил тут из тени ворот, человек в черном костюме. – Гении должны трудиться на благо государству!
– И вы нас защитите от внимания ангелов? – усомнился Алексашка.
Человек в черном смешался, но тут же нашелся с ответом:
– Подумаем! В конце концов и на ангелов можно управу найти!
– Ой, ли, – с сомнением покачал головой Алексашка, но в вертолет полез.
Вертолет такой же черный, как и люди в черном, и такой же непроницаемый, с тонированными стеклами, устремился к аэродрому, где всех колдунов и младших, и старших погрузили на самолет с удобными креслами. Вертолет взял курс на Москву, где в специальном отделе с нетерпением колдунов ожидали ученые и представители государственной службы безопасности. На горизонте собирались тучи и, заслоняя тучи, неслась наперерез самолету огромная тень хладного дракона. Через несколько минут взмокший от страха пилот посадил вертолет на землю, дракон важно опустился возле.
– Колдуны необходимы правительству России! – пересиливая страх, выкрикнул человек в черном, когда лопасти пропеллера остановились и колдуны выбежали навстречу дракону.
– Обойдется без них ваше правительство! – пренебрежительно махнул лапой хладный дракон. – Из них знатные драконы получатся!
И подставил лапу, чтобы колдунам было удобнее взбираться к нему на хребет.
– Полетели! – весело объявил дракон и ринулся в небо.
Люди в черном отшатнулись падая и в ужасе отползая под защиту более-менее надежного вертолета.
Сильный ветер пригнул наших путешественников к самой коже дракона отчего-то пахнущей морозной свежестью, но зашкаливающий в крови адреналин позволил Магику привыкшему уже к полетам приподнять голову, чтобы создать щит, окруживший дракона и не позволяющий ветру безобразничать.
– Силен, брат! – восхитился дракон на щит.
– А я летать могу! – похвастался Алексашка, подпрыгнув в воздух, и принялся совершать возле дракона фигуры простого пилотажа – спирали, петли, виражи с небольшими кренами.
Дракон наблюдал с восторгом.
Мила с Кокой взявшись за руки присоединились к Алексашке и ныряя под растопыренными лапами дракона понеслись переворачиваться, стараясь повторить виражи и спирали.
Бабушка Алексашки сдернула платок с головы, космы седых волос упали ей на лицо:
– Эх-ма, где наша не пропадала! – и, пробежав, будто канатоходец, по роговым выступам, уселась у дракона на голове, вцепилась в один рог. Ее действия, в точности повторил Богдан и уселся, захватив другой рог венчающий голову дракона.
Магик, как равный, летел с хладным драконом рядом. Легко прошел через портал и увидел новый для себя мир, где была земля, от горизонта до горизонта, необъятное небо и сверкающее в безмятежно плывущих кучевых облаках, солнце. А еще приветственно машущие им драконы и дракончики, медленно и величественно пролетающие мимо. Магик и им помахал, с удивлением отметив, что машет лапой. Оглянувшись на своих друзей, он увидел возле хладного дракона молодого фиолетового, в котором узнал Алексашку; синего, в котором легко угадывался Кока и розового, конечно же, Милу. В седом драконе он узнал Богдана, а вот бабушка перевоплотилась, не позабыв свои очки. Новые очки чрезвычайно походили на старые, только размером превосходили, наверное, все мыслимые и немыслимые очки в мире людей.
– Бабушка, – смеясь, заметил Магик, – а очки тебе зачем?
– Куда же я без них? – заулыбалась в ответ дракониха небесного цвета, цвета надежды и направилась к земле, где в лучах сияющего солнца угадывался бесконечный край озер, рек и ручьев.
За ней последовали остальные, к новой земле, к новой жизни.
– Эх, хорошо же! – хохотал Алексашка, совершая невероятные кульбиты в воздухе.
Ему вторили счастливым смехом другие новообращенные, ставшие драконами колдуны. Портал, между тем, закрылся, оставляя хлопоты и тяготы связанные с войной ангелов далеко позади в другом мире, мире людей…
Воины Сатаны
1
Роберт проснулся, лежа над кроватью, опорой ему служил воздух, и только воздух.
Нисколько не удивившись, он мягко перевернулся со спины на живот, протянул руки и испытанным движением ухватился за спинку кровати. Кровать была надежно привинчена к полу. Роберт напряг мускулы, играючи подтянув непослушное тело, спустился вниз. Как всегда минут пять адаптировался к земному притяжению, ему прямо-таки слышалось напряженное звучание тумблеров переключающихся в мозгу. Наконец, ощутив долгожданную тяжесть в теле, он вдохнул полной грудью, широко улыбнулся и пошел исполнять повседневные обязанности, как-то: мыться, бриться, завтракать и наконец, натянув спортивный костюм вывалиться на улицу, совершать спортивную пробежку.
Двигался Роберт хаотично. Мог, пробегая по тротуару в какой-то момент резко схватить за пушистый хвост прогуливающегося кота; задорно крикнуть, вспугнув с черных гнезд на деревьях стаю сердитых ворон; врезаться в толпу сонных работяг, пробирающихся к своим фабрикам да заводам. Для него победой, одинаково, было и сорвать поцелуй с уст незнакомой девушки, которую он догонял на улице, хватал за плечи и бесцеремонно целовал со смехом, несмотря на сопротивление и также победой он считал возможность одолеть в драке сразу нескольких бугаев, почти равных ему по силе.
И хотя Роберту перевалило далеко за пятьдесят, выглядел он настолько молодо, что даже совсем молоденькие девушки оглядывались на него, с любопытством и одобрением охватывая взглядами ладную его мускулистую фигуру.
Он даже ходил как-то не так, не так, как все люди. Походка его была непринужденной, но в каждом шаге чувствовалась какая-то скрытая пружина, точно он готов был в любую минуту подпрыгнуть и взмыть под облака.
Служил он в отряде специального назначения. Сложность государственных заданий, которые он выполнял, страшное напряжение связанное с работой требовали разрядки. И Роберт, не желая опускаться, как некоторые его сослуживцы, до уровня обыкновенного пьяницы, пускался в детские забавы. Пьянство он не одобрял, мог выпить, конечно, и пил по праздникам, но в целом, употреблял разве что кефир…
В свободное время, в дни отдыха он бегал наперегонки с соседскими детьми и гонял мяч. Он прыгал не обращая никакого внимания на вопросительные взгляды прохожих со скакалкой и нередко проигрывая более ловким поскакушкам, расстраивался и горячился, ругаясь и споря, а потом снова скакал, чтобы проиграть. Дети принимали его, как равного себе, потому как он был искренен с ними, они понимали, что он нуждается в их обществе.
Часто, играя с детьми, Роберт заливался таким долгим смехом, что едва мог устоять на ногах и, пошатываясь, вытирал невольные слезы скатывавшиеся прозрачными капельками из уголков глаз на его щеки. А потом уклонялся от усилий своих маленьких друзей напугать его, чтобы сбить икотку, которая всякий раз после продолжительной смехотерапии неудержимо мучила его. И, чтобы подавить икоту, ему надо было выпить одним духом целый литр воды.
Дети любили Роберта. Он был посреди них совершенно своим. И, когда он висел вниз головой зацепившись ногами и руками за перекладины лестницы сооруженной во дворе школы, рядом с другими спортивными снарядами, они всегда рассматривали его, не скрывая своего восхищения.
Они видели его блестящие, насмешливые глаза и презрительную улыбку. Видели угрюмые тени, изредка омрачавшие его лицо. И стремились отвлечь его от тяжких мыслей привнесенных сюда, на детскую площадку его работой.
Тогда только и слышалось: «Роберт, посмотри!», «Роберт, заметь, каким я стал!»
Мальчишки неустанно демонстрировали перед ним свои мускулы и свои умения, а девочки соревновались в стремительности и ловкости. Детвора лазала и скакала, и Роберт зажмуривался от обилия света бьющего, как ему казалось, из самих глаз ребятни.
Они обожали его и стремились быть на него похожими. Роберт был их кумиром.
Даже взрослые, родители детей было напрягшиеся в отношении всей этой ситуации, когда взрослый мужик скачет посреди школьников будто маленький, смотрели на увлечение ребятни с одобрением. Роберт отвлекал их от скуки и, стало быть, от пьянства и наркомании. Роберт увлекал их спортом, а стало быть, здоровым образом жизни.
Дети после знакомства с ним будто просыпались и начинали лучше учиться. Учителя не могли нарадоваться и в ответ на причину такой успеваемости всегда слышали одно:
«Это понравится Роберту!»
Некоторые взрослые думали, что Роберт – герой какого-нибудь комикса и, заглядывая в газетный ларек сводили с ума киоскершу требованием подать им журнал. Бедная киоскерша заводила глаза к потолку своего ларька и клялась, что такого героя нет и никто не рисует картинок с его подвигами.
«Безобразие!» – сердились взрослые, желая знать, чем и кем увлекаются их чада, а не получая искомого, впадали в депрессию. Плохо иметь в семье подобного взрослого, он всегда сует свой нос, куда не следует и преследует, прячась за углами домов, используя любые кусты в качестве щита, свое дитя, куда бы оно ни направилось. И, если речь пойдет о любви, такой взрослый досконально выследит, где живет возлюбленная чада и какая у нее семья, плохая или хорошая. Подобный взрослый дотошно, на кухне, распишет на листке, все минусы и плюсы от общения дитяти с нею и даже заглянет вдаль, в возможную свадьбу и ее последствия в виде маленьких чадосят. Речь о свадьбе заводится у такого взрослого всегда, даже, если внуку едва исполнилось десять, а его подруге девять лет.
Марку, как раз исполнилось десять, а его подруге, Кристине, девять. Они родились в один день, с разницей, в один год. Свою встречу в одном классе, Кристина была вундеркиндом, они считали знаменательной. Их дружбу скрепил Роберт, невольно, конечно. Он не знал, что вдохновляет их на спортивные подвиги и не знал, что заработал себе, таким образом, личного врага в лице деда Марка.
Дед следил за компанией всегда и везде. Для этих целей он купил телескоп, наводил его из окна своего дома на школьный двор и следил неустанно, недоверчиво. Окна его комнаты были расположены как раз напротив школьного двора. Мало того, дед наводил телескоп на окна квартиры Роберта, следил за ним постоянно, благо Роберт никогда не задергивал занавесок. Дед знал, таким образом, что он летает во сне, дед снимал на видеокамеру его полеты, но пока никому и ничего не показывал, предпочитая положиться на случай. И еще, он знал, что Роберт военный и подозревал такую возможность, рассуждая, а вдруг, военные сейчас да и преодолели гравитацию вдруг, они, что-то такое изобрели, что дало им возможность летать во сне?!. Например, антигравитационные таблетки… И потому дед не торопился обнародовать свой компромат.
Дед следил также за Кристиной, на его счастье, она жила напротив дома деда и ее окна приходились чуть выше пятого этажа. Она проживала в большом сером блочном доме. И следя за тем, как она махала руками и ногами по утрам, он только хмыкал недоверчиво и все норовил дождаться, когда же ей надоест заниматься зарядкой и она засядет кушать жирные пирожные, он был убежден, что все девочки – сладкоежки, а их пристрастия к сладкому, постепенно приводят к ожирению и потере зубов. Впрочем, он также не доверял своему внуку. Каждый раз, провожая его на утреннюю пробежку, он не забывал поерничать по поводу неподходящей погоды или раннего времени, когда только спать бы да спать… Марк, играя мускулами, снисходительно улыбался на выходки сумасбродного деда.
Марк был посвящен в тайну полетов Роберта. Он знал о Роберте почти все. Его кумир мог летать, мог одним усилием воли разогнать тучи над головой, мог управлять предметами, так что они пролетали по невидимым для глаза туннелям и появлялись перед ним, преодолев расстояние в тысячу километров, лишь слегка разогретыми от скорости передвижения. Роберт мог бы стать идеальным вором, если бы захотел. Все деньги мира во мгновение ока упали бы к его ногам, будучи телепортированы из хранилищ банков. Но Роберт не был вором, но и честным человеком его было трудно назвать. Он не признавал границ и не понимал денег. Роберт мог ходить по туннелям не пользуясь самолетами и автомобилями. Ему по большому счету не нужен был паспорт, тем более заграничный.
Часто, по просьбе Марка, Роберт, взяв с собой Кристину, перемещался вместе с ребятами по туннелям. И они отдыхали с часок-другой, плескаясь в самых настоящих зеленых волнах, соленых, прогретых солнцем и летней жарой, Черного моря. Бывало, пересекали океан и бродили по улицам Лос-Анджелеса. Оказывались на заснеженных вершинах гор Кавказа. Перемещались даже на Тибет. А в это время дед Марка сходил с ума, шаря объективом своего телескопа в поисках внука по всему обширному школьному двору, заглядывал через окна в уютную квартиру Роберта, неистово топал ногами на родню Кристины, вечно торчащую на балконе и заслонявшую обзор комнат. Родня Кристины очень многочисленная, почти вся жила в одной квартире, правда для этого они объединили две квартиры, одну подле другой. Получилось пять комнат, две кухни, два балкона и одна лоджия. Кристина донашивала платья за двумя двоюродными сестрами, за нею в свою очередь донашивала младшая двоюродная сестра. Девочки, очень аккуратные и неотличимо похожие друг на друга представлялись окружающим одним целым, будто близняшки. Родня жила дружно, без раздоров и драк, просто все они были хорошими умными людьми, не пьянствовали, а вечно только что-то выдумывали и дед Марка с удивлением наблюдал, как они вместо цветов выращивают в длинных горшках зеленый лук и укроп. Укроп особенно любил толстый и ленивый кот Кристины, кот жевал его, мерно двигая челюстями, жмуря глаза от удовольствия. Котяру никто от укропа не отгонял, а напротив, гладили, и приглашали полакомиться.
Так уж получилось, что первыми рассекретили Роберта именно Марк с Кристиной. Марк был умен и сообразителен, в свои десять лет он уже прочитал всего Жюль Верна, Марк Твена, Александра Беляева. Ему было отчаянно скучно в школе и он часто спал на уроках, за что и получал неуды в дневник по поведению и потому только не мог перескочить из класса в класс. Однако, несомненно он опережал всех сверстников по многим предметам, в том числе и по физике, которую изучал самостоятельно, и по языкам, которые также осваивал сам. Он мог понимать и говорить уже на четырех языках мира. Марк знал английский, итальянский, испанский и немецкий языки. Несомненно, ему требовалось бы перейти в частную школу, но у родителей не было таких финансов. А обучение в школе, которая подчинялась шизофреническому управлению единороссов с их экспериментами в виде ЕГЭ, сводило все усилия любого вундеркинда вырваться из школьной системы, к нулю.
Кристина, в свои девять лет, оказалась рядом с Марком. Она была несгибаема и все единороссы в мире ничего бы с нею не смогли сделать, даже если бы очень пытались. Кристина их всех игнорировала. На комиссиях, которые собирало школьное начальство, она отвечала без запинки, смело глядя в глаза скользким, как слизняки, преподам. Ей было всего девять лет, но она уже перешла в класс Марка и явно стремилась перейти и дальше, в пятый класс. Она не изнывала от скуки, как Марк, а горя ненавидящим взором, следила за учителем, сидела на уроках прямо, вставала по первому требованию педагога и отвечала урок с такими дополнениями, что учитель терялся, не зная, откуда она могла получить столь насыщенные фактами и дополнениями сведения.
Всякие таланты бывают. Иной талантливо открывает пробку у бутылки пива одними зубами. Другой, талантливо обыгрывает асов в карты. Третий талантливо за несколько минут взламывает базу данных Пентагона. Четвертый талантливо и безнаказанно переводит миллионы рублей с банковского счета президента России на свой счет.
Роберт тоже в свое время талантливо учился.
Так, он начал ездить на двухколесном велосипеде. Еще мальчиком настроился на волну своего товарища, который уже освоился с двухколесным другом. Сел и поехал. Учеба его раздражала точно также, как она раздражала Марка и Кристину, сводя с ума лишней потерей времени и сил.
Он не мог часами сидеть в классах школы и слушать скучную трепотню учителей, а засыпал подобно Марку и спал, пока его не будили гневным окриком. И, если его вызывали к доске, он просто прикасался к учителю или к его столу, таким образом, воспринимая весь учебный материал, всегда полностью. Немного позднее ему понадобилось для этого всего лишь мысленно вставать на волну учителя, тогда он узнавал все то, что знал сам преподаватель, вплоть до институтских лекций, которые слабыми мыслеформами еще как-то обитали в мозгу у учителя, особенно, если он был недавним выпускником вуза. Если бы учителя узнали, как он учится, они пришли бы в неописуемый ужас, но он скрывал свои способности даже от сверстников, у него это вошло в привычку. Однако, учителя не знали и спокойно списывали все странности Роберта на отклонения в психике, известно, что гениальные люди бывают чудаковаты. В школе Роберт слыл за гения. К занятиям в классе с ним, учителя готовились как к первому своему уроку, с полной отдачей, использовав все материалы. Благодаря присутствию Роберта, в год его выпуска, из школы, вышло столько грандиозных, ставших знаменитыми ученых, инженеров, журналистов, астрофизиков, просто талантливых рабочих и служащих, что право, руководство всего города, должно было бы ему в ножки поклониться. Но дирекция школы ограничилась только грамотами и кубками, пылящимися за стеклами стендов да случайными экскурсиями перед школярами, доказывающими, что иногда хорошая учеба приводит к таким вот неслыханным результатам.
И теперь история с Робертом повторялась в лице Марка и Кристины, учителя вынуждены были тянуться вслед за двумя гениями. Уроки становились все более оживленнее, все более занимательнее. Особенно, когда из третьего в четвертый перевели Кристину. Преподаватели старших классов вслух вспоминали о Роберте. И хотя никого из старых учителей уже не было в живых, может их доконало неслыханное напряжение общения с гением, легенды, передаваемые из уст в уста о потрясающем всякое воображение ученике, учившемся в их школе двадцать с лишним лет назад будоражили умы взрослых философов. И многие из них предрекали гибель для себя, как для преподов. И многие бездари задумались было уже над переводом в другие школы, где учились вполне посредственные личности, которых в школу надо было загонять силой и обучать грамотности даже в седьмых, восьмых классах, когда в смс-ках по сотовым телефонам, они умудрялись писать друг другу, к примеру, не директор, а – деректор, а уж такое слово, как инициатива, им было бы вовсе не осилить.
Да, Роберт учился когда-то в той же школе, что и Марк с Кристиной. От скуки он перепрыгнул сразу через четыре класса, большего ему не позволили, а то так бы, он закончил школу еще в свои десять лет…
2
Роберт занимал не последнее место в отряде. Он служил в особом отряде. Здесь, были собраны командованием выдающиеся люди. Были такие, как он, воспринимающие информацию, не учась. Их называли эмпатики. Были откровенные колдуны, могущие общаться с мощными демонами. Были те, кто могли погасить землетрясение или расправиться с наводнениями. Все они появились вскоре после Второй мировой войны, в шестидесятых, семидесятых годах и ученые не могли дать ответ, почему они такие?
Имелась, правда, одна гипотеза, но она звучала настолько фантастичной, что ее не раз отвергали, как несуразную. Гипотеза о том, что некогда, в средние века Сатана вербовал людей в колдуны и ведьмы не случайно, не для гибели души, как о том бают церковники, а для другой цели. Предполагалось, что некоторые из завербованных были очень сильны духом, а с изменениями, которые незамедлительно последовали для любого сатаниста, они еще и приобрели специфические способности. Конечно, у этих людей рождались дети, и колдовская сила передавалась из поколения в поколение, не уменьшаясь, а постепенно нарастая, так как каждое поколение привносило новую волну своих талантов. Предполагалось, что где-то в девятнадцатом-двадцатом веках в таких семьях, не всех, но многих, родились демоны. Они, были совершенно, как люди, во всяком случае, внешне выглядели людьми и прожили определенное время, дав новый толчок для развития. Они наделили своих потомков грандиозной силой воинов Люцифера. Но Вторая мировая война развязанная адонайцами специально для нападения и разрушения подобных семей, свела все усилия демонов к нулю или почти к нулю. Те, кто остался в живых, как правило, были спрятаны от адонайцев в колдовских семьях меньшей силы и выращены, как собственные дети. Но выращены без права знаний, которые так нужны любому колдуну. Знание передается только по крови, а условия «игры» затеянной ангелами еще много-много тысячелетий назад неукоснительно соблюдаются, почему? Да потому что в противном случае Землю ждет хаос…
Таким образом, после войны остались дети, потомки демонов, обладающие силой, но не знающие, что с нею делать. В Советском Союзе, в обществе атеистов, эти дети выросли, все отрицая и приписывая свои видения ангелов к галлюцинациям. Постепенно, они обзавелись семьями и детьми, а породив детей стали сходить с ума. В современной психиатрии, как раз и появилось понятие – оккультная болезнь, когда стукнул семидесятый год. Некоторым потомкам демонов исполнилось тогда по десять лет. На их родителей, законченных атеистов и откровенных дурней напали бесы. Нападение было не просто так, оно было спровоцировано самим поведением родителей.
Так случилось в семье Роберта. Мать, вся из себя атеистка и коммунистка, ничего не понимая, бегала по квартире, уворачиваясь от малых ангелов, а ангелы, улюлюкая и путаясь у нее в ногах, прыгали перед нею и кривлялись. Когда они подбежали к десятилетнему Роберту, он просто показал им кукиш. Малые сразу округлили глаза и обиделись, а он строго, без возражений приказал им покинуть квартиру и не показываться, пока он сам их не призовет, что они и проделали, угрюмо подчиняясь ему.
Тоже самое случилось в семье у каждого в отряде. Даже новички, из семидесятых и восьмидесятых годов рождения твердили о нападении малых, которые, как бы подвергали испытаньям людей.
Происходило у всех все одинаково, кто-то из родителей подвергался атаке невиданных существ, а дитя сурово защищало родителя, вступая, иногда в бой, с риском для жизни.
Карлсон в свои десять лет, кинулся на защиту отца, и малые вынесли его на улицу, в воздух, на высоту девятиэтажного дома, он крутился в их руках, как мог, ненавидя их и одновременно стремясь уничтожить.
Ангелы радостными волчками кружились вокруг него, заглядывали ему в глаза и вообще вели себя, как озорные дети и он, постепенно понимая, что прежняя информация, полученная им от разных людей, что бесы – это зло, просто полный бред, отбросив от себя, словно ненужный хлам все, что знал, стал вести себя с ними также, как они вели себя с ним. Ангелы ругались на него и Карлсон ругался на них. Они требовали что-то от него, голося на разные голоса настолько неразборчиво, что он не понимал ни словечка и он ругался на них на чепуховом языке, так и не придя к соглашению, они вернули его на балкон квартиры, где в страхе, стуча зубами, стоял его отец и следил за всем происходящим блестящим, как гладко отполированный камень, остекленевшим взглядом.
Гипотеза имела свое окончание. Для чего все это было нужно? Столько сложных пируэтов, появления посреди человечества демонов, сражений и пряток, столько возни с какими-то людишками? Ответ последовал неожиданный, для этого предлагалось подумать и написать на листе бумаги свою версию любому из отряда, независимо друг от друга. Спрашивали буквально каждого. Какова цель? И каждый, немного подумав, писал без смущения. Цель одна – подготовить потомков демонов для войска Сатаны. Люди слабы и каков бы ни был колдун, он всего лишь ворожей и без заклинаний часто не может абсолютно ничего, а воины сильны и заклинания им не нужны, они сами, как ангелы…
Они знали, что перейдут со всеми накопленными в человеческом обществе знаниями в Преисподнюю и присоединятся к битвам с адонайцами, тем более, все в отряде испытывали какое-то необъяснимое чувство подозрения к ангелам Бога…
У Роберта были друзья по отряду и в обыкновенной жизни, в которой они притворялись обычными людьми, они выглядели вполне мирно и объяснимо.
Один сам себя величал Карлсоном. Он очень любил летать, ныряя в дымчатую туманность облаков. Карлсон – законченный циник и шизофреник, шизофрению ему поставили еще в детстве весьма «умные» психиатры. Так вот, Карлсон вечно скалил зубы, издевательски подсмеивался. Особенно доставалось от него новичкам, изредка поступающим и поступающим в отряд. Новобранцы, как правило, были уже восьмидесятых и девяностых годов рождения. Их вычисляли службисты из отдела государственной безопасности.
Карлсон особенно любил подтрунить над ними, во время обеда, например, задумчиво глядя в миску, он рассуждал вслух, как желудок будет расправляться с помощью кислоты с этой кашей, как она слипшаяся, вся в слизи, будет исторгнута желудком в кишечник и пойдет извиваться по бесконечным трубам кишечника, постепенно превращаясь в коричневую дурно пахнущую колбаску, чтобы потом, оказаться на дне унитаза.
Слабовольные новобранцы, зажимая рты, выпрыгивали из-за стола, бегом, где-то там вне стен столовой опорожняя свои желудки. Ну, а более сильных Карлсон продолжал методично доводить. Он извращал в глазах новобранцев все, даже природу. Про женщин он обязательно говорил, вздыхая не притворно и тяжело, не как они хороши и фигуристы, а как они рожают, извиваясь от боли, как выворачивает все их внутренности толстый младенец, сделанный тем же новобранцем. Живописал кровь, крики и опять-таки ту же слизь.
Новобранцам снилась слизь. Она медленным потоком ползла по полу казармы, а Карлсон стрекоча на пропеллере, подвешенном к спине, встревожено говорил откуда-то из-под потолка: «Вот я же говорил, слизь, видишь, слизь!» И указывал вниз.
И новобранец с криком просыпался, с испугом глядел на чистый пол, вздыхал облегченно, но заснуть уже не мог. А Карлсон удовлетворенно улыбался, лежа тут же, рядышком, на своей кровати, понимая, что к чему.
Впрочем, скоро к его замашкам привыкали и уже обращали не больше внимания, нежели к жужжанию мухи…
Другой друг Роберта, по прозвищу Дьякон, огромный детина с задумчивым взглядом небесно-голубых глаз, в свободные часы мечтал. А, когда его спрашивали, о чем он мечтает, Дьякон всегда отвечал одно и то же. Он мечтал, не более и не менее, как стать патриархом России.
«Вот послушайте, братцы!» – восторженно шептал он своим сослуживцам, – «открою я, этак, царские врата, весь такой красивый, в золотой митре. Выйду на амвон и осеняя народ крестом, возглашу…»
И тут Дьякон, воображая себя патриархом, вставал, широко расставив ноги и вдруг, ревел громоподопобным голосом, от которого тоненько дребезжали стекла окон, а у слушателей закладывало уши: «Призри с небесе, Боже, на нас грешных. Прииди и помилуй нас!»
И замолкал, торжествующе оглядывая своих друзей, повалившихся кто куда, от хохота.
Мечты у Дьякона были одни и те же, но с вариациями, иногда он воображал белых ангелочков, которые машут крылышками у него над головой и почему-то при этом держат веера, которыми обмахивают новоявленного Патриарха. Но тут, непременно, в фантазии Дьякона встревал циник Карлсон и дополнял картину, наделяя ангелочков вентиляторами огромной мощности, живо описывал, как мечутся перепуганные толпы прихожан по храму, как прячутся в алтаре, залезают в гробы к святым и при этом трещал зубами, изображая хруст костей несчастных святых угодников. В красках описывал, как летят в двери многочисленные служки Патриарха, подметая мантиями и длиннополыми рясами узорчатый пол церкви. Обязательно останавливался на проеме двери, где застревает в пробке орущая и визжащая масса верующих, а потом, делая паузу и красноречиво глядя на всех, дополнял, вдруг, как сам Дьякон, огромный мужик в сверкающем облачении, в золотой митре, несется по воздуху, осеняя крестным знамением всех и вся направо и налево, а потом налетает на пробку из народа, и бьет по головам трикирием и дикирием, возглашая: «Дорогу Патриарху! Аминь!»
А злобные ангелы летают по всему храму и выдувают тех, кто спрятался. И под куполом летают рассерженные старухи с клюками и костылями, которыми они так и норовят стукнуть раздухарившихся ангелочков. Заканчивались фантазии Карлсона обидой Дьякона и заливистым хохотом сослуживцев, которые держась за животы, расползались кто куда, лишь бы передохнуть от смеха. Тем не менее, и Карлсон, и Дьякон оставались друзьями. Иногда, они вместе ходили в ту же церковь и вполне скромно простаивали всю службу, истово крестясь да кланяясь, им обоим нравился сам процесс церковной службы, а не служение Богу.
Изредка, по знакомству с церковнослужителями, Дьякона приглашали на Пасху, на Крестный ход. И он с Карлсоном обязательно брался нести хоругви. Оба друга, огромные, выше двух метров ростом, широкоплечие, облаченные в белые одежды, рубашку и брюки, вышагивали перед всей процессией, будто два грозных архангела. А за ними вослед шествовали дьяконы и псаломщики с иконами, следом семенили в праздничных одеждах священники с крестами. Шествие замыкала толпа наряженных в светлое, верующих, тогда под облака уносились слова молитв, выпевающих певчими, в обыкновении, студентами музыкальных училищ. Им вторили басом дьяконы. Многие голоса звучали настолько прекрасно, что крупные слезы сыпались из глаз и улыбки умиления надолго поселялись на лицах всех, кто это слышал.
Дьякон шевелил плечами и широко улыбался, Карлсон исполнял свои обязанности добросовестно и только сурово смотрел на зевак, сбегающихся поглазеть в большом изобилии на парад священников. Правда, изредка Карлсон выдавал странные фразы, он кивал на толпы зевак и говорил Дьякону:
«Все как всегда, ничего не меняется, и тысячи лет назад было тоже самое…»
И шагал, иногда подключаясь к общему торжественному пению, а Дьякон кивал, вполне согласный с мнением своего друга…
3
В тот год весна вступила в свои права весьма рано. Солнце стало жарить еще в феврале. Снежные кучи, вдруг, потемнели и будто съеденные жадным светилом как-то так исчезли. Обыватели, по привычке, обувшиеся в резиновые сапоги растерялись совершенно, оглядывая в недоумении быстро просыхающую землю. И поводя руками, чертили что-то такое в воздухе, живо обсуждая невиданный подарок природы. Предприимчивые огородники принялись тут же за свою таинственную возню с саженцами и рассадами, а завистливые горожане, живущие на свете без огородов, только вздыхали над кучей лопат, вил и мешков с землею, как по волшебству, вынырнувших из недр темных складов, внезапно, на рынки русских городов.
У отряда специального назначения появилась работа, и ребятня во дворе школы только томилась, с тоскою ожидая появления Роберта. Марк с Кристиной знали, что отряд предотвращает засуху.
Тучи вместе с легким ветерком прилетали откуда-то с северных морей, легкие дожди омывали готовую потрескаться землю. Огородники были довольны, не догадываясь об истинных причинах появления дождя. Верующие кивали на Бога. Священники самодовольно улыбались и, поглаживая благообразные бороды, кивали, уверенно приписывая благоприятные погодные условия силе проведенных ими водосвятных молебнов.
Наконец, климат поменялся, подули ветра, сами собою нагнали облаков и отряд смог передохнуть. Роберт, правда, не сразу вернулся домой. Вместе с друзьями, с Карлсоном и Дьяконом, они вначале свободно паря, промчались под благодатным теплым дождиком, а потом ринулись в лес.
Огромное красное солнце неторопливо опускалось за горизонт. Дьякон, болтая ногами и сидя на толстой ветке громадной сосны, глядел заворожено. У него была привычка шептать себе под нос, и теперь он шептал:
«Ишь небозем какой!»
И смотрел, довольно улыбаясь, на потемневший горизонт.
Подле него, почти в воздухе, не касаясь ногами ветки, стоял Карлсон и критически осматривал окрестности. Ну, а Роберт по своей привычке наблюдать, пристроился неподалеку, тут же, в ветвях. Друзья были намерены пробыть, посреди природы, незаметными и неприметными какое-то время, а после уж отправиться восвояси.
Земля пахла цветами, в лесных балках заливались соловьи. Весна, полная воздуха и тепла, красовалась разноцветными нарядами. В березах, окутанных зеленой дымкой молодой листвы, запутались красные лучи солнца.
Какая-то птица однообразно и грустно что-то верещала и верещала в кустах, все тише и тише, как видно, засыпая, пока не смолкла совсем. Солнце село. И тут же, в холодеющих сумерках, явился новый голос. Он пробирал до дрожи, хотя, ежели возможно было бы рассмотреть обладателя голоса, первое, что поразило бы – это круглые желтые глаза, второе – ушастая голова, готовая повернуться, казалось, на сто восемьдесят градусов вокруг. Ушастая сова тоже по-своему выражала свой восторг весне.
Но вот взошла Луна. Ее бледный свет осветил притихшую землю. И сразу все вокруг ожило. Появились большие ночные бабочки, бесшумно парящие над землей; какие-то мотыльки летали в прозрачном воздухе; радовались комары, сбиваясь в облачка из жужжащих сверкающих крылышков.
Мелькнула черная тень, высоко подпрыгивая в траве, пробежал заяц. Широко распахнув крылья, пронеслась за ним тень филина. Тут же, испуганно, на разные голоса запищали в траве мыши. Сколько всего!
И необъятное звездное небо, без единого облачка, мерцало красиво и манило к себе, как манит усталого путника уютная постель дома.
Друзья смотрели, затаив дыхание, только одного Карлсона не задевала природная благодать. Он, поджимая губы, глядел вокруг себя без тени возвышенных чувств. И пока он не испортил впечатления, произведенного весной, Роберт с Дьяконом решили тронуться в путь.
Они жили не так далеко от этого леса, всего за двести километров пути. Глупые обыватели принялись бы вычислять, за сколько они преодолеют это расстояние, пролетая, скажем, со скоростью гоночного автомобиля или, к примеру, самолета-кукурузника. Добавили бы силу трения и прочую чепуху. Но никакие законы физики не действовали в мире, где работала эта троица. Вполне привычно Роберт проделал манипуляцию в воздухе, как бы подводя что-то к себе, потом сделал физическое усилие и открыл дверь. А двое его друзей просто последовали за ним, испарившись, словно духи из восторженного мира весеннего вечера.
За дверью был туннель. Туннель сокращал время необходимое для преодоления расстояний до секунд. Здесь, друзьям требовалась работа воображения, надо было представить ярко точку назначения и понимать при этом, что она реальна, как сам Люцифер. Вся троица умела управляться с туннелем.
Друзья просто побежали по нему, обозревая ребристые стены и не без тревоги прислушиваясь к чему-то нам неведомому.
Внезапно, они разом нырнули в стену и упали в некий мешок, который раскрылся им навстречу и тут же беззвучно закрылся. В мешке было темно, но хорошо видно, что делается в туннеле, как, будто они сидели в темном кинотеатре и смотрели на светящийся киноэкран.
Они видели, как по туннелю торопливо прошли два огромных белых ангела Адонаи, похожие на невиданных стрекоз. Глаза огромные, черные, нос маленький, рта не было совсем, тело окружено белым сиянием и только громадные крылья возвышались у них над головой. В длинных сильных пальцах сжимали они по паре сияющих серебристым светом душ, попавшихся им, как видно, под горячую руку. Души безвольно обвиснув, не смели даже шевельнуться, в страхе поводя большими плачущими глазами вокруг себя.
«В геенну потащили!» – прокомментировал мрачно Карлсон и вдруг, выпрыгнул из мешка.
Друзья ринулись вслед за ним. Воины Адонаи тут же среагировали, развернулись и уставились на троицу своими невозмутимыми черными глазищами. Троица напряглась, давя ангелов усилием воли. Адонайцы были сильны и не уступали. Бой явно был неравен. Души беспомощно наблюдали.
Наконец, трое отчаянных друзей одолели ангелов. Они выпустили души, повернулись и поспешили прочь. Ничего не оставалось делать, как схватить души и нырнуть с ними в тот же мешок.
Ангелы Адонаи не случайно покинули поле битвы, тут же из-за поворота, противоположного тому, куда скрылись адонайцы, появились, ангелы Люцифера, много, количеством в двадцать, а то и в тридцать… Эти выглядели как люди, только очень высокие, больше двух метров ростом, пожалуй, даже выше каждого из троицы друзей. Вечно они промахивались с ростом, не вписываясь в размеры даже самого крупного человека на Земле. Они подозрительно оглядывались. Один уже подошел вплотную к мешку, но войти, конечно же не смог, мешок не открывался для нежелательных гостей, в нем вполне свободно можно было бы пересидеть годы. Такие мешки были по всему туннелю, только ангелы их игнорировали. Давно, очень давно, в былую цивилизацию, прославившуюся невиданными боями людей с ангелами, они создавались для людей, слабых телом и духом. Ангелы предпочитали открытый бой. Люди предпочитали прятки и военную хитрость.
Люциферисты потоптались-потоптались и ушли, оглядываясь в недоумении. Что-то они явно почувствовали, может даже считали, как читают люди книгу. Карлсон сквозь зубы чертыхался, зная, что люциферисты попытаются обязательно докопаться до истины, это каменоподобным и таким же непробиваемым адонайцам на все наплевать.
Тем не менее, друзья спасли, две невинные души, что была какая-никакая, но победа. Друзья покинули свое укрытие и вместе с двумя окрыленными своим чудесным спасением душами рванули к Садам смерти, где худо-бедно, но все же эти двое недавно умерших на Земле, людей могли отдохнуть, придти в себя, набраться сил и спокойно решить, чего они хотят дальше, в каком мире поселиться, благо миров было великое множество.
Среди многообразия миров сам Роберт выбрал бы для себя один – зеленую планету в одном уголке Вселенной, где не было людей, а только свет и тени, безмятежно парящие в голубых небесах души и мирно спящие почти вечным сном выбившиеся из сил от постоянных боев с адонайцами, ангелы Люцифера.
Карлсон предпочел бы присоединиться к воинству Сатаны и плечом к плечу биться с мощными Силами, Престолами, Властями против давящего беспредела войск Бога.
Дьякон мечтал о Покое и Свете, где хотел просто перебирать книги в громадной библиотеке самого Князя мира сего, против которого он ничего не имел. О рае он не мечтал, зная, что жесткое войско Бога не допустит почти никого в рай, разве что Богородица… Но о ее блестящем мире Дьякон мечтать не смел, а только вздыхал, роняя иногда скупые слезы себе под ноги. Тяжело знать истину, от того-то, так неулыбчивы бывают многие монахи, от того так суровы бывают их приговоры, обрушивающие епитимии на кающихся грешников, монашество знает, что никакими приговорами не исправить уже души иуд рода человеческого…
Впрочем, друзьям удалось незаметно для ангелов Люцифера вечно занятых, благополучно поместить две спасенные ими души в Сады смерти. Они еще помахали им на прощание, не помышляя даже узнать, что натворили эти люди при жизни и за что немилосердные ангелы Адонаи тащили их в геенну, это было неважно. Они знали, что адонайцы каждого с Земли готовы тащить и кидать в геенну огненную, не доверяя ни сынам, ни дочерям человеческим…
4
Дед Марка принадлежал к тому проценту людей, которых психиатры называют тихими шизофрениками. Он понимал, что болен и потому хитрил. Следил за чистотой и аккуратностью в своей одежде, был незаметен для общества, со всеми корректен и чрезвычайно логичен.
Он вел ежедневник, в который каждый день, с самого утра скрупулезно записывал все свои дела, даже такие, как стирка носков или, что, например, он должен съесть на завтрак два сваренных всмятку яйца. Он всегда обводил красными чернилами день и месяц, запоминал их, шевеля губами, потому что знал, больные люди не помнят дат. Он носил всегда по двое часов, одни тикали у него на запястье, а другие в кармане брюк. Он боялся потерять их и, потеряв одни, знал, что всегда есть другие. Собираясь в поликлинику или в магазин, безразлично куда, он брал с собой сумку. В нее он засовывал свой ежедневник, парочку газет на всякий случай, кучу полиэтиленовых пакетов, десяток записок с его инициалами. В карманы он также распихивал записки с тем, как его зовут и где он живет, боясь внезапно обезуметь совсем и потерять память. Ну, еще кроме всего прочего в сумке у него имелся такой запас шариковых ручек и простых карандашей, что, пожалуй, целый класс из тридцати человек вполне мог бы попользоваться этим стратегическим запасом, если бы, вдруг, он расщедрился. Но дед Марка не расщедрился бы никогда.
Это был крайне скупой человек. Получая пенсию, он в тот же день всю ее рассчитывал, вплоть до последней копейки и никогда не отступал от своего плана. Марк не видел от него ни одного подарка, даже на день рождения.
Жил он вместе с родителями Марка в трехкомнатной квартире, но по предварительному уговору с родителями оплачивал только свою жилплощадь. Родители Марка сопротивлялись ему, всякий раз не принимая его лепты в общий котел оплаты коммунальных услуг, но дед настаивал на своем, не желая быть должником, у него на этот счет были свои принципы. В комнате у себя он поставил свой собственный холодильник. У него были свои кастрюльки и мать Марка после непродолжительной борьбы сдалась, наконец, деда перестали звать на общие обеды, потому как он все равно, никогда, не приходил.
Он вел себя тем более странно, что родители у Марка были порядочными и очень радушными людьми. Они были добряки и это качество их широких простых душ главным образом, и раздражало деда. Он отгородился от них, но не оставил в покое Марка.
Он и сам не понимал, что ему нужно от внука, но оставить его никак не мог. Наверное, ему просто нечем было заняться.
Ходил дед Марка скрючившись и держась одной рукою за спину. Поясница у него часто болела, развился радикулит. Но, несмотря на болезнь, дед ходил быстро, громко шаркая подошвами крепких ботинок. Глаза его выдавали крайнее внутреннее напряжение. Задержавшись на секунду на лице собеседника, он, вдруг, резко отводил взгляд в сторону, чтобы вернуться через минуту. Такое его поведение страшно нервировало собеседника. И потому у деда Марка совсем не было друзей.
Он был одинок и еще из-за одной привычки. Всегда, каждую минуту он был напряжен и суетился, стучал костяшками пальцев по столу или по какой другой поверхности. И тут, в какую-то минуту скалил ровные, вставные зубы, обнажая бледно-розовые десны.
Глядя на него, любой самый смелый собеседник съеживался, сравнивая старика, пожалуй, с собакой, которую хозяева, избив до полусмерти, внезапно, сожалея о своем поступке, начинают ласкать. Собака, помешавшаяся от побоев, скалит зубы и боится укусить, зная, что пожалуй, ее тогда убьют, но и выдержать ласки она не в состоянии, а тихо ненавидя, начинает скулить и отползать куда-нибудь в щель, чтобы оттуда глядеть на обидчиков, вынашивая планы мести.
Дед Марка создавал у людей точно такое же впечатление побитой и всех ненавидящей собаки. Люди его сторонились, соседи замолкали, когда он коротко кивая им, проходил мимо, кривясь от боли и держась рукою за поясницу. И никто из знающих его не мог бы сказать с абсолютной уверенностью, что старик не в себе.
Власть единороссов выкинула сумасшедших на руки к родственникам, соседям, простым людям. И, если кто из таких ненормальных убивал кого и сжирал на обед, только тогда начинали говорить и разводить в удивлении руками. А общественность до того молчавшая и делавшая вид, что это не их ума дело, вспоминала, что психушки переполнены, больных кормить нечем. Больницы прозябают в нищете, за маленькую зарплату никто не хочет работать, тем более возиться с умалишенными. И потому каждый обыватель, по сути, подвергается риску быть убитым таким вот тихим шизофреником, которого психиатры, скрипя зубами, выкинули вон из больницы на пенсию по инвалидности только потому, что содержать больного абсолютно не на что.
Государство в лице тех же депутатов Государственной думы специально не занимается этой проблемой, а правительство делает вид, что в стране все хорошо и шизофреников нет вовсе.
Дед Марка не пил вина, не ошивался возле пивных ларьков, не грохался оземь, как многие алкаши с наследственной шизофренией, пытающиеся за пьянством скрыть свои заболевания от общественности и не умеющие, естественно в силу все той же болезни мозга ограничить себя в выпивке, удержаться, так сказать, на ногах.
Он был тих и незаметен, по большому счету кто из нас без отклонений? Но именно он, болезненно прилип душой к своему внуку и физически не смог более переносить того, что внук принадлежит не ему. Внук больше не цеплялся доверчиво маленькой ладошкой за его руку, не приставал с просьбами почитать сказку, не забирался на колени послушать занимательные истории, которые дед черпал, как правило, из газет и журналов. Он был занят двумя людьми, занят настолько, что дед их возненавидел. Он не мог видеть ни Кристины, ни Роберта и каждый раз засыпая, отчетливо представлял себе их похороны. Он прямо-таки видел, как Кристину, эту маленькую легкую девочку с умными глазками положат в маленький гробик и закопают, а сверху положат венок, украшенный траурными ленточками. Ну, а тело Роберта сожгут, прах засыплют в маленькую урну и под небольшой плитой с краткой его биографией, на воинском кладбище, он упокоится навеки и не будет больше мозолить глаза своими странными полетами над кроватью…
Но Кристина с Робертом жили, как жили, а ненависть жгла и требовала выхода. Дед Марка раздражался все больше и больше, о, если бы он был способен убить этих двоих, он так бы и сделал, но он способен был только наблюдать за ними в телескоп, бессильно скрежеща зубами на их улыбки.
И в один день дед сорвался, как любой такой больной он и сам не ожидал, что выкинет нечто подобное. Он переходил на красный свет светофора. Забылся, весь проникшись в свои мечты о похоронах Роберта и уже ясно слыша военный оркестр, который печально дудит в трубы. И тут к деду подскочил взбешенный дорожный полицай. Дернул его за рукав и, требуя понимания, затыкал жезлом в светофор. Дед разобрал только, что надо было бы переходить на зеленый сигнал светофора, а он перешел на красный, но уже откуда-то нахлынула на него удушающая волна ярости, и не помня себя, дед выхватил у полицая полосатую палку-жезл. С огромной силой сумасшедшего он обрушил эту палку на голову полицая и убил его на месте. Напарник полицая медленно соображая поводил еще глазами, выбираясь из патрульной машины, а на взбесившегося деда нахлынула толпа, которая все видела, стоя на тротуаре. Дед сопротивлялся и брызгал слюной, вдесятером, едва-едва, самые сильные мужики из толпы прохожих повалили его на асфальт и принялись скручивать, но он извивался, как червяк и все норовил выскользнуть из цепких пальцев державших его людей. Ничего не соображая, он пинал и бил своих мучителей, а те, задыхаясь и выбиваясь из сил, вязали его всем, чем ни попадя, снимали с себя ремни брюк. Женщины вокруг выли и стенали, так была страшна вся эта сцена. Убитый полицай в луже крови, выплывающей бесконечными струйками из разбитой головы, лежал на асфальте неподвижно. Сила удара нанесенного рукой сумасшедшего была такова, что у несчастного раскололся череп.
Деда увезли в специальную больницу закрытого типа для сумасшедших.
И только спустя несколько дней Марк, после случившегося, войдя в комнату деда, в которую не входил уже давным-давно, обнаружил на подоконнике фотографии, которые дед наделал старой «мыльницей». На фотографиях были изображения Роберта и Кристины. На каждом красовалась нарисованная черным маркером мишень и красные поражения, как бы от пуль, в груди у каждого. Марк, застыв, смотрел на это, не понимая, как же это? Трудно осознавая своим, в принципе, детским и еще очень чистым разумом, что такое вообще возможно…
5
Рыжий кот Марка был с характером.
Проснувшись, в пять утра Мишка, так звали кота, первым делом шел будить Марка.
И Марку снилось, что он, оседлав здоровенный мешок с кормом, жадно ест, сухие подушечки трещат у него за ушами, а кот жалобно следит за каждою горстью, которую он отправляет себе в рот. Марк, не вынеся скорби кота делал широкий жест рукой и обрадованный Мишка взлетал на мешок, весь погружаясь в корм, счастливый ел и ел…
Марк просыпался и хватался за тапку, угрожая. Кот, до того не сводивший с него пристального взгляда, тут же поспешно покидал комнату мальчика.
Впрочем, мать ему всегда поддавалась. Марк слышал, как буквально через минуту кошачьего гипноза, мать просыпалась, тащилась на кухню, насыпала ему в одну миску корм, освежала воду в другой и все это с прибаутками о бедном оголодавшем котенке.
Мать у Марка любила пожалеть. Она была добра ко всем. Это была полная тридцатипятилетняя женщина с очень приятным лицом, своими манерами она всем напоминала этакую добрую бабушку. Прибираясь в доме, она всегда что-нибудь напевала и ее голос удивительно нежный, совершенно очаровывал кота, и он неотступно следовал за нею повсюду.
Она его не понимала и только смеялась на его неуклюжие попытки привлечь ее внимание. Он специально прыгал на веник и, обхватывая его лапами, пытался на нем удержаться, когда она подметала пол в квартире. Также он ездил на швабре с мокрой тряпкой, пока мать не стряхивала его, ласково журя за шалости.
Но, когда она, оставив вязание, смотрела что-нибудь захватывающее по телевизору, кот обязательно забирался к ней на руки. И обретал долгожданное счастье, все чего он добивался от нее, а она не могла отказать ему в этом простом удовольствии.
Мать укладывала кота наподобие грудного младенца и, поместив так, начинала укачивать. Мишка был доволен. Под мерное покачивание он довольно скоро засыпал и сопел громко, без притворства, уткнувшись носом в ее полную грудь, видя сны и расслабившись до уровня тряпичной куклы.
Мать он любил и боготворил, часто выражал ей свою признательность, подходил и лизал шершавым языком ей руки, а когда она отнекивалась и отстраняла его, он находил способ обязательно лизнуть ее в ногу.
Он всегда встречал ее у входной двери, а она, не понимая его, думала, что он ждет только вкусненького и шла торопливо наливать в блюдечко ему клубничный йогурт, лакомство, которое он понимал превыше всего и разгружая сумки, говорила ему о том, что он слишком много ест.
Животные почти не умеют лгать. И Мишка был явным тому подтверждением. Выражением глаз и морды, своими поступками, он бессчетное количество раз высказывал свою безграничную преданность матери Марка и восхищение ею.
Марку много раз казалось, что кот даже голос изменял, мяукая с нею. Мать ворковала ему о чем-то, о своих каких-то делах, а кот отвечал ей преувеличенно мягко и певуче мурлыкая.
Отца кот не замечал. Он был для него нечто вроде мебели или скорее удобного кресла. После работы отец, плотно поужинав, обычно располагался на диване и Мишка тотчас же забирался ему на живот. Отец, недовольно что-то пробурчав, все-таки, не сталкивал Мишку прочь, а позволял расположиться. И оба, поглядев немного вокруг сонными глазами, крепко засыпали. Впрочем, происходило это каждодневное шоу с вариациями. То отец смотрел некоторое время новости по телевизору и естественно ругался, размахивал руками и из положения, лежа, вконец рассердившись, немедленно садился, а кот шипел на него недовольно, шерсть у него вставала дыбом и он, распушив хвост, уходил восвояси, забираясь с головою под покрывало на кровати у Марка. То отец шуршал газетой и читал, иногда находя интересные места, громко, с выражениями и смехом, адресуясь в основном матери, которая с кухни плохо слышала, отцу приходилось орать и кот негодуя на такое отношение к его персоне, видимо, в его глазах, весьма уважаемой, опять-таки слетал с колышущегося живота отца, выгибал спину дугой и вообще выражал всем своим видом негодование и презрение. В глазах у него читалось возмущение и недоумение, как же это может такое быть, чтобы ему, удобно устроившемуся на толстом теплом животе, не давали спать и кто? Мебель!
Впрочем, доставалось и Марку. Кроме утренних насильнических побудок он приставал к Марку с играми. Если ему хотелось играть, он просто подбегал и кусал Марка за тапку. И легче было уступить, потому что не раз уже отказывая, мальчик получал от кота такое… в виде разодранной обуви или лохматых клочков от ученической тетради…
У кота были странные вкусы. Он отвергал все магазинные игрушки, игнорируя пушистых искусственных мышек и звенящих шариков, предпочитая таскать за шнурки старую потасканную кеду Марка. Каждый раз, он трепал ее и бросая на пол, ждал, замирая, а вдруг, оживет.
Марк вынужден был от него прятать шариковые ручки и карандаши, так кот наловчился из ванной таскать зубные щетки. Щетки он подбрасывал в воздух, ловил, прижимая лапами, а потом гнал их мордой по всем комнатам, чтобы забить в конце концов под кровать или под шкаф.
Все газеты отца он, так или иначе, рвал и с наслаждением, разбегаясь, ездил в бумажных клочках, точно также ездят мальчишки на ледяной дорожке, разбегаясь и падая на колени.
Марк пытался его приучить к цивилизованным играм, к бантику на веревочке, но Мишка поиграв немного, быстро остывал, переходя к своим разбойничьим повадкам. И очень обижался, если Марк его ругал, а ругал он его довольно часто. От обиды кот переходил к неприкрытой враждебности и мстительности, затаивался где-нибудь под кроватью, а потом, вдруг, неожиданно выбегал и плевался, сильно смахивая при этом на редкостную змею. Марк просто не знал, что с ним делать, у него было такое впечатление, что он обзавелся младшим братом. И брат этот имел весьма противный характер. Он не мог отгородиться от кота, как это всегда делал дед, не мог просто не пускать его в комнату, сколько бы он не мяучил и не царапался под дверью, у Марка было довольно чувствительное сердце, и кот этим активно пользовался.
По совету Роберта, Марк решил наладить с котом телепатическую связь, и тем самым дать ему понять, что он им занимается и его понимает, так иногда некоторые более-менее умные родители наводят контакт со своим нервным ребенком и дают ему понять, как они любят его, жертвуя при этом своим собственным здоровьем и своей собственной нервной системой. Впрочем, многим родителям далеко до телепатии, далеко вообще до понимания сути своего чада, как правило, не являющимся их собственностью, даже, если они и родили его в муках, а пришедшему в их семью из другой жизни с уже спланированной адонайцами программой…
Марк выждал, когда кот уснул, как всегда, на толстом животе отца. Вышел из гостиной на цыпочках, заглянул в кухню, где безмятежно напевая, мать месила тесто для пирогов. Пришел в свою комнату, уселся на кровати и мысленно представил свой ежедневный утренний сон с огромным мешком корма, который он предлагает коту. Кот при этом светился от счастья. Открыв глаза, Марк чуточку напрягся, объяснив коту, что все это явь, он, мол, только что сбегал в магазин и купил мешок корма, вот он стоит посередине комнаты, а взглянув на дверь, Марк явственно увидел радостно вбегающего кота.
Тут же, Марк услышал возню, стук падения, возгласы и мяуканье из гостиной. Вбежали двое. Отец, с недоумением и кот с недоверием. Оба оглядывали комнату так, как будто ждали, действительно ожидали от нее чудес.
Оказывается, отцу привиделся явственный сон с мешком корма, в котором он, довольный жизнью и судьбой сидел и ел. Кот взглядом подтвердил, что и ему это же привиделось. Недоверчиво и с подозрением Мишка долго-долго глядел в глаза Марку, явно не понимая, как же это он мог, какой-то человечишка, наладить с ним контакт? Как?..
6
Кристина должна была стать очень красивой в будущем. Она и в девять лет выглядела настоящей красавицей. У нее были темные, каштановые волосы, густые и блестящие, очень своеобразно они закручивались в мелкие кольца. Кристине каждый раз приходилось долго воевать с ними, расчески у нее менялись каждую неделю, потому что даже самые крепкие из них неизменно ломались, застревая в гриве ее волос.
Иной раз ей удавалось сладить с ними и заплести в толстую тугую косу, но каждый раз непостижимым образом волосы высвобождались сами по себе, и уже часа через два голова у Кристины напоминала нечто между взрывом Вселенной и головой с кучей шевелящихся змей, словно у Медузы Горгоны.
Но чаще Кристина просто перевязывала волосы широким бантом и они пышным хвостом лежали у нее на спине, вызывая жгучую зависть у девчонок.
Черты лица у Кристины были почти законченными, во всяком случае, без труда можно было представить ее более взрослой, когда она станет весьма привлекательной девушкой. Вот только глаза останутся неизменными, ярко-зелеными с золотыми искорками, будто солнечные лучики, пойманные взглядом Кристины прочно окружили черные ее зрачки, чтобы нет-нет да и подстрелить кого-то с романтическим сердцем.
Впрочем, в плен ее взгляда сразу же попался один поклонник.
Парень сидел в четвертом классе уже третий год. Он был переростком, занимал сразу два стула на «камчатке». У него уже лезли усы, отдельные черные волоски торчали неровными клочками над его верхней губой и чем-то напоминали усы крысы. Он был невыносим.
Волосы у него почти всегда бывали грязные. Одежда вечно измятая, кроссовки затасканные до неопределенного серого цвета, сменку он в школу не носил.
Парня звали Васей, из неблагополучной семьи, он любил выпить пива и курнуть травки. Вася был тупицей. Ничего не читал, ничего не знал, не умел даже подойти к компьютеру и играл разве что в телефонные игрушки, слушал какую-то дикую музыку с визжащими и вопящими голосами. И всегда имел одну непоколебимую точку зрения, в основном сводящуюся к тому, что все учителя – козлы, отличники – стукачи, а прочие взрослые и дети – просто его враги.
В классе Васю боялись и заискивали перед ним, надеясь лестью отвести от себя беду. Он был ничтожеством, но все его страшились и с ужасом беспомощно наблюдали, когда он кого-нибудь загонял в угол и бил там, безжалостный и очень сильный.
При нем боялись получить пятерку и вздыхали облегченно, когда он прогуливал уроки, а проделывал он это довольно часто.
Вася вносил в традиции школы некое новшество, где главное – не ум и успеваемость, а физическое насилие и неуправляемая злоба. Наравне с хамоватым отношением к учителям и откровенным матом, он мог посреди урока смачно рыгнуть или громко пустить газы.
При девчонках он рассказывал о своих победах на сексуальном фронте и вслух оценивал каждую по пятибалльной шкале. Кристине он сразу поставил пятерку и стал активно ее преследовать, добиваясь зажать ее в угол и облапить, похабно прижимаясь к ней всем телом.
Такое он проделывал раньше с другими одноклассницами Кристины. Девчонки плакали, но поделать с ним ничего не могли в силу юного возраста и малых сил против великовозрастного болвана.
Вася уже превращался, в отличие от одноклассников из мальчика в долговязого и нескладного подростка, целиком состоявшего из длинных рук и неловких локтей, длинных ног и не умещающихся под партой коленей.
Его вовсю уже занимали тайны девического тела. Он желал эти тайны понять и раскрыть, во что бы то ни стало, взор его блуждал беспокойно по классу и неизменно застревал на стройной фигурке Кристины.
Она знала, жаловаться взрослым бесполезно, единственный, кто мог помочь ей в борьбе с омерзительным третьегодником – это Марк.
Проведя телепатический сеанс со своим котом, и научившись вставать на эмоциональную волну маленького Мишки, Марк почувствовал, что силен, наладить контакт с человеком, например, с подругой, то есть, с Кристиной.
После недолгих тренировок они услышали друг друга. Их целью стало постигать новое мастерство в духовном мире.
Иной раз, Марк, вдруг, вторгался в поток мыслей Кристины и советовал ей правильное решение задачи по математике. И она, а ей трудновато давались точные науки вообще, благодарила его, посылая ему образ букета цветов.
Они были настолько взаимосвязаны, что видели одинаковые сны. Роберт, правда, немного разочаровал их, рассказав, что эмоциональная связь с Карлсоном и с Дьяконом у него еще сильнее и кто первый уснет, тот и диктует остальным свой сон, как бы затягивая их в свои сновидения.
Они имели одинаковые пристрастия в еде и частенько препирались из-за желания Кристины полакомиться, к примеру, эскимо, в то время, как Марк желал бы другое мороженое, но из-за навязанного образа шел и покупал именно эскимо. Кристина только смеялась и проводила эксперименты, навязывая Марку желание полакомиться манной кашей. Он ругался, но ел, удивляя свою мать, привыкшую давным-давно не держать манную крупу вообще в доме и принужденную из-за Марка ее купить…
Они задумывались над немногочисленной одеждой и вдруг, выбирали какую-то одинаковую, хотя бы по цвету и потом, встречаясь, смеялись, рассуждая, а что, если бы один другому навязал что-нибудь несоответствующее обстановке, например, Марку бант на волосы, а Кристине мужской галстук на шею.
В момент нападения на Кристину, Марк среагировал на ее крик сразу. Он находился при этом дома, делал за столом уроки.
Отчетливо, он почувствовал, как Вася обхватывает ее потными руками, зажимает рот и прижимает к стене.
Марк слился с сознанием Кристины, раньше они об этом только говорили, но теперь рассуждать было некогда. Слияние двух сознаний в одно, прошло во мгновение ока и Кристина, потрясенная нападением третьегодника, не оказала Марку сопротивления. Легко, как будто, так и надо, Марк нанес поражающий удар в самый центр мозга насильника. Он ожидал потери сознания, но…
Все происходило в полутьме подъезда. Вася пошатнулся, отпрянул от Кристины, интуитивно понимая, что именно из-за нее он почувствовал внезапный прилив дурноты, будто обкурился или перепил. В ушах у него зазвенело, в глазах потемнело, тело обмякло, и он свалился на пол.
Кристина бросилась прочь, с омерзением отряхивая одежду, стремясь сбросить с себя даже пыль, привнесенную в ее благополучный мир похотливым третьегодником. Марк ее вел и на правах более сильного партнера гасил ее панику, Кристина так и не всплакнула, хотя хотела. Она только умылась и послала образ пылающего сердца Марку, убеждая его, что все хорошо, усиленно благодаря его за помощь.
Буквально через несколько минут, она уже была спокойна и эмоционально устойчива, будто ничего не случилось. Они с Марком сделали уроки, каждый у себя дома, но связанный с другим мыслями и чувствами. Потом она почитала Марку интересную книгу, а он сидел на кровати и слушал ее. Потом он что-то такое вычитал из занимательной физики. Они поперебрасывались фразами из иностранных языков, совершенствуя друг друга, и улеглись спать, чтобы видеть одинаковые сны.
А Вася, пролежав какое-то время в темном углу подъезда, незаметный для проходящих мимо него жильцов, кое-как пришел в себя. Пальцы его предательски дрожали, голова была тяжелой, а в штанах мокро и гадко. Самопроизвольно опростался не только мочевой пузырь, но и кишечник тоже.
Он даже не смог понять, как такое могло произойти с ним, со взрослым парнем, мозг отказывался соображать, Вася встал, придерживаясь за стену и спотыкаясь на каждом шагу, вышел из подъезда. С трудом поворачивая отяжелевшую голову, он осознал, что надо куда-то идти. И побрел вдоль дома Кристины, опираясь трясущейся рукой о стены. Перед глазами его вертелись цветные круги, летали черные «мухи».
Пройдя немного, он зашатался и рухнул в высокую траву, где под молоденькими лопухами испустил дух. Поднявшись над телом, он почувствовал недоумение к груде дурно-пахнущей массы, в которой он жил. Махнул досадливо рукой и поднялся к бездонному синему небу, где помчался наперегонки с ветром, ему казалось, что он легче самого воздуха.
У него сразу же отшибло память, он позабыл о школе и об одноклассницах. Позабыл о родителях, забыл свое имя, да оно уже и не имело значения. Он более ни к чему не стремился и никуда не спешил.
Его сильно заинтересовали шалости и бесконечная карусель воздушной акробатики. Он играл с птицами, бездумно отдыхал в зеленой листве деревьев и постепенно как-то вообще переместился куда-то в южные страны, где с удовольствием внимал крикам обезьян и философскому бормотанию какаду.
Он знать не знал, что над его могилой убивается мать и, размазывая черную тушь по щекам, рыдает в голос, а потом пьет водку, чтобы повалиться на сырой холмик.
Ему было хорошо, его никто не трогал и пролетающие временами мимо величественные ангелы Адонаи не обращали на него никакого внимания, а ангелы Люцифера вообще вечно занятые, его не тревожили. В принципе, Вася только и начал жить, что после смерти…
Кристину с Марком тоже особо не заботила его смерть, они знали, что избавили мир от большого негодяя. Понятно было, что став взрослым, он танком бы переехал не одну жизнь, а нескольких свел бы с ума, бросил бы своих детей, породив кучу дегенератов и дебилов, таких же, как сам.
И только Роберт задумчиво смотрел на двух гениев, не зная, как и что делать с ними. Он только одно понимал, растут будущие воины Сатаны, колдуны большой силы и этот факт был такой же несокрушимый, как и его собственная жизнь.
7
Дед Марка проснулся посреди ночи и сразу же ощутил страшное беспокойство. На него, не мигая, глядела круглая голова. Большие с длинными черными ресницами, выразительные глаза смотрели так грустно, что у деда сжалась душа. Он задержал дыхание и попытался спрятаться под одеялом. Но голова оказывается, не парила над кроватью, как вначале показалось напуганному деду, а вполне плотно сидела на очень маленьком теле. Маленькими, но цепкими ручками, существо потянуло одеяло на себя, и дед опять увидал большую голову с выразительными глазами. Больше на лице ничего не было, ни рта, ни носа, ничего. Это пугало, тем более, что у существа было что-то такое с ногами, острые пятки или, быть может, что-то еще, так и впивались в живот деду.
Дед беспомощно огляделся. В палате все спали, сморенные убойными дозами снотворных и успокоительных, широко применяемых в этой больнице. Никто не мог помочь. И дед взмолился Богу. Тут же раздался легкий хлопок, существо со своей пугающей головой исчезло, только сизый дымок растекся по воздуху.
А дед потерял покой. Он почему-то был уверен, что это Роберт ему угрожает. И это Роберт свел его с ума. Он засунул его в дурку и это он подослал к нему странное существо…
Дед прямо-таки весь затрясся от злости, кровать заходила под ним ходуном. И сосед его, погибший алкоголик по прозванию Свисток, прозванный так за постоянное присвистывание во время речи, у него отсутствовал передний зуб, проснулся.
Свисток, несмотря на снотворное, плохо спал. Он был очень энергичным человеком. Никогда не знал покоя и даже во сне беспрестанно двигался: дергал плечами, дергал головою, дергал ногами. Спал он мало и часто просыпался ночью от собственного крика, а потом долго не мог заснуть и все ворочался, ворочался, пока не принужден был вскочить и схватиться за книгу. Чтение все равно, какой книги, а в палате он читал с включенным фонариком, его усыпляло, и он отрубался еще часика на два, пока утренний шум, поднятый соседями по палате, собирающимися на завтрак не будил его окончательно.
Свисток был замечателен своей собственной точкой зрения на Евангелие. Он даже изобрел новые десять заповедей и обычно говорил так:
«Первая заповедь, не проходи мимо мучающегося похмельем и не имеющего денег на сто грамм, а опохмели мученика дабы он, если что, мог опохмелить тебя. Вторая заповедь, чужой труд уважай и даже последнему пропойце просто поднесшему тебе тяжелые сумки до подъезда, налей стаканчик водочки, не забывай, что и он на твоем месте поступил бы с тобою точно также, как ты с ним. Третья заповедь, не ругай пьяницу просящего милостыню, а подай и помни, что и ты можешь как-нибудь докатиться до нищеты и быть может этот же пьяница вспомнит о тебе и подаст тебе копеечку. Четвертая заповедь, не проходи в холодные дни года мимо пьяного упавшего на улице, а подними и протащи до теплого подъезда, приткни к батарее, потому, как и ты можешь нечаянно упиться и упасть на улице, а все прочие пройдут мимо, и ты несчастненький погибнешь от переохлаждения. Пятая заповедь, не одаряй пьяницу ненавидящим взглядом и не шипи на него, помни, что и ты можешь также выписывать зигзаги после праздничного застолья и на тебя также будут шипеть прохожие, а это неприятно. Шестая заповедь, не обижай пьяного, ни словом, ни избиением, потому как… Седьмая заповедь, не кичись перед пьяным здоровым образом жизни и тем, что ты-то вот не пьешь горькую, еще неизвестно, кто из вас первым сыграет в ящик. Восьмая заповедь, просящему у тебя хлеба пьянице не откажи и тебе может статься он сам или кто другой тоже подаст, когда наступят плохие времена. Девятая заповедь, не вызывай полицию на пьяные застолья соседей с песнями и горлопанством, а возьми бутылку и присоединись к ним и будешь счастлив. Десятая заповедь, принимай пьяницу таким, каков он есть и не пытайся его изменить…
Такова была новая программа Свистка и он часто выступал в свою пользу посреди таких же, погибших алкоголиков, и доказывал им, что его десять заповедей, как раз и могут быть выполнены, не то что христовы. С ним соглашались и не соглашались.
Дед Марка любил послушать Свистка, но в споры с ним не вступал, он был подавлен лекарствами и обстановкой закрытой психиатрической больницы с решетками на окнах. Он был уже в возрасте и произошедшую с ним перемену переживал, как личную трагедию.
Однако, Свисток ему нравился и он исповедался ему в произошедшем с ним случае и в остальном тоже исповедался. Все рассказал. Свисток внимательно выслушал, не перебивая, нисколько не усомнился в сверхспособностях Роберта и вообще во всем рассказе деда увидел нормальную логику нормального человека. А про неизвестное существо с большой головой сразу уверенно заявил, что это черт. Дед еще не поверил, в его представлении черти должны быть с рогами и с вилами. На что Свисток, минуточку подумав, покачав головой, возразил, мол, черти бывают разные, а рога им нужны для устрашения глупых верующих. И, вообще о чертях он наслышан от своих друзей и товарищей, часто по пьяному делу сталкивающимися с ними. Бывало даже черти гомонящей толпой возникали, вдруг, посреди пьяных компаний и вырывали бесцеремонно из рук выпивох стаканы с водкой, а потом безобразили, орали и вопили, пока соседи не вламывались вместе с полицаями, находя перепуганных пьянчуг в шкафах и под кроватями, где они пытались спрятаться от хулиганов из преисподней. Существо было чертом!
И Свисток победоносно посмотрел на деда. Оба они как-то почувствовали несомненное доверие друг к другу и будто два заговорщика склонили головы, о чем-то шепчась. Изредка, они в испуге оглядывались на редкий всхрап соседей по палате. Впрочем, обоим казалось, что их никто не слышит. Но их, безусловно, подслушивали. По палате мелькала некая черная тень, заметить ее было затруднительно, разве что краешком глаза. И Свисток нет-нет, да и замолкал, вглядываясь с подозрением в какой-нибудь темный угол палаты, освещенный только отсветом далекого уличного фонаря. А оттуда, из угла на него, не мигая, глядели глаза, но вот прошла секунда, скользнула тень и опять вроде бы никого не стало…
Выяснив все, что надо, черт вступил в туннель и помчался со всею возможною скоростью, гораздо, правда, превышающей всякую известную физикам скорость. Таким образом, он уже через две секунды стоял перед Робертом, на другом краю города.
Черт хотя и выглядел черной тенью для всех прочих, не был черным или красным, он предпочитал скорее белый цвет. И потому был едва ли не белокожим… Одежду он не приветствовал, но все же явился к Роберту облаченным в белую простыню и потому вызвал у Роберта ассоциацию с привидением. Черт этот не был ангелом изначально, лет сто назад он сам жил на Земле человеком, работал доктором, имел богатую практику и весьма больных пациентов, но, конечно, служил Сатане, будучи колдуном, иначе, как бы он стал чертом после смерти?.. Однако ему не мешала ныне его человеческая суть, за сто лет бесконечного вращения посреди малых ангелов он сам совершенно обратился в ангела, хотя поначалу ему и трудновато пришлось. Вначале он никак не мог встать на волну ангелов. Есть люди с медлительной задумчивой энергетикой водной стихии. Они бывают счастливы только в воде, их комфортное существование зависит от моря или от рек, даже иногда зависит от веселого журчания ручейка, таковы, например, рыбаки. Есть люди с энергетикой леса, они мудры и спокойны, они не могут жить без воздуха сосен и не вылезают ни летом, ни зимой из лесных зарослей и кажется, еще немного и они сами зашумят свежей листвой, таковы, например, лесники и ягодники с грибниками. Есть люди, которых обзывают дачниками. Они – потомки крестьян, их притягивает земля и они готовы умереть посреди своих грядок, что уж говорить о настоящих крестьянах живущих бескрайними просторами спелой пшеницы и небольшими теплицами с поспевающими краснобокими помидорами. Есть люди, слившиеся с энергетикой животных. Они и сами лают или мяукают со своими домашними питомцами, и разговаривают с ними, и стараются понять их, наладить контакт. Одним словом, есть люди…
Черт завидовал белой завистью Роберту, Роберт мог встать на волну любого человека и понимал ангелов. Помогать ему в связи с последним обстоятельством жизни было одно удовольствие.
Выслушав доклад черта, Роберт призадумался. Дед Марка вызывал у него массу вопросов.
Сумасшедшие или нет, но такие люди, как этот дед привлекали своей хаотичной ни к чему не приспособленной энергетикой, воинов Бога. А воины Бога могли нанести большой урон, вплоть до смерти, Марку. Лучше уж совсем не привлекать их внимание, нежели все время быть у них на виду. Недаром, монашество предпочитает в церквах, там, где стоят самые неподкупные ангелы Бога – Стражи, прокрадываться незаметными тенями по стенкам. В руках четки, которые они торопливо перебирают, шепча иисусову или богородичную молитву. Глаза вперены в пол. Монахи знают, что опасны не ангелы Люцифера, а как раз, наоборот, ангелы Бога, Адонаи…
Черт молча, ждал решения Роберта. Хотя сам он уже принял решение, но все-таки ждал, а совпадет ли его точка зрения с точкой зрения Роберта. Совпало! И черт пошел с легкой душой исполнять задуманное…
8
Дед Марка спал и ему снился сон. Поразительный, неправдоподобный сон.
Он видел воду и солнце. Блики солнечного света так и ослепляли его. Он плыл, разгребая податливую прохладную стихию мощными гребками и опять чувствуя себя молодым.
Он перевернулся на спину, чтобы раскинув руки и ноги, уставиться в проплывающие над головой облака, но замер. К берегу подходила она. Его первая любовь.
Дыхание у него перехватило, и он поднырнул, стремясь быть не замеченным ею.
Он купался в своем потаенном месте голышом. В тихой заводи реки, где плавали лениво белые кувшинки и нет-нет, да и плескала хвостом крупная рыбина, охотящаяся на зазевавшуюся стрекозу, он любил мечтать и предаваться умопомрачительным фантазиям о других мирах. Его любимыми писателями были Герберт Уэллс и Жюль Верн.
Здесь, под купами задумчивых деревьев и разросшихся кустарников он мог мечтать бесконечно. Иногда ему казалось, что он сам со всеми своими мыслями и чувствами растворяется в водной стихии и превращается в некое прозрачное существо и только одно удерживало его на земле, она…
Между тем, она подошла к самой воде, скинула босоножки, потрогала боязливо пальчиком ноги, не холодная ли. И улыбнулась, вздохнула свободно, и легко дыша. Ее руки потянулись к вороту летнего платья, расстегнули пуговицы.
Он затаил дыхание.
Она подняла руки и стянула платье через голову. Скатились на землю ее шпильки и волосы роскошными волнами упали каскадом на ее плечи и на спину. Она не обратила внимание на потерянные шпильки, только рассмеялась. Под платьем оказались белые трусики, но грудь была обнажена.
Девушка его мечты, стройная, светловолосая, длинноногая скинула последний предмет своей одежды и тихонько постанывая от удовольствия, день был такой жаркий, окунулась, поплыла почти не оставляя следов на воде.
А он застыл и только смотрел на нее, и, желая, и в то же время не желая, чтобы она увидела его.
Они вместе учились в одной школе, жили в одном поселке, их родители дружили и с самого первого класса он твердо знал, что она – его судьба и, если ему уж суждено будет жениться, то только на ней. И робел, и краснел, и смущался, когда она невзначай задевала его рукавом. Кто знает, как бы сложилась его судьба, останься она на этом свете? Но она подхватила в четырнадцать лет воспаление легких, потом осложнение и смерть. Он еще не поверил словам родителей и расплакался, как девчонка. А на похоронах прыгнул в разрытую могилу, лег прямо на ее гроб и его с трудом оттуда вытащили. Потом он надолго отупел, будто оглох и ослеп, его положили в больницу для нервнобольных. Выйдя оттуда, он стал злиться и рваться в бой, бил всех, кто попадался под руку, организовывал банды, не раз сидел в кутузке и озлобился окончательно, когда вместо понимания, на него обрушились родители с требованием вести себя нормально. Нормально, это как? Учиться, расти, получать профессию, но для чего, если ее нет на этом свете? Для чего? После нескольких попыток суицида и дурдома, он научился хитрить и скрывать нарастающее неприятие этого мира. Зачем-то женился и породил сына, а потом уже сын породил внука Марка. При воспоминании о Марке он дернулся, и вода пошла от него кругами, но внук остался далеко, в другом мире, здесь же, была она.
О ней у него всегда болела душа, каждый день, каждый час, каждую минуту. Он жил ею, дышал ею, вы скажете, такое невозможно? Но это было так и не иначе. С возрастом он не забыл черты ее лица и теперь с удовольствием всматривался в нежное лицо, пушистые ресницы, темные брови дугой, правильный нос, тонкие губы. У него уже не возникало ощущение, что ее нет, как это бывало у нее на могиле. Он часто ездил к ней на могилу, за тридевять земель от города, где жил с семьей, просто потому, что ее могила – это все, что у него оставалось. Он всегда любил ее и только терпел пребывание на этом свете, ждал и ждал, когда же можно будет, наконец, увидеть ее и может, обнять. Он думал, ему не придется мямлить и объясняться ей в любви и постоянно думал, как это будет?.. Он был почти уверен, что за ним придет не ангел смерти, а она. Это было бы справедливо.
Внезапно, она оказалась совсем рядом с ним. Весело поглядела ему в глаза и спросила своим чудесным мелодичным голоском, так хорошо врезавшемся ему в память:
– Прячешься от меня?
– Ты знала, что я здесь? – удивился он.
Она кивнула. Он, подумал о том, как было бы здорово, вот сейчас, протянуть руку, погладить эти светлые волосы, поцеловать эти родные губы.
– Поцелуй! – прочитала она его мысли.
И сама подплыла к нему поближе. Он ошалел от счастья, когда увидел вблизи ее небольшую девическую грудь с темными аккуратными сосками.
Она обвила его шею руками.
– Что ты? – засмущался он.
– Я пришла за тобой! – твердо заявила она. – Ведь ты ждал меня!
Он поднял голову, с трудом оторвав взгляд от притягательного зрелища ее голой груди, и посмотрел в глаза девушке, молясь, чтобы это не было сном. Он просто не мог сейчас проснуться в душной палате сумасшедшего дома, посреди ненавистного ему мира, мира без нее.
Глаза ее сияли торжествующим блеском, такие любимые серо-темные глаза. Он поцеловал их с невыразимым восхищением.
– Я умираю?
Она коротко кивнула, взяла его за руку и повлекла за собою на берег.
Они оба, обнаженные, встали друг против друга. И он, чуть ли не впервые в жизни не застыдился своего тела, которое всегда находил некрасивым и волосатым. Из-за этого стыда он всю жизнь сторонился пляжей, стеснялся носить шорты или при всех снять рубашку.
Она, рассеивая его сомнения, доверчиво обняла его. Он судорожно прижал ее к себе, чувствуя прохладу ее тела.
– Пойдем домой, – просто предложила она, – ты так устал…
Он тут же согласился, готовый идти за нею хоть в пекло геенны огненной, лишь бы быть, наконец, с нею рядом. И они пошли. Он обрел долгожданный покой и счастье. А она, благодарная ему за вечную любовь, ответила тихой улыбкой согласия. Красивая, покойная и счастливая жизнь после испытаний мира земли для них только началась.
Черт проводил их задумчивым взглядом, в свое время никто не позвал его вот также в Покой и Свет. Никто, а жаль.
Но тем не менее дело было сделано, задание выполнено, ситуация разрешена. Правда, оставался еще погибший алкоголик Свисток, которому дед Марка ночью успел поведать о своих проблемах. Но так ли он опасен?
Свисток, этакий нарцисс, влюбленный в собственные речи, нисколько на деле не заморачивался чужими проблемами, он был слишком величественен для этого. Правильно, у Свистка была мания величия.
И потому, обнаружив утром престарелого соседа мертвым, он сперва перепугался, но после взял себя в руки и принялся бегать от одного к другому, рассказывая, какую околесицу нес дед перед смертью. Каждый раз рассказы его обрастали все более и более новыми подробностями, и скоро Свисток уже вдохновенно врал, как самолично швырялся подушкой в целую банду чертей и как они ему угрожали, выплевывая перья и пух. А дед молился вслух и умолял Свистка спасти его от человека-паука, способного еще к тому же летать над кроватью. Почему над кроватью? Сурово вопросил один из санитаров и Свисток поспешно ретировался к зарешеченному окну в коридоре, где на широком подоконнике развалилась пушистая кошка. Кошке Свисток рассказал во всех подробностях случившееся с ним происшествие, и кошка подергав ухом от его присвистываний и пришептываний, выслушала, лениво жмуря глаза. И только один раз вскинулась, глянула наверх раскрытой рамы окна, а потом опять быстро легла обратно и нет-нет, да и бросала настороженный взгляд в сторону малого ангела, подслушивающего болтовню Свистка. Но наконец, убедившись, что ангел занимается болтуном и ее пушистости ничто не угрожает, снова погрузилась в безмятежный сон…
9
Наступила осень. Сухая земля была устлана словно ковром, желтыми листьями. И только клен, стоявший посреди других деревьев наполовину зеленым, наполовину красным разбавлял желтизну яркими резными кленовыми листьями, которые скупо ронял, с трудом, как видно, избавляясь от листвы.
В осеннем воздухе неторопливо пролетела прозрачная блестящая паутина, переливающаяся мелкими капельками росы так красиво, что Дьякон проводил ее изумленным взглядом.
– Я люблю осень, – задумчиво глядя на пожелтевшие деревья, сказал Дьякон, – и знаю, что природа не умирает, о нет. Она, умытая дождями сбросив всю старую листву, засыпает под холодным снежным одеялом, а весной просыпается отдохнувшей, свежей, полной сил.
Друзья, верные своей привычке, выбрали безлюдный глухой уголок леса. Стремясь к незаметности, они забрались на самые верхушки деревьев. Карлсон облюбовал огромную синюю ель и раскачивался, вцепившись в верхушку наподобие звезды на новогодней елке. Роберт просто стоял на самой верхней ветке большой сосны. Но Дьякон… Дьякон опирался на воздух, не считая нужным имитировать уместные в данном случае обезьяньи повадки. Он знал, что вокруг безлюдно, а животным до него не было никакого дела.
Временами он оглядывался на Карлсона, пристально его рассматривавшего и поеживался от его взгляда, но тут же непримиримо дергал головой, внутренне не согласный с мнением Карлсона, как всегда недовольного внешним видом Дьякона.
Дьякон выглядел как монах. Выглядел намеренно. И, как иные люди, подражая модным звездам эстрады, обвешиваются блестящими сережками да цепочками, точно также и он подражал черному монашеству. Для того достал где-то длинное, почти до пят, строгое пальто. Расстегивая воротник, Дьякон иногда поражал зрение случайного зрителя блеском большого серебряного креста висевшего на короткой серебряной цепочке и упирающегося ему в яремную впадину.
Правда, его и путали с монашком. Длинные волосы он стягивал на затылке в хвост, а на голову водружал настоящую шапку монаха – клобук, которую он попросту позаимствовал из какого-то монастыря.
Дьякон был чрезвычайно увлекающейся натурой. Он беспрестанно играл и сменял любимые образы один за другим. Теперь он играл в монаха и так и сыпал поучительными, и философскими фразами, приводя в замешательство даже Карлсона, за много лет дружбы уже давно привыкшего ко всяким заскокам друга.
Дьякон вошел в образ и начал свою проповедь. Друзья, не перебивая, слушали его:
– Есть души, – говорил он, картинно скрестив руки на груди и глядя на красный клен, – любящие весну и сезон пробуждающейся природы. Есть души обожающие солнечный свет и жару лета. Есть те, кто не может жить без осени и покрасневших кленовых листьев. А есть такие души, словом любящие холод и лед. Их стихия – снег и сугробы. Они ненавистники тепла и лета, и вечно ворчат, провожая недовольными взглядами пчел, ос, шмелей, мух и комаров. Таких – большинство в России. Жара для них стихийное бедствие. Они с ужасом читают про пустыни Азии и Африки и не понимают, как можно жить при такой жаре?
Жара для них – жесточайшее испытание и они, умирая по дороге на работу и с работы, выпивают тонны воды, опустошая ларьки и магазины. Аптеки становятся для них вторым домом, в ход идет все: от анальгинов до убийственных доз валидола. У каждого с собой нашатырный спирт на случай потери сознания.
Они прокладывают новые невиданные тропы вдоль домов и под кустами, выискивая тени, и как вампиры с ненавистью поглядывают в сторону солнца, а облака встречают продолжительными стонами облегчения… ну наконец-то…
В дождь, даже в ливень они нарочито таскаются по лужам и довольные улыбки не сходят с их лиц. Никто из них зонт с собой не носит, зачем? Дождь становится навязчивой идеей, превращается в мечту и многим из них снятся струи дождя, снится дождливая осень. Такие сны живо обсуждаются вслух и некоторые украдкой смахивают слезу тоски, про себя высчитывая оставшиеся месяцы до начала осенней слякоти.
С минуту все молчали, погруженные в свои размышления.
И тут Роберт, светло улыбнувшись, сказал:
– Ну, теперь моя очередь проповедовать. Пару лет назад мне одному поручили изобличить проворовавшегося чиновника, чрезвычайно хитрого, поклонника Штирлица и Джеймса Бонда. Он без труда уходил от любых проверок, а между тем жил не по средствам. Наблюдение я вел скрытно, пребывая невидимым. Все, что нужно было, я быстренько выяснил, мне понадобилось не так уж много времени, и был готов уже ретироваться с докладом к начальству, но меня заинтересовали соседи чиновника. Рядом с его многоэтажным замком, в поселке вообще много было замков. Так вот рядом с его замком жили вполне нормальные люди. Пенсионеры, которым родное государство от щедрот своих отщипывало небольшую пенсию так, чтобы они не умерли с голоду.
Оба супруга в связи с этим, дабы немного компенсировать столь досадное недоразумение как нищенская пенсия, постоянно копошились на своих земляных сотках. Они неустанно двигались вокруг кустов смородины и крыжовника, таскались с лейками в двух больших стеклянных теплицах, где посреди зарослей мохнатых листьев можно было всегда обнаружить то свежий огурец, то крепкий помидор, то сладкий перец. У каждого из супругов было какое-то собственное дело: один, например, что-то такое возил в тачке на колесиках и высыпал это что-то на и без того пышные гряды разной зелени; другая, к примеру, что-то такое тяпала небольшой мотыгой или рыхлила маленькими граблями.
Они все лето проводили в саду. А начинали заниматься садом еще зимой, едва только становилось солнечно. И чиновник, сосед неугомонных пенсионеров ориентировался в основном по ним. Пенсионеры, самые первые из всего поселка начинали чинить и красить деревянный забор. Первыми поправляли беседку, стол со скамьями, чтобы можно было по вечерам пить чай. Первыми собирали по всему саду и огороду прошлогоднюю листву и первыми устраивали прошедшей зиме погребальный костер.
Они вместе занимались огородными делами, но все-таки каждый всегда занимался каким-нибудь одним делом, в который другой никогда не вмешивался.
Так, женщина любила возиться с цветами и всегда сажала перед домом несколько клумб восхитительных цветов. Он никогда не мог запомнить их названий, сколько бы она ему ни повторяла, а только любил подойти, полюбоваться на них вечером, после трудов праведных и вдохнуть свежий аромат, который цветы издавали в особенности сильно, ближе к ночи. Это были разные цветы и белые, и желтые, и сиреневые, и фиолетовые.
Он любил украдкой, чтобы не видела она, потрогать их нежные лепестки и даже иногда целовал какой-нибудь цветок, с удовольствием касаясь его губами.
Детей у них не было. Они скорбели по этому поводу, но каждый по-своему. Мужчина с увлечением возился с шаловливыми детьми поселка из простых семей, которые изредка набегали в изобилии к ним в гости. А женщина, улыбаясь, наделяла детей конфетами, но стоило им проследовать за ее супругом куда-нибудь в дом, как она тут же начинала плакать и жаловаться вслух на несправедливую судьбу. Они были бездетны, но она все время считала, сколько было бы их сыну лет и сколько внукам, о дочери она даже не задумывалась, в ее мечтах всегда сиял сын. Когда дети убегали, стремясь к своим родителям, он выходил, садился на крыльцо и глядел с большой грустью вокруг. Под нос себе он всегда тогда бормотал одну фразу:
«Зря только небо коптим!»
И имел в виду, что не видит своего продолжения в потомках, что было бы для любого нормального мужчины абсолютно естественно.
Он тоже имел любимое дело, которому обучал всех детей в округе.
Любил мастерить. В доме у него была собственная мастерская. За долгие годы своей жизни он уже переделал все, что только мог. И взялся, наконец, за дом.
Переделал наличники на окнах, переделал рамы. Провел гигантскую работу и заменил весь забор. Перебрал крыльцо и, по сути, сколотил новое.
Сосед его, чиновник, привыкший к махинациям и аферам, но не к физическому труду на благо людей, не мог надивиться на подвиги пенсионера.
Внутри дома наш мастер переделал каждую вещь, даже часы с кукушкой подверглись масштабной чистке. Но основное диво заключалось в том, как он все переделывал. Он не просто пилил да строгал, о нет, он наносил инкрустации. Специальных ножичков у него было в запасе штук сто и ими активно пользовались его добровольные ученики. Частенько они все вместе сидели в мастерской и, сдвинув от усердия брови, вырезали и вырезали некую замысловатую фигуру, скажем на доске от забора, а закончив, без замедления прибивали доску на место и готовили новую…
– Интересная история, – вмешался Карслон, – но скучная, хотя и правильная. Побольше бы таких Левшей, глядишь и новые мастера, научившиеся у такого учителя труду и красоте резьбы по дереву пойдут легко по жизни, не задумываясь, в принципе, о судьбе своего Отечества, не помышляя обсуждать поступки вороватого правительства. Только своим делом вдохновляя окружающих к жизни. Но у меня тоже есть, что рассказать, хотя это и мало похоже на проповедь. Последнее мое задание было весьма занимательным.
Я вычислил наркоманов и поставщиков наркотиков. Работал в одном студенческом общежитии, конечно, никто из них меня не видел, я поставил щит невидимости.
Накурившись травки, молодежь быстро впадала в транс, комната довольно небольшая беспрестанно пополнялась новыми куреманами. И вот, пришли какие-то, начался спор, смысл которого сводился к одному, что водка гораздо лучше травки и в этом нет никакого сомнения.
Наркоманы не соглашались с доводами выпивох и наконец, кто-то предложил игру. Играли студенты всегда, ни одного дня не проходило без игр. Один загадывал свое желание, другой исполнял. Самый простой фант считался прокукарекать, скажем, три раза.
Итак, они азартно поспорили, потом один уселся на подоконник, отклонился в сторону распахнутого окна и без передышки выпил целую бутылку водки. Перевел дух и захрустел протянутым кем-то огурцом, закусывая.
После того, как друзья стащили его с подоконника и закрыли окно, он быстро пьянея на глазах, резко поднял палец кверху:
«Теперь моя очередь! Ты!» – ткнул он в невзрачную девицу, зеленую от выкуренного косячка травки, – «разденешься и обойдешь общагу вокруг… голой!»
Избранная испуганно отшатнулась и вполне явственно пискнула. Остальные с интересом, будто впервые увидели, оглядели ее всю с ног до головы.
Она была маленького роста, худенькая и вообще похожа на подростка. Плоская грудь и коротко подстриженные волосы только дополняли общее впечатление.
«Ну, ты чего?» – подала она, наконец, голос. – «С ума, что ли сошел?»
Но парень оказался упрям.
«Ты!» – категорически прикрикнул он и упал навзничь на студенческую койку, уже отключаясь, прошептал. – «Ты!»
Девушка шмыгнула обиженно носом и принялась раздеваться.
Через несколько минут, босиком и голая она проскочила мимо вахтера общежития, разинувшего ей вслед рот, и выскочила на залитую солнцем улицу.
Был вечер последнего дня лета. В принципе, тепло.
Но девчонка тряслась, скорее, правда, от страха. Она оглядела почти пустую улицу и припустила бегом.
Вслед за нею вывалились ее друзья-наркоманы. Человек двадцать. Они решили ее сопровождать и может даже охранять в исполнении этого нелепого фанта.
Но только они все завернули за угол, как… Трое пьяненьких мужичков замерли, наткнувшись на нее. Каждый держал початую чекушку водки и выпитые граммы уже вполне явственно отражались у них в глазах.
От вида обнаженной девушки, просто так разгуливающей среди бела дня, они обалдели. Один сразу проявил благородство, содрал с плеч пиджак и накинул на нее.
Троица ощетинилась на сопровождавших девушку студентов. Мужички решили, что студенты девушку обижают.
Без предисловий, обменявшись только многозначительными взглядами, они напали на молодых людей с кулаками. Завязалась потасовка.
Испуганная девушка сбросив ненужный ей пиджак продолжила забег, обогнула общежитие с другой стороны, таким образом, выполнив фант, вбежала на крыльцо и гаркнула во всю силу своих легких, получилось очень громко:
«Наших бьют!»
Из некоторых окон свесились лохматые головы, прозвучали вопросы:
«Где?»
Она ткнула пальцем за общагу:
«Там!»
Многие головы кивнули, убираясь в комнаты. Но некоторые, прежде чем перейти в стадию многоборья ненавязчиво поинтересовались об отсутствии на ней одежды.
«А чего это ты?»
«Да,» – отмахнулась она, – «мы играем!»
Головы понимающе закивали. А через несколько коротких минут драка разрослась. К трем мужичкам откуда-то присоединились еще несколько пьяненьких. Из их бессвязных слов стало понятно, что все они работяги с завода. Завод стоял неподалеку, пыхтел трубами, загрязнял воздух и выплевывал после смены угрюмых, озлобленных, грязных рабочих. Смена, как раз закончилась. И понятно, что в духе солидарности, трое мужичков были заводскими, рабочие всех цехов, так или иначе, присоединились к своим. Толпа мужичков разрослась до сотни и росла, без остановки пополняемая рядами работяг, выплывающих и выплывающих мрачными волнами из проходной. Студенты несли потери. Оттесняемые на крыльцо своей общаги, побитые и бессвязно выкрикивающие ругательства, молодые люди уж и не чаяли избавления.
Мне очень хотелось вмешаться и быть может нагнать волны непреодолимого страха на рабочих, чтобы они разбежались, но не успел я решиться, как ревущая толпа фанатиков, раздраженная проигрышем своей футбольной команды, налетела на работяг. Фанатики, как видно, продвигались, куда попало, лишь бы найти на ком сорвать зло.
Студенты тут же закрыли дверь, задвинули тяжелый засов, предназначенный для ночной охраны. И взобравшись на подоконники, испуганно выглядывали из окон на разыгравшееся сражение. Куда им было, худосочным и хлипким, зеленоватым и синеватым от наркотиков, махать кулаками. Они были рады спрятаться…
А работяги, заматеревшие возле своих железных станков, между тем, побеждали толпу фанатиков. Фанатики, в основном, подростки и мужики с пивными животами, скоро побежали.
Работяги же издав победный вопль, почти всей толпой пошли праздновать. Никто уже и не вспоминал, с чего началось сражение. Для русских главное не сражение, а победа. Работяги испытывали подъем сил, и хорошее настроение им было обеспечено, наверное, на месяц вперед.
Друзья разразились хохотом.
Спустя несколько минут они телепортировались по туннелям в Центр. По пути Дьякон спросил у Роберта о молодежи, которую ему поручили обучать.
Роберт засмеялся на опасения Дьякона, не рано ли обучать столь маленьких детей:
– Поверь, – сказал он, – Марк с Кристиной не маленькие. Они уже сейчас вполне могут к нам присоединиться и достойно выполнить любое задание.
Дьякон только недоверчиво покачал головой.
А в это время Марк с Кристиной ехали в троллейбусе. Они занимали последнюю площадку и глядели в стекло заднего окна с интересом что-то обсуждая.
Троллейбус остановился. Шипя, распахнулись двери. И глядя на нескольких пожилых женщин, стоявших на остановке Кристина вдруг захихикала. Марк удивленно обернулся:
– Чего это ты?
– Я представила, – смеялась она, все более и более увлекаясь, – я представила себе, как наша молодежь становится взрослыми…
Последовала долгая пауза, в процессе которой Кристина отчаянно пыталась побороть охвативший ее приступ веселья.
– Ну? – недоумевал Марк, не могучи понять, что так ее рассмешило.
– И вот, эти взрослые становятся старыми, – объясняла сквозь слезы Кристина и тыкала пальцем невежливо в сторону пожилых женщин.
Все еще не понимая, Марк посмотрел, ничего особенного не заметил и, пожав плечами, опять обернулся к своей подруге:
– Ну?
– Они носят ту же одежду, что привыкли носить молодыми, понимаешь? – плакала Кристина. – Те же платочки на голове, те же носочки на ногах, те же глухие кофты на все пуговицы, застегнутые до ворота, те же шерстяные юбки и цветастые блузки. Видишь?
Он снова посмотрел, но уже другими глазами.
– А теперь посмотри на этих, – бесцеремонно ткнула пальцем она в сторону молодежи, тусующейся уже на следующей остановке. – И представь их в старости.
Они сложились пополам от неудержимого приступа веселья.
Молодежь с полуспущенными по моде штанами, сплошь татуированная, что-то говорила вяло, вальяжно растягивая слова, пересыпая речь модным матом. Крашеные блондинки на огромных каблуках, с неприкрытым нижним бельем и в нескромных топиках, едва прикрывающих соски, обнимали за плечи своих пацанов, одевшихся, как реперы. И перевернутые козырьками назад кепки реперов вообще доконали не в меру разыгравшихся гениев.
Правда, некоторые из молодежи недоуменно хмурились в их сторону, не находя причины для насмешек, ведь молодые были одеты по последнему писку моды.
А Марк с Кристиной просто умирали. По дороге они увидели еще несколько тусовок, одну другой хлеще. Под конец поездки они уже не могли дышать, заметив пару наглых самоуверенных парней в кожаной одежде с железными заклепками, парни явно изображали крутых байкеров.
– Ковбоев не хватает для полного счастья! – заметила Кристина.
Давясь от хохота, они вывалились из троллейбуса и почти сразу же наткнулись на парня в ковбойской шляпе и соответствующей одежде.
Гении повалились на скамейку, не в состоянии идти дальше…
10
Дьякон купил домик в деревне. Он любил природу и сельское раздолье даже больше церквей. Скорее уж он прослыл бы язычником, потому как единение с духами природы для него было обычным делом. И потому лес, облюбованный Лешим, который местные жители сразу превратили в заповедный, Дьякон напротив с удовольствием посещал. И бродил по тропинке вместе с Лешим любившим обращаться в немощного старичка. Вели они неспешные разговоры и Леший, отчаянно соскучившийся по миру своих братьев – ангелов Люцифа, с удовольствием расспрашивал Дьякона, как да что, там Дома, передавал приветы особо любимым собратьям, как правило, мощнейшим демонам. И с надеждою заглядывал в глаза Дьякону, упрашивая его замолвить словечко, не ратовать, о нет, а упомянуть, при случае, что, дескать, вот Леший проживающий в таком-то месте, просит прощения за самовольный побег из Дома свершенного много тысячелетий назад и позволения вернуться.
Дьякон, вспоминая спокойные глаза Сатаны кивнул, сочувствуя и обещал Лешему свое содействие, при случае, как только встретит Князя мира сего, где-нибудь, в туннелях, в этом мире или в том, неважно…
Леший улыбался с надеждой, но в глазах у него было тревожное ожидание.
Иногда, Леший ничего не просил у Дьякона, а только рассказывал о своих проделках. Говорил о каком-то беспечном грибнике, забредшем в заповедный лес, рассказывал, как он запутал бедолагу в трех соснах и тот, дрожа от страха и чувствуя влияние лешего, торопливо вывернул всю свою одежду наизнанку.
Леший принял игру и, взобравшись на верхушку старой сосны, расхохотался вослед испуганному грибнику припустившему бегом к ближайшей деревне. В красках Леший описывал взъерошенный вид грибника и Дьякон, словно в кино так и видел трясущегося от страха, белого, с посиневшими губами, волосами вставшими дыбом, обывателя, одетого в брезентовую куртку, штаны и обутого в новенькие громадные резиновые сапоги хлопающие просторными голенищами при всяком шаге.
А Леший радовался, так ему, мол, и надо! Нечего по заколдованному лесу шастать да и кому шастать? Какому-то болвану, живущему по принципу, что вижу, что можно пощупать, то и существует! Мир магии, мир Бога и Дьявола такая дубина стоеросовая отрицает и ничего удивительного, что частенько подобные этому самому грибнику, после смерти, бывают наказаны и никуда не приняты. Их участь – участь обезумевшего от тоски привидения вынужденного мотаться по кладбищу, выть и бросаться на любого припозднившегося прохожего, чтобы вызвать у того безотчетный ужас, от которого холодный пот стекает по спине…
У Лешего была скверная манера хохотать во все горло безо всякого повода. Дьякон стоически переносил это явление и только изредка с досадой фыркал себе под нос…
Леший был неиссякаемым источником анекдотичных историй, любил приврать. И рассказывая, он сам первым принимался хохотать и смеялся так заразительно, что Дьякон как бы угрюм ни был в этот день, тоже начинал улыбаться.
Леший иногда играл в человеческие игрушки. Он любил уйти к реке, закинуть удочку, укрепив ее на берегу, чтобы видеть только поплавок, клюет или нет, а самому развести костерок и напечь на углях картошки. Тут же зачерпнуть из речки воды и вскипятить возле почти выдохшегося огня костерка чайник, до того закоптелый, что невозможно было даже понять, а какого цвета он был спервоначалу. Чай Леший пил преудивительнейший. В заварке было все, кроме самого чая. Тут тебе и листья смородины, и мята, и мелисса, даже зверобой. Но ему нравилась такая гремучая смесь и он отрицая сахар, называя его почему-то белой смертью, пил свой чай вприкуску с медом, который ему в изобилии приносили лесные пчелы и складировали в небольшие глиняные горшки. На речку Леший обычно брал с собой такой горшочек аккуратно прикрытый берестяной крышечкой.
Иногда Леший приглашал в поход собаку. Это был большой лохматый двортерьер. Хозяин его, конченый алкоголик, назвал пса Мурзиком, забавы ради, конечно. Мурзик – крайне несчастное и забитое создание, вечно голодное, рыскал в поисках пропитания по полям и лесам. Хозяин его не кормил, а только спуская с цепи, гнал собаку прочь со двора и кричал визгливо, чтобы пес сам где-нибудь да и кормился. Мурзик прыгал в поле, на манер кошки, ловил и ел мышей. Никогда не брезговал чужими мисками и уносил бессовестно у зазевавшегося цепного кобеля вкусную косточку. Правда, как ни был голоден, никогда не набрасывался на кур, в изобилии снующих по всей деревне, а только косился озабоченно и шумно вздыхал, томясь о недоступном белом мясе. Мурзик понимал, что тут ему и конец, деревенские убили бы его безо всяких сомнений. Люди, итак, следили за ним с недобрым видом и всякий раз Мурзик всей своей шкурой чувствовал неприязнь и вражду окатывавшие его ледяной волной смерти из каждого дома, каждого окна.
Конечно, терпения Лешего уже не хватало, не было мочи видеть паскудное отношение к собаке. И однажды, после того, как хозяин Мурзика напившись водки и озверев, набросился на пса с дубиной наперевес, Леший не выдержал, вломился к пьянице во двор оборотившись огромным черным медведем и одним ударом пудового кулачищи проломил голову недочеловеку.
Мурзика Леший немедленно забрал к себе в дом, который скрытый от взглядов случайных прохожих, стоял себе посреди уютной земляничной полянки.
После, Леший невидимым наблюдал, как приезжал полицейский пазик и ходили по двору убитого пьяницы люди, одетые в синюю форму. Тело увезли в труповозке, этакой черной невидной машине. А душу Леший заключил в прозрачную бутылку со спиртом. И алчущая пойла душа, не имея тела мерцала, синела и бледнела от неутолимого желания нажраться до беспамятства, а увидев круглые ярко-зеленые глаза Лешего наблюдавшего за ним с нескрываемым презрением начинала рыдать и плакать, моля о прощении.
Сам Леший не испытывал раскаяния, а только радостный покой охватил вдруг его суть. Наконец-то не надо было больше тревожиться за собаку.
Мурзик быстро поправился, пополнел, грязная шерсть больше не свисала с его боков клочьями, Леший собаку расчесал, вытащил все репьи и мусоринки.
Мало того, Мурзик стал всеобщим любимцем и домовики со всей округи приносили в дом Лешего для собаки мясные деликатесы. Сам Леший варил для Мурзика каши. В благодарность за свое чудесное спасение от плохого хозяина пес съедал все, без остатка, съедал даже ненавистную овсянку, вылизывал дочиста, оставив после себя чистую миску. А поев, улыбался, широко раскрывая пасть, демонстрируя белые молодые зубы, благодарно махал пушистым хвостом и глядел в глаза Лешему.
Они очень подружились. Пес явно не осуждал Лешего за убийство бывшего хозяина, а мнением собаки Леший очень дорожил. Они понимали друг друга с полумысли и одинокий Леший стал согреваться и оттаивать в обществе добродушного пса. Ну, а деревенские? Люди каким-то чудом догадались обо всем и уже не просто не ходили в заповедный лес, а опасались даже замахнуться на кого-либо из домашних животных. Между людьми и животными, таким образом, установился долгожданный мир и одно только это обстоятельство радовало Дьякона.
Он сам очень любил мир природы, любил животных и птиц, чувствовал заботу и деловитость муравьев, ощущал трудолюбие пчел и шмелей.
И хотя Дьякон не завидовал Лешему, в тысячу раз сильнее его понимавшему природу, но все же тайком, охваченный белой завистью, наблюдал из окна своего деревенского домика, как Леший рано утром обходит деревню. И по мере продвижения по улице странные ощущения возникают у него.
У одного дома он вдыхал запахи жареной картошки с луком. Мимо другого он убыстрялся, зажимая с отвращением нос, свежий навоз испускает не лучший в мире аромат. Через несколько домов Леший облегченно вздыхал и вдыхал с наслаждением, прикрывая глаза, дух недавно скошенной травы. Накануне кто-то из деревенских увлеченно косил возле дома, вон и огромные лопухи валяются, уже вялые и сморщенные. Как видно, по каким-то причинам дом был оставлен на время хозяевами.
Леший долго вглядывался в свежесрезанную траву охапками накиданную по углам огорода, всматривался в спящие, плотно занавешенные тяжелыми шторами окна, но так ничего и не понимал. Внутренне, правда, соглашался с самим собою, что надо бы порадоваться за тощую кошку усевшуюся с успокоенным и сытым видом умываться на крыльце. Такой вид бывает только у домашних кошек, у бездомных нет уверенности в глазах и вечный голод, правда не столько по еде, сколько по обществу дорогого человека, настоящего хозяина снедает подобных животных. И не только у животных такой-то голод, подумал тут Леший несколько с озлоблением. Как много отдал бы он сам, если бы Князь, Хозяин мира, обратил бы на него внимание. Но на отступников Он внимания не обращает. Его привлекают странные земные существа: чудаковатые ученые; замкнутые, ушедшие в себя писатели, поэты; талантливые музыканты и художники; голосистые певцы и певицы; такие колдуны, как Дьякон. Леший тяжело вздохнул и покосился с опаской в сторону дома Дьякона, он не знал, читает ли этот воин Сатаны мысли и вообще, что он умеет, что может? Леший как-то не спрашивал, а Дьякон как-то не распространялся.
Леший всхлипнул и затравленно огляделся вокруг, ах, если бы у него была возможность броситься головою с моста в реку и окунуться в Забвение, как сделал бы на его месте любой слабовольный человечек. Но у него не было возможности умереть да он и не рождался никогда и стало быть этому миру не принадлежит, не был, не существовал, а только насильно захватил свою нишу, многое изменив на Земле, уже за одно это Бог осудил бы его, Лешего, проклятию и вечному изгнанию, что уж говорить о Люцифере – вообще абсолюте и непримиримом противнике предателей.
Мучительное ощущение сиротливости и ненужности, собственное понимание никчемности и прочие горестные чувства, так хорошо знакомые одиноким старикам посетили Лешего и в одно мгновение перековеркали его покой. Он заревел, что есть мочи, раненым медведем и деревенские разом очнувшись от сна, закрестились в испуге вспоминая какие-нибудь молитвы, все равно, какие.
«Как есть, Леший бесится!» – шептали они, боязливо выглядывая из окон…
11
Дьякон устроился в своем доме со вкусом. Кровать он сделал сам. Проявил фантазию, так сказать. Получилась кровать так кровать, широченная, даже не двухспальная, а скорее трех, а то и четырехспальная. Сработана из дуба и украшена резными деревянными фигурками ангелов. Впечатляло и черное покрывало с рисунком огромных красных роз.
Впрочем, розы цвели и на обоях. Картину дополнял огромный ковер темно-синего цвета с бардовыми розами.
Живые розы наполняли большие напольные вазы, стоявшие во всех углах дома. Их нежный аромат струился по еще полупустым комнатам, заставляя мечтать и строить воздушные замки.
В дом к Дьякону вошли двое: Марк и Кристина. Роберт остался на крыльце, с удовольствием вдыхая свежий воздух, он говорил Карлсону, по своей привычке довольно угрюмо взиравшему на мир:
– Кругом поля, леса, какая благодать!
– «Я мыслю, следовательно, существую!» – насмешливо процитировал в ответ слова французского философа Рене Декарта, Карлсон.
– Ты сегодня, не в духе, – заметил ему Дьякон, возникший в дверях с блюдом летнего салата, и засмеялся, – хотя и в новых ботинках!
Карлсон лишь поклонился в ответ, на ногах у него действительно сверкали лаком новые ботинки, но какое это имело значение?
Друзья вместе с молодежью уселись на обширном новом крыльце, еще пахнувшем сосновой смолой.
– Ну, рассказывай! – коротко бросил Карлсон.
– А чего рассказывать?! – вздохнул Дьякон и, подумав немного, сжевав парочку метелок укропа, приступил к своему повествованию.
– Деревня эта была запущена, разбитые колеи утопали в грязи. Трактор и газики ездили по траве рядом с дорогой.
– Ну? – без интереса спросил Карлсон, указывая на свежий асфальт дороги хорошо видный с высокого крыльца дома.
– Ну, я и замостил дорогу в одну ночь, – кратко и буднично, пояснил Дьякон.
И заметив понимающие улыбки на лицах Марка и Кристины, поспешно добавил:
– Телепортировал щебень и горячий асфальт из разных мест Земли, никто и не заметил пропажи!
– Ну да, – фыркнул скептически Карлсон, – а деревенские тоже ничего не заметили?
Дьякон на минутку замялся и, смутившись, опустил глаза:
– Они обалдели… Долго топтались на обочине и все трогали асфальт руками, он еще теплый был, потом напились с испугу.
– Это когда? – продолжал гневаться Карлсон.
– Когда дозвонились до сельской администрации, – упавшим голосом доложил Дьякон и добавил более решительно, – вот и делай после этого людям добро!
– Дальше! – сурово приказал Карлсон.
– Рядом с деревней стояла старинная церковь, – безжизненным тоном продолжил Дьякон, – и находились могилки предков. Кладбище походило на заросший лес. За ноги случайных посетителей хватали плети вьюна, протянувшие свои цепкие щупальца повсюду. Иные памятники просто утопали в зелени и цветах вьюна, совершенно уже не различимые и не заметные на фоне всеобщих зарослей.
– И? – вопросил Карлсон, будто самый строгий педагог, глядя в растерянные глаза Дьякона.
– Ну и, – опять замялся Дьякон, – я весь вьюн вместе с корнями переместил в джунгли Южной Америки, в самую дремучую часть. А потом взял белый песок и немного белых камушек с берегов морей Прибалтики.
– Совсем немного, – добавил Дьякон испуганно и, оглядев притихших, но внимательных слушателей, произнес, – а еще заменил ржавые, старые железные памятники на деревянные кресты!
– Где кресты взял? – задумчиво глядя вдаль на белый взгорбок кладбища, спросил Карлсон и сказал, как бы про себя, – еще смотрю, ты деревья заменил?
– Да они же старые были! – возмутился Дьякон. – Многие уже умерли и повалились на другие, малейший ветерок и все, готов бурелом! А я переместил молоденькие березки, рябины!
– Откуда? – продолжал допытываться Карлсон.
– Из леса, – отчитывался Дьякон, поведя рукою в сторону заповедного леса, – мне Леший разрешил… А кресты я взял из обанкротившегося похоронного бюро.
– Разве есть такое? – не поверил Карлсон. – По-моему, подобные конторы сейчас процветают.
– Процветают, – согласился поспешно Дьякон, – но я взял не здесь, а в Болгарии.
Все помолчали с минутку, и Карлсон продолжил вопрошать. Роберт, переглядываясь с молодежью, только беззвучно смеялся.
– Ну, а деревенские?
– Они проснулись утром, – угрюмо докладывал Дьякон, – и едва не рехнулись. Многие упали на колени.
– Долго пили?
– Долго, – кивнул Дьякон, – а еще рыдали, что на их деревню, наконец-то, снизошла божья благодать.
– Кстати, о божьем, – говорил неумолимый Карлсон, – что это?
Он ткнул пальцем в церковь.
Дьякон поник головой и едва слышно повел свое повествование:
– Это была маленькая церковь, но с колокольней, без крыши и без потолка, она была полуразрушена. Не сохранилось куполов, отсутствовал пол и в целости, сохранности оставался только алтарь. Местные жители упорно украшали его свежими цветами, а в щели стен запихивали свернутые трубочкой записки с просьбами к Богу. Это была своеобразная стена плача, как в Израиле. Тут можно было в любое время дня и ночи застать молящегося человека. И заблудившегося пьяницу искали прежде всего в алтаре церкви, где под остатком крыши, в относительном тепле, возле огоньков лампад, он и спал спокойненько. Сохранившийся, здесь, деревянный пол всегда был покрыт ковровыми дорожками ручной работы, половиками.
В алтарь, безо всякого страха, заходили женщины, хотя все знали, что не положено, но разрушение царящее в храме не оставляло прихожанкам выбора…
Дьякон умолк, с надеждой взглядывая на Роберта, ища его поддержки, но Роберт только отворачивался, плечи его тряслись от еле сдерживаемого хохота.
– Что-то не похожа она на полуразрушенную, – все также, без малейшего сочувствия к поступкам Дьякона, высказался Карлсон.
Дьякон вздохнул и махнул рукой, как бы говоря, погибать, так погибать и продолжил:
– Конечно, фрески уже выцвели, нечего было и думать об их восстановлении и я просто покрасил алтарь голубою краской. Краску позаимствовал на одном опечатанном за долги красильном предприятии Америки. Переместил красные кирпичи с такого же должника-завода в Мексике и выстроил стены.
– В одну ночь?
– В один час! – гордо выпрямился Дьякон. – Купола, голубые с золотистыми звездами взял со строительства мусульманской мечети в одной восточной стране, только полумесяцы снял и заменил на кресты.
– Мечеть тоже обанкротилась? – не без ехидства вмешался Карлсон.
– Там у них война началась, и строительство мечети они бросили, – быстро оправдался Дьякон. – Купола подошли тютелька в тютельку. Крышу покрыл новым железом, его я переместил из Египта.
– Тоже банкроты? – наконец, прорезался, Роберт.
Дьякон кивнул:
– Печку глиняную переместил, – и, предупреждая высказывания друзей о возможном банкротстве печного предприятия, ну скажем, где-нибудь, в Сибири, погрозил пальцем, – печку взял хорошую, но в брошенном клубе, неподалеку отсюда, в развалившемся селе.
Печка топила исправно. Дым поднимался из трубы над новенькой крышей. Хороший деревянный пол исправно хранил тепло. Пол я переместил с того же клуба, впрочем, как и толстые двери с утеплителем, скамейки и столы…
– Ну, а деревенские как среагировали?
– Привезли целый полк священников, – уныло доложил Дьякон, – они все освятили, поднатащили свечей да ладана, навесили икон, поставили одного молоденького батюшку и принялись служить Богу.
– Чего же ты добился? – осведомился Карлсон, заглядывая в изумлении в глаза своему другу.
– Как чего? – возмутился Дьякон. – Я людям помог. Людям легче жить стало!
И все пятеро воззрились на деревню, пытаясь понять изменения, что принес в жизнь деревенских совестливый Дьякон.
Посреди деревни стоял пруд. В пруду плавали домашние жирные утки и надменные гуси. С берега на них, не без зависти, поглядывали, поджимая лапы, стаи петухов да куриц. Тут же, в большой луже, натекшей из пруда, с наслаждением валялись толстые свиньи и копошились поросята. И неподалеку, за большим деревянным столом, уставленным бутылками пива и водки, сидели те самые, деревенские, резались в карты и домино, гомонили и глядели уже куда как равнодушно на новенькую церковь, новенькую дорогу и новенькое кладбище, говоря только, что вот теперь, чисто будет лежать в гробу-то, вишь песочек какой беленькой…
12
Это была высокая здоровенная баба с широким некрасивым лицом, курносая и толстогубая. Она умела громко ругаться и ругалась всегда: дома, на улице, на работе, с соседями. Ее все не любили, не было на свете человека, который бы любил ее да она и сама в таком человеке, ну никак не нуждалась…
Работала она на железной дороге, мела пути, подавала сигнал горящим тусклым светом фонарем «Летучая мышь» проходящим поездам и сидела одинокой сычихой в будке, глядя сердито в окно и обругивая проезжающие через пути редкие автомобили.
Впрочем, ее любимым делом было опустить шлагбаум и мести пути перед самым носом нервничающих автолюбителей. Иногда, будучи особенно злой, она безо всякой видимой причины, опускала шлагбаум и автомобилисты застревали в большущей пробке, ожидая мифический поезд, а она сидела себе в будке и зло посмеивалась, глядя на озадаченные и рассерженные лица несчастных водил.
Правда, иной раз она удивляла и бывалых мужиков. Раз, на пути заглохла фура, перепугавшийся водитель выскочил из кабины, хватаясь за голову, голося истерично. Поезд еще даже не был виден, а мужик уже решил, что все, наступил конец света для него и для его фуры.
Она, меж тем, подошла к грузовику, вцепилась ручищами в морду печально ослепшей машины и завозилась, упираясь в рельсы ножищами. В одиночку, не спеша, вытолкала камазину назад, прочь с путей, вот зверюга-то, медведица, да и только!..
Карлсон потряс головой, отгоняя от себя сон со здоровенной бабой. Встал с постели, прошелся несколько раз по квартире, посмотрел в окно на двор, усыпанный осенней листвой, широко зевнул и забрался обратно в кровать, спать.
«Быть бы птичкой!» – думал он при этом, – «Да и проспать всю осень, пропустив слякоть и морозную зиму, а к весне проснуться, распустить крылышки и полететь, полететь, чирикая и восторгаясь…»
И снова ему приснилась здоровенная баба.
Любила она помудрить. Иной раз одевалась под рыбака и ходила рыбу удить. И никто из рыбаков, как правило, уже дежуривших у реки, не мог бы с точностью утверждать, что она не мужик.
С возрастом у нее и усы стали расти. Она их не брила, а ходила так, наводя всех на мысль, что она, действительно, мужик.
Карлсон проснулся, отчаянно пытаясь загородиться от этого сновидения, а может и не сновидения вовсе?..
Усталость взяла свое, все-таки редко приходилось высыпаться. Тут же он увидел старую-престарую женщину. Она и дома ходила в платке, а когда снимала, чтобы платок перевязать, обнаруживалось, что старая модница стесняется своих пожелтевших волос. На улицу она надевала парик, который плохо держался на ее маленькой головешке и иной раз съезжал на бок, наподобие великоватой меховой шапки. Бледное лицо свое она красила, мазала восковые щеки красной помадой и после, терла ладонями, пока не убеждалась, глядя на себя в зеркало, что щеки ее порозовели. Также накрашивала губы, а порою воровала у дочери накладные ресницы, приклеивала их к своим облысевшим векам и подрисовывала густо черным карандашом ниточки бровей.
В эти минуты вид высохшей, белой, как бы обескровленной старостью, модницы был особенно страшен.
Люди ее сторонились, ей уступали место в очереди и она, купив хлеба, шла, пошатываясь от слабости, обратно, домой, пугая встречных алкашей, имевших обыкновение выпивать в соседнем с магазином, скверике.
Многие пьяницы завидев ее трезвели со страху, а протрезвев, ругались на чем свет стоит, потрясая в отчаянии кулаками, что только понапрасну потратились на бутылку и тащились обратно в магазин, чтобы продолжить прерванное старой модницей, дело, немаловажное, кстати, для любого алкоголика – дело забытья и розового мечтания, в которое погружается с выпитыми граммами, с головою, каждый выпивоха, независимо от возраста и воспитания.
Карлсон проснулся, уставился недоверчиво в потолок. Неужели?!
Бывают такие моменты в жизни, когда память услужливо вытаскивает на свет божий воспоминания давно прожитых лет. Когда босоногое детство встает перед глазами яркими картинками и полузабытые лица родных вспоминаются, отчего-то, особенно четко. В обыкновении, это происходит, когда ангел смерти подходит к кандидату на тот свет особенно близко, готовый выхватить из тела трепещущую душу…
Здоровенная баба приходилась бабушкой Карлсону и матерью его отца. А старая модница была прабабушкою по папиной линии.
Обе женщины не могли быть ведьмами, сила в его роду передавалась только по мужской линии, но с какой такой стати они ему приснились? Смерть замаячила невдалеке. Ну и что с того? Карлсон, недоумевая, пожал плечами, к смерти он привык и, считая ее неотъемлемой частью этой, да и той жизни, махнул в пренебрежении, рукой…
Сон больше не шел, и он отправился на кухню. Как и многие русичи, Карлсон обожал почаевничать, через года передалось ему это наследие предков – страсть к самоварам и духовитому, порою перемешанному с травами, чаю.
Самоваров у него было несколько. Некоторые, для красоты, стояли в буфете за прозрачным стеклом, сквозь которое свободно лился солнечный свет. Иной, сверкал никелированными боками на обеденном столе, вполне готовый пыхтеть да кипятиться. И глядя на самовар, конечно, электрический, Карлсон вспомнил своего прадеда, мужа старой модницы, бывалого любителя почаевничать.
Прадед был высок, широк в плечах. Седые волосы крупными кольцами завивались у него над головой. Глаза были с хитрым прищуром.
Кроме чая, он страстно любил охоту. И однажды, глубокою зимой наткнулся в лесу на медведя-шатуна.
Прадед грозно поглядел на медведя, померился взглядом с голодным зверем и победил его, принудив отвести глаза. Шатун бросился бежать прочь и прадед пугнул его из ружья, которое, кстати, было заряжено обыкновенными пулями, предназначенными для убийства зайцев.
Тут же Карлсону и дед вспомнился. В первую мировую войну он, как раз, угодил в войска царской армии.
Карлсон так и увидел, как дед, будучи еще молоденьким, не опытным колдуном, воображал себя свирепым солдафоном. Наконец, нашел искомое, вошел в образ, громко рявкнул и, потрясая оружием, ринулся в атаку в уверенности скорой победы над врагом.
И тут же из собственного детства выплыло неторопливо воспоминание о первых годах обучения в сельской школе, где Карлсон учился первые два класса. И та самая здоровенная баба-бабушка, звонила в медный колокольчик, призывая детей на уроки. Она работала, после выхода на пенсию, техничкой, недолго работала, он успел только во второй класс перевестись, как она умерла…
Между тем, в памяти у него возник давно позабытый момент из школьной жизни, когда школяры старательно, по одному, сбивали с валенок снег и потом, передавая другому большой лохматый веник, стаскивали свою немудреную обувку тут же, в сенях, перескакивая на сухие коврики, шагали в одних носках по чистому теплому полу до своих классов, где в небольших кладовочках были организованы раздевалки для них.
Карлсон задумчиво поглядел в окно, не в состоянии понять, для чего его подсознание так настойчиво вытаскивает на свет божий все эти картинки прошлого?
Ни к селу, ни к городу вспомнился тут ему один бродяжка, замеченный им как-то холодным зимним днем на улице.
Бродяжка тяжело опирался на костыль и, протягивая трясущуюся от холода руку к прохожим жалобно сипел стародавнее, нищенское: «Подайте на пропитание!» А когда ему подавали, кланялся в пояс и с чувством шептал: «Бога буду за вас молить!» И видно было, что действительно будет…
«Бродяжка», – прошептал Карлсон, начиная догадываться…
Родители Карлсона жили друг для друга и никогда не скрывали своих заработков. Он не таился от нее, она не таилась от него. Правда и зарабатывали они прилично. Не надо было высчитывать после всех коммунальных платежей денег на еду и одежду. К тому же, ели они простую пищу и одевались в обыкновенных магазинах, довольствуясь простой и подчас нелепой одеждой.
Деньги лежали в большой шкатулке, туда складировали и мелочь. И она, взяв какую-то сумму денег говорила ему, невзначай, что, вот, мол, взяла. Он брал, говорил, что надо бы прикупить шампуней да кремов для бритья. Оба были согласны друг с другом и нисколько не подстраивались друг под друга, как это бывает в большинстве семей.
Они, будто мыслили одинаково, чувствовали одинаково и желали одинаково, без труда считывая мысли и желания друг друга. И, если один хотел яичницы, другая ему готовила, кивая, что вот, он же хотел, хотя и не высказывался вслух. И это не вызывало изумления, так было привычно…
И, если она, втайне, не говоря о своем намерении желала шоколад, он бежал в магазин и покупал любимый ею «Люкс». И это тоже не вызывало изумления. Они привыкли делиться своим мнением одними только взглядами.
Карлсон тяжело вздохнул, прошелся по кухне и, позабыв о вскипевшем самоваре, задумался, вспоминая…
Квартира его детства была небольшой, но очень светлой. Солнце светило в окна с утра до вечера и широко распахнутые занавески только усиливали ощущение некоего счастья поселившегося в этой квартире. Прямо против входной двери висело большое, во весь рост, овальное зеркало в резной деревянной раме. Всяк входящий видел, прежде всего себя и свою реакцию на такую встречу.
Отец его входя, всегда кивал своему отражению и улыбался, громко говоря: «Привет!» А уходя, поводил вокруг рукой и приказывал отражению: «Охраняй!»
С правой стороны от входа стоял некий шкаф с вешалками, с дверью купе, за которой одна над другой расположились полки с бельем, с нижним отделением под обувь. С левой стороны от входа виднелось небольшое кухонное пространство с маленьким столиком, маленькими шкафчиками, маленьким холодильником, маленькой двухконфорочной газовой плитой. Все это сияло чистотой и какой-то бесприютностью. Вот также бесприютно в стерильных операционных, где народ собирается на некое действо, всего часа на два, не более и потом разбегается, кто куда… Дальше, по левую руку от входа сияла солнечным светом небольшая комнатка Карлсона, личная комната.
Около окна стоял массивный письменный стол, уставленный всевозможными конструкторскими находками, тут возвышался над всеми прочими очень похожий на настоящий, собранный из железных деталей, детского конструктора строительный кран, там расположились изящные модели яхт и старинных парусников.
Возле стены, заваленная покрывалами и подушками, разложенная для сна, на манер двухспальной кровати, разлапилась широкая мягкая софа. Напротив нее, по сути, в углу комнаты, стоял небольшой книжный шкафчик забитый книгами так, что иные падали с полок на пол и тут валялись, иногда неделями, зарастая серой пылью, а Карлсон, хозяин комнаты, просто перешагивал через них. Родители вечно призывали его к порядку, но он, игнорируя их призывы, молча протестовал. Зачем и почему? Он не смог бы ответить и сейчас, подлая его натура так хотела, так желала и более ничего…
Была в этой квартире еще одна комната, гостиная. В ней обитали родители. Комната не очень большая, но с широким застекленным балконом. На балконе почти всегда ночевал отец, без труда размещаясь на скрипучей раскладушке. С балкона его прогоняли разве что сильные морозы.
В гостиной самым замечательным был комод. Маленьким, Карлсон любил забраться в удобный вместительный нижний ящик и вздремнуть посреди стопок хлопковых полотенец и праздничных скатертей.
Из детства позвал его мамин грустный голос: «Никитушка-сынок!»
Карлсон вздрогнул. На глаза ему навернулись слезы. Часто, не задумываясь, мама звала своих домашних уменьшительно-ласкательными именами, а когда не хватало слов, чтобы выразить свою любовь, говорила: «Радость моя!» И смотрела нежно, печально, но так отдаленно, как смотрят иной раз люди приговоренные Ангелами к смерти. Всю силу своей любви вкладывала она во взор туманящихся глаз. Этим она напоминала всем домашним прабабушку, старую модницу.
Маму он не нашел в Поднебесной, хотя и ринулся искать практически сразу после ее смерти. Ее не оказалось ни в Садах Смерти, ни в Толпе, ни в Покое, ни в Покое и Свете. Он заглянул даже в Геенну, побывал в Пустоте и Забвении.
А потом наткнулся на Сатану, который, конечно же заметил молодого колдуна и поняв его горе, без слов, указал в сторону горнего мира Пресвятой Богородицы.
Большего отчаяния никогда более в своей жизни Никита не испытывал. Поделать ничего было нельзя и он умирая от ни с чем не сравнимого несчастья, мысленно, навсегда похоронил свою мать, так как ни за что, ни за какие коврижки, ангелы Адонаи не дали бы увидеться ему, слуге Сатаны с матерью, взятой самой Богородицей в горние выси ее хрустального мира, война есть война…
Глаза у него до краев наполнились слезами, но он не позволил пролиться ни одной слезинке.
Отец? Очень быстро ушел вслед за матерью. Уже через три месяца после ее смерти он лежал в гробу, маленький, исхудавший и посеревший. Не смог жить без нее на этом свете. А после смерти обрел покой в Забвении…
Карлсон уперся пылающим лбом в холодное стекло окна, вспоминая…
В интернате он влюбился. И скосив глаза в ее сторону, глядел на лицо девушки, видел гладкую щеку, курносый нос и мягкий подбородок. Пушистые темные ресницы прикрывали мечтательные серые глаза. Она была простодушной, задумчивой и немногословной. Любила читать любовные романы и требовала от него рыцарских поступков.
Бывало, она плотно придвигалась к нему, склоняла кудрявую голову на его плечо и, прикрыв глаза, тихонечко, нерешительно тянула слащавые песенки любовного содержания…
Выражение глаз Карлсона переменилось. Появилось нечто ехидное и насмешливое.
После, через десять лет после расставания, а расстались они по-хорошему, она влюбилась в нового парня…
Она была замужем за грязным выпивохой, вся в зеленой тоске и пьянстве, обрюзгшая и оплывшая, смотрела на него рабским взглядом привычной к нищете и скандалам, женщины. И глядя на нее, Карлсон понял, что в нем не осталось никакой любви к миру, последняя ниточка надежды оборвалась и канула в бездонную пустоту его жизни, пропала в трясине его никчемного существования… Он перестал видеть в жизни позитив, друзьям же и недругам стал говорить, что он всего-навсего реалист…
13 (глава последняя)
Все люди – ангелы. Ангелы не способные выбрать с кем они: с Богом или Дьяволом. Какое несчастье быть столь нерешительными. Трагедия для всего человечества и отдельно, для каждого из нас.
За не способность выбрать, у людей отобрали крылья, и теперь нам осталось разве что мечтать или видеть сны о полетах. А после смерти надеяться вернуть прежнюю Силу, а стало быть, понимание происходящего.
Все люди – ангелы. Можно бродить по Земле делая вид, что ты – всего лишь человек и упиваться версиями о происхождении людей, убеждая самого себя в том, что это так и есть. Но сколько бы времени мы ни бродили в забвении, сколько бы ни считали самих себя человеками, смысл остается прежним – Выбор. Выбор – с кем ты?!
АвторПервое, что бросилось в глаза Роберту при взгляде на Люцифа – это его высокая стройная фигура. Красивый белый пиджак со сверкающими радужными пуговицами расшитый по спине золотой тесьмой с изображением летящего дракона не был застегнут. Под ним виднелась белоснежная рубашка со строгим, под горло, воротничком, совсем таким как у католического священника.
Впрочем, общий вид чрезвычайно упрощали белые просторные брюки и сандалии с золотистыми ремешками украшенные бутонами белых роз.
Люциф играл на своем любимом инструменте. Музыка из-под его пальцев лилась мягкими волнами обволакивая душу Роберта. Под эту мелодию Роберту непреодолимо захотелось разрыдаться, а может даже умереть, так прекрасны, неповторимы, невозможны были звуки скрипки, извлекаемые Князем мира сего.
Роберт попятился и изо всех сил собирая волю в кулак, сжал зубы, чтобы только не сойти с ума. По щекам его ручьем текли слезы.
Интересно, умирал ли кто из поклонников великих музыкантов на месте, не в состоянии совместить невероятно-красивую музыку с серым гнусным мирком Земли? Наверное, да. Недаром среди фанатов великих артистов так много сумасшедших, только безумие способно помочь справиться с бедой быть поклонником Бога в музыке.
Между тем, Люциф ничего не замечая, увлеченно играл, прикрыв глаза, мечтательно вслушиваясь в мелодию собственного сочинения.
Тонкие черты лица его были нежны, чистая кожа прозрачна и бледна. На умный высокий лоб падали пряди волнистых волос, белые, словно снег. Тонкие губы улыбались грустно и светло.
Вся его фигура дышала самодостаточностью и такой спокойной силой таланта, каковую редко, когда встретишь в человеческом обществе. Отблесками чего-то подобного изредка дышат иные старики, но искры их гения гаснут, гаснут и с приходом смерти исчезают совсем.
Оплакивая судьбу несчастного человечества, Роберт вывалился из покоев Владыки мира.
Задумчивые голубые глаза, умный, оценивающий взгляд, бледная кожа, правильные черты лица, белые волосы и стройная атлетическая фигура Люцифа… Бездонные знания и невероятная гениальность сочетались в нем со скромностью, а приятные манеры и великолепные знания человеческой сути привлекали к нему жаждущих покоя и защиты сатанистов так, что оставалось удивляться, как Князь мира сего выдерживал все эти ежеминутные вопли усталых от земного мира колдунов просящих и просящих у Него великого блага – пути Домой!
Солнце играло на волнах большой реки, красные от загара ребятишки прыгали на песчасной косе, криками восторга встречая проплывающие мимо белоснежные теплоходы.
От берега песчаная коса тянулась едва ли не к середине Волги.
Дьякон разделся и полез купаться. Карлсон уже давно был в воде. Юркий, словно рыбка, он нырял и плескался, с наслаждением фыркал.
Дьякон лягушкой шлепнулся в воду и неуверенно поплыл. Карлсон его сопровождал.
На берегу, Дьякон отряхнулся, брызги от его обширной шевелюры полетели во все стороны, вызвав негодование со стороны уже одетого Карлсона.
Но только они сошли с песчаной косы на усыпанный камнями берег, как ребятишки с гоготом, подпрыгивая, окунулись в воду. Они плавали на том же месте, где только что были друзья.
Карлсон смотрел равнодушно, но Дьякон вздохнул за него:
– Эх, тебе бы с ними побезобразничать!
Карлсон недоверчиво чихнул.
На утоптанном дворике перед банькой, под заросшими яблонями, Карлсон вскипятил самовар. В саду набрал мяты, оборвал листья у кустов черной смородины, набрал ягод малины и вместе с порцией крепкого черного чая бросил в заварочный чайник, а чайник поставил наверх самовара завариваться.
Толк в чае Карлсон знал хорошо. С детства привык пить чай с травами и другой заварки просто не признавал. Бабушка его, дожившая до девяносто лет, ветерком носилась по дому, по саду, все кругом прибирая, расставляя по полочкам. Она мечтала вслух о роскошном наследстве для единственного внука, не без основания считая, что секрет ее долголетия, здоровья и силы заключается именно в чае с травами.
– Ты только представь себе, сто лет в это мире прожить? – предположил Карлсон.
Не дай Бог! – суеверно сплюнул через правое плечо Дьякон.
Скрипнула калитка и перед друзьями предстал сосед, Валька Кривая Нога. Возле Вальки ошивался жуликоватого вида пес неопределенной породы по прозвищу Жулька.
– Подайте, Христа ради! – протянул дрожащую с перепоя руку, Валька.
– Садись, почаевничаем! – щедро разрешил Карслон.
А когда Валька, перекрестясь, уселся за стол, прислонив к скамейке кривую палку, заменявшую ему трость и при случае легко превращавшуюся в дубину, Карлсон лукаво улыбаясь, задал ему вопрос:
– Любит тебя Бог?
– Небось любит, – ответил Валька, с охотой налегая на тарелку гречневой каши, что подал ему жалостливый Дьякон.
Пес под столом тоже быстро чавкал, поглощая гречку с невероятной быстротой.
– А, впрочем, не знаю, – задумался Валька, – да и есть ли он Бог-то? Я – человек маленький, мне такие страсти ни к чему.
– Это, какие такие страсти?
– А распяли-то его, – напомнил Валька, – предали да убили. Медленно, на солнце! Господи Иисусе! Спаси Христос от мучительной смерти!
И засмеялся:
– Неужто Бог пойдет на позорную смерть? Бог, он что? Он должен на троне сидеть, весь в золоте, выслушивать стоны народа, ну помогать тому-другому, а прочих гнать.
А тут, на-ко, за народ на крест полез, где же это видано? Из нас даже демократелы кровь пьют, из простого люда последние копейки выколачивают, состояния себе сколачивают, на костях народных пируют. А тут, спаси Христос, как же это?
– Стало быть, не веришь?
– Не верю, – твердо произнес Валька. – Христос не Богом был, а аферистом и вся недолга. Аферисты, они мастера всякие чудеса вытворять.
– Ну, договорился, – рассмеялся Карслон.
– А что же, все возможно в нашем мире, – неуверенно предположил Валька Кривая Нога.
– Мне даже иногда кажется, – понизив голос до шепота заоглядывался Валька, – что это не мир вовсе, а ад. И такое впечатление, будто черти ставят ставки на нас, играют нами, людьми, как в карты, а когда проигрывают, бесятся, являются человеку с угрозами и обвинениями, что вышло не по ихнему и бедолага сходит с ума.
– Или в Геенну сталкивают, – поддакнул Дьякон.
– Во-во, – обрадовался Валька взаимопониманию, – а кто в выигрыше окажется – помогают, богачами тех людей делают.
– Являлись тебе черти? – строго спросил Вальку Карлсон.
Валька сокрушенно вздохнул, кивнул, состроив плаксивую гримасу:
– И что же, ты думаешь, от людей ничего не зависит? И нельзя не дать поставить себя на карту? – допытывался дотошный Карлсон.
– Можно, наверное, – согласился Валька, – но не у всех получается. Надо быть сильным, очень сильным, а это трудно!
Скрипнула калитка и перед обществом предстала еще одна жертва «зеленого змия». Женщина неопределенного возраста, худая, но с таким длиннющим носом, что тот еще Буратино. Одетая вычурно, она еще вдобавок ко всему покачивалась на высоких каблуках.
– Валька, – заныла она, – Валька, ну куда ты девался?
– Отстань, Валентина, – отмахнулся от нее Валька.
Без приглашения Валентина залезла за стол, уселась рядом с Валькой и безо всяких церемоний потянулась к вазочкам и тарелочкам, наполненным конфетами, печеньем, булками.
Дьякон налил ей чаю. Карлсон и тут не упустил своего:
– Ну, а ты Валентина, что такое будешь?
Ни на секунду не задумавшись, женщина быстро ответила:
– Я существо берложное! Люблю грешным делом одиночество и унываю, если с кем приходиться обедом делиться. В связи с этим ненавижу и налоги платить, да и было бы кому платить! Благо бы государству, а то ворам!
Мне надобна уверенность, когда я закрываю дверь своей берложки на замок. Пускай никто ко мне не лезет и никакая тварь в двери ко мне не стучится!
С гордостью закончила она.
– Ну, сказанула! – удивился Валька.
– Что же вы не поженитесь? – продолжал допытываться неугомонный Карлсон.
– Не-а, – одновременно, не сговариваясь, протянули оба Вальки.
– Я уже была замужем, – пояснила Валентина, – стирками, уборками наелась досыта. А уж как муж напьется да пойдет кулачищами помахивать да меня бедную постукивать, куда вся привязанность и денется. Выбил из меня любовь да пылью по ветру пустил, не верю я более никому!
– А я тоже женатый был, – угрюмо заявил Валька, – жена меня бросила, другого нашла, не пьющего.
В глазах его блеснули слезы.
– Да, – тут же вмешалась Валентина, – знавала я тебя женатиком, ты сумасшедшим слыл!
– Почему это, сумасшедшим? – опешил Валька.
Жена твоя пуговицу потеряет, а ты найдешь и съешь! Платок, так ты платок исцелуешь его, обслюнявишь весь! Ну, разве это поступки нормального человека?
Валька насупился:
– Правда твоя, но было это когда я разведенкой стал, тосковал очень.
– Любил? – выразил свое сочувствие Дьякон.
Валька кивнул и уронил слезу.
* * *
Вечером заявился Роберт. Не один. Его сопровождали двое наследников: Марк и Кристина…
Теплая ночь сияла над ними. Загадочный свет необжитого космического пространства струился по всему небосводу. Подмигивали звезды. Низко пронесся самолет, красные огни на его брюхе четко обозначали, что это именно самолет, а не что-либо иное. Другое, в обыкновении выныривало из Волги. Бывало, у самой кромки берега без всплеска поднимался в воздух черный силуэт круглой «тарелки», перекувыркивался пару раз и с умопомрачительной скоростью возносился в небеса, к звездам.
– И чего они все летают? – выдал свою мысль Марк.
– За рыбой прилетают! – уверенно кивнул Карлсон.
– Ну, да? – недоверчиво ахнул Марк. – Что же у них своей рыбы нет?
– А это и есть их собственная рыба. Они тут хозяева, а мы всего лишь гости, Земля – не наша планета.
– И вы уходите на нашу, истинную Землю? – тихонько спросила Кристина.
– Мы уходим Домой, – жестко вмешался Роберт, – в войска Сатаны.
– Мы устали, – пояснил Дьякон.
– Нам тяжело! – кивнул Карлсон.
Гукнул теплоход, светясь всеми иллюминаторами, величаво проплыл мимо. Они проводили его задумчивыми взглядами. Все пятеро сидели на высоком обрывистом берегу Волги. Шумные волны плескались у них под ногами, обдавали брызгами, пахнущей пресной рыбой, воды.
– А мы? – хором воскликнули Марк с Кристиной.
– А вы останетесь тут, – решил Роберт, – у вас пока еще есть силы терпеть этот мир, терпеть людей.
– Не лезьте особо никуда! – посоветовал Дьякон.
– В дела ангелов не вмешивайтесь! – строго приказал Карлсон. – Люди сами по себе, ангелы сами по себе.
– Ну, в общем, в Центре вас обучат, – кивнул Дьякон.
– Завтра и приступите! – согласился Роберт.
Они помолчали, разглядывая ночной мир, расстилавшийся перед ними.
– И не жалко вам со всем этим распрощаться? – спросил Марк, с надеждой заглядывая в глаза старших товарищей.
– Не жалко, – тут же ответил Роберт, – мы чужие здесь.
– Мы стоим на месте, – поддакнул Дьякон.
– И завидуем белой завистью тем, кто живет земной жизнью, – вставил Карслон, – носится, зарабатывает, переживает о крыше над головой. Какое счастье иметь целью просто хороший урожай со своего огорода!
– Или положительную репутацию! – поддакнул Дьякон.
– Или детей, внуков побольше!
– Разве это плохо? – удивилась Кристина.
– Мы не говорим, что плохо, – вмешался Роберт, – мы говорим, что нас это не волнует, нам было бы слишком мало, просто упереться в житейские проблемы.
– Поэтому, мы уходим Домой! – кивнул Дьякон.
– И вы не вернетесь? – Марк вглядывался в лица старших товарищей.
– Никогда! – уверенно произнес Роберт. – К прошлому возврата нет!
– К тому же, мы перейдем к другому состоянию, – согласился Дьякон.
– Мы перестанем быть людьми, – тихо добавил Карлсон.
– Вы станете ангелами? – у Кристины заблестели слезы в глазах.
– Мы и есть ангелы, – подхватил Роберт. – только без крыльев. Мы – все!
– И мы?
– И вы! Крылья нам вернут, и мы войдем в войска Сатаны, потому как, куда же еще?!
Скоро они простились. Старшие ушли вместе с телами в портал, в Поднебесную, Домой, а младшие, вздохнув и более не обсуждая поступок трех друзей, левитировали.
Поднявшись высоко в небо, они с удовольствием принялись кружиться под облаками, оставляя для обычных земных людей мысль, что со смертью примириться нельзя, тем более, с мечтой о сияющем рае…
Записки о Терпелове
«Глядишь, кажется, нельзя и жить на белом свете, а выпьешь, можно жить!»
«Обломов». И. А. ГончаровБезо всякого сомнения, героем городских легенд стал Валерка Терпелов, проживающий по адресу город Ярославль улица Курчатова дом 14 комната 25.
Человек с сомнительными умственными способностями, достойный кандидат в психиатрическую лечебницу, тем не менее, ни разу не пролеченный, хвастливый и самонадеянный, он свел с ума добрую половину интеллигенции всего города и я думаю, весьма поучительно будет некоторым людям почитать о том, что он натворил за свои пятьдесят с лишком лет…
АвторПроснувшись, Валерка с утра долго смотрит в одну точку и сидит, вспоминая, как его зовут, а вспомнив, трясет головой, отгоняя навязчивый дурман слабоумия, и кидается кипятить чайник, как спасение, воспринимая кружку горячего чая.
* * *
У Валерки полно фотографий и новым людям он их показывает без конца. Лицо у него при этом светится от счастья. Он рассказывает о своей дочери Маше. Говорит о ней и только о ней, Машенька то, Машенька се. Новый человек вынужден вежливо его выслушивать. А Валерка без остановки все рассказывает, как он каждую неделю ездил к Машеньке, пока она росла, в Кирово-Чепецк из Ярославля. И новый человек уже не без недоумения выслушивает, что оказывается у Машеньки есть отец, мало того, друг Валерки, ну вот так получилось, ну переспал с ее мамой, и родилась эта самая Машка. Рассказом своим он доводит нового человека до головной боли и тот, едва держась на ногах, уходит восвояси. А потом на следующий день говорит знакомым о Терпелове и о его дочери и тут же слышит в ответ насмешливый смех. Оказывается, у Валерки есть дочь и даже не одна, а две дочери-близняшки, Александра и Любовь, но они брошены в Приозерске под Питером беспутным папашкой еще во младенческом возрасте. А Маша – всего лишь дочь его школьных друзей, свое родство с ней он просто выдумал, может Валерка страдает скрытой педофилией, может еще чем, никто не догадался пока. Но семье Соколовых в Кирово-Чепецке он досаждал здорово, пока эта самая Машка не выросла, он все таскался к ним домой, семнадцать лет. Так, чтобы оправдать его частые наезды перед людьми, Соколовы вынуждены были придумать, что он родной дядя Маше… Странные люди, правда? Другие бы просто выгнали Валерку с позором, а они привечали его да еще беспокоились об этом дураке, каждый день звонили ему на работу, все ли с ним в порядке, не чокнулся ли он окончательно? А то еще стали приезжать со своей Машкой в Ярославль и мотались по всему городу и по редакциям, в которых имел несчастье работать Валерка, несчастье для редакторов, а счастливый «папашка» говорил всем, сияя улыбкой, вот, мол, к нему семья приехала, и был уверен, что это действительно так. Одним словом, та еще клиника…
* * *
К Валерке заехал знакомый музыкант из Америки. Вообще он приехал вовсе не к нему, а к ярославским музыкантам, но Валерка, страдающий манией величия, убедил американца заглянуть и к нему в гости, в русскую общагу. И смеялся насмешливо, что, дескать, конечно, можно живя в прекрасной гостинице верить, мол, все хорошо у русских, а ты, возьми, да зайди в трущобу, ну-ка? И смотрел с вызовом, прищуром, но надеясь, все-таки, что Джон поведется и Джон повелся…
Джон не понимал игры слов и хитрый Валерка беспрестанно ловил его на этом… На вопрос Валерки, откуда он приехал, Джон улыбался и кивал:
«Из Нашингтона».
Валерка, довольный, смеялся на такое интересное название знаменитого города Вашингтона.
Джон покупал в магазине бородинский хлеб и съедал его весь, без остатка, засовывая в рот кусок за куском. Валерка удивленно качал головой на его голод и предлагал пироги да чаи, но Джон только качал головой и бежал за очередной буханкой бородинского, а потом пояснял:
«У нас, в Америке, хлеб не вкусный, резиновый!»
И никак не мог наесться, повсюду появлялся с бородинским и ел, с удовольствием, съедал, как какое-то великое лакомство.
Валерка просил Джона поставить чайник, имея в виду, конечно же самое простое, поставить чайник на электроплитку и включить вилку в розетку. Джон понимал по-своему, хитро улыбаясь, он замечал, указывая на чайник, стоявший мирно на столе:
«Стоит!»..
Опаздывая уже на работу, Валерка дергал Джона:
«Бежим скорее!»
Джон непримиримо качал головой:
«Зачем бежать? Ехать-ехать!»..
В редакции газеты «Голос профсоюзов» Валерка напоил Джона водкой. Где-то в Ярославле, в какой-то гостинице Джона ждала жена, но в какой именно гостинице никто из собутыльников Валерки почему-то вспомнить не смог. Валерка с парой-тройкой таких же оголтелых пьяниц принялись водить Джона по всему городу. Останавливаясь перед очередной гостиницей, они поднимали голову одуревшего от русской водки Джона и показывая ему гостиницу, кричали в уши, будто глухому:
«Джон! Вот эта гостиница?»
Американец смотрел, качался и отрицательно мотал головой. Наконец, Джон воспрянул духом и заявил:
«Вот!»
Валерка обрадовался. После недолгих препирательств с портье, он с пьяницами доставил Джона в номер, жена, кстати, русская, открыла двери и ахнула:
«Вы что! Он же ничего, крепче джин-тоника и не пил никогда!»
Валерка спутано извинился, и беспорядочно толкаясь с собутыльниками, выскочил прочь из гостиницы, оставив жену с пьяным Джоном. Угрызений совести он не почувствовал, а только слово – подумаешь… пронеслось в его мутной голове.
* * *
Валерка, как и многие пьющие люди, боялся сойти с ума, рехнуться, так сказать, окончательно. И в связи с этим с ним случались изредка оказии.
Вот и тут, в сопровождении двух друзей, Валерка продвигался домой. Напился, где-то на работе, шел, бормоча себе под нос практически девиз своей жизни:
«Пьяный – это, когда двое ведут, а третий ноги переставляет».
И тут, бабушка, соседка из соседнего дома вывела беленьких шпицев погулять. Она этих шпицев разводила, будто кроликов и продавала после через собачий клуб, потому как производитель, маленький умненький шпиц, у нее прослыл медалистом.
Десяток шпицев, одинаковых, пушистеньких, радостных скакали у нее на поводках. Улыбались, оглядываясь на свою хозяйку, и весело глядели вокруг.
Сколько раз, будучи трезвым, Валерка видел эту бабушку и ее собачек на прогулке, не счесть, а тут пьяным позабыл. Остановился, завращал глазами и во все горло закричал, указывая на шпицев:
«Вы это видите? Одинаковых собак видите?»
Один из его друзей решил приколоться и кивнул, что видит, да, только собака одна.
Валерка энергично затряс головой. Тряс, тряс, глаза то открывал, то закрывал, пока бабушка со шпицами не прошла мимо. Валерка еще долго в изумлении пялился ей и ее собакам вслед.
Испытание тут же продолжилось. Кто-то поставил на дороге две одинаковые бутылки из-под пива, просто пил и поставил, не нарочно, в принципе не задумываясь о пьяном Терпелове.
А он, увидав две одинаковые бутылки, вообще обалдел, сел на землю и принялся плакать, обливаясь обильными слезами, что ему пришел конец. И все вопрошал своих друзей, сколько бутылок они видят, одну или две? Друзья не отвечали, а только озадаченно глядя на Валерку покурили, отдохнули, подхватили Терпелова за шиворот и доволокли таки до общаги, до комнаты, бросили, как хлам, на койку с серым задубевшим от грязи бельем, где он в слезах и в полном отчаянии, наконец, затих, заснув, что ему снилось, друзья не знали, хотя и прикорнули тут же рядышком, на затасканных матрацах, брошенных ими на пол.
Но утром, проспавшись и придя в себя, Валерка рассказал им об удивительном сне. Ему снились одинаковые шпицы, количеством в миллион, заполонившие весь мир. Шпицы бегали посреди множества одинаковых пивных бутылок и радостно лаяли…
* * *
У Сашки, друга Валерки Терпелова была собака, овчарка. Он ее не дрессировал совершенно и собака чувствовала себя в связи с этим вольготно. Называл он ее Дикой собачкой. Собака была мужского рода и потому соответственно являлась кобелем, хотя Сашка ее упорно обзывал все-таки собакой.
Дик часто сопровождал Сашку на работу и с работы, валялся у него под письменным столом, в кабинете, лопал жареные пирожки, которыми питался его хозяин и с особенным удовольствием потреблял сваренные на плитке излюбленные всеми пьяницами дешевые пельмени.
И вот, однажды, Сашка, сильно пьяный, шел домой в сопровождении Дикой собачки и Валерки. Последний был, конечно же, пьян. Вообще надо было бы памятник поставить тому человеку в городе, который мог бы похвастаться, что видел Валерку трезвым.
Дикая собака регулярно подпрыгивала и повисала зубами на самой крепкой ветке, дергалась всем телом, отламывала для себя ветку и довольная, тащила ее впереди. Прохожие вынуждены были сторониться да и вообще вынуждены были поспешно перебегать на другую сторону. Дик был без поводка, разве что в ошейнике, а его пьяный хозяин не внушал уверенности, как хозяин овчарки, которого пес будет слушаться.
Между тем, Дик убежал с большой веткой с зелеными листьями немного вперед. Два пьянствующих друга выписывая ногами кренделя и постоянно останавливаясь, о чем-то громко разговаривали, смеялись и долго копошились на одном месте, успокоено постукивая друг друга по плечам, и упираясь друг в друга лбами.
И тут из переулка вынырнула толпа переростков, человек в двадцать. Кулаки у них чесались. Увидели Валерку с Сашкой, Дику не заметили, сразу кинулись плотной толпой. Угрюмые, злобные рожи их мелькнули перед растерявшимся Сашкой ярким напоминанием о смерти.
Но Валерка, которого уже не раз к тому времени обследовали психиатры, тут же перешел из благодушного настроения в абсолютную ярость. Мгновенно. Ведь как бывает, на нормального человека надо долго орать, чтобы он рассвирепел, а этот, Терпелов, заводился сразу. Вот только что с милой улыбкой с тобой беседовал и ничто не предвещало беды, а через секунду улыбка уже сменялась бешеным оскалом.
И не дожидаясь особо, когда толпа переростков добежит и кинется на него, Валерка бросился им навстречу. Сашка не успел и глазом моргнуть, как все переростки повисли на плечах и руках у Валерки. И яростный рык, которому мог бы позавидовать даже лев, вырвался из груди у него. Всех переростков он мгновение поколебавшись, кинул вперед себя, смял, кому-то успел дать по роже, ни один не устоял, все повалились, как снопы. А тут и Дикая собачка налетела, бросила где-то свою ветку. С Валеркой, на пару, они в несколько секунд расправились с молодыми бандитами.
Потом, Сашка даже не успевший принять участие в драке, долго рассказывал в красках о победе двух озверелых созданий, Валерки и Дикой собачки, которую он, кстати, с большим трудом едва успел оттащить от горла одного из поверженных врагов, громко икающего после перенесенного стресса, защищаться – не нападать. А озверелого Валерку оттащить не представлялось никакой возможности, он бил и рвал в клочья с особенным наслаждением, потому что любил бить и рвать…
* * *
У Валерки было много друзей, и среди прочих самым-самым милым его сердцу был писатель Василий Ломакин (имя и фамилия изменены).
Василий жил почти, что в центре, в старом бараке и у Валерки от его комнаты имелся ключ, впрочем, также ключ имел и Вася от валеркиной комнаты. Изредка они ругались, но за бутылкой всегда мирились. Общие интересы их невероятно сближали. Валерка называл своего друга не просто по имени, а уменьшительно ласкательно говорил ему Васенька. И было почему. Выглядел Васенька всегда чистеньким и ухоженным, хотя и являлся закоренелым холостяком. Редкие волосики на голове он сбривал начисто и гладкая голова его вызывала у многих, кто с ним общался, желание погладить его, что ли. Вася даже как-то привык, что его голова служит объектом всеобщего внимания. Был Васенька голубоглаз, розовощек и, по мнению женщин как-то уж слишком походил на пупсика. Так и хотелось схватить его, замотать в пеленки и таскать по комнате, а заодно и баюкать, кормить из бутылочки.
Васенька, ростом маленький и пухленький, вечно таскал портфель с бумагами, ходил повсюду в синем костюме, в чистых начищенных ботинках. Служил он в городском архиве. Знал очень многое, мог ответить на любой вопрос, постоянно что-то читал и Валерка вынужден был тянуться за ним. Благодаря эрудиции Васеньки и он мог ответить почти на любой вопрос, почти правильно.
Но тут от вечных пьянок с Валеркой, а Валерка по-моему для того только и родился, чтобы споить всю интеллигенцию города Ярославля, так вот, с Васенькой что-то случилось. Он вдруг вообразил, что в зубе у него инопланетяне соорудили передатчик. И не успел Валерка ничего сообразить, как всегда тихий и спокойный Васенька схватил плоскогубцы, вывернул передний зуб так, что кровь хлынула на стол с закусками, залила рюмки с водкой, алыми брызгами покрыла всю бутылку. А Васенька с криками отчаяния, грозя черному ночному небу пухлыми кулачками, вскочил, распахнул раму и выпрыгнул в темноту, только пятки сверкнули. Валерка мгновенно протрезвел. Васенька нырнул со второго этажа.
Валерка бросился из комнаты, перепрыгивая через ступени лестницы, выскочил из подъезда и понесся, как вихрь к месту падения несчастного своего друга. Но Васенька, опережая события и даже не почувствовав боли от падения уже выбежал на оживленную автомобилями дорогу. На асфальт, безо всякого сожаления упали его спортивные штаны, в которых он имел обыкновение рассекать дома, следом полетела футболка, там же остались семейные трусы в цветочек. И на обозрение толпе, довольно-таки многочисленной в силу хорошей теплой ночи и близости центра города предстала белая фигура пупса-переростка. Конечно, Валерка не успел увести его обратно в комнату, к бутылке, нет, Васенька жил поблизости от районного отделения милиции. Дежурные машины всегда то отъезжали от отдела, то подъезжали. Васеньку, как есть, голого схватили и посадили в клетку. Валерка только и успел, что подобрать с асфальта брошенную Васенькой одежду. Без промедления, пьяный не пьяный, но он явился выручать друга в милицию. Однако, непреклонный дежурный объявил, что уже вызвана карета скорой психиатрической помощи. Вскоре она и подъехала.
Валерку допустили до врачей, они весьма внимательно выслушали, где Ломакин работает, что пишет, кстати, пишет довольно-таки неинтересно. И тут, в кабинет, где происходила горячая встреча взволнованного Валерки с психиатрами, привели Васеньку. Одетый, не без помощи милиционеров, он тоже был очень даже взволнован. Уселся и стал отвечать на вопросы врачей, поводя беспокойным блестящим взглядом в сторону окна, закрытого темными занавесками. Не прошло и минуты, как Васенька не выдержал и поведал, все-таки он был писателем по вдохновению, а у нас в России, к общему сведению, писательство – это хобби, а не профессиональная работа, как во всех нормальных странах мира бывает. Так вот, он поведал, что за ним давно наблюдают инопланетяне и вставили ему что-то такое в зуб, какой-то передатчик. Врач не стал ему возражать, а как-то даже понимающе и искренно тоже заговорил об этой проблеме. Так они поговорили и врач, кивая головой, разрешил санитару незаметно подкрасться и сделать Васеньке укол. После, они немного подождали, пока Васенька осядет, а потом санитар взвалил на плечо его, в принципе, не очень тяжелое тело и унес в машину. Врач же сказал пораженному Валерке, когда и куда придти с документами Ломакина в «желтый» дом, то бишь в психушку.
Васенька лечился долго, а как вышел, так и отшатнулся от Валерки, потерялись общие связи, не стало той связующей нити, которая их действительно связывала, то есть бутылки, Ломакин бросил пить. Они стали много ругаться и разошлись навсегда в разные стороны. Но с тех пор Васенька потерял свою пупсовость, похудел, отпустил бороденку и стал тщательно избегать знакомых, а когда его останавливали на улице и здоровались, он уклонялся и говорил, что они ошиблись, мало ли похожих людей бывает и поспешно убегал куда-нибудь подальше. Может, ему стыдно было за себя, за свою историю с психбольницей, но скорее всего он понимал, что Валерка, невоздержанный на язык человек, никогда не промолчит, а наверняка, просто даже наверняка уже всем рассказал о его умопомешательстве. И зачем тогда терпеть насмешки, лучше уж так как-нибудь жить без старых знакомых…
* * *
Пьяный Валерка решил ехать к матери в Нижний Новгород. Но так как одному было скучно ехать, он стал уговаривать своего друга Сашку поехать вместе с ним. Сашка, дежурный по номеру и ответственный секретарь газеты «Северная магистраль», где они вместе работали, был пьян и сильно пьян. В пьяном бессилии, мало, что соображая и на все согласный, он пошел вместе с торжествующим Терпеловым на вокзал. Вместе с ним сел в поезд, поехал, под монотонное раскачивание вагона скоро уснул, уютно свернувшись калачиком на нижней полке, Валерка забрался на верхнюю.
Утром, Сашка проснулся, вскинулся, ударился головой о верхнюю полку, метнулся туда-сюда и затряс Валерку. Не скоро, но его товарищ по перу соизволил проснуться и удивленно засмеялся на панику Сашки. Оказывается, по его мнению, ничего страшного не произойдет, если Сашка сегодня утром не сдаст номер газеты в типографию. Сашка орал и метался, бегом, в одних носках сбегал к бригадиру поезда, попытался передать что-то через рацию, не получилось. На его счастье поезд прибывал на вокзал Нижнего довольно-таки рано и Сашка бегом, забыв надеть ботинки, кинулся в междугороднюю. Наконец, дозвонился до своего помощника, домой, разбудил его, рассказал, где находятся материалы на сдачу номера, велел ему сейчас же бежать в типографию и только тогда смог посмотреть в лицо Терпелову. Валерка безмятежно и чуть ли не насмешливо глядел в лицо своему другу, в руках у него были сашкины ботинки.
Слово за слово, они раскричались, один, беззаботный дурак пытался доказать, что ничего страшного не произошло. Другой считал, что Терпелов намеренно увез его, пьяного, из Ярославля в Нижний, чтобы уволили, черные мысли так и проносились в помутневшей от гнева, голове. Сашка немедленно купил билет на тот же поезд, следующий через два часа после прибытия в Нижний обратно, в Ярославль, а Валерка, раздраженный таким отношением к себе, поехал на автобусе к матери. По дороге ему было пришла умная мысль в голову, что он поступил нечестно по отношению к товарищу и зачем увозил куда-то ответственного за выпуск номера газеты? Но мысль эту он тут же отбросил, вспомнив все оскорбления, которые на него свалил несчастный Сашка, горько пожалевший, что пил в обществе Валерки и вообще, что пил…
* * *
Валерка поссорился со своей женой. Она, женщина решительная и волевая, никак не могла примириться с его пристрастием к пьянству. А главное, она не могла смириться с мыслью, что ей в мужья досталась такая дрянь! Одним словом, хлопнула дверью и ушла. А он остался один вполне довольный своим одиночеством, напрягает, знаете как-то, когда беспрестанно кто-то требует вести нормальный образ жизни, быть как настоящие мужики, мужем, мужчиной и отцом, это так тяжело для пьяницы!..
Валерка, тут же на радостях обнялся с бутылкой. Напился до бесчувствия и проснулся от пристального взгляда.
Ночь была темная, где-то далеко светил уличный фонарь, попадая в окно только узкой полоской света. Валерка валялся на кровати, прямо поверх одеяла и глядел в глаза своей жены. Она сидела на стуле возле полок с книгами. На полках стояли иконы, жена у Валерки была верующим человеком.
Стояла тишина, практически абсолютная или у Валерки уши заложило. Он почему-то испытал ужас, от которого сразу протрезвел. Жена сидела на стуле, не шевелясь, и с ненавистью глядела в валеркины глаза. Внезапно, он вспомнил, что запер за нею дверь на внутренний засов, как же она тогда смогла попасть в комнату?.. Валерка себе уже всю руку исщипал, подобной ненависти он никогда не видел в ее глазах. И одета она была как-то странно, во все белое… Он вспомнил молитву, которой его научила еще бабушка и стал шептать «Отче наш». Потом с трудом поднял руку, перекрестил жену, тут же и потерял сознание. Наутро очнулся. Стул стоял на том же месте, возле полок, а на полках иконы, видимо они не пустили это существо дальше. То, что это была не жена, Валерка убедился сразу, засов был добросовестно, им самим задвинут еще накануне вечером, все выглядело именно так, как он и помнил.
Жену он нашел на работе, она работала корреспондентом. Валерка путаясь и сбиваясь, рассказал ей о произошедшем. И поразился, что она совершенно не удивилась, единственное, что он услышал:
«Допился уже, так что суккуба привлек».
Правда, после этого случая Валерка не пил с месяц, бегал в церковь и даже сумел исповедаться и причаститься, но потом успокоился и запил снова. Привязался ли к нему суккуб или нет, неизвестно, но известно совершенно достоверно и тому многие свидетели, что к концу своей жизни Валерка стал менять рост и вытягивался за одну только ночь, иногда, до двух метров, хотя был ростом всего лишь метр семьдесят пять сантиметров. Он абсолютно преобразился, знакомые не узнавали его примечательную личность с длинной чуть не до колен седой патлатой бородищей. Правда, некоторые отмечали появившуюся у него неизвестно откуда способность читать мысли собеседников, он довольно часто угадывал, кто, о чем думает, и ему было это почему-то очень важно знать. А когда ему отказывали в возможности проникнуть в мысли, доставался в собеседники более-менее сильный человек, умеющий закрываться, он, весьма настойчиво заглядывая в глаза, спрашивал:
«О чем ты думаешь?»
И, если ему насмешливо отвечали, что ни о чем, он вскакивал и кричал исступленно:
«Человек не может ни о чем не думать!»
И убегал, не в состоянии удержаться в рамках нормального поведения. Можно было бы все списать на его больное сознание, но согласитесь, не каждый сумасшедший ведет себя подобным образом и не каждому доступны такие уникальные способности, как чтение мыслей и изменение собственного роста и много еще чего такого о чем в обывательском обществе не принято говорить, слишком страшно…
* * *
Кузя, добродушный и живой малый любил при разговоре похлопать собеседника по плечу, чем вызывал у одного из своих дружков бурное негодование. Гордый и заносчивый он никак не мог сносить такой фамильярности, а вскакивал, гневно сверкая глазами, и кричал:
«Мне не нравится твоя привычка похлопывать! Не смей меня хлопать никогда, ты понял?»
И угрожающе нависал над Кузей. Валерка, а речь идет, конечно же о нем, Кузю ни во что не ставил. Работал он обыкновенным слесарем, связей не имел, ничем пользоваться не умел, терпел побои от своей своенравной супружницы и скрывался подчас у друзей и знакомых от нее, дабы только выжить.
Добродушный Кузя соглашался с Валеркой и обещал больше не похлопывать его по плечу, да и вообще не похлопывать. Они, примиренные, выпивали, а потом опять Кузя, забывшись и увлекшись разговором, протягивал корявую свою лапу, натруженную на не легкой работе и похлопывал Валерку по плечу. Валерка, взбешенный, вскакивал, бросался прочь, исчезая из собственной комнаты иногда на целую ночь, где он бегал, автору неведомо, ну, а гость его, Кузя не обращая в принципе никакого внимания на странное поведение хозяина дома, укладывался спать, мирно засыпая где-нибудь под столом, на коврике…
* * *
Валерка совершенно не чувствовал боли. Может, он страдал истерической анальгезией, утратой болевых ощущений от заболевания тяжелой истерией, все может быть. Он был очень даже нервнобольным человеком с надломленной психикой или того хуже шизофреником с разными патологиями в мозговых сферах.
И потому абсолютно спокойно снимал кипящую кастрюлю с плиты, как говорится, голыми руками, не используя прихваток или полотенец.
Один раз в редакции «Голоса профсоюзов» перегорела электрическая лампочка в люстре под потолком. Валерка подставил стул, вывернул только что горевшую лампочку и протянул ее подоспевшей к нему на помощь сотруднице «Голоса профсоюзов» с тем, чтобы взять у нее новую лампочку. Она, видя, что Валерка спокойно держит перегоревшую лампочку, взяла ее и тут же отбросила, взвыла не своим голосом. На что Валерка искренно удивился, горячо? И, как? Горячо?! И оглядел собственные ладони, никакого ожога он не увидел…
* * *
Светка, веселая, разбитная бабешка, этакая неунываха пришла утром на работу, в «Голос профсоюзов». Распахнула двери кабинета, посмотрела пьяными глазами, икнула и уже хотела пройти внутрь кабинета, где работала в довольно-таки тесном пространстве вместе с Валеркой и еще одной наборщицей за компьютерами. Как Валерка вскочил со своего места и кинулся из-за компьютера куда-то мимо Светки, на улицу.
– Ты куда это в разгар рабочего дня? – остановила его Светка.
– Да вот мышка сдохла, – протянул ей коробку Валерка.
Светка панически боялась на свете только двух вещей: отсутствия денег на бутылку и мышей. Второго она боялась больше, потому что первое ей всегда, хотя с трудом удавалось преодолеть.
Светка завизжала, шарахнулась, обширным задом снесла «мазуху» со стола.
– Да ты чего, Светка? – удивился Валерка.
– Убери это от меня! – визжала Светка, дрожа от отвращения и не сводя округлившихся глаз с коробки, которую держал Валерка.
Подоспевшая помощь в виде редактора разрешила непростую ситуацию. Редактор раскрыл коробку, в коробке оказалась компьютерная мышка, ею и потрясли перед носом перепуганной Светки. Кстати, Светка благодаря такому обстоятельству жизни абсолютно протрезвела, что, явилось поводом задуматься тому же Валерке, а что, если он, сам не зная того, выработал своеобразный способ протрезвиловки страхом, а?
* * *
Сашка, друг Валерки, пьяный, приперся ночью к нему в общагу. Жена выгнала, идти больше было некуда. Двери оказались заперты, вахтерша видела десятые сны. Сашка потолкался, потолкался, встал под окнами и заорал во всю мощь своих легких:
«Валерка, б… такая! Открывай!»
И орал, пока не разбудил всю общагу. Люди высовывались из окон, возмущались, глядели на Сашку с нескрываемым омерзением. Рубашка у него была распахнута, потому что Сашка имел несчастье привыкнуть к куртке на кнопках и рубашки на пуговицах не воспринимал, а рвал их в надежде, что они непременно расстегнутся, всегда кто-нибудь или он сам, вечно пришивали ему пуговицы и вечно искали эти самые пуговицы, где угодно и когда угодно. Ботинки свои он имел привычку снимать и в гостях, и на работе, и где попало, терял их, ходил в продранных носках по городу, сверкая грязными пятками. Очки у него бывали разбиты, одного стекла не было вовсе, а второе покрылось замысловатыми узорами трещин. В нечесаных волосах запутался сор и почему-то перья, как будто он только что вылез из курятника…
Итак, Сашка орал:
«Валерка, б… такая!»
Потому что по большому счету Валерку совершенно не уважал, относился к нему более чем презрительно. Но желание добраться до горизонтального положения, непременно выспаться в постели или хоть на матрасе и необходимость опохмелиться, привели его к общаге Валерки, где все это имелось, конечно, он нисколько в этом не сомневался. Наконец, он добился своего, Валерка проснулся и был куда как рад видеть Сашку. Раскатистое: «О-о-о!!!» раздалось из его окна, перебудив остальных спящих в общежитии, людей. И радостное: «Саня!» добило тех, кто попытался в силу своей глупости проигнорировать выходки двух пьянчуг.
* * *
Сашка однажды поселился у Валерки в комнате. Был он человеком веселым и терпеть не мог зануд. Ну, а Валерка, между нами говоря, был именно занудой. Он мог свести с ума кого угодно и сводил-таки, старые друзья убегали от него без оглядки, а новые исчезали также быстро, как и старые, едва только поняв, что за человек этот Терпелов.
По вечерам, напившись пьяным, Валерка очень страдал. Он пил каждый день и любил себя пожалеть. В такие минуты он рассказывал случайным собутыльникам, что обе жены его бросили, врал про чужих детей, говоря, что это его дети и старался не вспоминать про родных. Одним словом, путался в собственных показаниях и, в конце концов, так запутывался, что замолкал, вытягивался на кровати, складывал руки на манер покойника и трагически поглядев с минуту в потолок, наконец, засыпал.
Сашка живя у него, с трудом переносил шизофренические занудства Терпелова. Не один раз он уже задумывался над трудным вопросом, куда бы переселиться от психа, но никак не мог решиться на что-нибудь и все жил, и все терпел этого Терпелова.
Наконец, в один день, когда Валерка уснул на койке, Сашка встал, воткнул Терпелову в сложенные руки свечку, зажег ее, взял потрепанный молитвослов, который валялся посреди книг безо всякого дела, нашел молитвы по отпевании и принялся громко гундосить. Спустя какое-то время Валерка открыл глаза, увидел горящую у себя в руках свечку, услышал отпевальные молитвы, которые бесстрастно произносил над «упокоившимся рабом божьим» Валерием, его друг Сашка и обомлел. Целую минуту он считал, что умер, на самом деле помер и только когда горячий воск капнул на руку, подскочил, бросив потухшую на лету свечу в Сашку, кинулся бежать прочь. Юмора он не понимал и вернувшись через несколько минут обратно в комнату, сухо потребовал у Сашки собрать вещи, покинуть его жилище, что последний и сделал безо всякого сожаления, считая, что лучше уж жить дома, с женой и детьми, чем с чокнутым занудой… О своем отпевании Валерка никому и ничего не рассказывал, боясь, как огня насмешек, ну, а Сашка, конечно же не удержался и поведал об этой истории своим сослуживцам, что, впрочем, не помешало их общению за бутылкой и даже подобию дружбы в дальнейшем…
* * *
У Валерки бывали в друзьях и такие, которые бросили пить… Да, да, вы не поверите, бросили!
И вот один такой добрый и жалостливый человек Николай Михайлович, старый, как жизнь, много перенесший, в том числе и инфаркт, старался всегда остаться на всякие сабантуи, дни рождения и прочее. В редакции тогда сдвигались столы, доставались откуда-то потертые скатерти, а то и просто настилали газеты, резали простенькие салатики, покупали в магазине водовки и банки соленых огурцов, колбасы и хлеба, садились и праздновали. Но Николай Михайлович не пил водку, а пил чай. Из компании кутил не уходил, а смеялся дробным смехом над поведением пьяниц и бывал пьян только от вида компаньонов, что-то шумливо гудящих на своем пьяном языке, размахивающих руками и вообще похожих на рассердившихся за что-то шмелей. Но приходя домой от компаний, он непременно просил свою супружницу проверить, а не пьян ли он? Делал Николай Михайлович это по одной простой причине, он жалел жену, в свое время она сильно переживала за него и голосила над ним пьяным, как над покойником. И потому, чтобы успокоить ее, он дышал на нее запахом чая и соленых огурцов, до которых был большой охотник.
Валерка, вдохновленный опытом жизни этого человека тоже бросал пить и не один раз, но тут же переставал спать. Трезвым он не спал вообще. Ему было от этого муторно и тошно, он понимал тогда, что сильно болен, что у него не в порядке мозги и отчаянно боялся попасть в дурдом. А прознав, что скорая психиатрическая к пьяным, нынче не ездит, сразу же перестал вести трезвый образ жизни, а довольно резво перешел опять к веселому и бесшабашному пьянству.
* * *
Изредка у Валерки просыпалась совесть и он, будто невзначай вспоминал, что бросил троих детей без содержания, оставил двух жен безо всякой помощи со своей стороны, а сколько он споил народа и отправил на тот свет, не счесть! И тогда он собирался в церковь. Валерка заходил в храм, который был поблизости от его общаги, Крестобогородский.
Один раз там его заметил знаменитый отец Николай Старк и немедленно выгнал его, нет, не из-за внешнего вида, а скорее из-за внутреннего. Увидел священник, что Валерка не кающийся грешник, а пришел он в храм так, на всякий случай, как он сам говорил: «Отметиться пред Богом»…
В Федоровской церкви, куда как-то тоже занесло Валерку, его ослепил крест, который держал в руках священник отец Игорь Мальцев и благословлял, по обычаю, весь приход церкви. Валерка только еще не завизжал и выбежал на улицу, тяжело отдуваясь, ему показалось, что все глаза у него выжгло…
В Свято-Дмитриевском монастыре в Ростове Великом строгий настоятель отец Евстафий Евдокимов не принял валеркину исповедь и отказал ему в благословении, он увидел в нем зверя…
Одним словом, все попытки как-то успокоить совесть с помощью батюшек и молитв заканчивались у Валерки полным фиаско. Он не мог выносить святости и по нему можно было судить, какой храм и какая у него сила. Так, из Сретенского храма Валерка убежал сломя голову, даже не смог переступить порога и войти внутрь. В церкви Михаила Архангела в том же Ярославле, где он венчался со своей женой, он едва не рухнул в обморок и только холодная вода привела его в чувство. К церкви Дмитрия Солунского на Мукомольном переулке он не смог и подойти, а покружил немного вокруг, посидел на скамеечке, почувствовал дурноту и ушел, ковыляя и придерживаясь всех стен. А возле церкви на Туговой горе, которая славится своим древним кладбищем и невероятной историей былых сражений, Валерка вообще упал в глубокий и продолжительный обморок, очнулся же только вечером и сильно испугался. Упал он на могилы и со всех сторон его окружили деревянные и каменные кресты, их вид довел Валерку до исступления, так что он вскочил и побежал сломя голову, чуть ли не через весь город, до своей общаги.
В народе про таких, как этот Валерка, говорят – пропащая душа и отчитывают в Сергиевой лавре, в Загорске, но в том-то и беда, что возиться с ним было некому. Родственники его боялись и презирали, и радовались, когда он не приезжал к ним в Нижний Новгород. А мать хоть и переживала за него, но приезжать к нему в Ярославль из своего Нижнего, не приезжала, так как знала, что психический сыночек может и на порог ее не пустить…
* * *
Валерка боялся жены и алиментов. Он все время обдумывал, как бы ему уйти от этой напасти.
Жену он избил и выкинул бесцеремонно за двери своей комнаты вместе с двухгодовалым сыном. Менты явились на скандал, посмотрели паспорта, заявили избитой женщине, что она тут не прописана и спросили, хватит ли ей полчаса, чтобы собрать вещи и уйти, куда глаза глядят. Ей ничего не оставалось, как согласно кивнуть, сдерживая слезы.
Менты забрали Валерку в отделение. А жена переехала в подвал соседнего дома, ехать ей больше было некуда.
Месяц она провела с сыном в подвале, пока не нашла съемное жилье. Спала с сыном на двух стульях, которые дали «сердобольные» соседи по общежитию. Она написала, конечно же, заявление на Терпелова, но наглый и надменный мент ей заметил, что вот, если бы муж убил ее, вот тогда бы они завели уголовное дело, а так… и он многозначительно покачал головой, намекая на беспредел российской действительности, где редко торжествует справедливость.
Жена переселилась. Она и до того постоянно работала, Валерка приносил на хозяйственные нужды только сто рублей в месяц, остальное пропивал. Так что невелика была потеря.
Конечно, она вынашивала планы мести и до поры, до времени все откладывала, на руках у нее был ребенок, если бы не это обстоятельство, Валерка давно лежал бы в могиле. Он знал это и постоянно дрожал от страха. Жена была из горячих, абсолютизированных натур и страшно гневалась на него за его обман. Во время брачного периода он пускал ей пыль в глаза, стараясь казаться не тем, кем являлся на самом деле. Шизофреникам это почти всегда не трудно сделать. Впрочем, он очень боялся расплаты, боялся, что она воткнет ему в спину нож и постоянно твердил об этом окружающим, все ждал и пытался понять, что она выкинет.
Но выкинул он сам. Как-то через месяц после изгнания жены с ребенком на улицу, он ехал в троллейбусе и пил из горла пиво. Неожиданно к нему повернулась женщина и Валерка замер, она была, как две капли воды похожа на его жену. Но, оказалось, просто похожа. Познакомились. Женщина пила и была благодарна, когда Валерка и ей купил пива. Сразу же согласилась, пошла с ним в общагу. Здесь, уже после постельных дел Валерка принялся врать, описывая «ужасы» своей семейной жизни. Она слушала, охотно кивая. У нее был недалекий ум, восемь классов образования, тюрьма для несовершеннолетних, колония строгого режима и прочие «подвиги».
Совместно они выработали план…
Через полтора месяца после избиения и изгнания, жена Терпелова с удивлением узнала, что, оказывается виновата в ряде грабежей, череде мошеннических сделок и прочих «радостях» уголовного мира.
А встретившиеся случайно бывшие соседи по общежитию непонимающе оглядывали ее и ее двухлетнего сына. По их словам выходило, что она живет с Валеркой в комнате, но в коридоре и на кухне никого не признает, ни с кем не здоровается. А сына она вообще, оказывается, к матери Терпелова отправила в Нижний, так говорит Валерка. Недоумению людей не было предела. Вместе они пришли в общагу, вместе толкнули не запертую дверь, вместе увидели за столом двоих заговорщиков. Жена застыла на пороге и, глядя на своего двойника, как будто только впервые поняла, что Терпелов неизлечимо болен. Так у нее еще были надежды на временное помутнение его рассудка тесно связанное с алкоголизмом, она еще надеялась, что он одумается, впрочем, как вечно жены пьяниц надеются на исправление мужей… Ну, а после, были ментовские разборки, которые привели Терпелова на скамью подсудимых, но его новая женщина так похожая на жену куда-то исчезла, таким образом, дав суду повод осудить Валерку только условно, о психушке, конечно же, никто из власть имущих даже не заикнулся… Потом, спустя десять лет после произошедших событий Валерка проговорился собутыльникам, что Маринка, так звали ту женщину, случайно упала с лестницы и покатилась вниз, в воду Которосли и утонула, что, дескать, он помочь ничем не успел, так быстро все произошло. И говорил, кивая с горестным видом, что случилось несчастье на Толбухинском мосту, одно только упуская из виду: лестница упирается в тротуар, после в дорогу, после в пустошь и только потом, обрывается в воду реки. Собутыльники, однако, мигом сообразили и не сводя протрезвевших со страху глаз с Терпелова поднялись, разом испарились из его комнаты, по сути, он признался в убийстве…
* * *
Валерка похоронил свою сожительницу Наташку. Девушка двадцати шести лет была маленького ростика, вся в татуировках, кривобокая, косенькая, в общем, как говорят в народе, убогенькая. Подобрал ее Валерка на улице. Ничего, что на ту пору жизни самому Валерке уже исполнилось сорок пять лет. Иные пары с огромной разницей в возрасте живут гораздо лучше тех же сверстников, ценя каждый миг супружеской жизни, перенеся в прошлых браках много бед и лишений. Но к Валерке все это не относилось. Он разницу в возрасте не ценил и воспринимал очередную женщину в своей жизни только, как кухарку, прачку, подстилку в постели…
Была она бывшей детдомовкой, успела посидеть в тюрьме, выйти, стать бомжихой, в общем, прошла намеченной нашим «славным» правительством для многих детдомовцев, дорогой. Встретила Валерку, вытерпела с ним четыре года жизни, убегала от него неоднократно, потому что лучше сдохнуть на свободе, чем в четырех стенах с сумасшедшим. Но не убежала, а все кашляла и кашляла, и наконец, умерла от туберкулеза легких.
Валерка ее схоронил и сошел с ума окончательно.
В комнате поставил на книжную полку ее портретик. Каждый вечер зажигал свечку, наливал стопочку боярышника, а за портретик укладывал сигаретку. Таким образом, если приходила, какая пьянь к нему в комнату и просила закурить, он указывал на портрет Наташки и требовал, чтобы пришедший просил у нее сигарету. Пришедшему ничего не оставалось, как только изобразить комедию просьбы к Наташке. Мало того, являясь с работы, Валерка включал на полную мощь колонки и на всю общагу звучала песня про Наташку и про мурашки. Если не дай Бог, кто-нибудь просился остаться на ночь, Валерка милостиво разрешал, если разрешит Наташка и пришедший должен был кланяться портрету и просить разрешения, а потом делать вид, что, дескать, она разрешила…
О ней он говорил часами и все называл ее Наташенька, хотя при жизни не давал ей никакого покоя, совершенно не лечил от чахотки и даже не позволял куда-либо обращаться. Изводил ее своим психозом ревности и, по сути, убил человека. А после смерти ее, видимо, чувствуя свою вину, стал вести себя так, как будто она для него что-то значила…
* * *
У Валерки был брат, двоюродный. Внешне они нисколько не были похожи, но внутренне. Оба закончили музыкалку, по классу баян. Оба плохо учились в средней школе. Оба курили и пили с десяти лет. Оба безобразничали на улицах, дрались и возглавляли хулиганов со своих поселков. Валерка жил в поселке Новое Доскино, что под Нижним Новгородом, а Коля в поселке Горбатовка, что буквально через железнодорожные пути от Доскино.
И вот почти в пятьдесят лет Коля допился до того, что убил ребенка. Максим был сыном его жены Натальи. В пятнадцать лет, в подростковую пору пацан стал непримиримым врагом пьянства Коли. Часто они дрались и ругались. Максим не пошел по стопам своего отчима и презирал его и как мужика, и как пьяницу, и как родителя, и был прав.
В один день, в бане Максим по обыкновению своему забрался в чугунную ванну, чтобы вдосталь поплескаться и намыться. Коля прокрался и бросил в ванну оголенные провода, которые заблаговременно протянул от дома. Максим погиб на месте, Колю посадили.
Не устаю твердить, что пьяницы – это сумасшедшие люди и сажать их надо не в тюрьму, а в тюрьму для сумасшедших. Но, но, но…
Вышел он через три года, по амнистии. Наталья, жена, его в дом не впустила. Выкинула вещички. Отец Коли, старый-престарый человек смотрел на сына с крыльца и плакал:
«Уходи, уходи ты от нас!»
Коля повернулся и пошел на кладбище. Здесь, у могилы Максима, он, действительно, осознал, что убил человека. Вспомнил себя молодым и ужаснулся, что не дал жить Максиму, не дал узнать первую любовь, не дал заработать первый рубль, не дал Наталье понянчиться с внуками. И только тогда до него дошел весь кошмар содеянного. Спустя три года тюрьмы, наконец-то, сквозь омут пьянства и идиотизма у Коли проснулась душа.
Он ушел из поселка и больше никто и нигде его не видел, так и бродит где-то по России, бездомный и глупый человек, утопивший свой разум и совесть в винище, убийца ребенка.
* * *
Валерка в своей собственной комнате неоднократно бил стекла окон. Вечно, одна рама зияла пустотой, зимой он затягивал ее целлофановой пленкой, иногда, когда бывали у него деньги, покупал стекло и вставлял сам. Но проходило какое-то время, появлялась у Валерки очередная сожительница, которая чем-то ему не угождала например разогревала суп слишком уж горячо или недосаливала, мало ли к чему может придраться дурак?! И в окно летела тарелка, которую швырял раздраженный Валерка. Стекло разбивалось вдребезги и начиналась та же история с пленками да с холодами. Вообще окно у Валерки почти всегда бывало распахнуто, в комнате стоял специфический запах, потому как ее хозяин использовал вместо туалета разные стеклянные банки, бутылки из-под пива. Посуда вместе с содержимым летела в раскрытое окно на «радость» дворникам, а то и ставилась в тумбочку, и замечательный аромат распространялся по всей комнате да и в коридоре общежития в связи с этим тоже «хорошо» попахивало. Соседи, естественно, как все прочие дорогие россияне, терпели и никуда не жаловались, но вероятно они бы чрезвычайно обрадовались смерти Валерки и даже наверняка станцевали бы на его могиле и потому он ходил, чувствуя их ненависть весьма осторожно, обходя далеко стороною их окна…
* * *
Валерка долго говорил, и все об одном и том же. Одинаковые фразы сыпались одна за другой. Однажды он так достал своего десятилетнего сына, что тот взял и записал на микрофон, на компьютер. Ночью, когда пьяный Валерка наконец-то угомонился, сын включил запись на полную мощность и по комнате раскатился глухой и нудный голос, рассказывающий и рассказывающий об одном и том же. Валерка сразу же очнулся, вскочил и протрезвел от собственного занудства.
* * *
На часах третий час ночи. Пьяный философствующий Валерка сидел над раздраженным десятилетним сыном и рассказывал, по его мнению, поучительную историю, которая все время сводилась к одному и тому же, вот, когда сын вырастет, они вместе выпьют и как будет тогда хорошо!.. Пьяный отец прикрывал мечтательно глаза и кивал головой, сын смотрел на родителя, смотрел на часы и наконец, решился, вскочил, побежал из своей комнаты на кухню, чем-то там забулькал, прибежал:
– А давай выпьем прямо сейчас, чего время терять?
Валерка оживился, в глазенках у него замелькали какие-то искры, но не разума… Сын подал ему большущий стакан, наполненный до краев прозрачной, желанной для пьяницы, водкой.
– Пей до дна! – предупредил.
Они чокнулись. Сын выплеснул рюмку водки за плечо, а отец честно выпил весь стакан и тут же упал носом в ковер, растянулся на полу, такая доза его добила.
– Наконец-то, – пробурчал сын, собрал с кровати постельное белье, одеяло, подушку и ушел спать в другую комнату.
Валерка все так же неподвижно валялся возле постели сына и не знал, какая брезгливость только что появилась на лице у мальчика, когда он, засыпая на диване, в гостиной вспомнил папашкины разговоры посреди ночи и отстойный запах водки…
Отсюда вывод, пьяницы любят только себя и их жизнь похожа на затхлую стоячую воду, ни пользы от нее никакой, ни радости, одна только вонь да безобразие.
* * *
На часах почти девять часов утра, Валерке надо было на работу, но он с вечера здорово напился и спит без задних ног. Тогда его находчивый сын взял бутылочку боярышника, открыл и поднес к носу Валерки. Немедленно нос пьяницы задвигался, задергался, усиленно задышал и Валерка, подчиняясь запаху любимого пойла приподнялся на кровати, но глаз не открыл, зашарил в воздухе руками, пытаясь отыскать бутылку. Сын не дал, а отвел бутылочку подальше, Валерка вынужден был приподняться, еще и еще. Наконец, встал, покачиваясь, и открыл глаза, с удивлением огляделся, трудно соображая, что надо бы на работу…
* * *
У Валерки была большая седая борода, нечесаная, грязная, часто с крошками от хлеба и с прочим мусором.
На все вопросы знакомых о том, зачем он не побреется, Валерка отвечал всегда одно и то же:
«Борода приносит мне счастье!»
И довольный улыбался в подтверждение своих слов. На самом деле он просто ленился бриться, ленился до того, что предпочитал выглядеть страшилищем, чем нормальным мужчиной.
Десятилетний сын, появившийся в его жизни на самое краткое время, месяца так на три, решил над ним подшутить. Раз борода приносит счастье, значит надо этим обстоятельством жизни воспользоваться, сказал он и выдернул из бороды сразу несколько волосков. Валерка взвыл и схватился за подбородок, а сын сделал вид, что загадывает желание и как в сказке про Хоттабыча порвал волоски, тут же потянулся за новыми. Валерка вскочил в испуге и выбежал из комнаты…
* * *
Валерка, не стесняясь присутствием сына, накупил несколько бутылок боярышника и в обществе таких же друзей напился. Пьяная болтология понятная только пьяницам так и лилась из припухших от постоянного трепа губ присутствующих, когда мальчик отвлек их внимание внезапно и убедительно указав на что-то в окно.
Пьяницы толкаясь и наступая друг другу на ноги столпились у окна, выглядывая указанное происшествие, а мальчишка тем временем заменил боярышники на крепкий чай из заварочного чайника. Просто вылил из оставшихся последних бутылочек их содержимое в подвернувшуюся плошку и налил чаю.
Пьяницы недоуменно разглагольствуя, что ничегошеньки не увидели, повернулись к своему застолью. Они были в том самом состоянии опьянения, когда почти ничего уже не понимаешь и живешь только на автостопе.
Из бутылочек налили «боярышника» в стопки, выпили и выпучили глаза, одновременно потрясли головами, стараясь избавиться от наваждения, снова налили, снова выпили и снова замерли, выпучив глаза.
Валерка зарычал диким зверем и с воплями, что его в аптеке обманули, ринулся вон, выяснять отношения с аптекаршей. Прочие, окаменев, посидели-посидели и тронулись за ним вслед, спасать Валерку от милиции, которую, ясно, как белый день, непременно вызовет аптекарша.
Сын умирал со смеху… Через некоторое время Валерка со своими дружками вернулся с новыми бутылками драгоценного пойла, боярышники они купили.
В последнюю бутылочку, на прочие пьяницы обращали слишком пристальное внимание, мальчишке удалось-таки насыпать черного молотого перца. Последовавшая затем буря в виде негодующих воплей и дикого рычания Валерки, что над ним издеваются, компенсировали весь негатив, которым свойственно награждать близких пьяницам…
* * *
Валерка был психически больным человеком, с целым рядом агрессивных заболеваний, кроме шизофрении у него имелась еще и паранойя. В результате он ходил с ножом в сумке и к тому же часто в эту самую сумку укладывал тяжелый вентилятор от первого компьютера, так называемой «мазухи».
Однажды, возвращаясь с друзьями из кафушки, где они все вместе дерябнули коньячка, он наткнулся на скинхедов. Их было не в пример больше, они сразу же вытащили ножи и окружили маленькую компанию побитых жизнью пьяниц, с враждебными намерениями. Друзья Валерки испугались, но только не он. Мгновенно озверев от перспективы получить от кого-то по морде лица, он нащупал в сумке нож, проткнул им сумку и так со скрытым от глупой молодежи острым лезвием сразу же, молча, без предупреждения кинулся на скинхедов. Двое осели, получив в брюхо удар ножом. Остальных он разбросал сокрытым в сумке тяжеленным вентилятором. Скинхеды, зализывая раны, бросились бежать, бешеный Валерка еще гнал их по улице какое-то время. Известно, что сумасшедшие обладают огромной физической силой и примерно такой же сильной, совершенно неуправляемой яростью. Пьяницы были потрясены и никому об этом случае постарались не рассказывать, страшась смерти некоторых из скинхедов, замучают же менты допросами, а потом еще и соучастие пришьют…
* * *
Валерка с десятилетним сыном зашел в кафе, повел широко рукой и громогласно, хвастливо объявил сыну:
– Вот, придешь сюда, скажешь, что ты сын Терпелова и каждый тебе поможет! Меня, здесь, все знают!
Сын посмотрел на зазнавшегося папашку, оглядел помятые рожи завсегдатаев, на мгновение повернувшихся к ним и произнес:
– А я думаю, вот скажу только, что я сын Терпелова и сразу все присутствующие кинутся, изобьют, отберут деньги и выкинут меня на улицу!
Валерка тут же вспылил и со свойственной ему одному привычкой, бросил сына, выбежал из кафушки, не разбирая дороги, кинулся через проезжую часть. Завизжали тормоза, автомобили, чудом избежав столкновения, едва не задев сумасшедшего Терпелова, остановились. Некоторые, самые горячие автолюбители попытались догнать нарушителя правил дорожного движения, но куда там! Валерке вполне можно было бы выступать на Олимпийских играх, так он быстро бегал. Конечно, и тренировался он по нескольку раз на дню. Скажет кто-нибудь что-нибудь обидное, он вскакивает и убегает. Посмотрит кто-нибудь не так, тоже самое, вздохнет… и так далее, до бесконечности…
* * *
Довольно странно вел себя иногда Валерка. Так, по сути, не имея никакой надежды на возобновление отношений с прежней женой, он выдумал, что у нее полно любовников и мол, поэтому она его и игнорирует. Эту новость он немедленно сообщил своему сыну да что там сообщил, он говорил об этом постоянно и так надоел мальчишке, что тот ткнул пальцем в первого попавшегося пьяницу, пробирающегося по улице замысловатыми зигзагами:
– Вон смотри, мамин любовник!
Валерка мгновенно поверил, как и должно было быть, с диагнозом острой шизофрении. Кинулся на пьяницу, ударил и повалил через заборчик в заросли крапивы. Пьяница ошалело замотал головой и забормотал угрозы. А Валерка победителем продолжил свой путь.
Через несколько дней в троллейбусе они ехали вместе на работу, в «Северный край», где Терпелов работал верстальщиком газеты. Валерка сидел злой, потому что вынужден был быть трезвым, не хватало денег на пойло, разве только на пельмени для сына оставались, эти деньги при всем своем желании он потратить бы не посмел, потому что боялся голодного сына больше, чем преисподней вместе со всеми чертями вместе взятыми.
И тут в троллейбус влез пьяный мужик. Трезвым, Терпелов не мог терпеть пьяных, сын это знал, и тут же указывая на мужика, заявил, что это, мол, очередной мамин любовник. Взревев раненым зверем, без предупреждения, Валерка бросился на пьяного, без жалостно выбил его из открывшихся на остановке дверей, на улицу, но перед тем выхватил из кармана чекушку водки. Радостно, потрясая в восторге столь желанным для себя трофеем, вернулся на свое место.
В следующий раз сын, доведенный занудством папашки почти до бешенства, шел с ним в общагу. И тут прилизанный, надушенный, в костюмчике встретился ему по дороге какой-то мужик. Недолго думая, кивнул мужику, громко произнес:
– Здравствуй!
Мужик вежливо кивнул в ответ мальчику и продолжил свой путь. Валерка немедленно остановился, подозрительно уставился мужику вслед и спросил с нарастающей злобой у сына:
– С кем это ты сейчас поздоровался?
Сын нимало не смущаясь, ответил спокойно:
– Как с кем? Конечно же, с любовником мамы! Видишь, он даже ответил мне!
Валерка кинулся. Прилизанный тут же, словно перышко полетел в траву. Вскочил, бросился на сумасшедшего, иначе он и не воспринял Валерку. Действительно, лохматое, одетое как попало, полохало, не мог он внушать других мыслей людям о своей персоне нон грата.
Короткая драка закончилась полной победой Валерки, а прилизанный бросился бежать. Сын его, в принципе, не злобный человек, все-таки спросил то, что мучило уже не один день:
– Слушай, а чего это ты все кидаешься на этих мужиков? Ведь ты, на самом деле понимаешь, что они не имеют никакого отношения к маме?
На что Валерка только хмыкнул, и ответил уперто, и как всегда неразумно:
– Ну и что? А пускай-таки у нее поменьше любовников будет!
* * *
Валерка не признавал светофоров и ходил, как попало через дорогу. Болея, кроме целого ряда психических заболеваний, еще и синдромом бегучих ног, он совершенно не мог стоять на месте, ему трудно было ждать транспорта и потому нетерпеливо, бешеным тараканом, делал несколько забегов по остановке, пока не подъезжала какая-нибудь маршрутка. Но, если на переходе, перед ним горел красный свет светофора и мелькал поток машин, он вообще терял всякое самообладание и только еще не кидался под проезжающие автомобили.
В один дождливый день, когда лужи растеклись повсюду грязными потоками, Валерка по своему обыкновению, едва не вылез на кишащую транспортом проезжую часть. Вдруг, некий ухарь окатил его и еще с десяток человек стоявших позади на тротуаре, и ожидающих зеленого света, грязью с ног до головы. Валерка, недолго думая подобрал камень с мостовой, кинул в машину ухаря, послышался звон разбиваемого заднего стекла. Посыпались осколки. Ухарь остановил свою тачку, вылетел из машины, в истерике обозревая сотворенное Валеркой. Но расправа ожидала его самого. Валерку не дали на убой те, кого ухарь забрызгал. Его самого чуть не убили, а в тачке разбили еще и зеркало. Ухарь, окровавленный и избитый, поскорее забрался в свою машину, укатил, а Валерка еще долго похвалялся всем своим дружкам и подружкам и с удивлением вспоминал взбешенную толпу. Не раз у него, впрочем, мелькнула мысль, а что как бы с ним, с Терпеловым не расправились также соседи? И, что могло бы, к примеру, помешать им, разорвать его на мелкие кусочки?.. И подергивал плечами от ужаса такой перспективы, но поведения своего не менял…
* * *
У Валерки было много друзей, так, во всяком случае, он считал, но среди прочих пьяниц притаскивающихся к нему в комнату отличался своим странным поведением один весьма примечательный товарищ. Он выглядел под стать Валерке, вечно пьяный, угловатый, корявый, но все-таки у него временами мелькали какие-то признаки воспитания. И тогда товарищ вспоминал, что надо бриться и мыться. Деятельно, он принимался чистить свою одежду, наносил гуталин на пропылившиеся насквозь ботинки. Имя у него было самое простое – Сергей, так многих зовут.
Сергей или попросту Серега работал везде и всюду. Трудовая книжка у него распухла от многочисленных записей, нигде он не задерживался дольше месяца-двух. Много пил, хотя и не был запойным. Состояние желанного счастья достигалось у него двумя-тремя стопоцками водки, больше и не надо было и для пьющего Валерки такая «дюймовочка» в выпивке была просто находкой. Серега приносил целую бутылку, а выпивал чуть-чуть. Для удовлетворения потребностей Валерки маловато бывало иногда и пол-литра водки…
Серега был не простым человеком, а творческой личностью и спивался не случайно. Он беспрестанно женился. В его паспорте даже вклеен был вкладыш, так как некуда уже было записывать всех его жен. Разводился с боем и воплями, переживаниям его не было предела, часто плакал и жаловался всем на свою судьбу.
Ему казалось, что многочисленные жены его недооценивают. Правда, он и находил себе каких-то деловущих и чрезвычайно требовательных дам, пускал им пыль в глаза, изображал из себя делового и занятого человека. Во времена своих ухаживаний совершенно не пил, носил строгий костюм с галстуком, говорил размеренно и внушительно, козырял знакомствами с известными людьми города, устраивался ведущим на радио или журналистом на телевидение. А когда обманутая им женщина влюблялась в ложного Сергея, выходила за него замуж, потому что для него чрезвычайно было важно именно жениться, все ему казалось, что с женитьбой резко поменяется его жизнь. Так вот, после свадьбы Сергей расслаблялся и превращался в знакомого многим Серегу. Через некоторое время взбешенная его поведением супруга подавала в суд иск на расторжение брака.
Серега пил после свадьбы и после развода пил, терял веру в женщин и поселялся жить у Валерки. И, несмотря на неуравновешенный характер своего друга, Серега бывал в его комнате даже счастлив. Он ухаживал за неспособным ни к чему нормальному Валеркой, как за своим больным братом, мыл посуду, протирал полы, стирал белье, готовил пищу. И часто привыкший уже к услугам Сереги, Валерка требовательно указывал ему на что-нибудь, что, по его мнению, тот должен был выполнить да не выполнил. Такой тандем вызывал в городе гомерический смех и ждали какого-нибудь взрыва. Но все так и тянулось много лет подряд.
Валерка находил себе сожительницу, а Серега жену. Недолго жили каждый в своем мирке, потом с боем расходились со своими половинками и опять поселялись вместе, в одной комнате. Две одинаковые души, две пьяни…
* * *
Валерке казалось, что его преследуют, и он на полном серьезе относил, однажды, заявление в милицию, что его бывшая жена опять ходит за ним, но уже не с ножом, а с пистолетом и хочет его убить, заявление не приняли. А потом он пришел в ментовку с тем, что жена залезала по водосточной трубе и проникала к нему в комнату через форточку. На вопрос ментов, зачем? Валерка тут же придумал, что она у него паспорт украла… Вообще паспортов у него было четыре, документы он выправлял заново. И никак не заинтересовал соответствующие органы власти, удивительно, правда? По-моему таких людей, как этот Валерка становится все больше и больше в России, чуть ли не каждый русский может похвастаться знакомством с подобным Терпелову. Частенько, такие валерки даже не являются клиентами дурдома, хотя их поведение выходит за рамки границ нормального поведения и это повод задуматься, а почему?.. Так, только после нескольких совершенно диких заявлений на свою бывшую жену, которой он попросту не хотел платить алименты на сына, Валерка наконец получил предупреждение от ментов, что если он еще раз придет, его отвезут с мигалками в «желтый» дом. Тогда он перестал носиться с заявлениями, но стал носиться с липовыми письмами, якобы, от жены. Письма, изобилующие ошибками, идиоматическими выражениями и написанные совсем не в стиле грамотной и воспитанной жены его, все-таки, привлекли внимание некоторых людей и особенно недалеких собутыльников Терпелова, которые ему верили, его жалели, а он заглядывал им в глаза требовательным, злым взглядом, пытаясь понять, поверили или нет. И, если верили, улыбался торжествующе и врал дальше…
* * *
Дверь у Валерки держалась только на честном слове, потому что пьяным он беспрестанно терял ключи и, приходя домой, двери вышибал. Для чего разгонялся и бился плечом и головой одновременно о дверь, чего она бедненькая уже не в силах была перенести и распахивалась настежь. Замок потому у нее не держался, а висел только на честном слове на двух плохо завернутых болтах.
Валерка в связи с этим придумал для воров ловушку. У него в комнате был шкаф, встроенный, конечно. Почти что кладовка. И вот на антресоли этого шкафа Валерка запихал тележку набитую кирпичами, так, что если кому-нибудь вздумалось бы распахнуть дверцы, он неминуемо бы познакомился с содержимым тележки.
В один день он решил показать десятилетнему сыну свое изобретение. Грохот, который произвела тележка, создала достойное впечатление. На первом этаже, где под комнатой Валерки находились офисы и кабинеты какой-то конторы, упала люстра. Оттуда, немедленно прибежали перепуганные сотрудники. На их встревоженные вопросы Валерка отвечал с каменным спокойствием, что да, кое-что у него, здесь, в комнате упало, но что именно, он не говорил и держал дверь чуть приоткрытой, не давая заглянуть внутрь. А, что он изобрел ловушку на воров, он, конечно же не сказал, ну глупые дорогие россияне, коими и являлись эти сотрудники, ушли восвояси и даже счет ему не выставили за учиненный беспредел. И только десятилетний сын Валерки заметил ему, что нечто похожее он видел в фильме «Один дома». На что тут же получил полное подтверждение, да, говорил Валерка, именно этот фильм вдохновил его на этот подвиг, подростковое сознание, которым вдобавок ко всем своим психическим заболеваниям страдал Терпелов, проявилось в этом случае, как говорится, во всей своей красе. Тележку он запихнул обратно в шкаф на антресоли и туда же сложил кирпичи…
* * *
Валерка обманом, используя свой почти гипнотический дар убеждения, который сводился всегда к одному и тому же, вот, мол, какой он значимый и уважаемый всеми вокруг специалист, устроился работать в ежедневную газету «Северный край» и сразу стал знаменит абсолютно нестандартным поведением.
Он был мстителен и как все злобные люди прославился своими делами. Одна корректорша часто досаждала ему и, потрясая перед его носом маленькими кулачками, кричала о работе, которую он имел свойство не выполнять. Она была старая и маленькая ростиком, но Валерка боялся ее, как огня, она требовала, будто самая требовательная жена, работать, а не пьянствовать.
И Валерка раздраженный ее постоянным приставанием выловил у себя в комнате несколько мышей. Мыши бегали по полу и по столу обжещитского жилья, как у себя дома. Иногда он устраивал на них охоту и ловил на подоконнике в банку, а поймав, выбрасывал хвостатых за окно и те, если удавалось благополучно приземлиться, убегали обратно в подвал общаги, а через некоторое время опять проникали к нему в комнату, где повсюду были разбросаны крошки хлеба и прочие вкусности.
Мышей Валерка принес в редакцию. Еще было раннее утро и он, никем не замеченный, вытряхнул мышей из банки в ящик письменного стола ненавистной корректорши, ящик задвинул, а сам тут же ушел, чтобы придти после всех, как приходил обычно.
Представление уже было в полном разгаре, когда он пришел, корректорша визжала, забравшись с ногами на стул. А маленькие, напуганные ее криком, мыши разбегались по всей редакции. Валерка был удовлетворен, но не совсем.
Через некоторое время он также в банку наловил в своей комнате тараканов и выпустил корректорше в тот же ящик письменного стола. Визгу и крику было уже больше, а Валерка не сдержал злобной ухмылки, которую тут же заметила испуганная корректорша. Она сразу поняла, чьих это рук дело.
Ящик с тараканами полетел в голову хулигана, он, конечно же, увернулся, но после понял, что сделал хуже только себе. Его уволили, нашли повод придраться и тут же предложили написать заявление об уходе, но напоследок Валерка злорадно подумал, что все-таки оставляет по себе замечательную память для «Северного края» в виде десятка бойких мышей и быстро размножающейся орды тараканов.
* * *
К Валерке на улице подбежали двое. Потрясая бумажками, стали убеждать его бросить курить и подписаться, мол, да, хочу бросить курить. Валерка, не меняясь в лице, шел дальше и курил. Дымил он с десяти лет. А курил исключительно «Беломор», крепкие такие папиросы. И всегда старался угостить, особенно, дам, любителей «легких» сигарет вкусной беломориной. Дамы, естественно, после первой же затяжки отчаянно кашляли, а Валерка смеялся, испытывая настоящее удовольствие от своей проделки.
Бросать курить он не собирался. И терпеть возле себя этих «дегенератов», призывающих бросить курить тоже не собирался. И потому один из особенно досаждающих ему, немедленно полетел кверху ногами через заборчик ограждающий аптеку, куда, собственно и шел Валерка за любимыми боярышниками. А другой получил дозу дыма из туберкулезных легких Валерки. Терпелов дунул ему в лицо, и этого оказалось достаточно, чтобы трусливый малый сбежал, бросив в беде своего товарища…
* * *
Валерка очень гордился своими познаниями. Он всегда с удовольствием перечитывал собственную библиотеку состоявшую только из крестьянских писателей и постоянно фигурировал фразами из прочитанных произведений, пользуясь тем, что никто и не читал такие книги, так как они были написаны чрезвычайно скучно и занудно. Простые вопросы, не из книг, ставили его в тупик и он надолго «зависал», как перегруженный компьютер. А то и кидался к своей записнушке, сидел, что-то там чирикал карандашиком и вдруг, выдавал убийственный ответ, от которого задавший вопрос впадал в ступор. Ответ всегда был неожиданный, вывернутый на изнанку и настолько дикий, что хотелось головой потрясти.
Дети, живущие в общаге, легко загоняли его в угол. Для этого, они могли спросить:
– А почему корова бегает?
И Валерка надолго выпадал из реальности, забивался куда-то со своим блокнотиком, что-то писал, а потом с умным видом отвечал:
– Ну, для этого есть несколько предположений. Первое, может быть, корову укусил овод. Второе, может бык напугал. Ну, а третье, как мне кажется самое верное, скорее всего на корову пастух наорал!
Дети валились с ног, умирали со смеху, после кто-нибудь из них выдавал ему объяснение:
– Почему корова бегает? По лугу!
На что глупый Валерка только таращился и мычал… А потом долго еще в общаге тыкали пальцем в расшалившегося ребенка, не в меру распрыгавшегося по всему обширному пространству коридора и говорили между собою, смеясь:
– Наверное, на него пастух наорал!
Вообще, он все время хвастался. Говорил тем же детям, что отлично учился в школе по математике. Дети, иногда верили и приносили ему задачки. Он решал даже самые простые из второго класса в два, а то и в три решения и поверившие ему неизменно получали двойки да колы, так как все ответы его были неверны и абсолютно дики, лишены логики и смысла.
На работе Валерка вел себя дерзко и нагло. Будучи журналистом, он лез в городские газеты, писал на целые развороты или как говорят сами пишущие: «лил воду». Ругался с редакторами за каждую строчку и доводил своих начальников до бешенства, потому что статьи его были не интересны, неисправимо тупы и изобиловали ошибками, самыми невинными из которых были такие: вместо стада коров он мог написать стая коров, а вместо стая гусей обязательно писал стадо гусей. И, если вставал вопрос, например о свадьбах, то он с уверенным видом говорил о невестах, что они женятся, а о женихах, что выходят замуж. Понятно, специализировался он на близкой для себя теме – крестьянстве.
Спустя сколько-то времени, он исписался, такое бывает даже с талантливыми людьми, чего уж говорить о Валерке. Появились компьютеры, и он стал со всем тщанием и преданностью делу осваивать верстку. Но и здесь не преуспел. Страшно «тормозил» и довольно часто «заваливал» сдачу номера. В типографии его ненавидели и, если узнавали, что Валерка устраивался верстать в ту или иную газету, звонили редактору с угрозами и матом, требовали уволить этого придурка, советовали гнать его прочь, пока он не свел с ума всю редакцию.
Валерка исколесил весь город. В еженедельных газетах создавал чрезвычайно суетливую ситуацию, делал вид, что «горит» всей душой за номер и потому, дескать, вычитывает ошибки, работает, так сказать еще и за корректоров, а потом врал, что потому и не успевает, оставался верстать на ночь. К утру с победным видом бежал в типографию «сдаваться», хотя номер надо было сдать еще накануне вечером…
В ежедневных газетах он избирал несколько другую тактику, старательно спаивал весь коллектив и нередко, кто-нибудь из собутыльников спасал положение, верстал полосу Валерки, когда он уже безнадежно пьяный валялся под столом.
Наконец, за профессиональную непригодность его погнали отовсюду, не нашлось в городе более ни одного редактора готового дать теплое местечко Терпелову. Он устроился сторожем куда-то на стройку, но и тут оказался, ни на что не годным, проспал пьяным крупный поджог одного из своих объектов и был уволен.
После, он почти сразу же связался с бабой, пьющей и тупой. Она мыла полы в этом же общежитии, тем и зарабатывала себе на жизнь. Безропотно, эта баба взяла заботы о Валерке на себя, кормила его на скудные свои заработки. По временам, ему надоедало томиться просто так за домашним компьютером и он развивал бурную деятельность, выискивал каких-то чокнутых самовлюбленных поэтов, верстал их книжонки, похожие на брошюрки, больше эти бездари не могли написать. Он и себе сверстал такую брошюрку и она в единственном экземпляре пылилась у него в письменном столе. Бывало, кто-нибудь из пьяниц в поисках ручки или карандаша копошился посреди бумаг и рухляди, которыми имел обыкновение набивать ящики письменного стола неутомимый в этом отношении Валерка. Пьяница, увидев фотографию Валерки на брошюрке, изумлялся и громко восторгался якобы изданным сборником стихов Терпелова. Стихи читались вслух и приводили в изумление даже видавших виды, самых прожженных пьянчуг, так как изобиловали идиоматическими выражениями, попросту матом и были, как все в жизни Валерки, лишены смысла и сюжета.
Верстал он днем и ночью, с трудом одолевая страницу за страницей, а потом включал матричный принтер и тот с визгом выдавал новое произведение писак-однодневок, нередко все это происходило ночью и разбуженные соседи стучали кулаками в двери и в стены, требуя прекратить безобразие. На возмущение соседей Валерка мало обращал внимания и, если его подстерегали в коридоре утром, немедленно создавал вид творческой деятельности. Он просто кипел в работе и, потрясая перед носами рассерженных людей сверстанной брошюрой какого-нибудь глупого поэта, кричал им о крайней необходимости данной работы. На вопрос, почему же он шумит по ночам, он страшно изумляясь, врал, что не успевает, что оригинал-макет этой книги ждут в издательстве таком-то и молол прочую, подобную этой чепуху… На заработанные деньги Валерка покупал с десяток фунфыриков, несколько пачек пельменей, на большее, конечно же, заработка не хватало, так как писаки платили мало и нередко с оригинал-макетами своих произведений бродили по спонсорам в поисках денег совершенно напрасно, сверстанная Валеркой даже самая хорошая книга неминуемо вызвала бы отторжение у любого спонсора. Бездарность и серятина так и лезли в глаза, вызывали желание отбросить от себя эту гадость и даже не читать. Он, как плохая хозяйка никогда не умеющая вкусно сготовить обед не верил в собственную бездарность и все превозносил сам себя до небес, величая себя первым верстальщиком в городе и вообще основателем многих газет и журналов.
Ходил Валерка в обносках с чужого плеча, нередко его баба копошилась по помойкам, собирая для своего чудаковатого сожителя выброшенные кем-то старые вещи. Будучи лентяем, он отрастил себе большущую до пояса бородищу и совершенно за ней не ухаживал. Так что даже собутыльники его однажды не выдержали и подшутили над ним, взяли да и заплели его бородищу в косицу, а на конце еще и бантик повязали. Валерка таким проснулся, таким пошел на улицу, он часто колесил по городу, заходил в редакции разных газет, где народ от него шарахался, разбегался. Он клянчил деньги и естественно не возвращал, а еще просил у всех и у каждого устроить его на работу. История с бородой прошла для Валерки незаметно, сожительница Валерку пожалела и бороду его расплела, когда он, пьяный, у кого-то все-таки выклянчил денег, приперся домой…
* * *
Валерка остался один, так получилось, всех друзей разогнал. А подруги убежали еще раньше, убежали без оглядки.
Мрачный и злой сходил Валерка в аптеку за своими бухариками. Вернулся в комнату, сел, откупорил бутылочку, налил в стопку и тут же услышал:
– А мне?
Валерка еще трезвый, нисколько не пьяный подпрыгнул на месте, огляделся, в комнате, естественно, никого не было. Он пожал плечами, мол, показалось, но голос настаивал, уже с обидой, он произнес:
– Сам-то пьешь, а мне не наливаешь!
Валерка огляделся еще раз и тут услышал:
– Да ты сюда, сюда посмотри!
Он посмотрел и увидел довольно-таки большого крупного таракана. Рыжий сидел на краюшке хлеба и глядел на Валерку укоризненно черными бусинками-глазками.
Валерка пожал плечами, поискал куда налить и налил-таки в наперсток, поставил перед собутыльником:
– На, пей!
Таракан радостно подпрыгнул, взобрался, дрыгая ножками на край наперстка и неожиданно быстро для такого маленького существа, выпил все до последней капли. Тут же повернул лукавую мордочку к Валерке:
– А еще?
– Куда тебе! – поморщился Валерка.
– Ну не тебе решать, я знаю свою дозу! – ворчливо заметил таракан.
Валерка хмыкнул, осторожно, стараясь не задеть таракана, налил в наперсток боярышник.
Таракан тут же выпил. Потом ловко соскочил обратно на стол, обстоятельно обтер длинные усы, уселся наподобие человека, на две лапы, подмигнул и предложил Валерке:
– Станцуем!
Валерка пожал плечами, почему бы не станцевать. Пошел к компьютеру, включил какую-то плясовую и пошел сам отплясывать, равнодушно обдумывая свою белую горячку. Таракан танцевал не в пример Валерке, который только ногами вскидывал, очень даже бойко и вертелся на спине, и лихо скользил, как Майкл Джексон, и подпрыгивал, как лихой паркурист. А после откланялся Валерке и был таков…
* * *
Валерка ходил на кладбище четвертого числа каждого месяца, в день, когда умерла его Наташка. Он совершал подвиг, в этот день и в дождь, и в снежную метель, и в мороз шел на кладбище. Таким образом, считал он, искупает свою вину перед нею. А приходя к ее могиле, садился на скамеечку, доставал бутылочку боярышника, откупоривал, выпивал, наливал в рюмку чуточку, ставил ей. Все честь по чести. Все, как принято у большинства придурковатых дорогих россиян, пропивающих души тех, кого они, якобы, любят.
Всегда, нормальные русские ходили и ходят к своим умершим с просфорою из церкви, предварительно отслужив панихиду или хотя бы отдав записку с именем покойного родственника на поминание в алтарь. Птичкам божьим нормальные русские насыпают пшена со словами просьбы о душе родного человека, существует убеждение, что где не поможет молитва человеческая, поможет молитва птичья и вынесут птицы из геенны огненной несчастную душу… Еще берут к могиле родственника флакончик святой воды, а не огненной воды, тут пьют ее за упокой и чуточку брызгают на памятник, надеясь, что умершему все же полегче будет на том свете. Вот так поступают все нормальные русские люди, но Валерка к ним не относится, он без сомнения относится именно к дорогим россиянам…
И потому в один день четвертого числа какого-то зимнего месяца он опять приперся со своим пойлом к могиле Наташки. Сел, выпил. Неподалеку, буквально через два ряда кого-то хоронили. Народу предстояло много, на Валерку никто не обращал внимания. Но он всех внимательно оглядел, нет ли знакомых, известно, что сейчас, в эти странные «демократические» времена, люди умирают, буквально повсюду, будто от эпидемии какой, умирают и умирают. Бывает, родственники сталкиваются на кладбище, удивляются друг другу и узнают, что, одни хоронят деда, а другие хоронят внучатого племянника этого деда, погибшего от болезни, которую в советские времена, естественно, вылечили бы, не то, что при нынешней коррумпированной мафии «уважаемых» демократелов и поднимается вой…
Валерка знакомых не увидел, в скорбных лицах собравшихся было много тоски и безысходности и только одно лицо выделялось ото всех прочих какою-то живостью, даже любопытством. Принадлежало оно не старому еще мужику лет шестидесяти. Мужик смотрел на процедуру похорон, на гроб, на самого покойника, кстати, молодого парня, смотрел очень внимательно и как-то неестественно внимательно, будто ему это было очень важно. По временам взгляд его изменялся и с любопытствующего, превращался в такой же тоскующий, как и у всех собравшихся, но, кроме того, он смотрел как-то даже затравленно, будто ни на что уже не надеялся. Ко всему прочему одет он был не по погоде, все присутствующие кутались в теплые куртки, а он стоял в одной белой рубашоночке с короткими рукавчиками и в черных брючках. Валерка даже поежился, глядя на него, мороз крепчал.
Похороны закончились, вся процессия тронулась к автобусам, многие оглядывались на свежий холмик, не скрывая слез. А мужик в летней одежонке остался, все так же цеплялся он за памятник, только проводил тоскующим взглядом людей.
Автобусы с народом уехали, равнодушные, ко всему привыкшие копари, взвалив себе на плечи лопаты, ушли восвояси к далекой каптерке. Валерка, недоумевая, встал со скамейки, пошел к мужику, на ходу обдумывая странное событие, как же можно оставить почти голого человека на морозе и как ему помочь? Конечно, он отведет его сейчас к копарям, там найдется, наверняка, лишний ватник, а дальше, дальше будет дальше.
Валерка подошел к мужику, протянул ему бутылочку боярышника:
– На, выпей, замерз ведь!
Мужик ошалело уставился на него, глотнул с усилием и произнес обветренными, посинелыми, больными губами:
– Ты меня видишь?
– Ну конечно, вижу! – рассмеялся Валерка.
– Значит, ты скоро умрешь, – сожалея о нем, произнес мужик. – Что тебя ждет?
По лицу его неожиданно заструились слезы.
– Наверняка геенна огненная или даже распыление, ведь ты убийца! Убил ее, ту, к которой ходишь! Бросил своих жен и детей, а это считается убийством, ведь убил же ты в них часть души, веры в людей!
Валерка удивленно оглядел мужика, потряс головой, чтобы избавиться от наваждения. Обошел его и обалдел. К поясу мужика были прицеплены толстые-толстые цепи, уходящие куда-то вниз, под землю… А с памятника глядел он же, только соответственно отображенный в мраморе, вот это да!
Валерка кинулся туда-сюда, а мужик, прикованный к своей могиле завыл. Пронзительный и дикий вой этот проник в самую душу Валерки… Беспрестанно падая и стуча зубами от страха, бежал глупый Терпелов с кладбища, а привязанный мужик еще долго выл по беспутной и развратной душе Валерки, понимая, что уже ничего не изменишь, что еще живому ему уже ничем не поможешь…
Трилогия «Ангелы»
«Человек должен верить, что непонятное можно понять»
Иоаганн ГетеАувей
У него тонкое лицо очень смуглое с высокими скулами, красивым выразительным ртом. Он смотрит пристально, изучающе. Глаза у него карие с темными почти черными камушками на радужке вокруг зрачков. Брови черные, изящно приподняты. Тонкий нос и едва заметное неслышное дыхание. Темные кудрявые волосы спускаются к плечам. Чуть заметная ямочка на подбородке только усиливает обаяние этого мужчины. Я смотрю на него, не дыша, боясь спугнуть видение. Он молчит, почти враждебно молчит и не уступает мне тропинки. Уже рассвет и в рассветных лучах встающего солнца этот человек воспринимается мною как сон. Я улыбаюсь ему бессмысленной улыбкой, тереблю зачем-то кисточки на халатике и понимаю, что сошла с ума, но голые пятки обжигает холодная земля, а передо мной стоит чудо какой, красивый мужчина. Просто стоит и все. Мы оба молчим. Внезапно, он берет меня за плечи, притягивает к себе меня, зачарованную и нежно, почти неощутимо, целует в губы. Я чувствую его теплый рот, чувствую ласковые руки и сильную грудь, все это длится мгновение и все, он оставляет меня на тропинке одну, а сам быстро уходит, исчезая за деревьями, словно призрак и никого…
Бабка сердится на меня, когда я прибегаю домой. У нее на уме одни коровы да огород. Она бессильно ворчит, что я такая-сякая, где витаю, неизвестно, и до добра это не доведет. А я подбегаю к зеркалу и смотрю на себя, не веря, провожу рукой по губам, так вот он каков первый поцелуй? Бабка замечает мое состояние и удивленно замирает, только и слышно, чего это с девкой, уж не влюбилась ли, может черт какой привязался? Под чертями она всегда разумеет наших деревенских парней. И правда, черти, как есть баламуты да пьяницы. А Вовка Стриж и вовсе вор, тащит все подряд, от чужих картошек до свинченных болтов да гаек. Он и меня грозится украсть. Я усмехаюсь, смотрю на себя в зеркало, делаю вид, будто впервые вижу саму себя. Вот она я: зеленые, как умытая трава, глаза; тонкий нос с небольшой горбинкой; тонкие, чуть поджатые губы, но поджатые от внутренних мыслей, а не от высокомерия; белые волосы заплетены в косу, а коса у меня до самых пяточек, и толстая-толстая, в два моих кулака. Это от того, что бабка моет мои волосы крапивным настоем…
Бабка все ворчит, протирает тряпкой мебель, а сама потихонечку подбирается ко мне. Я уже знаю, хочет схватить меня за косу да допросить, с чего это я такая? Она про меня хочет знать все, досконально, а что я не расскажу, узнает у своих огненных. Огненные – это бесы, их у бабки тринадцать, они ей во всем помогают, потому что бабка у меня колдунья. Бесов ее я уже видела, маленькие, черненькие, необыкновенно умненькие и талантливые. Один все время вырезает красивые узоры на кухонных досках, другой мастерски чинит розетки и электроприборы, третий рисует в большом альбоме и в моих бывших школьных тетрадках лесные пейзажи, ну очень похоже… Тетради мне уже не нужны, школу я еще весной закончила, а тетради, что же, пускай себе рисует. Обычно творчество огненных заканчивается отчаянной бранью бабки, уж больно они увлекаются. Один, вместо узоров на дощечке взял да и вырезал всю, вдоль и поперек большую разделочную доску, а бабка на ней тесто на пироги раскатывала, весьма необходимою была в хозяйстве доска, а теперь осталось только лаком ее покрыть да на стенку повесить, вся в узорчатых дырочках она оказалась, тут цветочек, там стебелечек. Что и говорить, беспокойные огненные были у моей бабки, много добра переводили на свое творчество. И умные же, страсть! Я тоже втайне от бабки с ними разговоры разговаривала, спрашивала совета, просила помочь. Сколько раз, они мне на контрольных, на экзаменах помогали, не счесть! Сядет такой передо мной, на парту, сделает умненькое личико, очки себе нарисует для солидности и давай нашептывать, как правильный ответ написать или сказать, смотря, как я сдаю, устно или письменно. И откуда, только все знают, удивительно? Я помощникам своим очень даже благодарна была. Сколько раз они спасали меня от домогательств деревенских парней. Встанет какой-нибудь, тот же Вовка Стриж, руки, ноги раскорячит, не пройдешь, мол, пока не поцелуешь. Я тут же огненных потихоньку позову, взмолюсь про себя:
«Миленькие, скорее выручайте!»
Глядь, через мгновение парень уже на земле валяется, глазами ворочает, силится подняться, а не может, сила нечеловеческая к земле пригвоздила, я же воспользуюсь его беспомощностью и сбегу. А как только окажусь в безопасности, огненные отпускают парня.
– Баб, – повернулась я к бабушке, она уже было совсем протянула руку, чтобы схватить меня за косу, – а я спросить у тебя хотела…
– И я…
– Погоди, я первая, – отмахнулась я, – кто они, эти огненные?
– Кто? – переспросила бабка, недоумевая.
– Ну, огненные? Они, что же люди, что ли были когда-то?
– Нет, они – ангелы, самые младшие, озорные, беспокойные, все равно, что дети.
– Ангелы? – подивилась я в свою очередь. – Даже не предполагала. Они, наверное, были белые и красивые, как младенцы?
– Ну, если они покупаются в солнечных лучах, – улыбнулась бабка, – станут такими же, как и прежде.
Я задумалась, а бабка, тем временем, все-таки схватила меня за косу, расплела и принялась причесывать костяным гребнем.
– У девки вся сила в волосах, – приговаривала она, – чем длиннее волос, тем гибчее ум.
Я рассеянно слушала ее и не слушала, одновременно, все думала о солнечных лучах и черных, как головешки, огненных. Вдруг бабка замерла, настороженно прислушалась. Я только и успела заметить, как промелькнула черная тень.
– Так! Кого это ты повстречала на тропинке, кто тебя поцеловал? – рассердилась бабка и больно дернула меня за косу.
– Доложили уже, – вздохнула я и медленно, не упуская ничего, рассказала бабке о встрече с чудесным незнакомцем, все, без утайки…
В тот же день я пришла на пригорок к величавой сосне. Сосна гудела на ветру широко, размашисто трясла зеленой гривой, лопотала что-то неведомое. Ветерок кружил вокруг меня, налетал хулиганом, вздувал подол моего сарафана, хорошо, никто не видел. Ласточки на лету пищали, просили пощады у ветра, с размаху залетали в свои норки на высоком песчаном берегу маленькой светлой речушки. Ветер дул в их норки и во все стороны дул, ходил по верхушкам деревьев леса, трепал белье, развешанное на веревках в деревне. До всего ему было дело. А шуму-то, свисту сколько! Но я и слышала, и не слышала ничего, перед глазами стояла давешняя встреча, а в ушах звучал бабкин голос:
«Не человек это, девонька, увидишь его, беги скорее, как от пожарища!»
А мне вспоминались теплые губы, ласковые руки и невозможно было поверить, что он опасен для меня. Да и кто он таков? Бабка не сказала, только сердито зыркнула в мою сторону. Черной тенью мелькнул Ювинкум, один из огненных, уселся на нижней веточке моей сосны, уставился на меня любопытными глазенками-бусинками.
– Искупайся в солнечных лучах, – указала я ему на солнце, как раз показавшееся из-за облаков.
– Зачем? – бесенок заболтал ногами.
– Хочу посмотреть, какой ты на самом деле был раньше…
– Хорошо…
Он взмыл черной птицей к солнцу. Миг, и к ветке сосны вернулся хорошенький мальчишечка. Я даже поверить не могла, что он такой. Белые пушистые крылья вздымались у него над головой, полностью оборачивая тело ангелочка, скрывая его наготу, такие они были большие, только розовые пяточки и виднелись. Изо всего этого пушистого вороха крыльев выглядывало на меня беленькое веселое личико с чистыми, небесной голубизны глазами, с курносым носиком и смеющимся ртом. Вкруг головы ореолом светились белокурые волосы.
– Ух ты! Вот это чудо! И что же все вы такие? – имея в виду остальных двенадцать огненных, спросила я.
– Да, хотя, конечно, отличаемся друг от друга, мы же не близнецы, – засмеялся ангел.
– Жаль, что вы такие черные…
– Нам ни к чему внешняя красота, – Ювинкум дунул на перья своих крыльев, высвободил розовые ручки, захлопал в ладошки, – прости, я погоняюсь за ветром? Очень хочется ему бороду запутать!
– Неужели, ты не можешь посидеть спокойно?
– Ни минуточки! – и ангел упорхнул к лесу.
Позади что-то отчаянно затрещало. Я оглянулась.
Вовка Стриж мчался на велосипеде и колотил палкой по стволам деревьев. Он и одной рукой вел велосипед всегда довольно сносно. Рыжие волосы у него топорщились лохматым кустом. Он сосредоточенно смотрел на меня, озабоченно сдвинув пухлые брови и совершенно не замечал дороги. В результате, велосипед подпрыгнул и Вовка отчаянно дернув ногами полетел кубарем мимо меня, с пригорка, прямо в речку.
– Вовка, не убился?
– Что ты, Эличкин, – Вовка ухмыльнулся и сипло прокашлялся, потирая ушибленные места. Речка ему была только по пояс. – Ничего страшного.
В вышине лазурного неба заливисто хохотал над неудачливым велосипедистом пушистый ангел. Вовка его, конечно же не слышал, духовные уши, впрочем, как и глаза, у него были закрыты, а потому смотрел он только на меня и слышал только меня. В вихрах его рыжих волос запуталась маленькая рыбка. Вовка достал ее и бережно-бережно отпустил.
А мне стало грустно. Душу защипала невыносимая тоска, захотелось убежать, спрятаться от внимания несносного Вовки и увидеть, увидеть, наконец, моего утреннего незнакомца. Я повернулась и устремилась к спасительному лесу, к той тропинке, где давеча, утром встретила его… Мой пушистый ангелок помчался вслед за мной, как видно бабка поручила ему шпионить… Вовка остался, растерянный моей неучтивостью стоять на месте…
В груди все сжималось и душа плакала маленьким ребеночком. Как я хотела его увидеть, не высказать! В одно мгновение я влюбилась без памяти и самое страшное было в моей любви, что я могла больше Его и не увидеть. Еще страшнее звучала мысль, что я совсем-совсем не контролировала себя и свои чувства.
Солнце сквозь листву деревьев раскинуло светлые пятна по земле. Кузнечик вскочил на кончик травки, закачался, прыг и нету его. Тяжелый шмель деловито гудел над сладким клевером. И над морем травы реяла неслышно голубая стрекоза. Мне казалось, смотрят на меня со всех сторон разные букашки и недоумевают о моем присутствии здесь, на поляне, посреди леса. Моему наблюдателю, Ювинкуму надоело за мной присматривать. Беспокойный характер. Я уже давно осталась одна. Душа все ныла, ныла, тоненько, заунывно так, дребезжала в груди. И это дребезжание становилось невыносимым, ни слезы, ни вздохи не помогали мне.
Солнце прожигало сарафан насквозь. Я сидела посреди высоченной травы и даже самому пристальному наблюдателю не удалось бы меня увидеть. В сторону полетел сарафан, приспущены были белые трусики и только широкий лист лопуха прикрыл мою голову от жарких поцелуев жадного светила. Под лучами солнца угомонилась моя душа. Я прилегла на сарафан, незаметно для себя, уснула. Во сне мне виделся незнакомец. Ласковая рука его касалась моего лица, карие глаза смотрели с нежностью и губы шептали слова любви. Я резко проснулась.
Дул порывистый ветер, солнце скрылось за огромной лохматой тучей, наползающей с угрожающим рыком прямо на меня. Сарафан почему-то не одевался, руки тряслись от страха, с детства я боялась грозы. Панически, просто в ужасе едва завидев блеснувшую молнию, помчалась я через поляну к деревьям. Ветер бросился мне навстречу, растрепал косу. Я мчалась, прижимая сарафан к голой груди, трава и ветви хлестали меня по ногам, оставляя свежие царапины. Страх оказался так велик, что ничего, кроме черной неумолимой тучи, я уже и не видела. Бежала, бежала и налетела на мужчину. Он стоял, неподвижно наблюдая взбесившуюся природу и только чуть пошатнулся, когда я наткнулась на него. Поймал меня твердой рукой. Я посмотрела ему в лицо и задрожала, то был мой утренний незнакомец. В темных глазах его таилась усталость и понимание перед моим страхом. Он слегка улыбнулся, когда увидел, как я делаю судорожные попытки прикрыть сарафаном мое полуобнаженное тело. Да, я отскочила от него, но, не потому что испугалась его, о нет. Наоборот, мне было безумно трудно оторваться от его желанных рук. Да, просто мне стало стыдно своего вида. Здесь, в относительном отдалении я рассмотрела, наконец-таки чудо-мужчину. Он казался старше меня лет на двадцать, ему несомненно перевалило уже за тридцать пять. Это, наверняка был зрелый человек. И он смотрел на меня совершенно равнодушно, спокойным взглядом все испытавшего уже человека, так сказать, вполне самодостаточного. Из-под распахнутого ворота черной рубашки проглядывал серебряный кулон. Облегающие черные брюки четко обрисовывали красивые сильные ноги. На ногах у него красовались шнурованные с серебринкой ботинки. А в мочке левого уха висела серебряная серьга, схожая с капелькой росы на рассвете. Черной тенью мелькнул Ювинкум. Бабка, как видно обеспокоилась за меня. Знала, что я боюсь грозы. Ювинкум зацепился за ветку дерева и уставился с большой тревогой на незнакомца. Бесенок делал мне непонятные знаки, махал руками. Я смотрела не понимая, что ему нужно. Незнакомец медленно оглянулся, посмотрел вверх и Ювинкум отчетливо, испуганно пискнул, мгновенно испарился. Я осталась в недоумении. Незнакомец повернулся ко мне, внимательно посмотрел мне в глаза, усмехнулся. Руками быстро коснулся и уже в следующее мгновение я оказалась в его объятиях. Его губы мягко и нежно прикоснулись к моим губам. Я и сарафан-то выронила, все поплыло, закружилось вокруг. Тонкими пальцами он ласкал мою обнаженную грудь, не сводя пристального взгляда, не отпуская мое сознание ни на секунду. Я понимала, что что-то не так, но воспротивиться ему никак не могла. Я будто всю жизнь ждала только его и встретив, сразу узнала. Вся моя душа моментально бросилась к нему и утонула в его объятиях. Поцелуи его становились все горячее. И тут, я услышала его голос. Тихий и грустный, он напомнил мне спокойное журчание лесного ручейка и луч света, лежащий в пыльном полу заброшенной церкви.
– Кто ты? Лесная нимфа?
– Меня зовут Эличка.
Внезапно, он отшатнулся, удивленно вгляделся в меня:
– Так ты человек? – разочарованию его, казалось, не было предела. – Но ангелочек тебе знаки подавал?
– Это огненный моей бабки, – поспешила ответить я, впрочем, не отпуская его рук, просто вцепилась, но соображая, раз он такие вещи знает и духовные глаза у него открыты, значит, он необычный человек.
– А кто у тебя бабка?
– Колдунья.
Он сразу успокоился и приблизился ко мне:
– Стало быть, ты ведьмочка?
Я засмеялась:
– Теперь, моя очередь. Кто ты и как тебя зовут?
– Я? – Он задумался. – Пожалуй, ангел. А имя мое Аувей.
– А почему ты такой, как мужчина, а они, как дети? – вспомнила я про огненных.
– Мы разные. Они младшие, а я старший.
– Как понять?
– Так! – он улыбнулся моему недоумению.
Его улыбка оказалась светлой-светлой, даже в глазах веселые искорки пробежали. Вдруг он изменился в лице и враждебно уставился в чащу леса. Я посмотрела в ту же сторону и увидела бабку. Бабка стояла, подпираясь суковатой палкой. За спиной у нее томились все тринадцать огненных, они выглядывали то из-за плеча ее, то из-под локтя, но создавалось впечатление, что они страшно боятся моего возлюбленного да и она боялась, на лице у нее ясно читался страх.
– Чего тебе? – сурово воскликнул к бабке ангел.
– Оставь дитя! – попросила она и упала на колени, – неразумная она еще, не понимает. У нее даже силы-то пока нет!
Огненные тоже заголосили, запищали разом, встали на колени, просительно складывая ручки. Ангел строго смотрел на них. Я чувствовала, как он колеблется. Это мелькало и во взоре его, который он бросал то на меня, то на бабку, то на огненных.
– Я прошу тебя! – заплакала бабка.
– Мы просим тебя, господин! – вторили ей огненные.
И мой ангел пошатнулся. Он, сожалея, посмотрел мне в глаза, наклонился, поцеловал в губы, коротко, прощально. Повернулся и ушел в лесную чащу.
Не могу даже описать, что со мной произошло. Душа моя была объята такой тоской, что и не высказать. Я не могла понять, как он уступил моей бабке и покинул меня, ведь я просто не могла без него жить.
Туча уже грохотала над самой моей головой. Мелькали молнии, выхватывая по временам то испуганную моим поведением бабку, то мятущихся передо мной и вокруг меня огненных. Вместе с грозой я выла и неистовствовала, требуя у бабки вернуть мне моего любимого. А она только хватала меня крючковатыми сильными пальцами и тащила прочь из леса. Ей как-то удалось напялить на меня сарафан, огладить мои растрепанные волосы. Буря бушевала в природе, буря безумствовала в моей душе…
А спустя две недели золотые пылинки солнца танцевали на белой скатерти обеденного стола, на пузатом блестящем самоваре, на сервизных чашечках с блюдцами, на плетеной вазочке с горячими булочками. И так пылинки сверкали, переливаясь, что радостно стало на сердце, будто согрело его солнце.
Был ранний час. Бабка шумела у русской печки. По всей избе витали запахи шанег и любимой моей творожной запеканки. В доме было чисто-чисто, настелены были длинные цветные дорожки, по стенам развешаны вышитые цветными узорами белые полотенца.
Приезжали мои родители. И бабка страшно радовалась, что я наконец-таки уеду от нее. Очень она со мной намучилась за две недели слез и страдания, любовная лихорадка едва не убила меня. Я старалась не смотреть в сторону леса, старалась ни о чем не думать. Вся превратилась в зрение и с наслаждением наблюдала за суетой бабки.
– Не вздумай, кому рассказать, что, здесь, с тобой приключилось! – крикнула она мне от своей печки.
Я кивнула, улыбнулась ей успокоительно.
– И не вздумай в лес ходить или в парк, знай себе обходи все деревья стороной!
– Почему?
– Почему, почему, – рассердилась бабка, – много будешь знать, скоро состаришься!
На печке копошились огненные – играли, весело и звонко трещали что-то на неведомом мне языке. Временами какой-нибудь из них срывался с печки, летел над столом, купаясь в солнечных лучах, возвращался на печь. Розовый младенец, окутанный огромными белыми крыльями тогда махал мне оттуда пока собратья с веселым визгом не испачкивали его своими лапками до черноты.
Я встала с дивана, подошла к окну, раскрыла створки.
– Эличкин!
Я слушала. Ветер принес мое имя. Бабка быстро подошла ко мне, встала у меня за спиной, тоже напряженно прислушалась. Лес махнул мне ветками, оттуда, оттуда кричали. Я посмотрела в сторону деревни, наш дом стоял на отшибе и рослые яблони с вишнями скрывали тропинку. Наконец, показался велосипедист.
Бабка облегченно вздохнула, фыркнула насмешливо:
– Ухажер какой!
Вовка Стриж несся, словно ветер, того и гляди, взмоет ввысь на своем велосипеде. Рубашка надулась белым парусом… Я смеялась, а мне вторили ангелочки. Они уже давно все слетелись к подоконнику на бесплатное представление. Вовка соскочил с велосипеда, притащил огромный букет голубых незабудок. И где он столько нарвал? Знал, что это мои любимые полевые цветы. Смотрел на меня и никак не мог насмотреться. А ангелочки летали вокруг него, уморительно строили рожицы, складывали ручки, прижимали к сердцу, протягивали ко мне, будто в любви признавались. Вовка ангелочков не видел, хотя они и висели у него на плечах. А видел только меня. Я же вспоминала его маленьким. Бабка его причесывала, а он отвертывался и лохматил волосы руками. Помню, строил из железного конструктора мосты, машины, а когда не получалось, ревел и колотил кулачками свое творение.
– Уезжаешь?
– Уезжаю! – кивнула я.
– Не уезжай! – Вовка сердито затряс головой. – Вон, как хорошо вокруг!
Я посмотрела вслед за его рукой. Вон голубое ясное небо и солнышко. Белыми наволочками вздулись облака, теплый ветер их гнал куда-то вдаль. Лес спокойно шумел о чем-то, о своем. Бокастые коровы залезли в хрустальную речку и с наслаждением пили холодную воду. Кошка разлеглась на ветке яблони, прижмурила глазки и спала себе, а воробьи скакали возле, по ветке, рассматривали кошку опасливыми взглядами, готовые чуть что, вспорхнуть прочь. Из деревни раздавались звуки, кто-то топориком тюкал, кто-то бранился и кто-то оправдывался жалобным голосочком.
– Хорошо же? – Вовка заглянул мне в глаза.
– Да, – кивнула я и вздрогнула.
Мой любимый ангел так и встал у меня перед глазами. Я отошла от окна, а бабка махнула на Вовку тряпкой, так машут на надоедливую осу. И Вовка уехал на своем велосипеде, только на прощание крикнул:
– Не уезжай, Эличкин!
– Эличкин! – подхватил ветер.
А я заплакала, прямо затряслась вся. Бабка меня не успокаивала, только начала быстро-быстро накрывать на стол.
– Чую, родители твои уже едут, вытри лицо, негоже, чтобы они узнали о твоей хворобе. Уйдет эта любовь, растает, как прошлогодний снег весной, – ворчала бабка.
– Не уйдет, – покачала я головой недоверчиво, – так всю душу и прожег он мне, люблю я его, спасу нет!
– Пройдет, пройдет, – кивнула бабка, – встретишь парня, полюбишь, вон хоть того же рыжего Вовку, и все пройдет. Начнутся дети, семья, хлопоты…
Я с мукой посмотрела на бабку. Ну, как она не понимала, ведь я узнала ангела, будто он был знаком мне уже с тысячу лет, такой родной…
На дороге фыркнула машина. Бабка выглянула в окно:
– Ну, вот и приехали…
А спустя два дня случилось вот что…
Баянист сидел один у края стола, навалился на еду и пил не мало, водку да рябиновую настойку. Но не хмелел ничуть, ел много. Баян стоял сбоку на лавке – блестел пуговками ладов. Наелся, наконец, взялся за баян, полукругом растянул меха. И полилась музыка… Танцующих было много. Многие уже валяли дурака. Не столько танцевали, сколько валили гостей в пыль двора, земля не держала уже… Гоголем похаживал один в другом конце двора, пощипывал струны гитары. Подошел к отдыхающим от танцев девицам, пробежал глазами, выбрал и приосанился, будто тот петух. Девицы так и прыснули. А он, как кот к сметане, все ближе, ближе, прислонился плечиком к крутобокой задорной хохотушке…
И уже на другом конце двора, где баянист играл, послышалось:
«Горько, горько!»
Моя старшая сестра взасос поцеловалась с белобрысым женишком. Я передернула плечами, никак не могла принять его в родственники. Волос белый, брови белые, весь бледный, а губы синие, мертвец, да и только. Но у сестры моей всегда был бесцветный вкус и поклоннички бесцветные. Со двора слышался ее счастливый смех. Минута и она забежала ко мне в дом, закружила меня в вальсе, того и гляди, взлетит к потолку. Упала на диван в белых кружевах свадебного платья.
– Киснешь?
– Ничего.
– Пойдем танцевать, там кавалеров много.
– Пьяных.
Сестра покосилась на винное пятно, совсем некстати, как видно, поставленное неловкой рукой на платье, посмотрела в окно:
– Ты, Элька, прости, но ты какая-то совсем нелюдимая стала после жизни у бабки.
Она надула и без того толстые губы, поправила прическу, сердито взглянула на меня и упорхнула к гостям, к женишку, к своей свадебке.
А мне стало грустно-грустно. С детства мы отличались друг от друга. Анджела была темноволосая, живая, озорная. Все любила поплясать, с парнями похороводиться. А я затворялась в четырех стенах, читала и перечитывала книги из обширной отцовской библиотеки. Не интересны мне были любовные приключения и долгие пересмешки на скамейках. Анджела бегала на высоких каблучках, шила себе роскошные наряды, а я все больше в тапках да в кедах, да в стареньких брючках. Домашние за мой характер прозвали меня Букой, все им казалось, что я нарочно запираюсь в четырех стенах, нарочно не пропадаю на гулянках, такие люди, такие люди…
И никогда, никогда мы с сестрой не понимали друг друга, не дружили, как бывает с девчонками. Я тяжело вздохнула, выглянула во двор. Баянист заиграл плясовую. Отец, красный, как помидор, пошел, вскинув углом руки, грузно присел, раз, выкинул коленце, два и сел на отяжелевший зад. Толпа вокруг зареготала, спотыкаясь друг о друга, кинулись подымать. Отец встал, покачиваясь с бессмысленной улыбкой, врешь, смогу, отодвинул всех и опять пошел вприсядку. Круг, другой, на третьем свалился тюфяком в пыль, закрыл глаза и под музыку, топот, блаженно захрапел. Мужики взяли его, оттащили на травку, пускай отдыхает. Отцу все нипочем, только улегся поудобнее, накушался… мать тоже где-то была, я поискала глазами, но не нашла. Вообще, гостей значительно прибавилось. Какие-то незнакомые люди ходили меж столов будто свои. Чужой дед слонялся в толпе с бутылкой, подлавливал случайного собутыльника, распахнутая рубаха обвисла, в седой бороде запутались крошки. Вот приметил полную пьяную даму с глупой улыбкой на лице.
– Давай выпьем!
– А давай, дед!
Вцепилась в него, потащила к столу, едва не упали вместе. Налили водки в чьи-то стакашки, уж и неведомо чьи, чокнулись, выпили, расцеловались и пошли в обнимку отплясывать. Хорошо им пьяным-то, все люди у них – братья, сестры, со всеми можно обниматься и целоваться.
Я отошла от окна, пошла бродить по дому. Одно слово, дача, а так дом, как дом. Огромный, о восьми комнатах да еще гостиная в придачу с кухней. Дом деревянный, высокий, самая последняя комната – моя, под крышей, вместо чердака. Я ее сама обустроила, как мне хочется. По деревянной лестнице с изящными перильцами иду к себе. У меня хорошо. Висят под потолком сушеные травы. На стене фотообои с видом моего любимого леса. А возле окошка сосновый столик да мягкая кроватка, чего еще желать? Главное, нет помпезности с громоздкой старинной мебелью, что разбросана по всему дому полусгнившими почернелыми грибами.
Отсюда, из моей светелки не так слышна музыка и топот. И я могу предаться моим любимым занятиям. Вот папка, а в папке рисунки с моим ангелом. Пока я рисую, душевная боль прекращается. Я вся ухожу в карандаш, быстро-быстро мелькает он по бумаге, вот и картинка закончена. В центре я нарисовала себя, а перед собой Аувея, вокруг нас лес.
– Элька!
Мать поднималась ко мне. Быстро, очень быстро засновала по комнате, папку с рисунками сунула под кровать. Тайну души нельзя раскрывать тем, кто над тобой смеется, тем более, не воспринимает всерьез, пусть даже, это и близкий человек.
Мать встала на пороге, улыбнулась во весь рот, блеснули золотые зубы, покачалась с каблука на носок. Пылающий румянец, блуждающий взгляд, тоже пьяна, как все прочие.
– Чего же ты прячешься? Глядишь, и тебя замуж выдадим! – захохотала.
Полные груди так и запрыгали мячиками под праздничной кофтой.
– Пойдем скорее во двор, найдем тебе какого-никакого, кучерявого!
– Хорошо, я сейчас приду!
Скорее бы уж ушла, так нет же стоит, пялиться на меня с кривой улыбочкой, хоть бы соображала чего… Уцепилась за меня и потащила во двор, к пьяным, втолкнула в беснующуюся толпу. И сама полетела, руки растопырила, ногами топает, сплошная несуразица.
Я вылетела из толпы, никто и не держал. Они сами-то на ногах еле-еле стояли, спасались тем, что друг на дружку упирались.
Пошла прочь со двора, а то опять мать бы нашла, потащила бы знакомиться с каким-нибудь пройдохой и пьяницей…
В березовой роще царила тишина и безлюдье, конечно, все соседи по дачам отплясывали на свадьбе у моей сестры. Поэтому, я безбоязненно прилегла посреди высоченной травы. Надо мной плыли по голубому будто умытому небу белые облака и слегка покачивали верхушками березы, я закрыла глаза, скоро задремала. Сквозь сладкую дрему услышала легкий шелест, словно ветер потихоньку дунул. В то же мгновение, кто-то легко дотронулся до моей руки. Я тут же поняла – это он, мой родной, теплый ангел. Сразу проснулась, кинулась к нему и… счастливый смех Вовки Стрижа привел меня в чувство:
– Не знал, что ты меня так любишь?!
Смотрел на меня растроганно, смаргивая с ресниц случайную слезинку.
А я крепче крепкого обнимала его удивляясь самой себе, как я могла спутать его с Аувеем? Почему? Как могло возникнуть ощущение до сих пор мне неизвестное, родного нечто, нечто самого желанного в мире? И почему это ощущение возникло в отношении Вовки? Аувей и Вовка, Вовка и Аувей? Догадки толпились у меня в душе, смутные предположения…
Но Вовка поцеловал меня и поцелуй его нежный-нежный, отдающий привкусом сгущенного молока, отчего-то понравился мне. А Вовка улыбался, счастливый и говорил, не умолкая про то, как моя бабка собрала его в дорогу, как уложила для меня пирожков и шанежек, как он ехал и ехал, а доехав, все искал посреди свадьбы, пока не догадался, что меня надо искать у деревьев, где-нибудь в роще. Он все болтал, а мне по-человечески хорошо стало в его объятиях и уютно так, как не бывало еще никогда…
Что сказать… Больше я не видела Аувея, только однажды услышала историю про ангелов, живущих в деревьях. Узнала, как они, в принципе опасны для людей. Потому-то и взбеленилась моя бабка, что Аувей захотел бы, непременно захотел бы забрать меня с собой и, стало быть, я бы умерла для этого мира, покинула тело. И неизвестно еще была бы, я счастлива живя с ним после смерти, как лесная нимфа в дупле какого-нибудь дуба, ведь я Аувея совсем даже не знала… Но, иногда, бывает, в толпе людей увижу знакомые черты, усталый взгляд и сердце сжимается в радостном предчувствии любви, он или не он? Ау, Аувей, отзовись!
1989 годАггел
1
С картины на меня смотрел высокий красивый мужчина лет тридцати пяти. Его взгляд неотступно следовал за мной, куда бы я ни шагнула. В комнате совершенно некуда было от него деться. В синих глазах таилась печаль и доброта. На тонких губах играла грустная улыбка. Во всей осанке чувствовалась порода, видимо, он был представителем, так называемой голубой крови, из князей, графьёв или еще кого. С удивлением рассматривала я чудесный портрет. Золотистая рама из дерева запылилась, где-то на шкафу нашлась тряпочка, протерла тихонечко и само полотно. Для этого мне пришлось пододвинуть к картине стол, портрет был огромен, от пола до потолка. Казалось, нарисованный мужчина вполне может вышагнуть оттуда, но все оставалось, как и должно было быть, и не иначе…
Между тем, в доме помимо портрета пылилась кое-какая старинная мебель: крепкий комод, бельевой шкаф, большущая кровать. Предыдущие хозяева почему-то все это не взяли, хотя, по правде говоря мне сказали в агентстве недвижимости, что давным-давно никто тут и не проживал, что, мол, все перемерли, только дальний родственник какой-то остался, он и продал жилище.
Я покружилась по дому, обдумывая будущий ремонт и отчего-то опять вернулась к портрету. На меня глядели вполне живые глаза нарисованного мужчины, даже передернуло, мурашками покрылась кожа рук. Я встряхнула головой, чепуха какая-то, отогнала от себя страх и нарочно осталась на ночь в доме. А что? Дом купила я для себя, он мой и точка. И бояться тут нечего, как же жить в нем, ежели боишься? Честно, всю жизнь я мечтала убежать от родителей из душной городской квартиры куда-нибудь на окраину, в деревянный домик с огородиком, пускай без удобств, пускай с печкой, пусть. Отец меня одобрял, он и дом присмотрел, ходил с агентом по недвижимости, щупал деревянные балки, не худые ли… Сама я была в собственном, моем собственном жилье, шутка ли! – Впервые.
Из одной комнаты передвинула кровать в комнату с портретом. Кровать катилась легко, колесики действовали исправно. Пропыленный матрац свернула вдвое, получилось этакое кресло. Взобралась с ногами. Быстро темнело, а электричество в доме отсутствовало, надо было еще с электриками договариваться, что-то там тянуть, какие-то провода… В комоде нашлись две стеариновые свечки, поставила обе на старые растрескавшиеся блюдца, на пол. Желтый свет свечей разгорелся на удивление ярко, я даже удивилась, не знала, что свечки могут светить так сильно, буквально, как нормальные лампочки, во все углы. Портрет, между тем, ожил. Причудливые тени шевелились и мне казалось, что и он там, нет-нет да и шевельнется, разомнет уставшие плечи, поведет влево-вправо головой, потрет занемевшую шею. Я вздрагивала и впивалась усталым взором в портрет, нет, как будто все оставалось прежним… Между тем, сон дышал мне в лицо, упорно прикрывал мне веки ласковыми ладошками, очень хотелось расслабиться и поспать да и что там! Портрет есть портрет, а свечи догорят и погаснут. Желание вздремнуть оказалось сильнее моей неугасимой противоречивой натуры и я заснула.
Тотчас мне приснился портрет и он… Увидев, что я заснула, он живо сошел с картины, подошел ко мне, наклонился, рассматривая. Легко, тонкими пальцами дотронулся до моих губ. С удивлением погладил по голове, рассматривая цвет волос, белый. Прическа у меня была не короткой, не длинной, по плечи, но пышные, совершенно свои волосы, не знавшие краски были тонки, так что отращивать дальше не имело смысла, всегда путались… Между тем, он взял меня, спящую, на руки и бережно прижимая к груди, шагнул в портрет. Сразу же что-то невообразимое напало на меня, дикое, не поддающееся никакому описанию, ни с чем не сравнимое смятение, такое сильное, что сдавило мою душу, как тисками… Я вырвалась из рук его, полетела куда-то вниз и сразу проснулась. Вскочив, долго вглядывалась в неподвижный портрет, тщетно выискивая что-то похожее на свой сон, но все оставалось прежним… Однако, ну и игры устраивает мое сознание! Я покрутила головой и не дожидаясь более следующего страшного сновидения, задула одну свечу и взяв другую, горящую, направилась к выходу. Но только коснулась входной двери, как услышала, вполне явственно услышала грустный мужской голос зовущий меня по имени:
– Эличка! – прозвучало в тишине ночного дома.
Дыхание у меня прервалось, крик застрял в груди, но то не был страх, а лишь нечто похожее на отчаяние.
«Как глупо! Попалась!» – кричал кто-то внутри меня.
Зацарапалась в двери, никак не могла открыть, а позади что-то происходило и свеча, которую я затушила, зажглась сама собой. Тень, чья-то тень появилась на стене комнаты. Кто-то взял свечку и тронулся ко мне, кто-то, кого не могло быть, не могло… я тихонечко подвывала, на большее меня не хватало, дверь никак не открывалась. Наконец, я сообразила, что толкаю ее, а надо бы наоборот потянуть на себя. Между тем, драгоценное время было упущено. Как во сне, отказываясь верить в происходящее, едва не сходя с ума, я увидела, как со свечой в руке из дверей комнаты, где я только что ночевала, вышел тот самый мужчина с портрета. Едва соображая, я прошептала:
– Мамочки!
И собираясь с силами, отгоняя навязчивое желание грохнуться в обморок, стала шептать с трудом вспоминаемые слова молитвы «Да воскреснет Бог!», которые запомнились как-то сами по себе еще в детстве, услышанные мной от моей верующей матери.
Однако, молитва не действовала, мужчина, как ни в чем не бывало, сделал несколько шагов и, неожиданно, быстро, оказался прямо передо мной. Удивленно, позабыв почему-то все слова молитвы, смотрела я на него…
Он был вполне живым, необыкновенно высоким, выше двух метров ростом, статным, хорошо сложенным мужчиной. Взор голубых глаз по-прежнему, как на картине, был печален и добр.
– Не надо бояться, – сказал он спокойно.
И отчего-то покой и безмятежность тотчас же охватили мою душу. Я расслабилась и позабыла как-то, что имею дело с нарисованным портретом. Между тем, он опять дотронулся до моих волос, до лица моего. Тепло его руки совсем сбило меня с толку.
– У тебя нежная, наивная душа, – опять заговорил он. —
такие души любят пожирать вампиры из людей. И у тебя будет муженек-упырь, – сокрушался он, качая головой, – он бросит тебя с ребенком, но перед этим так наиздевается над тобой, так измучает твою душу, что ты рада будешь своему одиночеству. Рада будешь тащить ребенка сквозь время самостоятельно, а муженек твой, меж тем, сожрет несколько жизненных сил у других женщин и одну загубит, умрет она…
– Нет, – покачала я головой упрямо, – я не собираюсь замуж. Был у меня жених Вовка Стриж, смешной и добрый человечек, но погиб он, сшиб его пьяный нувориш на иномарке и я решила, никогда, никогда не выйду замуж, ни за кого…
– Ты и не заметишь, как он появится в твоей жизни, – грустно улыбнулся он, – сведет тебя с ума, любовь – это ведь умопомешательство. Родители твои будут твердить тебе, что он пьяница, что ноги об тебя вытрет, пропьет твою душу, а ты со своим неистребимым упрямством и наивностью не поверишь им и будешь верить в него, будешь верить в его ложь.
Я упрямо мотала головой, напуганная перспективой своей жизни. Но он отдал мне вторую свечу и положил обе ладони на мой пылающий противоречиями лоб. И тогда, я ясно увидела свою свадьбу и пьяного мужа, которого мгновенно узнала. Действительно, мне был знаком этот человек, его звали Валеркой Терпеловым. Старше меня на тринадцать лет, он жил своей жизнью очень известного в Ярославле журналюги и верстальщика. То, что он попивал «горькую» я знала, но представить себе свадьбу с ним и дальнейшую совместную жизнь никак не могла. Все это было невероятно. Однако, я ясно увидела, что сблизимся мы после моего перевода в газету «Юность», где он и работал. Действительно, я подумывала об этом переводе. Далее, довольно резко я увидела свою могилу и серенький памятник с датой смерти, получалось, что умру я уже через пять лет…
– Хочешь, ты такой жизни и смерти? – спросил он, сочувственно заглядывая мне в глаза.
Слезы сами собой потекли у меня по щекам. Я помотала головой:
– Что же делать? – спросила я у него, недоумевая.
Душой, ясно, я поняла, все увиденное в будущем, истинная правда.
– Попробуй нарушить ход событий, – посоветовал он мне, – пойди в эту редакцию прямо сегодня, подойди к нему и ударь его со всего маху в лицо со всей ненавистью за свою раннюю смерть и за загубленную жизнь вашего ребенка, он ведь в детский дом попадет…
– Но почему? У меня же есть родители? – возразила я. – Они – люди порядочные, совестливые, они «поднимут» его.
– Нет, они умрут сразу же после твоей смерти, не смогут перенести горя твоего отсутствия в этом мире рядом с ними, а ребенок после детдома попадет в тюрьму и сгинет. Родители же мужа твоего – слабоумные, бездушные люди вообще не заметят твоего появления в жизни их сына. Ну, а о сестре твоей говорить не приходится, скрытная, завистливая ее душонка не позволит ей взять обузой племянника, ни к чему он ей будет…
Ярость, гнев, смятение чувств, все сразу охватило меня и я, с трудом справившись с собой, твердо поглядела ему в глаза:
– Я сделаю так, как ты советуешь…
2
В то же утро, я пришла в редакцию «Юности», где работал мой будущий муж. Гнев прожег мою душу, когда я увидела сытое, довольное лицо этого человека. Болтая ногами, он сидел на краю письменного стола и разговаривал о чем-то пустом со своими коллегами по перу. Не долго думая, я подошла к нему и не успел он обратить на меня внимание, как ударила его сжатым кулаком прямо в нос. От неожиданного нападения он завалился на бок. Товарищи его кинулись ко мне, мешая ударить еще раз, схватили за руки. На их испуганные крики я сбивчиво, но с большою силою ответила, что этот нелюдь, этот Валерка Терпелов, сломал мою жизнь и я не намерена умереть через пять лет от того, что этот гад бросит меня с ребенком на произвол судьбы.
– Пьяница! – выкрикнула я ему в лицо.
Испуганно вытирая кровь, он смотрел на меня непонимающим, ничегошеньки непонимающим взглядом.
– Вампир! – кричала я, вырываясь из крепких рук окруживших меня журналистов. – Не смей никогда вмешиваться в мою жизнь! Убью! Убью, сволочь!
Он был совершенно повержен. А окружающие, что-то понимая, зашумели на него, мол, зачем так-то, как-то надо было по-человечески с девушкой-то обращаться. На что мой будущий супруг лепетал нечто невнятное, тряс головой, как бы пытаясь избавиться от наваждения, растерянность сквозила во взгляде его болотных глаз.
А мне дико как-то показалось, неужели это мой будущий супруг? Весь сутулый, одетый неряшливо, несуразно, обросший, с лохматой бородищей на впалых щеках. Что это? Я видела таких мужиков на улицах города. В обыкновенных дешевеньких рубашечках, в темных брючках, в разорванных грязных ботинках, с черными небольшими сумками на плече, они одинаково как-то ходили, перекошенные на одну сторону, в силу привычки носить тяжести на одном только плече; смолили дешевенькие папироски или сигаретки и производили впечатление этаких работяг с низкой зарплатой. Чем увлекаются подобные люди? В основном, рыбалкой и пьянкой, шабашками и пьянкой, женщинами и пьянкой. Что еще интересует этих людей в жизни? Дети? Пожалуй… но не свои. Как правило, такие мужики любят заглядывать в чужие семьи, где неимоверными усилиями уже налажен быт, а свои собственные семьи им «поднимать» не под силу. С ужасом глядела я на этого «человека», не представляя, как же это возможно, чтобы такой «товарищ» стал да еще и моим мужем? Дура я, что ли?! И вырвавшись из рук ошарашенных происходящим журналистов, я круто повернулась и ушла из редакции, явно повергнув всех оставшихся там в состояние шока.
А уже вечером, после работы, абсолютно безбоязненно стояла я перед портретом в своем доме. Все оставалось прежним, но едва я зажгла свечи, тотчас, он и вышел оттуда. При чем темное пространство картины, вдруг, озарилось невиданным каким-то ярким светом. Я увидела там движущиеся человеческие фигурки. Они, не торопясь, проходили по какому-то большущему красивенному помещению, ранее мною незамеченному. Он проследил за моим взглядом и тихо произнес:
– Это мой мир.
– Как он называется? – не без удивления, спросила я.
– Поднебесная, – тихо ответил он, не спуская с меня пристального и отчего-то изучающего взгляда.
– Красиво называется, – кивнула я, смутно припоминая размышления некоего писателя-мистика, прочитанные мною где-то, о многообразии разных миров, находящихся по его теории совсем-совсем рядом с нами. И уже уверенная, протянула руку к картине:
– А это портал в твой мир?
Он засмеялся, кивнул радостно:
– Можно сказать и так.
– Я бы хотела посмотреть…
Он с сомнением покачал головой:
– Если выдержишь переход.
Я с готовностью протянула к нему руку:
– Выдержу!
И мы шагнули в картину. Снова ни с чем не сравнимое смятение охватило мою душу, совсем, как давеча, во сне. Перед глазами все слилось в сплошную темно-белую ленту, будто мы понеслись с огромной скоростью по какому-то тоннелю, я даже замечала некие ребристые стенки. Громкий вой и даже визг ветра слышался мне. Мой спутник, между тем, опять подхватил меня на руки, так как, я, видимо ослабела и потеряла сознание…
3
Все-таки я очнулась и сразу, слух мой обострился. Сама не своя до красивой мелодичной музыки, я просто замерла, не в силах даже дышать, так меня поразил чей-то необыкновенный голос, выпевающий что-то волнующе-прекрасное на неведомом мне языке. Голос был совершенно одинок, высок, но наполнен звучанием. Внутреннему моему взору представилось, что по лесу, непременно по лесу идет высокий молодой русский в косоворотке, в полосатых штанах, в плетеных лаптях, собирает грибы и, меж делом, поет народную неторопливую нескончаемую песню, почти все на одних и тех же высоких нотах. Представленная мною картинка была настолько невообразимой, что я вполне пришла в себя.
Открыла глаза. Подо мною было розовое облако, на ощупь мягкое и пушистое и вокруг белые, розовые облака плыли куда-то по голубому океану неба. Я приподнялась, оглядываясь. Вдали сияли серебристым светом башенки и башни высоченного дворца. От неожиданной красоты окружающего мира и еще от пения необыкновенного певца, которого, кстати, я так нигде не увидела, будто пело само небо, у меня зашлась душа и на глаза навернулись слезы.
– Поднебесная, – прошептала я и встала на ноги.
Розовое облако исправно держало мое, в принципе, наверное, тяжелое тело. В нашем мире я наверняка провалилась бы сквозь него, как сквозь дым, но тут… тут мои сорок с лишним килограмм веса для облака оказались пустячком. Я снова легла, потому как было страшновато стоять. Далеко внизу, сквозь просветы в облаках, проплывающих подо мною виднелась зелень большущего леса и белые домики окруженные забором. «Деревня», – почему-то промелькнуло у меня в голове. Но желала я, конечно, попасть не в деревню, а в серебристый дворец.
Розовое облако, видимо, исполняя мое желание неторопливо тронулось ко дворцу. Меж тем, по мере продвижения, пение необыкновенного певца пропало и вместо него, я услышала десятки голосов выпевавших непостижимую молитву, одни голоса забирались высоко-высоко, тогда, как другие пели на низких нотах. И часто, в скопище незнакомых, может быть, латинских слов, я слышала знакомое: «Алилуйя!»
«Флнат удор пер спиритум элоим манет терра пер адам джот чавах», – выпевал чей-то высокий-высокий голосочек.
Спустя небольшое количество времени, я услышала уже барабаны, кто-то невидимый мне, мастерски выбивал сумасшедший ритм, под который, правда, очень хотелось тут же пуститься в пляс.
А облако плыло дальше и дальше, музыка менялась… Возле самого дворца летали ангелочки, уже без удивления, просто завороженно, наблюдала я за их играми. Много, очень много маленьких мальчиков и девочек всякого возраста, совсем малыши, еще, наверное, не умеющие ползать и старше, может двухлетние, трехлетние носились в воздухе. Самым взрослым было, вероятно, не больше пяти лет. Все они выглядели прехорошенькими ангелочками, как и положено, за спинами у них трепыхались нежные, полупрозрачные крылышки, на манер стрекозиных. Одеты они были в белые одежды, простенькие рубашонки и брючки, младенцы окруженные ворохом кружев выглядели и вовсе весьма живописно в розовых да голубых сорочках. Они живо играли в салочки, при чем самые младшие летали быстрее и ловчее старших. Ангелочки занятые своими играми совершенно не обращали на меня внимания и я спокойно летела почти между ними, попадая, иногда, в вихрь их веселых «догонялок», пока розовое облако не поднесло меня ко дворцу, к самому верху.
Здесь, на верхнем уровне, потому как были уровни еще ниже и ниже, еще сколько-то ниже, на мой взгляд все сооружение, наверное, тянулось от земли до неба с километр, не меньше. Так вот, на самом верхнем уровне, я увидела большущий сад: множество роз увитых зелеными кудрями плюща в изобилии росли тут, их сладкий аромат чувствовался в воздухе. Я шагнула с облака на дорожку, проложенную между розовыми клумбами. Голубоватые мелкие камушки зашелестели у меня под ногами. Не торопясь, замирая на каждом шагу, пошла я по этой дорожке ко дворцу и потрясающе высокое ультрамариновое небо, какое бывает только на огромной высоте сопровождало каждый мой шаг. Лишь одно меня удивляло, отсутствовало солнце. Нигде не было видно родного светила, однако свету хватало, также, собственно, как у нас белым днем. И тепло, тогда как на Земле, на такой высоте я наверняка бы, страшно замерзла.
Дворец сложенный из блестящего камня, цветом, весьма, напоминал некое серебряное изделие, только очень большое. Широкая серебристая лестница вела внутрь, наверх к четырем видным мне башенкам. Великолепные золоченные, а может и золотые купола с синими звездами высились на башенках. По бокам лестницы стояли мраморные статуи, изображающие огромных величественных ангелов, крылья высоко вздымались у них над головами, у кого-то распахнутые, у кого-то сложенные за спиной, но все ангелы производили просто ошеломляющее впечатление. Потому что все, как один, они были с мечами и грозно сдвинув брови смотрели в небо, они застыли в позе дерущихся воинов, готовых вот-вот кинуться на кого-то и беспощадно сражаться… Слегка испуганная, я поскорее миновала лестницу и прошла сквозь распахнутые прозрачные двери в роскошную большую залу, остановилась в смущении. И было от чего… На полу разостланные шикарные огромные ковры расцвели яркими расцветками невиданных прекрасных цветов; на больших окнах висели легкие прозрачные занавеси; стены, украшенные картинами лесных пейзажей дышали царственным покоем. Я сняла туфли и босиком, не желая испачкать чудесные ковры, держа свою обувь, со следами пыли нашего мира, в руке, в смущении от красоты окружающего меня пространства, прошла дальше. В другой зале журчал диковинный фонтан, хрустальные струи воды вздымались высоко-высоко и там, наверху, над самой головой, над стеклянным куполом, плыли знакомые мне розовые и белые облака. Задумчиво, очарованная непостижимым этим местом стояла я в зале. И тут, ко мне подошел Он. В блестящем белом костюме, высокий, статный, Он в одно мгновение пленил меня. Я увидела небывалую красоту этого мужчины. Кожа на его лице была такая нежная, белая и прозрачная, а из-под темных длинных ресниц улыбались мне такие синие грустные глаза, что я поняла, всей душой поняла, что влюбилась. Он внимательно смотрел на меня и солнечные блики танцевали в его глазах, хотя солнца, повторяю, не было. Он попросил меня надеть туфли и когда я обулась, оказалось, что я на своих каблучках, поверьте, небольших, всего лишь на голову ниже его, хотя рост мой составляет метр шестьдесят пять сантиметров. Как видно, он сделал себя поменьше ростом для удобства общения со мною. В нашем мире он выглядел гораздо выше…
Он, не торопясь, привел меня в какую-то не большую, но роскошную комнату. Здесь, посередине комнаты стояла огромная кровать застланная белым бархатным покрывалом. Множество мягких подушечек было набросано на постель и так заманчиво, уютно они лежали, что усталость от впечатлений нового мира тщательно не замечаемая мною раньше, требовательно напомнила о себе. Он с улыбкой наблюдая за мною сказал, что это мои покои и посоветовал принять ванну, переодеться, поспать. Потом он указал на двери напротив и сообщил, что это его покои, пожелал мне покойной ночи и удалился, прикрыв за собой двери. Я осталась одна. Первым делом сняла туфли, мягкий ковер защекотал мои разгоряченные ступни ног. В самом деле было как-то жарковато. В комнате я заметила еще одну дверь, открыла и замерла. Черная большая ванна с золотистым краном так и поманила меня к себе. Не долго думая, я скинула всю одежду, блаженствуя под теплым душем, бьющим, казалось, из самого потолка, позабыла все на свете и очнулась только, когда в двери ванной, кстати, не запертой, вежливо постучались. Испуганно метнулась, даже прикрыться было нечем ни полотенца, ни одежды, все осталось в комнате. Между тем, дверь открылась и прелестная молодая девушка, держа в руках полотенце, полупрозрачную сорочку и легкий голубой халатик вошла тихохонько, поклонилась мне и оставив все на широком краю ванной, ушла, не слышно. Этакая призрачная, легкая девушка напомнившая мне отчего-то лунный луч в спокойной воде пруда от полной Луны в тихую звездную ночь…
Я успокоилась, меня тут уважали, даже оказывали какие-то знаки внимания. Я улеглась в ванну, теплая вода постепенно наступала, мягко обволакивая мое тело, уставшее сознание расслабилось. Сквозь лень и наступающую на веки сонливость задумалась, вспоминая и обдумывая свои впечатления от увиденного. Но, чтобы я не вспоминала, все равно мысленно, неизменно, я возвращалась к Нему. Наконец, я прекратила бегать от самое себя и задумалась по-настоящему. Он, кто Он? Он по-спортивному подтянут, элегантен, красив. Хотя я никак не могла дать точного описания этой красоты. О его красоте хотелось думать и думать, так она была не похожа на общепринятую… Он умел красиво и достойно двигаться, красиво улыбаться и умно, спокойно говорить чарующим мелодичным голосом. Но тут было другое. Источником его красоты служила безо всякого сомнения гармония, совершенство Его существа, достигнутая, быть может, огромными внутренними усилиями души и ума, и еще, конечно, благородства, которое, буквально, сквозило в каждой черточке Его лица.
4
Засыпая, в роскошной постели нового чудесного мира, я, вдруг вспомнила о своем будущем муже и засмеялась, с наслаждением представила, как я ударила его и как он смотрел с недоумевающим видом. Внезапно, необыкновенно ясно мне стало многое, что обычно скрывают подобные люди, будто кто-то приподнял услужливо завесу, прикрывающую его душу. Сразу проснувшись, с удивлением взирала я на то, что ярко и просто предстало перед моим внутренним взором.
Валерка Терпелов не принадлежал к умным людям, хотя сам о своем уме был весьма высокого мнения. Он много читал и запоминал прочитанное, а потом, при случае, вворачивал в свои фразы чужие предложения, выдавая их за собственные. Однако, большинство собеседников, как правило, более умных, чем Валерка, он обмануть не мог. Многие над ним подсмеивались или откровенно его недолюбливали, но редко, кто отваживался сказать, глядя ему в глаза, что он дурак и невежа. Валерка был взбалмошным, резким человеком с черствой бесчувственной душою, он даже не замечал, как обижает людей, в особенности близких людей. Он считал, что все ему должны.
Дома, он держал, как правило, глупую женщину, у которой не было возможности уйти от него, некуда было, и деспотически издевался над ней, побивал изредка для острастки. Он и в любовных утехах вел себя не по-человечески, кусался, щипал до черных синяков и наслаждался, видя, как партнерша, напоенная им предварительно до пьяна, мучается от боли.
Единственная, кому все это нравилось, была зечка и бомжиха по имени Наташка, наколки даже на лице у нее синели безобразной татуировкой. С ней он познакомился, просто отбив у знакомого зека, опрометчиво пришедшего к нему в гости с Наташкой… Она и сама хватала Валерку за переднее место, выкручивала, едва не отрывала. Оба они страдали серьезными психическими расстройствами и садистскими наклонностями. Так, что вполне дополняли друг друга и в фингалах, в кровавых синяках, довольненькие, засыпали, уткнувшись носами в зачуханные подушки.
Деспотизм Валерки доходил до смешного, так, уходя на работу, он велел своей сожительнице никому двери не открывать, делал вид, что ревнует ее к соседям, своим дружкам-выпивохам, а сам испытывал истинное наслаждение, видя, как пугается глупая баба. Дальше-больше. Жил он в общежитии в небольшой комнате с убитыми тумбочками и столами, чаще всего мебель приносил с помойки. Нет, нет, он работал. Вначале журналистом, потом выучился на верстальщика. Куда ему было сочинительствовать? Пропитый мозг, вечно в дурмане алкоголизма не мог совладать с жесткими реалиями журналистики. И все ему что-то мешало жить нормально, как нормальному человеку. Он, правда, страшно завидовал трезвенникам, мужикам, живущим семьею, имеющим цель в жизни. Частенько задумывался, конечно, что можно было бы попытаться изменить свой образ жизни, расстаться с алкоголизмом, вернуться к семье. Но это представлялось для него трудной задачей. И оправдываясь перед мучившей его совестью он придумывал предлоги для очередного пьянства, то нельзя было не выпить, важных людей обидишь, то праздник, то у кого-то юбилей, то, то…
Неразвитое мышление его жаждало славы. И он, будучи трезвым, с утра, зачитывал до дыр соответствующие журналы, заучивая буквально наизусть анекдоты, тосты, чужие истории. А будучи пьяным, выдавал прочитанное за свои собственные мысли. Пил он всегда в компании весьма «умных» людей, выпивохнутых журналюг, верстальщиков, типографщиков и прочих. И вечно, над толпой пьяных гуляк звучал приглушенный, осипший от чахотки, хвастливый голосочек Валерки. Почти все деньги, что получал зарплатой, он проедал вместе с сожительницей и пропивал, хотя и перешел в целях экономии на боярышники, что продавались в аптеках по пятнадцати рублей за штуку.
«Медицинский коньяк пьем-с», – говаривал Валерка глупой бабе, та пила и радостно соглашалась.
Наташку он не любил, а использовал ее в своих целях. Она ему стирала, убиралась в его убогой комнатухе, готовила ему пищу на электроплитке, удовлетворяла все его сексуальные прихоти и он был доволен таким существованием, доволен тем, что она ничего не требует. Ему не интересна была ее душа, ее мечты. Она действительно очень сильно тупила, слушала зековские песенки, ей привычные, так как она всю свою юность провела в колонии. Ей, с ее ограниченным сознанием было удивительно иметь в сожителях Валерку, хвастуна и гордеца, как правило, говорившего о знакомствах с известными людьми, как о само собой разумеющемся. Правда, он действительно с кем-то и был знаком, но эти люди его игнорировали и относились к нему более чем пренебрежительно, а то и использовали его в качестве бесплатного верстальщика листовок, воззваний и прочей дряни, которые Валерка и верстал послушный сильным мира сего. Его тщеславная душонка упивалась тогда своим величием, он нужен таким людям, что ты, что ты!.. Все знакомства, почти все рассыпались в прах от его алкоголизма. Пил он жутко. Но жил по своим нормам и правилам, по своим убеждениям о пьянстве, которые считал для себя вполне приемлемыми. То, что его жизнь с точки зрения логически мыслящего человека была, мягко говоря, постыдной, он и не задумывался. Разве логично напиваться каждый день? Или обворовать по-пьяни редакцию газеты, где сам работал, унеся компьютер и деньги из сейфа? Или избить главного редактора до полусмерти? Или подделать документы так, чтобы не платить алименты двойняшкам-дочерям, которых бросил в Приозерске под Питером еще маленькими, много лет назад? Что говорить, логика, здесь, и рядом не ночевала. Я смотрела и видела, одновременно и будущее, и настоящее, и прошлое этого «человека». Голова моя кружилась, тело слабело, но духом я была сильна и всматривалась, всматривалась в дела и мысли Валерки, потому что он был бы моим мужем. Наверное, ни одна невеста на свете не узнала бы столько о своем женихе, сколько я узнала…
Валерка, конечно же, не замечал более чем презрительного отношения окружающих к своей персоне нон грата и все рассказывал своей пьяной Наташке о том, как губернатор города ему что-то такое сказал, как-то его отметил, рассказывал об артистах города, как о старых знакомцах, о редакторах газет, как о самых-самых близких ему друзьях, о депутатах Областной Думы, сплошняком его товарищах и так далее. Она слушала его, раскрыв рот, что невероятно льстило его самолюбию. Ему казалось, вот жизнь его налажена, тыл прикрыт. Тылом, в данном случае, была эта баба, но у нее уже развилась чахотка и она по ночам сильно кашляла, мешая соседям спать. Беззаботный Валерка ни о чем не заботился.
С ужасом глядела я на дела и жизнь его. Мало того, резко обозначилось будущее Валерки. Внезапно, я увидела его худые и желтые пальцы скрюченные от вечной работы за компьютером на клавиатуре, они уже плохо держали рюмку и дрожали от сильных ударов сердца, вызванных большими порциями боярышника. Мутными от пьянства глазами глядел он на небольшой портретик своей Наташки. Горела перед портретиком церковная свечка и стоял налитый до краев стакашек с боярышником.
«Умерла она», – поняла я.
В одну секунду до меня дошло, что теперь Валерка будет обожествлять, идеализировать свою подругу и сведет с ума всех, кто будет иметь несчастье приблизиться к нему.
«Да, ведь он умопомешанный, сумасшедший!» – догадалась я.
Великое множество подобных людей сейчас шатается по России, приводя в изумление и замешательство всех вокруг. Пользуясь безалаберностью русской действительности, попустительством правительства эти шизики довольно умело маскируют свои болезненные выпады, выводы и доводы под призмой разных ухищрений. Так и этот удивительный недочеловек Валерка Терпелов напуганный последствиями смерти своей сожительницы, состряпает на компьютере бумажку и выведет на цветном принтере. В бумажке, то бишь, в свидетельстве о смерти будет написано, что умерла девушка в свои двадцать шесть лет вовсе не от чахотки, а от пневмонии легких. Я вдруг поняла, что и у него чахотка, пока закрытой формы. И он после тубдиспансера сочинит бумажку, что у него всего-то рак легких. Будет пить «горькую», перейдет в газету «Я…», где опять-таки ему поверят. Но пить при туберкулезе легких нельзя и в один день после новогодних праздников, особенно знаменитых своим пьянством, у него пойдет горлом кровь и он умрет от скоротечной чахотки, окрасив в красный цвет компьютер и «клаву», и письменный стол, и пол, и все… А напуганная общественность города узнав о причине смерти Валерки Терпелова возьмет приступом областной тубдиспансер, отчаянно проклиная покойника и кроя его всеми известными и не известными ругательствами. И меня он бы заразил чахоткой, вот почему я увидела свою могилу и дату смерти, через пять лет…
Пораженная всем увиденным, долго, я сидела в своей кровати, без мыслей, без чувств… Наконец, мое сознание встряхнулось, будто тот воробей заснувший в стужу где-нибудь под князьком крыши. «А ну-ка кыш, оцепенение!» – крикнула я себе самой и мысленно еще раз удивилась на жизнь своего будущего мужа да какого мужа? Муж он, кто? Муж – это опора в семье, кормилец, защита, покой, а этот Валерка, кто? Ежедневные пьянки настолько затуманили его рассудок, что он не видит и не понимает насколько омерзительна его жизнь и его дела для общества нормальных людей. Тоска, а не человек. Психически больной, он наверняка и в трезвом уме творил невероятные поступки.
5
Валерка Терпелов родившийся в 1957 году успел закончить школу в поселке Новое Доскино Нижегородской области, учился он довольно посредственно. В поселке жил с родителями Любовью Ивановной и отцом Леонидом Константиновичем Терпеловыми, которые стремились всегда к одному результату, чтобы было все как у людей. И, наверное, потому Валерка рано овладел искусством играть на баяне и принялся играть с большим успехом на танцульках своего поселка. Взрослые ребята наливали ему стакан самогона, так он и пристрастился к пьянству, на ту пору ему едва исполнилось десять лет. Вследствие ли раннего алкоголизма или еще чего-то, но характер его стал бешеным, почти неуправляемым. В доме его боялись и вздохнули с облегчением, когда он слинял в Петербург, подвязаться на какие-то стройки. Тут ему никто пить не мешал, каждодневно в обществе таких же пропойц он беспрепятственно проглатывал по десятку рюмочек с водкой. И получалось, что он именно для этого и удрал из дома, чтобы никто не читал ему нотаций, хотя надо было бы родителям не за ремень хвататься, а вести сына своего в психушку, но деревня деревней, дураков в России много и никого уже не удивишь бестолковым воспитанием детей. Достойное воспитание дало и достойную внешность. Представьте себе напряженные цепкие глаза, всегда сверкавшие таким злым насмешливым блеском, что при взгляде на них даже самый тупой собеседник ежился и принимался отчаянно загораживаться, мысленно, конечно, интуитивно, чуя зверя, желая об одном, уползти в щелку, а еще лучше, убежать.
Часто, на улице люди недоуменно разглядывали его. Неопрятный вид, давно не стриженные волосы свисают до плеч, не ухоженная, косо подстриженная борода доходит до пояса. Он походил на бомжа. И всегда пребывал в состоянии крайнего напряжения, взвинченности, и всегда искал выхода, чтобы успокоить взбудораженные нервы. Слишком быстро у него происходил переход от веселья к яростной неуправляемой злобе. Но Валерка пил и в пьянстве бывал добр. Смеялся глумливо, для чего-то взвизгивая, а глаза его при этом не смеялись, лишь покалывали своих собутыльников пристальными, изучающими иголочками. Любил поговорить о высоких предметах, поспорить. Часто, потому, в глухую ночь, когда все нормальные люди спят, а ненормальные, как всегда, бодрствуют. Так вот, часто, очень часто посреди облаков сигаретного дыма, Терпелов спорил, громко перекрикивая голоса всех, кто принимался с ним спорить. Говорил без умолку, постоянно вставляя мудреные словечки, повторяя одно и то же по десятку раз и не замечал этого, говорил один, как одержимый. Да он и был одержим демоном-вампиром. Демон этот двигал телом пьяницы, раздувая, как в мехи, гордыню своей жертвы, вызывая гнев у других людей, потому как у разгневанного человека проще отнять жизненную энергию, которой, как известно, и питаются вампиры. Часто, пораженные пьяницы видели, как Валерка меняет рост, то вытягивается до двух метров, то принимает привычные всем метр семьдесят пять сантиметров. Куртка его тогда, итак, коротенькая становилась уже совсем ему мала. Он всегда носил непонятную одежду, донашивал зачем-то отцовские еще рубашки с длинными воротниками, а они уже давным-давно вышли из моды, зимой нахлобучивал на свою лохматую, никогда не стриженную голову кроличью стариннейшую шапку, частями заметно облысевшую, частями вымазанную синими чернилами. У него было множество часов, всегда дарили на день рождения, но часы останавливались почти сразу же и ни одна часовая мастерская не могла их починить, ломались, как механические, так и электронные. У вампиров нет времени, зачем же оно было нужно Валерке?
Наконец, посреди пьянок он познакомился с одним строителем, мечтавшим поступить в университет, на журфак. И они стали вместе готовиться к поступлению. Самое странное, что Валерка поступил. Самолюбие его было бы страшно уязвлено, если бы не поступил. Товарищ его провалился. Началась другая жизнь. Надо было работать и учиться. Привыкший к алкоголю мозг отказывался так напрягаться. Но все-таки, кое-как, споив по дороге к диплому заочников, своих теперь уже приятелей, Валерка, взял и влюбился. Снова, здорово! Девицу из хорошей, приличной семьи, кстати, свою однокурсницу, он обманул, оплел, женился, родились девочки-двойняшки. Ему с женой, кстати, красавицей с длинными темными волосами, дали трехкомнатную квартиру. Валерка пил, сбегал из дома от нравоучений родителей жены и наконец, совсем сбежал в Ярославль, где после недолгих поисков устроился работать в газету «Юность» и получил койко-место в общежитии. На работе он провернул несколько хитрых махинаций и совершенно перестал платить алименты своим детям, развелся заочно, получил по почте из суда Приозерска соответствующую о разводе бумажку. Заветный диплом лежал в тумбочке. Счастливое пьянство продолжалось. Каждый день под хмельком и никаких нравоучений. Но нет-нет, а тоска грызущая душу докапывалась до каменного его сердца и гнала куда-то, куда он и сам не знал. У него появилась слабость, проходя с работы, по темным улицам, заглядывать в освещенные окна. Чужая жизнь казалась ему, намного лучше, чем собственной, пустой, одинокой.
Вот женщина ходит, баюкает ребеночка, а ее муж половчее укладывает матрасик в детской кроватке, заботливо стелет теплую пеленку. Вот в другом окошке седой, добрый, чем-то смахивающий на Мороза Ивановича, дедушка сидит с внуками на диване и читает им книжку. Детки, человечков пять облапили его и слушают, приоткрыв ротики. Вот еще окно, мальчик играет на скрипке, а женщина, явно мама, слушает, строго сдвинув брови и что-то подсказывает, льется музыка, как хорошо!
Печально ему было брести в одинокое жилище, которое он окрестил для себя «берлогой». Он открывал двери, стоял на пороге, прислушивался, нет, никто его не ждал, не раздавались ничьи удары сердца, кроме его собственного. Он стал вздыхать, томиться и плакать, стыдливо утирая слезы, хотя никто и не видел, некому было глядеть на его слезы, слезы недомужчины. Вот в такие-то минуты тоски он получил письмо от давних своих друзей Соколовых. Поехал, приехал к ним в Кирово-Чепецк и сразу же прилип к их дочери, трехлетней Маше. Видимо, уже больной мозг его обрадовался новой возможности уцепиться за жизнь. И потому-то в Ярославль Валерка вернулся окрыленный, рассказывая всем, что у него теперь есть родная дочь Машуля. Много лет, пока Маша росла, шла в школу, Валерка ездил к Соколовым, мешался там каждую неделю. Чтобы оправдать перед людьми его частые наезды, Соколовы придумали версию, что он родной дядя Маше. Сам же Валерка мучаясь и мучая других, выдумал, кроме болезненной своей любви к чужой дочери, любовь к ее маме Инне Соколовой. Так, по крайней мере он выглядел в ее глазах более-менее нормальным. Инна поверила, трудно не поверить шизофренику, как правило, весьма убедительному. А поверив, она решила забрать дочь и переехать к Валерке в Ярославль, в общагу. Валерка испугался и резко все разрушил, нашел девицу, в которую, якобы, влюбился. Оскорбленная Инна, шутка ли, Валерка разрушил ее собственную семью, муж ушел. Так вот, она стала засылать к нему Машу и ее одноклассников, уже выросших до семнадцатилетнего возраста, которым больной Валерка в свое время также не давал покою, ходил с ними в походы, увлекал бесконечными рассказами. Одним словом, очаровывал бесполезной своей суетливой душонкой, и удавалось же очаровать! Девица, изумленная этими бесконечными наездами, бесконечными расспросами, бесконечным пьянством своего суженого, бесконечным потоком любовных писем от тоскующей Инны, сбежала наконец. Вот тогда-то и появилась бомжиха, зечка, которая служила ему наподобие рабыни. Она его страшно боялась, боялась умереть с голода на улице, боялась побоев буйного сожителя и потому, дабы смягчить деспотический нрав Валерки стала звать его «Валерчкой» и только еще не приседала в испуге от взгляда его мутных злых глаз. Он постоянно бывал пьян или слегка пьян, и вел себя выпившим неестественно возбужденно.
Вполне мог привязаться к любому прохожему и с перекошенным от злобы ртом схватить за волосы женщину, сказавшую ему что-то резкое.
Вечерами, приезжая домой, в «Кресты». Он сходил с троллейбуса и долго копошился в сумке, наконец, доставал складной остро наточенный ножик. Раскрывал, и так, и шел до дома, зажимая в побелевшем кулаке блестящий клинок, как бы ожидая нападения или напротив, будучи готовым самому напасть. Глаза его при этом лихорадочно блестели и по всем законам правового государства такому «человеку» положено было бы находиться в психбольнице, но, увы, Валерий Леонидович Терпелов, находящийся на грани вменяемости, почти спокойно доходил до дверей общаги, собираясь применить холодное оружие, если что… Таков был мужчина, которому я съездила по роже в один день, таков был предназначенный мне ангелами Бога муж. Стала бы я терпеть унижения и оскорбления от него, его ежедневное пьянство, его побои? Что-то сомневаюсь. Но, почему именно такого подонка подготовили мне ангелы Бога, известно, что любовью, семейной жизнью распоряжаются именно Они? Чем я заслужила вмешательство такого гада в мою душу? Искушение, то бишь испытание? Но зачем? Зачем?.. Разрываемая вопросами, я уснула и розовые облака заглядывали ко мне в окно, а темно-синее небо торжественно сияло серебристыми отблесками, где-то слышался звонкий смех, где-то отдаленное пение, новый мир, новый мир дышал там, за стенами моей комнаты, новый, неведомый мир…
6
В народе говорят: муж и жена – одна сатана. Вот, что меня смутило и обеспокоило. Неужели, я также эгоистична, мелочна, как и он? Неужели я страдаю манией величия, психозами, неврозами и откровенными психическими заболеваниями? Вроде нет, но со стороны виднее.
Как же моя жизнь выглядит со стороны?
Родилась я в Вологде 10 сентября 1970 года в семье артистов-кукольников. Родители мои, самовлюбленные люди беспрестанно боролись и друг с другом, и с окружающими, принимая весь мир в штыки. Любили они повыделяться, повыделываться, так сказать, перед людьми, часто шили себе роскошные наряды по ночам, мешая спать мне с сестрой стуком старой швейной машинки. В вологодском театре кукол уже были «премьеры», так называемые ведущие актеры. Мои родители, не вынеся мук тщеславия, переехали в Харьков. От Вологды у меня осталось одно воспоминание: высокий детский стульчик на котором я сижу, передо мной длинный стол уставленный бутылками водки и тарелками с салатами, а за столом актеры. Все веселые и мои папа с мамой смеются. Смеются, а главного не видят. На их плечах, даже на головах подпрыгивают и кривляются, передразнивая людей, маленькие черненькие существа – бесы. Я прогоняла бесов отчаянным ревом, знала, что они не выдерживают моих истерических слез, но они не особо мне и досаждали, так… кружились вокруг, иногда заглядывали в глаза…
Харьков, теплый уютный город запомнился мне надолго, там, несмотря на круглосуточный детский садик, где я проплакивала всю ночь, чувствуя себя брошенной, я была счастлива…
Бывали поездки к бабушке Вале в поселок Вычегодский, что под Котласом на Комсомольскую улицу дом 3. И здоровенный самоварище пыхтел углями, а чай казался самым вкусным, а шаньги испеченные в русской печи представлялись просто пирожными. Походы в тайгу с неутомимой бабушкой Валей; прожорливые комары, которые залезали в ватник, так что только зады торчали и волдыри от их укусов; причудливо раскрашенные пауки висящие на паутине между, наверное, всеми встречными и поперечными деревьями; запах муравейников надолго поселяющийся на ладонях, если только прижать их к муравейнику и тут же стряхнуть разозленных жильцов, чтобы не укусили, все это надолго врезалось в мою память. А черника с голубикой? Я выходила из тайги всегда с черными губами, не столько в корзину собирала ягоды, сколько себе в рот. Дай-то ангелы такого детства каждому из нас. Крепость и сила таежных походов надолго укрепили мой дух и мое тело, помогая в дальнейшем выдерживать тяжелые жизненные испытания.
Детство закончилось, когда мои родители переехали в Ярославль. Холодный, угрюмый город со злыми жителями едва не убил меня. Очень долго я боролась с Духом города, он не принимал меня ни в какую.
Вся семья боролась. Первой не выдержала моя сестра. Стала гулять, хороводиться с парнями, выпивать. Отец тоже запил. Мать становилась все суровее, все злее. На кухне завитали разговоры о побеге в другие города. Но я решила выстоять. Первым делом, объездила весь Ярославль на всяких автобусах, троллейбусах, трамваях, исходила его пешком вдоль и поперек. Нет, особо не задумываясь, но подавляя Дух города усилиями воли.
В девять лет стала писать рассказики. Не могла не писать, меня душили яркие сны и фантазии. Я все время врала, рассказывала то, чего не было и смотрела, верят мне или нет. А И естественно, принялась много читать. Все библиотеки города были моими. Читала на ходу, практически на лету, необыкновенно много для своего возраста. Однако, в школе до самого конца, не блистала успехами, меня сводили с ума науки, не имеющие ко мне никакого отношения. Так, на алгебре я вставала посреди урока и спрашивала у математички: «А зачем мне все это нужно?» История меня бесила своей глупой и никчемной ложью, особенно по поводу первобытных людей. Какая наглость, версию выдавать за истину!.. Каждый предмет вызывал у меня смертную тоску и я нарочно забегала вперед, набирала дополнительной литературы и пугала педагогов своей «эрудицией».
Наконец, закончила восемь классов средней школы и перешла в училище. Одновременно, поступила в школу юных журналистов при городском дворце пионеров. Тут же моя борьба с Духом города закончилась. Он отпустил меня, разрешил жить в Ярославле. Но остальных моих домашних замучил совершенно. Постепенно, один за другим они сбежали в Ростов Великий, где Дух города ведет вялый, полуусталый образ жизни, от того и ростовчане почти без энергии, запустили и свои дома, и свои дороги, и свои души. Правда, с душами-то они, как раз считают, что разобрались. Почти весь Ростов свихнулся на паломничестве в монастыри, церкви, но это тоже показатель, когда все плохо, люди обращаются к Богу…
Родители вышли на пенсию, бесславно закончив свои потуги на звания известных актеров. Сестра выскочила замуж, нарожала детей, на-те, возитесь! Пошли огороды, картошки, моркошки. Одним словом, они выбрали для себя, наконец-то, судьбу и подходящий город, и подходящего Духа города, и вялую жизнь, всю в иллюзиях веры, в несбыточных надеждах и в напрасных мечтаниях.
Я осталась в Ярославле… Каков у меня характер? Боевой, конечно. Какова сила воли? Думаю, что она есть. Что еще? Лень? Бывает, как и у всех. Но, как правило, если надо, то надо, а полениться можно и потом. Самолюбие? Иногда, обижаюсь, но редко, крикунов не замечаю, будто их нет. Обзывают, оскорбляют, я удивляюсь, неужели меня? И пожимаю плечами, а через некоторое, совсем малое время, вообще забываю об обижающих. Запросто могу подойти, улыбнуться, по-приятельски хлопнуть по плечу, чем свожу с ума злыдней. Часто потому меня называют блаженной, может и так, просто я не верю в чудовищ. Однако, есть люди, которых я вычеркиваю из своей жизни навсегда, никогда не подойду к ним на улице, никогда не отвечу на их звонки, письма и прочее – это предатели. Родственники и друзья, которые предали меня в самые тяжелые минуты жизни, поверьте, таковые недолюди есть на свете!..
Не люблю пьяниц, запаха перегара не переношу. А пьющие – это же душегубы, погубители душ своих жен и детей. И потому возможную жизнь с пьяницей я рассматриваю как нечто невероятное, но все же…
7
Я проснулась сразу, как и не спала. Встала, накинула халатик и выскользнула за дверь. Идти босиком по ровному прохладному полу оказалось невероятно приятно. Я прошла по широкому пустому коридору дальше, где еще не была с Аггелом. И сразу же вышла в красивейший зал, кстати, я видела этот зал раньше, в картине. Невиданные, яркие и блестящие краски буквально обрушились на меня. Полукруглый потолок, переходящий в плавные выступы блистал золотом то тут, то там мелькали изображения красных драконов с синими чешуйками на головах смотрящих сверху вниз на меня с необыкновенным вниманием. Под стать расцветкам залы была и мебель, вся золоченная с сидениями обитыми голубым бархатом. Восторгом дышала моя душа, никогда ничего подобного на серой унылой Земле я не видела. Посередине зала находилось нечто непонятное. Вообразите себе огромную серебристую лилию без стебля, висящую высоко над полом, излучающую белый-белый свет. Зачарованная ее красотой, я подошла к этому чуду и… увидела Аггела. Он стоял на круглой площадке в самом центре лилии, сосредоточенный и внимательный. Одним взглядом, я охватила его всего. Он был таким высоким, мускулистым, с широкими плечами, с тонкой талией и длинными ногами, что у меня заныла душа. Лучи неведомого мне золотого света падали на его стройное тело, облаченное в белый обтягивающий комбинезон, выгодно высвечивающий античную божественную красоту Его.
Он меня заметил. Не торопясь, слетел ко мне по воздуху. Тут же к нему приблизился один ангел… Отвечая на мой немой вопрос, Он показал рукой на лилию:
– Это корабль атлантов, истинных хозяев Земли. Они даже похожи на своих динозавров, такие же зеленые… К нам корабль попал после боя с атлантами, они изредка пытаются отобрать себе Землю, но мы не даем, защищаем, так как люди глупы… Корабль управляется сознанием, он разумен и слышит мысли управляющего им.
Аггел задумчиво покачал головою.
– Я, как раз, пытаюсь наладить с кораблем контакт, но получается плохо.
Он взглянул на ангела, что ожидал окончания его речи чуть в стороне, скромно сложив руки на груди.
– А… это твоя бабушка, она ушла из вашего мира, к нам же пришла вот такою.
Удивлению моему не было предела, ангел мне улыбнулся, еще мальчик, лет пятнадцати, с большими лучистыми глазами глядел на меня с ласковою веселостью. Легкие белые волосы воздушными кудрями окутывали его голову, розовый румянец расцвел у него на нежных щеках.
– Ты моя бабушка? – воскликнула я, не веря глазам своим.
– Что, не похожа? – ангел звонко рассмеялся. – Обычно, здесь, формируют разные тела, все, кто хочет измениться. Можно состряпать себе морду зверя, а тело птицы или превратиться в мячик. Понимаешь?
Аггел следил за нами с нескрываемым интересом.
Вдруг, откуда-то из-за корабля-лилии налетели бесы, все огненные, что были со мною и с бабушкой на протяжении моего детства и юности. Они смеялись и кувыркались в воздухе, беспрестанно превращались то в белых пушистых ангелочков, то в ласковых котят, то в невероятных чудовищ, то оборачивались в мячики и подпрыгивали передо мной…
– А хочешь увидеть своего жениха Вовку Стрижа?
– Он тоже ангел? – воскликнула я, пораженная увиденным.
– Ну нет, он в Покое и Свете, я за него ратовала, чтобы перевели из Толпы.
– Толпа? Это как?
– Есть Геенна огненная для душегубов, недалекие верующие часто принимают ее за весь ад; есть Клетки для самоубийц под Геенной; есть Забвение для усталых, где спят; есть Пустота для пропащих людей, где ничего нет, кроме бесконечной черноты и угрызений собственной совести; есть Сады смерти, которые некоторые верующие принимают за рай, а есть Покой и также Покой и Свет.
И взглянув на Аггела, получив его молчаливое согласие, моя бабушка, а теперь ангел с огромными белыми крыльями, подхватил меня и понес, окруженный тринадцатью счастливыми нашей встречей, бесами. Мы полетели по переходам и коридорам огромного дворца и оказались в скором времени на вольном воздухе. Мы летели к увиденной мною раньше деревне, окруженной забором. И не успела я насмотреться на красоты Поднебесной, как мы уже спустились к воротам и высокий седой старец, страж ворот, охватив нас всех пронзительным взором, погрозив пальцем бесам, чтобы не баловали, пропустил нас внутрь, к белым домикам.
Вовка Стриж сидел на чистенькой скамеечке и читал книгу, мою книгу, которую я еще только начала писать, трудно, застревая на каждой строчке. А он читал уже опубликованную, с яркой обложкой, просто фантастика… Увидел меня, вскочил, радости от нашей встречи не было предела. Мы крепко обнялись, я ощутила от него дух скошенной травы, напоминающей запах дождика, теплого и ласкового дождика… Мир залился золотистым светом, это не были лучи солнца и я, в который раз, совершенно не представляла себе, что может служить источником этого яркого, насыщенного света. Золотые точки радостно прыгали в глазах у Вовки Стрижа и в глазах у ангела, когда-то бывшим моею бабушкой, и в глазах круживших вокруг нас, бесов. И в момент этого невиданного счастья встречи с ушедшими из нашего мира дорогими мне людьми я поняла, любому из нас есть Имя. Любой из нас узнаваем Ангелами по Имени, которое и есть наша Сущность. И прикидывающийся рубахой-парнем злой скупердяй не сможет обмануть ни себя самого, ни Ангелов, подчиняясь своей сущности он выгонит безо всякого сожаления жену на улицу, а детей откажется содержать. И человек, кажущийся окружающим последним негодяем, единственный, протянет руку помощи погибающему, потому что его сущность – благородство и чистота помыслов. Сущность человека всегда с ним и она составляет его истинное Имя, особенное для каждого из нас: Доброта, Порядочность, Честность, Открытость или Злоба, Подлость, Низость, Недоверие, Клевета…
В тот же день Аггел переправил меня обратно, в мой мир. Была ночь, вероятно даже та самая ночь из которой я уходила в мир Поднебесной…
Мы расстались с ним, спокойно ожидая встречи, время ведь не имеет значения. Он ушел обратно в Поднебесную через картину-портал и напоследок я увидела, как пламя того самого золотистого света охватило Его всего. Особое сияние окружало его и так оно было похоже на священный ореол, который часто изображают церковники на иконах, что я рассмеялась внезапной догадке, так вот оно что, их тела состоят из этого самого света, может даже не света, а особой энергии, которой ангелы дышат, как мы, люди, дышим воздухом, например…
Я смотрела на застывшее Его изображение, пережив так много, чувствовала, что надо как-то все это осознать. Неподалеку от моего дома протекала маленькая чистая речушка, по берегам ее росла высокая шелковистая трава, туда я и направилась.
Я лежала на земле, вверх лицом, следила, как посреди бесконечного черного неба разгораются звезды. Такие яркие звезды… на фоне вечности. И не заметила, как легко поднялась с земли, очнулась только ощутив дикий холод на большой высоте. Умудрилась не испугаться, плавно опустилась обратно, в траву. Закрыла глаза, успокаиваясь, сердце тревожно билось в груди, но вот запел соловей, звучно, чутко, его голос заполнял все клеточки моей души, излечивая раны нанесенные когда-то злой судьбой.
Слушайте соловья! Плывите с его пением по ночному воздуху, отдавайтесь дуновению прохладного ветерка со всей страстью израненных душ – и вам станет легче!
Я слушала и незаметно для себя заснула. А проснулась рано утром, где-то высоко в небе звенел жаворонок, приветствуя солнечное утро незатейливой песенкой. Я спокойная и отчего-то даже счастливая, вернулась в свой дом.
С картины на меня смотрел Он, Аггел.
А на улице стоял, судорожно вцепившись в хлипкий заборчик Валерка Терпелов. Желтое лицо его искажала презрительная гримаса, тонкие губы болезненно дергались, левый глаз непрерывно подмигивал, весь он дрожал мелкой дрожью.
Я подошла к окну и как только нашел меня, как? Смотрела я через пыльное стекло в ледяные злые глаза его, на маленький лоб испещренный глубокими морщинами, на узкие губы, скрытые неряшливой бородой, и размышляла, как же теперь мне избавиться от этого «человека»? Как мне отрезать его путь от своего жизненного пути раз и навсегда? Но он сам разрешил эту проблему, покачнулся, раз, другой, глотнул из горла бутылки водку, повернулся и пошел вдоль улицы. Он шел и оступаясь, рычал на самого себя диким зверем, пару раз упал и злясь, пнул землю, так что пыль взметнулась тяжелым облаком кверху, оседая на нелепой его и грязной одежде. Он шел и зыркал по сторонам, ища к кому бы прицепиться, нелюдимый, пьяный и бешеный, странный и страшный чужак в моей жизни, но не муж, слава Ангелам, не муж…
Я вернулась к картине, кто ты, Аггел, как Имя Тебе? Спокойный взгляд грустных глаз был мне ответом. Неужели, ты …?
2010 годПовелитель Поднебесной
1
Стояла невыносимая жара. Вот уже несколько дней землю сжигало солнце. Русские, не привыкшие к подобному пеклу, ходили вялые, еле волоча ноги… У каждого в сумке или в руках была бутылка воды. Многие с надеждой поглядывали на потемневшее небо, вслух делились друг с другом мечтами о дожде.
Наконец, небо покрылось черными тучами. Крупные, вначале редкие капли дождя зашлепали по пересохшей земле, прохожие не спешили спасаться бегством, а напротив останавливались, задирали головы кверху, подставляя лица долгожданной прохладе. И разошедшийся, безгромный, тихий дождь засеял, как сквозь частое сито, обдавая холодными брызгами разгоряченные жарой тела людей.
По лужам заскакали обрадованные воробьи и вороны с голубями не стесняясь залезали в самую глубь, самозабвенно купаясь и откровенно наслаждаясь.
В фонтанах радовались дети и подростки. Они так и не вылезли из воды, а просто послали небу благодарные вопли.
И в Волге, и в Которосли купающиеся тоже встретили дождь усиленными радостными криками.
Все радовались, все. Один Валерка Терпелов был недоволен.
Он промок и разозлился. Вдобавок ко всему у него был неудачный день. И ему показалось, что все и вся настроены против него.
Прохожие косились на него, дети показывали пальцами, девушки удивленно взирали, а юноши озадаченно оглядывались. Несколько раз он услышал слова, которые молодые люди со смехом говорили друг другу. Слова про него: «Смотри, это твое будущее!»..
Валерка шел злой, в кармане у него оставалось совсем немного денег. Работы не было никакой, значит заработка тоже. Мучила боль в груди, душил кашель. Он чувствовал себя скверно, часто останавливался, кашлял, держась за грудь и сплевывал себе под ноги красную слюну.
В «демократической» России отсутствовало насильническое лечение, какое было в Советском Союзе. И Валерка этим активно пользовался. Он давно уже болел туберкулезом легких и был заразен для окружающих, так как постепенно докатился до открытой формы. Пользуясь безалаберностью властей он совершенно не лечился, так как таблеток не любил, а уколов боялся словно огня, больница вызывала у него смертную тоску…
Тяжело, медленно, дошел до своей общаги и войдя в комнату, сразу рухнул на кровать. В висках у него стучало, перед закрытыми глазами плыл красный туман.
Вошла его сожительница, Танька. Женщина не далекая, во всех смыслах тупая, как раз такая, какая необходима была Валерке.
Она никогда не задавала вопросов по поводу его болезни. Никогда не слушала доводов соседей, сильно обеспокоенных таким соседством. Она вообще ни во что не вмешивалась, ее все устраивало. Она не требовала у Валерки сбрить его безобразную лохматую бороду. Не требовала от него нормально выглядеть, нормально одеваться.
Она и сама носила одежду старую, выцветшую и не модную.
Есть такие женщины – пьянчужки. Ходят на каблуках, но при этом таскают непонятное платье, вытянутое, выцветшее или надевают короткую аляповатую юбку с синтетической кудреватой кофтой, вышедшей из моды еще в позапрошлом веке. Одним словом, носят одежду, которую хороший дачник разве что на пугало натянет, ворон пугать. В народе про таких пьянчужек так и говорят:
«Вон, гляди, пугало пошло!»
Именно такой была последняя любовь Валерки. В том, что она последняя, он нисколько не сомневался.
Лежа на кровати, сложил крестом руки на груди и произнес трагическим тоном:
«Вот так я и умру!»
Танька среагировала незамедлительно, подошла и жалея своего мужика, запечатлела на лбу сочный поцелуй, оставив яркий след дешевой помады.
Валерка тут же закивал, что и целует его как покойника.
Танька, между тем, вытащила из сумки то, что принесла с собой.
На столе появилась банка соленых огурцов, буханка черного хлеба, пол-батона вареной дешевой колбасы и четыре бутылочки боярышника.
И, когда Танька разлила по рюмкам боярышник, Валерка «воскрес». Тут же сел, выпил, закусил, повеселел и принялся философствовать.
– Ты у меня молодец, никогда мы с тобой не ссоримся! Я не уважаю людей, которые ссорятся для того, чтобы потом помириться и насладиться, ну скажем, сексом – это садомазохизм какой-то получается! Не верю я в крепость таких союзов, все подобные пары распадаются, – и он состроил презрительную гримасу.
Танька закивала, она ничего не поняла из сказанного им, но чувствуя, что он от нее ждет пояснения, сказала:
– Колька из пятнадцатой комнаты напился и опять Нинку побил, а потом бегал с топором по всей общаге, ее искал. Нинка у соседей пряталась. Приехали менты, Кольку повязали, теперь он сидит в предвариловке.
Валерка снова выпил, понюхал хлеб и продолжил свое:
– Не люблю циничных людей, еще отвратны мне ухмыляющиеся. Они, как правило, ничего не способны делать сами, но обо всем отзываются скептически.
Танька снова закивала, ничего не поняла, но разговор поддержала:
– А бабка Люся из соседнего, десятого дома сегодня под дождем плясала. Да, да, так и выбежала в халатике, босая из дома и давай по лужам прыгать, будто маленькая девчонка. А еще на качелях качалась и только соседи ее и стащили с качелей-то, загнали домой…
Валерка снова выпил, закусил, наморщил лоб, обдумывая сказанное своей половинкой, поглядел в мутное от грязи окно и выдал:
– Сумасшедшие? Сумасшедшие отреклись от собственного Бога и страшатся смерти. А, кто Бога не хочет замечать, боится собственной тени, уже от вида своего двойника вообще спятит, безумное создание.
И опять Танька ничего не поняла из того, что сказал Валерка.
Она вообще мало понимала, над чем размышляет ее ненаглядный. Впрочем, к философам она уже привыкла.
Ее первый гражданский муж напившись пьяным, ревел и приставал к собутыльникам:
«Зачем пьете? Эх вы-и!»
И голосил, пока не получал от кого-нибудь кулаком по морде лица.
Второй философствовал трезвым, постоянно рассуждал о вреде алкоголизма, а увидев выпивку, трясся и набрасывался голодным коршуном, напивался, тут же и валился в беспробудном сне куда-нибудь под стол.
Третий очень любил философию в песнях. Все пел зековские песни, а упившись, плакал бессильными слезами, рассказывая о злых ментах, плохих тюрьмах и твердил, как безумный одно и то же, пока кто-нибудь не рассердившись, не вырубал его кулаком в нос.
Четвертым у нее был Валерка. Часто, он трепался о чем-то пустом, размахивал руками, суетился и злился, доказывая ей что-то непонятное. И она стала делать вид, что всегда и во всем его понимает.
Валерка вызывал у нее изумление. Никогда еще она не видывала подобных ему мужиков.
Он мог расплакаться посреди фильма с грустным сюжетом и натирать глаза носовым платочком, неимоверно стыдясь своей слабости. А на улице, тут же, в этот же день он мог огреть кулаком ни в чем не повинного человека, вина которого только в том и заключалась, что он попросил у Валерки закурить. Для больного сознания Валерки, которого часто били в детстве и юности, просьба закурить, значила одно, его хотят избить. В Нижнем Новгороде, где и вырос Валерка, прежде чем напасть, следует некая прелюдия и озверевшая молодежь кричит вслед прохожему:
«Эй, мужик, закурить дай!»
А потом догоняют, нападают и бьют…
В Ярославле не так, просто кричат:
«Эй!» или «Эй, чего на меня уставился?» и догоняют, бьют…
Он часто не спал и сидел за компьютером, как пришитый, до самого утра, а потом валился на кровать и спал до обеда. Чем он занимался, она не понимала. Он не играл в компьютерные игры, она в отличие от него очень любила раскладывать пасьянс. Валерка пасьянс не раскладывал, а что-то бесконечно переписывал, архивировал, перекачивал на сиди-диски. Она его ни о чем не спрашивала, знала, что он огрызнется и ничего не объяснит. Да и нечего было объяснять. Между нами говоря Валерка просто перелистывал страницы давно сверстанных им газет и брошюр.
Он имел странную особенность всегда скачивать сделанное им когда-то на флэшки и на сиди-диски. А вышедшие уже в печать номера газет складировал в десяти-пятнадцати экземплярах в верхних ящиках своего встроенного шкафа. Так что посреди страниц пожелтевшей прессы с большим удовольствием устраивались дружные семьи рыжих тараканов.
С Валеркой в связи с его болезненным пристрастием к копированию и складированию разного ненужного хлама случилась, однажды, история. Кстати, такая болезнь в развитых странах мира, к примеру, в той же Америке, считается неизлечимой и больные люди получают пенсию по инвалидности…
Во времена работы в редакции газеты «Голос профсоюзов» он взял в профессиональное пользование новенькую «трешку». Было это еще в девяностые годы. На радостях Валерка напихал в «трешку» восемьсот шрифтов, которые, якобы, необходимы были ему в работе. Здесь, оказались и древнерусские, и греческие, и итальянские буквы, и даже японские, китайские иероглифы. Бедная «трешка» стала «виснуть», долго «соображать». И Валерка бесился, каждый день лупил по клавиатуре кулаками, разбивал ее вдребезги, а после медленно приклеивал буквы, кипя негодованием, достав для наглядного пособия уже сломанную им «клаву», но с целыми буквами. Закончилось это тем, что редактор пригласил хакера, который сильно удивился восьмистам шрифтам, удалил их и оставил только самый необходимый десяток. Компьютер заработал, хотя и ненадолго, неугомонный Валерка снова что-то туда напихал и история повторилась. Пока редакция «Голоса профсоюзов» не приобрела «Пентиум», который Валерка просто украл, за что и был уволен вон.
Он любил воровать и частенько уходил на промысел в соседний гипермаркет. Пельмени просто и нагло высыпал из упаковки в собственный пакетик и укладывал в сумку. Водку открывал и аккуратно переливал в приготовленную для этого пластиковую бутылку, тщательно закрывал и укладывал в сумку. Майонез выдавливал в небольшую банку также приготовленную для этой же цели. Вообще воровал много и жадно, с набитой сумкой проходил мимо кассы, минуя охранные сооружения и охранников, а дома подсчитывал на какую сумму накрал и был счастлив, если получалось, что больше чем на пятьсот рублей. Если же наворовывал меньше, то злился на самого себя, настроение у него портилось и он на всех подвернувшихся под руку готов был сорвать свое зло. Клептоманией он болел давным-давно, потребность воровать была у него в крови.
Танька его не осуждала. Она сама никогда не проходила мимо открытой сумочки бабы раззявы, обязательно вытаскивала кошелек или батон, что придется. И никогда не проходила мимо упившегося мужика. Валяющегося в придорожной травке обязательно обыскивала, нередко забирая сотовый телефон и наручные часы.
Телефон она сдавала за сто рублей в соответствующий магазинчик, а часы дарила Валерке. Хотя он тут же умудрялся переломать их в один день. Есть такие люди с хаотичной энергетикой, они ломают все. Часы у них останавливаются сами собой, электроника ломается, бытовая техника выходит из строя. У Валерки был ящик, довольно большой и глубокий. Ящик он доставал для того, чтобы положить туда очередные сломанные часы. За все пятьдесят три года жизни, ну может поменьше, у Валерки скопилось около ста часов, первые часы родители ему подарили на десять лет. На все дни рождения ему дарили эти несложные подарки и Валерка честно надевал их на руку. Иногда одни часы тикали у него в кармане, а другие висели на левой, еще одни на правой руке. Но все, независимо от того, электронные или механические ломались быстро и навсегда. Ни одна часовая мастерская не принимала их, мастеру достаточно было только открыть крышку и тут же отрицательно помотать головой. Все часы, даже совсем-совсем новые с гарантией оказывались почему-то насквозь проржавевшие, хотя Валерка в них, ну абсолютно точно не купался. Он воду вообще не любил и мылся раз в месяц, а то и вообще не мылся по два, по три месяца, да что там он почти никогда не умывался, а уж про то, что надо-надо по утрам, хотя бы зубы чистить, он и не думал…
Танька Валерку за поломку часов не ругала, они ведь доставались ей даром. Она вообще не ругалась, а жила и пила, пила и жила. Также в принципе жил и Валерка, пил и жил, жил и пил. Единственное, что их отличало – это склонность Валерки к философской болтологии. Танька философствовать не могла, не соображала, а только то, что видела, о том и говорила, как чукча. Но в целом, они даже внешне походили друг на друга, оба опухшие, оба грязные и пропахшие потом, оба неряшливо одетые, оба – любители горячительных напитков…
2
Наверху не смолкал собачий вой. Временами, правда, вой переходил в жалобный визг, но ненадолго, скоро опять слышался тот же протяжный нескончаемый вой.
Эти новые соседи сверху не давали покоя. Вначале они стучали и колотили целый месяц с утра до ночи. На все требования раздраженных соседей прекратить безобразие, только высовывалась в двери круглая голова молодого двадцатипятилетнего мужика. Голова смотрела ласковыми и тупыми глазками, кивала, на все согласная и потом просила, причмокивая толстыми, будто у рыбы, губами, еще немножко пошуметь, а после, тут же убиралась в двери, щелкал замок и стук продолжался, как ни в чем не бывало. Голова принадлежала бывшему десантнику, двухметровому детине. Детина был женат. И ладно бы на умной и нормальной женщине, так нет же, жена была такая же как и он, тупая, но вдобавок ко всему еще и крикливая, наглая, избалованная своей мамашей до невозможности. Жене десантника было от силы восемнадцать лет. Мамаша ее жила тут же, в соседнем подъезде. Она хорошо зарабатывала, прилично воровала, брала взятки, занимая весьма крупный пост в городской мэрии. Для любимой доченьки она купила квартиру, как раз над моей головой.
После активного ремонта началось новоселье, наверху не смолкало цоканье копыт, это приходили многочисленные подружки жены десантника. Сам десантник орал до трех утра дворовые песни, бренчал на гитаре и вслух читал матерные стихи. Девичий смех был ему вместо аплодисментов. На душе у меня становилось муторно, гадко, с детства ненавижу дегенератов, а матерщинников вообще презираю. Как правило бранные слова используют глупые и очень даже глупые люди, ограниченные в мышлении.
Недовольство во мне зрело, и не в силах совладать с собой я сформировала пропитанный ненавистью и презрением огненный шар. Он повисел какое-то время у меня в руках, издавая угрожающее потрескивание, взлетел кверху и неторопливо просочился сквозь потолок наверх. И уже в квартире неистово закрутился, взорвался, осыпав каждого, кто там находился, осколками. Десантник тут же вырубился, как самый слабый. Жена его, дура-блондинка заплетыкиваясь, поплелась провожать своих подруг-идиоток. И все стадо блондинок, цокающих на весь подъезд копытами туфель ссыпалось по лестнице вниз и мне было слышно, как все они в один голос пожаловались друг другу на внезапную головную боль и удручающую слабость. На обратный путь у жены десантника сил не хватило и она потеряла сознание прямо на лестнице, мук совести я не испытала, когда на утро об этом судачили соседи по подъезду. Да и люди особо не жалели ее, она же никого не жалела, а напротив даже как будто специально и нарочито шумела со своим муженьком, включала музыку посреди ночи. Недаром все соседи их прозвали террористами.
Наконец, своим энергетическим шаром начиненным ненавистью и презрением я добилась своего, пьянки эти двое прекратили. В доме наступила долгожданная тишина, но ненадолго.
Жена десантника захотела себе щеночка. Подсмотрела по телевизору, как американские блондинистые звезданутые дуры таскают в сумках маленьких собачек и себе такую же захотела. Десантник тут же купил ей щенка комнатной собачки.
Она поставила для щенка горшок предназначенный для кошек, сказала щенку, чтобы он делал дела в горшок и возвратилась к прежней вольной жизни. С утра до поздней ночи они пропадали, он работал водителем у какого-то мэрского придурка, а она училась на секретаря-референта. Щенок на целый день оставался один и поднимал отчаянный вой. Голос у него был тот еще, звонкий в общем. Соседи сходили с ума. На все требования и ругательства блондинистая жена десантника оскорблялась и говорила, что их специально оговаривают, что все на них ополчились. Люди жаловались ее мамаше и дура-мамаша посоветовала давать щенку снотворное. Блондинка быстро приспособилась, толкла в ступке с утра таблетку снотворного, ее муженек ловил несчастного щенка, разжимал ему пасть, а его идиотка-жена запихивала лекарство, чтобы проглотил. Лекарство им давала мамашка, она плохо спала и засыпала только с этим снотворным.
Щенка эти двое сумасшедших совершенно не выгуливали и открывали для него разве только балкон. Щенок на балкон или на горшок, конечно же не ходил, собака все-таки, а делал свои дела повсюду, по всей квартире. И по вечерам слышалась громкая ругань, жена десантника ругалась витиеватым матом, каждое слово эффектно раздавалось и проникало через вентиляционные ходы, разлетаясь по всему подъезду… Наконец, я не выдержала и стала дожимать его хозяев, создавая на душе у них чувство неприязни к щенку. И они не вынесли, кто же вынесет такое сильное давление?! Жена десантника подарила щенка одной из своих многочисленных подруг.
Совесть во мне успокоилась совершенно, когда я увидела как-то на улице, как щенок устроился. Им занимались, с ним гуляли, его целовали в доверчивую мордашку и не оставляли уже одного ни на минуту. Подруга оказалась из дружного семейства, жила она в соседнем с нашим, доме и всю историю развития щенка, конечно же знал весь подъезд. Все, без исключения, были рады за благополучное разрешение ситуации.
Ну, а с десантником и его блондинистой женой никто из соседей больше не здоровался. Они перестали получать почту в свой почтовый ящик, это наши мстительные старушки вытаскивали и рвали безо всякой жалости корреспонденцию террористов. За квитанциями по квартплате и прочим «благам» цивилизации они вынуждены были бегать в управленческую контору. Одним словом, с соседями надо бы дружить, особенно с русскими соседями, так как, показывает действительность, более злобного и мстительного народа трудно отыскать на всей Земле, особенно, если этот народ довести до белого каления.
3
Валерка выглянул в коридор. Никого. Тихонько прокрался по коридору к туалету. В руках у него блестели плоскогубцы и отвертка.
Соседи по общежитию накануне вечером повесили кодовые замки на все три двери. Разделили пользование унитазами между комнатами. Соответственно, Валерка должен был теперь чистить свой унитаз наравне с двумя бессемейными. Этого он перенести не мог, тем более, что оба холостяка разделившие с ним его участь были пьяницами и лентяями, такими же как Валерка. Выделен им был самый плохой унитаз во всем туалете. У обоих не было подруг, которые бы убирались за них и только у Валерки имелась подруга да и то на час. Танька к нему просто приходила в гости, но с ним в одной комнате не жила и ее нельзя было принудить чистить унитаз за тремя лоботрясами. И стало быть грязью он зарастет быстро, что в общем-то нежелательно, Валерка брезговал грязными отхожими местами. Раньше в туалете убирались женщины, населяющие коридор общежития и он как-то не задумывался о том, как они поддерживают чистоту, но теперь, теперь все изменилось…
Валерка недолго провозился. Невероятная сила свойственная сумасшедшим помогла ему. Всего в несколько минут, за самое короткое время, он снял все три двери с петель, отвернул замки и выкинул двери одну за другой в распахнутое, по случаю жары, окно. Двери упали, звук падения смягчила огромная гора песка, забытая здесь с прошлого года неизвестно кем, неизвестно зачем и давно использовавшаяся в качестве туалета местными кошками и собаками, ну иногда еще и пьяницами, любившими свалиться на мягкое и поспать, невзирая на резкий запах мочи животных.
Валерка прислушался. Город спал, погруженный в ночной сон. Соседи мирно посапывали в своих комнатках, не догадываясь о проделках Валерки.
А Валерка, между тем, огляделся, хмыкнул удовлетворенный своей работой. Неприкрытые унитазы сиротливо белели посреди кабинок.
Оставалось еще одно дело. Незамеченный, он прокрался по лестнице вниз. Выглянул. Вахтерша крепко спала, укрывшись с головой клетчатым пледом. Валерка спустился к «черному» ходу, отжал замок, открыл дверь и вышел на улицу. Одну за другой двери с кодовыми замками он утащил подальше к отстраивающейся заново старой столовой, что была буквально через дорогу. Здесь, он двери спрятал под разным строительным мусором и вернулся обратно.
В своей комнате наскоро перекусил, выпил, оделся, запер двери и ушел на вокзал. На часах было пять часов утра. До поезда на Нижний Новгород оставалось два часа. Валерка купил билет, не торопясь, наслаждаясь утренней прохладой, прошелся по перрону Московского вокзала, погрыз семечек, покормил проснувшихся голубей и с чистой совестью сел в поезд.
К вечеру он уже был в Нижнем Новгороде. Без проблем, на метро доехал до станции Автозаводская. Пересел на маршрутку и уже через пол-часа вышел в знакомом с детства поселке Новое Доскино.
Мать не знала, что он приехал. Он не позвонил, не послал ей телеграмму. Зачем? Мать была дома, наверняка смотрела свои бесконечные телесериалы, путаясь в героях и ожидая от одного фильма одно развитие событий, а получая другое. О чем она бесконечно делилась по домашнему телефону со своими подружками, такими же фанатками телесериалов, как и она сама.
Увидев на пороге Валерку, мать запричитала, заплакала и покрыла заросшее шерстью лицо сына мокрыми поцелуями.
Валерка не был дома десять лет… Для такого черствого человека, как Терпелов десять лет ничего не значили, он их попросту не заметил. Мать же все глаза проплакала. Она не блистала умом, а к старости у нее еще и слабоумие развилось. Никто из нас не застрахован. Но, если честно Валерка стыдился своей матери. Писать она умела едва-едва и писала с ошибками, не соблюдая ни одного знака препинания. Также и говорила, безграмотно, убежденная в каких-то своих представлениях совершенно и непоколебимо, и свернуть ее не смог бы даже самый умный человек на свете.
Она долго не верила, что Валерка поступил в университет, что станет журналистом, это было непостижимо для их семьи, где все жили работягами, простыми людьми. Валерка сунул ей под нос бумаги о поступлении и только тогда она поверила, документы все-таки лежали перед ее глазами и голубели четкими печатями. Теперь же он не мог сказать ей, что спился и потому скатился до уровня обыкновенного верстальщика, что давно уже не пишет ни в одной газете. Ему было стыдно за свою бесталанность, он так мечтал о славе и рвался работать на радио и на телевидение, но…
Валерка наврал ей, конечно, с три короба про работу. Уселся в своей бывшей комнате, оглядывая зашарпанные стены и полки с заплесневелыми книгами. А мать забегала с ужином.
Она не удивлялась на его дикую внешность, она плохо видела. Две операции на глазах прошли неудачно, возраст да несоблюдение ею элементарных требований врачей свели на нет все усилия хирургов вернуть ей зрение. Видела она, как сквозь дымку и часто вбегала в комнату, жадно ощупывая Валерку изуродованными ревматизмом, кривыми пальцами. Он сердился и рычал на нее, но она так была обрадована его неожиданным приездом, что все равно продолжала его хватать и обнимать, осыпая его седую лохматую голову мелкими каплями слез радости.
Она готовила плохо, потому что ничего не видела и обычно для нее приготавливал суп и второе блюдо ее младший сын, который наезжал по вечерам с соседней Сортировки, где жил вместе с женой и сыном. Валерка был старшим. Но сейчас все оказалось съедено, ничего не осталось на ужин и мать решила на радостях как-нибудь уж сама приготовить. Конечно, можно было бы дождаться младшенького, но Валерочка ведь хотел кушать. И в кастрюлю полетела не чищенная картошка вариться вместе с кожурой. Кое-как были сварены сосиски. Конечно же, Валерка поразился на такой ужин, мать раньше, насколько он мог вспомнить, всегда готовила хорошо. А, когда подоспевший к назревавшей уже ссоре, младший брат Валерки, Сергей, рассказал ему о том, что мать ничего практически не видит, наш герой приуныл. Он очень не любил за кем-то ухаживать, не мог да и не умел готовить, верхом его кулинарных достижений были пельмени из магазина. Перспектива заботы о матери, как о немощном, нуждающемся в его помощи, человеке, его сильно напугала. Он любил, чтобы она заботилась о нем, бывали времена, когда он возил ей свои грязные шмотки из Ярославля в Нижний. И она радостная, что хотя бы так он приезжает, стирала и зашивала его белье, гладила ему рубашки и брюки… В общем, несмотря на протесты матери и брата, Валерка очень быстро собрался. Скоро он опять трясся в поезде только уже обратно в Ярославль. Совесть его не мучила, лишь досада, он так хотел отсидеться с неделю у матери, пока в общежитии не улягутся страсти, а теперь придется держать бой с раздраженными людьми.
И уже утром следующего дня он стоял перед своим общежитием, стараясь звериным чутьем почуять, догадались соседи о его вине с дверями из туалета или нет.
Соседи догадались. Во всем общежитии не сыскать было более наглого бандита, чем Валерка. Он сводил с ума всех своим абсолютно наплевательским отношением к соседям. Только он, перекрикивая своих собутыльников, почти каждую ночь орал до утра. Только он ходил довольно часто в туалет в своей собственной комнате и выбрасывал бутылки и банки с пахучим содержимым из своего окна на головы прохожих. Только он кидался на людей с кулаками за сделанные ему совершенно справедливые замечания о правилах ухода за ванной, унитазом, кухонной раковиной и прочим. Только он не терпел соседей вообще и мечтал всех взорвать и отправить к праотцам.
Соседи устроили ему «горячую» встречу. Женщины кричали, а мужчины сжимали кулаки. Валерка не стал связываться с такой оравой взбешенных людей, а нырнул в свою комнату и дверь захлопнул на замок.
Он просидел тихо до самой ночи, что было ему вполне свойственно, как подлому и трусливому человеку. Но потом он вынужден был выйти…
Соседи нашли все упрятанные им двери. Две повесили обратно, а третью просто прислонили к кабинке. Рассуждая так, мол, пускай Валерка сам для себя и постарается. Он и постарался. Два его напарника по унитазу, двое пьяниц дышали ему в затылок, это они его из комнаты вытащили. Им не понравилась перспектива выставлять свой голый зад на всеобщее обозрение.
И, когда вволю пропотев, делать – не ломать, усталый, закурил свой беломор, Валерка вдруг сообразил, что зло сделал не соседям, а самому себе… На душе у него стало муторно, гадко и он плюнул в сердцах себе под ноги…
4
Курт бежал от преследователей по ухоженной, умытой улице. Обложили и вычислили, проносилось у него в сознании.
Огромный ростом рыжий детина преградил ему дорогу. Глаза в глаза и ничего, рыжий выдержал, не поддался гипнозу. Курта схватили, долго пытали и он, чтобы не выдать секретные материалы, блокировал сознание нечеловеческими усилиями, потом, изнемогая от боли, призвал своего ведущего ангела, Асмодея, которого всегда называл джином. Асмодей, величественный, как скала, согласился с его просьбой и освободил от мучений. Яркой звездою Курт уплывал от рук мучителей, удобно устроившись на плече своего ведущего ангела. Напоследок только стало ему понятно, что тело его сбросят в воду моря и маленький осьминог устроится рядом жить, вольготно расположившись по соседству с занесенными песком костями, которые ему было немножечко жаль. Некоторым людям затруднительно проститься со своими телами. Покинуть привычное тело с гривой белокурых волос, оставить серые глаза, навсегда распрощаться с привычкой по-военному расправлять широкие плечи и стоять заложив руки за спину. Трудно расставаться с телом будучи таким молодым, всего-то тридцатилетним мужчиной, еще не пожившим с молодою женою, не воспитавшим маленькую дочь, не, не, не… Но были в произошедшем и свои плюсы, например, не нужно было больше беспокоиться о хлебе насущном, не нужно было сохранять здоровье и силу своего тела, не нужно было больше бояться смерти, хотя воинам Сатаны из колдовского рода Курта бояться смерти было вообще не свойственно… И еще одно он приобретал, отныне заканчивался для него вечный круговорот рождения и смерти, навсегда и несомненно карусель бытия в этом мире для него прекращалась, он поступал в войско, в передовой отряд, где наряду с бывшими людьми перешедшими в новый статус – статус ангелов, он обретал прежнее, когда-то, в начале времен, бывшее свое имя Саронэр.
Я очнулась. Потрясла головой, в душе плотно застряло ощущение произошедшего не так давно, в годы Второй мировой войны с моим дедом бароном Куртом фон Пульманом. Он служил в разведке гитлеровской Германии, до сих пор материалы по нему засекречены. Несомненно, дед мой обладал сумасшедшим даром гипноза, когда только под давлением его взгляда человек выполнял все необходимое ему и выбалтывал то, что обычно пытался скрыть…
С недавних пор меня стала мучить эта тема, пропавших во времени родственников, их так много. Например, все время вижу трех неунывающих американцев, которые жили во времена ковбоев. Кто они? Не знаю, но похоже, что испанцы. Приехали во времена золотой лихорадки и получается не так давно?..
Вопросы, вопросы. Скажи мне, откуда ты родом и я скажу, кто ты. Но откуда я родом? И кто для меня эти люди? Просто соседи по мирам или?..
Я встала, сделала несколько дыхательных упражнений, закрыла глаза, сконцентрировалась на сердце, представила себе золотой шар, который растекается здесь и сейчас по всему моему телу. Открыла глаза, кончики пальцев засверкали неведомой энергией.
На меня с портрета смотрел Он, Аггел, на губах его играла понимающая улыбка, взгляд голубых глаз был преисполнен благородства и грусти.
Тоска сжала мое сердце, как давно я Его не видела!.. Будто целый век прошел, а тут еще постоянные атаки со стороны моих умерших родных…
День обещал много света и тепла. Жара меня не беспокоила. Мое тело вообще нечувствительно было к капризам погоды. Сказывалась одна из прошлых жизней проведенная в ненавистном для меня Израиле, две тысячи лет назад. Почему ненавистном? Трудно сказать, не помню, но в душе плотно застряло негативное впечатление от людей, населяющих тогда эту страну и Иерусалим, тогда совсем небольшой город похожий на наш Ростов Великий. Я помню, как эти люди бегали с жадностью и страхом заглядывая в лицо Христу, худому, грязному сумасшедшему, так во всяком случае его и воспринимали власть имущие. А потом эти же люди с такой же жадностью, но уже без страха кричали ему, чтобы он сошел с креста. Изменчивость и лживость, вот что я тогда ненавидела в этих людях. Они были противны мне, абсолютизированному воину, прямолинейному и сильному мужчине. Тогда я была римским легионером и обливаясь потом, таскала на себе еще и доспехи. Такая жизнь, полная лишений и военных действий здорово закаляет.
Я легко оделась и пошла рассекать по улице. Надо было пробираться на работу. В России жара – серьезное испытание. Автобусы закипают в буквальном смысле слова. Водители работают на последнем издыхании и им платят вдвойне. Пассажиры растекаются по сидениям, как расплавленный пластилин.
Поэтому, я выбрала для себя самый подходящий транспорт – трамвай. Всего-то оставалось протрястись с час и потом дворами, прикрываясь тенью от домов, пробраться в редакцию!..
В редакции меня ждали. С кресла для посетителей поднялся крайне знакомый мужик. Недолго подумав, я вспомнила его. Валерка Терпелов! Отшатнулась, памятуя о том, что он должен быть заразен для окружающих.
Валерка смотрел на меня жадно, не сводя алчного взгляда с моего лица. Он был готов к негативному отношению с моей стороны и только заискивающе улыбнулся мне, залепетал, что-то о старой дружбе. По его словам вышло, что мы очень даже сильно дружили когда-то, с ума сойти!
Я послала в него отражающий шар. Он тут же пошатнулся и еще более впился в меня взглядом. Его настойчивость меня поразила в самое сердце и взбесила окончательно. Тут же, будто передо мною враг номер один я заметала в него, безо всякого предупреждения, огненные шары, один за другим, со всей моей ненавистью и презрением они полетели в него, взрываясь где-то внутри его тела.
Валерка побледнел и вдруг, рухнул к моим ногам… Через некоторое время «скорая помощь» увезла его в больницу. Мои коллеги живо обсуждали произошедшее, обдумывая, что бы такое могло произойти с моим несостоявшимся мужем?..
А я вошла в свой кабинет, все еще испытывая сильную злобу, уселась в кресло. И тут же заметила перед собою свечение, туман, сквозь который проглядывало множество лиц. Некоторые из них были в коронах, другие просто с непокрытыми головами. Родственники! Ну конечно, пришли выяснять отношения, мол, нельзя так себя вести с сумасшедшим, безумцев надо жалеть! А я не хочу его жалеть! Он бы меня пожалел, бросив одну с ребенком, а?.. И даже, не хотелось ради рождения ребенка связывать свою жизнь с таким мужчиной, окажись он, допустим, самым последним мужчиной на Земле, ни за что!.. Родственники исчезли, нечем было крыть, туман развеялся.
Я заметила, приходят разные. Одни, будто сотканные из тумана, белые, скорее всего из войск Адонаи, а другие как бы имеют вполне нормальные тела и приходят из войск Сатаны. Так… стала проясняться ситуация. Значит и с той, и с другой стороны, у меня полно родственников. Одни тянут меня в одну сторону, а другие в другую. Кого выбрать и как? А главное, почему? Может, я вообще не хочу ни к кому, ни к тем, ни к другим. Может, я покоя хочу. Как хотят старики скорой смерти, чтобы уже отдохнуть и уйти на тот свет, прикрываясь плащом ангела смерти, словно защитным щитом от всех бед и невзгод этого мира. Уйти, будто обыкновенный человек, в ту же Толпу или Покой, как бы хотелось, но причастность к колдовскому роду и вина в распятии Христа, которую я до сих пор не признаю, обязывает…
Путь домой проделанный также на трамвае прошел не так гладко, как начался. Какая-то женщина сползла вниз с сидения на пол и тяжело упала к моим ногам. И я вынуждена была ей помочь. Незаметно для окружающих, переполошившихся неординарным случаем, послала ей золотой шар прямо в сердце, которое, если честно сказать, выглядело уже тряпкой, изношенной тряпкой, хотя женщина была еще молода, лет тридцати пяти, не больше, но в такой дурной стране, как «демократическая» Россия – это скорее нормальное явление, чем… Шар неторопливо и уверенно растекся по всему ее телу и привел в сознание. Она, все еще слабая, вышла из вагона на остановку и с десяток человек ей помогали, усадили на скамейку, дали попить воды, все-таки есть еще в этой стране сочувствующие друг другу, люди!..
Дома, по своей давней привычке я вначале прошла на кухню, чтобы разогреть ужин, но тут из моей комнаты послышалась мелодичная музыка. Распахнув дверь, я обнаружила Ювинкума, одного из ангелочков моей бабки. Он смирненько сидел на кровати, сложив ручки и улыбался мне самой солнечной улыбкой, на которую только был способен. Музыка, которую я слышала, лилась из картины.
– Ты? – потрясенно произнесла я.
– Я! – с достоинством произнес маленький, ростом с маленькую собачку, ангелочек. – Я пришел за тобой! Он послал!
И Ювинкум кивнул на картину…
5
Валерке было плохо в больнице. Первые же анализы показали бы насколько он болен. В тубдиспансер он не хотел и потому пользуясь свободой передвижения, какая свойственна всем русским больницам вообще, даже в некоторых случаях свойственна психушкам, просто ушел из больницы.
Домой, в свою общагу он побоялся идти, думая, что тут его и схватят, все-таки кровь из вены на анализ уже взяли и потому пошел к первому, кто пришел ему на ум.
Приятель Валерки, из духовных людей, жил в центре, в двухэтажном старом доме. К нему направил свои утомленные туберкулезом стопы наш весьма находчивый герой. Прозвище у него было, в народе его давно уже прозвали Святым. А, как имя, что-то все подзабыли.
Он открыл двери сразу, будто ждал и обрадовался Валерке, будто самому дорогому брату.
Лицо у него было, как бы умытое, без морщин. Радость так и сияла в глазах. Без требований со стороны Валерки, без каких-либо объяснений провел Святой его на чистенькую кухню, накормил, напоил и уже усталого препроводил в маленькую комнатку, где уложил гостя на диван, укрыл байковым одеялом и оставил спать.
А Валерка, лежа на диване, стал вспоминать о Святом все, что знал.
Быстрый, подвижный, он, как синичка порхал между редакциями, где работал курьером. Всегда приветливый и скромный никогда и никому не мог отказать в помощи. И, конечно злыдни этим активно пользовались, помыкали им, как хотели, даже прозвали «шестеркой». Он не обижался, а только кланялся своим обидчикам в пояс. Основой такого поведения было одно объяснение – вера в Бога и мысль помогать всем и каждому, которая у него вылилась в своеобразное умопомешательство. С утра до ночи и с ночи до утра Святой горел в желании спасти ближнего. И везде, повсюду он видел одно – проявление к нему любви не кого-нибудь, а самой Богородицы…
Валерка не знал, был ли Святой когда-нибудь женат, но абсолютно точно знал, что он влюблен в Пресвятую Богородицу. Ее образы повсюду встречались в незамысловатой его маленькой квартирке. И все разговоры о Боге он сводил только к Ней, к разговорам о Ней и мог говорить часами, восторженно дыша и глядя на собеседника совершенно дикими расширенными зрачками.
Конечно, Святой лежал в дурдоме, столь явное умопомешательство власти города не смогли проигнорировать и даже при наличии безвластия в стране выписали ему пенсию по инвалидности. И теперь Святой не заботился о хлебе насущном, он даже об этом не задумывался, а пропадал целыми днями в церквах, питаясь иногда как птичка коркой хлеба да глотком воды, потому что на русскую пенсию да еще по инвалидности, конечно разве что хлеба и купишь да и то по половинке черного в день, остальное сожрет тоже государство, назначив, как известно, ни с чем не сравнимые цены на квартплаты и прочие «достижения» цивилизации.
Повсюду Святого знали, священники, соболезнуя ему, благословляли на исцеление от тяжкого недуга поразившего его душу. И, когда любопытный журналистский народ поинтересовался как-то у одного такого батюшки, почему он так соболезнует Святому, тот ответил тяжко вздохнув:
«Это не просто болезнь мозга и даже вовсе не болезнь мозга. Называется это состояние – Поражение. И люди, пораженные люди не могут жить, выпадают из ритма жизни, как бы отсутствуют. Они заняты только собой и полюбившимся им существом, неважно каким, Ангелом, Святым, Христом или даже Богородицей. Важно, что человек жить не может да и не хочет жить, как все нормальные люди, вить гнездо, рожать детей, строить дом. Он, как безумный все лезет и лезет к одной цели, к поразившему его в самое сердце Существу»… На вопрос, как с этим бороться, священник только плечами пожал и добавил, подумав, что, наверное, надо молиться за такого человека… На этом все и закончилось.
Валерка уснул. Впрочем, посреди ночи ему показалось, что кто-то лег рядом. Протянув руку, ощутил жесткую шерсть. Лениво подумал, что должно быть Святой завел собаку, хотя на сто процентов собак не переносил, слишком много сил они отнимали у своих хозяев и накорми, и выгуляй, и, и… Тогда, может быть кот? Рука Валерки последовала по шерсти к голове. Ощупав голову, сразу же перешел к рогам. Гладкие и холодные, они вызвали у него воспоминание о козлах, пасущихся где-то в горах. Святой завел козла, ну уж совсем безумная история.
Валерка испуганно подскочил и в один миг слетел с дивана, сорвал со стены икону Пресвятой Богородицы и выставил вперед себя.
– Ну и зря, – ворчливо и спокойно заметил кто-то, едва различимый в темноте, с дивана. – Она тебе ничем не поможет, это уж точно. Даже если ты слезами зальешь ей весь подол платья, все равно не поможет.
– Это почему же? – возразил Валерка. На удивление он чувствовал себя уверенно, мозг у него работал ясно и четко. Только сердце предательски трепыхалось в груди и дрожали руки.
– Да потому, что ты убийца! И не возражай мне, – твердо сказал кто-то черный с дивана. – Бесполезно. Убийцами у нас считаются те, кто бросил детей без попечения. А уж о тебе и говорить нечего, ты столько всего натворил, что и перечислять устанешь…
– Значит, ты моя смерть?
– Я?! – с дивана польщено засмеялись. – А, что я похож на Ангела Смерти?
– Я не знаю, – прошептал потерянно Валерка и рванул к двери.
– Святой, Святой! – закричал он и в ту же минуту потерял сознание.
А черный с достоинством встал с дивана, снял с головы рога, взял их под мышку, будто мужик шапку и обойдя Валерку пошел к Святому.
Святой сидел на кровати, поднятый криком Валерки, глядел на своего черного гостя.
– Ты зачем его на мой диван уложил? – ворчливо заметил черный.
– А куда же мне его еще было укладывать? – смятенно возразил Святой. – Ты уж прости чертушка, я для тебя могу и кресло-кровать разложить.
– Ладно уж, я домой схожу, лучше отдохну в Садах Смерти, чем в объятиях этого придурка, – и черный кивнул в сторону неподвижно лежавшего Валерки.
– Гони ты его к черту! – посоветовал он напоследок, телепортируясь в свой мир.
Святой только вздохнул, не мог он прогнать ближнего. Но на утро Валерка очнулся и сам убежал из дома Святого, он хорошо запомнил ночное происшествие, для него бывшее большим потрясением.
А Святой помолившись перед образом дорогой его сердцу Богоматери, устремился в церковь. Хотя бы таким походом в храм Божий он пытался унять жар неисполнимого желания, которое разрушало его изнутри.
Люди. Они, будто пленники волшебного царства, выпадают из реальности, забыв о действительности. Заколдованные, кто в раннем детстве, кто в юности, а кто и в зрелом возрасте, они так и не спускаются со своих облаков. Они питаются исключительно сказками и волшебными историями, которые нередко придумывают для себя сами, оплетая сами себя легендами и фантазиями. Ничего другого, кроме этих сказок для них и не существует. Эти люди заколдованные. Но не злые волшебники их околдовали, о нет, они сами причина собственного несчастья. Сами к себе применили чары, сами себя сглазили и очаровали.
Таким человеком и был Святой. В его квартире действительно жил черт, один из малых сих. Святой этому не удивлялся и не пытался с ним бороться, а даже частенько в силу своего характера варил для черта кашу и кормил его, а тот ворчал, что каша не соленая или наоборот пересолена. Святой ему угождал и даже как-то купил небольшие мягкие тапочки, чтобы черт не стер до мозолей свои копытца, черт стал жаловаться на боль и жесткий пол, на который ему приходилось наступать, надо думать, что в аду ходить, все-таки, помягче. В данном случае о подковах для черта нечего было и думать, Святой подковать не смог бы, а для кузнеца такая «лошадка» была бы в диковинку… И никто в целом городе не знал про столь странное соседство. И никто в Поднебесной не задумывался о таком соседстве, мало ли кто как из них развлекается? И никто, конечно в малом ангельском войске возглавляемом Богородицей не думал о таком соседстве, в общем-то довольно странном даже для них… Но факт остается фактом. И только сумасшедший Валерка Терпелов, торопливо преодолевающий последние метры до своей общаги, остановился, внезапно сообразив, что черт вел себя довольно-таки по-домашнему, как будто и диван, и комната, все это ему принадлежит да и Святой не пришел Валерке на помощь.
«Вот это да, вот так Святой!» – прошептал потрясенный догадкой Валерка…
6
«Пугало было не Селиван, а вы сами, – ваша к нему подозрительность, которая никому не позволяла видеть его добрую совесть. Лицо его казалось вам темным, потому что око ваше было темно. Наблюди это для того, чтобы в другой раз не быть таким же слепым».
«Пугало». Николай ЛесковОн стоял у окна, и я видела его руки и тонкие чувствительные пальцы державшие смычок и скрипку. Красивая грустная мелодия лилась из-под его тонких пальцев, приводя в трепет мое сердце.
Украдкой я любовалась на Него. Белые волнистые волосы, тонкие брови, изящно-очерченный нос, миндалевидные глаза. И плотно сжатые тонкие губы не большого рта. Загадочная мощная сила то ли добра, то ли зла исходила от Него.
О таких говорят, что они тебе по-доброму улыбаются, но чувствуется, что изнутри на тебя глядят напряженные и недоверчивые глаза и следят за каждым твоим шагом, за каждой твоей мыслью, за каждым твоим вздохом.
Музыка не смолкала. И день передо мною будто переливался и сверкал. Облака под моими ногами подыгрывали Аггелу, меняли цвет под его музыку, я чувствовала себя так, как будто в одночасье оказалась в огромном концертном зале. И даже серебристый дворец менял цвета, на миг обращаясь то в ярко-желтый, то в синий, то в белый.
Внезапно, одно особенно большое облако подплыло к самым моим ногам. Передо мной оказалось легкое, грациозное и сверкающее белым светом создание, напоминавшее очертаниями большую ящерицу. Я без страха смотрела на него. Постепенно создание приобрело более понятные очертания. И я увидела красного дракона с бледно-голубыми крыльями над чешуйчатой спиной. На вытянутой морде светились безмятежно и радостно огромные ярко-зеленые глаза обрамленные пушистыми ресницами.
Музыка смолкла и Аггел сбежал по ступеням лестницы вниз. Протянул мне руку, предлагая прокатиться верхом на драконе. Искушение было слишком велико и я согласилась. Не каждый день тебе предлагают покататься на живом драконе. На спине у дракона сидеть было бы крайне неудобно, слишком гибкое у него было тело, мы рисковали свалиться и потому нас ожидало двухместное седло. Я уселась впереди, а Аггел позади. Щелкнули ремни безопасности, они были покрепче, чем в автомобилях.
Дракон развернул крылья, оказывается я еще не полностью их увидела, когда он показал себя во всей своей красе, дух у меня захватило. Бледно-голубые крылья были огромны. На каждое, наверное, можно было бы поставить по два больших автобуса…
Вопреки моим ожиданиям мы полетели не быстро, а напротив даже очень медленно и часто просто парили в воздухе, огибая дворец и зависая над Покоем, где отдыхали измученные жизнью люди. Белые домики утопали посреди роскошной зелени высоких деревьев. С умопомрачительной высоты я вглядывалась в маленькую фигурку человека неторопливо прогуливающегося по усыпанным голубыми камешками дорожке. Тотчас, как и следовало ожидать, в этом волшебном мире, фигурка увеличилась, будто я посмотрела в сильную подзорную трубу и я ясно разглядела своего погибшего жениха Вовку Стрижа. Все такой же нелепый, все такой же милый моему сердцу человечек обрадовал меня чрезвычайно, будто я увидела родного брата. Правда, я его так всегда и ощущала, не как любимого… и как бы сложилась наша совместная жизнь, если бы он остался жить? Непонятно!
Человек зол, любит грешен себя. И живет для того, чтобы любить и любит, для того, чтобы жить. И не хочет знать ни о чьих проблемах с любовью, чтобы они не лишили человека покоя и способности восхищаться собой. Все люди собственники и, когда любимое существо сопротивляется – человек озлобляется, отсюда все споры, распри, унижения и оскорбления. Как это ты не хочешь меня любить? Меня?! И все люди стремятся к обладанию кем-то. Когда-то Вовка Стриж тоже стремился обладать мною, сейчас вспоминать смешно на какие уловки он шел, но любил он меня страшно. Любил с первого класса школы… Говорят, первая любовь самая сильная, говорят… Мелькнуло перед мысленным взором воспоминание об Аувее, но нет, это было похоже на умопомешательство… Я покосилась на Аггела, может и я такая же свинья, как все люди? И хочу обладать своим любимым, но нет… Я трепещу от одного только Его взгляда и понимаю всем своим существом понимаю, что ответная любовь невозможна. Что же получается, что я попала в сети самой сильной любви, платонической? Как известно от неразделенной любви больше всего гибнет и больше всего расцветает душ человеческих. Сколько стихов, сколько романов, сколько прекрасных книг сочинено только из-за такой любви…
Я часто оглядывалась на Аггела, приглашая его к разговору. Но он молчал, о чем-то грустно размышляя, горькая морщинка залегла у его губ.
Нас догнали. В воздухе началась кутерьма от множества ангелочков. Они носились вокруг нас, беспрестанно атакуя дракона. Крылатые, пушистые малыши, точно такие же, как на картинах великих художников прошлого. Они целовали дракона в морду и гладили по спине. Они кувыркались и катались с его распростертых крыльев, будто с большой горки. Дракон глядел на них веселыми глазами с искорками безудержной радости. Чувствовалось, что он не прочь бы поиграть с ними и лишь присутствие Аггела удерживало его от желания тотчас броситься носиться с ними наперегонки, рассекая голубой прозрачный воздух.
Аггел казался невозмутимым и только, когда ангелочки устали, Он махнул на них рукой:
– Наигрались? Свободны!
Ангелочки смеясь, улетели восвояси. У меня мелькнула шальная мысль, что из Аггела, пожалуй, получился бы прекрасный учитель или даже директор школы, терпеливый, но мудрый и понимающий… Дракон вздыхал ангелочкам вслед, провожал их тоскующими глазами. Но тут же подчинился повелительному взгляду Аггела и усмирил свой пыл. Игры никуда не денутся, они подождут.
И мы направились куда-то над розовыми и синими облаками. Дракон летел медленно и уверенно. Скоро достигли аккуратного круглого отверстия. Дракон присел возле него и мы легко соскользнув по одному его крылу, сошли на облако. Облако, как и в прошлый раз, когда я впервые была в Поднебесной держало нас вполне исправно.
Перед нами был туннель. Аггел указал на него рукой:
– Это туннель Бельта-икс, так его прозвали атланты и мы также называем, привыкли наверное. Это самый широкий туннель, по нему пролезают громадные корабли и проходят самые грандиозные ангелы достигающие иногда до тридцати метров в росте.
Я думаю, тебе легко будет его открывать и проходить по нему.
– Но зачем? – удивилась я.
– Тебе, Я разрешаю и даже приглашаю бывать в Поднебесной. Ты вполне можешь остаться, здесь, посреди нас в любое время и тебе не надо будет проходить через туннель смерти, как известно, самое тяжкое испытание для многих смертных.
– Но почему? – спросила я, удивляясь такой невиданной щедрости.
Он сделал отрицательное движение и не ответил на мой вопрос.
– Ты можешь ходить также по туннелю Зетта, но знай туннелей тысячи, рискуешь заблудиться. По пути атлантов лучше не следовать, они приведут тебя к стражам Адонаи, которые стоят на выходе из двух туннелей ведущих во Вселенную, к обитаемым мирам.
– А остальные что же, ведут сюда?
– Да. – Он помолчал.
Потом вдруг оборотился ко мне и глядя мне в глаза, нетерпеливо спросил.
– Но я должен знать, может ты боишься меня?
– Нет, – покачала я головой, с удовольствием ощущая полудетскую потребность бегать, смеяться, петь и сходить с ума. – Я тебя люблю!
И сама себе зажала рот, испугавшись слетевшего с губ признания. Но Аггел только улыбнулся понимающе, голубые глаза его засветились ласковым светом.
– Лучше так, чем… – Он не договорил…
А я поняла, что погибла. Я его обожала, чтобы ни случилось, он никогда не терял самообладания и был бы идеальным мужчиной для меня. Он был не из тех, кто в трудной ситуации стремится сбежать и бросить в беде. Напротив, наверняка он будет противостоять невзгодам и мужественно меня защищать, если потребуется, так же, как собственно и я его. В эту минуту захотелось, очень захотелось спрятаться за его спиной от злобного мира Земли. Самым большим желанием моим было как раз спрятаться за спиной мужчины-воина, наверное, такое желание возникает у многих женщин, и наверное оно естественно…
Он, между тем, спокойно глядел мне в глаза и читал все, что происходит у меня на душе, как открытую книгу. Я понимала это, но остановиться не могла, а думала, что рядом с большой любовью всегда тянется некая трагедия. Человек согревается теплом взаимной любви, но, но… Зависть и черная зависть весьма живучи в человеческом обществе. И те, кого предали, кто не удержал свою любовь или просто не умеет любить, отчаянно завидует влюбленным и втайне желает им разойтись. Так будет спокойнее завистникам. Они ведь одиноки. И подчас их черные мечты и желания сбываются. Люди и есть зло, и бесконечный круговорот негодяев и подлецов желающих погубить все самое светлое в своем ближнем так и крутится от геенны огненной к миру Земли, и от мира Земли к геенне огненной. И получается, что светлого остается совсем немного, всего-то остается способность любить, просто доверчиво любить. Любить, значит жить, значит дышать, значит оставаться Человеком.
7
Валерка в раздумье подошел к мутному окну в своей комнате. Дверь он крепко запер изнутри и придвинул тяжелую тумбочку. На всякий случай забаррикадировался. Он очень боялся попасть в тубдиспансер.
И потому постоянно торчал то у окна, то у дверей, приглядываясь и прислушиваясь к сужающейся вокруг него ловушке, панически обдумывая, как ему уйти от создавшегося опасного положения.
И только под вечер он смог расслабиться, справедливо рассуждая, что представители соответствующих служб, могущие причинить ему какой-либо вред уже разбрелись по своим домам, Валерка оделся, отодвинул тумбочку, отпер двери и высунул нос в коридор.
На кухне привычно гремели кастрюлями соседи, в далекой ванной гудела стиральная машина, все было, как всегда. И он вылез из своей берлоги, почти успокоенный скатился по ступеням лестницы вниз, со своего второго этажа, мимо дремлющей вахтерши, на улицу.
Был вечер, жара схлынула и долгожданная прохлада выгнала на улицу молодых матерей с маленькими детьми. Валерке, как на зло на каждом шагу попадались карапузы. А, между нами говоря, он терпеть не мог маленьких детей и когда такое чадо оказывалось просто даже в одном салоне троллейбуса с ним, он кривился и бесился, одаряя ненавидящим взглядом и детенка, и его родителей. Особенно он не переносил визжащих и кричащих детей, его начинало тогда колотить в какой-то истерической мелкой дрожи. Худые пальцы его начинали описывать круги и судорожно подергиваться. Но он особо не выступал, потому что понимал – это бесполезно. На стороне плаксивых детей и их родителей тут же окажется общественное мнение и чего доброго Валерка из-за своих выступлений загремит в милицию, а оттуда в психушку. Он по-возможности терпел… или убегал, последнее он проделывал чаще, даже, если опаздывал на работу, все равно вскакивал со своего места и шумно кидался к дверям, например, троллейбуса, выскакивал на улицу, обязательно, одарив по дороге злобным взглядом мамашу и ее ребенка. И, если мамаша замечала этот взгляд, надолго впадала в ступор, не понимая, что все это значит и кто такой этот тип?
Он вызывал у людей отвращение и жалость, одновременно. Желтое лицо и спутанная грязная борода заставляли случайных прохожих оглядываться на него. А когда он заговаривал с кем-либо, то при этом глаза у него, то правый, то левый непрерывно подергивались. А губы полу скрытые в бороде все же заметно для собеседника кривились в презрительной усмешке. Он всех считал ниже себя и без конца хвастался знакомствами с известными людьми, большею частью надуманными, а подчас выдуманными им тут же, на месте…
Он обожал себя. Из его слов всегда выходило так, что своих коллег он осчастливил своим присутствием на работе и уже за одно это они ему должны быть благодарны. Он без конца вспоминал об облагодетельствуемых им писателях и поэтах, которым он задарма верстал их книжонки. И дико радовался вороватым депутятелам, которые за бутылку водки обращались к нему со своими листовками в надежде, что он бесплатно им всё сверстает и значит можно будет потратить казенные деньги, закатиться в сауну с девками и оттянуться. А глупый Терпелов топорщился и надувался, как тот петух и всё кукарекал о своей значимости.
Он на самом деле считал, что может дать попавшему в беду человеку дельный совет и в разговоре всегда перебивал, сводил тему к себе и к тому, что с ним случилось тогда или тогда. Он всё бубнил и бубнил о себе, не уставая поучать и сомневаясь в возражениях и доводах собеседников…
Между тем, Валерка купил пачку пельменей и две бутылочки боярышника. Возвращаясь той же дорогой домой, поднял взгляд от дороги и увидел свет в своей комнате, хотя помнил, что свет выключал. На миг остановился, но подумав, что может ошибся и все-таки свет оставил, продолжил свой путь. Но тут, чья-то большая тень скользнула мимо окна. И Валерка решивший, что в комнате обосновались враги и его могут схватить и водворить насильно в лечебное учреждение, замер. Остановился неподалеку от своей общаги, где ему хорошо было видно окно. А в окне грязный потолок и часть комнаты.
Внезапно, кто-то распахнул выцветшие занавески и Валерка охнул, на землю упали из враз ослабевших пальцев пельмени, покатились по асфальту, звеня бутылочки боярышника.
Гигантская фигура, не менее двух с половиной метров, а в комнате надо сказать, до потолка было метра три. Так вот, темная громадная фигура возникла в окне. Была она увенчана белыми рогами. Золотистые волосы топорщились над острыми ушами. Как во сне, остолбеневший от ужаса Валерка разглядел на почти черном лице фигуры большие человеческие глаза отливающие золотистым светом, орлиный нос и тонкие губы. От фигуры исходила уверенная и непоколебимая сила.
Позади Валерки кто-то остановился и тихонечко охнул, он оглянулся. Какой-то прохожий также не сводил глаз с рогатого гостя Валерки, очень хорошо видного из темноты вечера. Постепенно народу прибавилось. Толпа стояла завороженная и посреди людей Валерка пришел в себя.
Рогатый же не задергивая занавесок бродил неторопливо по комнате, уверенно рылся в книгах на полках, что-то читал, наклонялся к компьютеру, по всей вероятности он и компьютер включил. Вообще он вел себя так, как будто ждал кого-то. И Валерка понимал своей трусливой, подловатой душой, что рогатый ждет его и именно его.
Народ гомонил, в толпе обсуждали невиданное событие, делились догадками. Во всяком случае, Валерка не верил в розыгрыш, а это была основная версия, которую высказывали в толпе. Далекие от духовного мира, потомки советского безверия, русские люди незаметно для себя потеряли веру в Бога, а стало быть и в Черта. Потоптавшись, многие расходились, потому как желание отдохнуть от трудового дня оказывалось сильнее чьего-то розыгрыша. И постепенно, незаметно для себя Валерка остался один. Да он и был один, ну чем бы ему помогла толпа? Правильно, ничем. Со смертью даже посреди поля боя, посреди умирающих от ран товарищей, остаешься один. Всегда. Один на один со смертью…
Сам Валерка с трудом вспомнил господнюю молитву и принялся с натугой соображая, молиться, читая воззвание к Богу. Тут же и фигура ожидающая Валерку пришла в движение. Раскрыла створки окна, высунулась и посмотрела в сторону Валерки. Белые рога явственно светились в темноте вечера. Заревели испуганные малыши, вскрикнули испуганные мамашки, прогуливающиеся возле подъезда общаги. Рогатый на них не обратил никакого внимания, он внимательно глядел в сторону молящегося Валерки. А тот отступал, отступал и наконец, повернулся, пустился в бегство. Неподалеку стоял Крестобогородский храм. К нему и побежал напуганный Валерка.
Двери в храм по случаю вечерней службы были открыты и Валерка влетел в них стремительно, сбив по дороге парочку разглагольствующих о чем-то старух. Старухи злобно зашипели Валерке в спину. А он метнулся из притвора в зал и залез едва ли не к самому алтарю, бухнулся на колени и дрожал мелкою дрожью, все оглядываясь и все ожидая, что рогатый вот-вот войдет в двери храма. Но служба шла, а черт никак не шел. Постепенно Валерка успокоился, принялся размышлять, все больше и больше убеждая самого себя в версии очевидцев произошедшего, в версии толпы. Наверное, действительно его кто-то разыграл. Ну, мало ли дураков, а неприятелей у него еще больше.
Убедившись, что на самом деле ему ничего не угрожает и настоящий рогатый не мог за ним придти вот так нагло, посреди дня, Валерка встал с колен, отряхнулся и не обращая внимания на молящихся, пошел вон.
Он подошел к своей общаге и остановился, окно его было темно, створки затворены, занавески задернуты. Вздохнул свободнее, надеясь, что вероятно рогатый ему почудился. Взошел по лестнице. Подошел к своей двери и обомлел, комната была отворена, дверь распахнута настежь, замок валялся тут же под ногами, а из кухни выглядывали соседи.
Соседи крикнули, что уже вызвали милицию. Они почти ничего не видели, только заметили, как кто-то черный стремительно вырвался из его комнаты и покатился по ступеням лестницы вниз, а кто, что, заметить не успели.
Валерка отступил и сел возле стены в коридоре, в голове его крутилась только одна мысль:
«Все! Это конец, черт еще вернется за мною».
8
Я полюбила гулять по туннелям и часто заходила, таким образом, в Поднебесную. Когда Аггел отсутствовал, а это происходило довольно таки часто, я с его предварительного позволения заходила в его покои и бродила по комнатам, которых оказалось, довольно много. Но особенно нравилась мне одна большая комната с высоким потолком из резного красного дерева, я назвала ее библиотекой. В деревянных шкафах от пола до потолка за стеклянными дверцами хранились бесчисленные собрания книг. Среди изданных и прочитанных были и неизданные еще в нашем мире и даже ненаписанные, датированные столетием вперед. Я с любопытством прочитала их, но быстро разочаровалась, написано все то же, любовь да ненависть, только с примесью роботов, космических кораблей и альтернативной энергией, которую, итак, давно пора было бы уже открыть. Но все-таки несколько авторов привлекли мое ненасытное внимание, их книги были хороши, написаны ярко и свежо и неважно было о чем они писали, главное, что со страниц книг смотрели их талантливые души. Тексты этих книг блистали и искрились великолепными сочетаниями литературных находок и читать их было весьма приятно.
Часто я находила открытые на определенных страницах книги, лежавшие где попало в покоях Аггела. Одна, заложенная золотистой закладкой почему-то привлекла мое внимание. Это был Иван Ефремов с книгой «Таис», текст подчеркнутый черным карандашом я прочитала с большим интересом: «Бог, занятый всеми людскими делами и похожий на человека, – лишь воображение людей, не слишком глубоких в фантазии. Он нужен на их уровне веры, как нужно место для сосредоточения и мольбы, как посредники – жрецы. Миллионы людей еще требуют религии, иначе они лишатся вообще всякой веры и, следовательно, нравственных устоев, без которых нельзя существовать государствам и городам»…
Когда я спросила у Аггела об этом тексте, он не задумываясь пояснил мне, почему подчеркнул:
– Я часто думаю о религии людей. Вот, например о Христе и его последователях. Вначале христиане были сильны, они жили Христом и его учением. Среди них были умные и сильные верующие. Потом со временем вместо праведной жизни продолжатели их дела занялись обрядами. Ну, а теперь священники, во всяком случае русские священники ходят в церковь, как на работу и определяют, каков был приход по поминальному столу, много ли принесли прихожане пряников, конфет? И, если много, довольные, делят между собой добычу и все измеряют именно так, стремясь к сытой и почетной жизни, а не к служению Богу и людям. Что могут они? Ничего! Адонаи не слышит молитв таких христиан и, если кто и помогает им, то разве что Богородица – существо созданное Богом для определенной цели, которую она, как известно, и выполнила. Она – не человек, но и не ангел. Но она помогает. Только на нее и могут надеяться русские.
Мы вообще часто с ним беседовали и бродили по Поднебесной. Однажды, он пригласил меня к бассейну наполненному голубой водой. Бассейн обложенный со всех сторон ровными камнями, находился неподалеку от дворца. На дне бассейна сверкали хрустальным светом белые полупрозрачные камни. Аггел сбросил с себя одежды и не глядя на меня, обнаженный, кинулся в воду. Поплыл сильными гребками. А, когда он вышел из воды, я не смогла отвести от него нескромного взора.
Чуть позолоченный энергией свойственной этому миру, похожей на солнечную, он выглядел прекрасным. Его ноги, сильные и крепкие были мускулисты, четко очерчены. Волосы уже высохли, в Поднебесной было жарковато, и распушились от купания, окружили голову пышной копной. Глубокие тени, скрыв выразительные глаза, придали лицу Аггела выражение невыразимой печали. Он закинул руки к голове и медленными плавными движениями попытался пригладить непокорные волосы. Заметил мой восхищенный взгляд, снисходительно улыбнулся мне. Я смутилась и поспешно убежала во дворец, обуреваемая противоречивыми чувствами.
Я чувствовала, один неверный шаг и все, Его доверие ко мне исчезнет. Я имела дело не с обычным человеком, хотя он и выглядел, как мужчина. Я имела дело с Аггелом и Его было не очаровать, не взять умом или талантом, не покорить, ни внешней, ни внутренней красотой. Он не был человеком и это я пыталась осмыслить всеми силами своей глупой души, в то же время оплакивая свой выбор. Я была молода и мне хотелось любви, хотелось быть любимой.
Правда, один раз я, все-таки привлекла Его внимание. Он среагировал на мои слова о России:
– Когда сила жизни слабеет в стране, – говорила я ему о России в одну из наших прогулок по дворцу, – народ из нее бежит в другие страны. Правда, бывает, убегают и сюда, то есть на тот свет, тоже, в принципе, находя выход для измученных жадными правителями, душ.
Выражение его глаз изменилось. Я почувствовала, как взгляд Аггела проник в самую душу мою, сразу и безо всякого сомнения обнажая тайные мысли и мечты. Я не испугалась. В одинокой жизни моей не произошло ничего постыдного. Я не страдала склонностью к подлости, во мне не могли удержаться злобные мысли. Я любила жизнь, любила природу и понимала людей. И я любила Его, Аггела. Любила не как человека, о нет, а стремилась к нему, как узница из темного карцера к лучу солнца проникшего сквозь частые сетки решетки маленького оконца. Он был надеждой моей, мечтой, моим смыслом жизни. И мои глаза бесстрашно раскрылись навстречу пронизывающему Его взгляду, проникшему мне в душу, прошедшему насквозь и устремившемуся вдаль в пространство. И в который раз я подивилась на одну особенность в его внешности, он смотрел на меня такими ясно-голубыми глазами, что казалось вся голубая синева неба влилась в эти глаза. Аггел понял все и улыбнулся мне.
Он положил руки немыслимой красоты мне на плечи. Их вес был почти нечувствителен. Только тепло растеклось по всему моему телу. Заглянул мне в лицо. Любовь и долгожданный покой, такие необходимые мне два состояния охватили мою смятенную душу. И мало было бы мне Его любви, даже, если он ответил бы мне взаимностью, скажем, как мужчина женщине. Страсть и одновременно неуверенность, вихрем пронеслись по моему телу, перековеркав все во мне. Только одна мысль забилась в моем сознании: «Ты, ты, ты!»
Но он не обращая внимания на мое состояние, сказал мне, отвечая на мои рассуждения:
– Россия? – Несчастная страна. Выстроенная на костях и муках тысяч и тысяч убитых с самого начала, с момента основания, она не может жить, непременно погибнет, тут только дело времени. И речь здесь идет не только о людях, но и о животных. Какое варварство убивать животных! Разве можно жить достойно, зная, что ради твоего завтрака или обеда, ужина погибло ни в чем не повинное существо, умеющее мыслить, но не умеющее говорить? Страдания животных только отягощают вину русских.
И потому Россия будет стерта с лица Земли, решение уже принято Богом и вытащены из Забвения люди, которые в свое время реформами и законами настолько ослабили Римскую империю, что на нее напали варвары, разрушили и свели на нет усилия целого народа, пытающегося расширить границы своих владений. Это сделали всего два человека и они же сейчас у руля власти в России. А, кроме них еще полно римлян в этой стране. Просто весь Древний Рим со своей любовью к зрелищам, к чувственным удовольствиям, к культу тела переселился в Россию…
Он поглядел на меня и я ощутила в нем радость от общения со мной. Он не раз подчеркивал мне в разговоре, что любит таких, как я, чистых и мужественных людей, пусть даже я тоже из Древнего Рима… Но все же таких, как я так мало осталось на Земле, а уж в России их вообще не найти.
Счастливая Его вниманием я опустила глаза. И не возникло перед моим внутренним взором никакой тревоги, отсутствовала опасность потерять Его. Он был навсегда и никакая смерть Ему была не страшна, а стало быть и для меня. Разлука? Разочарование? Измена? Нет, ничего не было страшно. И пускай моя любовь походила скорее на восхищение красивым цветком, любованием алой зари, наслаждением прекрасной музыкой. Пускай! Возражений с моей стороны не было бы никогда. Физическая близость? Это была бы попытка обнять и поцеловать солнечный луч. И я это понимала. А понимал ли Он? Ну, конечно!..
Напротив входа в библиотеку Аггела находилось огромное панорамное окно в которое заглядывали розовые и голубые облака, неспешно плывущие по прозрачному океану неба. Возле окна стояло тяжелое дубовое кресло с подлокотниками и подставкой под ноги. Кресло было развернуто так, чтобы сидящий в нем видел небо и всю Поднебесную под ногами. Возле кресла стоял небольшой резной столик, на нем лежали пурпурные свитки.
Однажды, я взяла такой свиток в руки и только развернула, чтобы взглянуть, как вошел Аггел. Он был печален, как всегда. Я смотрела на него и чувствовала его невероятную силу и еще, что он далек от меня, от всех, далек от всех людей на Земле. От этого он был одинок даже среди своих верных друзей, хотя они вообще не люди, а ангелы, а значит, существа совершенные.
Заметив в моей руке свиток он печально усмехнулся и настоятельно попросил заглянуть в него. Я увидела дату, совпадающую вплоть до числа и месяца с той, которая действительно была на календаре. Среди имен и фамилий написанных в списке особенно выделялось имя хорошо мне знакомое: Валерий Терпелов, дата рождения, место рождения и дата, какая, в обыкновении, ставится на памятнике, дата смерти, уже состоявшаяся дата.
Я вопросительно уставилась на Аггела. Он пригласил меня знаком руки следовать за собой. Скоро мы вышли из дворца на воздух, где нас поджидал знакомый уже дракон. Сели в седла и дракон широко взмахивая крыльями понес нас вниз. Мы миновали облака, миновали деревню, пронеслись еще вниз и я поняла, что дворец стоит как бы на горе. У подножия горы волновалась целая толпа людей. Много, очень много народа. Они ничего не ждали и никуда не спешили, а просто сидели или гуляли между людьми. Некоторые проводили спокойными взглядами нас и возвратились к своим прежним бестолковым занятиям.
Мы пронеслись куда-то в расщелину и увидели прекрасные сады, прямо на мягкой мураве спали люди. Куда бы я ни посмотрела, везде были спящие и над ними склонялись пышно цветущие деревья. Мы летели и опускались все ниже и ниже. Наконец, перед нами возникли темные ворота, какие-то исполины охраняли вход, но завидев нас, тут же расступились. Я разглядела только гигантские фигуры не менее двух с половиной метров ростом, темные, они были увенчаны белыми рогами. Золотистые волосы топорщились у них над острыми ушами. Присмотревшись, я разглядела большие почти человеческие глаза отливающие золотистым светом, орлиный нос и тонкие губы. Вероятно, это были стражи геенны огненной. Они поклонились нам, вернее Аггелу, он ответил лишь кивком головы и стражи нас беспрепятственно пропустили. Тут же под нами оказалось огненное море. Море шевелилось. Тысячи голов, тысячи рук вздымались над огненными волнами. Люди шевелились и вздыхали о своей участи. А по головам бегали черти, такие какие описаны во многих источниках. Красные, с вилами в руках. Они заботливо топили грешников. Подпрыгивали на их головах и перепрыгивали к следующей голове вынырнувшей из огненной пучины. К нам торопливо подбежал один из них. Услужливо изгибаясь, заглянул в глаза Аггелу и тут же поняв требование Владыки, помчался, как водомерка мчится по поверхности пруда, очень быстро и легко, разыскивать кого-то в этом море скорби. Дракон неторопливо ожидал, остановившись в воздухе и распластав крылья. Спокойно ожидал и Аггел. И только у меня сердце готово было выпрыгнуть из груди, я очень волновалась, было страшно и жалко до слез моего несостоявшегося мужа, глупого пьяницу и хвастуна.
Черт вытащил что-то из огненного плена и притащил за собой. В скрючившейся, ни на что не надеющейся фигуре, я узнала Валерку Терпелова…
Вдруг вся эта картина пошатнулась передо мной, подернулась зыбью, заколебалась, как в пустыне мираж и рассыпалась миллиардами огней… Тут же я проснулась. Удивлению моему не было предела. Я оказалась посреди ангелочков моей бабки на печке, а сама бабка все так же шумно возилась возле печки. По ее возгласам я поняла, что еще учусь в школе, а значит вся история с Аувеем, Вовкой Стрижем, Аггелом и с Валеркой Терпеловым мне приснилась? Так, что ли?.. Недоумению моему не было предела. Однако, жизнь продолжалась и я стала собираться в школу на последние экзамены, выпускные, как-то сложиться еще моя жизнь? Потрясенно, испытывая, одновременно, волнение и страх вышла я на улицу. И мне навстречу вынырнул из-за угла дома Вовка Стриж, живой и любящий. В глазах его искрилась жизнь, он протянул мне букет полевых цветов и мне так захотелось быть любимой, что я шагнула к нему и сама не зная как, легко поцеловала его в губы, ощутила знакомый привкус сгущенного молока и радостное изумление Вовки. Под руку мы пошли в школу на последний экзамен, готовые выйти в жизнь, дорогой моему сердцу образ Аггела мелькнул передо мною. Невольный вздох печали вырвался из моей души… И в тот же день, глубоко под вечер, я побрела в поле, подальше от людей и от Вовки Стрижа… На подъеме к холму теплый ветер, налетев с простора зеленого поля, обнял меня. И я распахнула руки, желая тоже обнять его в ответ. Почувствовала теплые руки у себя на плечах. Миг, и кто-то невидимый, но родной обнял меня, оторвал от земли и понес-понес над землей, под синими, налитыми дождем, весенними облаками, куда-то вдаль, туда, где нет боли и отчаяния, нет страха и печали…
Нищеброды
Теплой майской ночью компания из молодых людей прогуливалась не торопясь, увлекаемая любовными играми, пересмешками и раскатами смеха, в котором слышалось сплошное здоровье и удаль молодецкая. В компании чирикали девушки и их кокетливые нотки веселья гармонично вплетались в пение соловьев разливающихся в буйных зарослях зеленого ивняка.
Внезапно, из кустов вынырнуло нечто. Компания остановилась.
Сверх изодранной в клочья рубахи был накинут пиджак из шерстяной ткани. Воспаленными, широко распахнутыми глазами глядело это нечто на молодежь. Нервная судорога подергивала веки его глаз, рот кривился. Волосы давно не чесаные вероятно кишели паразитами, борода свалялась так, что видно было, более ее не расчесать.
Девушки пронзительно завизжавшие при виде мужика и спрятавшиеся за спины парней причитали то одна, то другая:
– Уберите его!
– Пускай он уйдет!
Парни, чувствуя себя защитниками слабых подруг, готовы были сию секунду вступить в бой с мужиком, но мужик, освещенный полным светом Луны, лишь громко сглотнул и прохрипел:
– Подайте убогому! – и протянул почернелую от грязи лапу.
– Ты не сказал, господа! – высокомерно заявил один юноша.
Мужик послушно поклонился:
– Хорошие господа, подайте!
– Ей богу, – презрительно процедил юноша, обращаясь к товарищам, – будто и не было на дворе советской власти.
– Ты хотя бы читать умеешь?
Мужик смекая, что к чему, тут же потупился:
– Безграмотный я!
– Видите! – возмутился юноша, но подаяние подал.
Несколько мятых десяток обрадовали мужика настолько, что он заплясал.
В ту же ночь, истопив баньку, и как следует напарившись, он переодевшись в чистое, решил-таки расчесать бороду. Аккуратно разложил на столе газетку, взял крупную расческу-щетку и приступил. Через несколько минут газета скрылась под грудой мусора, тут было все, и птичьи перья, и соринки, и соломинки, даже куриная косточка.
Увидев все это «великолепие» сам себе иронически улыбаясь и подмигивая, он обронил:
– И как это я еще воронье гнездо не вычесал, не пойму!
Бороду вместе с шевелюрой мужик начисто сбрил и заваливаясь спать на давно оставленную кровать, пробормотал:
– Воскрес к новой жизни, нищеброд!
Нищеброд спал, когда солнечные лучи, пробившись сквозь пыльное стекло мутного окна осветили стол с неприбранной посудой, с прожженными во многих местах дырками от сигарет, загаженной серой скатертью, усеянной пустыми бутылками. На столе паслась синица, выискивая хлебные крошки:
– Что, Варька, – приветствовал ее проснувшийся нищеброд, – тараканов всех переловила?
Синица ответила ему согласным присвистыванием.
Скрипнула дверь и на порог взошел человек. Нищеброд критически его оглядел. Человек просипел:
– Выпить чего осталось?
– В углу, грамм сто нацедишь! – кивнул нищеброд.
Человек метнулся в угол, послышалось бряканье, бульканье и довольное бормотание.
– Вымыться бы тебе? – спросил нищеброд.
– А то как же! – отозвался человек.
Вскоре, объединенными усилиями, они вымели мусор из избы, прибрались, протопили печку и, закурив, уселись на чистом крыльце:
– Что, Павлуша, живем? – спросил нищеброд у человека.
– Живем! – кивнул Павлуша и обращаясь к нищеброду, горячо заговорил. – Ты вон и прическу поменял, теперя все твои думалки будет видно!
– Поумнею, – согласился нищеброд, – знамо дело, у лысых от мыслей волосы не растут! Коль лысый, стало быть, умный!
Павлуша льстиво рассмеялся:
– Может, ты теперя в депутаты подашься? А меня помощником возьмешь, я тоже облысеть готов!
– Может! – кивнул нищеброд, широко улыбаясь и выставляя на показ один-единственный зуб.
– Главное, разбогатеем, ничего не деламши, – мечтал Павлуша, – а, Давыдыч?
Тут надо сказать, у нашего нищеброда было имя. По паспорту его звали Иннокентием. Но отчего-то возненавидя это имя, он сам себя перекрестил, называясь везде и повсюду именем отца – Давидом. Так и пошло Давид, Давыдыч.
Приятель его Павлуша жил на свете «богатым» наследником дедовского дома. Дом был старинным – большой, когда-то добротный, но теперь почти разрушенный. На огромном, в десять комнат, доме проржавела крыша, бревна в стенах прохудились, стены осели и кое-где выпячивались, угрожая завалами. В самом доме никто не жил, там хозяйничали крысы. Единственный наследник, бледный, худющий от недоедания, вольный человек, Павлуша обосновался в тенистом заросшем яблонями и вишнями саду. Он облюбовал себе под жительство баньку, где маленькая печка не дымила и пожирала не так много дров, как это было бы в доме, там три печки и дымили, и жрали дрова, а тепла не давали нисколько.
Летом Павлуша спал вволю, вставал поздно, кипятил угольный самовар, пил чай, кружек десять, он чай любил и брел на берег Волги. Нередко компанию ему составлял лохматый черный пес. Опираясь на палку, подвязав руку тряпками, будто сломанную, Павлуша ковылял к отдыхающим и, протягивая другую, «здоровую» руку жалобно подвывал о своей инвалидности.
В нытье Павлуше не было равных. Оглядев его помятую одежду, заметив «сломанную» руку, отдыхающие давали мелочи, делились пивом и сухариками.
Павлуша возвращался к себе домой. Деньги откладывал на голодную зиму, когда подаяние подавали плохо, обедал, чем придется.
Пес в еде не нуждался, он охотился на крыс и преуспел в деле убийства хвостатых разбойниц получше любого хорька.
Иногда, правда, вылазки Павлуши на пляж заканчивались большой удачей. Пес выкрадывал у зазевавшегося отдыхающего барсетку или кошелек, он хорошо соображал, с добычей убегал в дом, где прятался посреди бесчисленного хлама, ожидая своего хозяина.
На нежданное счастье в виде сотен, а то и тысяч рублей Павлуша закатывал банкет, где пес наедался впрок, словно медведь, наращивая сало на холодные дни голода и отчаяния. Давыдыч с удовольствием участвовал в общем застолье и ручная синица, вполне довольная жизнью, лакомилась из его рук, уплетая тонкие ломтики сала, до которого все четверо были большие охотники.
Друзья помогали друг другу, и изредка вспоминая дни своей молодости, говорили о возможном сценарии другой жизни.
Нищеброд не всегда был нищебродом. Молодым он работал лесничим, любил зиму. Любил, когда лыжи скользили по поверхности замерзшего озера с поразительной легкостью. Скорости добавлял ветер, дувший в спину. Давид держал курс, ловкими движениями лыжных палок направляя лыжи к заветным лункам, где наверняка пара-тройка щучек уже били хвостами, сгорая от нетерпения попасть на обеденный стол.
Мороз крепчал, но Давид холода не чувствовал, напротив он жадно вдыхал морозный воздух, упиваясь свежестью и чистотой, наполняющей каждую молекулу окружающего пространства. Счастье распирало его грудь, как хорошо, ни тебе людей, ни зверья, никого!
Озеро было совершенно пустынным. Временами, на снегу, слегка припорошившем лед петляли заячьи следы. Изредка черная ворона пролетала вдали, над черными безмолвными деревьями, что виднелись по берегам озера.
По привычке Давид брал с собой ружье, мало ли хищников в округе, подвергнуться нападению серых разбойников он не хотел.
Наконец, Давид достигал цели. Улов всегда был царским, в ловушки, расставленные умелым рыболовом, попадалось с десяток щучек. Довольный, возвращался Давид обратно, выстраивая в уме планы продажи щук в ближайшем селе.
Через два часа упорного забега по собственной лыжне Давид попадал в село, где щук у него с руками отрывали, собственных рыбарей давно не было. Здешние мужики обленились и, зевая, препирались с женами даже из-за такой мелочи, как дрова. Ну не могли мужики дров нарубить и потому рубили их жены, у которых чувство ответственности за теплый дом и горячий обед было гораздо сильнее развито, нежели у мужей.
Давид часто помогал женщинам. Дрова рубить он любил. Бездумная эта работа приводила его в восторг и он, как зеленый юнец, упиваясь собственной силой, сбрасывал верхнюю одежду, частенько оставаясь в одних подштанниках.
Женщины на него заглядывались. Конечно, такой сильный мужчина, да и дельный к тому же! Женщины ходили вокруг него кругами и он, почувствовав плотное кольцо окружения, незаметно сжимавшееся вокруг его персоны нон грата, потихонечку сбегал.
Пробегая до своей холостяцкой избушки, Давид тряс головой и пренебрежительно фыркал. Нет, не то, чтобы он не любил женщин, но жениться не желал, хотел остаться свободным и потому предпочитал сторониться вообще всяческих отношений. Потому как не смог бы наплевать в душу отдавшейся ему женщины, не смог бы переспав, после сделать вид, что ничего и не было и при этом выставлять себя порядочным человеком. Для Давида секс и любовь были неразделимы, как день и ночь, а стало быть, брак, а стало быть, семья…
И все бы хорошо, так бы и жил Давид отшельником, но власть переменилась, Союз рухнул, а сменившая партию народа власть богатеев вовсе не нуждалась в лесничих и Давида сократили, выгнав из ставшей родной, избушки. После чего Давид переехал в родительское гнездо – дом, где так и не смог оправиться от удара нанесенного ему власть имущими, а постепенно так, незаметненько скатился к нищеброду.
Павлуша был моложе Давыдыча и сколько себя помнил, всегда побирался. Он был на «ты» со всеми своими знакомыми: с теми, кто был старше него лет на двадцать-тридцать, с женщинами, юношами, со всеми.
Он говорил «ты» всем, с кем пил водку, а пил он со многими. По молодости работал дворником, слесарем, станочником на производстве. Павлуша был уверен в дружбе своих новых приятелей и приятельниц, смеялся и шутил, но с легкостью через некоторое время предавал так просто завязавшееся знакомство, попросту обворовывая тех, кто ему верил. Он страдал непреодолимой тягой к воровству.
В тюрьме Павлушу били. Зеки пытались его перевоспитать, но безуспешно. Оказавшись на воле, Павлуша немедленно, кошкой, взбирался на самые недоступные этажи и, проникая сквозь открытые форточки или балконные двери, обкрадывал доверчивых граждан, выискивая у них припрятанное добро и съедая съестные припасы из холодильника.
Правда, Давыдыча Павлуша никогда не обкрадывал. Может, здесь, срабатывало некое чувство самосохранения, ведь, кроме Давыдыча у Павлуши никого более не было. Случись голод и холод, Давыдыч всегда выручал, нередко приятели вместе проводили зиму, ютясь в одной избушке нищеброда. Тогда они вместе ходили в поисках и с утра пораньше, набрав целый мешок пустых пивных бутылок, банок, сдавали в соответствующие лавочки, тем и жили. Иной раз, некая идея поселялась у обоих в головах, и они шли на реку рыбачить, ставили сети, ловушки, а после продавали на рынке толстым кумушкам свой улов.
Так и тут, идея захватила умы наших героев. Предложенная агентом недвижимости, нежданно выросшим на пороге, идея состояла в том, чтобы продать все их имущество и на полученные деньги купить себе крепкий дом, скажем, в поселке. Он уже и дом подобрал. Подумав и обсудив перспективу деревенской жизни, они согласились, рассуждая:
– А что нам город дал? – вопрошал Давыдыч
– Окромя нищеты да милостыни ничего! – отзывался Павлуша.
Через некоторое время, объединенные общим документом на дом, Давыдыч и Павлуша оказались в поселке, под городом, где кое-где еще сохранились деревянные тротуары, но чинили и заменяли прогнившие доски сами жители. Жители подметали и спрыскивали водой тротуары, чтобы под жарким летним солнцем доски не растрескались. Жители громко скандалили, не давая заменить дерево на асфальт. И их можно было понять, на соседних улицах, где народ не боролся за деревянные тротуары, новенький асфальт кое-где даже провалился и вспучился под напором корней деревьев.
Дом оказался славным, очень крепким, с кирпичным фундаментом. Давыдыч немедленно затопил печь. Он сидел на скамеечке, перед открытой заслонкой жарко растопившейся печи, зачарованный пляской огня. Отблески пламени танцевали на его лице, выхватывая то задумчивую улыбку его, то смеющиеся добрые глаза, то деревянную трубку, что он нашел в доме. Трубку Давыдыч туго набил табаком, что купил в сельпо и курил, прищуриваясь, пуская клубы дыма в дрожащее зарево жерла печи. На плече у Давыдыча сидела ручная синица, Варька, рядом примостился черный пес Павлуши. Ну, а сам Павлуша, что же?
– Ты не поверишь! – радостно прихлопывая в ладоши, воскликнул Павлуша, вбегая в двери избы. – Устроился на работу!
– Кем? – удивился Давыдыч.
– Пастухом! Буду коров пасти! А зимой в коровнике скотником работать, зато всегда при молоке!
– И то дело! – кивнул Давыдыч, одобряя приятеля.
– Так ведь это еще не все! – вскричал, радуясь Павлуша. – Лесники им тут требуются!
Давыдыч вскочил, недоверчиво вглядываясь в сияющие глаза друга:
– Ну, да?
– Да, да, пойдем скорее в леспромхоз, я тебя там уже зарекомендовал!
И друзья, отчаянно спеша кинулись навстречу новой жизни…
Брат
Он бежал, подскакивая, размахивал руками, лицо его посекундно дергалось в гримасах.
Наконец, остановился, едва переводя дух. Раскачиваясь взад-вперед, схватил себя за голову, что-то забормотал и бросился вперед. Через мгновение слепо ударился головою о стену дома, отлетел, пошатнулся и снова устремился к стене, а ударившись, повалился на землю, воя и обливаясь слезами.
Случайные прохожие останавливались, озадаченно глядя на плачущего, не зная, что делать. И тут плотный коренастый человек с копной рыжих волос, хмурый, недовольный вниманием толпы подошел к истерику. Поднял его и потащил прочь. По дороге он оглянулся на растерявшихся зрителей и одарил их настолько свирепым взглядом, что люди поежились и тут же разбрелись по своим делам.
Истериком оказался пьяненький художник по прозвищу Коленька. А товарищем его, тенью следовавшим за Коленькой, родной брат Серега.
Коленька порывался из рук брата, тяжело дыша, он вырывался, но Серега оставался непреклонен.
Наконец, Коленька сдался и тяжело повис на руке у брата. У него были большие страдальческие глаза и изящно очерченный рот. Он постоянно вздрагивал и испуганно глядел вокруг.
Более трусливого человека, чем Коленька было бы трудно сыскать на всем белом свете. Он боялся всего. Улицу не мог перейти спокойно и, если не было перехода со светофором, он искал, где есть. Для того долго шел по тротуару, а переходил только с народом, один никогда, всегда стоял и ждал пока кто-нибудь из людей не подходил.
Боялся автобусов, автобусы ездили иногда непозволительно быстро. Передвигался Коленька только на троллейбусах и на трамваях, потому что они, по его мнению, ездили медлительно.
Темноты он не переносил и спал с настольной лампой.
Боялся собак и мальчишек, даже кошек обходил далеко стороной. Собаки могли напасть и искусать, мальчишки могли бросить камень летом или снежок зимой, ну, а кошки, по его мнению, могли исцарапать. Но особенно сильно Коленька боялся пьяных людей, хотя и сам пил. Но пил всегда в одиночестве, дома и при этом нервно оглядывался на людную улицу за окном, будто ожидая, что вся эта улица вместе с народом вот сейчас влезет к нему в окошко с угрозами и агрессией, пил он, чтобы избавиться от страха и стать хотя бы немножко посмелее.
Однажды, к нему привязались двое пьяных. Один уже достал нож, а другой угрожал палкой. Коленька попытался убежать от них, но пьяницы быстро догнали, прижали к стенке, обдавая тошнотворным запахом перегара. Он панически трясясь вдруг выдал такую высокую ноту, что пьяницы отшатнулись от него. А, когда он, ободренный их реакцией, завизжал, будто девчонка, они вообще его бросили и отошли, изумленно глядя и Коленька дал деру.
Он боялся лифтов, потому что они могли застрять. И на свой седьмой этаж поднимался пешком, рассказывая своему мрачному брату, как это полезно для здоровья. Брат смотрел угрюмо и не верил Коленьке.
Но особенно сильно Коленька боялся смерти. В детстве старая бабка читала ему библию. Почти ничего из нее он не понял. Вот только запомнил, как Бог испытывал одного мужика и тот потащил на жертвенник собственного сына. И уже занес над ним нож да только Бог его остановил… Коленька из всего этого понял одно: Бог жесток, раз так испытывает людей… Но еще больше его испугала геенна огненная. Старая бабка как-то показала ему стену в церкви, прямо у входных дверей. Он увидел красных чертей и грешников в котлах. В кровавом зареве обреченно вздымали руки к далекому небу несчастные осужденные. Коленька надолго запомнил слова бабки о зле, которое не должен творить и тогда, может быть, он не в геенну огненную упадет, а попадет все-таки на небеса, в рай, где светлые ангелы поют славу жестокому Богу…
Жил Коленька вместе с братом в одной квартире. Серега был женат и жена его, полная добрая баба, любившая Коленьку, как брата, внезапно схватилась за сердце и рухнула на пол. Через короткое время приехала «скорая помощь», увезла ее в больницу, но потом Серега сопровождавший жену, вернулся домой и сказал встревоженному Коленьке, что жена умерла. Коленька взвизгнул, картины из детства сразу же пронеслись перед его мысленным взором, заскакали вокруг него радостные черти и он, подскочив, ринулся в двери, вон, на улицу. Черти еще гнались за ним какое-то время, но после вынуждены были отстать, наверное, вернулись за женой Сереги. Коленька всхлипывал, шатался, присаживался куда-нибудь, тяжело дыша и снова подскакивал, мчался вперед, боясь, что черти вернутся и утащат его в геенну. Таким мы нашли его в начале рассказа. И мрачный горюющий о своей беде брат нашел в себе силы отыскать безумного родственника, потому как он был человечен. Нет, Серега не страдал повышенной чувствительностью, не сыпал словами о прекрасном направо и налево, не призывал подавать милостыню страждущим и нищим, как это делает большинство христиан. Он просто знал, что брат у него маленько не от мира сего и знал, что Коленька без него погибнет. Обладая прямой и чистой душой, он спокойно выдерживал недоумения по поводу возни с братом, которые ему, нет-нет, да и высказывали соседи и знакомые… Работяги с завода его понимали и поддерживали, не делом, так словом. На заводах, где руки в мозолях и трудно, нет места шушере. А только так Серега и обзывал всех тех, кто советовал сдать брата в интернат для умалишенных.
Серега любил выпить. Он пил всегда и неизменно рюмку водки за ужином, после смены. И никто в доме, кроме него не смел тронуть водку ни под каким предлогом. Только в выходной доставалось красное вино для Коленьки, и ему дозволялась маленькая рюмочка, с которой он мгновенно пьянел и уже ничего не боялся. Но бывало, он улучал момент, выкрадывал драгоценную бутылку и наливал себе сам, выпивал торопливо, а потом остаток дня мучился совестью. И доведенный до отчаяния, будил посреди ночи Серегу, винился, стоя на коленях, плача возле его кровати. Жена Сереги просыпалась, спускала полные ноги на пол и ступала в широкой простой сорочке к Коленьке. А когда она обнимала его за голову, Коленка переставал плакать, тихонечко засыпал, съезжая на мягкий ковер, ему казалось тогда, что это его обнимает мама. Она тоже была очень доброй и очень полной женщиной. Серега вставал, брал легкое измученное страхами тело Коленьки на руки и относил к нему в комнату, в кровать. Здесь, он смотрел некоторое время на брата, тяжело вздыхая, шел в кухню, прятать куда-нибудь бутылку с вином, чтобы избавить Коленьку от искушения снова выпить. Так они жили, пока не умерла жена Сереги. Бог не дал им детей. И у Сереги остался только Коленька.
После похорон, на которые Серега брата не взял, был накрыт поминальный стол. И Коленька тут присутствовал. Он очень нервничал, беспрестанно кусал ногти и оглядывался по сторонам, словно ожидая, что из-за шкафа или из-под кровати выскочит черт.
Гости тихо беседовали, чинно кушали и только Серега изредка мрачно вглядывался в брата, стараясь понять, что от него следует ожидать. Он совершенно не представлял себе, как справиться теперь с братом, помощь жены была просто бесценна. Ему самому впору было вздрагивать и трястись от страха перед ужасом грядущих лет возни с безумцем.
После поминального обеда Коленька занялся посудой. Тщательно перемыл тарелки, подмел и вымыл пол. Устал, посидел, вскочил и побежал в ванну стирать. Белье, еще замоченное женой Сереги, так и мокло в тазу. Серега только молча ходил за братом. Коленька по дому никогда ничего не делал, а тут такое…
А ночью Коленька рисовал. Краски казались ему живыми и очень капризными. Одни не желали, чтобы он макал в них кисть, и метались по палитре. Другие делались невидимыми и их приходилось уговаривать шепотом, чтобы не разбудить брата, проявиться. Третьи просто не желали даваться в руки, ускользая и требуя скрипучими противными голосами, чтобы он оставил их в покое. К утру, Коленька закончил картину. И вставший в дверях Серега обомлел, увидев на сыром еще холсте жену в белой ночной сорочке стоявшей босиком на голубых облаках. Коленька, уронив руки, плакал навзрыд и бессвязно бормотал, что такую добрую женщину никак не могут выкинуть в геенну. И Сереге ничего не оставалось делать, как тяжело вздохнув, подойти, обнять за голову плачущего брата, как раньше обнимала жена и Коленька после непривычной ласки, Серега никогда не нежничал с ним, сразу же заснул. Лежа в мягкой кровати, куда, конечно же, был перенесен сильными руками своего надежного брата, он улыбался сквозь слезы, ему снилась жена Сереги. Она стояла на облаках и махала оттуда рукой, мол, все хорошо, не плачь, родной, все хорошо…
1987 годДвойники
В Ростове Великом Веронику все устраивало. Спокойный городок, неторопливые практичные люди. Устроилась работать по специальности, бухгалтером. Сын пошел в гимназию. И дом, а главное, конечно же, дом оказался на редкость ухоженным, добротным, даже ремонта не потребовалось делать. Рядом с домом раскинулся чей-то яблоневый сад, и из-за забора выглядывала красная крыша, там кипела жизнь и сквозь щель в заборе Вероника углядела маленький синий трактор во дворе, груженную сеном телегу и крутобокого мерина, тяжело вздыхающего, как видно, о своей нелегкой судьбе. Больше ничего не было видно, но и так ей стало понятно, что соседи – люди хозяйственные, вон все, как ухоженно и чисто у них.
Она открыла двери своего дома, надо было прибраться, помыть многое, еще вот и окна… Дом ей продали вместе с мебелью. Красивые резные шкафы и столы, несомненно ручной работы она рассматривала с удивлением, такая мебель была бесценна, стоила дорого, а Веронике ее отдали практически бесплатно. В одной из комнат она нашла фотопортрет молодой женщины невероятно похожей на саму Веронику. Женщина эта стояла, опираясь на руку очень интересного мужчины. Несколько минут Вероника растерянно рассматривала своего двойника, потерла лоб, встряхнула головой, избавляясь от наваждения. Надо было приниматься за дела, съездить в магазин за постельным бельем и занавесками, в общем, дел до вечера делать, не переделать.
К полудню она настолько устала, что прилегла на диван в гостиной, незаметно для себя заснула. Проснулась от звонка, настойчивого звонка в двери… Пошла открывать. На пороге стоял тот самый, интересный мужчина, только значительно постаревший и немного пьяный, но все-таки точно такой же, какой на фотографии. Он пробормотал что-то о соседях и неопределенно махнул рукой в сторону дома с красной крышей, синим трактором и мерином, вздыхающим о своей судьбе, а сам изумленно, как-то сразу протрезвев, смотрел на нее, потом бросился, обнял и будто, внезапно, обезумев, принялся осыпать ее лицо поцелуями. У нее закружилась голова. Ведь она была уже лет как десять совершенно одна, после жизни с мужем-психопатом и алкашем не больно-то и хотелось даже простой интрижки. А тут такой человек, понравившийся отчего-то сразу, правда, немного выпивший, но это ничего… Он схватил ее на руки, понес к дивану, где она только что лежала, сел, посадил ее к себе на колени и нежно обнимая, принялся плакать. Жаловался, думал, она погибла, утонула в семьдесят девятом году на прогулочном теплоходике, тогда много людей пропало без вести в штормовых волнах Черного моря близ города Сочи. Он очень горевал, даже работу бросил и дом, ушел послушником в Загорский монастырь, правда монастырь нисколько не помог, только усугубил его горе, не умеет монашество лечить душевные раны. Он говорил и говорил, а Вероника недоумевала, как же ей прервать эту череду слов? Наконец, она сказала, мягко высвобождаясь из его объятий, все-таки опомнившись и взяв себя в руки, нельзя же так с первым встречным… сказала, что ей надо в магазин купить продукты и белье, сын скоро вернется из школы. Он остолбенел, потом спросил, сколько лет сыну, когда родился, как зовут? И оказалось, что да он знал, должен был родиться ребенок в восьмидесятом году, в мае-месяце, что хотели назвать малыша Никитой, имя больно хорошее, нравилось им обоим. Вероника недоумевала, ее сына, действительно так и звали. И, чтобы все-таки как-то поставить точку в этом недоразумении, она принесла паспорт. А он взял и, не открывая, сказал, что она Вероника Петушкова родилась 9 марта 1962 года в Ростове Великом и выросла здесь, в этом же доме на попечении старой тетушки, которая уже умерла, завещав дом каким-то дальним-дальним родственникам…
«А они», – подумала Вероника, – «мне этот дом и продали через посредников и даже в глаза меня не видывали».
Он открыл паспорт и вслух прочитал дату рождения, она совпадала с названной им датой 9 марта 1962 года, и уже удивленно прочитал место рождения – Ярославль. Вопросительно посмотрел на Веронику, фамилия была другая – Стеблева. Просмотрел печать о разводе, была замужем, рассуждал он вслух, стало быть, фамилию сменила. Вероника пожала плечами, объяснила, что он ошибается, она не та, за которую он ее принял, мало ли похожих людей. Он немедленно вскочил и заявил, что, если она это не она, стало быть, у нее на спине нет родинок, составляющих в целом треугольник. Такой знак у нее был, Вероника остолбенела, уже чувствуя, что сходит с ума. Он кинулся к ней, быстро задрал на спине рубашку и издал победный вопль, увидев родинки. И еще, закричал он, есть один знак. В раннем детстве она умудрилась опрокинуть на себя чашку с горячим чаем и с тех пор у нее на груди, у самой шеи, между ключицами едва заметный, но все же различимый шрам. Вероника схватилась за ворот рубашки, не давая ему расстегнуть пуговицы, после недолгой борьбы он одолел, издал победный вопль, потому что такой шрам у нее был. Она обожглась в два года чаем, еще вспоминалась дичайшая боль и поликлиника со строгой врачихой. После, она еще долго боялась людей в белых халатах, связав воедино, и боль от ожога, и боль от прикосновений врачихи.
Растерянная, стояла она перед ним и мучительно соображала, что же все это значит?
Между тем, он очень обрадовался такому подарку судьбы. Развил бурную деятельность. Помчался заводить машину, чтобы отвезти Веронику по магазинам, но в это время из школы заявился сынок. В синей курточке, школьных форменных брючках, в теплых ботиночках, он стоял перед Вероникой, поникнув головой, получил двойку, но тут:
– Никитушка, сынок!
Незнакомый мужик подхватил девятилетнего Никиту, закружил. Мальчишка смотрел растопыренными глазами. Чего это? Чужой дядька, между тем, искренно радовался, а мать молчала, только глядела растерянно.
– А я ведь папка твой. Я! – радостно добавил он.
– А кличут-то тебя, как? – деловито осведомился Никита.
– Станислав. Стало быть, ты Никита Станиславович, а фамилия твоя будет Цветков…
Долго ли, коротко ли складывался наш почти фантастический рассказ, но хочу сказать дорогому читателю, что поженились-таки Станислав и Вероника. И зажили не в пример другим, весьма счастливо. Родили детей и у Никиты появились два брата-близнеца, Артем и Данилка. Историю своего знакомства молодожены часто переживают снова и снова, и одно только, и есть скорбного в их воспоминаниях – это без вести пропавшая в штормовых волнах Черного моря Вероника Петушкова, на которую, до замирания сердца так оказалась похожа Вероника Стеблева.
Баня
– Вот вы скажете, ничего, мол, лучше бани и нету. Баня – это здоровье, сила духа и крепость сознания, ну или наоборот, крепость сознания и сила духа! – говорил Петька Колесов своим дружкам-товарищам по бане.
Дружки, известное дело, согласно закивали головами, не забывая налить полные кружки медового темного пива.
– А я вот вам скажу, баня иногда убивает! – торжественно воздел кверху палец Петька.
Дружки неопределенно замычали в ответ, не зная, что Колесов имел в виду и только теснее подвинулись на лавках, стремясь услышать петькину историю. По временам, мимо дружной компании проходили голые мужики и, отдыхиваясь после парной, усаживались на соседние лавки. Некоторые доставали из сеток бидончики с квасом, чтобы налить себе стаканчик-другой и с удовольствием отпить, другие предпочитали бутылку лимонада, как правило «Буратино» или «Дюшес», но чаще, конечно, можно было увидеть, или лучше сказать унюхать знаменитое «Жигулевское», без которого, как известно, ни один уважающий себя советский человек в баню не ходит.
Петькина компания предпочитала домашнее пиво, сваренное самим Колесовым по старинному дедовскому рецепту, которое своим вкусом напоминало мед. Частенько соседи по банным лавкам канючили попробовать, хоть граммулечку чудесного напитка. Петька не жадничал, а щедро наливал просителям, даром, что ли он сам работал на хлебозаводе? Дрожжи все-таки доставались ему бесплатно!
Но впрочем, Петька приступил к рассказу. Отхлебнув медового пива, дружки почтительно приготовились слушать.
– Позвали меня в Карелию. Товарищи мои по техникуму, (а тут надо заметить, что Колесов закончил техникум легкой промышленности, что, впрочем, едва ли относится к делу) очень уж увлеклись водными походами. Сплавляться по бурным рекам для меня, конечно, было странно, я ведь даже плавать не умею! – заметил Петька, угощаясь кусочком сушеной воблы.
– Но, тем не менее, меня заверили, мол, поход безопасен, река, по которой мы пойдем на байдарках, всего лишь второй категории и к тому же немаловажный факт, на меня напялят спасательный жилет! Одним словом, уговорили.
Колесов вздохнул, вспоминая:
– Эх, друзья мои, товарищи, как добрались мы до места, как отплыли, так и не смогли более плыть!
– Это почему так? – вступил в разговор интеллигентного вида, мужчина, завернувшийся с ногами в большое махровое полотенце.
– Отравление чистым воздухом! – авторитетно заявил Колесов. – Едва успели палатки разбить и повалились спать. Два дня спали!
Он выдержал паузу и добавил, понизив голос до шепота:
– Даже по нужде никто ни разу за двое суток не проснулся!
– И? – не выдержал другой мужчина, вовсе не интеллигентного вида, но в трусах-семейниках.
– Что и, – недовольно протянул Колесов, – вскочили, разбежались по кустам, едва успели.
Дружки облегченно выдохнули и рассмеялись, довольные счастливым исходом событий.
Но тут интеллигентного вида мужчина, завернувшийся в махровое полотенце, вспомнил:
– Подожди, а почему тогда баня убивает?
– Вот! – обрадовался Колесов, расплескивая пиво.
Компания подскочила, дружно вытирая капли медового напитка. С соседней лавки унюхали, потянулись со стаканчиком:
– Робяты, чем это у вас так скусно пахнет? Плесните для здоровья!
– На, дядя! – развеселился Колесов, он любил быть щедрым, любил, чтобы его любили.
Дядя с чувством отблагодарил, называя Петьку хорошим робятенком.
– Ну, так вот, проснулись мы с чугунными головами.
– Как после похмелья, – догадался мужик в семейниках.
Петька коротко кивнул и горячо продолжил:
– А тут, мать честная, красотища! Сосны тянутся до самого берега, в берегах плещется и бьется свирепая река. Над головой сверкают пропитанные солнечным светом пушистые облака, и воздух звенит от пения птиц.
– Ты, прямо поэт! – восхитился мужчина интеллигентного вида.
Колесов скромно улыбнулся, он действительно любил поэзию и даже пописывал стихи в литературную страничку городской газеты.
– А возле реки, – продолжил Петька, – навалены камни, гладкие такие камни, небольшие, может, с голову, ну и мои друзья предположили, что кто-то делал баню.
– Ничего себе! – дружно выдохнули петькины приятели.
– Ну, я и заинтересовался, как так, баню? А они мне в ответ, сейчас увидишь!
Петька приложился к кружке и принялся пить пиво. Дружки не сводили с него глаз, желая продолжения истории, и Петька сдался под их настойчивыми взглядами:
– Так вот, – вытирая пену с губ, продолжил он, – сперва, развели мы огромадный костер, натаскали бревен, чтобы дольше горело. Затем принялись кидать в костер камни.
– С берега? – уточнил интеллигентного вида, мужчина.
– Те самые, с голову, – закивал Петька, – после, как костер остыл, огонь притоптали и взялись втыкать длинные жерди, а на жерди натянули полиэтилен. У нас полиэтилена было много, чтобы от воды вещи прикрывать. Получилась крыша, после стенки скрепками от белья скрепили, и только из-под низу тянуло холодом, но это ничего, парилка получилась знатная.
Колесов снова взялся за кружку.
– Ну, а почему все же, убивает? – не понял мужчина интеллигентного вида.
– Вот, – оторвался от кружки с пивом, Петька, – переходим к самому главному, только, значит, мы в парилку залезли, чтобы напариться да после в реку сигануть!
– Это, в бурную-то? – встрепенулся мужик в семейниках.
– Ну, бурная она была лишь посередине, – уклончиво ответил Колесов и принялся азартно рассказывать, – как слышим, кто-то фыркает, топает, лазает, а из-под полиэтилена нам не видно! Однако, что делать, выглянули мы, мать честная, медведь! Заорали не своими голосами и в реку, а медведь шарахнулся и наоборот, кинулся к нашей бане. Подбежал, ревит, когтями полиэтилен рвет, хватанул лапой по горке горячих камней, заверещал и тоже в реку да не рассчитал, прыгнул в самую середину, бурный поток его и унес!
– Сдох? – подпрыгнул мужик в семейниках.
– Кто же его знает, – пожал плечами Петька, – больше мы косолапого не видели, жаль только всю баню нам испортил!
– Хорошо, не убил никого, – поежился мужчина интеллигентного вида, плотнее заворачиваясь в свое полотенце.
– Сынки, плесните-ка еще! – донеслось с соседней лавки.
– Давай, батя, нам не жалко! – расщедрился Колесов.
Помолчали, думая каждый о своем.
И тут интеллигентного вида мужчина, который, надо сказать принадлежал к типу худых, чрезвычайно нервных и впечатлительных людей, способных не спать ночами и мечтать о романтическом свидании с дамой сердца, разговорился:
– Вспомнил! И у меня, однажды, была подобная история!
– С медведем? – уточнил мужик в семейниках.
– Хуже, с будущей родней! – вздохнул интеллигент и начал свой рассказ. – Познакомился я с девушкой. Влюбился. Бродили мы с ней по бульварам, держались за руки, сами не свои. Я ей стихи читал, Есенина, Блока. Она слушала и улыбалась, бродили мы, бродили, я ей предложение сделал.
– Подожди, ты про Нинку, что ли? – уточнил Колесов.
– Это сейчас она Нинка, – вздохнул интеллигент, – а тогда была Ниночкой, солнышком, ласточкой.
– М-да, – засмеялись приятели, – растолстевшей ласточкой сделалась твоя Ниночка!
– Так сколько лет прошло со дня свадьбы, – помрачнел интеллигент, – но тогда, после моего предложения руки и сердца, Нина сразу же сообщила родителям и те стукнули телеграмму, приезжайте! А жили ее родители в сибирской глубинке, в крепком селе с символичным, так сказать, названием: «Банное».
– Ну да? – не поверили приятели.
– Честное слово, – ударил себя в грудь интеллигент, – жили они в крепкой избе с домовыми пристройками и с баней. Как мы приехали, покормили шаньгами с чаем.
– Это что за диво? – удивился Колесов. – Шаньги?
– Ватрушки, – пояснил интеллигент, – только с картошкой вместо творога, вкусные, страсть!
Зажмурился он для пущего эффекта:
– Мой будущий тесть, здоровенный мужичило, стал баню топить, говорит, с дороги, непременно надо попариться! Вы, говорит, городские, таких бань и не видывали, что у вас там, ванна, душ, дрянь всякая, а у нас баня! И по всему видать, гордится он своей баней. Будущая теща, между тем, чугуны ворочает, готовит картошку с мясом, дух по всей избе, у меня аж слюнки потекли. Поесть они любили, по всему видать было!
– Ну и Нинка у тебя не маленькая к сорока годам дошла, – вставил Колесов и развел руками в стороны, – бока не охватить!
– Ага, – кивнул интеллигент, – против природы не попрешь. Будущая теща моя на мужа своего походила, оба крепкие, оба высокие и здоровые. Одежду носили свободную, в предбаннике с тестем стали раздеваться, так его портки на лавке все место заняли.
Интеллигент улыбнулся, вспоминая.
– Не знал я тогда бань вовсе, вырос в городской квартире, в ванной купался. Не ведал, что такое первый пар, ну и рухнул, когда внутрь вошел. Сам не знаю, как, но оказался на полу, а тесть мой испугался так, что выскочил голышом на двор и принялся звать тещу.
– Будущую! – засмеялся Колесов.
– Теща и прибежала, – печально улыбнувшись на развеселившихся друзей, произнес интеллигент, – а я голый, без одежды, в бане валяюсь.
– И? – вступил тут мужик в семейниках.
– А вместе с будущей тещей и Ниночка примчалась, откачали они меня, отлили водой, прикрыли только срам, чтобы я не сконфузился, когда очнусь.
– А тесть? – спрашивал Колесов и добавил. – Будущий?
– Торопился, нацепил халат жены и побег к фельдшеру, очень испугался, у них отродясь никто в обморок в банях не грохался, все привыкшие, с младенчества в банях полжизни проводят!
– Да, история! – покрутил головой мужик в семейниках. – Хорошо, что нормально кончилось, свадьбу все же сыграли!
– Припоминали долго, – сморщил губы в усмешке интеллигент, – потешались, слишком хлипким я оказался.
– Да и сейчас не блещешь здоровьем! – заметил, критически оглядывая товарища Колесов.
– Что поделаешь, природа! – протянул интеллигент, запахивая махровое полотенце на тощей груди.
– Робяты, – донеслось с соседней лавки просительное, – больно пиво-то у вас скусное, не нахвалишься, плесните еще маленько, а?
– Пожалуйста, дядя, – Колесов взял бидон и налил в протянутый стакан пива до верха.
– Может и хватит ему, – заметил мужик в семейниках, косясь на соседнюю лавку.
– Не жалко, – махнул рукой Колесов, – у нас еще бидон есть.
– Дело не в этом, – осторожно заметил мужик в семейниках, – а ну как, он в парилку сейчас попрется.
– Ну и пусть! – легкомысленно отмахнулся Петька.
– Угорит ведь, как я в свое время угорел! – заметил мужик в семейниках.
– Ну-ка, что за история, почему не знаю? – полюбопытствовал Колесов.
– А чего тут рассказывать, – насупился мужик в семейниках, – если угорел. Пьяный был, не рассчитал, тоже пива нахлебался, сунулся в парилку и заснул, хорошо, люди вовремя заметили, вынесли, а то бы все, привет на тот свет!
С соседней лавки, покачиваясь, встал дядя, худющий старик, с цыплячьим пухом на голове, про таких говорят, в чем душа держится. Старик, пошаркивая и заметно прихрамывая, поплелся к двери парилки.
Наша компания вскрикнув, разом, бросилась на старика.
– Что вы, что вы, робятки, – напугался старик, слабо подергиваясь в их руках и поводя блеклыми глазами, заплакал, – чего пужаете?
Мужики принесли деда на свою лавку:
– Пугаем? Ну, извини, дядя, если что не так, только ты ведь пьян, а в парилку норовишь! Помрешь, угоришь, а мы в ответе!
– Почему это? – лепетал старик, трепеща в их руках.
– Так ведь мы тебе пива наливали!
– Робяты, – начиная понимать, залебезил старик, – робятушки, я привыкший, пиво пью каждый день, по бидону, а вы мне всего три стаканчика налили, не пьяный я!
– По бидону и каждый день? – не поверили мужики, ощупывая тонкие руки старика.
– Клянусь! – кивнул старик и, вырвавшись, наконец, из рук своих доброхотов, встал, руки в боки, задиристо прокричал. – Вы еще под стол ходили, а я уже пиво пил! Может и не такое, как ваше, скусное, но пил!
Колесов приподнялся, складывая руки в мольбе:
– Дедушка, милый, так-то давно было, возраст, как знать, думаешь, сильный, а на-ко уже и не то, в постели ведь так иногда и происходит!
Дед продолжал кипятиться. Но Колесов настаивал:
– Мы тебе бидончик нашего пива подарим, только не ходи ты в парилку!
Остальные подтвердили. Глаза старого выпивохи жадно блеснули и он, без лишних слов согласился на выгодный для себя обмен. Из бани, пока мужики не передумали, он улепетывал быстро, прижимая к впалой груди бидончик петькиного пива.
– Едва одеться успел, а сандалии на голые ноги нацепил, – заметил интеллигентного вида, мужчина, снимая с себя полотенце.
– Ну что, друзья, айда в парилку!
– Только, чур, не засыпать! – погрозил пальцем мужику в семейниках, Колесов.
– Бидон жалко, может дед его и не вернет никогда, – заметил мужик в семейниках, выглядывая в тусклое окно бани.
– Бидон-то? – на секунду задумался Колесов. – Так у меня их с десяток, подумаешь, бидон, цена тому бидону копейка!
И друзья направились в парилку…
Противоположности
Женщины любят сердцем, а мужчины передним местом…
Для поддержания иммунитета женщины пьют витамины, а мужчины поедают лук с чесноком, ну или наоборот, чеснок с луком…
Чтобы выздороветь, от простуды женщины принимают чаи с медом, малиной, а мужчины перцовую водку…
Когда женщины отдыхают – птички щебечут, а мужчины отдыхают – вороны падают в обморок от духа перегара…
Лекарства для мужчины – отрава, а для женщины – приправа…
Выходные для мужчин сопровождаются пивасиком и диванчиком, а для женщин стиркой, уборкой, глажкой…
Дезодорант для женщин ежедневен, а для мужчин – редкостный одеколон…
Женщины мечтают о дарах леса, как о будущих вареньях, соленьях, а мужчины, как о бражке да закуске…
Мужчин интересует в новостях политика и спорт, а женщин – мода и погода…
Мужчины выбирают обувь добротную, женщины – неудобную, но модную…
Мужчины бросают курить и страдают, а женщины бросают курить – рисуются…
У холостяка в доме бедлам, а у незамужней дамы чистота…
Мужчины в церковь заходят, так, на всякий случай свечку поставить, а женщины для слезной молитвы…
Старый холостяк абсолютно одинок, а старая холостячка всегда окружена преданными друзьями: комнатными собачками, пушистыми кошечками, певучими канарейками…
Женщины в ресторане себя показывают, а мужчины демонстрируют свой кошелек.
Мужчины вино выбирают по крепости, а женщины по вкусу…
Любовь для женщин – брак и семья, а для мужчин – свободные отношения и поиск новой партнерши…
Дети для женщин растут медленно и трудно, а для мужчин быстро и незаметно…
Ремонт квартиры для мужчин – ужас, а для женщин – предвкушение перемен…
Освоить новую профессию для женщин – интересно, а для мужчин – страшно и необходимо ли?..
Для мужчин на работе, главное – репутация, а для женщин – зарплата…
Женщины наводят красоту для себя, чтобы не выглядеть бледно, а мужчины подозревают: «Для кого она намалевывается?»
Мужчины по телефону болтать не любят, зато при встрече с другом душу отведут, а женщины наболтаются по телефону с подругой и при встрече, разве что улыбнутся…
Мужчинам мнение коллег дороже золота, а женщинам дороже золота – семья, муж, дети…
Для женщин поход в театр – наслаждение, а для мужчин – мучение…
Спорт для женщин – развлечение, а для мужчин – тяжкий труд…
Женщины в море заходят поплавать, а мужчины ныряют в поисках акул, медуз, диковинных ракушек…
Пьяными, женщины за руль не садятся, бояться, а мужчины напротив, садятся за руль, чтобы полихачить, удаль молодецкую показать…
Одинокие женщины готовят себе и готовят, а одинокие мужчины мучаются от мысли, что вот опять суп варить…
Одинокие мужчины покупают мультиварки, чтобы эксплуатировать ежедневно в свою пользу, а одинокие женщины покупают мультиварки и редко, когда в них что варят, разве перед гостями похвастаться…
Вот такие они – противоположности, мужчины и женщины, одним словом, человеки…
Изабелла
Иеромонаху, архиепископу читинской области, отцу Евстафию Евдокимову посвящаю…
Изабелла была одинока, как многие, почти, как все. Украдкой, часто посматривала она на симпатичных мужчин. Но все-таки симпатичных было не так уж много и, как правило, у них на руке цепким клещом уже висела жена или любовница. Чаще, гораздо чаще она наблюдала мужчин безобразных или толстых. Не было ни одного обаятельного и не к кому было прилепиться даже мыслью. Конечно, она смотрела по телевизору на киноартистов и эстрадных звезд, но знала, что их красота не настоящая и с удовольствием, даже со злорадством представляла себе, как тот или иной из блистательных комедиантов просыпается с помятой физиономией, ползет в ванну, а после скудного завтрака, как же диета, торчит у зеркала и при помощи чудодейственных кремов наводит красоту. Убожество, а не мужчины! Да и жить с таким, с ума сойдешь! Обычный-то мужик, как дитя малое, тут принеси, там постирай, здесь приготовь, бедная жена крутится, словно белка в колесе. А у артистов еще, и капризы, и настроение, и прочее…
Конечно, на ее долю хватало приключений. Сосед по лестничной клетке, как-то предложил помочь повесить новый карниз, повесил, так что карниз упал через месяц, но когда вешал, все время к ней оборачивался, смотрел с улыбочкой, задумчиво и предлагал, так сказать, свои услуги. Изабелла резко отказалась. Он, не расстраиваясь, ушел, а она еще долго моталась по квартире, гневно рассуждая, что может, она похожа на проститутку? Да и сосед тоже хорош, вечно потный, вонючий, дезодорантами не пользуется, толстый, из-за живота пальцев ног своих не видит, вечно не брит и жена у него злющая, постоянно ругается с кем-нибудь из соседей, на мужа беспрестанно орет. А уж детей-то вообще не слышно, двое маленьких мальчиков играют, вечно забившись в уголочек, боясь раздражить чем-нибудь свою бешеную мать… Приставали на работе. Один раз, особенно нудный тип, недавно развелся, женат был аж четыре раза, приперся к ней с бутылкой вина и гитарой. Шел второй час ночи, она уже спала, а он в двери звонит. Она разглядела его в глазок, послала, куда подальше из-за двери… Так он взял, демонстративно уселся на ступенях лестницы, принялся бренчать на своей гитарке, еще и вино пил. Соседи вызвали полицию, его повязали, а на утро весь подъезд гудел о том, что к ней приходил любовник, она его прогнала, он стал буянить, несли белиберду и ждали продолжения скандала. Но нудный, выйдя через три дня из-под ареста перестал с ней даже разговаривать и вообще всячески подчеркивал свое презрение к ней. Да и было бы на что смотреть, волос на голове не осталось, ну ладно, подумаешь, облысел, иные лысые еще как интересны, нет, этот вот именно был какой-то, не такой, не интересный и в его обществе как-то все хотелось зевать, вертеться и вообще сбежать куда подальше…
Изабелла была одинока в полном смысле этого слова. Когда-то, в молодости, прибегали к ней две подружки. Но одна гуляла, гуляла, да и вышла замуж за русского, уехала с ним в Россию и все ни ответа, ни привета. Другая связала свою жизнь с алконавтом и в скандалах, пьяных выходках своего благоверного просто потонула, как в дерьме, безвылазно, заживо похоронила себя для людей, стыдясь поступков и дел дорогого муженька.
Отец Изабеллы уже давно где-то жил с другой семьей, а мама умерла от рака.
Все вокруг влюблялись, создавали семьи, рожали детей, разводились, а она оставалась одинокой. Никто из кавалеров не прельщал ее, хотя она и не искала себе принца на белом коне. Но почему-то ни влюбиться, ни позволить себе расслабиться в обществе ухажера, ну никак не могла. Ее останавливал страх перед упертыми самцами, которые мечтали только об одном и все их мечты тут же выдавали себя, резко выступая под передним местом брюк. Это было противно и подло.
Любовь, вот о чем она мечтала. Часто, перед сном, она искренно, с недоумением разглядывала себя в зеркало. В юности Изабелла не любила своего отражения, ей тогда казалось, что она некрасива. Теперь же она подолгу смотрела на себя в зеркало. Лицо, красивое какой-то строгой красотой, безукоризненно правильное, оживляли насмешливые умные глаза. Казалось, вот-вот отражение не выдержит, рассмеется и покажет ей язык.
Никогда ей не снились эротические сны. Но, однажды, посреди ночи, она проснулась с бьющимся сердцем. Стуча зубами то ли от потрясения, то ли от страха она добралась до кухни, выпила стакан воды и так замерла, прижавшись горячим лбом к холодному стеклу окна.
Ей приснился кто-то, кому она не знала даже имени. Он сидел за массивным письменным столом в большом освещенном светом факелов помещении, писал гусиным пером, поминутно макая его в чернильницу и выводя латинские слова на развернутом листе пергамента. А она… она погладила его по светлым пышным волосам, провела рукой по высокому холодному лбу, прижалась губами к закрывшимся на этот миг голубым глазам. Каменно-спокойный, непоколебимый, он бесстрастно дозволил ей обнимать его. А она, как с ума сошла, просто не могла оторваться от его тела, от его сильных рук с каменными бицепсами, от его мощной груди.
Стоя у окна, Изабелла расплакалась, ей было нестерпимо стыдно за свое поведение, но испросить прощения она не могла, не знала, как и где он? В том, что это был не сон, она нисколько не сомневалась…
Изабелле исполнилось уже тридцать пять лет. Была она слабонервной, очень мечтательной и чувствительной особой. Могла пустить слезу, где не надо и расхохотаться там, где надо было бы проявить сдержанность.
Время над ней не было властно. По-прежнему, она оставалась нежна лицом, тонка и гибка в талии и всегда задумчива. Смерть матери произвела на нее ошеломляющее впечатление и она думала о смерти, чаще чем о жизни. Светлых сторон бытия Изабелла не замечала. Любила одеваться в черные цвета, любила ходить на кладбище. И сидела над могилой матери, без чувств, без мыслей, будто сама умерла, а банда черных ворон каркала на нее, требуя хлеба, и кружила над ней, рассаживаясь на соседних памятниках. Птицы и приводили ее в себя, она улыбалась им, как старым знакомым и крошила для них хлеб, который всегда захватывала с собой в большом количестве. А уходя с кладбища, она все оглядывалась и жалела, что не может остаться, не может лежать тут под каким-нибудь камнем, дремать и слушать сердитый клекот ворон, похожий на ругань. Не может слышать сквозь сон чьих-нибудь осторожных шагов, не может внимать словам молитвы и не может почувствовать капель горячих слез, проникших сквозь землю. Слез, которые никто и никогда не проронит по ней…
Изабелла почти не улыбалась, да и не умела она, кажется, смеяться. Анекдотов рассказанных сослуживцами не понимала. Комедий никогда не смотрела. А вот трагедии и фильмы ужасов ее привлекали. Слова: судьба, смерть никогда не покидали ее разума. В конце концов, ей приснился кто-то, но не человек и, наверное, этому можно было бы найти объяснение в образе ее жизни и мыслей, если бы приснившееся ей существо не было столь реалистично, что и спустя много дней она помнила все ощущения связанные с прикосновениями к нему. Все это вызывало у нее чувство беспокойства и тоски. Она уверяла себя, что жаждала испросить у него прощения за свое непозволительное поведение и была уверена, что и ему не совсем были приятны ее домогательства, но он, как воспитанный и более выдержанный, чем она себе представляла, просто подождал, когда она от него отстанет и уйдет, а так остался равнодушен к ее чарам. Равнодушен? Изабелла даже ногой топнула, да как он посмел, ах вот как! Она расплакалась в бессильном отчаянии.
Ночь проходила за ночью, сновидение за сновидением, но найти его она не могла. Она исхудала, глаза ее пылали лихорадочным огнем и сослуживцы, сочувствуя, уже не раз спрашивали у нее, не больна ли она?
Наконец, в одном из бесконечных снов своих Изабелла оказалась в большом, ребристом, серебристом туннеле. Какой-то старец, изумленно на нее поглядев, пропустил ее беспрепятственно, только озадаченно посмотрел вслед. А она, уже чувствуя близость любимого, летела на крыльях любви по туннелю, поворот, еще поворот и вот тут за белой дверью. Открыла. Ослепительное сияние резануло по глазам, но она вошла, заслоняясь руками и зная, что он тут. Остановилась, увидев его. Вокруг его печальных глаз темнели круги, как у очень усталого человека. Он поглядел на нее с грустью и она, рухнув на колени перед ним, молила без слов его, не прогоняй, только не прогоняй меня…
Она осталась там, не телом, нет, а всей своей сутью… И, когда спустя не так уж много времени в интернате для душевнобольных, сердобольные монахи, а интернат находился при монастыре святого Франциска, молились над ней, Изабелла всякий раз в какой-то момент вздрагивала и вдруг, приходила в себя. Глядела вокруг в изумлении и спрашивала, что происходит. Ей отвечали и бежали за врачом, практикующего тут же, в монастыре. Но проходила минута-другая и идиотская улыбка опять поселялась на ее губах, а взор живых глаз как бы гас и только внутренний огонь теплился еще где-то в глубине едва видной души. Монахи пробовали биться за ее душу, но, то ли силенок у них не хватало, то ли сама Изабелла не хотела уходить от своей мечты, но в одну из таких битв она очнулась и попросила отпустить ее. Сказала, что сделала выбор и нисколько о нем не жалеет.
Монахи глядели на нее с ужасом, многие не могли сдержать слез. И один, особенно сострадательный душой, по имени Секула даже запил, бедняжка, так ему стало жаль молодой красивой женщины.
А, когда ее похоронили, он вообще покинул монастырь, не в состоянии больше проходить мимо ее могилы, а сохраняя в своем сердце ее живой облик, как нечто самое лучшее произошедшее в его жизни, направил свои стопы в Россию, зная, что даже самый тяжкий крест – ничто по сравнению с жизнью в этой стране…
Ну, а Изабелла? Некоторые из монахов осторожно шептались между собой, что, наверное, она счастлива и Он уважая ее неистребимую любовь к Нему, позволит ей быть рядом с собою и дай-то Ангелы никогда не допустит ей больше родиться в этом мире, который, многие монахи тайно рассматривают, чего уж греха таить, как одно из ответвлений преисподней…
Лис
Лет двадцати, с модной прической, челкой наискось, всегда в черном, с удивительной фамилией, впрочем, скорее прозвищем – Лис.
Про Лиса всегда говорили с гордостью, учителя хвалились им, как отличником, родители, как послушным сыном, а бабушка плясала от счастья обладания таким внуком и таскала его за руку в музыкальную школу, где фотографии ее «киндервунда» висели в почетном углу, в вестибюле. Под «стеной славы» вечно сидела старенькая вахтерша и, кивая, бормотала неразличимые слова, в руках ее скрипели спицы, серое вязание непонятного назначения, постепенно сползая, сваливалось с колен, старушка засыпала.
Лис не любил музыкалку, не хотел трудиться, высчитывая вслух длительность нот, но не подчиниться бабушке? Как он страшился!
Он действительно был послушен, а еще боязлив. Откуда-то к нему пришел и поселился зверь по имени Страх. Зверь этот не знал пощады и из-за страха не ответить на вопрос по теме урока Лис зубрил скучные предметы. Из страха занимался дополнительно по математике. Из страха перед бабушкой и преподавательницей по классу фортепьяно играл гаммы по пять часов на дню. Страх отпускал только, когда Лиса обижали. Довольно часто беспутые гопники вылавливая «ботаников» приставали и к нему. А один вообще повадился трясти деньги на завтрак, что давали Лису в школу заботливые родители. Лис недолго снабжал вора. Гопник, на два года старше, учился в той же школе, что и Лис.
Не особо размышляя, Лис выпросившись на одном из уроков в туалет, прокрался в учительскую, где в обыкновении на вешалке висели пальто учителей, быстро обшарив карманы, Лис нашел искомое – кошельки с деньгами. Остальное не представлялось ему трудным. И так оно и оказалось, в школьной раздевалке, поделенной на классы, Лис разыскал замызганную куртку обидчика, сунул в карманы все кошельки и как ни в чем не бывало, вернулся в класс.
На переменке обнаружилась пропажа. Директор школы, лично возглавив карательный отряд, обшарил вначале портфели неблагонадежных учеников, дошел до раздевалки и тут, кошельки нашлись! Божбам, клятвам в невиновности, слезам гопника не было числа.
Лис молча радовался, пряча улыбку в глубине своих хитрющих глаз. А гопника перевели в специальную школу для трудных подростков и, усаживаясь в полицейскую «буханку» с решетками на окнах обидчик Лиса ревел во весь голос.
С той поры так и пошло, обижающие Лиса страдали, но уличить его ни в чем не могли.
…В тот день Лису исполнилось двадцать пять лет. Давно уже он жил отдельно от родителей, поселившись собственником в бабушкиной квартире. Впрочем, от бабушки Лис оставил портрет, остальное распродал по дешевке. Бабушка укоризненно смотрела с портрета на отремонтированное и будто рожденное заново жилище свое, но ничего не говорила да и трудно, наверное, разговаривать с того света даже, если под рукой и имеется твой собственный портрет.
Лис все более наклоняясь вперед, сидя на стуле, слушал слова, ровные и круглые, будто горошины, они рассыпались и бесследно исчезали в пространстве квартиры. Она говорила, не останавливаясь, не поднимая глаз, напоминала ему, что с самого начала он согласился жить с ней безо всяких обязательств. Они и жили, а теперь вот пришло время расстаться для того, чтобы двигаться дальше.
– Куда дальше? – встрепенулся он.
И она, на секундочку запнувшись, снова засыпала перед ним своими «горошинами» о новых встречах и новых связях.
Он встал и, не говоря более ни слова, вышел, прикрыв дверь.
Она замолчала растерянно, рот ее еще был приоткрыт, готовый к словесному поносу и она похлопав губами, замолкла наконец, недовольная вынужденным молчанием.
Он не возвращался и она пожав в пренебрежении плечами, выдвинула из шкафа заранее собранный чемодан, прошла в коридор, где нацепила на ноги туфли на шпильках, оправила короткую юбку и весьма нескромную блузку, последний раз огляделась, кинула на стеклянный столик в прихожей ключи и вышла, без сожаления захлопнув за собой входную дверь.
Лис видел, как она прошла к черной иномарке, смотрел, как выскочил и подхватил чемодан ее новый бойфренд – лысый, старый мужик, глядел, как она картинно закинув ноги и показав старику край кружевных трусиков уселась в машину и тут, бросился к соседу, вернее к его автомобилю.
Сосед, молодой мужик, выслушав сбивчивые объяснения Лиса спорить не стал, а усевшись поудобнее, лишь кивнул, поехали. После непродолжительной погони Лис выяснил, где живет лысый и его бывшая.
Той же ночью Лис забрал гнездо полное жужжащих, сердитых ос поселившихся у соседа на чердаке дачного домика. Сосед ему во всем сопутствовал. Укутав гнездо с осами в плотный полотняный мешок, и изредка выдыхая на него дым из сигарет, чтобы кусачие насекомые успокоились, они быстро доставили гнездо к многоэтажке лысого.
Лис, от природы ловкий и юркий, смог залезть по балконным решеткам на третий этаж, где к его услугам балконная дверь оказалась не запертой. Закинув гнездо с развязанным мешком внутрь комнаты, Лис плотно закрыл балконную дверь и ретировался вниз, где уже вовсю злорадствовал сосед.
Вместе они понаблюдали, как скоро зажегся в квартире свет, раздался истеричный визг его бывшей и как быстро, оба, будто спасаясь от пожара, выскочили на лестничную клетку, истошно вопя и осыпая бранью злобных насекомых.
Что было дальше, Лис наблюдать не стал, он был удовлетворен и пожав руку соседу горячо поблагодарил того за помощь. Он радовался, что так и не успел сделать ей предложение, а ведь хотел, в коробочке за портретом бабушки осталось пылиться золотое колечко с бриллиантом…
Утром следующего дня Лис пришел на работу. В офисе царила тревожная суета. Начальник после очередной семейной ссоры напился и отыгрывался на работниках. Из-за двери слышалось его невнятное бормотание:
– Еще глаза на меня сузила и говорит: «Вы меня обругали?» А я опешил: «Какое такое «вы?». «Вы!» – еще и подтвердила!
– Лис! – заорал вдруг начальник.
Лис вошел в кабинет. Начальник по-турецки поджав под себя ноги, сидел на диване. Рубаха распахнута, ширинка расстегнута, взгляд осоловелый. Начальник протянул Лису бумажную купюру в пять тысяч рублей:
– Купи мне бутылку коньяка, в винном магазине, за углом!
Лис молча взял деньги, вышел. На улице сообразил и пошел не в дорогой винный магазин, а в супермаркет, где купил красивую бутылку, но наверняка с поддельным коньяком, за триста рубликов. Добавил сдачи в двести рублей, а четыре тысячи пятьсот оставил себе, как компенсацию за моральный ущерб:
– Ишь, мальчика на побегушках, нашел! – зло прошептал Лис про начальника.
В этот день пьяный в стельку глава офиса посылал Лиса за коньяком еще четыре раза и каждый раз посыльный получал купюру в пять тысяч рублей. Естественно, доход его в этот день резко увеличился, а полученная, таким образом, сумма легла в шкатулку, аккурат за бабушкин портрет.
Однако, дело с гнездом ос, заброшенным в квартиру лысого, не закончилось, так просто. Вечером, требовательно, кто-то зазвонил, а после забарабанил в дверь квартиры Лиса.
Лис открыл. На пороге стояла сладкая парочка, лысый старик со своей подружкой. Оба искусанные, с отекшими лицами, довольно бесцеремонно оттолкнув хозяина дома, вошли без приглашения внутрь, где властно-самоуверенным тоном сообщили ему, что этого так не оставят. Голос лысого звучал резко и надменно. Старик смотрел прямо в глаза Лису, был силен и напорист, держался со странной невероятной для его лет мощью. Его подруга высокомерно задирая искусанную голову во всем подражала старикану, как видно спелись они давно и Лис разозлился, по-настоящему разозлился.
После ухода этих двоих, он призадумался о такой мести, что как говорится, мало не покажется… Приближался Новый год и это обстоятельство особенно радовало Лиса, несмотря на осуждающий взгляд бабушки, он решился.
…Перед новогодней ночью, Лис уговорил своего начальника снять под корпоратив кафе вблизи дома лысого. Начальник снял. И пока весь коллектив гулял, накачиваясь до предела крепкими спиртными напитками, Лис бегал. В один из таких забегов, под звуки канонады салютов взрывающихся в небе, он направил одну из мощнейших ракет на автомобиль лысого. Зазвенели стекла, вспыхнули мягкие сиденья, и иномарка занялась огнем. Лис сбежал к коллективу, где постарался быть заметным, громогласно произнося тосты и рассказывая смешные анекдоты. Начальник с коллегами хохотали в восторге от острот Лиса.
Тем не менее, через некоторое время Лис прокрался к дому лысого и удовлетворенно хмыкнул, иномарка вся в пене от брандспойтов пожарных машин печально чернела, вокруг нее пританцовывал лысый, в горести простирая руки к разноцветным небесам. Подруга старика жалась тут же, онемев от ужаса.
Лис, повинуясь безотчетному инстинкту, подался к подъезду своих обидчиков. Дверь оказалась открытой, а домофон выключен. Взлетев на третий этаж, Лис убедился, что правда на его стороне, потому как входная дверь квартиры была не заперта. Лис проник внутрь.
Он сразу отметил про себя праздничный стол, накрытый на двоих и две свечи сияющие радужными огоньками в подсвечниках. Лис распахнул куртку, вытащил припасенные снаряды, запалил ракеты, распахнул форточку дабы полиция подумала, что ракеты с улицы прилетели и, побросав подожженные «бомбы», как есть, посреди гостиной, поспешно ретировался. Неслышной тенью соскользнул вниз, выскочил за дверь и никем не замеченный поспешил к кафе, где смешливым говоруном продолжил праздник в толпе своих коллег. Никто из коллег его кратковременного отсутствия не заметил. Алиби сработало. Полиции не к чему было придраться и произошедшие пожары автомобиля и квартиры списали на несчастные случаи, не острожное обращение с новогодними фейерверками.
Лысый со своей подругой, глубоко опечаленные, взяли кредит, купили новый автомобиль и в один день, когда предвкушая весну и теплые денечки, она опустила боковое стекло у окна, неизвестный в маске кинул ей на колени огромного, лохматого, черного паука, птицееда-голиафа, а затем другого, третьего, четвертого, пятого. Пауки перебирая лапами, помчались вверх, по ее груди и рукам, один ловко спикировав на макушку лысого заперебирал, будто в танце, всеми восемью лапами, силясь удержаться на отполированной голове. Злоумышленник ретировался, лысый получил инфаркт, а его подруга, заметно подурневшая после этого случая, принялась таскаться к старикану в больницу. Что еще сказать? Как будто нечего, добавлю только, что стащив маску Лис долго смеялся и строил умопомрачительные рожи, но кому же было осудить его, разве что бабушкиному портрету?
P. S. Пауки, птицееды-голиафы не пострадали. Сотрудники местного зоопарка, вызванные потерпевшими, выловили перепуганных пауков и поместили их в комфортные условия, где каждый посетитель мог убедиться, всего лишь прижав нос к прохладному стеклу большого сухого аквариума выложенного камушками и листочками, что им хорошо. Где сам Лис взял столь редкостных для России паучков, история умалчивает…
Призрак
Умытое грозою майское утро лежало над селом Скнятиново, что под Ростовом Великим. Желтые одуванчики выставили свои хорошенькие шляпки из зелененькой травки, им вторили голубенькие цветочки, прозванные в народе «Иван да Марья». Цвели белыми цветами яблони, черешни и веселый гул оповещал окружающих о бурной работе пчел. Кое-где виднелись их небольшие зелененькие домики, возле которых и толпился этот трудолюбивый летучий народ. Стаи озорных мальчишек пролетали, иногда то тут, то там на велосипедах да бывало, медленно проезжала иномарка, грохоча непонятною музыкою. Лица дачников и поселян были улыбчивы и уже загорелы. Разумеется, эти картины вы встретили бы не только в селе Скнятиново, но и где-то в дачных поселках России, и даже как, ни странно в прочих других странах мира… Но вот через село прошел человек высокого роста, стройный, с широкими плечами, в спортивном костюме, жаль только было видеть его босые ноги, испачканные весенней грязью, но он, казалось, об этом нисколько не заботился. Он шел неровными шагами, будто пьяный да он и был пьян. Перед прудом за церковью остановился, взглянул на церковь, неловко перекрестился, боком поклонился и, потеряв отчего-то равновесие, полетел в пруд. Темная вода вскипела под его руками, он хотел крикнуть, но только коротко промычал что-то невнятное и скрылся под тиной, разве, что круги разошлись. Болтливые дачники ничего не заметили и не мудрено, пруд со всех сторон скрывали буйно разросшиеся кусты сирени, пристанище для соловьев, а в церкви никого на тот момент жизни не оказалось…
Спустя несколько дней утопленника обнаружили местные рыбаки. Пришли вытаскивать сети ан вместе с карасями вытащили мертвеца. Запутался, бедолажка. Скоро выяснилось, жил он один, звали Серегою. Выпить любил, подворовывал с огородов, не без этого. А так, парень безобидный, просто, не повезло…
Участковый с местными властями, комендантшей села и почтальонкой, пришел к дому, где жил Серега. Пошарил повсюду, наконец, где-то под крыльцом, в укромном уголке нашел ключ. Замок быстро поддался. Взошли. Дом состоял из двух комнат и кухни. Старая пыльная мебель кривилась по углам, ободранные обои висели клочьями, печь кое-где потрескалась, в простенке висело старинное мутное зеркало, вообще, комнаты имели заброшенный вид, будто тут давным-давно никто и не жил.
После недолгих поисков по шкафам обнаружились документы и письма, пришедшие разобрали адрес брата утопленника, все, что нужно из бумаг забрали и ушли, закрыв дом, как и положено. Ключ с собой забрал участковый. Брат жил неподалеку и после телеграммы отбитой ему в соседний городок, в Ростов Великий, прикатил, расстроенный, организовал похороны, за все, что потребовалось, заплатил, покрутился еще с документами на дом. Покойник оказался неожиданно прозорливым и составил еще при жизни завещание. Все имущество, а стало быть, дом отписал на брата.
В общем, суть да дело, брат пока укатил, работа да дела, а в пустом доме стало твориться безобразие. Соседи часто слышали по ночам звон бутылок и пьяный голос, распевающий всякие песни, сообщали, конечно, участковому. Он днем приходил, толкался в закрытую дверь, обходил кругом дом, задумчиво изучая запертые окна, вглядывался в заколоченный чердак, крутил головой, вздыхал: «Чудеса!» и уходил, пожав в недоумении плечами. Наконец, вечные жалобы ему надоели, и он засел на всю ночь в кустах сирени, что росла напротив дома, наблюдать, к чему и как, решил сам во всем разобраться. И вот, когда даже неустанно зудящие над ухом комары перестали доставать его, когда незаметно подкравшаяся дремота смежила веки, он вздрогнул и увидел, нет, ясно увидел. На крыльце дома стояла, покачиваясь, пьяная фигура. Кто-то высокий, стройный, с широкими плечами, но невероятно пьяный, едва державшийся на ногах, так его качало, постоял-постоял на крыльце, а потом вошел в избу. Тут же зажегся свет и в окошке, которое, отродясь, занавесок не видывало, возник утопленник, тот самый Серега. Участковый его мгновенно узнал. Целый вихрь непривычных мыслей пронесся у него в голове. Затряслись руки и тихохонько, не сводя глаз с ожившего покойничка, участковый отполз куда-то совсем уже далеко, в темноту, чуть ли не на чьи-то грядки и побежал, побежал, спотыкаясь, падая, прямой наводкой к дому священника. Голова шла кругом, а зубами выбивал такую дробь, что разбуженный трелью дверного звонка, батюшка напужался. Кое-как, все-таки, совладав с собой, участковый рассказал все как есть и тут же наотрез отказался вернуться к дому утопленника. Нечего делать, священник пошел один. Долго, из темноты, в изумлении наблюдал он покойника. Смотрел, как тот нарезал себе огурцов и наливал водки в стакашек, слышал, как пел протяжным дребезжащим голоском. Даже услышал громкое икание пьяницы и тут не выдержал. Батюшка был очень смелым человеком, подошел и постучал в окошко, да, вот так просто взял и постучал. Серега немедленно подскочил, обрадовано кинулся к окну, распахнул створки:
– А ваше христовое благородие пожаловало! – закричал он, наклоняясь из окна.
Батюшка наморщился, пахло вполне осязаемым перегаром.
– Заходите, не брезгуйте! – орал, меж тем, Серега. – Выпейте со мною, грешником!
Крутанулся, цапнул откуда-то стакашек, плеснул туда водочки. Священник ступил на крыльцо, дернул дверь и увидел замок, обыкновенный такой, амбарный замок был, естественно, заперт. Тут же куда и девалось мужество.
– С нами, крестная сила! – охнул он.
– Ну, что же вы, батюшка? – надрывался Серега, – не хотите в дверь взойтить, так пожалуйте в окно!
Отец Игорь, так звали священника, мужчина видный, осанистый, басистый, напугался немного, вспомнив рассказ участкового, что утопленник в двери вошел… А утопленник, видя его растерянность, радостно зазывал:
– Ну что же вы, в окно, говорю, лезьте!
Священник перекрестился и полез в окно. Оказавшись внутри, огляделся с сомнением. Повсюду лежала домашняя пушистая бурая пыль и в углах, и на столе, даже на подоконнике, на который упирался дрожащей рукой священник. В комнате было не убрано, захламлено. Но на столе, действительно, лежали разрезанные напополам свежие огурцы, и стояла наполовину уже опорожненная бутылка водки. Серега торчал перед батюшкой, держал в руке стакашек и улыбался глупой улыбкой пьяного человека. Должно быть невдомек ему было, что умер он.
– А чего это дверь-то у тебя заперта на замок?
– Как заперта? – поразился Серега. – Не может быть!
И пошел, все еще со стакашком в руке к двери, стукнул там чем-то и вдруг, заглянул с улицы, засмеялся раскатисто, влез в окно:
– Шутить изволите? Ха, заперта! Вышел я, как ни в чем не бывало.
– На замок заперта, – продолжал настаивать батюшка, взглянул на руку ему, – а где стакашек-то у тебя?
– Где? – растерялся Серега. – Потерял видно.
Отец Игорь пошел в сени, где тускло, но все же светила маленькая лампочка. Стакашек валялся возле запертой двери, на всякий случай отец Игорь взялся за ручку, надавил, не открывается, замок слабо звякнул с той стороны. Серега смотрел из-за его плеча, тенью следовал за священником.
– Чего это? – испуганные глаза и удивление, не ведающее границ.
– А то, – строго сказал ему отец Игорь, – ты вот прошел сквозь двери, а стакашек твой нет.
– Почему? – Серега не понимал, растерялся.
– Он материален, а ты нет.
– Не пойму что-то я, батюшка…
Серега вернулся в комнату, приземлился на старый диван, даже пружины не скрипнули, посмотрел усталыми тоскующими глазами совершенно трезвого и абсолютно потерявшегося человека.
– Утонул ты по пьяни, а теперь вот ходишь, страшно тебе уйти-то! – упрекнул его батюшка.
– Утонул, – повторил Серега, задумался и заплакал, по щекам так горохом и покатились крупные слезы, – помолился бы ты за меня, а?
– Слава тебе, Господи! – перекрестился священник и прикрикнул. – А ну, пошли в церковь!
Только под утро удалось отцу Игорю призвать Силы Небесные и смягчить наказание отчаянному пьянице Сереге. Видел он, усталый, после горячих долгих молитв, как Серегу окружили ангелы, горящие как свечи и, как унесли его, просвещенного, улыбающегося, куда-то в неведомую высь, Домой…
Скнятиново, 2004 годШок
Прохор Афанасьев, а попросту Проша возвращался домой, за полночь. А если точнее, то при начинающемся рассвете. Голова его гудела от похвалебных речей коллег по работе, пальцы болели от крепких рукопожатий, а щеки пылали от многочисленных поцелуев женщин. Ах, эти женщины! Одна даже умудрилась запечатлеть поцелуй на его губах! А какой жаркий шепот услышал он от другой с предложением прямо сейчас, после ресторана… и квартира у нее свободна, муж укатил на дачу. Прохор даже остановился, огляделся в недоумении и почему, собственно он не поехал? Ночь наслаждений, праздничная ночь, а он один посреди пустынной улицы и дома, кто же у него дома?
Прохор напряг извилины, в голове отдалось скрипом, но на этом и все… Прохор сел на обочину, пристроившись поудобнее и уткнувшись в колени, отключился. Ему снились бесконечные вереницы бокалов с шампанским, рюмки с водкой, рюмки с коньяком.
– Алле! – произнес над ним хриплый голос. – Сигаретки не будет?
Прохор поднял голову, всмотрелся в расплывающееся пятно, стоявшее прямо перед ним, кое-как встал, покачнулся, обретая устойчивость. Зашарил по карманам. Курить не курил, но таскал с собой пачку сигарет с ментолом для курящих дам и пачку обычных сигарет для курящих мужчин. Так можно завести крепкие дружеские связи, верил он, а в отношении женщин связи могут быть и не просто дружескими…
Перед ним была дама, Прохор почувствовал это по тому характерному запаху, что окутывает любую женщину. Запах этот не воспринимаемый, так сказать, на уровне носа, все же существует, но на духовном уровне и обозначает иногда желание нравиться, найти мужа, быть зависимой от мужика.
Еще не сфокусировав взгляд, Прохор уже знал, что перед ним именно женщина, одинокая и весьма циничная, но нуждающаяся в заботе и любви сильного мужчины.
– О! – сказала дама, поглаживая подушечками мягких тонких пальцев его руку. – Какой ты!
И засмеялась, роняя крупицы смятения в мутную от выпитого, нетрезвую душу Прохора.
Рассказать, что было дальше Прохор не смог бы даже под пытками, но очнулся он, тем не менее, в постели, правда, не своей. Постель широкая, мягкая, с шикарным пледом в ногах, показалась ему необъятной, но во рту пересохло, очень хотелось пить, и Прохор завозился, пытаясь отыскать край в бесконечном пространстве огромной кровати, к тому же, заваленной подушками и легкими, словно пух, белыми одеялами. По пути следования, Прохор наткнулся на чье-то тело, зарывшееся под одеяла и укрывшееся подушками, тело застонало и потребовало водки.
Прохор немедленно исполнил просьбу, добравшись до края и обнаружив возле кровати столик на колесиках. На столике, уставленном батареей опустевших бутылок из-под виски, сногсшибательных бутылок явно грузинского происхождения стояла одна-одинешенька почти полная бутылка водки. Рыча от предвкушения, Прохор плеснул в обнаруженные тут же бокалы.
– Пей! – протянул он бокал в сторону подушек.
Подушки немедленно перешли в движение, и на постели объявилась фигура, от вида которой Прохор сразу протрезвел.
Фигура жадно выпила и потребовала, капризничая:
– Проша, дорогой, налей-ка еще!
Автоматом, Прохор плеснул водки в бокал и, не сводя глаз с фигуры, полез задом с кровати. Заметавшись по комнате, в поисках своей одежды, он не сразу услышал воркование с постели:
– Ах, Проша, ну куда ты? Нам же было хорошо! Ведь тебе было хорошо со мной, Проша?
Фигура привстала, чтобы наблюдать за метаниями возлюбленного.
– Я хочу тебе сказать, – продолжала фигура, – такого секса у меня еще не было! Ты самый лучший, самый-самый из всех!..
Наконец, одевшись, Прохор бегом ринулся в прихожую, отыскал в ящике для обуви свои ботинки и, подпрыгивая от нетерпения, быстренько нацепил.
Фигура, между тем, вышла из комнаты. Прохор возился с дверным замком. Фигура помогла открыть, между делом, сунув визитку в карман пиджака недавнего любовника.
– Позвони мне, Проша! Я буду очень-очень ждать, сладенький!
Ошалевший от случившегося, Прохор скатился вниз, по ступеням лестницы и только на улице перевел дыхание. Вот, это да! Как он мог, до каких же чертиков надо было напиться, чтобы перепутать мужчину с женщиной?!
Лицо фигуры маячило у него перед глазами, накрашенные ресницы, румяные щеки, пунцовые губы.
Прохор встал, как вкопанный, волна омерзения поднялась к горлу и выплеснулась на мостовую.
Вокруг раздался визг негодования. Прохор побежал, вслед ему неслась негативная, переполненная презрением, нота протеста от прохожих.
Влетев в свою квартиру, Прохор сбросил одежду на пол и полез в ванную. Под струями горячего душа, окончательно пришел в себя. Раз десять, намылившись, он неожиданно понял, как чувствует себя изнасилованная женщина. А мысли о предстоящей экзекуции анализов, которые необходимо будет сдать на предмет проверки его поруганного организма, вообще поверг Прохора в шок.
Выйдя из ванной, он обнаружил перед собой жену. Естественно раздраженную его неадекватным поведением и ночным отсутствием. Но вместо тирады гневных речей она вдруг ткнула пальцем в шею Прохора:
– Что это?
Прохор метнулся к зеркалу ожидая увидеть чумные пятна, но увидел нечто похуже, следы засосов. Боже мой, виднелись повсюду, даже на животе и как это он не заметил, пока мылся?
Прохор застонал, а жена хлопнула дверью маленькой комнаты, удалившись в детскую.
Прохор заметался, он не любил тесной одежды, отдавал предпочтение широким воротам рубашек. Поэтому переключился на одежду жены, отыскав в бельевом шкафу белую водолазку под горло. Жена, расплывшаяся после сорока лет, потерявшая форму, носила просторную одежду и Прохор немного успокоился, заметив, что водолазка жены пришлась ему впору, а высокое горло водолазки скрыло его позор. Тем более, одежду жены Прохор считал своей собственностью, бывало, и халат жены надевал, не считая данное деяние чем-то неприличным. Но так бывает почти во всех семьях…
Скрипнул ключ, и на пороге квартиры объявилась теща. Конечно, с маленькой Моськой на руках, любимицей тещи и детей.
Моська, глупая собачонка редкой породы, название которой Прохор никак не мог запомнить, завидев хозяина дома, залилась тоненьким лаем, отчего-то напомнившим ему капризный и в то же время требовательный голос фигуры.
Молча, поджав губы, теща прошла с Моськой в ванну, ритуал водяного очищения с лап и туловища собаки проходил неизменно и каждый раз, после очередного выгула животного.
Сопоставив два факта, Моську и себя, Прохор помчался в туалет, едва успев донести содержимое желудка до унитаза…
Весь последующий день Прохор молчал, ничего не ел, а забившись в угол дивана, тупо смотрел телевизор. Мимо него проходили тени тещи, жены, сына-подростка и красавицы-дочки, пробегала тень Моськи, но он не реагировал, весь превратившись в ничто, в тень, которую не следует тревожить, не следует теребить.
К концу дня лопнула обида жены, пропало негодование тещи. Домашние собрались перед остолбеневшим главой семейства, чтобы обсудить его странное поведение.
Спустя некоторое время, спустя множество безуспешных попыток разговорить, спустя бесконечное количество попыток накормить ничего не вкушавшего в течение целого дня, Прохора. Уже за полночь, когда по его подбородку стекали капли так и не попавшей в горло настойки валерьянки, корвалола и прочих успокоительных капель, домашние решились вызвать «скорую».
Психиатрическая Прохора забрала.
Сквозь туман окутавший сознание, Прохор с трудом осознавал свое положение, но через месяц все же, очнулся. Стал разговаривать и осмысливать.
Перепуганным родственникам врачи сообщили, что Прохор впал в состояние шока, как видно по всему перенеся насилие сексуального характера. Коллеги по работе, в том числе и женщины услыхав тот же диагноз, были удивлены. Но рассудив, что всякое в жизни бывает, принялись навещать больного, передавая передачки с фруктами и газировкой, все-таки Прохор был директором крупного производства и пока еще с поста начальника его никто не снимал.
Спустя полтора месяца Прохор оправился настолько, что был выписан, но поставлен на учет. Многочисленные лекарства были ему подспорьем. Куда как успокоившийся от перенесенного ужаса, он надел однажды на поздравительное мероприятие выходной костюм, а сунув руку в карман, обнаружил визитку в следах алых поцелуев, с надписью телефона и подписью: «Твоя Николя!»
Издав оглушительный рык, Прохор разорвал визитку на мелкие кусочки, а костюм сдернул, спустил в мусоропровод.
Но на этот раз Прохор сделав вдох-выдох и надев второй костюм, направился на праздник жизни, куда как спокойней, только дал себе зарок не пить, вообще ничего не пить из горячительного, а употребить разве что сок или лимонад…
Сестра Притча-быль
Они столкнулись лоб в лоб и благо бы на улице, тогда у старшей сестры не дрогнула бы ни одна морщинка на лице. Но в магазине, переполненном народом, потянулись за одним и тем же товаром, последними дешевыми колготками, продававшимися по акции. Схватили, каждая за свой уголок упаковки, сноровисто потянули, каждая в свою сторону. Старшая уже раскрыла рот для потока брани, но увидав, кто ухватился за последние колготки, тут же и отпустила. От неожиданности. Как? Она в Москве? И почему именно в этом магазине? Десятки вопросов прокрутились у старшей в голове, промчались галопом и стукнули копытами по темечку. Выследила! Старшая сестра похолодела. В ее однокомнатной квартирке повернуться было негде, трое родных детей и трое приблудных, то бишь, поправила она саму себя, детдомовских, взятых ради государственного пособия…
Комната в квартире хоть и большая, двадцать квадратных метров, но сплошь заставленная мебелью, из-за двухъярусных кроватей солнца не видать, даже в коридорчике, на скрипучей раскладушке спал старший сын, двухметровый верзила. А тут еще мать плохо себя почувствовала, перебралась с холодной дачи в квартиру, облюбовала итак небольшое кухонное пространство, располагаясь со своими стонами и храпом на небольшом раскладном диванчике.
Нет, встреча с младшей сестрой была нежелательна, да и напрягала как-то мысль, что в свое время старшая выгнала младшую с грудным племянником на улицу, отказала в помощи, наплела небылиц и вообще выставила младшую перед родней и друзьями монстром.
Между тем, младшая сестра не сводила со старшей внимательного взора. Ничего не говорила, только смотрела. От ее взгляда у старшей сестры почему-то побежали мурашки по телу и, встряхнувшись, она решила, будь что будет, хотя бы расспрошу:
– Ну, здравствуй!
Младшая не ответила.
– Здравствуй, говорю! – старшая легко из себя выходила, была обидчива. – Могла бы и поздороваться!
– Здравствуйте! – прозвучал рядом со старшей тоненький голосочек.
Старшая посмотрела. На нее растерянно глядела девушка-подросток. В руках у девушки были последние колготки, те самые.
Девушка пошла прочь, удивленно оглядываясь на оторопевшую тетку.
Старшая завертелась, младшая сестра, как в воду канула.
Обежав весь магазин, старшая выскочила на улицу и застыла, прижав кулаки ко рту, чтобы не заорать.
Младшая сестра медленно истаивала в воздухе, по-прежнему внимательно и без улыбки изучая лицо своей родной сестры.
Прошло время. Старшая сестра покаялась на исповеди, отслужила несколько сот молебнов, сходила пешком куда-то в тьму таракань, во святые места, но младшая сестра не отпускала. Настойчиво, являлась она старшей в самых неожиданных местах.
Старшая видела тонкую, хрупкую фигурку младшей сестры в каждой девушке, каждой молодой матери с ребенком.
Старшая принялась подсчитывать, сколько же лет должно быть ее племяннику, когда его день рождения она уже и не помнила. Но по годам выходило, что парню не менее семнадцати лет.
Наконец, поведав всю историю, как есть, без своего всегдашнего выгораживания и поклепа на сестру, рассказав все седому монаху-прозорливцу, привыкшему выслушивать покаянный бред мирского люда, она получила в ответ его удивленное молчание и затем вопрос, а что собственно, она делает в храме? Монах глядел на нее сердито, кто ты, спрашивал он, как не убийца своей родной сестры и племянника? Схватил ее за шкирку и вытолкнул прочь, из церкви.
Старшая сестра пошла. По дороге она, несколько раз пошатнувшись, присаживалась на бордюры тротуаров. А вставая, разводила руками, чтобы удержать равновесие. Шла на автостопе, будто без сознания. Дошла до квартиры и, не обращая внимания на гвалт детей, вопросы матери, легла на кухне, на раскладном диванчике и померла.
Быстро, легким ветерком понеслась она тогда к Небесам, с вопросом, где же ее младшая сестра, может, жива, билась в ней слабая надежда? Может, можно все исправить, повиниться и опа-на, нет, как нет тех страшных лет, когда младшая в одиночку поднимала своего ребеночка. Но на пороге к вечности младшая сестра ее встретила, не одна, с сыном. Племянник, нежный душой, совсем еще мальчонка смотрел на тетку с отвращением. И пришлось старшей заворачивать оглобли, а тут и черти подоспели, куда как радые заполучить очередную бестолочь, забывшую о великой истине: «Родственники даны в путь, путь на тот свет!» А я добавлю, забежит такой родственник, выставленный родней вон из дома, забежит вперед и сбросит родственничков в геенну огненную и будет прав. Зачем же жить, если не для людей и к чему трястись за свои квадратные метры, когда уже отмерены метры в геенне? Зачем обижать ближнего своего, выдумывать, врать, защищаясь от удивленных взглядов друзей, подруг, когда завтра, а то и сегодня не сможешь оправдаться пред умершим по твоей вине ближним?!.
Самознаевы
Ночью Степка Самознаев пришел домой. Перед его носом кто-то помахал руками. Тут же, без предупреждения, Степка кинулся на противника и принялся крушить так, что Илья Муромец обзавидовался бы.
– С кем это ты там воюешь? – крикнул ему до боли знакомый голос.
Степка остановился, едва переводя дыхание. Жена стояла неподалеку и неодобрительно хмыкала.
– Да вот, напали на меня! – попытался оправдаться он.
– Кто? – строго продолжала допрашивать жена.
– Да вот же! – и оторопел.
Рубился Самознаев, оказывается с деревом. Это дерево ему в темноте ветками помахало.
– Олюшка, – припадая, ныл он уже в следующую минуту, – ради Бога, Олюшка, не говори никому, не рассказывай!
Ольга строптиво отворотилась, направилась к дому.
– Олюшка, родная моя, – шептал Степка в спальне и, переходя на нежности, целовал ее в плечо, в шею, в ушко, – прошу тебя!
– Ладно уж, лизунец! – отмахнулась она. – Но отсыпаться поди на печку, перегаром так и шибает, стирай тут после тебя, мучайся!
– Иду, Олюшка! – ворковал он, устремляясь к печке, как есть в одежде, залез, но все же забеспокоился. – А точно никому не скажешь?
– Точно! – выкрикнула жена из спальни.
Успокоенный, он заснул, уверенный в завтрашнем дне, где никто и ничто над ним смеяться не будет. У жены был принцип – не выносить сор из избы и она выполняла его свято.
Ольга же, напротив, долго ворочалась, не могла уснуть, соображая, что с утра придется натаскать воды из колодца, баню истопить для мужика. Мужик у нее пьяницей не был, но выпить любил. Обычно, с зарплаты, раз в месяц после смены оставался на заводе и до глубокой ночи с друзьями, под болтовню и пустопорожние разговоры «уговаривал» бутылочку, другую «беленькой».
Ольга вздыхала, Степка у нее был со странностями. Часто делал то, что нормальному человеку и в голову не придет. Как-то по весне он увлекся пугалами. Чучела Степка мастерил пострашнее, насаживал их на вращающиеся палки и чучела принимались кружиться, размахивая пустыми рукавами, пугая не столько ворон, сколько людей возвращающихся с вечерней смены.
Дом Самознаевых стоял как раз в самом начале поселка, неподалеку от остановки, где заводские автобусы подбирали и высаживали толпы работяг.
В сумерках множество чучел митингующих втихомолку на огороде, вызывали столбняк у прохожих.
Чучела дергались и ночью. Динамо-машину приводящую в действие пугал, Степка останавливать боялся, ее вообще было трудно запустить, приходилось долго возиться, протирать проржавевшие детали.
Закончилась история с пугалами неожиданно просто. В огород, сметая хлипкий забор, вломился одуревший от вина пьянчужка и принялся драться с безмолвными, но такими деятельными пугалами. Вскоре от чучел остались лишь лохмотья раскиданные там и сям.
Степка остыл кудесить с пугалами, но занялся постройкой модели яхты. Чертил, высчитывал, завалил чертежами весь дом, всю зиму провозился, а по весне, едва сошел лед, взял яхту, да и запустил в местном пруду. Яхта, с минуту победоносно покачавшись на поверхности, вдруг ушла под воду и без всхлипа сдалась, утонула. Степка недолго горевал, а занялся пазлами, такими, что как картины. Скоро весь дом наполнился соответствующими новому увлечению главы семейства, достижениями.
Самознаев бахвалился перед друзьями и соседями своими успехами, но повстречав как-то где-то человечка предпочитающего всему прочему искусство плетения корзин из лозы увлекся так, что дом по самую крышу оказался завален корзинами.
Корзины с ручками и без ручек, плетеные вазочки и хлебницы, кружевные подставки под горячее, ажурно выполненные розетки на стену, про Самознаева даже фильм документальный сняли, вот, дескать, какой мастер есть в наших краях.
Ольга тогда в сенях пряталась и плакала от страха и отчаяния, ничего нет хуже, чем жить в одном доме с творческой личностью. Жена для такого человека все равно, что прислуга, которую только тогда и замечает, когда что-либо самому понадобится. Правда, слабеньким утешением для нее являлся тот факт, что кому-то было еще хужее, чем ей самой, например, тем же женам голливудских звезд. В Самознаева хотя бы никто не влюблялся, чего тут любить? Тело рыхлое, нос картошкой, глаза бегающие. От такого шарахаться надо, а не любить, эх, если бы она знала в молодости, за кого взамуж выходит.
Ольга любила покой, отмучавшись с ребятишками, выпустив в свет двух сыновей, она почувствовала колоссальную усталость, благо, дети не досаждали ей внуками, предпочитая пробираться сквозь болезни и капризы младших Самознаевых самостоятельно. Изредка только наезжали и тогда жены сыновей, немедленно высвобождая свекровь от забот, деятельно принимались стряпать, ловко орудуя рогатинами и чугунками, будто всю жизнь провозились возле печи. Слава Богу, сыновья нашли себе сильных подруг с крепким наследием. Обе были из крестьянских семей и редкие наезды из городских благоустроенных квартир в дом предков считали за благо. Отдыхали с удовольствием, с энтузиазмом участвуя в огородных делах. Легко натаскивали воды для бани. Сыновья, не покладая рук, пилили и рубили дрова впрок, лазали на крышу дома, проверять все ли ладно с черепицей, чинили забор, одним словом, находили для себя дел. Внуки во всем потакали старшим и, уморившись от непривычных трудов, сваливались в кровати еще засветло.
Ольга тогда любила посидеть возле спящих внуков, наблюдая их дыхание и с удивлением чувствуя, что как ни странно, но внуки похожи и на нее, и на мужа.
Пухленький, маленький Ванька сердился во сне, хмурил брови, частенько приходилось отнимать у него разные железки, вечно в его карманах были гвозди, шурупы, а за пояс заткнута отвертка и молоточек.
Маленькая Люба пошла в бабушку. Ходила не торопясь, любила просторную чистую одежду, говорила спокойно и размеренно и, наморщив нос, цедила иной раз, презрительно:
«Фу, какие вы все увлеченные, даже меня не замечаете!» Обижалась на каждом шагу, а обидевшись, долго дулась и ни с кем не разговаривала.
Внук не отходил от деда, оба пропадали на заднем дворе, где Самознаев-старший устроил мастерскую. Врыл в землю четыре столба, соорудил из досок крышу, настелил деревянный пол. Здесь, на вольном воздухе проводили старый да малый большую часть времени. Постепенно мастерская пополнилась разными поделками, появился дощатый стол, скамейки и гроб, который стоял на двух, деревянных козлах.
Как-то Ольга, покликав мужа и внука на обед и не дозвавшись, пришла в мастерскую и обмерла.
Дед и внук лежали на вытяжку, легко уместившись в просторном гробу. В волосах у них запутались опилки. Стружка пробралась за шиворот рубашек, принялась щекотать и терзать. Оба проснулись под вой Ольги и, выскочив из гроба, ринулись прочь отряхиваться.
Гроб еще долго припоминали и в семейных разговорах непременно хохотали, находя такую поделку как гроб чрезвычайно нелепой выдумкой, лишь Ольга сердилась, в тот же день она отволокла гроб на реку и спихнула в воду. После чего еще долго по всему краю ходили сказки, одна страшнее другой, говорили про оживших мертвяков и про гроб, что плавает по реке, заманивая простаков в объятия смерти. Проводив детей и внуков в город, Самознаевы возвращались к прежней жизни.
И по вечерам, Степка по стародавней привычке заводил патефон, ставил заезженную, но бережно хранимую пластинку Утесова и подхватывал, улыбаясь Ольге:
– Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь…
Ольга кивала ему в ответ, а со стены им улыбались фотографии детей и внуков Самознаевых…
Смерти нет…
«В смерти – жизнь»
Эдгар ПоУ Любови Шмелевой, моей хорошей знакомой, жила собака, белый пудель по кличке Канька. Веселая такая, лохматая, жила одиннадцать лет. С утра они вместе гуляли возле дома, а вечером ходили в березовую рощу. Зимой, Канька носилась там по снегу, а хозяйка ее каталась на лыжах. Весело и просто. Обе любили как-то делать все вместе, во всем имели согласие и рады были друг дружке всегда. И тут Канька умерла, животные ведь недолго живут… Перед смертью она долгим взглядом поглядела в заплаканные глаза своей хозяйки и вдруг, показала язык, да вот так, высунула язык…
В березовой роще, которую обе они любили, она ее и закопала. Но плакала, переживала и искала Каньку в каждом пудельке, на каждого оглядывалась зачем-то. Прошло какое-то время. Увидела объявление. Продаются щенки черного пуделя. И тут, отчего-то появилась мистическая уверенность, что Канька там. Ну да, рассуждала Любовь, жила вначале белой, а теперь вот должна бы родиться черной. И она поторопилась по необходимому адресу. Ее ожидали два щеночка, девочка и мальчик. Два лохматых радостных шарика черного цвета и взрослая собака, мама щенков, усталая и счастливая. Тут же, в прихожей стояли люди, хозяева всего этого собачьего семейства. И они страшно удивились, что щенок – девочка со всех ног кинулась к ней, только что пришедшей, до этого, оказывается, она убегала ото всех, и даже рычала, и даже бесцеремонно описала одного, решившегося ее забрать. А тут сама подкатилась к Любови, запрыгала, завизжала, как бы говоря, возьми, возьми меня на ручки! Она и наклонилась, и взяла. Тут же и узнала ее, потому что собачка посмотрела долгим взглядом, и язык вдруг высунула. Что и говорить, опять они были вместе. Долго и счастливо, смерти нет, смерти нет…
Мятежная душа
Памяти моего отца Александра Александровича Пономарева.
Коноплев поссорился с матерью. Собственно, ссора-то была пустяковой, как всегда, из-за того, что в комнате не прибираешься, тарелку вон разбил, одни убытки от тебя, но надоел, до ужаса надоел сам, вот этот режущий крик, истошный крик без начала и конца, вечный. Сколько он себя помнил, мать все время орала: за двойки, за гулянки, за грязные штаны и за продырявленные носки.
Она еще молодая, маленькая ростиком, вся какая-то легонькая, может, и привлекала кавалеров, но заглянув ей в глаза, многие, если не все, попросту отшатывались, увидев там только сухость и злобу. Сына она всегда обвиняла в том, что он похож на своего отца, и всегда искала в нем черты ненавистного ей бывшего мужа, часто обзывала «коноплевским отродьем», и мальчик плакал, забившись куда-нибудь в угол, придумывая планы бегства из дома.
Теперь уже не мальчик, но и не мужик, Коноплев, иногда и сам покрикивал на мать, и она сразу, переменяясь в лице, кидалась на него с кулаками, подпрыгивала, (он был высок ростом), била в плечи и в подбородок, страстно ненавидя его самого и его отца. Коноплев давно для нее слился, как бы в одного человека и бывший муж, бросивший ее когда-то с ребенком, и ребенок этот, вечно забитый, ноющий, оба были, как-то не нужны ей, лишни. По всей вероятности, и совесть бы ее не замучила, если бы сын исчез из ее жизни, она и по имени-то его никогда не называла, только по фамилии. А имя-то было: Антошкой кликали товарищи, по отчеству – Лексеич…
С пятнадцати лет он стал работать, прорезался журналистский талант, перешел в вечернюю школу и занял место корреспондентишки в одной ярославской газетенке. Работал и учился, но мать отравляла всю жизнь. Конечно, ушел бы, но куда? С зарплатой, что ему платили в газете, не больно-то и разбежишься, снять комнату не удастся. Но Коноплев все-таки нашел выход, дополнительно устроился дворником и в подвале одного дома выпросил себе возможность уделать комнату не комнату, так, убежище. В РЭУ его положение узнали, пошли на встречу, принесли ему кое-какую мебелишку, а начальница, дородная и добрая баба предложила написать заявленьице на комнатку в муниципальном общежитии, мол, умрет какая пьянь, тотчас туда, на его место и вселишься. Антон, конечно же, согласился. Устроился еще и сторожем в тихий детский садик, смотрел там по вечерам телевизор у заведующей в кабинете, мылся в маленькой душевой, сооруженной для детишек, сладко спал на мягком кожаном диванчике в коридоре, и жизнь его после адских мук в материнской квартире казалась раем.
Конечно, Коноплева часто посещали мысли об отце, но все, что у него было, это маленькое фото на паспорт, с которого смотрел напряженным взором худенький подросток, остальные фотки мать в порыве бешенства давно уже порвала и выбросила. Где его папа и куда он девался? Не было известно. На все вопросы мать начинала дико орать, что он, Коноплев, весь в своего папашу, отродье и так далее… В общем, приходилось жить так, как есть, тяжело, но жить…
Однажды, посланный по делам редакции, куда-то за Волгу, пробирался Антон через большой Октябрьский мост обратно, домой. Транспорт сноровисто сновал туда-сюда, сотрясая асфальт под ногами, сердитый ветер раздувал полы старенького плаща и Антон весь согнулся, преодолевая метр за метром, когда увидел, что на перилах моста стоит человек. В одно мгновение, практически моментально, Антон бросился вперед, схватил человека за пояс и дернул на себя, вместе с ним повалился кулем наземь. Незнакомец зарычал, отчаянно заборолся с Антоном, попытался выдраться из крепких его объятий, но тут же отчего-то и охладел к своему порыву, заплакал, позволил увести себя с моста. В полутемной с единственной лампочкой под потолком, маленькой комнатенке подвала, которую Антон для себя окрестил домом, незнакомец хрипло, срываясь на шепот, попросил себе водки. У Антона стояла одна бутылочка, так, на всякий случай. Плеснув немного в стакан, мужик тут же жадно выпил. Посидел, посидел, сцапал бутылку, налил в стакашек и еще выпил. Запросил покурить. У Антона нашлась завалящая пачка «Беломора», один дворник как-то подзабыл, а он припрятал, так, на всякий случай… Мужик жадно затянулся.
Антон с удивлением разглядывал своего гостя. Одет он был просто, в штаны и рубаху, но что-то нахимичил со своей бородой. Лохматая, неухоженная, почти до пояса, бородища эта расцвела всеми цветами радуги. И представилось, тут Антону, как в родном Ярославле, жадном до всего новенького и модненького появляются подражатели его гостя. Десятки, сотни мужиков отращивают себе бороды, раскрашивают их в парикмахерских во все цвета радуги и такие, фантастические, бродят по всему городу, приводя в дикий восторг иностранных туристов.
Мужик, прикончив водку, кивнул, довольный, назвался Лексеем. Поспели в кастрюльке пельмени, Антон готовил себе еду на электроплитке, Лексей жадно накинулся на горячее варево, обжигаясь, дышал ртом и снова принимался есть. Быстро расправился со своей порцией и виновато моргая, пояснил, что давно уже не ел, голодный очень.
А Антон, как бы нехотя, указавши на чудо-бороду, спросил, откуда, мол, такая расцветочка? Лексей махнул рукой, уставился в угол, пробурчал, что, вот как-то познакомился с одним человечком, пришел к нему в гости, выпили, закусили, все честь по чести, спать полегли, а его детки постарались, подкрались, пока он спал, взяли да и выкрасили бороду во все цвета радуги, химией уж очень увлекались, сволочи…
Антону стало смешно, однако, виду он не показал, придвинул гостю хлеба и сыра.
Лексей угрюмо сжимая стакан с водкой, всего-то и осталось, что стакан, остальное уж выпил, и, смотря куда-то в стену задичалыми глазами, пожаловался на свою судьбину. По его словам выходило, что мир давным-давно уже примирился с его потерей, и ничто не поколебалось бы, если бы он умер. А он, Лексей, стоял на перилах моста, смотрел в туманную даль Волги и ни о чем не думал, ничто не проносилось в его сознании, разве обуревала бесконечная усталость души…
Слова его, такие же незатейливые и шероховатые, как и он сам, тихонечко вылетали с сухих, обветренных губ и укладывались, кружась неслышно, будто осенние листья, на пол. Так Антону и представлялось, и, засыпая уже под монотонное бурчание своего гостя, он встрепенулся, услыхав, что Лексей – сумасшедший и сошел с ума во время пожара в своей деревне. Лексей так и рассказывал, не сводя пристального взгляда со стены:
– Вот пожар-то какой, дом-то весь в огне, в огне, гляжу, а на крыше-то огненные бесы пляшут, скалятся, радуются, что оставили меня без жилья…
По словам Лексея вышло, что после пожара напросился он в соседний монастырь послушником. Тяжкое это было бремя – поиски себя. Лексей и искал, как учили монахи, через месяц усердных молитв и работы на монастырском коровнике принял постриг, стал иноком. Но затянутая в пружины душа взяла да и взъярилась, задергалась, Лексей стал метаться. Замучили сны с роскошными застольями и даже запах водки ему казался так явственно, что повсюду мнился. Лексей принюхивался к братии, ощущал разные запахи и коровецкого навоза, и свежеиспеченного хлеба, и ладана, но водкой ни от кого не пахло. Он стал сходить с ума и однажды выкрал у настоятеля из кельи большущую бутыль кагора, предназначенную для причастия паствы, выпил всю прямо из горла, повалился, внезапно опьянев, на пол. Нерадивого инока наказали, наложили епитимью и велели бить триста земных поклонов, но раскаяния Лексей не чувствовал, напротив, еще больше стали одолевать сны о пьянстве и десятки голосов шептали ему о счастье быть пьяницей, беззаботно проводить свое время… Чтобы избавиться от бесов, Лексей в одну бурную дождливую ночь бежал из монастыря. Пешком, даже и не заметил как, отмахал километров двадцать, углубился в ярославские леса, ел ягоды, грибы, весь отощал и когда уже зарос грязью, взял да и вышел на какую-то дохлую деревеньку, где жили три человека, остальные сбежали в город за работой и хлебом. Лексей совсем не обрадовался людям, в лесу он громко «ржал» над бесами и вопрошал их беспрестанно, где же тут можно найти водку? Может, отобрать у белки или пошарить в логове у волка? Бесы, пригорюнившись, молчали. Но при виде жилья воспрянули духом и загомонили так, что у Лексея в ушах зазвенело.
С одиноким художником, наезжавшим в деревню из Москвы каждое лето рисовать дремучие ярославские пейзажи, они распили бутыль самогона. Радостные бесы невидимыми мячиками скакали возле Лексея. Почти пьяного его затолкал художник в баньку, выпарил, вымыл, переодел в свою одежду, рубаху да штаны. После к их обществу присоединились жительницы деревни, две любопытные старушонки, за старушонками пришли остальные живые: две кошки, лохматая псина неопределенной породы с репьями на хвосте, гордый петух со стаей влюбленных в него куриц и дойная коза с большущими рогами, но покладистая. Одна старушка даже принялась гладить эту козу по голове, отчего та жмурила глазки и только еще не мурлыкала. Все пришли поглядеть на Человека, а Человек этот все кричал им о своих грехах, о бесах, которых он никак не может победить, и плакал в пьяном бессилии, что так все плохо. Безумного монаха деревенские на следующий день, когда он проспался, отвели через заросшую травой тропинку к электричке и сдали сбивчиво объяснив ситуацию, на руки железнодорожным милиционерам в первый вагон. Лексея повезли обратно в Ярославль, всю дорогу он пел псалмы, видимо, вдохновленный ритмичной музыкой стука колес, и успокоился только с уколом, который ему вкатили санитары, вызванные доблестными стражами порядка. «Скорая» подкатила прямо к электричке. Лексея доставили в психушку, где он долго, очень долго лечился вместе с другими, какими-то угловатыми, будто побитыми личностями, тихо, боком слоняющимся по палатам, по коридорам больницы, смотрел бездумно в зарешеченные окна, ел послушно таблетки, без звука переносил уколы, а после сбежал, выкрав ключи у пьяной дежурной медсестры, Не по росту, больничную одежу он оставил в шкафчике, а свою рубаху да штаны забрал, благо это оказалось просто, шкафы с одеждой пациентов стояли тут же рядом с дежуркой.
По дороге к волжскому мосту, о котором Лексей почему-то подумал в первую очередь, он успел подраться с бомжом и бомж оказался сильнее. А все дело в том, что Лексей зашел на чужую территорию, в летнее кафе, где валялись в изобилии на столах чьи-то объедки и забытая на дне одноразовых стаканов плескалась желанная водка. Территорию пас бомж. Лексей, спасаясь, вскочил в троллейбус, а бомж не успел, двери захлопнулись. Бомж страшно обозлившийся, стал показывать ему всякие знаки, известные по американским фильмам, оскорбительные, в общем, и Лексей кинулся к окошку, крикнул неожиданно даже для самого себя:
– У тебя пипирка вот такая! – и показал пальцами от силы два сантиметра.
Бомж смешался, а пассажиры в троллейбусе до этого, безмолвствующие, разразились насмешливым хохотом. Антон криво усмехнулся, живо представив себе эту сцену. Он слушал, и только одно тянуло его спросить: и он спросил, про семью. Лексей сразу же поник головой, по его словам вышло, что да, семья была, но жена выгнала со скандалом, когда он запил, вот переехал жить в дом, к родителям. Они его терпели, куда же деваться от родного детища? А потом умерли, друг за другом измученные сыном-алкоголиком, умерли в один месяц, похоронили всем миром, у него, откуда же деньги? А далее понеслось вплоть до пожара, вот такая жизня… Антон, почему-то замирая душой, спросил про детей. Лексей качнулся вперед, согласно кивнул, да, был сын, сейчас должно быть большущий, но сказал как-то устало… Неожиданная догадка, от которой задрожали руки, посетила Антона и он спросил у Лексея фамилию. Оказалось, как в сказке, Коноплев. Антон, не сводя глаз с диковинного гостя, достал из сумки паспорт, раскрыл и сунул ему под нос. Тот прочитал черным по белому: Антон Алексеевич Коноплев и еще раз прочитал, более внимательно. А потом заморгал часто-часто, взглянул на мальчика удивленно и промычал:
– Антошка, ты что ли?
Оба долго плакали, сидя в тесной подвальной комнатушке и не знали, что же им делать дальше, как жить, но как-то жить-то надо, правда?..
2000 годЧудак
Каждый человек чем-то примечателен, имеет неповторимые, так сказать, особенности. Крыльцов был примечателен своей бородой. Длинная белая борода опускалась прямо в карман брюк. Но это еще не все. Крыльцов брил голову и часто страдал от рук веселых коллег по работе, которые никогда не упускали случая позабавиться и написать черным фломастером на гладкой отполированной голове Крыльцова какое-нибудь гадкое слово. Слово было написать легче легкого, Крыльцов много пил и, упившись, засыпал, уткнувшись носом в клавиатуру компьютера.
Бороду Крыльцов лелеял и красил в белый цвет, сам он, вовсе еще не седой, тридцати лет от роду, решился на столь экзотический вид вдохновленный любимым персонажем детской сказки, стариком Хоттабычем.
Работал Крыльцов корректором в одной старой-престарой редакции газеты. Городская Дума в честь столетия газеты расщедрилась и в несколько недель, в которые выпуск газеты был едва ли не подпольным, вся редакция вместе с компьютерами переехала тогда на дачу к главному редактору. Так вот, в несколько недель Дума провела ремонт, затратив при этом минимум денежных средств и отдав старое здание редакции молодым архитекторам, еще студентам на решение их новомодных проектов.
После ремонта, здание приобрело чудной вид, под стать Крыльцову. Стекла в окнах заменили витражами. Сквозь разноцветные стеклышки мало что можно было различить, приходилось открывать форточки, чтобы увидеть кусочек неба и верхушки деревьев. Зато сами витражи сотрудники редакции рассматривали часами, толпы зачарованных зрителей ходили из кабинета в кабинет, из коридора в коридор. Крыльцов же на все это великолепие только хмыкал и недоверчиво кричал, мол, витражи, конечно хороши, но починили ли крышу и как там обстоит дело с подвалом? Недоволен Крыльцов был и своим новым рабочим местом. Прежний дубовый стол весь в чернильных пятнах исчез в неизвестном направлении, вместо него стояла теперь другая мебель – компьютерный стол, внешне красивый, но хлипкий. Вертлявый стул вместо прежнего, крепкого, только сердил своего владельца. Стол Крыльцов немедленно сломал, просто проверив его на прочность, а стул с омерзением выкинул в коридор, где его сразу же прихватизировали молодые сотрудники для развлечения, катались себе туда-сюда, известно ведь, компьютерные стулья все больше на колесиках делают.
А Крыльцов исчез ненадолго. Вернулся с грузчиками и крепким потертым столом, который привез из некоего дворца культуры, где директором работал друг Крыльцова, отдавший, естественно, безвозмездно старую мебель. Стол, покрытый красной тканью, вдохновлял Крыльцова, призывал к трудовым подвигам и свершениям. Тут же, свое законное место занял деревянный стул с мягкой сидушкой. Стул Крыльцов добыл из того же дворца культуры, где, как видно еще не успели побывать молодые архитекторы и старая советская мебель хранилась бережно.
Крыльцов вполне довольный своими приобретениями занялся работой. На упреки коллег и главреда, что он такой допотопной мебелью портит офисность и новизну отремонтированной редакции Крыльцов не обращал никакого внимания и его, постепенно оставили в покое.
Гостям, прибывающим в том числе и из Городской Думы объясняли:
– Да там у нас Крыльцов сидит!
И гости, едва взглянув на длинную белую бороду спускающуюся в карман брюк и лысую голову непреклонного сотрудника тут же все понимая, кивали, соглашаясь, что, да, конечно же, этот чудак не может работать за красивым новеньким столом, ему непременно старье подавай.
Крыльцов чудил и постоянно влипал в истории, которые с нормальными людьми обычно никогда не случаются.
Один раз он наткнулся на одинокую пьяную бабу, шатающуюся по району. Баба, смачно плюясь, оскорбляла каждого встречного мужчину. Крыльцов с ней сцепился, осыпая ее бранью, а когда отвернулся, на мгновение на что-то отвлекся, баба подобрала камень, Крыльцов только и успел краем глаза заметить летящий в него снаряд. Крыльцов упал без сознания, а баба, воспользовавшись ситуацией, его подхватила, волоком дотащила до своего дома, до квартиры и бросила бесчувственное тело уже, как своего мужика, на кровать.
Крыльцов очнулся, баба немедленно влила ему два стакана водки в рот, и закусить не дала. Опьяневшего, раздела догола, а одежду спрятала. Рано утром, придя в себя, Крыльцов в панике удрал, как был, голым, через окно, спрыгнул со второго этажа, входную дверь баба заперла так, чтобы он не смог выйти. Баба спала, мертвецки пьяная, но все же Крыльцов ее побаивался.
Голым, он пробежал не так далеко, наткнулся на подгулявшую парочку. Парочка собачилась. Мужик ревновал свою избранницу к каждому фонарному столбу и раздражался на ее насмешливые ответы, полные ехидства и превосходства над ним, как над нерадивым мужчиной и никуда не годным любовником.
Крыльцов не успел затормозить, налетел на парочку. Все, что он успел увидеть – это изумление в широко распахнутых глазах женщины и летящий к его лицу кулак, перекошенного от ярости, мужика.
Пришел в себя Крыльцов уже в больнице, куда его доставили с патрульной машиной и строгий страж порядка в полицейской форме записал с непробиваемой физиономией все показания пострадавшего, а после, ускорившись до бега, выскочил за дверь палаты, в коридор, где долго хохотал.
Крыльцова выписали, из дома ему принесли новую одежду и он, сбросив больничную пижаму, почувствовал совершеннейшее воскрешение. Но долго еще утверждал, что его убили, и всегда справлял годину своей несостоявшейся смерти. Собирал народ в редакции, говорил со слезою в голосе и обидой на пьяную бабу и ревнивого мужика, что, дескать, не добили они его, а могли бы, и не пришлось бы сейчас праздновать «поминки». За свою душу, он тогда пил, не чокаясь, и стучал себя кулаком в грудь в качестве доказательства, что почему-то все еще жив.
Семья у Крыльцова была. Мать, лет пятидесяти, молодящаяся, модная, расфуфыренная, все устраивала свою жизнь и нередко оставляла сына одного в однокомнатной квартире на полгода, а то и на год. Сама, присылала ему письма с диковинными марками. Письма приходили из Таиланда, из Турции, Египта, Южной Америки. Но всегда и неизменно мать возвращалась домой, и тут начинала суетиться, металась с веником и шваброй опутанной сырой тряпкой по квартире. Не доведя поломойку до конца, кидалась к окнам чистить стекла до хрустального блеска. Вспоминала, что посуда не чищена, бросала все и занималась полировкой чайника, кастрюль, тарелок. Но и здесь ее усердия хватало ненадолго.
Руки ее дрожали, пальцы не слушались и слезы мелким бисером катились по щекам. Крыльцов ни во что не вмешивался, философски наблюдая разгром квартиры. А после начиналось все сначала. Мать уезжала и приезжала.
Она нигде не работала, сидела во время своих наездов на шее у сына, изредка правда, закладывая в ломбард подарки многочисленных женихов и мужей – золотые цепочки и колечки.
Крыльцов не возражал, безропотно отдавал зарплату матери, она сноровисто вела хозяйство, варила вкусные обеды и внезапно, всегда внезапно увлекалась новым приключением в виде восточного красавца, который, как правило, с Крыльцовым знакомиться не желал, зачем ему нужно было знакомство с сыном своей пассии? Мать быстренько собиралась и укатывала с одним чемоданчиком, впрочем, все-таки изредка ставила сына в известность, где она да что, но опять-таки присылала письма с диковинными марками.
Отца у Крыльцова не было вовсе, мать никогда не могла с точностью утверждать, чей он сын. По сути, он мог похвастаться родством с неким богатым арабом прилетевшим на тогда еще советскую Олимпиаду, в Москву и также он мог быть сыном спортивного бегуна из Англии. Своими отцами Крыльцов вполне мог назвать также двух кудрявых студентов из Франции. Но рассматривая свою физиономию в зеркале, Крыльцов таки склонялся к мысли, что он сын араба. Не зная хорошенько, к какой религии относят себя арабы, он ударился в мусульманство, прочитал весь Коран, ничего не запомнил, но при встрече со знакомыми и друзьями всегда вставлял:
– Аллах акбар! (что значило, распространенное мусульманское – Аллах велик!)
Потому, естественно, в его облике и появилась борода с лысым черепом, и любовь к старику Хоттабычу, и склонность к женщинам восточного типа.
Но ухаживать Крыльцов не умел, а его игры в Аллаха настоящие мусульмане, к которым он имел свойство лезть свататься, моментально раскрывали. Не солоно хлебавши, несостоявшийся жених ретировался. Долгое время ему снились еще восточные красавицы и танец живот, но женился он все же на русской женщине. А впридачу взял и ее трех сыновей, злобную усатую тещу и кирпичный дом, который надо было содержать.
Конечно, сослуживцы ждали от Крыльцова развода и жалоб на жизнь, но не дождались, проходили месяцы, складываясь в года, а Крыльцов по-прежнему колотился над чужой семьей, возился с огородом, рубил дрова для печки, ругался с тещей, встречал и провожал мать, воспитывал чужих детей. Изменил свою внешность, сбрил бороду, отрастил волосы на голове, обрусел окончательно и, пробегая к допотопному столу в редакции уже не слышал никогда иронии в приветственных речах коллег. Чудачество его исчезло, растворилось в трудовых буднях и семейных неурядицах, а жаль…
Они
Электричка резко остановилась, и Ежу показалось, что – это его остановка. Он вскочил и выпрыгнул в широко открытые двери. В ту же секунду двери с шипением захлопнулись, светлая электричка унеслась по железной дороге в ночь. А Еж не сразу, но понял, что вышел на станцию раньше. Перед ним за лесополосой лежало Игнатовское кладбище. Еж озлобленно тряхнул волосами, озабоченно фыркнул, пошаркал носком кроссовки ни в чем не повинный асфальт короткого полустанка и решил идти… через кладбище. Оно, конечно, почти час до дома топать, вначале по дорожке мимо могил, потом по пустынному шоссе вдоль Яковлевского бора, но что же делать? Еж глянул вслед электричке, по шпалам усыпанным мелким гравием идти не хотелось, и ноги переломаешь, и от проходящих составов нырять практически некуда, высокие насыпи по бокам рельсов коротко обрывались в болотины. Еж не торопясь закурил, постоял, поглазел на полную Луну, вспомнил, что где-то на кладбище должен быть сторож, все-таки, живой человек, вздохнул и пошел.
Еж страдал особым психическим заболеванием. Он никогда в жизни не ходил на кладбища. В детстве, после похорон отца, с ним случилась продолжительная истерика, которая прекратилась только в детской психушке… Кладбище вызывало у него тревогу и тихий, неосознанный ужас, похожий на едва слышный вой. Он весьма сильно тяготился этими сотнями душ, сосредоточенных на кладбище, стремящихся к жизни. Чувствовал их разум и боялся, страшно боялся их.
Свое прозвище Еж получил еще в школе, и оно каким-то непостижимым образом перекочевало за ним в училище, а затем и на место его работы. Работяги смеялись над его прической и взлохмачивали здоровенными ручищами непокорные волосы:
«Еж, он и есть Еж!»
Он уже давно плюнул на себя, совсем не пытался пригладить непокорные лохмы, редко стригся и обрастал неровными патлами, торчащими во все стороны, действительно делавшими его похожими на ощетинившегося ежа.
Между тем, Еж плелся по прямой, но узкой дорожке и окружающие его памятники сливались в одну темную массу. Еж видел только эту спасительную асфальтовую дорожку под ногами, две стены памятников по бокам и большую Луну сверху. Он шел по этой дорожке, как по бесконечной могиле. Кругом стояла тишина, изредка только нарушаемая шорохом травы в которой охотились, наверное, ежи… На каждом шагу, в каждом звуке, в каждом легком дуновении ветерка чудилось Ежу нечто страшное. Да, он сильно боялся и по временам торопливо оглядывался, постоянно обдумывая, где же это может быть сторож. Ему представлялся некий бесстрашный мужик, который прямо вот сейчас вынырнет из-за какого-нибудь памятника и строго спросит, а куда он, собственно говоря, идет и откуда? А потом проводит его до самого шоссе и еще ручкой помашет. Еж ждал напряженно, только ожидание и удерживало его от подкравшегося безумия, продиктованного болезнью.
Как вдруг действительно, недалеко впереди кто-то предупреждающе и звонко постучал по железной ограде. В тишине громко прозвучал этот стук. Еж бросился навстречу долгожданному стражу порядка. Он торопливо и сбивчиво прокричал свое объяснение по поводу позднего визита, там выслушали молча. Еж добежал и огляделся в растерянности, у него был абсолютный слух, он точно слышал, что стучали отсюда, но вокруг никого не оказалось. Сердце у Ежа заныло в предчувствии беды…
Он струсил и побежал. Бегал Еж всегда на отлично, далеко позади оставляя своих соперников по физкультуре. Но тут… стук возобновился. Мало того, застучали, впереди, сзади, слева, справа. Кто-то с непостижимой быстротой мотался вокруг Ежа, пугая, приводя в ужас и замешательство. А он все бежал и бежал, норовя вырваться с проклятого кладбища на спасительное шоссе, но кладбище было таким большим, а он так давно не тренировался.
Еж упал на колени, ловя ртом воздух, черные круги плыли у него перед глазами, в ушах зловеще звенело. Тот, кто стучал, тоже остановился выжидая. Еж ясно это почувствовал и даже определил, где он стоит или висит в воздухе и тихонько постукивает по чьему-то железному памятнику. И тут, сквозь помрачневшее сознание, с запоздалым удивлением Еж понял, там не один призрак, их много. Они только и ждали, когда он отдышится, встанет, и его снова можно будет гнать, преследуя с ожесточением, только потому, что он живет, а они нет, у него есть тело, а у них нет… Еж разразился слезами, с отчаянием понимая, что Они способны убить его, вышибить из тела за то, что он посмел вообще заявиться к ним, на кладбище.
Еж заговорил с ними, рассказал им про похороны отца и про свою не проходящую боль по поводу его смерти. Они спокойно, но внимательно слушали его исповедь, даже постукивать перестали. Дрожащий, полный слез голос его, наверное, странно было бы услышать, скажем, сторожу, но в том-то и дело, что сторож спал, убаюканный выпитой бутылкой портвейна, спал в своей сторожке, крепко запершись, под охраной пяти кладбищенских собак, призраки не любят животных, особенно не любят Они кошек, но за неимением мяукающих созданий, сторож пользовался охраной умных и верных четвероногих. Собаки слышали плач Ежа, но приподнявшись было, тут же и улеглись обратно, хорошо, что призраки заняты и можно отдохнуть от их атак…
Еж дрожа, как в лихорадке, поднялся с колен и шагнул вперед по тропинке. Они в замешательстве толпились вокруг него, его исповедь сбила их с толку. Он беспрепятственно дошел до края кладбища и перешел уже на шоссе, не веря своему счастью, не веря, что Они отпустили его. По обеим сторонам пустынной дороги тянулись непроглядные чащи соснового бора. Сверху светила полная Луна. Через полчаса активного хода покажутся высотные дома окраины города, и Еж радовался, предвкушая уют своей квартиры и мамино ворчание по поводу его ночных гулянок. Но тут… он почувствовал, что Они рядом. Решили его проводить… Они бежали, летели вслед за ним и впереди него, заглядывали ему в глаза, дотрагивались до его волос, плеч, рук, так что он весь покрылся мурашками от страха перед ними. Они не нападали и не угрожали больше, но их неусыпное внимание ему показалось страшнее всего, что он только перенес в своей жизни. Они его сопровождали жадно и неустанно…
Абсолютно беспамятный, он дошел, наконец, до края соснового бора, тут уже начинались кое-какие дома, где-то светились теплым светом окна, где-то были живые люди. Они оставили Ежа сразу, как и не было их никогда. Он остановился и долго смотрел назад, чувствуя, как Они улетают обратно, на кладбище. Еж испытал сильное потрясение, за этот короткий час он повзрослел и почувствовал себя уже не мальчишкой и даже не юношей, а как-то сразу осознал, что может не так долго ему осталось, и он вот так же будет мотаться и ждать, сидя над могилой, на ветке какого-нибудь дерева, ждать своих родных, а не дождавшись, ведь многих забывают, озлобится и станет кидаться вот так же, как многие из этих кидаются на ни в чем не повинных живых, доводя их до исступления. Еж поникнув головой, побрел домой, на залитый светом электрических фонарей асфальт городского тротуара падали его горячие слезы и сердце сжималось от жалости к тем, что улетели обратно, но что же он мог поделать?..
Полная Луна светила по-прежнему отчетливо и ярко, освещая, в том числе могилу отца Ежа и его самого сиротливо приютившегося в лепестках сладко пахнувшей фиалки. Он ждал сына с надеждой и тоской. Твердо веря, что дождется… Кладбище Чурилковское деятельно жило своей жизнью, сверкали в воздухе сотни серебристых крылышек, люди переносились от памятника к памятнику. Вовлекали в свои игры «новеньких», еще растерянных и переживающих свою смерть остро и болезненно.
В сторожке чутко прислушиваясь к суетливой возне призраков, лежали два больших пса и сторож, невнятно творя молитву, выглядывал изредка в окошко. Ему чудилось движение и обманчивые белые тени, проносящиеся низко над землею.
– Ишь, как разыгрались! – задумчиво шептал он про привидений. – Должно быть, к дождю!
А Еж лежал дома, в своей кроватке и думал об отце, он, наконец, решился сходить к нему, завтра же, днем…
Франт
В начищенных ботиночках, в шикарном черном костюмчике с белой рубашечкой и галстуке стягивающем шею так, что не вздохнуть. Зато в руках легкая тросточка, на губах легкая улыбочка и, конечно же, вот оно, изящная походочка. Маленький поклон в сторону красиво одетой дамы и уважительный поклон для пожилой матроны, вышагивающей по бульвару в обществе толстого старого бульдога. Бульдог и матрона чрезвычайно похожи, оба еле дышат, оба едва смотрят вокруг, немного прогулялись и домой, баиньки, в теплую постельку. Ах, как он им завидует, он-то не может себе позволить покоя, ему всего тридцать лет и тело просит любви.
Ах, как бы он любил! В его мечтах возникает образ нечто белого и воздушного, чистый облик невесты, а перед глазами маячит девица с опухшей физиономией. У девицы под глазом фиолетовый синяк и губы накрашены неумело, вкривь и вкось. На девице обтягивающая майка и жирный живот с утонувшим пупком выставлен на показ. Здоровенные ляжки едва прикрывает короткая юбка. Девица глядит на него, усмехаясь, все понимает и кивает, подмигивая:
– Сеньор кавалер, угости даму сигареткой!
– Не курю! – сухо говорит он, стараясь обойти девицу.
Но она настырна и обойти себя не дает.
– Ну, тогда дай пятьдесят рублей на курево! – грубо требует она и, угрожая, решительно приближается к франту. – А не то поцелую!
Франт весь передергивается, поспешно лезет в карман и кидает проныре сто рублей, со всех ног бросается в ближайший переулок, где переводит дух:
– Вот, стерва! – шепчет он, с досадой оправляя костюм и сдувая невидимые пылинки с пиджака, отправляется дальше.
Глаза его еще мечут молнии, когда он опять выходит на бульвар – этот центр Вселенной, где две миловидные девушки в скромных нарядах, взглянув на него украдкой, рассыпаются мелодичным и безобидным смехом, наш франт слышит в этом смехе прекрасную для себя мелодию приглашения к знакомству. Но пока он собирается с духом, пока галантно расшаркивается, два бритоголовых крепыша бесцеремонно подхватывают юных красоток под руки и не глядя на растерявшегося кавалера, мигом утаскивают девушек за собой.
Он решает заесть свое горе и направляется к стеклянным дверям летнего кафе с уютными столиками, где заказывает себе чашечку кофе со сливками и пирожное с романтичным названием: «Роза-мимоза».
В самом кафе душно и он усаживается возле, под зонтиком. Столики и стулья заняты и он не сразу замечает, что посетители кафе не все воспитанные люди. Его взор, правда, задерживается на девушке в белом платье. Девушка аккуратно кушает мороженое из стеклянной вазочки, всякий раз поднося ложку ко рту, она прикрывает глаза, мечтательно улыбаясь, как видно по всему, наслаждается вкусом великолепного лакомства.
Наш кавалер, было, привстает в надежде привлечь внимание юной особы, но тут его бесцеремонно отпихивают и два толстых, одинаковых человека, тяжело отдуваясь, шагают к девушке:
– Ну и туалеты у них в городе! – громогласно докладывает один.
– Страсть, какие дорогущие! – высказывается другая.
Франт приглядывается. Толстяки отличаются по половой принадлежности, но в целом, очень даже походят друг на друга. Оба в бесформенных шортах, оба в просторных рубахах, оба в сандалиях на босу ногу, ну чисто, Добчинский и Бобчинский (ая).
– Обслуживания никакого! – продолжают толстяки вместе. – А запах просто ужасный!
Девушка невозмутимо доедает свое мороженое и все трое отправляются восвояси.
Разумеется, наш франт взволнован. В глазах у него прыгают светящиеся точки и плавают дрожащие круги, как это бывает, когда кровь приливает к голове.
Отдав деньги за кофе и пирожное «Роза-мимоза» официантке, он сердится на девушку в белом, зачем она не одернула не воспитанных толстяков, зачем не высказала им своего презрения? О том, что девушка в белом сама может быть не воспитанной, франт не задумывается ни секундочки, чистый облик невесты не дает ему покоя. Задумавшись, он было, уже заносит ногу для следующего шага, как останавливается пригвожденный призывным взглядом шикарной дамы.
Дама, с томным взглядом подвыпившей, одинокой, а главное безденежной фигуры, как видно, ищет подходящего кандидата.
Наш франт, галантно помахивая тросточкой и не забывая про изящную походочку опускается перед ней на стул. Дама преображается, в роскошном красном платье отороченном искусственным мехом, дама пожирает франта глазами и протягивает к нему длинную руку с сильными пальцами и такими ногтями, что те еще когти, только накрашенные!
Но наш франт ничего не замечает, он улыбается, он полон собой и, красуясь, заказывает для нее бутылку коньяка, коробку шоколадных конфет, а для себя опять чашечку кофе со сливками и пирожное «Роза-мимоза».
Дама пьет коньяк стаканами, в негодовании отвергнув мизерную стопку. Она пожирает шоколад так, как будто никогда шоколад не ела, но франт безмятежен, он счастлив, наконец-то, ему повезло! Оба они идут к такси и едут! В машине франт неумело врет про свою престижную работу, а дама молчит и только поводит вокруг скучающим и отчего-то мутнеющим с минуты на минуту взглядом.
Они приезжают к нему домой, и пока он бегает на кухню за бокалами, что достались ему в наследство от бабушки, дама засыпает, раскинувшись на единственном диване. Ее раскатистый храп встречает нашего кавалера, и кавалер надолго застревает в дверях, с ужасом осознавая перспективу предстоящего вечера. Дама невозмутимо храпит, и из-под грима выступают все четче, все ярче многолетние морщины, кожа висит складками у нее на шее.
– Да она же мне в матери годится! – восклицает франт и в отчаянии спешит на кухню, где всю ночь, томясь и нервничая, проводит, сидя на стуле, за столом, квартира-то однокомнатная!
А утром, проснувшись, дама ничему не удивляясь, умывается и уходит восвояси, даже не поблагодарив его за гостеприимство и коньяк, и шоколадные конфеты! Он переживает обиду и плачет, а после, переоблачившись в простую одежду, спешит на работу, где нацепив бейджик, мгновенно становится безликим продавцом-консультантом безликого магазина и дежурная улыбка для случайных покупателей надолго поселяется на его губах.
Безумец
Он бесновался, как настоящий сумасшедший, бил кулаками по стенам, рычал, кричал, ломал и рвал, все, что только мог. Правда, бывало, он часами сидел и говорил, говорил сам с собой, а потом вдруг вскрикивал, хватался за голову и бежал, сломя голову на улицу, безумный, не понимая, зачем, и только после продолжительной беготни мог опомниться где-нибудь за десятки километров уже от своего дома. Он давно не посещал парикмахерской и вообще перестал тратить время на уход за собой, потому спутавшиеся волосы спадали грязными сосульками на впалые, обросшие щетиной щеки. Он мало ел, разве только хлеб и иногда пил из колонки на улице воду. Он совсем перестал спать. Полуодетый, шнырял по дому босиком и нередко по ночам прокрадывался к соседним домам, перемахивая неслышной тенью через заборы. Он стучался в чужие двери, и бежал со всех ног, исчезал, словно призрак и только оглушительный хохот выдавал его с головой. Когда с ним пробовали заговорить, он строил насмешливые рожи и уходил, усиленно махая руками, прочь.
В театре знали, что Артур сошел с ума. Но перед этим он уволился, заявил, что уезжает и устроиться как-нибудь в другом городе. Родных у Артура не было, а невеста погибла в автокатастрофе. Вот по этому-то поводу в актерских гримерных много и жарко кричали, спорили, что это только временное помешательство, авось, вылечат, раз, он рехнулся из-за гибели любимой женщины, а вот, если бы от пьянства, другое дело, тогда уже вылечить трудно, но никто не мог вспомнить, чтобы он пил горькую. Наоборот, пьяниц он осуждал и отвергал всякую дружбу с ними, поговаривали, что его родители были пьяницами, и так и допились до гробовой доски, а Артур вырос потом в интернате. Но вообще-то известие о помешательстве Артура надолго выбило театр из колеи, спектакли играли как-то сумбурно, выкладывались не полностью, и всем было плохо, тошно из-за того, что ничего нельзя исправить. А ведь человек-то он был хороший. Во взоре его жила душа, преисполненная любви ко всем и ко вся. Он был мягкотел и безропотно сносил обвинения в свой адрес, мало ли в актерском братстве бывает шума, люди же эмоциональные. И его невеста, ему под стать, тихая девочка с белыми-белыми волосами заплетенными в косу ходила спокойно, взглядывая по временам на всех печальными глазами.
Много раз актеры всей толпой ездили к нему домой и удивлялись на разрушения царящие во дворе его дома, даже яблони, целый сад, срубленные, валялись тут же, небрежно. Входная дверь всегда оказывалась открытой, распахнутою настежь и в обеих комнатах дома царил полный хаос, вся мебель была разбита вдребезги, тут же под ногами хрустела битая посуда, и топорщился разодранный в клочья палас. Актеры топтались на месте, потом бегали, искали Артура везде, заглядывали на чердак, но найти никогда не могли. Соседи, из-за забора, только плечами пожимали и говорили, поджимая губы, что сообщат куда следует, как бы он дом не спалил, а заодно и их дома. Одна соседка, правда, сказала, что видела его на прошлой неделе, шатающегося, но не пьяного, видела ночью, как он бредет. И актеры решили устроить засаду, чтобы, наконец, поймать его. Остались двое. Перед тем, накупили свечей, потому что и провода, и розетки в доме были выдраны с мясом. Долго вначале прибирались и как-то, все-таки соорудили себе какое-то подобие лежанок. Толстый, уже в летах, актер Владлен К. сразу уснул, не в силах перебороть вечной усталости из-за возраста. А молодой, активный Сашка Л. остался бодрствовать, помогал еще бороться со сном горький шоколад, который он потихонечку грыз кусочек за кусочком. Сумерки легли на землю, но огонек свечи потихоньку разгорался, этакий маячок, приободряя добровольца. Внезапно, открылась входная дверь, и на пороге возник Артур. Вид его был неопрятен и грязен. Сашка приподнялся было, но тут же и сел обратно, остановленный необычайным взглядом Артура, пустым, отсутствующим что ли. Между тем, Артур неверной походкой подошел к Сашке и опустился рядом на пол. Сидел и молчал, и глядел на пламя свечи сухими глазами. И когда уже Сашка хотел ухватить его за плечо и сказать ему слова утешения, потому что очень сочувствовал его горю, он, как будто сам решился сказать нечто важное, решающее, посмотрел горящими глазами, даже приоткрыл губы, но слова застряли в горле и снова повернулся к свече, только во взгляде появилась тревога. Наконец, он вскочил и быстро ушел из дома, даже не услышал слабого вскрика Сашки: «Постой!»
После они с проснувшимся Владленом долго искали Артура повсюду, избегали все улицы и переулки, но ничего, ни единого следа. И более он в свой дом не возвращался, может ходит где-то теперь, позабыв обо всем на свете, позабыв даже имя свое, несчастный безумец, а может уже покоиться на дне какого-нибудь колодца убитый злым человеком, как знать, как знать…
Наблюдалки
Поздний вечер, почти ночь. В последнюю маршрутку, буквально на ходу впрыгивает человек:
– Куда он едет? – спрашивает человек у людей, сидящих в салоне автобуса.
Ему отвечают с иронией, присущей всем русским людям:
– Нешто мы знаем? Едет и едет, куда он, туда и мы!
* * *
Накануне восьмого марта. Народ штурмом берет общественный транспорт. Автобусы переполнены. Час пик. На одном месте сидит девушка, в руках у девушки прелестный букет цветов. Она с наслаждением вдыхает аромат цветов и с нежностью смотрит на видного, хорошо одетого мужчину. Мужчина стоит рядом с девушкой. Но вот остановка. Мужчина берет букет из рук своей спутницы, сухо благодарит и выходит из автобуса. Немая сцена. Присутствующие вопросительно глядят на девушку и понимают без слов, что мужик просто попросил ее букетик подержать, чтобы цветочки в давке не помялись. Девушка отворачивается к окну, уши у нее пылают красным, ее жалеют, но вслух никто и ничего не говорит.
* * *
Большинство людей уже не замечают, когда в общественном транспорте наряду с остановками бодрый голос диктора, записанный на магнитофон, напоминает, между прочим, о бомбах, заложенных в сумках и: «Не принимайте пакеты из рук незнакомцев! Обо всех оставленных вещах докладывайте кондуктору или водителю!»
Народ едет себе на работу и с работы и на нагнетание, старательно выговариваемое незнакомым голосом, доносящимся из микрофонов, не обращает внимания.
Но находятся и таковые, кто не может спокойно вынести, если не дай Бог, пьяница, проспавший свою остановку выскочит едва ли, не на полном ходу из транспорта позабыв при этом свою задрипанную сумку. Остановленный истошными криками, пьяница возвращается удивленный и обрадованный столь заботливыми согражданами, которые, тем не менее, глядят на него с подозрением, уж не террорист ли ты голубчик, говорят их взгляды.
Так вот и в одном доме города Ярославля все прочие проходили себе мимо коробки, позабытой кем-то на площадке лестницы, но нашлись и таковые, что вызвали полицию. А вызвав, ожидали увидеть специально обученную собаку или робота, что поместит коробку в специальный контейнер, но увидели лишь равнодушие в глазах полицейских и еще кое-что, что никак не вписывалось в сознание встревоженных коробкой сограждан.
Попинав коробку, полицаи коробку вскрыли (она была запечатана скотчем), а обнаружив там всякий ненужный хлам (кто-то поленился донести до помойки), обругали всякими нехорошими словами обеспокоивших их граждан (чтобы им пусто было!) и ретировались, оставив коробку на прежнем месте…
* * *
Две блондинки, при встрече оглядывая друг друга, кивают. Первая говорит:
– Хорошую пластику тебе сделали, гляди, как нос укоротили, а был-то шнобель!
– Сама ты шнобель! – обиделась другая и мечтательно добавила. – Смотрю, ты губы увеличила, а то прямо тонюсенькие были!
Вторая презрительно фыркнула:
– Что губы, я рост увеличила!
– Как? – оторопела первая блондинка.
– Как, как! – передразнила вторая. – Гири к каждой ноге привязываю и хожу.
– Где ходишь? – не поняла первая блондинка.
– По дому, – и поджала губы, – пробовала по улице ходить, но ты же, знаешь, многие стремление к красоте не одобряют, преследуют, пальцем показывают, смеются!
И блондинки вздыхают, жалея друг друга, расходятся, чтобы встретившись снова хвастаться модным для данного века достижением – пластической хирургией.
* * *
Две модницы, мать и дочь, напялили на себя джинсы, те самые, что по новой моде непонятно как держатся на бедрах, едва-едва неприличные места прикрывая. И блузки те же, пупки видать. И кто такую моду выдумал? Срам один! Бормочет мужик, с ненавистью бросая взгляды на модниц:
– Сами разделись и ко мне привязались, ты, мол, не модный, ходить с тобой один позор!
Модницы ухмыляются, смотрят снисходительно, дескать, ничего ты не понимаешь, деревенщина не отесанная. Ну, мужик, рассвирепел, заорал на всю улицу:
– Поддался я вам, зачем, не пойму, пьян был, наверное. Не успел по улице двух-трех шагов сделать, как у меня джинсы по швам затрещали, майка задралась, совершенно по вашей ненормальной моде мой толстый живот на показ выставляя.
Повернулся и засеменил, что было мочи прочь, бегом бежать ему тесные штаны не позволяли. А по дороге он дополнительный развал модной одежде устраивал. Модную майку порвал и в мусорку выкинул.
Модницы только вслед поглядели, хмыкнули, чего он понимает, и пошли вилять бедрами, выставляя на показ, обтянутые модной джинсовкой, толстые ягодицы.
* * *
После Нового года, как всегда воспользовавшись пьянством народа, отмечающим новогодние праздники вплоть до Старого Нового года, 13 января, правительство взвинтило цены на продукты, на промышленные товары, на все. В огромном гипермаркете, продавцы лихорадочно заменяют ценники, сверяясь с накладными, пожимают плечами и кивают друг другу, мол, беда!
По магазину мечется ничего не соображающий пьянчужка, заметив новые ценники, он возмущенно требует справедливости, но не получив ожидаемого сочувствия, выбегает на улицу, где предприимчивые бабульки, также как и в горбачевские времена, также как в ельцинские, разложили свою продукцию. Пьянчужка принюхиваясь, осведомляется о цене, качество его не волнует, какое такое качество, когда под видом дорогого коньяка частенько в тех же винных магазинах можно купить спиртовую бурду, подкрашенную крепким настоем чая. Бабульки честно дают попробовать, лизнув с большой столовой ложки содержимое, пьянчужка соглашается на пол-литра, а затем, махнув рукой, берет два литра. Все-таки у бабулек дешевле и ядренее, нежели в том же супермаркете получается!
Заметив на прилавке развернутую газету, с которой на пьянчужку печально и меланхолично взирает глава правительства, пьянчужка немедленно скручивает из пальцев фигу:
– Накуси выкуси! – заявляет он и корчит насмешливые рожи. – Давай-ка, посади меня теперь в тюрьму за оскорбление чести и достоинства!..
* * *
На Украине черте что, вылезли неофашисты, людей убивают. Беженцы толпятся на перроне одного российского городка. Их встречают, сажают в автобусы и отвозят в пионерские лагеря, в летних домиках можно кое-как расположиться.
Тут же полевая кухня, тут же баулы с вещами собранными по миру, тут же стоит дед с нотой протеста в глазах. Он отрезвляет беженцев:
– У нас не лучше! – заявляет он и указывает пальцем на миротворцев. – Побесятся, покривляются перед камерами, а после бросят вас!
Беженцы, уставшие от войны и бомбежек, когда гул самолета в мирном небе российского городка им кажется страшным, вздрагивают, многие начинают рыдать.
Дед не успокаивается:
– А зима придет, куда эти вас поселят? – кивает он на миротворцев, застывших под обличительными речами деда.
Кто-то из беженцев пробует робко возразить:
– Но ваш президент сказал…
– Он много чего говорит, – немедленно подхватил дед, – говорит так долго и непонятно, спасу нет, я успеваю выспаться за время его говорильни!
– Что предлагаешь, дед? – нервно хохотнул один из миротворцев.
Дед оживился:
– Помещик я, собственник!
Ему не поверили, расхохотались.
Но дед настаивал:
– Говорю, помещик! Как эти воры в законе приперлись, так, я землю нашего совхоза всю выкупил, за бесценок отдали, она, мать-кормилица едроссам без надобности! Отстроил коровник, коров накупил, трактора, грузовые машины, пошло дело!
– Да куда тебе, ты же старый! – продолжали не верить деду, окружающие.
– Это теперь я старый, – согласился дед, – а в девяностые был молодой! Сейчас сыны мои в деле!
И он махнул рукой, из тени вышли два дюжих молодца, поклонились людям.
Люди примолкли, соображая.
– Деревня у нас небольшая, народ перемер, – докладывал дед, – молодые не едут, одни старики остались, да и те еле скрипят, а крестьянский труд тяжел, физической способности требует.
– Что предлагаешь, дед? – выкрикнули из толпы беженцев.
Дед деловито откашлялся:
– Для начала возьму на житье бытье двести человек с ребятишками!
– А потянешь? – опять не поверили ему.
– Я подсчитал! – не сдавался дед. – Двести человек с ребятишками. Всех пропишу. Жилье дам, поначалу тесновато будет, но отстроимся, и будет полегче.
– Жилье, какое?
– Избы, – тут же кивнул дед, – все, как есть хорошие, с исправным печным отоплением, дрова на десять зим вперед напасены.
Народ придвинулся к деду, посыпались жадные вопросы:
– А работу дашь? За работу платить будешь?
– Работы много, работников нет, с тем к вам и пришел, – поклонился дед и принялся загибать пальцы, – коровник, свинарник, птичья ферма, да вот еще луга заливные надо косить, а картофельные поля, а луковые, а морковные со свекольными!
Народ молчал и пожирал деда глазами.
– Платить буду, в месяц дважды, как при Советах было. Оформление по трудовому договору с полным социальным пакетом. Зарплата не шибко жирная, но ничего, жить можно! Дома будем строить всем миром, избы есть, но мало, да и семьи у вас разные, так что надо будет отделяться, не все же коммуной жить!
– Так что дед, в коммунизм зовешь? – всплакнул кто-то из толпы беженцев.
– В коммунизм, – немедленно согласился дед, – но коммунизм, такой, какой должен быть по-настоящему, без фальши.
Вместо двухсот работников дед нанял триста да еще с детьми и до самой полуночи отвозил их в свою коммуну на стареньком, но исправном автобусе. Через месяц никто из беженцев дедову коммуну не покинул и к зиме ситуация не изменилась. Ребятишки украинцев пошли в соседнюю школу, располагавшуюся за три километра в соседнем поселке. Так их там и прозвали: «коммунистами»…
Чудо
Настенька родилась не вдруг. Родители ее долго желали ребенка, ходили по врачам. Отчаялись, пошли по бабкам. Отчаяние, наконец, привело их в один храм и старенький священник, усмехаясь в усы над глупостью человеческой, посоветовал им обвенчаться, а обвенчавшись, дать обет Вседержителю, посвятить чадо Богу. Просто и ясно. В деревенской глуши Астраханского края была найдена церковь, где батюшка не стал спрашивать и запрашивать анкетные данные, в советские времена крещения да венчания не приветствовались, а церковники, почти все состояли на службе в секретных службах страны и должны были сдавать верующих властям. На дворе же стоял 1965 год. Венчание прошло тихо и незаметно. А через месяц молодожены узнали, что ждут ребенка. Радости не было предела… В срок, как и положено, родилась дочь, голубоглазое чудо, Настенька. Спокойная, грустная и самостоятельная. Она тихо и незаметно жила, росла. Родители в ней души не чаяли, а прохожие замирали на бегу своих дел, оборачивались, восхищались, аки ангел, говорили они. И действительно, синие глаза ее из-под чернущих пышных ресниц смотрели всегда с пониманием, серьезно. Белокурые волосы восхитительными волнами спускались на плечи и когда солнечные лучи падали на голову Настеньки, казалось, будто нимб сияет… Любила она белые платья, одевалась всегда в светлое и ходила аккуратно, задумчиво обходя непогодные лужицы. По воскресеньям родители отвозили ее на рейсовом автобусе в ту самую деревенскую церковь, где и венчались. Тут уже Настеньку ждали, и даже тосковали по ней все прихожане, и сам батюшка. А она спокойно входила в храм, крестилась, кланялась достойно, не замечая жадных взглядов людей отчего-то влюбленных в нее. Потом Настенька шла на середину храма и тут, как раз напротив царских врат останавливалась, так она себя вела с самого младенчества.
Шло время и всегда немногословная, девочка заговорила с родителями о странных, даже диковинных вещах. Оказалось, она видит ангелов. В церкви, она не случайно выходила на самую середину, там всегда стоял ангел-страж. Величественный, как скала, он внимательно наблюдал за мыслями и чувствами прихожан. Пришел молиться, так молись, а не размышляй о домашних делах и прочей житейской ерунде, так он считал. Настенька видела и прочих ангелов, вечно занятых, серьезных, стремительных. Ангелы всегда все знали, к людям относились, как люди относятся, скажем, к умалишенным и не просто к умалишенным, а к буйно помешанным в своей семье. Тяжеленная ноша, но деваться некуда, надо терпеть все припадки домашних сумасшедших и нести эту ношу…
Конечно, сложновато было такой девочке учиться в советской школе. Но Настенька, оказалась, на редкость умна и никак не показывала сверстникам и учителям своей необыкновенности. Одну только и считали за нею странность. Она не любила компаний, не гуляла ни с кем, не выпивала вина и никак не реагировала на слова влюбленных в нее парней.
И вот наступило сумасшедшее время, которое «умники» обозвали перестройкой. Одно и было хорошо, стали восстанавливаться храмы да монастыри. Настенька, стройная белокурая девушка поступила на филологический в педагогический институт в Астрахани. По-прежнему ездила она в деревенский храм и тот же батюшка уже совсем-совсем старенький, вел службы, а Настенька пела в немногочисленном церковном хоре.
Однажды, в воскресный апрельский денечек, когда весеннее солнышко вовсю заглядывало в окна, в храм зашел незнакомец. И все взгляды почему-то обратились к нему. Его вид очень располагал к себе: он был высок и прям, стройное тело украшала красивая кудрявая голова. Незнакомец к тому же обладал необыкновенными глазами, какого-то изумрудного цвета, обрамленными такими длинными ресницами, что, пожалуй, любая девушка позавидовала бы. И многие женщины, даже видавшие виды, застывали столбом, когда он со своими чудесными глазами проходил мимо.-
– Мечта, – шептали ему вслед.
Он произвел на Настеньку необыкновенное впечатление. Она в непонятном для себя волнении рассматривала его почти в упор, позабыв о приличиях. И ей нравилась его осанка, и костюм, состоявший из какой-то блестящей черной ткани. Причем пиджак был сшит по самой его фигуре, ловко подчеркивал его сильные плечи и руки, обнимал его за стройную талию и убегал к блестящей пряжке кожаного ремня удерживающего просторные брюки. Он имел не только приятный вид, но и голос, тихий, словно шелест ветра, он заставил Настеньку отчего-то внутренне задрожать. Незнакомец что-то просил у священника. Служба давно закончилась и все прихожане должны были бы разойтись, но ведомые еще и странным любопытством, многие остались в храме из-за незнакомца. Он притягивал взоры людей. Почему-то всполошился ангел-страж. Настенька отчетливо увидела, как страж угрожающе шагнул, незнакомец испуганно оглянулся, и сразу же пошел к выходу, далеко, по стенке обходя грозного ангела. Настенька видела, как незнакомец коротко и боязливо взглядывал на стража. Секунда-другая и она, не помня себя, понимая, что вот сейчас этот мужчина уйдет, бросилась к выходу. С нею творилось что-то непостижимое, неуправляемая сила любви с первого взгляда, заставила ее погнаться по дорожке мимо кладбищенских плит за незнакомым мужчиной. Он передвигался очень быстро, только в воротах она сумела его настигнуть. Он услышал, обернулся и остановился, поджидая ее.
Она догнала и не знала, что сказать, только смотрела. Перед нею стоял высокий молодой мужчина, чрезвычайно красивый, с печальными зелеными глазами и пышной шевелюрой кудрявых волос. Настенька не смело улыбнулась ему. Тогда незнакомец, как бы в знак доброго расположения, подал ей крупный оранжевый апельсин, каким-то чудом оказавшийся у него в руке. Настенька осмелела и спросила, что у него за дело было в храме? Мужчина же ответил тихим, как шепот листьев, голосом:
– Я ангел Адонаи. Крылья у меня отняли за душу, которую я погубил. Я просил священника помолиться за нее. Я любил ее и люблю. Она погибла от пристрастия к пьянству, а я не смог ее спасти и теперь обречен скитаться неприкаянным по Земле, а она обречена мучиться в геенне огненной, как видно придется пойти на поклон к Сатане…
И он заплакал, отвернулся, сотрясаясь в рыданиях, весь сгорбившись от страшного горя, и ушел, медленно истаивая посреди весеннего дня, как туман, как слеза, как не знаю что… Настенька после этого непонятного случая институт свой бросила и ушла послушницей в монастырь, где продолжила свой духовный путь уже инокиней, и часто-часто в ее молитвах слышна была просьба помиловать того ангела, помиловать и все тут…
Люди
В доме было прохладно, пахло сырой древесиной, прибитой водой пылью.
У раскрытого окна росли огурцы, цепляясь за нити, протянутые от подоконника до потолка, они вьюнами взвились кверху, заслоняя широкими листьями комнату от зноя. С огурцов капало, Валентина только что обильно обрызгала и полила свои любимые растения.
Валентина – это хозяйка дома, крепкая, ядреная баба сорока лет. Стоя перед зеркалом, красным, остро заточенным карандашом, очертила полные губы, нанесла блеск и откинулась немного назад, придирчиво изучая, хорошо ли получилось?
В этот самый момент чья-то рука с длинными пальцами осторожно просунулась между листьев и бесшумно сорвала огурец. С улицы донеслось довольное чавканье, следом дребезжащий противный голос доложил:
– Валька, я у тебя все огурцы пожру!
– Жри, коли охота пришла! – равнодушно обронила Валентина, скинула халат и переоблачилась в платье.
За окном, между тем, что-то происходило, слышалась возня, сердитый шепот и звуки ударов.
Валентина ни на что не обращала внимания. Вышла на улицу, словно королевна, гордо задрав голову, прошла мимо двух мужиков, отчаянно боровшихся за место возле ее окна.
Оба тут же бросили свое занятие и последовали за женщиной. Но необходимые в такой ситуации прибауточки замерли у обоих на губах, потому что навстречу Валентине откуда ни возьмись, вышагнул Боровицкий, председатель совхоза.
Боровицкий – подтянутый, одетый под Сталина, всегда мрачного вида вида. Лицо у него было бледное с болезненной синевой вокруг глаз. Смотрел исподлобья, никогда не улыбался, подавал для рукопожатия только два пальца. И после косо смотрел, не одобряя поклоны и ужимки встреченного им человечка.
– Валентина! – строго окликнул он ее.
В ее глазах мелькнула досада.
– Ты почему не на работе? – продолжал допрашивать, а сам щупал, глядел на ее груди, которые сама Валентина в шутку называла коровьим выменем.
– Как раз направляюсь! – и пошла, не дожидаясь очередной реплики.
Вслед ей смотрели трое. Один, внешне спокойный, но с плотно сжатыми тонкими губами, вздернутым кверху подбородком, с фигурой выражающей такую надменность, что, боже ты мой!
И схоронившиеся за пышным кустом двое обожателей, спрятавшиеся от грозного председателя, но не от Валентины, Валентиночки…
Вечером после трудового дня, Валентина выкупалась в реке. Взобралась на мокрый камень, уселась, болтая ногами в воде. Теплые лучи заходящего солнца выхватывали яркую зелень тины покрывающей дно и серые тени полупрозрачных рыбок медленно проплывающих у поверхности.
– Валька, а председатель-то наш в тебя влюбился! – хохотнула подруга, ласточкой прыгнула в воду, подняв тучи брызг.
Подошли женщины, усталые после работы в поле, с удовольствием принялись купаться. Естественно, голышом.
На той стороне реки как ждали, объявились два давешних ухажеров.
– Ой, бабоньки! – заблеяли.
Нисколько не смущаясь, женщины перешли в наступление. Тучи брызг полетели в нахалов и нахалы ретировались, оставив женщин в покое.
Двое бежали, но один остался. Теперь он хоронился за кустом. И глядел, глядел, глядел. Незаметно наступили сумерки, на землю опустилась благословенная прохлада. Со стороны реки донеслось кваканье лягушек, в траве заверещали сверчки.
– Ну, пошла жизнь! – воскликнул Боровицкий с досадой, Валентина с реки ушла.
Звезды мерцали в далекой вышине, призрачные облака беззвучно летели по ночному небу, когда Валентина, наконец, переступила порог своего дома. Сладко потянулась, переоделась в ночную сорочку и нырнула в постель.
А Боровицкий все шел. Он исходил поселок вдоль и поперек, за думами не заметил, как быстро кончилась мостовая, под подошвами ботинок захрустел гравий. Передернулся от омерзения, стойкое ощущение, что идет по костям отчего-то возникло в его душе. Возле дома Валентины остановился, прислушался к тишине, но тут же напрягся, обнаружив прежних приятелей в попытке заглянуть в открытое окно. Мужики друг друга подсаживали, сменяясь, смотрели сквозь листья огуречных зарослей на спящую бабоньку. Заметив председателя, резво перескочили через забор и ушли огородами от праведного гнева главы совхоза.
Потоптавшись немного, Боровицкий не утерпел, подтащил к окну садовую скамейку, влез и уставился на Валентину. И глядел, глядел, глядел… Лишь под утро, опасаясь, как бы кто не увидал, слез со скамейки, отправился домой.
Жил Боровицкий один. Дом содержал в чистоте. Аккуратными рядами вдоль стен тянулись в гостиной полки с книгами. Продолжение этих полок было в спальной и на кухне, где посредине соснового стола стоял глиняный кувшин, доверху наполненный молоком. Рядом с кувшином в плетеной вазочке истекали малиновым соком пышные пироги.
Об одиноком председателе заботились местные женщины. Некая тайная поклонница уже побывала в апартаментах завидного жениха и оставила вкусный завтрак. Благо двери у поселян никогда не запирались и дверные замки, выложенные на прилавке сельпо, оставались не востребованными. Уходя на работу или в магазин, некоторые просто наматывали на дверную ручку веревочку как знак, дескать, хозяина (ки) дома нету.
Воры с их воровскими законами были далеко, о воровстве никто и не слыхивал, на дворе была советская власть, а стало быть, государственная. Люди жили ровно, никто не стремился урвать побольше, закатать в могилу родственников и прибрать к рукам их жилища. Избы часто чинили всем миром, объединяясь, помогали старым одиноким людям и пионеры каждодневно шефствовали над инвалидами, активно подражая гайдаровским тимуровцам.
Валентина не отставала от общины, а заходила с утра пораньше, иногда до рассвета, в избу к бабке Матрене, что жила по соседству. Бабка на старости лет ослепла, компанию ей составил муж, дед Федот. Дед ходил со слуховой трубкой похожей на пастуший рожок, приставляя к уху, он громко говорил:
– А ты ори мне в трубку-то!
Федот к девяноста годам совершенно потерял слух и убивался, что более, никогда не услышит пения соловьев.
– Соловушку бы послушать! – мечтал дед, прикрывая глаза.
– Ишь надумал! – ворчала бабка, ощупью пробираясь по дому. – Тут кабы самим выжить, слава Богу, люди помогают!
У деда Федота кроме глухоты была проблема, он никак не мог согнуть руки в локтях, а ноги в коленях. Замучил ревматизм. Передвигался дед Федот с тростью, а то и с костылями, так ему было легче.
Валентина заходя в избу, тут же сноровисто разводила в печи огонь, варила старикам кашу на завтрак и суп на обед. Быстренько выметала веником сор, протирала пыль и мыла полы.
Старики были ей рады. Называли дочкой и неизменно по ее уходу всплакивали, страдая по двум сыновьям и единственной дочери, погибшим на Великой Отечественной войне.
Их сердца готовы были расколоться еще и потому, что Валентина приходилась подругой погибшей дочурке, в семнадцать лет сбежавшей на фронт медсестрой, в санитарный поезд. Вот этот самый поезд разбомбили фашисты, дочь схоронили чужие люди и где могилка? Неизвестно! Сыны погибли на чужбине, хотя и дошли до самой Германии, схороненные где-то под Берлином, конечно, как до могилок добраться? Никак!
Валентина после трудового дня стремилась к соседям. Готовила ужин, стирала, гладила. Заходили пионеры, вместе с тимуровцами натаскивала воды в большие бадьи из колодца, колола на зиму дрова, грабасталась на огороде, пропалывала, поливала. Зимой дел не убавлялось, приходилось очищать крышу от снега, расчищать двор. Но Валентина не унывала и не сдавалась.
На вздохи стариков о деточках, она только рукой махала. Давно, еще на трудовом фронте, когда к ним в поселок эвакуировали военный завод, произошло несчастье, прервавшее все надежды и мечты юной Вали. Стальной брус, упавший на живот повредил внутренние органы и хирурги печально покивав головами, вынесли вердикт, никогда ей не быть матерью.
А раз не быть матерью, так зачем все остальное? И Валентина отмахнулась от редких, но назойливых приставаний охочих до любовных ласк мужичков. Да, мужчин было мало, почти всех убили во время войны, но ей-то какое до этого было дело?
И потому визит председателя совхоза, нелюдимого и угрюмого Боровицкого стал для Валентины откровением.
Боровицкий пришел в сумерках. Сразу выложил на стол коробку конфет и начал без предисловий о своем желании жениться на ней. Говорил о жене и сынишке попавших во время войны под бомбежку, говорил об одиночестве и любви к Валентине. И смотрел на нее, смотрел, между тем, утверждая, что люди должны быть вместе, для того они и рождены людьми.
– Вместе, – задумчиво повторила Валентина.
Свадьбу они справили через три месяца, почти зимой, а после взяли из детдома двух мальчиков и девочку, которых немедленно захватили в жаркий плен радостных объятий дед Федот и бабушка Матрена.
И только двое неудачливых ухажеров по привычке забредая на улицу своей зазнобы вздыхали, с завистью глядя на ярко освещенные окна дома, сетуя с горечью на свою судьбину и Валентину оказавшую предпочтение угрюмому, но, вероятно, настоящему мужику и хорошему хозяину, Боровицкому.
Безумие мое
Дар эмпата – самый тяжелый дар, какой только может достаться человеку, порой нельзя понять, где твоя собственная жизнь, а где чужая…
АвторВот уже, сколько мне лет? – Сорок скоро будет, а любимого все нет. Как и у многих русских, конечно же, был брак, но распался, остался сын на шее, без поддержки со стороны так называемого отца. И с недоумением встречая, иногда эту личность на улице, бывшую когда-то моим мужем, думаю, а что в нем? Ведь ничего! И прохожу мимо, даже не поздороваюсь. Сын для него, как чужой, ни одного подарка не подарил, ни разу не заплатил алименты. И не заплатит никогда, не мужик, а баба, склочная, грязная, опустившаяся баба с истериками и склонностью к алкоголизму. А где же он, мой любимый, моя половинка, где?
С детства я жила в мечтательном мире полном выдуманных героев и легенд. Книги были моей страстью. Я научилась читать очень рано, едва ли не в пять лет. И в восемь, прочитывала толстенные книги часа за два, понимая весь смысл, запоминая текст надолго, хотя скорочтению меня никто не учил. Я записывалась во все детские библиотеки города и однажды, идя с раскрытой книжкой в руках домой, ощутила нечто небывалое. Да, я читала на ходу, рискуя запнуться и упасть, но как-то, все-таки довольно благополучно добиралась до дома, успевая прочесть по дороге страниц десять… И вот в момент, когда герои какой-то легенды сражались с драконом, я, прямо перед собой увидела полутемный зал с рядами деревянных кресел и скамеек, а опустив глаза, разглядела не буквы книги, хотя ощущала ее в руках, а сцену. Увидела стертые половицы, изучила выпирающие кое-где шляпки гвоздей. В моих мыслях прозвучал предстоящий концерт, который я должна была провести на этой сцене, должна была пропеть популярные песни советских исполнителей. Но самое главное – я ощутила себя мужчиной двадцати девяти лет. Поняла пространство вокруг. Я находилась в старом деревянном клубе с русской печью в углу зала. Почувствовала своих друзей, музыкантов из филармонии, готовившихся к выступлению в большой гримерной, за сценой и… рухнула в обморок.
Дома, я никому ничего не сказала. Отец мой, к тому времени погибший алкоголик, лежал в дурдоме и следующей я быть не желала. Со своим малым опытом жизни, всего лишь в восемь лет, я испуганно обдумывала произошедшее со мной и неизменно приходила к выводу, что сошла с ума. Нигде, ни в одной книге не описывалось ничего подобного, и информацию мне взять было неоткуда. И потому я решила молчать и скрывать всячески грядущие наваждения, которые не замедлили объявиться.
Часто, я видела сцену и зрителей. Бывало, ощущала запахи портвейна и водки. Он пил после концертов. Перелом произошел в 1986 году, когда мне исполнилось пятнадцать. И я решила бороться с чужой, неизвестно откуда берущейся жизнью, и он, в то же самое время, бросил пить. Перешел на кофе. Запах кофе был намного лучше запаха пойла, но все же… Кофе он варил по специальным рецептам и пил постоянно, в связи, с чем не спал по ночам часов до трех утра. И потому, посреди ночи я просыпалась от гула голосов и звуков рояля, и плакала в бессильном отчаянии, заглушая рыдания подушкой, чтобы мои домашние не услышали, мне безумно хотелось спать.
В это же время случилась еще одна странность. Дело в том, что я совершенно не умею шить, нет, ни интереса, ни таланта, к тому же я левша. Но тут, я стала просыпаться ночью и на полном серьезе, долго обдумывала пошив концертного костюма, видела перед собой миллиметровую бумагу, цветной мелок, нитки с иголкой, ножницы, блестящую белую материю. Он шил весьма умело… Мне было очень тяжело. Мало того, что детство мое прошло в сумерках и дурмане чужой жизни, так еще и юность могла погрузиться в уныние и зависимость от неведомого мне человека.
Я была обречена либо сгинуть, задавленная энергетикой этого мужчины, либо бороться и одержать над ним верх. Конечно, найти бы его и стряхнуть с себя прилипчивую сущность, кажется, чего проще? Но попробуй, найди! Россия большая, филармоний много…
Одним словом, решила бороться. Если до того, я вела вялый, затворнический образ жизни, то тут, напротив, начала активный, даже бешеный ритм. Учеба, работа, с утра до ночи я старалась занять себя так, что, как говорится, колесом вертелась. Постепенно, действительно избавилась из-под опеки незнакомца. И только изредка слышала его мягкий бархатный голос, слышала распевки и гул голосов его друзей по ночам…
Перемена произошла быстро. И тут до меня стали доходить его мыслеформы. Он стал задумываться о вещах, которые волновали меня. И я ловила удивленные отголоски его мыслей о деле, которое ему совершенно было не присуще. Наряду с работой в журналистике, я много времени уделяла собранию своего первого сборника рассказов. И он ни с того, ни с сего стал задумываться о написании книги, мечтал, бурно обсуждал эту идею с друзьями, а потом бросил, писательского дара у него не оказалось… Но я возрадовалась, что могу управлять им, как он раньше управлял мною! Естественно, я не стала пользоваться таким даром, разве, что блокировала его нападки на меня, которые он производил, как видно, невольно, но все же меня мучил вопрос, кто же он, кто?
Я никогда не видела его внешности, но однажды мне повезло, в один краткий миг в зеркале я увидела его глаза, красивые, миндалевидные, с длинными черными ресницами, блестели темно и загадочно. И я узнала его, известного, знаменитого на всю страну артиста…
Житейское дело
Про Леню Дуботолкова можно было сказать одно, застенчивый и робкий, романтик, сочиняющий любовные стишки с посвящениями таинственным К. и М.. Впрочем, М. стихов посвящено было все-таки больше.
Мариночка Лапшина жила в его сердце, а к К., то бишь, к Клаве Сумеркиной он охладел, как только увидел ее с кавалером. Мариночка пока была одна, не востребованная, она, печально улыбаясь, ходила в школу и из школы, играла на пианино и звуки шопеновских вальсов, долетая до слуха ее тайного воздыхателя, живущего в доме напротив, а именно Леню, заставляли браться его за перо.
В день рождения Мариночки, в день ее шестнадцатилетия Леня начертал на асфальте, используя малярную кисть и белую эмаль, предназначенную родителями Дуботолкова к покраске кухонной двери, рифмованные строчки полные нежности и любви и подписался: Твой Л. Д.
И Мариночка потеряла покой. К поискам неизвестного поклонника с инициалами Л. Д. присоединилась и ее подруга, Клава Сумеркина. Вскоре, обе пришли к выводу, что поздравить столь оригинальным способом мог только один человек, почти выпускник, звезда школы, супермачо, Лев Дементьев. Лев, под стать своему имени носил пышную гриву и на вопросы об армии, которая светила ему сразу после выпускных экзаменов насупившись, говорил:
– Служить не буду! Нашли дурака. Пускай набирают профессиональную армию, платят зарплату, а то повадились бесплатно эксплуатировать!
– Что же ты, бегать будешь? – спрашивали его.
На что Лев усмехаясь, отвечал:
– Чего проще! Все равно от родителей отдельно жить придется, а в съемном жилье кто же меня найдет? Тут и десять лет пройдет, а после штраф уплачу, вот и вся недолга! Отстанут!
Наполеоновские планы Льва смущали сердца многих школьников воспитанных в духе пропаганды партии власти, как известно рекламирующих спорт и служение Отечеству. Не смущали они только Мариночку. Она нисколько не сомневалась в правильности решения своего избранника и готова была сию секунду ехать с ним скрываться от представителей военкомата хоть в ту же Сибирь, но Лев не обращал на нее никакого внимания. Ее благодарный лепет за стихи на асфальте он воспринял негодуя и сухо посоветовал поискать поклонника в другом месте.
Мариночка присела в ужасе от реальной действительности, но от Льва не отставала, а объяснила себе его поведение излишней скромностью.
Впрочем, Лев жил, как жил, а вот Леня Дуботолков сходил с ума от ревности и в один прекрасный день решился на отчаянный для себя поступок.
Подошел к подъезду дома возлюбленной. Сутулясь, понурой походкой, будто на эшафот взобрался по ступеням лестницы. Долго стоял перед дверью, прислушиваясь к шуму льющейся воды и лепетанию телевизора в квартире. Наконец, поднял враз потяжелевшую руку и позвонил.
Сильное волнение охватило его, когда она открыла двери. Робко взглянул и остолбенел. Вместо Мариночки стояла перед ним толстая нагловатого вида тетка, в вызывающе коротеньком халатике, едва прикрывающем внушительные габариты, беззастенчиво выставляющем на показ рыхлые ляжки.
Тетка жевала яблоко, с хрустом, смачно откусывала кусок за куском и оглядывала пришедшего гостя так, как иные в магазинах одежды прицениваются к каждой пуговице на новом пальто.
– Мне бы Мариночку, – жалобно попросил Леня.
– Маринка! – загремела тетка на весь дом. – Выдь из комнаты, к тебе приперся какой-то!
– Кто? – издали послышался мелодичный голосочек Мариночки, от которого у Лени сжалось сердце.
– Не жених – точно, – продолжила греметь тетка, – уж больно неказистый, разве что привыкнешь.
И отступила со своим яблоком, давая проход Марине.
– Ты? – удивилась она однокласснику. – Чего тебе, Дуботолк?
Робея, заикаясь и запинаясь на каждом слове, Леня выговорил:
– Это я тебе поздравление на асфальте написал.
– Ты? – еще больше удивилась Марина. – Зачем?
И смотрела непонимающе.
Сам не зная как, на деревянных ногах, Ленька повернулся и пошел прочь, с трудом, но все же осознавая свою никчемушность.
Да, конечно, куда ему было до красавца Льва Дементьева, но все же тетрадку со стихами пришлось забросить в ящик постельного белья, потому как вторая любовь Леньки, Мариночка Лапшина добилась-таки внимания Льва и они вдвоем принялись гулять, демонстрируя всей школе свою влюбленность и привязанность друг к другу.
…Прошло время и Леня, засыпая и просыпаясь, прежде всего, вспоминал, что он уже не школьник, а свободный человек и, стало быть, ему не надо более торопливо вскакивать с постели одеваться, опасаясь опоздать к первому уроку.
Родители у Лени чрезвычайно демократичные люди оплатили переобучение сына и вскоре окончив курсы иностранного языка, он научился разговаривать, читать и писать на английском. Выправив соответствующие документы, Леня устроился на работу в США. Прожив в Америке три года, Леня сменил гражданство с русского на американское и поехал за родителями.
На душе у него было пусто и светло. Двухкомнатная квартира, которую он арендовал за небольшую плату у частника, в четырехэтажном кирпичном доме, была готова принять его папу и маму. Беспрестанно зарабатывая на подработках, Леня самостоятельно освоил некоторые компьютерные программы и устроился в крупную кампанию на хорошую должность с окладом в несколько тысяч долларов. Родители паковали чемоданы и прощались с родиной. И надо же было такому случиться, что первым человеком с кем пришлось попрощаться, в том числе и Лене, оказалась Лапшина. Мариночка, вторая его любовь, первая, Клава Сумеркина, по слухам вышла замуж за военнослужащего, родила двоих детей и жила где-то в военном городке, бог знает где.
Маринка, не замужняя, но и не одинокая, так школу и не закончила. Лев заделав ей ребенка, бежал, скрылся, где-то на просторах страны, благо, Россия большая. Маринка, под давлением матери, той самой нагловатой тетки, родила, но от ребенка отказалась.
И теперь похудевшая, похорошевшая с циничным взглядом полным материальной выгоды допрашивала Леню на предмет его свободного жития в Америке.
Леня нутром почуяв опасность, мысленно загородился от нее и на все вопросы отвечал так, что она, наконец, отшатнулась, с презрением в голосе, высказалась:
– Так ты клетки за львами убираешь? Служишь обыкновенным уборщиком? – и скривилась, не скрывая отвращения. – Зачем же тогда было в штаты уезжать, мог бы и здесь соответствующему твоему вкусу работенку отыскать!
И ушла, недоумевая. Так они и расстались, уже навсегда.
Отец Лени, слышавший весь разговор, хитро прищурился:
– Почему зоопарк?
– А первое, что в голову пришло, – отмахнулся Леня.
– Понимаю, – кивнул отец.
Более они к этой теме не возвращались, целиком посвятив себя задаче посерьезнее, новому местожительству.
Правда, тетрадку со стихами Леня все же сохранил и изредка перечитывая романтичные стишки усмехался своей почти детской наивности и вере в любовь. Спустя годы ему все же посчастливилось создать семью, но это уже другая история, а пока что закончим на этом…
Сашка
Снегу за зиму скопилось невиданное количество. В Деревне боролись со снегом днем и ночью. Вывозили на санках с огородов в овраги, ссыпали на дорогу. Но все напрасно. С наступлением весны стало ясно, что Деревню затопит. И проходя со станции по утоптанной тропинке, прохожий человек с ужасом обозревал занесенные снегом поля, зная, что ежели оступится, непременно уйдет под снег по пояс, а в иных местах и по шею, и потом будет барахтаться, и вылезет только, если обопрется о твердую тропинку, будто из какой трясины.
Скоро жители Деревни засобирались прочь. Они забирали живность: коз, кошек, собак, упаковывали ящики с квохчущими курами и петухами и вывозили на нанятых грузовиках, как самое ценное. Некоторые вывозили скарб, гремевшую в коробках посуду и мягкие диваны, но таких было немного. В Деревне больше жила беднота. А Сашка и вовсе осталась сиротой. Отец спился и умер. Вслед за ним пропала мать, долго искали и нашли весной, когда сошел снег, неподалеку от Деревни, заблудилась пьяная в трех соснах и замерзла насмерть. Старая бабушка, пожевав беззубым ртом и поплакав над пятилетней внучкой, взялась ее растить. Сашка закончила восемь классов и похоронила бабушку. С неполным образованием устроилась работать почтальонкой на деревенскую почту.
Может быть, тяжелые переходы, иногда по нескольку десятков километров, а ей приходилось таскать письма и газеты в соседние деревни, может быть отсутствие родителей и всяких ограничений заставили Сашку, поначалу, искать разгула и развлечений. Но скоро она разочаровалась.
Она не принадлежала к тем странным особам, легко впадающим в истерику и любящим накручивать себя до безумия, если, допустим, возлюбленный позабудет позвонить и поздравить с днем рождения. Она не страдала также излишней слезливостью и не заливалась слезами при просмотре кинофильма с печальным сюжетом. Она не предавалась отчаянию и не считала, что ее жизнь проклята. О нет, она скорее с недоумением оглядывалась на таких девиц довольно плотно проживающих в Деревне. Хотя чаще она наблюдала каких-то многоопытных и в пятнадцать лет все знающих. Они обязательно пили портвейн и курили дешевые сигареты, они презрительно плевали себе под ноги и оценивающе оглядывали любого подошедшего к ним мужчину. И, если мужчина был хорошо одет, с ним разговаривали, а если плохо, подчеркнуто отворачивались и громко, издевательски хохотали над подошедшим, вгоняя его в краску беспардонными выражениями и выводами.
Сашка скоро отстала от компаний, они ей стали не интересны и скучны.
Была она смуглой, почти черной от солнца. Ей по роду работы часто приходилось бывать под приставучими лучами светила. Лицо ее уже вытягивалось в нечто женское, но все еще сохраняло следы ребяческой наивности. Худое, гибкое тело она прятала в мужскую одежду, брюки и рубашку. Собственно, ей так удобнее было гонять на черном огромном велосипеде по пыльным дорогам, развозя почту и пенсии. Велосипед она купила с первой же зарплаты, железный конь весьма серьезно ей помогал, так как ногами было не измерить все тропинки и дороги, которые ей необходимо было измерять. И сколько бы ей ни говорили грудастые доярки, в изобилии населяющие Деревню, что она – девушка и, стало быть, должна носить юбки и платья, Сашка лишь резко мотала головой и закусывала губу с независимым видом. Из всего девического, она любила длинные волосы и всегда заплеталась в две косы, спускавшиеся по спине и ниже. Волосы у Сашки были русые, а косы толстые. Коротко остриженные, потерявшие в химических завивках половину своих волос, доярки отчаянно завидовали ей и часто советовали подстричься по-модному, втайне надеясь, что она согласится и, стало быть, потеряет такие шикарные косы, станет, как все. Но Сашка только строптиво поджимала губы, задирала нос и все таскала свои косы, вечные, как и мужская одежда на ней.
Она легко носилась по тропинкам на своем драндулете, легко скакала по дому напевая лирические песенки и с упоением занималась уборкой, так что пыль еще долго кружилась по комнате, тихонько оседая на прежние места. Готовить она не любила. Заменила все каши и супы кружкой молока утром и кружкой молока вечером. Молоко она покупала на ферме, а то бывало, доярки и бесплатно наливали ей бидончик. Иногда Сашка покупала в магазине круглый каравай и ела, по кусочкам отщипывая. Летом она засевала огород укропом, луком и морковью, растила чуток картошки, так на всякий случай, чтобы соседские старухи ее совсем с ума не свели вздохами о ее худобе и сиротском житье бытье. Зелень она любила и засаливала, бывало, много банок укропа на зиму.
Правда, Сашка ходила на рыбалку. Она сама рыбачила. Удочки остались еще от ее отца, тоже заядлого рыболова. Пойманную на реке крупную рыбу не чистила, а запекала в костре, тут же ее и съедала, выбрасывая кости обратно в речку. Маленьких рыбешек, каких в обыкновении рыбаки таскают кошкам, она сразу выпускала обратно, в воду, котов, впрочем, как и собак у нее не было вовсе. Животные жили мало и их было жалко хоронить. И потому Сашка предпочитала не прикипать ни к кому сердцем, а выходила только рано утром из дома во двор, насыпала зерна в самодельные кормушки, висящие почти на всех деревьях и хихикала из-за тюля, наблюдая за веселыми птичками слетающимися на угощение. Большего удовольствия она почти не знала, разве только кино, которое привозили в клуб раз в неделю. Тогда вместе с детьми она усаживалась на деревянный пол, перед переполненными первыми рядами, лузгала семечки, смотрела и наслаждалась. Телевизора у нее не было, даже черно-белого, разве радио, которое она слушала в пол-уха. И кино для нее было окном в другой мир, о котором она практически ничего не знала, нигде не бывала и видела разве что деревни в округе. Никогда не бывала в городе, а лишь смотрела на киноэкране, открыв рот, очередной киножурнал с городскими жителями. Оглядывалась на деревенских, побывавших в городе, у своей родни, как на некое чудо. Она не знала, что такое поезд и не могла понять электричек. Бывало, она делала крюк в пятнадцать километров и подъезжала на велосипеде к железнодорожной станции, пристраивалась под каким-нибудь кустом, надолго замирая, зачарованно глядела в окошки проносящихся мимо нее поездов дальнего следования, ни о чем не думая, а только следуя всей душой за пассажирами и их мечтами…
Сашка была еще абсолютным ребенком. И глядя на толстых доярок с громадными грудями, едва втискивающимися в большие бюстгальтеры, жалела их и не понимала ни их устремлений к мужчинам, ни их интимных интересов. Она сторонилась откровенных разговоров и брезгливо морщилась, когда при ней начиналась тискотня и пыхтение, потому и в клуб перестала ходить.
Она ценила в связи с этим общение с откровенной мелюзгой, ценила чистоту их помыслов.
И потому, как-то само собою получилось, что при эвакуации Деревни Сашка осталась в своем доме. Никто ей не предложил руку помощи, никто не подумал о Сашке. Каждый печалился о спасении собственной шкуры и пекся о своем барахле, что впрочем, свойственно, русским. Сашка долго глядела вслед последнему грузовику. А потом легла спать. Она как-то не особенно расстроилась, что ее позабыли.
Всю ночь на реке трещал лед, а с крыш капали сосульки. Утром же река вышла из берегов.
Повсюду заблестела, замерцала вода. Весеннее половодье, как-то сразу затопило дом и вода весело булькая, перекатываясь через порог, вовсю захозяйничала в комнате. Деревянные стулья, скамьи, табуретки, столы, все это плавало, неторопливо закручиваясь в воронки и стукаясь об стены комнаты.
Сашка растерянно ходила посреди затопленного дома. Резиновые сапоги давно уже не спасали, вода была выше колен и все прибывала. Она взглянула в окно.
Огород целиком скрылся под набегающими с полей и с реки весело-журчащими волнами. Волны несли с собою клочья травы, островки вырванной с корнем земли, сломанные ветки с набухшими почками, остатки льдин.
После недолгого раздумья и наблюдения за свихнувшейся природой Сашка все же взяла себя в руки. Надо было что-то предпринимать и она, распахнув двери в сени и дав тем самым доступ воде еще стремительнее затапливать дом, полезла по лестнице вверх, на чердак. С чердака через слуховое окно неустойчиво махая руками, взгромоздилась на крышу, обняв руками конек, Сашка принялась скептически поджимая губы, обозревать окрестности.
Вода была повсюду. Дома в низине, возле реки утонули вовсе, и даже крыш было не видать. В середине Деревни еще ничего, вода подобралась лишь к крышам. Но по всей вероятности, вскоре и ее дом, стоявший на пригорке, окажется под водой.
Она наморщила лоб, обдумывая создавшееся положение. Вдруг, мимо проплыл человек. Он широко раскинул руки и ноги. Его крутило и стукало обо все, что ни попадалось на пути. Сашка близоруко сощурилась, вглядываясь, похоже мужик утоп, он лежал в воде лицом вниз. Но может еще не утоп, а захлебнулся и можно откачать? Сашка быстро полезла вниз, а спустившись на землю, с крыльца, поплыла, так как уровень воды достигал уже до груди, и плыть было бы гораздо быстрее, нежели идти, преодолевая трудную задачу сопротивления весеннего наводнения. Мужика прибило к забору еще чудом удерживающегося на месте. Сашка веря в то, что мужик жив, плыла быстрыми саженками. Судьба послала ей подарок. Откуда-то принесло лодку с веслами. Сашка живо перевалилась через борт и не чувствуя холода ледяной воды, схватилась за весла. Пока она возилась с утопленником, втаскивая бесчувственное тело в лодку, боялась взглянуть в лицо, боялась узнать кого-нибудь из деревенских. Но втащила, немедленно села ему на живот и начала делать искусственное дыхание.
Мужик был незнаком, очень светлокожим и каким-то странным.
Начнем с того, что он был голый и Сашка старалась вовсе не смотреть вниз, а с надеждой вглядывалась ему в лицо. На лице виднелись царапины и синяки, как видно ему досталось в половодье. Незаурядного роста, он занимал не только всю лодку, но еще и свешивался ногами, задевая голыми пятками бурлящую воду. На спине, на груди у него, правда, были остатки какой-то одежды, похожие на рыбью чешую, испещренные оранжевыми и бардовыми полосками, напоминающими тигровую шкуру. Закрытые глаза казались очень большими и Сашка не без недоумения разглядывала их, стараясь определить, какого они могут быть цвета. Небольшой нос с очень незаметными ноздрями, как бы закрытыми для доступа воздуха она вообще не смогла понять. Губы были розовыми, но очень тонкими, а рот казался чрезвычайно большим. Сашка не обращала внимания на руки и на ноги утопленника, хотя и усиленно махала его руками, пытаясь заставить легкие дышать, но в какой-то момент ее найденыш пришел в себя и потер, абсолютно естественным движением, очухивающегося человека себе лоб, Сашка тут же вскрикнула. Руки, также как и ноги заканчивались серо-зелеными перепонками.
Существо очнулось, село и уставилось на Сашку матово-черными глазами. Мгновение, оно рассматривало онемевшую от ужаса Сашку, после обернулось, оглядело затопленное пространство и снова повернулось к девчонке. Какая-то мысль мелькнула в его глазах.
Он пристально и придирчиво оглядел ее фигуру с налипшей мокрой одеждой, протянул руку и потрогал ее маленькую грудь. Сашка вскрикнула, брезгливо отбросила от себя эту руку. Существо оживилось и стремительно, сильно обхватив Сашку, быстро и бесстыдно ощупало ее всю. Его большие черные глаза сверкали от плохо скрываемого возбуждения. Сашка, сгорая от негодования, принялась отчаянно драться с ним и после недолгой возни, выпихнула вон из лодки. С всплеском, он ушел под воду. Вынырнул, глянул пристально ей в самые глаза, нырнул и поплыл под водой неожиданно быстро, в сторону реки. Она глядела ему вслед. Пару раз он выныривал, обращая на нее озабоченный взор черных глаз…
Сашка лихорадочно схватилась за весла. Надо было выгребать к сухой земле, искать людей. Надо было срочно спасаться. У нее почему-то появилось твердое убеждение, что он еще вернется. Она покрутила в недоумении головой, сколько ходила на реку, сколько купалась там, находя укромные уголки, без одежды, голышом, а даже представить себе не могла, что там такое проживает.
Она бешено гребла. В голове у нее проносились разные сказки и легенды. Морской и речной народ, вспомнила она. Мужчин называют тритонами, а женщин русалками. А она еще его спасала, ну или пыталась спасти. Сашка покраснела до ушей, вспомнила, что искусственное дыхание, рот в рот, она не применила, позабыла, тоже мне, хороша спасательница! Ну и ладно, не больно-то он и нуждался! Ишь, как руки-то распустил! Тело еще горело от нескромных прикосновений.
А весна, весна упоительно пела и журчала. В воздухе, в вышине лазурного неба звенел жаворонок. Запах лопающихся почек, лучи теплого почти летнего солнца так не вязались с несчастьем, обрушившемся на Сашку. Солнце с ясной улыбкой оглядывало сверху затопленные деревни, поля и леса. И она, подставляя под живительные лучи промокшее и озябшее тело старалась не думать о наступающем холоде вечера и ночи, старалась не думать о тритоне.
Сашка выбилась из сил, очень устала и опустилась на дно лодки, дрожа от холода, она, все-таки, уснула. Ей снились бесконечные просторы теплого моря и лукавые мордочки умных дельфинов, ни первого, ни второго в своей жизни, она конечно же никогда не видывала, живя безвылазно посреди бескрайних полей и лесов России…
Сашка проснулась под безоблачным темно-голубым небом, торжественно сиявшим над ее головой. Вдали, касаясь синего горизонта, садилось солнце. И поверхность булькающей воды мерцала, отражая темно-красный цвет великолепного заката.
Не сразу осознала, что полностью завернута в большой сухой теплый плащ. Ее мокрая одежда была аккуратно разложена тут же, на скамейке. Сашка дернулась и, вспомнив о нападении тритона, быстро сунула руку под плащ. Без сомнения, она оказалась голой.
Лодку, между тем, поднесло к затопленной церкви некоего села. Над водой торчала часть голубого купола и желтый крест. Сашка, панически боясь взглянуть в воду, все же взглянула и увидела там, на большой глубине утонувшие дома и тритона. Тритон свободно плавал под водой, напоминая громадную светлую лягушку. Сашка с затаенным ужасом рассматривала его. Она заметила, что уши у него не человеческие, а перепончатые. Уши, то вздувались вокруг головы диковинным капюшоном, то опадали, плотно примыкая к голове. Волос на голове у него не было. Но в какой-то миг он поднял лицо и она увидела, то, чего не замечала раньше, кожа у него над глазами приподнималась и переходила в некие роговые поверхности, тянущиеся через всю голову к спине. Рога эти были красного цвета.
Тритон изредка подплывал совсем близко, с интересом рассматривая ее сквозь толщу воды. И она тогда быстро отшатывалась, попискивая в страхе, забивалась в угол лодки, но потом снова подползала к борту, чтобы посмотреть вниз и встретиться с ним взглядом. Впрочем, смотрел он на нее весело, без угрозы. Во всех его движениях она инстинктивно чувствовала спокойную уверенность и могла бы самой себе поклясться, что постепенно ее оставляют всякие тревоги и недоумевала на это ощущение, не понимая, откуда оно взялось в столь необычной ситуации.
Лодка, между тем, крутилась в вихрях и водоворотах наводнения. Ее уже отнесло от затопленного купола церкви и волокло мимо верхушек почернелых дубов в сторону открытого пространства. Мимо проплывали палки и бревна, а иной раз и ветвистые деревья.
Казалось, весь мир ушел под воду и нигде более не осталось даже сухого клочка земли.
Сашка от этой мысли заплакала, вся сжавшись в комочек на дне своей лодки. Быстро темнело, ощущались сумерки и ей представлялось, что она одна осталась в целом мире. И будет так и носиться по волнам, пока не умрет от голода и холода. Но тут, в лодку, легко перевалившись через борт, залез тритон, уселся перед ней на скамейку, немного подвинув в сторону ее мокрую одежду.
В сумерках он показался напуганной Сашке не таким уж страшным, а осознание того, что все-таки рядом живое существо ее даже приободрило. Она вылезла из укрытия, встала, покачиваясь над ним, протянула руки вперед, коснулась холодной кожи, положила ладони на плечи, и так, и замерла, стараясь постигнуть, что он такое и зачем? Тритон безмятежно посматривал на нее своими большими черными глазами, сидел спокойный, не делал никаких движений, не пытался схватить ее и как-то оскорбить. Но, однако, она тоже устала стоять, сесть же можно было только обратно, на дно, так как на вторую скамейку ей было бы не пробраться, тритон занимал все свободное пространство лодки.
Сашка открыла рот и впервые заговорила с ним. Он молчал, а она говорила. О чем? Она и сама не знала, но вспылила, что он молчит, и не отвечает ей, грубо принялась толкать его, требуя пропустить ее на вторую скамейку. Тритон тут же схватил и насильно посадил к себе на колени, и сколько Сашка ни билась в его руках, все никак не могла вырваться из железных объятий, тритон оказался неожиданно очень сильным и неподатливым. Справиться с ним, как она справилась в первый раз, девочка не смогла. В какой-то момент жизни она ослабела, затихла и забылась тяжелым сном, впав в состояние полнейшего равнодушия, так хорошо знакомое усталым, изможденным людям. Сквозь сон она поняла, что тритон не бездействует. Он наклонился к ее лицу и слегка касаясь губами ее лица, принялся целовать очень нежно, медленно, томно. Он целовал, а она не в силах пошевелиться обдумывала, удивленно, свой первый поцелуй, какой он? И искала ответ напряженно даже в самом слове, поцелуй. Так ли уж похож настоящий поцелуй на слово поцелуй?..
Проснулась от грохота вертолетов. По веревочной лестнице к ней спускался спасатель. Тритона нигде не было видно. И только уже поднявшись по лесенке, по сути, повиснув на шее у спасателя, Сашка заметила в воде хорошо знакомую лягушачью тень, быстро уплывающую прочь.
Через неделю вода спала, а еще через день люди стали возвращаться в Деревню, вернулась и Сашка. Она отоспалась и отъелась в больнице. С домом особой мороки не было, он быстро просох на весеннем солнышке, построенный на смерть, как и любили строить и строили в старину. Мебель тоже постепенно высохла и даже трещинами не покрылась, а только чище стала.
Река вошла в берега и снова Сашка зачастила рыбачить. Но ловя рыбу, она всегда зорко поглядывала на поверхность воды, ей очень хотелось вновь встретиться с тритоном. По ночам ей снились странные сны. Она видела другую Землю, скрытую под толщей океана. Видела тритонов и русалок, посреди которых и она плавала легко и просто. Вокруг нее носились стайки рыб, трепеща плавниками, сверкая и переливаясь всеми тончайшими оттенками цветов. Быстро скользила она под водой, а рядом плыл ее тритон. И глаза его мгновенно изменяли цвет из черных в синие и вдруг, рассыпались в них искры смеха. Тритон протягивал ей перепончатую руку и она протягивала ему свою, тоже перепончатую. Нисколько не удивлялась, зная, что так и должно быть. Что тогда из затопленного мира, ее мира, он забрал ее в свой мир, мир свободной воды и сверкающего солнца. Где дельфины и русалки с тритонами плавали наперегонки и то скользили, не оставляя на поверхности воды ни следа, то выскакивали из глубины, извивались блестящими телами и входили в воду, не потревожив гладкую поверхность лазурного океана. И Сашка просыпалась вся в слезах, зная, что опять на работу, опять таскаться с почтой и пенсиями, опять жить посреди людей, которых, она, получается не очень-то и любила…
Размышлялки о подарке
В России принято скупиться на подарки, принято подарки передаривать. Иные хранят блестящие упаковки и не нужные духи, одеколоны месяцами, чтобы на мужской или женский праздники, выпадающие, как известно на 23 февраля и 8 марта передарить знакомым, друзьям, родственникам то, что самим не нужно. Тут главное, не позабыть и не вручить подарок человеку, который уже дарил вам этот же самый подарок.
В связи с этим, проведя короткий опрос, привожу здесь размышлялки разных людей, абсолютно разных поколений о подарках не особо любимых, а у иных и непереносимых, подчас ненавистных настолько, что…
Гвоздики. Ну, кто дарит гвоздики, если именно эти цветы принято относить на кладбище? Так и возникает образ одинокого могильного холмика, усыпанный красными или белыми гвоздиками.
Коробка чая. Почему чая? Кто дарит чай? Это как подарить резиновые калоши, выказывая свой плохой вкус и вызывая у жертвы дарителя сплошные вопросы и недоумения.
Открытка. В наборе с коробкой конфет и оригинальная еще, куда ни шло, но когда только открытка. Что это? И стараются передарить, побыстрее избавиться, в особенности, если открытка не подписана.
Бутылка вина. Тогда уж сразу водки, чего мелочиться, но если подразумевается, что вино идет в наборе с шоколадом или виноградом, тогда еще перетерпеть такой подарок можно, кое-как…
Откровение, что нужна (нужен) лишь для встреч, иди, встречайся со столбом, вот будет потеха для прохожих.
Подарки любимые, но никогда не даримые:
Розы, бардовые, на длинной ножке. Вкус, хорошие манеры, замечательное воспитание и интерес к дарителю, как к человеку со звезды, был бы, таким образом, обеспечен.
Любимые конфеты. Ротфронтовской фабрики. Самые шоколадные, а не с ромом или коньяком, уж лучше тогда с пивом.
Духи для женщин, одеколон для мужчин с тонким ароматом свежести (есть, есть такие)…
Вечер развлечений, где была бы легкая музыка живого оркестра и прогулки под Луной. Шоколадное мороженое и вкусная еда в не дорогом уютном кафе, приправленная задушевной беседой.
Признание, что любим (любима) и необходим (а), а потому – муж (жена). Как же иначе? Порядочность и верность, вот две главные составляющие для любых отношений, тем более, когда речь идет о любви, а любовь – это такой подарок да что там, это дар Небес, который надо ценить и беречь, проявляя друг к другу внимание и уважение.
Странная история
В семье Ворониных, учителей одной весьма престижной школы Архангельска родилась дочка, вторая по счёту. Очень плаксивая, нервная девочка в весёлой, заботливой русской семье. Она плакала по поводу и без повода, просто извела всех, а потом отказалась называть папу папой, а маму мамой. Обходилась как-то и сторонилась обоих, а уж сестру вообще не признавала. И все глядела в окошко, и тосковала по кому-то, но не говорила, по кому, все молча. В семье пытались бороться с этим недугом и даже возили девочку по врачам, и даже по бабкам. Но девочка все равно своих родных сторонилась, а улыбалась только во сне. Отец как-то увидел эту счастливую улыбку и твердо решил разговорить дочь. Ей тогда уже десятый год пошел. Девочка неохотно, но все же под настоятельным натиском, приоткрыла отцу свою душу. Оказалось, она помнит своего папу и маму из прошлой жизни. Папа ее тогда работал машинистом паровоза, а мама работала швеей в театре, шила театральные костюмы. Дом, где они жили весь так и сиял беленькой красочкой, а в палисадничке всегда цвели цветы. Любили они еще и вечерние посиделки, отец что-то вырезал маленьким ножичком, занимался инкрустацией, резьбой по дереву, а мама шила одежду. А она, она сама жила на свете вовсе даже не девочкой, а мальчиком. И пока родители мастерили, она им читала сказки и всякие истории. Книги они любили, телевизоров еще не изобрели, в ту пору людей развлекало радио. По воскресеньям ходили в церковь и сидели на скамейках, церковь была вовсе другой веры, костел, в общем. В будни родители работали, а она училась в школе. Школу она не запомнила, а вот свою собственную комнату узнала бы хоть сейчас. Там ее всегда ждала деревянная, сделанная руками отца, резная кроватка и резной, всем на удивление, шкафчик и стол за которым она делала уроки. А город, где они все жили, назывался Мюнхеном, а страна Германией. И тут девочка расплакалась и сквозь слезы попросила отвезти ее домой.
Отец, прямо-таки руками развел, вот так история. Но прошло два-три года, прежде чем он выправил загранпаспорта им обоим и скопил денег на поездку. А девочка все тосковала, бледная, маленькая, больная, такою она и прилетела на самолете в Мюнхен. В гостинице места себе не находила и опять торчала у окошка, но уже стала улыбаться сквозь слезы, конечно. Отец купил путеводитель по церквам Мюнхена, потому как дочка помнила, как выглядел ее храм. И сразу же она его и узнала, вскрикнула, ткнула пальцем в картинку, вот он. На такси доехали. Оказалось, что район вокруг костела почти и не перестроили, старинные, частные домики с аккуратными палисадниками стояли вокруг, будто и не пронеслась над ними в свое время разрушительная волна Второй мировой войны. А ведь девочка помнила именно о войне и о Гитлере… Между тем, от костела прямо по дорожке, а потом налево она почти бежала и тут, остановилась, руки заломила, затряслась вся. Отец догнал ее, схватил на руки, что, ну что, ребенок? Дом, ее дом стоял целехонький, беленький, аккуратненький, любимый. Отец и сам не ожидал, думал, может, побегает и успокоится, увидит, что нет уже ее дома, все перестроено, надеялся, в общем. А тут на-ко, все есть.
Наконец, она взяла себя в руки, дрожа, медленно подошла к дому, постучалась, отец с ней, естественно, тоже дрожал, потрясенный, наверное, еще больше, чем она. Дверь открыла старая-престарая женщина. Девочка к ней немедленно бросилась, крепко-крепко обняла и, как учила, а ведь не учила же, заговорила по-немецки. Сказала изумленной женщине, что она – ее сын. И имя назвала свое из прошлой жизни, Фридрих. А потом, чтобы поверила, рассказала, как они жили. Женщина долго, удивленно на нее смотрела, а потом заглянула в самые глаза девочки и… совсем растерялась, душа ее дорогого сына глядела оттуда, глядела с нежностью и надеждой. Затем они все вместе смотрели фотографии, где уже ушедший на тот свет отец стоял рядом с Фридрихом возле большущего паровоза и только после выяснилась одно пугающее обстоятельство, что Фридрих погиб, когда перебегал рельсы, торопился в депо к отцу, а сшиб его советский эшелон, русский, в общем… и надо полагать этот эшелон и душу мальчика унес за собою в Россию. И вот теперь спустя столько лет Фридрих вернулся, пусть в другом теле, но все такой же заботливый, ласковый человечек, беспокоящийся, постоянно беспокоящийся о своих близких, больше чем о себе самом. Таким он был с самого рождения, если его угощали, он бежал, прежде всего, к папе с мамой, протягивал им, на те угощайтесь вы, а я уж потом, что останется. И вот даже после смерти, в следующей жизни не смог забыть своих несчастных родителей, убитых горем, оплакивающих потерю своего единственного сына все последующие тяжкие годы жизни. Что и говорить, русская семья девочки очень подружилась с немецкой фрау, а она с ними. Девочка же перестала плакать и тосковать, стала считаться со своей русской семьей, папу стала называть папой, а мамами называла и фрау, и ту, что подарила ей новую жизнь…
Кондукторша
Вся такая толстая, в двух кофтах, одна на другую, в шерстяной юбке, черных рейтузах и валенках с галошами. На животе висит сумка с деньгами и катушками билетиков. Ремень от сумки где-то под кофтами.
Кондукторша тяжело передвигается по салону автобуса, дышит с одышкой и подолгу стоит в проходе, прямо перед средними дверьми. Смотрит сердито:
– И, эти еще, лезут и лезут, едут и едут! – кричит она на пассажиров. – Распределяйтесь, нечего в дверях торчать!
Пассажиры послушно распределяются. Роются в карманах, сумках, кошельках, стремясь, как можно быстрее расплатиться, сунуть билетик за проезд в карман и после застыть истуканами, вцепившись в поручень и медитируя на проплывающие за окном заплаканные капризной осенью, дома.
Но кондукторша не дает никому расслабиться:
– На паперти сидел? – орет она на хлипкого студента-очкарика. – Ишь, напихал медяков.
Студент молчит, краснеет, а кондукторша громко считает монетки:
– Ладно, очкарик, получи свой проходной, – разрешает она и прет дальше по салону, по пути распихивая пассажиров локтями.
Пассажиры поднимают было восстание возмущенные ее бесцеремонными действиями, но сникают под грозными окриками:
– Поговорите мне еще!
Кондукторша продвигает себя в конец салона, где пристает буквально ко всем, слышится ее начальственная речь и угрозы высадить на ходу.
И тут остановка. Входит молодой мужчина, в безукоризненно новом костюме с красивым букетом цветов в руках.
Кондукторша, несмотря на своевременную оплату, мужчина отдал деньги за проезд сразу, критически его оглядывает:
– Ишь, расфуфырился, – говорит она так громко, что весь автобус слышит, – и духами пахнет, словно баба!
– А вам какое дело? – напрягается мужчина.
– Действительно? – язвительно переспрашивает его кондукторша и кивает на ботинки мужчины. – На свиданку собрался, а ботинки грязные!
Мужчина, а вслед за ним и некоторые пассажиры оглядывают обувь незадачливого влюбленного.
– Эх ты! – неожиданно смягчается кондукторша и лезет куда-то за сидение, на котором белой краской крупно выведено: «место кондуктора».
В следующую минуту пассажиры видят такую сцену. Мужчина начищает гуталином ботинки, старательно, до блеска, растирая гуталин обувной щеткой, а кондукторша бережно держит букет. После гуталин с щеткой возвращаются за кондукторское сидение, а мужчина с букетом в руках выпархивает к ожидающей его девушке.
– Хорошенькая, – кивает одобрительно кондукторша, – да и наш-то тоже молодец!
Говорит она с гордостью пассажирам. Пассажиры в ответ неловко и смущенно улыбаются.
На следующей остановке, влезает толпа юнцов, задиристо, долго юноши переругиваются с кондукторшей, смеются, беззлобно обсуждая ее слова и действия, но за проезд платят исправно, а для кондукторши это важно:
– Вы, – кричит она, – обязаны платить, как дышать, а иначе ходите пешком!
– Пешком далеко! – возражают ей юнцы.
– А как же нормы ГТО, будь они неладны, при Советах нормы эти сдавали и вам, молодым, теперь мучиться, зачем тогда Союз было разваливать? – негодует она.
К остановившемуся на следующей остановке автобусу спешит, перепрыгивая лужи, опоздавший гражданин.
– Коля! – зычно кричит кондукторша. – Погоди!
Коля, без слов, ждет. Запыхавшийся, вконец, но довольный пассажир впрыгивает на ступеньку, двери закрываются, автобус трогается.
– С вас двойная оплата! – строгим голосом произносит кондукторша.
– За что? – столбенеет пассажир.
– За фитнес!
Пассажиры смеются, смеется гражданин и хохочет кондукторша.
Оказывается, у нее хорошая улыбка, добрые человеческие глаза и один дед не выдерживая, сетует:
– Мужика бы тебе хорошего!
Кондукторша вмиг переменяется в лице:
– Все мужики – козлы и воняет от них, как от козлов!
Дедушка настаивает:
– Не все, я, к примеру, за собой слежу, моюсь каждый день, одежу свою стираю, готовлю, прибираю!
– А что же твоя бабка тогда делает? Деньги заколачивает? – сердится кондукторша.
– Да что ты! – машет на нее дед. – Я – вдовец вот уже как двадцать годков!
– Тогда у тебя выхода нету, – сразу решает кондукторша.
И оглядывает старика придирчивым взглядом:
– Одет, гляжу, чистенько, аккуратненько, стало быть, сам не любишь, чтобы пахло…
И кондукторша морщит нос, демонстрируя в лицах плохой запах.
– Только непонятно мне, чего же ты опять не женился?
– Да что ты! – снова машет дед. – Куда мне жениться, ведь мне девяносто лет!
– А не скажешь! – удивляется кондукторша.
– Ведь не скажешь же? – обращается она к молчаливо наблюдающим за происходящим пассажирам и заставляет деда встать.
Дед встает со своего сидения, прижимает руку к сердцу и кланяется на все четыре стороны.
Первой начинает аплодировать кондукторша, за ней пассажиры.
Дед, худенький, маленький выглядит совсем невесомо, но смущается, щеки его розовеют. Присаживаясь на место, он неуверенно перебирает руками и весь дрожит от неожиданного поощрения со стороны незнакомых людей.
– Да ты у нас до ста лет доживешь! – хохочет кондукторша и тут же переключается на пьяного мужика с тупой физиономией, слепо пролезающего в автобус.
– Куда еще! – толкает она его своим животом с билетами.
Мужик замирая, смотрит на билеты и что-то соображая, лезет в карман, достает денежную бумажку, пятитысячную.
– Нету у меня сдачи! – кричит кондукторша, напирая на пьяного.– Иди, такси лови!
Пьяница лезет обратно, на остановку. Двери закрываются, автобус трогается, но к бесприютному пьянице вдруг подбегают неизвестные, по всему видать, с целью грабежа.
– Коля, погоди! – зычно кричит кондукторша и выпрыгивает из раскрывшихся дверей.
После двух, трех затрещин, которые она щедро раздает бандитам, неизвестные разбегаются, кондукторша хватает пьяницу за шиворот:
– Пошли уже, горе луковое!
Пьяница послушно перебирает ногами. В салоне кондукторша стеллит газету на свое место и усаживает пьяницу, предварительно узнав название его остановки:
– А то проспит! – поясняет она пассажирам.
Автобус трогается, пьяница засыпает, денег кондукторша с него не взяла ни копейки.
– Пьяницы все равно, что слабоумные, – говорит она пассажирам, – жить не умеют, мыслить не способны, лужи под себя пускают и умирают, не приходя в сознание!
Начинается спальный район, где живет основная масса пассажиров. Кондукторша расталкивает пьяницу и, выпроваживая его, советует дойти хоть на автостопе, до дома. Наказывает, чтобы нигде не присаживался, а то ограбят, не гопники, так полицаи.
Девяностолетний дед раскланивается с ней и идет от остановки к неприметной старенькой пятиэтажке бодрой походкой:
– Наш-то каков! – с чувством произносит кондукторша, вытирая непрошенную слезу.
На конечной Коля высовывается из кабины водителя:
– Ну, все что ли? – спрашивает он у кондукторши. – В гараж?
– Поехали, – соглашается кондукторша, – смена кончилась, завтра другая начнется.
И садится на свое сидение, не забыв заботливо припрятать газету, на которой давеча сидел пьяница, может кому еще пригодится. Кондукторша считает выручку, рассеянно поглядывая в окно на проплывающие мимо размытые силуэты домов и деревьев…
Полеты не во сне, а наяву
Посвящается моему сыну Мишеньке Кременскому
Теплый ветер дул в лицо, кувыркался в ладонях шелковистым котенком. Подныривал, растопыривал крепкие крылышки и летел какое-то время где-то внизу. Я только едва-едва тогда ощущала его прикосновения. Полная Луна светила ярко-ярко и звезды, любимые звезды подмигивали с ночного неба.
Лес внизу сменился полем. Я тотчас спикировала вниз, ветер только и успел взвизгнуть: «Куда?»
А я уже летела над самой землей, касаясь изредка раскрытыми ладонями верхушек травы. Вспугнутые кабаны разбежались во все стороны.
– Нечего картошку разорять! – крикнула я им вслед.
Кабаны действительно направлялись через поле к картофельным грядкам поселян. А вот уже и село. В избах темно, ни одно окошко не светится. Летом сон короток, но крепок, скоро и солнышко взойдет.
Неслышной тенью опустилась я на порог своего дома, вошла тихонечко, даже дверь не скрипнула. Но сынок, ясноглазый Мишенька все равно проснулся, приподнялся на постели:
– Мам, ты, где была?
– Летала.
– Возьми меня как-нибудь с собой? Ну, пожалуйста!
Коротко кивнула, припала губами к крынке с молоком. Успокоенный моим обещанием, Мишенька тотчас же заснул невинным сном младенца. Кроткая улыбка, серые глазки, белокурые волосики топорщатся на макушке, будто у цыпленка, сама нежность и простота, вот что такое мой сыночек. Я вздохнула, разделась до белой сорочки, прилегла на край постели. Мишенька тотчас подполз, обнял меня тонкими ручонками, заулыбался во сне… Когда-то Бог согласился и подарил мне его после жаркой клятвы и венчания с Человеком, которого я не любила и даже презирала за алкоголизм. Теперь этот человек далеко, в мире духов…
На стене висит фото в рамочке. В темноте ночи не видно, но я и так знаю, там сын и я в облаках. Гости и друзья думают, что это фотомонтаж. Однако нет. Сын летал со мной как-то днем, я поднимала его высоко-высоко в пушистые, нежно голубые облака и щелкнула нас обоих фотоаппаратом на вытянутой руке. Конечно, Мишенька летать не умеет, хотя и старается научиться. Я тоже полетела не сразу. Вначале, снились сны о полетах. Снилось, что высоко, в чистом небе парю, словно птица…
Я уснула на короткое время, но едва забрезжил рассвет, вскочила, бодрая, полная сил.
В доме было прохладно. Охапка дров в печку быстро исправила положение. Только затопила печь, послышались торопливые шаги, ну, конечно, домовик. Прибежал, задыхаясь от бега, схватился за бок, отдышался, не молодой уже. Его дело – самовар вскипятить. Любил он самовар до невозможности и чистил каждый день, так что можно было отражение свое разглядеть, как в зеркале. Домовик принялся за дело, только лапы мохнатые в воздухе замелькали. Вместе, мы всегда быстро управлялись, но все-таки я оказалась проворнее даже своего довольно-таки проворного домового. Раз, и тесто замесила, два, и слепила пироги с клубничным вареньем, три, и в печь посадила ужариваться. Будет, чем полакомиться на завтрак. Домовик скакал возле печки, радовался, конечно, своим самым любимым пирогам. С улицы явился кот Чернышик, сам черненький, а глазки желтенькие. Направился к своей миске, давеча я ему плеснула молочка. Домовик тоже получил свою кружку, уселся на табуретку, пьет, доволен. Лохматые ушки торчат, точно у совы. В круглых зеленых глазках плещется удовольствие. Утирает мохнатой лапой мордочку лица, по усам и по бороде текут белые капельки молока, но ни одна не должна пропасть. Я дала ему имя «Поспешай», потому как вечно куда-то спешит, суетится по дому, топочет. Вечно мелькает тенью то тут, то там, зато и в доме порядок. Мне даже полы не надо протирать, пыли в доме вообще не видно, а уж пауков и прочей твари тем более нет. Любит Поспешай свой дом и хозяйку, меня, полюбил. Когда я дом купила, пустующий несколько лет, сразу стала обихаживать домового, кушать ему оставляла, разговаривала с ним, призывала помочь. Мало-помалу оттаял душою сиротинушка, отозвался, так и познакомились.
Домовик, между тем, молоко допил, кружку отнес к рукомойнику, вымыл, тут же обтер чистеньким полотенчиком, поставил на полку. Я обернулась к печи, достала парочку уже хорошеньких пирогов, завернула в льняную тряпочку и с поклоном подала домовому, скушай хозяин, все честь по чести. Он на поклон поклоном ответил, пироги схватил и убежал на чердак, как же ведь Мишенька проснется, а ему до поры до времени домового видеть не надо бы… Сыночек еще спал, раскинув ручонки, легкая улыбка играла на губах, полюбовалась им немножко и стала собирать на стол, пора было уже завтракать.
В избе у меня имелась всего одна комната, но зато, какая большущая! Пройдя из сеней через небольшой коридорчик, я ступала в кухню, в которой белая русская печь, круглый деревянный стол и лавки, буфет со множеством светленьких тарелок и блюдец, а раздвинув ситцевые простенькие занавесочки попадала в гостиную, где обои со светлым, будто морозом, подернутые рисунком, огромный, синий диван разлапой притулился у стены, несколько мохнатеньких кресел, большущий цветастый ковер на полу, неожиданно высокая кровать с шишечками на спинках. В одном углу телевизор, а в другом иконостас с черными старинными иконами. Посреди комнаты крепкий резной стол с выточенными в узорах, крендельках ножками, несколько массивных стульев, возле одного из окон комод и бельевой шкаф из красного дерева. Четыре окна завешаны синим тюлем и белыми блестящими занавесками. Я раздвинула занавески и вскрикнула. Где-то на окраине села неистовствовал пожар, валили черные клубы дыма, позабыв обо всем на свете, я выскочила на улицу.
Бревенчатый серый дом горел. Зрелище было страшное. Пламя взмывало вверх, оглушительно трещало, рассыпалось искрами. Селяне, сбежавшиеся со всех сторон, вначале стояли, бессильно наблюдая разбушевавшуюся стихию. Потом похватали ведра и ринулись в бой. Одни таскали воду из пруда и плескали в огонь, другие воду таскали, но поливали соседние дома, чтобы пламя не перекинулось. Вдруг, взметнулся плач. Вернулась бегом мать с фермы, растрепанная, не старая еще женщина, увидела пожар издали, мужики с трудом удержали, так и прыгнула бы в огонь. Заголосили все вокруг. Там, в горящем доме остались дети, четверо, мал мала меньше. Кинулись искать, может, забрались куда? Может, убежали к кому-то из соседей? Искали, бегали, но тщетно. Мать рыла землю, выдирала ногтями траву с корнем и я решилась. На глазах у всех, медленно-медленно, набирая силу, поднялась в воздух, раскинула руки и запела, на одной ноте, низко-низко. Чистая энергия потекла ко мне со всех сторон света, я собирала ее, собирала и… усилием воли бросила на пожар. Огонь, враз, прибило к земле, как и не бывало, дым только, едкий дым пополз ужом. Дом не весь сгорел, выгорела лишь половина. Мужики побили стекла и вытащили на свет божий детишек, живых, но наглотавшихся дыма. Добралась, наконец, пожарная машина и «скорая» приехала. Детей с матерью отвезли в город, в больницу. Пожарные покрутились, покрутились, акт составили и уехали, тушить уже было нечего.
Осталась я наедине с селянами. Враз ожили суеверия и предрассудки, но люди рассудили, если бы я ведьмой была, то только радовалась бы, кабы дети сгорели, однако помогла ведь справиться с бедой. Стало быть, не ведьма. Может, ведунья? Вспомнили тут многие, что в сенях у меня всякие травы лечебные подвешены за веревочки, так всякого входящего лесным духом и шибает. И решили не бояться меня, из села не гнать, а наоборот, защищать от пришлых и поощрять, ну и, если что, приходить за советом и помощью. Тем более, что бед у людей много, одно пьянство – бич русских людей чего стоит!
Дом погорельцам всем миром отремонтировали, я с Мишенькой тоже помогала, досточки новые перетаскивала да мужичкам подавала, дабы, где надо, чего заменили, приколотили. Поработали всем миром на славу. Вернулась мать с детьми из больницы, расплакалась. Дом сиял игрушечкой, даже наличники и те выкрасили желтенькой красочкой, двери голубенькой, на боковины и то хватило зелененькой. Как же, пожар – дело не шуточное, дом, все, что есть, все имущество. Люди русские давно уже живут без надежды на помощь со стороны государства, усталые, опустошенные, будто перенесшие огромное горе, живут. И уже не удивляют никого разрушенные, брошенные коровники по всей Руси Великой, где совхозы развалились, удивляет другое – отсутствие цели. Не видно ее нигде и не видно просвета, куда идти и зачем? Вроде бы и не уезжали никуда из своей страны, из России, а будто не стало ее, родины-то… Так думала я, стоя, перед окном. Взор мой затуманивался слезой, и надежда на лучшее теснилась в груди.
– Все будет хорошо! – воскликнул Мишенька, улыбнулся мне, своей маме, в ясных глазах его рассыпались, засияли звезды, звездочки любви.
– Да, сыночек, все будет хорошо! – подтвердила я и пошла, побежала…
На ферме, кое-как еще удерживающей свои позиции, ожидали коровы и много тяжеленной работы, а дома маленький сын, лохматый домовой и кот Чернышик, все будет хорошо.
Монолог русского пьяницы
– Про нас, пьяниц, столько всякой ерунды говорят, неправду возводят, что я решил-таки сказать, как есть. Одну правду. Каждое слово – правда!
Пошел я этак в магазин, вернее к магазину, денежку на бутылку выпрашивать. Оделся похуже, дескать, калека. Трясусь, всем телом трясусь, будто у меня болезнь такая, ну и тянусь к бабам, подайте мне, убогому. Бабы подают, а я кланяюсь, слезу роняю, будто благодарю усиленно. Хорошо у меня получалось, в роль вошел, изображаю инвалида очень даже убедительно. Дружки за мной подглядывали, в сторонке стояли, одобрительно улыбались. Насобирал уже не только на бутылку, но и на закусь. Вдруг, кто-то меня за ухо, цап! Оказалось, жена моя Нинка, шипит рассерженной гадюкой, ты чего говорит, меня перед соседями позоришь и погнала пинками до дому, а дома карманы обшарила, хоть какая-то, говорит, от тебя польза.
В другой раз, пристроила меня Нинка в строительную бригаду свинарник для совхоза строить. Отстроили. За пару месяцев отстроили, бригадир пить не давал, никому. Строгий такой, трезвенник, с нас глаз не сводил, ходил за нами повсюду. Не доверял, в общем. Построили свинарник ударными темпами, заказчик обрадел и нам еще премиальных отвалил. Только мы этими деньгами и полюбоваться не успели, на стройку жены наши пожаловали, бригадир «стукнул», кто же еще? В ботинок едва-едва успел одну денежную бумажку запрятать. После шмона посчитали и носы повесили, выходило, всего-навсего, что хватает на пиво, да и то на одну бутылочку. Повздыхали, собрались в сельпо и пошли, горюя о недостижимой, как Луна, водке. И тут, лихая иномарка виляя и выписывая кренделя, останавливается. Оттуда, широко распахнув объятия, нам навстречу вылез мужик. Оказалось, бухой, счастливый, дочку замуж выдает, а тут мы, трезвые, непорядок, вся деревня уже, вплоть до петухов, пьяная. И повел рукой приглашающе, давайте ребята. В машине у него ящик с водкой был припасен. Только я одну бутылку схватил, как кто-то меня за ухо, цап! Оказалось, Нинка с автобусной остановки вернулась и чего, говорит, я тебя, здесь, оставила, когда ты свинарник отстроил, зарплату и премию получил? А ну, пошли, работничек, на остановку, домой поедем, мыться, бриться, в чистое белье переоблачаться, вон, грязный какой, дурище! Сама, бутылку в сумку засунула, говорит, пригодиться, кому подарить. А дома с меня одежу сдернула и заначку мою в ботинке обнаружила…
Вот теперь грабастаюсь я на даче. Перекопал грядки, забор починил, крышу прохудившуюся залатал, устал. Жена мне, поешь, отдохни, а какой это отдых, суп да без стопки водочки, а? Ну ей доказывать бесполезно, только у нас в дачном поселке, кое-где еще можно добыть стаканчик-другой самогончика, имеются свои самогонщики, но без денег, как говорится, будь здоров, не нальют, сколько ни умоляй. Денег же у меня отродясь не было. Нинка все мои заработки моментально прихватизирует, мне ни копейки не оставляет. Контролирует полностью.
Кинулся я туда-сюда, смотрю у жены рассада цветет, зеленеет в горшочках, готовится на постоянное место жительства, на вскопанные мною грядки огородные пересесть. Схватил я рассаду и в центр поселка ринулся. В центре у нас импровизированный рынок. Продал рассаду в пять секунд, бабы деньгами меня засыпали. Нинка моя завсегда рассаду в городе покупает, у одной любительницы-огородницы. И вся-то рассада была загляденье, листочек к листочку! Иду, злюсь на самого себя, продал, гад такой. Да еще сосед на своем «Хаммере» выпятился, лысиной отсвечивает, командует своим домашним. Глянул я, а в открытой машине рассада еще лучше, еще красивее, чем у нас была. Не выдержал, сосед не обеднеет, богатый, знай себе, живет, поживает, под красной черепичной крышей и не в садовом домике, как мы с Нинкой, а в двухэтажном кирпичном домине, при белой беседке, маленьком дворике уставленном качелями, каруселями, огромном огороде со стеклянными теплицами. Да, что ему соседу сделается, рассуждал я, расставив украденную рассаду так, как было у Нинки. Тут и моя жена от автолавки вернулась с продуктами. Увидела рассаду и от удивления дар речи потеряла. Наконец, прокашлялась, вымолвила, чего это? Оказалось, по незнанию продал я рассаду помидоров, а украл рассаду болгарских перцев. Ну, Нинка догадалась, конечно, кто всему виной, меня за ухо, цап! Я и повинился, и деньги отдал. И вот теперь помчалась моя ненаглядная к своей знакомой любительнице-огороднице снова рассаду помидоров покупать. Меня же послала теплицу строить, не отдавать же перцы обратно, а без теплицы они в нашем климате плохо будут расти! Буду строить и думы думать, а может, ну его, к черту, винопитие, одни проблемы от него, теплицу вот теперь строй, грабастайся!..
Дура
У Маринки Озеровой были печальные глаза, смотревшие всегда поверх головы собеседника затуманенным взглядом.
Дома, в шкафах и на столе у нее валялись в изобилии книжки про любовь. Часто, чувствуя неутолимую жажду, ходила она в библиотеку и набирала там кучу рыцарских романов, читая их, она забывалась и переносилась в мир невиданных мужчин, таких, о которых, как о динозаврах можно было действительно только прочитать в книге.
Библиотекарша взглядывала на нее в изумлении, порываясь задать вопрос, но так и не задавала, разглядев это дрожащее, мягкое, рыхлое лицо с полными губами, толстым носом и мутными глазами, такие глаза еще бывают у слепцов. Человек будто видит и в то же время как-то охватывает сомнение, а видит ли он?..
У нее были свои страхи. Так, Маринка любила одиночество, и до такой степени это распространялось, что завидев кого-нибудь у лифта, тут же поспешно пробегала на лестницу, предпочитая подниматься пешком. Никогда никого сама не ждала, а тут же нажимала на кнопку, даже если кто-нибудь, поспешая, ей заполошно кричал от входных дверей:
– Подождите!
Она не могла ездить в транспорте и делить свое пространство с людьми. Особенно ее напрягали часы пик. Однажды, какой-то пьяный охламон прижался к ней всем телом и стал делать непристойные движения, подстраиваясь под вибрации и тряску транспорта. Маринка не стерпела, а истошно завизжав, обернулась, огрела его сумкой, после чего охламон потерял к ней всякий интерес и затерялся в изумленной ее выходкой, толпе пассажиров.
Чтобы с ней подобного больше не повторилось, она купила автомобиль. Но автомобиль потребовал дополнительного времени, надо было открывать гараж, выводить машину, протирать стекла и зеркала да и вообще возиться. И, чтобы не опаздывать на работу, кстати, она работала наборщицей в одном крупном немецком книжном предприятии и сидела безвылазно все восемь часов работы за компьютером, обрабатывая всякие карточки и заказы клиентов, она стала прихорашиваться в машине.
Возможность не нанести боевую раскраску ею не рассматривалась вообще. Ее лицо требовало искусственного грима, иначе в ее сторону никогда никто бы и не посмотрел, а она ждала мужчину своей мечты и хотела выглядеть на все сто, нет, на двести процентов, когда он, наконец, появится.
Маринка прихорашивалась и вела автомобиль в связи с этим довольно небрежно, почти не обращая внимания на дорогу. И, между делом, доставала из бардачка черную тушь, высунув от усердия язык, накрашивала вначале один глаз, затем другой. Надо было еще подвести веки черным карандашом, чтобы взгляд стал выразительнее. Бледные щеки слегка мазнуть красной помадой и размазать ладонью, чтобы было похоже на румянец. Губы подкрасить красным карандашом, четко обрисовав верхнюю и нижнюю границу губ, потом покрыть все это той же красной помадой. Спрыснуть шею в заключении духами с тонким запахом свежести.
Конечно, Маринка ждала иногда красного света светофора, чтобы остановить автомобиль, но умудрялась и на ходу краситься.
По временам к ней в машину заглядывали проезжающие мимо мужчины, и сигналили, и смеялись над ней, а некоторые делали оскорбительные знаки и кричали ей:
– Дура!
Но она ничуть не обращала внимания на повышенное внимание окружающих. Среди них, она была уверена, не было мужчины ее мечты.
Напоследок расчесав большой щеткой свою пышную гриву рыжих волос, Маринка взглядывала сурово в глаза, особенно рассерженного ее поведением водителя и тот, почему-то смутившись, поскорее перестраивался из одного ряда в другой.
Она знала, что не красива и непозволительно полновата, но у нее была одна изюминка – обладание особенным очарованием, когда одной улыбкой она способна была разогнать черные тучи на темном небосклоне.
К тому же у нее были прекрасные рыжие волосы водопадом спускающиеся вдоль спины ниже пояса. А главное, ее душа – нежная, мягкая, преданная, такая, одним словом, будто пушистый, белый котенок…
К ней пытались приставать. Но по иронии судьбы она вызывала интерес только у алкоголиков. Дворовые алконавты питали к ней корыстные интересы и часто даже высказывали вслух свои потаенные мысли о том, что вот как было бы хорошо окрутить эту дуру и поселиться у нее в квартире. Она бы работала, рассуждали они, а они бы пили. И такой альянс им представлялся раем. Частенько перегораживая ей проход в подъезд, предлагали самих себя в качестве долгожданного подарка. Иные похабно перечисляли свои достоинства или достоинства друзей.
Маринка тогда зажимала уши руками и бегом ныряла в подъезд. Один из алконавтов как-то все-таки прорвался к ней. Маринка, думая, что это соседка, вечно занимающая у нее деньги до зарплаты, не хватало с детьми да мужем-пьяницей, открыла двери. На пороге стоял пьяный мужик, в одной руке он держал вместо букета ворох зеленой травы, которую надрал, наверное, у подъезда, а в другой у него булькала бутылка водки. Пьяница радостно объяснил ей, что он пришел свататься. Маринка захлопнула перед его носом дверь. Пьяница после нескольких отчаянных попыток достучаться до нее, приложил губы к замочной скважине и ворчливо доложил:
– Дура, я же тебя осчастливить хотел, чего ты все одна да одна, а тут я – живой мужик!
Но не получив ответа, так и ушел со своим пучком травы и бутылкой. А Маринка еще долго тряслась, стоя в темной прихожей и заливаясь слезами.
Часто она у самой себя спрашивала, кто же мужчина ее мечты? И не видела черты его лица, а видела только душу. Он представлялся ей понимающим и таким… вот как она сама, что ли… И невдомек ей было, что все люди вокруг, без исключения, мечтают о том же. Быть понятыми, без слов, быть понятыми своими избранниками, какое это счастье! Что может быть лучше этого?! Не лгать, не изворачиваться, не подличать, объясняя то или иное свое состояние и поведение, а знать и понимать и, стало быть, прощать. По сути, все люди мечтают о даре телепатии, который, по всей вероятности, забыли, деградировав в тяжкой земной жизни, полной лишений и страданий.
Маринка часто об этом думала и однажды, сентябрьским погожим выходным решила съездить за грибами. Она любила лес и бывало забредала далеко, но всегда выходила, не тайга ведь. Всего-то с пять километров в длину и поперек может километра два, вот и весь лес. Горожане его ценили и дорожили им. Прибирались по весне многочисленными бандами, летом собирали ягоды и перекликались многоголосым эхом. Бывало, одна группа ягодников аукала кого-то из своих, а знакомилась с кем-нибудь незнакомым, отбившимся от родных и друзей. Так начинали дружить. Всегда делились съестными припасами друг с другом, сиживая где-нибудь на пеньках. Всегда заглядывали безо всякой зависти друг к другу в корзинки. В лесу была какая-то особая аура, где отсутствовало всегдашнее людское зло, исчезала гордыня и вообще всякая самость. Люди тут преображались и многие, кивая на лес говорили, что это место заповедное.
Бегали по лесу зайцы и лисы, спускались с сосен, поглядеть на людей пушистые белки. Что-то стучали большие дятлы, вылетали на тропинки трясогузки и бежали какое-то время перед путником, заботливо оглядываясь на человека и тряся хвостиком. Никто никогда в этом лесу не стрелял, охотники избегали этот лес, дичь им, здесь, не попадалась, сколько бы они ни совершали попыток выследить животину.
А старожилы улыбались загадочно и говорили, что, дескать, не любит хозяин-то, бережет своих зверушек…
Маринка лес любила и не столько собирала грибы, сколько бродила и наслаждалась. Обнимала большие стволы сосен и прижимаясь щекой к пахнущей смолою древесине, думала, что, как бы хорошо было бы тут и остаться навсегда, в покое и счастье.
Тихая радость разрасталась в ее груди и шкодливо щекотала душу. Она смотрела на небо, хорошо видное сквозь высокие вершины елей и сосен и наблюдала невиданные грандиозные города из белых облаков. Под ногами у нее пружинил мягкий мох.
Она шла, с удовольствием рассматривая лес, замечая каждую былинку, каждую травинку. Осень наступала. Повсюду уже кружилась, шелестя, желтая листва. Напротив красного клена одиноко стоявшего на поляне расположился грибник. Был он в темном длинном плаще, больших болотных сапогах. На голове у него лежала широкополая остроконечная шляпа.
Маринка еще сравнила его в этот момент с гномом, но ростом незнакомец никак не походил на гномов. Он был высок и даже под плащом видно было, что строен.
Странный грибник взмахнул руками, словно дирижер на концерте и клен, подчиняясь этому взмаху, стряхнул с себя красные листья. Листья, кружась, полетели по воздуху, в невиданном танце. Маринка смотрела во все глаза. Корзинка выпала у нее из рук.
Клен, меж тем, встряхиваясь и покачиваясь, как будто в такт вальсу сбрасывал и сбрасывал свои красные резные листья. А дирижер, чрезвычайно довольный, пританцовывал, притоптывал в такт. Листья кружились и ложились на землю. Наконец, клен сбросил последний листочек, тут же потянулся, как зевающий человек, расправил ветки и замер, как видно, засыпая.
Маринка, забыв обо всем на свете и разинув в изумлении рот стояла какое-то время, обалдев, как вдруг, услышала:
– А, это ты? Ну наконец-то ты пришла, Мариночка, радость моя!
Перед нею стоял тот самый дирижер.
Чуть изогнутые дугой брови его подсказывали ей, что ее появление, здесь, его сильно заинтересовало и возможно даже обрадовало.
Она сразу обратила внимание на две вертикальные задумчивые складки между бровями, у переносья.
Зачем-то внимательно рассмотрела его уши, чрезвычайно круглые и аккуратные.
Заметила, что он слегка щурится, как это делают люди с сосредоточенным зрением, привыкшие вглядываться вдаль.
Глаза у него были большие, выразительные и будто подчеркнутые черной тушью, хотя явно это было не так. Цвет его глаз ее потряс, они были ультрамариновыми, такими еще бывает цвет неба, но только на огромной высоте, если туда взобраться на самолете. Это был неправдоподобный цвет глаз, невиданный у людей.
Он глядел, и она тонула в его взгляде. Да, это был только миг, она почти сразу и прикрыла глаза, будто ослепленная светом солнца, но и сквозь закрытые веки длился этот взгляд, так много она успела прочувствовать и пережить, а главное осознать за один этот взгляд.
Странный незнакомец шагнул к ней, обнял и без слов поцеловал ее в губы.
Она закачалась, блаженствуя в его объятиях, душистый, весь пропитанный запахом хвои, вот каков был этот поцелуй…
Маринка и не подумала отстраниться от незнакомца, как бы это без сомнения сделала где-нибудь при похожих обстоятельствах, напротив, она совершенно бесстыдно поддалась к мужчине и обняла его, чувствуя под пальцами совершенно родного человека, которого она ждала всю свою жизнь.
Если бы кто-нибудь ее в этот миг дернул за рукав и спросил бы, что она делает? Она бы не смогла ответить, а только поплотнее прижалась бы к незнакомцу.
Его объятия кружили ей голову. Она так сильно его полюбила, что не смогла бы жить без него. У нее заболела душа от промелькнувшей было мысли о возможном расставании. Она почувствовала, что вот-вот лишится рассудка, если это произойдет.
По лицу ее потекли слезы, и он нежно поцеловал ее щеки и мокрые от слез закрытые глаза, желая ей добра и счастья.
Она растворялась в нем. Ничто ее больше не волновало и не заботило, кроме всепоглощающей мечты о нем.
– А я ведь ждал тебя! – прошептал он ей на ушко.
И она закивала, сияя ему своей обворожительной улыбкой, не заботясь, что он стер с ее глаз следы черной туши. К чему ей теперь нужна была искусственная красота, когда он любовался всем ее существом.
– Ты сокровище! – убежденно заявил он и повлек ее безо всяких церемоний за собой.
Она пошла, не сводя с него сияющего взора и ни на секунду не оставляя его теплой ласковой руки.
Лес вокруг них посветлел и как будто стал выше. Деревья тихо покачивались на слабом ветру, кроны их переливались всеми оттенками осенних цветов, от изумрудного до ярко-желтого. Темно-зеленый ковер мягкого мха устилал всю землю.
Они шли, все время куда-то спускаясь, как будто с небольшой горы, но ей было все равно. Неправдоподобное тихое счастье охватило ее душу.
– Какие же дураки эти сыны человеческие, что пропустили столь удивительную душу! – с чувством произнес ее возлюбленный.
Она услышала это и тут же согласилась с ним. Она вообще во всем хотела быть согласной с ним, ей это чрезвычайно нравилось.
Они вышли на окраину леса и вместо привычных полей, лугов и деревенек вдали, Маринка увидела волны яркой зеленой травы, спускающиеся к узкой полоске оранжевого песка и к… морю. К бесконечному лазоревому морю… Она подпрыгнула на месте и издала восторженный вопль, удивленно оглядываясь. Позади нее покачивались, уходя кверху, как по ступеням все выше и выше, великолепные золотистые сосны. По одну руку от нее высились темные горы со снежными шапками наверху. Над горами нависали белые облака. А по другую руку от нее посреди волн зеленой травы стоял чудесный деревянный домик, светлый, веселый, сияющий чистыми большими окошками.
Ее спутник, улыбаясь, повлек свою спутницу за собой.
Благоговея перед чистыми сосновыми половицами, Маринка разулась и, оставив резиновые сапоги на крыльце, босиком, в одних носках пробежала по дому. Несколько комнат в темных с золотом обоях, светлая большая кухня с белой печью и деревянной посудой. Простая обстановка всего дома с мягкими коврами под ногами, со светлыми занавесками спускающимися по бокам окон. Деревянные свирели и флейты во множестве разбросанные по дому то тут, то там. Плетеные из лозы люстры под потолком, все это настолько ее очаровало, что она подумала про себя:
«Буду дурой, если от всего этого откажусь и вернусь в наш гнусный мир!»
И Маринка подошла к ярко-полыхавшему камину. Ее возлюбленный трудился тут же, подсовывал дровишки в огонь, ворошил угли кочергой. Шляпа лежала возле, на небольшом плетеном столике и маленькие рожки на его голове привлекательно поблескивали в свете пламени камина. Сапоги свои он тоже оставил на крыльце и Маринка не без удовольствия рассмотрела его аккуратные копытца.
С улыбкой он обернулся к ней, они поглядели друг другу в глаза, прочитывая без слов мысли и чувства друг друга. И каждый в этот миг жизни точно знал, что думает и чувствует другой. И радость от состоявшейся встречи проскользнула в их глазах светом радости, любви и невысказанного удовольствия.
Маринка Озерова осталась на берегу нездешнего моря, подле гор, в светлом домике рядом с паном и мужчиной своей мечты, верной подругой и женой его, а еще слушательницей красивых мелодий духовых инструментов, до которых он был большой охотник… и навсегда исчезла из земного мира.
Но мало ли исчезает людей? Каждый день только и слышишь, что кто-то пропал, куда-то исчез, но куда? Может невиданные толпы нелегальных эмигрантов перебегают и перебегают втихомолку за границы опостылевшего мира ненормальной России куда-то к нездешним берегам потрясающих своей нормальностью тамошних берегов?!.
И только местные алконавты вынашивающие корыстные цели в отношении маринкиной квартиры вздыхали с горечью, куда это дура девалась и кого им теперь окучивать, может еще какая дура найдется, рассуждали они?..
Дарования
Памяти дедушки барона Курта фон Пульмана и бабушки Марты Беруа посвящаю…
Любовная тоска – самое страшное испытание, какое только выпадает на долю смертного. Во всяком случае, именно так размышлял Курт, в который раз уже накручивая телефонный диск и бесконечно упрашивая телефонистку с коммутатора соединить его с номером возлюбленной. Телефонистка бесцветным голосом сообщала, мол, не отвечает и задавала уже дежурный вопрос, может соединить с кем-то еще? С кем-то… этот кем-то ему явно был не нужен, нужна только она…
И угораздило же его влюбиться! Правда, она того стоила. Он таких, никогда не видывал, разве что в театре балета. Похожая на артистку. Яркая брюнетка с копной кудрявых волос водопадом спускающихся по спине. Глаза зеленые, с золотыми веселыми искорками. Нос чуть курносый, но аккуратный, губы полные, к поцелуям зовущие. А ноги… он бы смотрел на них, не отрываясь…
Он заметил ее на танцах в стайке хохочущих девчонок и сразу же пригласил на вальс. Как она танцевала! Он не чувствовал ее веса в своих руках, будто вел не живую девушку, а невесомый призрак. Нет, на призрак она не была похожа. И он чуть не застонал, вспоминая, какая восхитительно-гладкая у нее кожа. А аромат ее духов ему даже приснился, он так и видел во сне ветки сирени и ее, Марту.
Она была родом из Испании, переехала с родителями в Польшу, отец у нее был поляк и врач. Но сердцем своим она прикипела к Германии. Потомок королевы Изабеллы и великолепного рода коварных Борджиа. И глядя на нее, он был согласен, что она королевской крови, ее грация, ее поистине королевское достоинство и честь выдавали с головою знатность ее происхождения. Он и сам был не из простых, в его предках сверкал золотой короной король Генрих.
Весь вечер, позабыв обо всем, он увивался за ней. Она к нему была благосклонна. Принимала дары в виде пирожных и соглашалась танцевать с ним.
А он понимал, что не упустит ее никогда, умрет, но не упустит. Это был тот особый случай, когда понимаешь, что все в твоих руках и другого шанса дано не будет.
Весь мир сосредоточился вокруг нее и когда она снисходительно улыбаясь, все-таки, дала ему свой номер телефона, он мысленно подпрыгнул, на деле же учтиво проводил ее до остановки. Она села в автобус, махнула ему ручкой на прощание и уехала…
И вот прошла ночь, полная грез и мечтаний. Прошел день, наступил вечер, а Курт все никак не мог дозвониться до нее.
В какой-то момент жизни он уронил трубку на рычаг и заснул тут же в кресле, сидя у телефонного столика.
Глубоко ночью, раздался звонок. Курт подскочил, одним махом сдернул трубку, но звонок повторился. Звонили в двери. Курт бросился, открыл и обомлел.
Она стояла на пороге. Она, Марта…
Он потряс головой, откуда она могла узнать, где он живет? Что происходит? Бросил взгляд на часы, было уже три часа ночи. Он ущипнул себя за руку, не было никаких сомнений, реальность постучалась к нему в двери.
Курт вспомнил о манерах, вежливо поклонился и, не говоря ни слова, отступил, уступая ей дорогу. Она тут же торопливо вошла. Огляделась. Курт жил по-спартански. Минимум мебели. Военная форма висела на вешалке. Она остановила на ней взгляд, вопросительно оглянулась. Да, на танцах он был в штатском. Форму носил только в спецшколе. Во время бесконечных марш-маневров они всей школой вставали на плацу и не чувствуя усталости, заложив руки за спину, широко расставив ноги, задирали подбородки к небу. Хотя форма в какой-то мере помогала ему обрести военную выправку. Но все-таки главное – не форма, главное – мозги, физическая подготовка и развитие дара.
В данном случае, у Курта был дар демонов. Он мог подавлять противника всей своей волей и командовать, применяя гипноз. В одиночку, на практических занятиях ему удавалось одолеть до двадцати человек одновременно. Но к девушке свои таланты Курт применять не хотел, а желал, чтобы она сама, по доброй воле, его полюбила. Да и можно ли управлять любовью? Даже самые сильные колдуны применяющие привороты не могли бы похвастаться своими достижениями. Привороженная только не может уйти, ее вечно тянет назад к колдуну, но внутренне она протестует, томиться, не любит и, в конце концов, сбрасывает с себя ярмо приворота и уходит навсегда. Любовь – дело добровольное.
Марта зябко поежилась. В квартире действительно было прохладно, он спал всегда при открытой форточке под тонким одеялом, воспитывал в себе спартанский дух. Курт спохватился, форточку закрыл.
Она присела на его кресло. Он сел напротив нее на единственный стул, вопросительно взглянул.
Она глядела на него, не отрываясь, пристально, без смущения разглядывая его. Так смотрят посетители зоопарка на какого-нибудь редкостного зверя.
Курт пожалел в эту минуту, что не курит. Сейчас бы он спрятался за завесой дыма от ее настырных глаз. Ну что за мука, как на эшафоте!
Наконец, он взял себя в руки и взглянул ей прямо в глаза, не нарочно посылая убийственную силу василиска, убийц, колдунов убивающих одним только мысленным посылом было предостаточно в его роду. Она тотчас пошатнулась, вскинула руки, защищаясь, что-то слабо простонала и потеряла сознание.
Вот это да! Курт заметался, он плохо представлял себе, как исправить ситуацию, убить – не воскресить. Метнулся на кухню за кувшином с водой, смочил ей виски, попытался напоить, но вся вода вылилась из ее не живого рта. Она очень побледнела. Он прислушался к ее сердцу, осмелился приложить ухо к ее груди и услышал только редкие удары.
Между бестолковыми действиями, которыми он пытался оживить девушку, Курт напряженно обдумывал, что скажет завтра инструктору, а может и директору спецшколы. Ведь медики, которых он будет вынужден вызвать, обязательно доложат о пациентке, откуда ее взяли, передадут его данные. За агентами спецслужб следили, но за кандидатами в агенты следили еще строже. Вопрос нравственности в этой связи почему-то стоял на первом месте. Главное – дело, а потом уже поцелуи. Инструктор сам одинокий, часто любил повторять: «Агент германской разведки обязан быть одинок, семья ставит его под удар!» И дальше объяснял, что это распространяется в том числе и на родителей. Ну, родители у Курта уже умерли, он был поздний ребенок, так получилось, напыщенные барон и баронесса фон Пульманы, наследники короля Генриха и франкфуртского миллионера, упомянутого мимоходом самим Александром Дюма в «Графе Монте-Кристо» не вынесли гитлеровщины. Они, своим колдовским оком, увидели гибель страны и пожелали уйти из этого мира. Конечно, им помог Джин. Курт так его называл.
Джин и Курту предлагал покинуть этот мир, но юноша отказался. Молодость звала его к подвигам. И Джин недоумевая, пожимая плечами, отступил, свободу выбора он уважал.
Марта очнулась, посмотрела вокруг не понимающим взглядом. И вспомнила. С возгласом раненой птицы кинулась к двери, прочь, на волю. Курт перехватил ее, умоляя его простить. Он уверял ее так, как будто она могла что-то понимать, что применил свой дар совершенно случайно, нечаянно. Она, все еще слабая, еле на ногах стояла и не вырывалась из его рук только по этой причине, мотала головой и прятала глаза от его взгляда, боясь повторения атаки.
Но все-таки, кое-как успокоилась, кивнула в знак согласия, что верит ему и в свою очередь тихим слабеющим голосом поведала, что пришла к Курту в квартиру, потому что он замучил ее своими мыслями о ней. У нее, оказывается, тоже был дар. Она – самый настоящий эмпатик и преодолеть иногда мысленные посылы, волнами наплывающими на нее, была не в состоянии. Надо было придти к зовущему и тогда можно было передохнуть и взять бразды правления над разумом, зовущего в свои руки, что она, собственно и попыталась сделать, но наткнулась на более сильного колдуна, нежели была сама. Она шла как бы по невидимой, но хорошо ощутимой для нее ниточке, четко чувствуя, где живет зовущий ее человек.
Они разговорились. Отец у нее был обыкновенным человеком и едва ли догадывался, что происходит, ее мать Иоганна влюбилась в него искренно и навсегда. Также как, впрочем, и отец полюбил Иоаганну, он был практикующий врач, поляк по происхождению по имени Людовик.
Марта с детства плохо скрывала свои дарования. Считывала мысли других, управляла погодой, безошибочно чувствовала будущее и знала, кто о ней думает и что. Нередко забывалась и уже из Германии пугала своего отца, звонила ему в Польшу и говорила его собственные мысли и называла дела, какими он сейчас занят, иногда советовала выход из затруднительной ситуации связанной с болезнью пациента. У нее были обширные познания в области медицины. Отец никак не мог привыкнуть, и каждый раз взволнованно метался, успокаиваемый только спокойными доводами Иоаганны.
Курт был рад такой встрече. Он не сводил восторженного взгляда с ее милого лица. И уже внутренне торжествовал, зная, что они никогда не расстанутся.
Марта, очень артистичная, музыкальная, увлекла Курта. И они часто экспериментировали, наводя на расстоянии телепатические мосты, а потом, при встрече узнавали, поняли ли мыслеформы друг друга или нет? Чаще, любовь, которой дышали их сердца, позволяла им понять, не только мысленную волну, но даже малейшую простуду. Так мать чувствует своего ребенка и бежит на крыльях любви и заботы к своему чихнувшему чаду, чтобы закрыть его своими крыльями от грядущей болезни.
И жить бы такой любви, и расцветать на волнах талантов Курта и Марты, но… война и ненормальные правители, коими и поныне полон мир, не дали такой возможности, а жаль…
Криминальная история
Одним жарким июльским деньком в антикварную лавку зашел мужик. Выглядел он так себе, давно небритый, одежда грязная. Выложив перед хозяином лавки горсть золотых цепочек, колечек, сережек, тут же потребовал оценки драгоценностей.
Хозяин, раздобревший от хорошей жизни, не в меру упитанный старик, с замашками барина, презрительно, едва касаясь, перевернул пару колец:
– С трупов снял? – кивнул на золото.
Мужик выпрямившись, с достоинством, ответил:
– А ты докажи!
Хозяин отодвинул в сторону газету с кричащими криминальными подзаголовками: «Стрелял в упор», «Дурь на 30 лет», «В Москве задержан вор в законе».
– Так берешь или нет?
– Три тысячи за все!
Мужик оценил ситуацию, сощурился:
– Десять тысяч!
– Восемь! – сухо бросил хозяин.
– Девять! – не сдавался мужик.
– Восемь! – предлагал хозяин.
– По рукам! – согласился мужик.
Получив деньги, он торопливо покинул антикварную лавку.
– Безбожник, – кивнул хозяин лавки и, не прикасаясь к драгоценностям, развернул газету, где крупными буквами был виден заголовок:
«Расхититель гробниц за одну ночь перекопал деревенское кладбище!»
Прошло минут пять, в лавке стояла почти полная тишина, тикали старинные часы да капала где-то в подсобке вода из-под крана.
В лавку заглянула молодая дама. Хорошо одетая, ухоженная. Прошла к витрине с фарфоровыми статуэтками кошечек, пастушков, куколок. Посмотрела. Хозяин следил за ней внимательным взглядом.
– А нет ли у вас чего-нибудь этакого? – повернулась к нему дама.
– Есть, – немедленно отозвался хозяин лавки, – неугодно ли посмотреть?
– Угодно! – хищно взвилась дама.
Хозяин кивнул на прилавок перед собой, где так и лежали не тронутым грузом ответственности брюлики мужика.
Дама накинулась. Хозяин придвинул к ней лупу для рассматривания проб золота.
Дама перемерила все изделия. Выбрала подходящие для себя цепочки, кольца, сережки.
– Сколько?
– Двадцать тысяч!
– Беру! – без кривляний согласилась дама.
Хозяин выдал ей изящную бархатную коробочку, и она сама упаковала купленные погремушки. Ушла, чрезвычайно довольная покупками.
Хозяин вернулся к газете, разглядывая фотографию с разверстыми могилами, раскрытыми гробами.
В лавку зашли двое. Он, в добротном костюме, она либо дочка, либо жена папика.
Хозяин отложил газету. Парочка прошлась по лавке, приценилась к старинным часам.
– А это у тебя что? – ткнул он пальцем.
– Продается! – кратко доложил старик.
Покупатели углубились в изучение товара.
Он примерил пару перстней, она колечки, сережки, цепочки с кулонами и заныла:
– Котик, купи, котик!
– Ладно, лапуля, – отмахнулся папик. – Куплю!
Зацепил еще массивную золотую цепь:
– Сколько?
– Пятьдесят тысяч!
Папик нахмурился.
– Котик! – заверещала явно не дочь.
– Ладно! – согласился папик, доставая из нагрудного кармана красненькие бумажки, в пять тысяч рублей каждая.
Сладкая парочка покинула лавку. Хозяин лавки бросил взгляд на оставшиеся изделия, горсть заметно уменьшилась, но все же, кое-чего оставалось.
В лавку вошли две чопорных бабушки. Интеллигентного вида, но хорошо одетые, ухоженные, с башнеподобными прическами. Хозяин ждал, не сводя глаз с покупательниц. Недолго потоптавшись возле кошечек, бабульки приблизились к прилавку:
– Смотри-ка, точно такие сережки у меня просила внучка на день рождения! – оживилась одна.
Другая, заинтересовалась цепочкой с кулоном, подходящими сережками с жемчугом и кольцом украшенным гранатом.
– Молодой человек, сколько с нас? – после окончательного выбора, спросила первая.
Хозяин с сомнением оглядел покупательниц:
– Десять тысяч!
– Много, – решила вторая, но ничего не отложила и продолжила, – пенсионеркам скидки!
Хозяин, едва ли будучи моложе своих покупательниц, сбавил цену и еще сбавил, и еще…
Не успели двери закрыться, как в лавку ворвалась жадноватого вида баба:
– Слышала, у вас тут золото старинное можно скупить?
– Можно! – согласился хозяин и кивнул на оставшуюся горстку товара.
Баба накинулась:
– Беру! Сколько?
– Десять тысяч!
Не торгуясь, баба отдала деньги.
После ее ухода, хозяин взял чистую тряпку, тщательно протер прилавок, зевнул, сел, но только развернул газету, как пожаловали господа полицейские.
Хозяин подскочил, газета бесполезной бумажкой прошуршала на пол.
– Золото, драгоценности в лавке имеются?
– Никак нет! – отчеканил хозяин, – фарфор старинный имеется, часы, книги старинные, иконы, но золото не имеется!
– Ну ладно, – согласились полицейские, но лавку обошли, заглянули и в подсобку, где продолжал капать неисправный водопроводный кран.
Полицейские ушли, напоследок пообещав вернуться, так как ищут похищенное у покойничков имущество.
– Фу ты! – сплюнул хозяин антикварной лавки, поспешно запер входные двери, вывесив табличку:
«Закрыто по техническим причинам».
Вышел через черный ход. Тщательно запер двери и, оглядываясь, торопясь, кинулся через дорогу, в банк, где всю «заработанную» на кладбищенских драгоценностях выручку положил на свой банковский счет, с тем и успокоился…
Мистика
Семен Новосельцев, а попросту Сеня считал, что у него все хорошо, жизнь налажена, бизнес процветает. Огромный и толстый, он всегда что-то озабоченно жевал и подергивал безразмерные брюки, беспрестанно сползающие с его бедер.
Два толстых, разжиревших бульдога составляли ему, в обыкновении, компанию. Иногда к их обществу присоединялась теща Сени, полная и чрезвычайно активная дама. Теща тоже все время что-то жевала и без умолку трещала о новомодных диетах. Сеня ее лениво слушал, иногда машинально кивая, за много лет общения с тещей, он выучил все ее закидоны наизусть. И точно знал, что ей подарить, к примеру, на Новый год или на 8 марта, безразлично. Теща с ума сходила от спортивных снарядов, в ее комнате стояли всевозможные тренажеры, возле кровати валялись гантели. А на юбилей, когда ей стукнуло шестьдесят пять, Сеня привез небольшую штангу и, украсив ее бантиками, подарил обрадованной теще. Но, несмотря на столь творческую жизнь, теща нисколько не худела и потому из общества зятя и его двух толстозадых бульдогов не выделялась. Все вместе они частенько выходили во двор и неторопливо прогуливались, оглядываясь, не без удовольствия, на дом.
Сеню при этом распирала гордость, ведь, по сути, дом был выстроен на его средства.
Сам дом представлял собой своеобразный замок в миниатюре с башенками и бойницами, строить дома в виде замков было чрезвычайно модно. Перед домом находился небольшой бассейн, всю поверхность которого покрывали медленно кружащиеся по воде желтые осенние листья. На дворе стояла золотая осень и потому опавшая листва была скорее законным явлением, нежели чем-то неестественным. Возле бассейна в старинном русском стиле была выстроена деревянная беседка, выкрашенная в белый цвет. В ней часто, до самых заморозков собиралось все семейство. На круглом столе появлялся пыхтящий угольный самовар с заварочным чайником наверху. В плетеных вазочках обязательно лежала гора сдобных булочек, домашних пирожков, сладких печений и крендельков. Семейство после чая частенько, всем составом, щелкало орехи. В ход шли все орехи, какие только можно было приобрести на рынке, но особо любимым считался жареный арахис.
Арахис ели и поглощали килограммами. Знающий врач сказал бы, что в организмах семейства есть какой-то пунктик, что-то стало быть не хватает, какого-то витамина. Ну, а соседи вокруг, соблазненные запахом жареного арахиса, тоже бежали покупать вожделенные орехи, чтобы жарить и есть.
Таким образом, дух жареного арахиса просто не покидал элитного поселка славного Подмосковья, где и обитал со своей семьей преуспевающий бизнесмен, владелец «заводов и пароходов», Семен Новосельцев и заехавший в поселок гость, принюхиваясь и поводя по ветру длинным носом, спрашивал озадаченно, а чем это у вас так замечательно пахнет?
Вместо ответа, ему улыбаясь, протягивали тарелку полную жареного арахиса.
И как-то такой гость постучался в толстые железные двери ворот дома Новосельцевых. Сеня открыл скрипучую калитку и обомлел. Перед ним стоял тесть.
А надо бы немного отступить в прошлое и рассказать чуть-чуть о новоприбывшем.
Он жил обыкновенной жизнью, как все, завод, сто грамм водки до смены и кружка пива в пивной после смены; карты или домино по выходным, стол во дворе со скамейками и друзья с болтологией; дочь с уроками и гулянками, неумело накрашенными ресницами и размазанной по губам яркой помадой; жена со своими амбициями.
И вдруг, в цехе его завода появилась новенькая работница. Она отличалась от мускулистых баб цеха, выделялась белизной лица и хрупкостью рук. Сене хотелось ее защищать и оберегать от грубых работяг и железных заводских станков. Незаметно для себя он полюбил новенькую, тем более, что и она обратила на него самое пристальное внимание. Она была веселой, забавной, не очень красивой, но интересной. А главное, одинокой и жаждущей семьи.
Он стал метаться между нею и своей семьею. Ему трудно было выбрать, трудно было решиться на разрыв с женой, нарушить налаженный быт, ох, как трудно. Но что он мог поделать? Она была повсюду. Где ее не было? Как от нее было уйти?
Она преследовала его в мыслях, даже когда он дома разглядывал с пристрастием свою жену, горбатившуюся в ванне над стиркой бесконечных гор его грязных носок и его грязных брюк. Он чувствовал несправедливость происходящего по отношению к своей второй половине, но волны ярких любовных ласк, в которых он просто купался, продолжали и в воображении накатывать на него.
Воображение – страшная штука! Навоображаешь себе того чего и нет, ну и вдохновленный лезешь к женщине, а она тебя сковородкой по голове! – и он опомнившись чесал свою макушку.
Однако он мечтал и в воображении своем видел, как она сбрасывает с себя сорочку и замирал, в восхищении, разглядывая ее. Она стояла перед ним обнаженная, васильковые глаза на белом лице светились теплым счастьем. Он медленно оглядывал ее всю, со вкусом смакуя каждый миг прекрасного виденья. И она легко поворачивалась под его взглядом, бесстыдно демонстрируя свое розовое тело с налитой грудью, тонкую талию и золотой пух на лобке. Она знала о своей красоте и кружилась перед ним, на цыпочках, чтобы он мог увидеть ее стройные белые ноги.
Вся она светилась любовью к нему и это, особенно это, вызывало у него бурю эмоций. Ангел полюбил черта! Но постепенно, под градом ее страстных поцелуев, противоречия разрушающие его изнутри умолкали и он погружался в сладкий сон, испытывая чистые и приятные чувства, более похожие на сказочные, нежели на реальные.
Да, воображение – штука страшная!
Даже жена заметила его преображение. Она заинтересовалась им и он, не перенеся ее домогательств, объявил, что любит другую и уходит из семьи.
Тут было все и изумление, и громкая ругань по поводу супружеской измены, и вопли о донжуанстве, и витиеватый мат, и слезы разбуженной дочери, и возмущенный стук по извечному телеграфу, используемому всеми русскими в многоэтажках, стук по батареям.
Они развелись, квартиру разменяли, ему досталась комната в коммуналке, бывшей супруге с дочерью однокомнатная квартира.
После развода и размена он надолго пропал и объявился только на свадьбе у дочери. Сеня его впервые и увидел, когда тесть торжественно и чинно вел свою дочь к алтарю в церкви. Вторая встреча… вторая была сейчас. Тесть стоял перед ним, какой-то потерянный…
Откуда-то из-за спины Сени, вынырнула теща, но вопреки ожидаемому скандалу, только охнула и попятилась от тестя, как от привидения. Действительно, выглядел он так себе… На лице жили только глаза, живые и лихорадочные, боязливые и нетерпеливые, одновременно.
Тут же и жена Сени, дочь тестя, дородная и добрая баба, оттолкнув мужа, кинулась к отцу с охами сожаления. Из-под ее локтя вынырнула дочь Сени, тоже вполне упитанная девочка младшего школьного возраста. Картину дополнил сын-старшеклассник, что и говорить, сынок был весь в отца, такой же толстый и прожорливый. Хорошими манерами он никогда не отличался и потому, доедая шоколадное эскимо, тут же громко спросил в самое лицо нежданного гостя:
– А ты кто?
Гость растерялся и, мигая, смаргивая непритворные слезы, промямлил:
– Ребята, какие же вы все толстые! – и повернулся к внуку. – Дедушка я твой!
И упал на колени, пополз к ногам тещи, заголосил на всю улицу:
– Прости меня!
Теща тут же наклонилась, сгребла в охапку маленького и хлипкого мужа, чмокнула его в облысевшую голову и понесла под мышкой, в дом, не отвечая на вопросы обеспокоенного таким оборотом дел, зятя.
Несмотря на измену, развод и размен общей жилплощади, теща тестя любила и нет-нет, да и вспоминала о нем, со вздохом печали, дескать, как он там поживает со своей молодухой.
На самом видном месте, в ее комнате и на столе, и на стеллаже стояли его портреты, лежала затрепанная уже стопка фотоальбомов с его фотографиями.
Тесть обосновался в доме довольно быстро, но сильно отличался от всех родных. Он любил засесть на кухне за бутылкой водки и тарелкой соленых огурцов. Компанию ему составляла теща. Выпив, он тут же начинал петь. Пел народные русские песни с грустным текстом о смерти и пел с надрывом, плачущий голос его, с визжащими, как бы, в истерике, нотками, несся над головами родных и, достигая окна, дребезжал, ударяясь о стекла.
Он страдал хроническим ревматизмом, пальцы на руках у него не гнулись, кривые и опухшие, она производили угнетающее впечатление.
Каждое утро, помимо боли в суставах он испытывал еще и головную боль, мучился похмельем. Хворал жестоко и постоянно собирался помереть. Его болезненные стоны разносились по дому, приводя в неистовство обоих бульдогов. Бульдоги, заслышав стоны тестя, плюхались на задницы, задирали головы кверху и выли, их вой сводил с ума Сеню и он несся тяжелым снарядом в комнату тещи, требуя покоя.
Теща, нежно воркуя, ухаживала за тестем. Наливала ему стопочку ледяной, из холодильника, водки и тесть опохмелившись, немедленно оживал, куда и ревматизм девался.
Любил тесть еще и проказничать. Для того он забирался к кому-нибудь в комнату, забирался под кровать и когда кто-нибудь входил, выбрасывал вперед руку, чтобы схватить за ногу вошедшего и напугать. Спрятавшись за углом коридора, он, нисколько не заботясь о приличиях, выскакивал этаким чертом и озоруя свистел прямо в толстые лица своих родных. Дочь Сени от страха похудела, а сын, закусив удила, принялся мстить деду и сам пугал его, испытывая при этом, почему-то невероятное удовольствие.
Сеня стал плохо спать и часто просыпался, меняясь в лице, чутко прислушивался, стараясь понять, что еще выкинет тесть. Часто, вслух, негодовал, но только в спальне и только при жене высказывал свои претензии к тестю. Жена горячим шепотом его уговаривала потерпеть, может все и уладится, как-нибудь, говаривала она.
Теща худела и носилась счастливым ветерком по дому. Она даже тренажеры свои забросила, к чему они теперь ей нужны были?
Тесть отверг повседневный жареный арахис и перешел на жареные семечки. Теща, без раздумий, к нему присоединилась. Постепенно круг орехоедов мельчал. К деду с бабушкой примкнули и внуки. И это переполнило чашу терпения Сени, тем более похудевшие дети его, стали куда как резвее и прыгучее деда. С утра до вечера они носились с дедом наперегонки по двору, прыгали в доме, их смех, пение и пляски не смолкали ни на минуту. И Сеня с тоской вспоминал спокойные прошлые годы, без тестя, когда толстая дочь придя из школы, обедала и, повалившись без сил, засыпала до вечера, а после вставала и кое-как делала уроки, чтобы поужинав и снова обессилев от переедания, повалиться спать до утра. А толстый сын, все время что-то жуя, сидел на кровати, положив себе на колени ноутбук, где во множестве компьютерные игры настолько захватывали его, что не обращая внимания на вопросы взрослых, а кушал ли он суп, только молча кивал в ответ и махал на них нетерпеливо рукой, мол, мешаете, идите себе. В доме была тишина, и только теща изредка нарушала гармонию семьи, подбрасывая к потолку штангу, она выдыхала так громко, что Сеня немедленно бросал свое извечное чтиво – газеты и обращал вопросительный взгляд на жену. А жена? Она всегда готовила и вечно пекла пирожки, теперь же ее труды были никому не нужны, во всяком случае не нужны в таком количестве, как раньше.
Сеня от переживаний похудел и теперь затягивал ремень на своих брюках, свешивающихся мешком с его бедер. Жена, сияя улыбкой, измеряла сантиметром талию и кивала каждый раз, что еще пять сантиметров долой.
И глядя на семейных Сеня думал, что скоро они все вообще превратятся в ничто, пропадут, растают от недоедания и недосыпания.
Как-то он отважился и подловив тестя, одного, в лоб спросил, на предмет возвращения домой? Тесть смутился, потупился и развел руками, что позабыл, где его дом, но нашел жену, дочь и внуков, здесь, в доме зятя, Сени.
Новосельцев психанул, сел в свой навороченный джип и рванул в маленький подмосковный город, откуда он и взял жену с тещей за себя замуж и, где он знал, в коммуналке жил его тесть. Быстро нашел необходимую многоэтажку, обнаружил и коммунальную квартиру, нашел комнату, постучал, дверь открыла жена тестя. В красках, с чувством, он поведал о тесте-прохиндее и попросил ее помощи. Жена, краснолицая и сердитая баба, вполне возможно изменившаяся в силу профессии, замечено, что работа меняет людей и придя на завод дюймовочкой она постепенно, год за годом, как дерево слои, приобрела вот такой вид. Баба оглядела его непонимающим взглядом, отвела к серванту, откуда, недолго порывшись в какой-то шкатулке, достала справку о смерти своего мужа, несколько раз ткнула ею в нос обалдевшему Сене. Побывал он с ней и на кладбище, оглядел памятник, с которого на него смотрел тесть и выслушал ее отказ ехать за тестем в поселок. Со словами о явном помешательстве Сени, она и дверь перед ним захлопнула, правда оставив, все-таки, в его руках справку о смерти тестя.
Возвратившись домой, Сеня нашел семью в беседке, за чаепитием. Самовар уже пыхтел на столе. Тесть снял сверху самовара нагревшийся заварочный чайник. Налил немного заварки себе в чашку, затем, не торопясь, подставил чашку под кран самовара и вцепившись кривыми пальцами в витиеватую ручку, отвернул кран, тут же полилась толстая струя кипятка, быстро наполняя чашку свежим черным чаем. Из чашки он, не торопясь, налил чаю в блюдце, а блюдце в свою очередь, поставил на растопыренные пальцы правой руки и принялся со вкусом прихлебывать чай с блюдца.
Сеня с нескрываемым отвращением наблюдавший эту сцену хлопнул о стол справкой о смерти тестя:
– Ах ты старый аферист! – взревел он.
Тесть взглянул коротко в бумажку, прочитал, поднял понимающие глаза на Сеню и прошептал:
– Догадался все-таки!
И тут же, на глазах у жены, дочери, двух внуков и обоих бульдогов растаял в воздухе… Блюдце с чаем еще повисело какое-то время над столом и грохнулось на пол беседки, осыпав всех присутствующих горячими брызгами.
P. S Теща у Сени лечилась в специальной клинике, но до конца своей жизни разговаривала вслух с невидимым тестем, часто пила водку на кухне и пела трескуче те же песни, что пел когда-то тесть.
Сын у Сени стал очень набожным и поступил в духовное училище, он так и не поправился больше в весе.
Дочь похудела и вытянулась настолько, что ее пригласили фотомоделью в известное модельное агентство, она только страшно нервничала при виде кроватей и все норовила под них заглянуть, в ее квартире исключительное место занимала мебель без ножек и диваны, под которые, понятно, никто не смог бы забраться.
Жена у Сени стала немножко заикаться, но в целом произошедшее ее не слишком впечатлило, она создала в интернете круг единомышленников и все разыскивала похожие истории, произошедшие с кем-то, где также участвовал живой покойник.
Оба бульдога вели себя спокойно, пока на темном ночном небе не показывалась Луна. На Луну бульдоги выли и потому по всему дому висели плотные шторы, не видя Луны, псы спали и молчали.
А что сам Сеня? Он все время лечился. Вначале у него задергались веки глаз, потом неуправляемо затрясся подбородок, и, в конце концов, затряслась голова. Лекарства не помогали. Спал он со светом и просыпался мгновенно от любого шороха. Тесть ему часто снился и грозил пальцем, дескать, если бы не ты, одним словом, мистика…
Скучно жить
Скучно жить! Кругом одно и то же, новости как с фронта, у дикторов лица напряженные! Президент Америки на Россию наезжает. Я взял фотоаппарат, пошел к автобусной остановке, в часы пик, сфотографировал народ штурмующий автобусы, выложил американцам в фейсбук и в Google, внизу подписал:
«Это русские добровольцы торопятся в российскую армию попасть!»
Мне в ответ, что такое? Шум, гам, вопросительные комментарии от американцев.
Включаю телевизор, снова новости, снова президент США нагнетает обстановку и выставляет нас, русских, агрессорами.
Я за фотоаппарат. Сфоткал дачников. Те, известное дело, бодрячками с тяжеленными рюкзаками и тележками со своих огородов прутся. Выбрал самый колоритный персонаж, сухощавую, жилистую бабульку с рюкзаком на спине, с рюкзаком на груди и багажной тележкой в прицепе. Выложил у американцев на интернет. страницах с подписью:
«Ветеран Второй мировой войны рвется в бой. Все на борьбу с войсками НАТО!»
Что тут было! Засыпали вопросами, неужели и женщины у вас участвуют в военных операциях?
Я опять за фотик и в деревню, где на сборе урожая выследил нескольких крепких баб, ядреных, мускулистых, одним словом: «Коня на скаку остановят!» Сфотографировал, выложил с подписью:
«Русские военнослужащие готовят площадку для запуска боевых ракет в сторону США!»
Выложил фотографию бабы в ватнике, за рулем трактора. Муж у нее, тракторист, в канавке отдыхал, пьяненький. Так баба вместо него работала, жена, как-никак. Подписал:
«Русские женщины проходят переобучение в танковых войсках!»
Поверили! Американцы выть начали, прямо со своих интернет. страниц, начали выть от страха.
А еще и главнокомандующий России отдал приказ о всеобщих учениях. Прокрался я с фотиком к реке, где военные спешно строили понтонный мост. Тут и население местной деревеньки, бабки, дедки стоят, дожидаются, на отрицательные махательные движения командиров не реагируют. Мост, он и в Африке мост, что и не воспользоваться, когда свой, деревенский давно прохудился. Ну и снял я, как местный люд, сметая военных, понесся с коровами, козами, курами, кошелками набитыми всякой всячиной на тот берег. На том берегу, невдалеке, в соседнем селе базар был, вот и дождались деревенские, когда можно было продать какую-никакую живность, пенсии маленькие, людям всякая деньга – подспорье.
Я за фотик. Снимки хорошими получились, четкими такими.
Выложил с подписью:
«Гражданское население сдает нормы ГТО! Даже военные уступают в физической подготовке русским старикам и женщинам!»
И тут меня вызвали. В секретные органы. О чем говорили, не скажу – потому, как секрет! Только сейчас я поеду в танковые войска, затем в космические, а после снимки в интернете выложу, так что, ждите!
Капсула молодости
Мы познакомились в горах. Так получилось, нашу стоянку уже заняли какие-то люди, деваться больше было некуда, тем более по законам туризма нас немедленно пригласили к костру, налили чуточку водочки в одноразовые стаканчики, накормили кашей с мясом и принялись знакомиться. Новыми знакомыми оказались актеры одного довольно-таки знаменитого театра, и среди всех прочих я увидела актера хорошо мне знакомого по многим и многим его работам в кино. Актер этот уже в летах, двигался в свое время очень хорошо, много танцевал, смешил людей, имел легкий характер, но теперь он угрюмо взирал на нас, смотрел с недоверием и подозрением. С возрастом у него испортился характер. Временами он что-то недовольно бурчал себе под нос и вскоре вообще ушел от нашей шумной компании.
Постепенно разговоры у костра уперлись именно в него, покинувшего нас. Я узнала, что ему уже почти восемьдесят лет и, что он недавно похоронил свою жену, с которой прошел по жизни уже лет пятьдесят, а то и больше. Женился на ней в двадцать пять. Ничего себе, да?
Актеры театра его очень любили и все от него терпели, явление довольно-таки редкое в театральном мире. Именно из-за него весь театр сидел в горах. Было приведено множество аргументов и покой, и чистый воздух, и благодать, и высокие горы.
Надо сказать на счет высоты они преувеличили. Наша гора выглядела по сравнению с соседними не очень большой, взобраться на нее, почти на вершину можно было бы пешком, ну может ползком. Во всяком случае, мне пришлось несколько раз даже прилечь прямо на тропинку, возраст давал о себе знать, почти пятьдесят лет, тоже не шутка. Конечно, никакого сравнения с износом тела актера, которого мы все обсуждали, но все же уже и тут болело, и там что-то потрескивало, а тут и пошумливало…
В предрассветные часы мы, наконец, стали расходиться, но спать не хотелось. Да ну их, эти палатки и храп мужиков. Я взобралась чуть повыше, еще повыше. Камни сидели в горе крепко, выпирали ступенями и тут кто-то сверху протянул мне руку помощи. Оказалось, тот самый актер. Облюбовал большой плоский камень, лежал на нем и наслаждался видом. Тут же и мне предложил местечко рядом с собою.
В полном молчании мы пролежали так довольно-таки много времени. Бывает хорошо молчать в обществе кого-то, а с кем-то приходится все время разговаривать, потому как даже маленькая пауза нагнетает столько напряжения, что волосы на голове приподымаются, встают дыбом.
Он оказался человеком, с которым хорошо молчать. Мы глядели на подмигивающие нам звезды бездумно. Так, наверное, смотрят деревья, покачивая ветвями в такт музыке ветра. Просто смотрят… и вялые мысли текут в их кронах, перетекая одной мыслью-каплею из ветки в ветку, пока не выступят росой на каком-нибудь листе и не упадут, сверкая безмятежностью, на землю.
Вдруг, он тронул меня за руку. Прямо на нас надвигалась с ужасающей быстротой звезда. Она росла и росла. И пока он взирал на это чудо с удивлением, я сообразила – это «серые», рептоиды, убийцы, в бывшем времени своем атланты и погубители цивилизации. Мысленно сконцентрировалась и кинула в звезду огненный шар. Звезда вздрогнула, но мгновенно выровнялась и снова ринулась к нам. Тогда я с пулеметной очередью стала метать огненные шары. Корабль был огромен, сказочно огромен. Блистая разноцветными огнями, он бесшумно пролетел над нашими головами, перекувырнулся, скользнул вдоль тропинки вниз и рухнул, ломая деревья. Мы вскочили, помогая друг другу, слезли к нашему лагерю. Все спали, как ни в чем не бывало.
По тропинке мы почти бежали, иногда съезжали на пятой точке и мне, и ему было тяжело, но спуститься, мы чувствовали необходимо. И спускались дыша загнанными лошадьми.
Наконец, достигли земли и сразу же увидели корабль. Он лежал на боку, раскрыв множество люков и полукруглых дверей. Сверкал всеми цветами радуги, но никого вокруг него или внутри мы не увидели. Довольно долго мы просидели в засаде, осторожно выглядывая из-за кустов на корабль, но все выглядело, как и минуту назад, как и пол-часа назад.
Наконец, мы отважились, подошли к кораблю, постояли, послушали, вошли. Белые полукруглые коридоры встретили нас пугающей пустотой. Мы прошли по ним сколько-то, прошли через разверстые двери и наткнулись на капсулу. Она была пуста и открыта. Я знала цену этому изобретению «серых». Недолго думая, залезла, улеглась, крышка тут же сама закрылась. Капсула мягко зажужжала, окутала меня теплым коконом, возникло щекочущее чувство в области сердца, почек, кишечника, ног. Все, что болело, капсула должна была неминуемо вылечить. Когда она открылась, он ахнул, подал мне руку, помогая вылезти и тут же залез на мое место. Капсула закрылась, окутывая его всего цветною дымкою, тихо застрекотала, мигая кнопками. И не успела я затосковать, как она открылась, выпустив его на свет. Вместо старика я увидела молодого тридцатилетнего мужчину. Ахнула. Мы поглядели друг на друга и рассмеялись. Взялись за руки и побежали к выходу. Надо было удирать, атланты никогда не оставляют своих в беде, на помощь приходят обязательно. Выход был еще свободен.
Мы побежали к нашим кустам, в которых сидели до того, в засаде. При блеске корабля, с удивлением осмотрели друг друга. На голове у него пышной копной опять выросли каштановые волосы и он трогал их беспрестанно, беззвучно смеясь. И повторял, что уже от них отвык, обслысев лет тридцать назад. Ощупывал свое лицо и не находя морщин и мешков под глазами радовался как ребенок. Его глаза сияли молодым блеском. Он подскочил ко мне. Обхватил меня двумя руками и к моему удивлению почти сомкнул пальцы у меня на талии. Когда-то я была очень худенькой, но после родов, располнела и о талии приходилось только вспоминать. Но тут… он обнял меня, счастливо смеясь и оказавшись в его объятиях, я ощутила сильнейшее желание и его обнять в ответ, а может даже обнаглеть и поцеловать. Он прошептал мне на ушко какие у меня теперь яркие и прекрасные глаза, какая нежная бархатистая кожа и прочее такое, что непонятно было бы молодежи не знающей цену всей радости обладания легкими молодыми телами.
Тут прилетели два корабля, поменьше этого. И послушный их воле, наш корабль закрыл все свои люки и двери, выключил огни, погрузившись в темноту, бесшумно полетел под двумя спасателями, вероятно, в нору-лабораторию сооруженную где-нибудь в горах или в глубинах какого-нибудь горного озера.
А мы, заливаясь смехом, взобрались без труда обратно, к нашему лагерю. Бесцеремонно разбудили всех и заставили выслушать наш рассказ. Удивлению и восклицаниям не было предела. Тут же самые умные среди нас заметили, что надо бы молчать о случившемся, иначе замучают спецслужбы и ученая братия. А не лучше ли будет нам всем сказать о так называемых пластических операциях, мол, да, провели втайне, вот результат.
С тех пор прошло без малого с год. Мы по-прежнему молоды и полны сил, ни болезней, ни старости и в помине нет. За этот год мы с актером очень подружились и как ни странно полюбили друг друга. А потом взяли да и обвенчались и теперь собираем чемоданы, чтобы уехать в Америку, в Голливуд. Моему мужу американские продюсеры предложили главную роль в одном суперфильме. И невдомек им, что ему не тридцать, а восемьдесят лет исполнилось в этом году. Мне же дают не больше двадцати, хотя я уже справила свое пятидесятилетие. Единственное, что нас смущает – документы, но оказалось, тоже не проблема. На Руси живет немало народу по поддельным паспортам, а уж в Америке кому до кого есть дело, а?..
Уркаганы
Костя Зубов с погоняло «Зуб» откинулся с зоны. После шести лет колонии строгого режима, свобода несколько напрягала. «Зуб» любил тюремный режим, любил, как это ни парадоксально звучит, быть одним из зеков. Обожал ходить строем, шить домашние тапочки, за которые тюремное начальство даже выплачивало кое-какую деньгу. «Зуб» нормально относился к тюремным завтракам, обедам и ужинам. Он совершенно не ждал посылок с халвой с воли. На воле его никто не ждал. Родителей он не знал, был отказником, приютским, интернатским, одним словом, сиротой и скудная пища в виде перловой каши была привычна для него, как привычен день за окном.
Однако, «братки» по отряду снабдили его адресом и «Зуб» сразу же нашел пристанище в доме товарища по колонии Ивана Колокольчикова, с кратким погоняло «Колокол».
«Колокол» встретил Костю вполне радушно. В большом доме места хватало. И пока «Колокол» хлопотал с праздничным обедом по случаю приезда дорогого гостя, Костя решил осмотреть дом.
Небольшая комнатка, в которую Костя забрел чисто случайно, была оклеена синими обоями с рисунком мультяшных персонажей. У окна покачивались подвешенные к потолку две белые люльки. Из одной доносилось беспрестанное агуканье, из другой бренчание погремушек. Он подошел, заглянул, осторожничая.
Два младенца: один в розовых пеленках, другой, в синих, глянули на него из люлек. Костя принялся играть с ними, надувать щеки, высовывать язык. Дети реагировали бурно, смеялись и протягивали к нему руки.
Зашедший на шум «Колокол» объяснил, что двойняшки не его дети и отвел Костю в другую комнату, где мать обоих детей спала, сидя на стуле, уронив вязанье на колени. Ранние морщинки перечеркнули ее высокий лоб, залегли глубокими складками возле губ. Нешуточное дело поднять сразу двоих детей, тем более поднять в едроссовской России. И, когда приятели, уединившись на кухне, выпили, закусили, «Колокол» нервно оглядываясь на закрытую дверь, рассказал свою историю:
– Любил я ее очень. Поклялся с зоной завязать, но сел по «мокрому» делу, а когда вышел, обнаружил ее брюхатую с очкариком.
– Очкариком? – не понял «Зуб».
– Да, понимаешь, – вспылил «Колокол», – хлюпким таким очкариком, никудышным, никаким. Убил я его!
Коротко доложил он «Зубу» и продолжил, задумчиво:
– У меня привычка была. Всегда на языке бритвенное лезвие держал. Ходил, молчал, бритва во рту, какие разговоры? Ну и плюнул я очкарику в глаз, он как раз очки снял, протирал платочком и мне, гад, лекцию моральную читал. Будто я этих лекций в зоне не наслушался.
Они выпили, закусили.
«Колокол» помолчал и продолжил:
– Очкарик мне встречу у реки назначил, на безлюдном месте, чтобы никто не мешал меня пропесочивать. И, только он начал занудствовать про семью и обязательства, и как нехорошо, мне, человеку второго сорта, рецидивисту лезть в его семью, как я плюнул, а он, взял и сдох!
– Это от бритвы-то? – не поверил «Зуб» и невольно провел рукой по тыльной стороне руки, где виднелись белые шрамы от многочисленных порезов бритвой. По молодости Костя часто наносил себе увечья, не желая жить, да и что у него была за жизнь, между нами говоря?
– От бритвы, – подтвердил «Колокол», вздыхая, и продолжил, – я к нему камни привязал и столкнул в реку. Утоп, гадом буду!
– Утоп! – согласился «Зуб».
– А портфельчик свой оставил, – доложил «Колокол», – в портфеле бумаги, письма накаляканные его рукой. Деловые письма!
«Колокол» замялся, вспоминая:
– Курьером, что ли он работал или экспедитором, не знаю! Только я эти письма отнес к одному умельцу, умелец деньги рисует, так что ему стоило чужой почерк подделать?
«Зуб» кивнул, понимая. «Колокол» продолжил:
– Написали мы с ним письмо. Дескать, извини, жена, но твоя брюхатость мне поперек горла встала, у меня карьера, дела, так что сама как-нибудь разбирайся. Одним словом, написали так, будто смылся очкарик!
– И она поверила?
– Так ведь расчет был как раз на то, что большинство русских мужиков именно так и поступают, козлят, в общем, в отношении женщин. Она, когда письмо получила, – кивнул «Колокол» на закрытую дверь, – принялась плакать, тут ее и скрутило, увезли на «скорой», малыши раньше срока родились, но ничего, здоровенькие, оклемались.
– Здоровенькие, – кивнул «Зуб», вспоминая активных младенцев в люльках.
– Тут я и подоспел, – коротко сказал «Колокол», – стал приходить к ней, помогать, ну она и привыкла, сама предложила поселиться у нее на правах хозяина.
Они выпили, закусили, помолчали.
– Одно меня беспокоит, ну как всплывет очкарик?
– Всплывет! – тут же согласился «Зуб». – Скелетиной сделается, из пут выскользнет и всплывет.
– Что тогда? – пытливо заглядывая в глаза товарищу, спросил «Колокол».
– А что? – переспросил «Зуб» и, подумав с минуту, уверенно продолжил. – У скелета глаз нету, глаза рыбы уже сожрали и про убийство никто не подумает, скажут, сам утоп.
– Наверное, – неуверенно кивнул «Колокол» и завозился беспокойно, – только я попытаюсь его отыскать, поныряю, чтобы уж вытащить и сховать под землю так крепко, будто пропал.
– Да! – кивнул «Зуб».
– Выловлю и на старое кладбище оттащу, – продолжал развивать мысль «Колокол», – схороню в заброшенную могилу.
– Верно, говоришь! – поддакнул «Зуб».
– Не хочу я на зону, – доверился приятелю «Колокол», – хочу, чтобы дома, чтобы жена, чтобы дети…
Вечером улеглись спать, а утром Костя «Зуб» потихоньку встал, собрал свои немногочисленные вещички и кинулся к ближайшему магазину. Отыскал камень побольше, запустил в витрину, разбил, забрался в магазин и под завывание сигнализации принялся набирать продукты с полок, норовя выбрать самые дорогие. Наряд вневедомственной охраны перевез «Зуба» в предвариловку, оттуда его перевели в СИЗО, где дождавшись суда и приговора, он уехал на зону, в дом родной.
И только изредка снился Косте очкарик и «Колокол» с бритвенным лезвием за щекой. Что стало с самим «Колоколом» автор не знает, да и честно говоря, знать не желает, надеясь, все-таки, на правосудие, хоть какое, но правосудие. И еще, надеясь, крепко надеясь на то, что дети, оставшиеся благодаря усилию рецидивиста сиротами, вырастут без его усилий, без тюремных привычек и навыков, без зековского сленга и бритвенного лезвия, готового всегда впиться в глаз обидчику, стоит только плюнуть…
Монолог работничка
– Теща у меня деятельная, спасу нет! Говорит, мало денег в семью приношу, кушать нечего, а сама тут же батон с маслом уминает, из бидона молоко хлещет, будь здоров! И авторитетно так велит мне и ей работу подыскать, пенсии платят махонькие, разве на хлеб с маслом и хватает!
Купил я газету под названием «Работа» и сразу одно объявление привлекло внимание моей тещи. Вырвала она у меня газету из рук и читает вслух:
– Требуется курьер с хорошей физической подготовкой. График работы свободный. Зарплата…
И тут у нее от жадности руки затряслись, вместе, говорит пойдем устраиваться, может им два курьера требуются и ну давай, подсчитывать, это сколько же мы с ней вдвоем заработаем при такой зарплате?
Я, говорю, теща, не дели шкуру не убитого медведя, еще неизвестно, кто такое объявление разместил и с какой целью!
Но разве ее переубедишь? Пришли мы на собеседование. Огляделись. Офис, как офис, секретарша бегает, правда, дверей оказалось две. Одну дверь секретарша заботливо прикрывает, чтобы мы с тещей, не дай бог, чего не увидели. Другую, напротив распахивает. За другой дверью милая дамочка сидит, с кандидатами в курьеры разговаривает. Кандидатов отчего-то не больно много. Но тут очередь дошла до нас, с тещей. Вошли мы вместе, вместе уселись перед дамочкой. И что тут началось, и боже мой! Дамочка теще слово вставить не дает, трещит без умолку и говорит, кивая на фотки улыбающихся сотрудников месяца, это, мол, наши курьеры и все, как один, огромные деньги получают.
Теща рот и раззявила. Домой, как на крыльях летела, теперь говорит, я окончательно уверилась, что наша семья в миллионщики выбьется и сколько я ей ни кричал, что, мол, про сам факт заработка ничего не было сказано и дамочка так и не посвятила нас в характер работы, теща ничего не слушала, находилась в эйфории надуманного счастья.
С утра мы с тещей были уже в офисе. Готовые к трудовым будням и большим заработкам. Играла бодрая музыка, громко так играла, за другой дверью. И сновали сотрудники, те самые, улыбающиеся с фотографий. Дверь хлопала, пропуская сотрудников, забежав к дамочке, сотрудники, словно угорелые, кидались обратно и под оглушительную какофонию бодрого марша доносящегося из-под другой двери исчезали там, чтобы через минуту вернуться вновь.
– Наверное, у них день рождения, – неуверенно предположила теща, удивленно разглядывая выходные костюмы сотрудников.
– Пройдемте! – снизошла, наконец, до нас, дамочка и провела в другую дверь.
За дверью оказался небольшой зал увешанный плакатами про книги некоего издательства. Рисунки сопровождали лаконичные поучения, как эти самые книги, легче всего втюхать доверчивому покупателю. С плакатов на нас смотрели, заученно улыбаясь, одинаковые продавцы, да, да, те самые, что бродят по квартирам, пугая домашних хозяек чудо пылесосами и прочими радостями домашнего бытия.
Теща что-то понимая, было, оглянулась на меня, но поздно. Одинаковые сотрудники собрались в круг, вовлекли нас с тещей и принялись под музыку делать зарядку. Это на какое-то время сбило тещу с толку, но когда сотрудники принялись старательно выкрикивать бодрые лозунги:
«Мы все продадим!» «Сегодня мы все продадим!»
Теща не выдержала, схватила меня за руку и пулей вылетела из другой двери, из офиса, на улицу. Совершив длительный забег, остановилась, тяжело дыша:
– Секта какая-то!
Я кивнул, вполне согласный с ее мнением.
Дома, в почтовом ящике мы обнаружили толстую газету, где крупными буквами было выведено:
«Хотите работать рядом с домом? Станьте почтальоном службы доставки газеты „За город“! Зарплата достойная».
В тот же день мы с тещей сделались теми самыми почтальонами. Две молодых девушки приветливо улыбаясь, подсунули нам два договора, но без печатей и мы подписали. Я, не без сомнений, теща, искренне веря в обещанную зарплату. А вечером, к нашему дому подъехала грузовая машина и замученный грузчик, с трудом передвигая ноги, перенес к нам в квартиру, восемь здоровенных пачек газеты.
Вначале, мы таскали по две пачки. Едва умещаясь, одна в рюкзаке, другая, в сетке, газеты, в общем, оказались страшно тяжелыми. Но обнадеживало то, что наш участок не шибко большой, всего-то двенадцать домов, из которых восемь пятиэтажек с четырьмя, в отдельных случаях с шестью подъездами.
Но жильцы не открывали нам двери, с руганью гнали нас прочь, не в силах более вынести хлам и мусор, который несут за собой доморощенные почтальоны, распространители ежедневных бесплатных газетенок и рекламных листовок, то есть мы с тещей.
Все же, где хитростью, где обманом, мы прорывались внутрь подъезда, по-партизански, быстренько рассовывая бумажную продукцию по почтовым ящикам. К окончанию работы, которая заняла у нас не два обещанных нанимателями часа, а целых четыре, у меня тряслись руки, а от криков разъяренных жильцов звенело в ушах. С тоской я представил себе месяц такой работки…
Через месяц мы пришли за обещанной зарплатой. Нас встретил неулыбчивый молодой человек, девиц нанимавших нас, не было вовсе. Молодой человек сухо поведал нам с тещей, что за нами, оказывается, след вслед ходили контролеры и никаких газет в почтовых ящиках вверенных нам домов, они не обнаружили. На этом молодой человек не успокоился, а требовательно заявил, мол, мы должны заплатить редакции неустойку, так как полиграфия стоит дорого, а тут такие убытки.
Теща сползла по стенке, а мне вспомнились договора без печатей, что мы с тещей подписали. Добиться правды с такими договорами мне представлялось невозможным.
Неожиданно придя в себя, теща бросилась на нашего обидчика с кулаками, я не стал ее оттаскивать, а схватил со стола ведомость, где черным по белому было указано, кто получил зарплату. Никто! Фамилий же стояло множество, очень много, более сотни. Но что таким гаденышам стоит нанять еще сотню придурков, а денежки присвоить себе?
Зарплату нам так и не выплатили, теща надолго впала в ступор.
Теперь теща успокоилась. Устроилась сторожем в детский садик и хотя зарплата не большая, но стабильная. Я же пошел на переобучение и освоив кое-какие премудрости стал агентом по недвижимости, поступил в крупное агентство, где, худо-бедно, но заработал уже на автомобиль, а там, глядишь и на юга с тещей съездим!..
Порядочный человек
– Необходимо контролировать свою жизнь! – непримиримо заявил Василий Васильевич Кондрашов своему оппоненту, скучающему интеллигенту в помятом костюме и битых очках.
Дело происходило в закусочной.
– Вот у меня расписание, каждый день, каждый час расписан! – кипятился Василий Васильевич, потрясая перед носом интеллигента записной книжкой.
Интеллигент, выпив и закусив, не торопливо оглядел записнушку:
– Вот врежется в тебя пьяный водила на лихой иномарке и улетит твое расписание к небесам! – философски заметил интеллигент.
– Молчи! – вскрикнул Василий Васильевич, негодуя. – Глупости говоришь. Жизнь можно контролировать!
– Нельзя! – не согласился интеллигент.
Василий Васильевич, сверкая глазами, бросился собирать свидетелей своей правоте.
Вскоре возле их столика собралось не хилое количество завсегдатаев закусочной.
Василия Васильевича слушали и кивали, не забывая угоститься за его счет. Стакашки с водкой и бутерброды с селедкой так и мелькали у ртов зрителей.
Но тут, слово взял интеллигент. Чтобы быть услышанным всеми, он залез на стул и встал, возвышаясь над толпой.
– По телевизору много чего болтают, – задумчиво начал говорить интеллигент, – например, уверяют меня в безопасности разрекламированных лекарств, хотя у всех лекарств, как известно, имеется побочный эффект.
Интеллигент помолчал, обдумывая свою мысль, зрители выпивали и закусывали, Василий Васильевич терял терпение.
– И еще, – вздохнув, продолжил интеллигент, – уверяют меня в легкой доступности зарубежной туристической поездки, но кто же вылечит меня от инфекции, если, я, скажем, помчусь, слезно благодаря туристическую фирму, в Индию? Я уже молчу о затратах на такую поездочку, откуда взять средства, если на хлеб иной раз денег не хватает?
– Это к делу не относиться! – взвился Василий Васильевич.
Интеллигент не обращая внимания на Кондрашова, театрально раскланялся и слез со стула, чтобы выпить и закусить.
Общество, между тем, взволновалось. Послышались возгласы:
– Полицаев просить! – скривился один выпивоха. – Бесполезно! Каждое сказанное слово повернут против меня же, а защитить все равно не защитят! В России такая система защиты, куда деваться! Пока меня не убьют, никто убийцу даже не заметит, пусть он даже хоть всего меня выпотрошит!
Василий Васильевич метался между завсегдатаями закусочной, пытаясь вернуть внимание общества к своему вопросу, но не тут-то было, каждый говорил о личном, наболевшем:
– А что? – выступал один выпивошка, по виду деревенский житель. – Жизнь моя удалась. Во всяком случае, кости я не ломал, заразными болезнями не болел, женщин не бил, детей не бросал, всех на ноги поставил. Долги всегда отдавал. Никого не убил. Вот только гор не видывал и моря не знаю, какое оно, море?
Поглядел он на присутствующих с вопросом. Ему ответили нестройно, вразнобой:
– Красное!
– Зеленое!
– Черное!
– Да, вроде, голубое, – усомнился кто-то.
Деревенский житель кивнул, громко сглотнул, проглатывая кусок хлеба с селедкой:
– Еще ни разу лягушек не пробовал.
Слушатели промычали с отвращением.
– Тараканов, жуков, говорят, азиаты едят! – съехидничал кто-то.
Деревенский не слушал, перечислял, загибая пальцы:
– На Эйфелеву башню взобраться бы. Белый дом в Вашингтоне повидать. Опять-таки, Мавзолей на Красной площади, где нашего Ильича мучают, фараона из него делают, на посмешище толпы выставляют!
Общество одобрительно мычало, соглашаясь. Деревенский загибал пальцы, перечисляя:
– Самолет тоже, как он взлетает, как летит, приземляется, не ведаю! Полетал бы, хошь на вертолете, иной раз и протрещит вертушка над деревней, а куда, чего, неизвестно! Крейсер Аврора мечтаю увидеть, мосты разводные, иной раз, смотрю телевизор и так завидно становится, спасу нет, хоть бы родиться в следующей жизни питерским котом, всех бы каменных львов тогда перецеловал бы, честное слово!
Хор голосов вторил мечтателю. Слушатели разволновались, и Василий Васильевич махнул рукой. Покидая закусочную, он злобно пнул ни в чем не повинную мусорную урну и зашагал, размахивая руками, негодуя вслух на завсегдатаев закусочной не пожелавших даже обратить внимания, несмотря на даровое угощение, на его точку зрения.
Василий Васильевич на людях всегда старался выглядеть приветливым человеком, однако, кажущаяся приветливость вовсе не означала искреннюю доброту души, а была лишь прикрытием эгоистичной, порочной натуры. Он был осторожен, но осторожность эта была продиктована скорее трусостью и нежеланием выглядеть в глазах людей не порядочным человеком. Сочувствуя лишь на словах попавшему в беду товарищу, он тут же за спиной товарища корчил насмешливые рожи и злобно щерился, торжествуя над чужим несчастьем.
Для Кондрашова чрезвычайно важным представлялось иметь квартиру в центре города, шикарную иномарку и денежную независимость от реформ лихорадочного правительства.
Он завидовал чужому успеху так, что аж качался, а ночью рыдал в подушку от отчаяния.
Если была возможность украсть, Кондрашов крал, нисколько не смущаясь. Девизом его жизни, практически лозунгом были слова: «Хочешь жить, умей вертеться!»
Он не умел прощать, будучи злопамятен не верил никому и потому встреченный женой, замер на пороге квартиры, с подозрением вглядываясь в лицо своей второй половины.
С утра они здорово поругались. Темой спора была все та же порядочность.
– Ну, почему мужчина должен быть всегда порядочным? – негодовал Василий Васильевич. – Почему не женщина?
– Я порядочный человек! – визжал в следующую секунду Кондрашов. – Я тебе всю зарплату отдаю, цветы на восьмое марта дарю, дней рождений твоих никогда не забываю!
– Стерва, кикимора, идиотка! – сорвался Кондрашов, метаясь по квартире, в попытке спастись от жены.
– Меня не задевают твои оскорбления! – холодно заявила ему жена, загнав-таки Кондрашова в угол. – Надобно иметь чуточку уважения к тому, кто оскорбляет, а я себе такой роскоши позволить не могу. Ты – жалкий, гнусный, презренный человишко. Вор, использующий достижения других людей для достижения собственной славы. Предатель, отворачивающийся от попавшего в беду товарища, но стоит этому самому товарищу воскреснуть и начать свой трудный путь восхождения из мрака нищеты и безвестности к почету и славе, как и ты, тут как тут, как ни в чем не бывало, трещишь и рассыпаешься в лживых комплиментах!
И вот теперь, жена встретила его на пороге квартиры:
– Ну! – властно потребовала она.
Кондрашов, без лишних слов, полез за пазуху, достал толстую книгу в красочной обложке на которой виден был фотопортрет того самого интеллигента из закусочной.
– Сумей отстать от него, – посоветовала она, потрясая книжкой, – право, это украсит тебя!
– Чем? – грубо отталкивая ее со своего пути, осведомился Кондрашов.
– Розами! – насмешничала жена.
Разозленный и обиженный, он с грохотом захлопнул дверь одной комнаты, просунул в ручку двери швабру.
– Да, не собираюсь я входить! – громко пообещала жена, тем не менее, подергала дверь, закрыта ли.
Дверь даже не пошевелилась.
– Ну и сиди там, узник драный! – прокричала она, чувствуя обиду и гнев.
Понимая, что ругаться в одиночку с закрытой дверью бесполезно, она вышла из квартиры, где на лестнице обнаружила парочку выпивох. Выпивохи, вполне мирные мужички забрели в подъезд дома, спасаясь от проливного дождя. Сидели себе на ступеньке, расстелив между собой газетку, на газетке разложив сушеную воблу. Пили портвейн, закусывали, когда жена Кондрашова с гневом налетела на них:
– Здесь вам не закусочная! – кричала она.
Выпивошки в ответ протянули ей наполненный портвейном стакан. После, держа на коленях газету с воблой, Кондрашова сидела на ступеньке и жаловалась на своего благоверного. Мужички слушали, кивали, и тут затянули песню. Под монотонный шум дождя за окном пелось легко и свободно. После первой песни последовала другая, затем третья. Трио хорошо спелось, а тут и дождь кончился, мужички попрощались с ней и пошли себе восвояси, тем более, что и бутылка закончилась.
Кондрашова вернулась в квартиру, прилегла на диван спать, сморенная выпитым, Кондрашов, правда, еще долго, недоверчиво прислушивался к похрапыванию жены, но после, выдернул швабру, освобождая самого себя из плена и пробравшись на цыпочках мимо спящей жены к шкафу, схватил выходной костюм серебристого цвета и выбежал из квартиры.
Вскоре, он уже стучался в двери другого дома. Интеллигент, тот самый, с обложки книги, открыл ему двери. А увидав, кто перед ним, гостеприимно повел рукой, приглашая в свое зашарпанное жилище. До утра Кондрашова лихорадило и мотало по квартире интеллигента. Он развивал грандиозные планы по продвижению книг интеллигента, на что сам автор не реагировал, он мирно спал, свернувшись калачиком на облезлой кушетке.
А на утро, гладко выбритый, благоухающий одеколоном, стоял Кондрашов перед объективом телекамеры городского канала. Позади разглагольствующего Кондрашова виднелись книжные полки городской библиотеки, уставленные томами и книгами интеллигента. И указывая рукой на полки, Василий Васильевич упоенно трещал о презентации книги своего приятеля, такого замечательного писателя и покровительственно похлопывал по плечу скромного труженика пера и бумаги, затертого широким плечом Кондрашова куда-то, ну неважно, куда…
Слухи о войне
В Самару, к обычной семье работяг Терентьевых приехали родственники с Украины. Спасаясь от бомбежек, они бежали из Донецка. Долго вздрагивали, заслышав гул самолета в небе, а от вертолетов бежали в укрытие, спасаясь, сколько им ни внушали, что в России пока нет войны. Вот это самое слово, ПОКА, не давало главе семьи Терентьевых спокойно спать и внушало разные мысли.
Нередко, глава семьи обсуждал с домашними и родственниками свои выводы, с ним часто соглашались, но иногда и спорили. Спорили и соседи по дому, кивали или отрицали коллеги по работе, слухи неслись после таких споров по городу, порождая дополнительные споры. Вот эти слухи:
Говорят, будто скоро, войска НАТО нападут на Россию и в связи с этим говорят, будто центральную часть России превратят в месиво из растерзанных тел, обломков обрушившихся многоэтажек и осколков разорвавшихся снарядов. А, чтобы России никто из соседних стран не пришел на помощь, говорят проводится тотальное информационное вранье и со всех телеэкранов черно… опый президент США вместе с кликой украинских фашистов внушают представителям так называемых развитых стран о России, как об агрессоре, отсюда и санкции, отсюда и выводы…
Говорят, будто оставшиеся в живых русские ринутся в Сибирь и на Дальний Восток, но там места окажутся занятыми китайцами, с которыми уверенный в себе глава правительства уже подписал разные договора об аренде сибирских земель, а как известно, ничего нет более постоянного, нежели временное.
Говорят, будут такие русские, кто сумеет удрать в Евро… пу, но их не примут, а выдворят даже тех, кто имеет там недвижимость и гражданство и так как идти будет больше некуда, пойдут русские на тот свет…
Говорят, будто жесткое тюремное заключение коснется и эмигрантов из России проживающих на территории США, а беженцев, америкосы будут отлавливать и сажать на электрический стул, как отъявленных преступников.
Говорят, будто русский народ своей алчностью до квадратных метров, когда родных людей закатывают в могилы; отсутствием помощи попавшему в беду человеку, когда помощь лишь на словах; своим стремлением к внешней показухе, когда квартира, дом, машина, денег целый мешок, а душа прогнила насквозь оттолкнули последнюю заступницу земли русской – Богородицу…
Говорят, будто и Сатана помогать русским не желает, уводя из России талантливых и нужных ему людей в свой мир…
Говорят, будто русских много уже собралось в Австралии и азиатских странах, где эхо войны если и отзовется, то разве что волнами цунами, но так ли это, кто знает…
Невнимательный
– Ты меня неправильно поняла! – начал он, едва провел ее в свой кабинет.
– Просвети! – потребовала она и демонстративно уселась на стул.
Он метнулся к своему месту, как к спасению. Загородившись письменным столом с кучей разных деловущих бумаг, обрел спокойствие. Выдохнул, вдохнул, окончательно успокаиваясь, пробежался пальцами по клавиатуре компьютера и, войдя в привычный образ руководителя, без пяти минут депутата Областной Думы уверенно и важно произнес:
– Обсуждению этот вопрос более не подлежит! Я предлагал тебе на рассмотрение один вариант, и ты согласилась!
– Речь ни о чем! – презрительно фыркнула она.
Не сбиваясь с темпа, он непримиримо мотнул головой:
– Две наши встречи прошли в дружеской обстановке, с полным согласием с обеих сторон. Но далее возникло недопонимание и из-за несогласованности действий, следующая встреча была сорвана.
Она состроила гримасу отвращения.
Он продолжил, с возмущением глядя на нее:
– Встреча была сорвана, а могла бы состояться!
– Я тебе не проститутка! – резко оборвала она его и встала. – Научись вначале нормально разговаривать, научись понимать, что допустимо, а что вообще неприемлемо!
Передразнила она его, и еще раз состроив гримасу отвращения, горделиво удалилась.
– Ну и ладно! – разом теряя маску важного человека, пробормотал он. – На мой век баб хватит!
И принялся лихорадочно рыться в записной книжке. Нашел. Набрал номер телефона на казенном телефонном аппарате, свой, престижный телефончик надежно лежал в кармане пиджака, чего деньги зря тратить?
– Привет! – преувеличенно бодро прокричал он в трубку. – Как жизнь, как дела?
И растерялся:
– Как, кто говорит? Как, не узнаешь? Я это говорю! Я!
Вкладывая в это самое «я» такое недоумение, что сразу стало ясно, такой человек никогда не называет по телефону своей фамилии или имени, предоставляя собеседнику догадаться о всем величии своей персоны нон грата самостоятельно.
Бросил трубку, секунд десять прослушав рассерженные вопли узнавшей его женщины:
– Дура! – зло забарабанил пальцами по столу. – Подумаешь, год не объявлялся, что с того?
И скорчил насмешливую рожу:
– У меня своя жизнь! Я не обязана ждать тебя, как с фронта!
Передразнил он. Нашел другой номер телефона и опять выкрикнул преувеличенно бодрое приветствие в трубку, но там, узнав, кто звонит, немедленно отключились.
Повторения следовали одно за другим, пока он, вконец, не рассердился:
– Все бабы – стервы! – подвел итог собственным усилиям и закурил, усталый.
Постепенно слетел внешний лоск, обозначились ранние морщины и проплешина на голове, которую он изредка ощупывал пальцами.
И тут, раздался звонок телефона.
Он приободрился, явно рассчитывая, что хоть одна баба да опомнилась. Но из трубки понеслось невообразимое:
– Папа, папочка, у тебя внук родился!
– Доча? – растерялся он, моргая.
– Внук! – подтвердила дочь и рассмеялась. – Ты приезжай, я тебе Алешку в окно покажу!
– Алешка? – терялся он, начиная дрожать и плакать, но через мгновение воодушевился:
– Я сейчас, роднуся моя, приеду!
И понесся к двери, искренне удивляясь, что ни разу после свадьбы дочери ее не навестил, не видел беременную, не знал…
– Алешка! – бормотал он, сраженный новостью наповал, и прыгнул за руль своей иномарки.
И только возле роддома обнаружив бывшую жену с пакетом фруктов и зятя с букетом цветов, сообразил, что опять проявил невнимание, которое прямо-таки срослось с его натурой и прикатил к дочери с пустыми руками.
Но дочь простила. Улыбаясь, она с гордостью демонстрировала туго запеленутого малыша и кричала в открытую форточку:
– На тебя похож, папа!
– Да, не дай бог! – суеверно сплюнула бывшая жена и перекрестилась. – Это только во младенчестве, а дальше нормальным человеком будет!
Обнадежила она счастливую дочь.
Зять всепрощающе пожал ему руку, без ехидства обозвав дедушкой.
И он побрел к своей иномарке, сутулясь, задумавшись о новом статусе вроде как неподходящем для его внутреннего мироощущения, где он по-прежнему ощущал себя этаким юношей.
На деле же, на деле кризис среднего возраста настиг его почти в семьдесят лет.
– Несправедливо, – пробормотал он, заводя машину и следуя в магазин игрушек. – Нехорошо все же, если и Алешка проживет на свете без моего внимания и подарков…
Кофе
– Развратник! Пес поганый! Тьфу!
Дрожа всем телом, Тихон Михайлович нырнул, наконец, в узкую щель приоткрывшейся входной двери.
– Закрывай скорее! – с ужасом прошептал он молоденькой хорошенькой женщине.
Женщина поспешно закрыла, тщательно заперла.
С лестницы неслось:
– Всю ночь только и слышу охи да ахи. Всю ночь кровать у них скрипит!
– Хулиганье! – раздался крик в самую замочную скважину.
Тихон Михайлович подпрыгнул, перекрестился:
– Аллочка, дорогая, у те6я успокоительных капель нет?
– Кофе есть!
– Кофе не успокоительное, – запротестовал он, но на кухню прошел.
– Какая соседка у тебя нервная! – пожаловался он, прислушиваясь к крикам на лестнице.
– Убить мало! – кивнула Аллочка, насыпая кофе в кофеварку.
Тихон Михайлович уставился на банку с названием кофе.
– Погоди, Аллочка, не надо мне этого кофе.
– Почему? – искренне удивилась Аллочка. – Он дорогой, хороший.
– Аллочка, не знаю, как тебе и сказать, – мягко начал он, – но именно это кофе проходит через кишечник зверьков, мусангов и, так сказать, уже в том виде, ну ты понимаешь, после некоторой обработки, доходит до покупателей.
Женщина смотрела с недоверием.
– Ну вот, сама посмотри, – засуетился Тихон Михайлович, извлекая из портфеля ноутбук, – про это и в интернете написано.
Аллочка прочитала, сплюнула:
– Пакость какая, хорошо, хоть я этот кофе ни разу не попробовала. Пойду соседке подарю!
И скорым шагом направилась с банкой кофе к двери. Крики на лестнице сразу стихли, а после до обостренного слуха Тихона Михайловича донеслось любезное воркование соседки благодарной за подарок.
Аллочка вернулась без банки. Тщательно промыла кофеварку.
– Неужели, взяла? – удивился Тихон Михайлович тишине на лестнице.
– Еще бы, – зло ощерилась Аллочка. – Дура, вот и взяла!
– И интернета у нее нет? – продолжал беспокоиться Тихон Михайлович.
– У нее-то? – не скрывая иронии, сощурилась Аллочка. – Мозгов не хватит для компьютера, только и может, что подслушивать!
– Нет, – взорвалась она уже в следующую минуту, – это какому поддонку пришла в голову «светлая» мысль травить людей подобным кофе?!
– Не знаю, – пожал плечами Тихон Михайлович, – такой кофе поставляют, в основном, в Америку.
Аллочка услыхав про Америку, пренебрежительно фыркнула:
– Нет, подлость какая! – все никак не могла успокоиться Аллочка и набрав номер телефона подруги принялась жаловаться ей о несправедливости замалчивания, из чего, а главное, как, делается кофе.
– Они бы еще слонов научили жевать кофейные зерна, глядишь и слоновьи кучи золотыми бы сделались! – возмущалась Аллочка в трубку телефона.
За всеми переживаниями у нее страшно разболелась голова и она отослала Тихона Михайловича прочь. Но едва не состоявшийся любовник вышагнул на лестничную клетку, как соседняя дверь с треском распахнулась и в голову Тихона Михайловича полетела банка с кофе.
– Твари! – визг соседки заставил Тихона Михайловича отшатнуться и ринуться бегом, вниз, по ступеням.
– Я все слышала! – орала соседка. – Меня, честную женщину, травить дерьмом!
Тихон Михайлович поспешно выскочил на улицу, впереди него катилась многострадальная банка с кофе.
Прыгнув за руль своего автомобиля, он дал по газам так, что Шумахер обзавидовался бы.
И только проскочив на запрещающий красный сигнал светофора, Тихон Михайлович пришел в себя. Припарковался. Посидел, покурил, разглядывая свои дрожащие руки, сплюнул в сердцах, посылая на … и кофе, и Аллочку, и ее бешеную соседку. А послав, приободрился, почувствовал зверский голод и направил свои стопы в ближайший ресторанчик, но вот что странно, на вопрос официанта, а будет ли он кофе заказывать, Тихон Михайлович весь содрогнулся, и едва сдержав яростный рык, выдавил ядовитое, но вежливое: «Нет, не надо!»
Изобретатель
Безумным нижегородским изобретателям посвящается…
Старуха вышла из леса, присела на пенек, огляделась, блаженно прищурившись на склонившееся к горизонту солнце. Наступал вечер, жара спала, и привольное чириканье лесных птичек сделалось оживленнее. Над головой у старухи заливался жаворонок. Она помахала ему и вздохнула о предстоящей дороге. Поправила белую марлю прикрывавшую корзину, доверху наполненную черникой и, насадив ручку корзины на короткую березовую дубину, подняла, приспосабливаясь к тяжести за спиной, не торопясь побрела в сторону небольшой, но уютной деревушки, окруженной легкомысленным березняком и колючими кустами розового шиповника.
По пути старухе попался мосток через речку. И спустившись к воде, старуха умылась, не позабыв смочить в речной прохладе и головной платок. Капли воды, стекающие за шиворот, бодрили и заставляли старуху двигаться резвее, солнце садилось.
Уже в потемках, дойдя до избы, она нажала на выключатель, и уличный фонарь тотчас осветил все вокруг. У каждого дома был свой фонарь и свой выключатель. Провода от фонарей тянулись к далеким вышкам. Падкий до изобретений, местный чудик, Игнаша Плошкин, из бывших физиков-ядерщиков, решил, таким образом, проблему, связанную с неразрешимым, казалось бы вопросом, неуемным аппетитом партии власти пьющей кровь из народа.
Игнаша был одаренным, хотя и родился в непутевой, пьющей семье. Бабка Аглая съездила в город, за внуком и через суд лишила родителей прав, саму себя, назначив родительницей для молчаливого, задумчивого мальчика. Не пожалела в данном случае ни сына, ни снохи. Игнаша сразу назвал ее мамой.
Выучив его на золотую медаль, а после и на красный диплом, бабка Аглая расслабилась и померла, когда ее обожаемый внук получил место в престижной московской лаборатории связанной с ядерной физикой.
Но не знала бабка Аглая, что к стране вплотную подобрались враги народа и через год-другой надежных Советов не станет, лаборатория развалиться, а Игнаша вернется в деревню, злой на врагов народа, злой на власть имущих.
Постепенно, страна выползла из руин и занялась глупостями. Слушая отчетные речи врагов народа из правительства, Игнаша негодовал, потому, как жизнь в России оставалась нищенской, зарплаты и пенсии вызывали слезы негодования, а цены на продукты и так называемые, коммунальные услуги постоянно росли.
Горя местью, Игнаша применил свои таланты и обеспечил деревню «государственным» электричеством. Он назвал свою диверсию моральной и материальной компенсацией.
Конечно, наезжали электрики, наезжали власть имущие, но обнаружить что-либо не могли, а лишь грозились обрезать деревню за неуплату долгов. Долги напридумали многомиллионные, деревню отрезали, обесточив и обрезав все, что можно. Но свет в избы продолжал поступать, попробуй-ка, угляди посреди березок тот, единственный кабель, что тянулся незаметной линией к соседним вышкам с током высокого напряжения.
Игнаша напоследок скрутил дулю и плюнул вслед электрикам.
Но на этом не успокоился. А устроил невиданное чудо…
Пройдя в избу, старуха присела на скамейку у входной двери. Протянула руку, нащупывая возле себя пульт управления, нажала соответствующие кнопки. Дом мгновенно ожил. Зажглась люстра под потолком, включился телевизор, раскрылся холодильник, от плиты протянулись две механические руки, осторожно извлекли из ячеек четыре яйца, поднесли к сковородке, миг, и аромат шкворчащей яичницы заставил старуху подняться.
Недовольная собственной усталостью, она вышла в обширные сени, где за плотно закрывающейся ширмой ее уже ждал стальной поддон с лейкой теплого душа. Горячей воды хватало надолго, иной раз и на час, таков был план изобретателя. Отработанная вода уходила по трубам в дальнюю, никому не нужную болотину. Рядом с душем, за фанерными стенками, прятался унитаз и не привыкшие к благам цивилизации, деревенские старики замученные жестокими хворями своих старых тел, кланялись Игнаше в ножки, ведь иные по часу не могли сойти со стульчака, тем не менее, холодные дворовые уборные были забыты.
Старуха, вкусно поужинав, уселась поудобнее, сквозь дрему наблюдая, как механические руки снуют от корзины к тазу и обратно, ловко отделяя ягоды от листочков, остатков паутины и прочего лесного мусора, что неизбежно попадают в корзины любого ягодника, как ни старайся.
После, старуха встала и тяжело побрела к нагретой спрятанными повсюду механизмами, легла и сразу уснула, во сне ей чудился сладкий запах черничного варенья.
Механические руки действительно сварили варенье и, закатав в трехлитровые банки необходимое человеку лакомство, угомонились, убравшись в нишу за плитой.
Кстати, отдельно о плите. Плита не была дровяной или газовой, не была она и электрической, а работала неведомо для деревенских людей, как… Конечно, люди пытались расспросить изобретателя, у каждого в доме стояла такая плита, но Игнаша только рукой махал, дескать, что я могу объяснить, это тоже самое, что первокласснику рассказывать о высшей математике, бесполезная трата времени и сил.
И люди отступили, тем более, Игнаша продолжал неспокойным ветром, горя духом справедливости, носиться по деревне, совершенствуя свои механизмы. Под его руками и при наличии неугасимой, абсолютно гиперактивной натуры рождались такие шедевры, как «быстролет». Машина в форме инопланетного «блюдца». Передвигающаяся столь быстро, что иные «инопланетяне» из деревенских бледнели и теряли сознание. Игнаша поработал над машиной. Теперь все, кто хотел, передвигался на «быстролете», как хотел и куда хотел. «Быстролет» оказался невидим, как для радаров, так и для сверхзвуковых боевых самолетов, охраняющих границы.
Игнаша хохотал, торжествуя:
– Катитесь, враги поганые со своими паспортами! – кричал он и показывал дули вслед исчезающим с умопомрачительной скоростью границам России, границам других стран.
Старуха тоже летала на удивительном «блюдце» Игнаши. Она хотела было попросить его слетать за ягодами, в лес, но Игнаша мыслил шире и свозил деревенских стариков к необитаемым островкам голубой лагуны, где-то, ну очень далеко, на другой конец земного шара. Старики с удовольствием выкупались в соленой воде нездешнего моря, полюбовались на кокосовые пальмы, сфотографировались на фоне океанского заката. Но полюбили летать за хариусом на дикие пороги карельских рек. Попутно набирали в карельских нехоженых местах белые грибы и дома лакомились, не забывая угостить других односельчан потрясающей ухой и незабываемой жарехой из белых грибов.
Старики мечтали:
– Эх, махнуть бы на Марс!
Но Игнаша сомневался, а есть ли там жизнь? Скорее всего, была, но изгаженная врагами народа, исчезла. А остатки народа, стремясь спастись, перелетели на Землю и позволили опять взять верх над собой корыстолюбивым и жадноватым врагам.
Вслух, Игнаша читал старикам сказки Николая Носова про Незнайку на Луне и старики соглашались, кивая, что надобно вначале разобраться с врагами, а после уже хоть на Луну, хоть на Марс лететь.
Говорят, сейчас Игнаша готовит такие механические штуки, что навсегда остановят и сведут на нет все нефтеперегонные заводы, установки, бензоколонки. Заодно, говорят, он хочет свести на нет ни много, ни мало газодобывающую отрасль и такова его всепоглощающая страсть по этому вопросу, что и деревенские старики, и старуха мечтают дожить до славного дня, когда власть имущие останутся с носом. Когда ненужными фантиками залетают под ногами у прохожих долларовые, евровые, фунтовые, рублевые и прочие «ценные» бумажки, ах, как же хочется дожить до этого славного дня!..
Сестры
Оля с Лидой решили съездить в Крым, на море. Лида бывала на море и не раз. Ездила с компанией друзей, подруг «диким» способом, то есть, с палатками. Но друзья, подруги быстренько переженились, компания распалась и Лида осталась в гордом одиночестве и без моря.
Оля, едва закончившая парикмахерские курсы, тихая, незаметная, замкнутая девушка семнадцати лет не могла, конечно, составить компанию старшей сестре, но куда же деваться, на море уж больно хотелось.
И Лида принялась настаивать на поездке, Оля скоро ей подчинилась, не желая конфликтовать и вообще, море же!
Оле часто стало сниться море с голубой чистой водой и пестрыми рыбками, которые она любила изредка разглядывать в аквариумах зоомагазина. В зоомагазин Оля заходила просто так, а вернее, по привычке. Школьницей, частенько, она торчала возле клеток, разглядывая веселых волнистых попугайчиков, которых кто-то покупал и мечтала о таком же маленьком чуде для себя. Ей часто снилось тогда, что родители дарят попугайчика, но на деле, мать твердила о своем нежелании убирать еще за одним домашним грязнулей, имея в виду всех домашних. На уверения Оли, мать пренебрежительно махала рукой, куда там ты будешь прибирать, поговори еще! Отец отмалчивался или кивал на мать, ну, а Лидка не могла вступиться за младшую сестру, она лазала по заборам, дралась, играла в футбол и пренебрежительно отзывалась о девчонках.
Оле было одиноко. Она много читала, много скучала и плакала от серости своего бытия. Она даже влюбиться не могла, потому как Лидка постоянно вторгалась в ее личное пространство, бесцеремонно читала дневник, что вела Оля и после, без колебаний разрушала иллюзии и мечты девчонки, попросту выслеживая ее кумира и отщелкивая его похождения на фотопленку. Каждый раз Оля влюблялась не в того парня, она была простовата душой и жалела проходимцев, пьяниц, дураков.
– Ты еще педофила пожалей! – угрожала Лида Оле.
Действительно, до Оли частенько докапывались взрослые дядьки, ровесники ее отца и Лиде приходилось пару раз разбираться с такими, одному она даже очки разбила.
Олю приходилось опекать и Лида взяла над ней шефство. Ходила повсюду, переодетая в мужицкое, чтобы от Оли отстали разные кобеляки и сволота.
Лида и в самом деле напоминала скорее парня, чем девушку. Волосы она подстригала коротко, по-мальчишески. Одевалась в футболки и джинсы, обувала берцы, чтобы проще было переломить противнику ногу, заявляла она. В карманах всегда носила нож с выкидным лезвием и кастет, чтобы ломать нос нападавшему.
А Оля? Оля любила девчачье: бантики, платьица, колечки, сережки. Любила наряжаться и прихорашиваться перед зеркалом, разглядывая свои белые длинные волосы, которые всегда долго расчесывала и заплетала в длинную косу. Любила накраситься и после полюбовавшись своими пушистыми ресницами, надуть губки, чтобы пройтись по ним розовой, с блестками, губной помадой.
Всегда, у Оли были красивые ухоженные ногти с перламутровым лаком. Одним словом, Оля была девушкой, нежной и прелестной, как нераспустившаяся белая роза в капельках росы, что едва-едва вытянувшись посреди своих соседок, стесняется распуститься и зацвести в полную силу, выказывая красоту и привлекая чудесным ароматом множество пчел, а может и трутней.
И вот, сестры приехали на море. Правда, чтобы скопить достаточное количество денег Лиде пришлось, кроме основной работы, а она трудилась агентом недвижимости, взять дополнительную, ночным охранником, но море есть море, много денег на юге не бывает.
В курортном городишке, где они высадились с поезда, сразу же по выходе с вокзала стояли нестройной шеренгой местные тетки и держали таблички с ценой за койко-место. Сестры, недолго думая, сняли комнату в деревянном доме с удобствами во дворе и душем на огороде.
Оле комната понравилась. Две кровати с чистым постельным бельем, светлые занавески на окнах, стол с двумя табуретками и небольшой бельевой шкаф, что еще для счастья нужно? Но Лида осталась недовольна и ценой, и комнатой, и хозяевами дома, выдавшими им только один ключ от замка, но почему один, а второй, что же, будет у них, негодовала Лида, принимаясь искать место, куда бы заховать деньги, не таскать же всю сумму на пляж и по городу, так и потерять недолго.
Оля не верила в чудовищ и потому лишь удивленно глядела на разъяренную сестру.
Хозяева, два старика, сдавали внаем еще две комнаты, сами переселившись на чердак, откуда, иногда, в основном, по ночам доносился могучий храп старика и стоны по поводу больных ног, старухи.
Утром, старики спускались в кухню, гремели кастрюлями, кашеварили и соблазнительный дух яичницы с колбасой или пшенной каши с маслом сгонял постояльцев с постелей. Столование входило в оплату.
Старики исправно кормили молодых людей завтраками, обедами и ужинами. И хотя из-за жары есть особо и не хотелось, все же Лида с Олей выходили к обществу.
Лида шла к веснушчатому, улыбчивому парню по имени Тимофей. А Оля к серьезному, замкнутому очкарику по имени Герман.
Оба, выпускники, вот уже инженеры-строители имели наполеоновские планы по захвату мира. Тимофей, а попросту Тимоша обещал начать с какой-никакой африканской страны, но Герман не соглашался, а сразу предлагал захватить Америку.
Оля слушала, раскрыв рот, Лида горячо спорила, не забывая прикоснуться раз-другой к руке Тимоши. Оба они, незаметно для себя, переходили на повышенные тона, и это всегда давало повод вмешаться еще одним постояльцам, молодоженам. Борису и Алле.
Молодожены не любили ссориться и не хотели ввязываться в распри других, но все же утерпеть не могли. Постепенно, подчиняясь их доводам и успокаивающим жестам, спорщики мирились и шли гулять.
Лида на сей раз не препятствовала сестре, наверное и сама влюбилась. Тимоша вскружил ей голову и Лида, наконец, ощутила себя девушкой, юной, хорошенькой и желанной. Они, частенько отделялись от компании и уходили шляться, выискивая укромные местечки, чтобы побыть наедине.
Оставшись одни, Герман с Олей не знали, что делать. Тащились к морю, ходили по набережной, запинаясь и в целом, друг другом тяготясь.
Иногда, Герман заговаривал с Олей, но речь его изобиловала техническими словечками, которыми Оле, девушке простой и малообразованной были не понятны вовсе.
Один раз Герман осмелился и поцеловал Олю, но она плотно сжала губы и попросту не ответила на поцелуй, инстинктивно почуяв зло, решительно отодвинулась от его требовательного тела.
Вскоре, Герман с Тимофеем уехали. На вокзале, Лида долго плакала и обнимала Тимошу. Обменявшись номерами телефонов, они расстались.
Лида плакала всю дорогу до съемной комнаты, а после попробовала позвонить своему Тимоше, но не дозвонилась, абонент оказался недоступен. Оля ничего не понимала, а только повсюду следовала за сестрой.
Утром следующего дня, сестры пришли на пляж, разложили покрывала и расставили раскладной столик. Поверх столика они, после недолгих совместных усилий раскрыли огромный зонт призванный защитить их нежную кожу от чересчур жарких поцелуев южного солнца.
– Ах, ах, – прозвучало с соседнего лежака, где толстый мужик с противной белой кожей наблюдал за ними, – какие пышечки!
Лида сразу оскорбилась:
– Где это ты увидел пышечек? – заорала она, воинственно приближаясь к мужику.
– Сдаюсь, сдаюсь! – пролепетал мужик, комически воздевая руки кверху.
Оля наклонилась к пляжной сумке, где лежала связка бананов для подкрепления сил.
– Дэвушка, – тут же послышался мужской голос с кавказским акцентом.
Оля испуганно выпрямилась, оглянулась.
Кавказец стоял в метре от нее и откровенно ее разглядывал.
– Дэвушка, будем знакомы, – шагнул он к ней.
Оля с ужасом смотрела на заросшее шерстью тело кавказца.
Лида налетела на кавказца ураганом, принялась скандалить, заставила уйти.
– Фу ты, – скривилась она ему вслед, – такому и плавки незачем носить!
– Почему? – промямлила Оля, все еще находясь под впечатлением откровенного поведения кавказца.
– Так у него, наверное и перед, и зад весь в шерсти, не видно же ничего! – насмешливо, явно желая быть услышанной, проорала Лидка.
Тут и там на пляже звучали радиоприемники, магнитофоны, сотовые телефоны.
Лидка поморщилась:
– Какафония! Эй, мамашка, – крикнула она, – а ну, выключи свою шарманку! И ты, мил человек, выключи! Для таких, как вы, наушники выдумали!
Уже через минуту Лидка ругалась со всем пляжем и после недолгой энергичной возни, криков, мата и прочих неблаговидных слов, музыка по всему пляжу, стихла.
– Сестра-то у тебя, какая буйная! – доложил наблюдательный мужик.
– Вы бы голову прикрыли, – посоветовала Оля.
– И ты туда же? – удивился мужик. – А мне показалось, драки не для тебя!
– Да нет, вы не поняли, – робко пояснила Оля, – солнце же печет, а вы без головного убора!
– А! – понял мужик и поспешно нацепил панамку.
Вернулась раскрасневшаяся от гнева Лидка, молча достала из сумки-холодильника бутылку с зеленым чаем, молча отпила и не взглянув на Олю, буркнула:
– Я в море, охладиться!
Через несколько дней и они покинули гостеприимный берег Крыма. Уже в поезде, не в меру раздражительная Лида отшвырнула телефон:
– Наверное, номер сменил!
– Зачем? – не поняла Оля.
– Как ты не понимаешь, – залилась слезами сестра, – я для него лишь развлечение, дурочка с курорта!
– Все пройдет, – попыталась утешить сестру Оля.
– Нет, – замотала головой Лида, – эх, дура я, дура!
И опять зашлась в рыданиях.
Дома, Лида продолжала плакать, смурная ходила на работу, младшую сестру не опекала и Оле пришлось самой отбиваться от похотливых «козлов», что вечно заглядывались на ее белую косу.
Наконец, все разрешилось. Лида призналась в беременности.
Родители пришли в ужас. Ну ладно, Оля, ветер в голове, но вот от кого не ожидали! И пошло, поехало!
Лида плакала, за нее боролась Оля. Тихая, незаметная Оля взяла шефство над старшей сестрой. Долгие месяцы ожидания и гнета развеялись в дым, когда родилась девочка, голубоглазое чудо. Лида с Олей нарекли новорожденную Светланкой.
Светланку, после недолгих гримас презрения и отвращения, приняли бабушка с дедушкой.
Лидка воскресла, воспрянула духом, а Оля повсюду появлявшаяся с ребенком, отбила охоту у развратников, попросту обманывая их и глядела с вызовом в глаза очередному поддонку, протянувшему грязные лапы к ее незапятнанной юности, что да, я – мать.
Так они и остались жить в своем мирке, освящаемом светом новой жизни, всеобщей любимицы, Светланки, так и живут.
Байки с того света
Денис Востряков пил и был безжалостно изгнан родственниками из благоустроенной квартиры на дачу. Произошло это холодной зимой.
На даче печь была, но не оказалось дров и Денис, пошмыгав носом, решил поискать кругом. Зимний день, наполненный солнечными искрами, сверкал, блестел и по-своему радовал. Но Востряков с сомнением поглядел на шустрых синичек, осудил красногрудых снегирей, беззаботно порхающих по голым веткам деревьев, и двинул по дачному поселку.
Скоро он выдохся, глубокий снег преодолевать оказалось безумно тяжело. Но все же разжился остатками гнилых деревяшек и, захватив здоровенную доску, добрался до своего домика, где довольно быстро справился с печью. Запек картошки, что осталась в корзинах с осенних запасов, напек яблок и задумался над своим положением.
Нет, работа у него была. На лесопилке. И зарплата, и пил он редко, но уходил в запой надолго.
Денис вздохнул, вспоминая разъяренные лица домашних: отца, матери, жены и двух дочерей.
Что он им мог наобещать, чтобы не выгоняли? Больше не пить? Это невозможно. Алкоголизм, насколько знал Денис, абсолютно неизлечим. Но может, стоит попробовать сладить с тягой к винищу?
С этими мыслями Денис заснул и проснулся от тишины. Тишина была неправдоподобная, страшная, невозможная. Денис подумал, что оглох. Выскочил на крыльцо, трясущимися руками касаясь своих ушей. Высоко, в темном небе мерцали и подмигивали ему звезды. Светила белым светом полная Луна, но звуки, куда подевались все звуки?
Правда, дачный поселок был расположен далеко от дорог, к тому же окружен смешанным лесом, но все же, почему такая тишина?
Денис, с отчаяния крикнул и еще раз крикнул. Внезапно, кто-то ответил. Издалека и точно таким же криком. Востряков вцепился себе в волосы. Сошел с ума? Алкоголики, говорят, регулярно попадают в «дурку»! Эхо? Но какое эхо в дачном поселке?
Денис разразился слезами. Всхлипывая, он принялся собирать немногочисленные пожитки, с которыми пришел на дачу. Запер дом и по своим следам полез к далекой тропинке, что протоптали немногочисленные дачники, набегающие с проверками в свои владения днем.
Однако не успел пройти и пары шагов, как услышал крик. Крик, полный отчаяния пригвоздил Вострякова на месте. Что это? Голос, до боли похожий на свой собственный.
Все, допился до чертиков, решил Денис и крестясь, беспрестанно оглядываясь, максимально ускорился.
Крик повторился. Уже ближе. Востряков побежал. Выбиваясь из сил, рванул через лес, не теряя тропинки, выбежал, наконец, на пустую автомобильную дорогу, по которой без передышки бежал два часа до города.
Крик повторился еще дважды, но уже где-то там, на дачах. Кто-то, страшный, искал его, Дениса Вострякова…
Ни весной, ни летом Денис, примирившийся с семьей, на дачу не ездил и начинал дрожать только при упоминании о дачном поселке. Его история не давала покоя домашним и проведя собственное расследование, Востряков-старший, наконец, докопался до сути.
В один день он привез с дачи в квартиру мужика. Загорелого, обросшего, корявого и угрюмого. После недолгих разговоров за обеденным столом, на кухне, когда мужик угостился парочкой, другой стопочкой водки, он рассказал недоверчиво слушавшему его Денису о зимней ночи, когда кто-то принялся кричать в пустом дачном поселке и он, мужик, естественно пошел на помощь. Но так никого и не нашел, хотя и проискал всю ночь.
Денис, бросивший с тех пор пить, вздохнул с облегчением, выразив вслух надежду, что теперь-то уж перестанут сниться ужасные сны с чертями. А на вопрос, что же сам мужик делал в зимнее время на даче, без удивления услышал историю о пьянстве мужика, за что и был изгнан родственниками с благоустроенной квартиры, недаром не только истории, но и голоса их оказались так похожи…
* * *
Кристина Шмелева, тридцати лет роду, мать-одиночка, заболела. С вечера она почувствовала себя плохо и решила повременить с переездом. Вздохнув о несговорчивой, злобной и алчной квартирной хозяйке, Кристина слегла.
Решение с переездом в деревню, в глушь далось нелегко, но имея на руках десятилетнего сына, не больно-то порассуждаешь, либо плати за съемную квартиру, либо катись на улицу. Никто не заплачет, всем глубоко и тщательно по фигу. Родственники налетели бы, будь она успешна и богата, но Кристина нуждалась в помощи, нуждалась в деньгах, кому она такая была нужна?
Сама виновата, злопыхала мать и поджимала губы, запираясь в своей квартире от родной дочери и внука, сиротливо приютившихся на ступеньках лестницы в холодном подъезде.
Мы сами едва живы, докладывала старшая сестра Кристины, поспешно дожевывая крупный кусок буженины и не пуская младшую сестру с племянником дальше порога своей навороченной богатой хаты.
Ты меня обокрала и я тебе ничего не должен, наскакивал на Кристину бывший муж и хватался за бутылку с вином, как за спасение, прячась от осуждающего взгляда сына.
И вот, Кристина слегла. В деревне их ждала четвертинка столетнего, заросшего мхом, бревенчатого дома. На большее, чем четвертинка, Кристина заработать не смогла. И то крутилась, вертелась, билась на трех-четырех работах три, нет, четыре года.
Сын ходил в школу, а после школы впрягался, помогал. Кристина работала круглосуточно, изредка только падая в кратковременные обмороки, схожие со смертью. Ипотека, мастерски пускаемые слухи о так называемых кредитах, все это Кристину не касалось. У нее не было стабильной и хорошо оплачиваемой работы, а были подработки. На одной работе, как правило, много не заработаешь. Ипотека, кредитование все это актуально для дружных, крепких семей, а не для матери-одиночки.
Кристина с тоской оглядывала зашарпанные стены съемного жилища и думала о воровской стране, в которой ее угораздило родиться. Будто в ужасном сне, будто в геенне огненной оказалась она, наедине со своим горем, которое должно было бы стать счастьем, маленьким сыном на руках.
Она размышляла о своей хамоватой хозяйке и вспоминала описания ужасов нищенской жизни у Достоевского.
Не стало Советов и моментом русские скатились обратно, к царизму, будто и не карабкались с советской властью к свету просвещения. Хамы комментируют в интернете, осыпая то или иное видео, фото, просто чей-то пост, матом, от которого тошнит. Хамы бродят по улицам городов, пьют, курят и вворачивают матерные словечки, считая свою речь нормальным разговорным языком. Ненормативная лексика звучит с экранов телевизоров, только в последнее время что-то государи-императоры спохватились, сделали вид чрезвычайно озабоченный воспитанием молодежи и велели перекрывать, во всяком случае, на телевидении, мат характерным пиканьем. Но остались книги, правда, не книги, так, книжонки, где герои, совершая подвиги обязательно матюкаются. Вот и хозяйка квартиры – та еще хамка.
Кристина не знала, как договориться с наглой бабой. Денег доплатить уже не было, все ушло на покупку части дома, и с трудом приподняв голову от подушки, она поглядела на бабу, разозлившуюся на больную квартирантку:
– Чего разлеглась? Вали отсюдова! – заорала хозяйка с порога. – Завтра у меня смотрины назначены, люди придут смотреть, а тут ты валяешься, пошла!
Завизжала она, не скрывая агрессии.
Сын Кристины бросился к маме, заплакал, обнимая ее слабые плечи.
Хозяйка ждала, невменяемая, наглая и тупая в своей алчности.
Кристина кое-как встала, оделась и, припадая, побрела с сыном к входной двери. Сын прихватил сумку с документами и, взвалив две сумки на плечи, все их добро, устремился к выходу, где привалившись к стене, еле дышала, больная мать.
Хозяйка схватилась за входные двери, но маленький Шмелев ее опередил и ловко, так что та ничего не сумела понять, ухватил ключи, запер входные двери, а ключи в карман сунул. Ключи эти были единственными, других жадная баба не сделала, вроде бы должна была сделать для себя дубликат, но не смогла преодолеть собственную алчность и потратить сколько-то рублей на еще один ключ, она надеялась, сделают квартиранты. Как всегда, в таких случаях, надеются твари и им подобные, те, кто наживается на бедах и несчастьях других людей, сдавая хламное жилье и мебель с помойки, мол, квартиранты ремонт сделают и мебель купят, глядишь, при переезде, чего оставят, а хозяйка-то и приберет, к себе на дачу, а что получше и в собственную квартиру, оставляя опять хлам уже для следующей партии квартирантов.
Кристина безразлично слушала крики бывшей хозяйки, сын не дал ей вмешаться, а повлек за собой на холодную улицу, на остановку, в автобус, где до вокзала, она поспала с часок привалившись к плечу сына, а после, едва очнувшись, оказалась в тепле зала ожидания. Сын на последние деньги купил два билета на позднюю электричку и, сбегав в аптеку, приобрел дешевого аспирина, принес бутылку простой воды, заставил Кристину выпить две таблетки.
Она выполняла все, что он требовал, послушная его действиям и приказам. Через два часа тряски в полупустой электричке, они вышли на одинокий полустанок и побрели в сторону дома.
Четвертинка дома была не обжитой, но готовой к приему долгожданных хозяев. Добротная мебель была оставлена при продаже и Шмелев младший быстренько перестелил кровать, используя собственное постельное белье, из сумки. Мать он уложил и она мгновенно уснула, едва даже понимая, где и что, она оказалась.
Мальчик затопил печь и, используя долг гостеприимства, который еще жив в наших деревнях, отправился к соседям, занимавшим большую часть дома. Соседи, большая дружная семья, узнав, в чем дело, ахнули и кинулись помогать. В некоторых ситуациях, чужие люди становятся роднее родных, так и тут произошло.
А квартирная хозяйка, выгнавшая на улицу больную женщину с маленьким сыном, билась, билась о железную дверь, запертую с той стороны на замок, кричала, кричала и докричалась. В замочную скважину вдруг кто-то с силой заорал, раз, другой, а после грохнул то ли кулаком, то ли чем потяжелее.
– Черти! – рявкнула хозяйка, думая, что это хулиганье.
– Они и есть! – завыли в замочную скважину. – Пришли по твою поганую душу!
– Ай-ай, – завизжала хозяйка, с ногами забираясь на скрипучую узкую кровать, где еще сохранилось тепло от больного тела квартирантки.
– Отдавай свою душу! – засвистели, захрюкали в замочную скважину.
Хозяйка, мелко дрожа, принялась креститься, бессвязно лепетать что-то о Боге и тут, забилась в истерике:
– Помоги! Господи, помоги!
– Не поможет! – доложили с той стороны двери и все стихло.
Она еще долго тряслась и сидела на кровати, подобрав под себя ноги, а утром вспомнила о сотовом телефоне в кармане. Набрала службу спасения, кратко рассказала, что заперли и надо бы замок взломать.
Приехали бравые ребята, взломали, открыли. За хлопотами о новом замке, она и думать позабыла о вчерашнем происшествии, но семеня вслед за слесарем, пришедшим из управленческой конторы вставить новый замок, услышала характерное хрюканье и посвистывание:
– Отдавай свою душу!
– Ай-ай, – бросилась она вперед слесаря и припадая к стене, обмочилась.
Слесарь глядел с удивлением то на нее, то на дворовых пьяниц притулившихся у подъезда. Пьяницы откровенно и нагло рассмеялись на ее позор, хамы смеялись над хамкой, какая ирония!..
Гитлер Гитлером, а жизнь идет!
Елене Дашковой за восхитительную историю…
Фриц еле дождался, когда начальник, сделав очередное распоряжение, вышел из кабинета. Метнувшись к массивному письменному столу, достал из нижнего ящика сложенный вдвое листок бумаги и нахмурился, недоумевая. Насколько он понимал, такого телефонного номера не могло быть!
Фриц сник, понял, что женщина из парка над ним подшутила.
В двери вежливо постучали. Фриц вскочил, торопливо сжав бумажку с номером в кулаке.
В кабинет заглянул подчиненный, Фриц суетливо передвигаясь по кабинету, переложил на молоденького служаку все распоряжения начальника и выбежал вон.
В голове его прокрутилось:
«Гитлер гитлером, а жизнь идет!»
Фриц ринулся в парк, где накануне, примерно в пять утра, он ее и встретил…
Ему часто не спалось, мучило заболевание сердца и нехватка воздуха. Спал он всегда с раскрытыми настежь окнами, но в эту длинную, предгрозовую ночь воздуха не было вовсе, ничто не проникало вовнутрь комнаты дома, где маялся Фриц. Проворочавшись до трех утра он не выдержал, схватил подушку и вышел из дома. До парка с его буйными зарослями сирени было рукой подать. Фриц выбрал скамейку и улегся, подложив подушку под голову, вдыхая восхитительный запах сирени, моментально уснул.
– Вот это мило! – громко произнес кто-то.
Фриц открыл глаза. Над ним стояла, чуть наклонившись, женщина. Он с удивлением ее разглядывал. Женщина, едва ли моложе него самого, но не забитая и сгорбленная, не в платке и мужицких сапогах, как он привык видеть повсеместно, а красавица, с прелестной прической, в платье синим горошком, в туфельках на высоких каблуках. Правда, женщина была немножко пьяна, но Фриц моментально простил ей эту маленькую слабость за восхитительно-свежий аромат духов, что окутывал ее всю с ног до головы, будто облаком.
– Ты что с костюмированного бала сбежал? – спросила женщина.
Фриц понимал по-русски и говорил по-русски, правда, с акцентом, но это ничего, не в разведшколе, в конце концов, ему экзамены сдавать. Он встал, оправил форму, в которую переоделся перед выходом из дома, не в кальсонах же в самом деле было путешествовать, пускай даже ночью!
Фриц вежливо склонил голову перед женщиной и назвался:
– Фриц!
– Хельга, – присела она в книксене и расхохоталась, увидев его недоумение, – да ладно, меня Леной зовут или Еленой Прекрасной!
– Елена Прекрасная, – автоматом повторил он.
Она кокетливо рассмеялась. У нее были серые глаза и обаятельная улыбка.
– Вы не русская? – догадался он, не в состоянии понять, как в таком маленьком поселении раньше не заметил столь чудесную особу.
– Русская? – покачала она головой, отвечая вопросом на вопрос.
Ее говор, мягкий и успокаивающий говор, ее грудной голос, окончательно его обворожили.
Фриц не был женат, он участвовал в великих походах Гитлера и, хотя только недавно осознал, что военной жилки в нем нет, повернуть время вспять было уже не под силу, и потому-то Фриц утешал себя философской мыслью: «Гитлер гитлером, а жизнь идет!»
Фриц был истинным арийцем, высоким, белокурым, голубоглазым, где-то в Германии, возможно и подрастал его ребенок. Подчиняясь приказам фюрера многие девушки из добропорядочных семей желали увеличить арийскую нацию, но краткие романы не перерастали в настоящую любовь и Фриц в душе своей сожалея об общем безумии беспорядочных связей отошел от этого занятия, с головой погрузившись в военную карьеру, которая и привела его в богом забытое русское поселение с мрачным недоверчивым народом.
– Елена Прекрасная, – произнес он.
Она наклонила голову, приготовившись слушать.
– Я не знаю, куда вас, здесь пригласить, но неподалеку есть городок, где в кафе, по вечерам, играет маленький оркестр из военных музыкантов, где вкусно кормят и подают отличные блюда.
– Свидание? – спросила она и оценивающе его оглядела. – Я согласна!
Достала из сумочки, что висела у нее на плече нежно-розового цвета блокнотик и карандаш, начиркала что-то, подала ему:
– Позвони мне часиков в шесть вечера, договоримся, где встретиться и поедем!
Он машинально сжал бумажку с телефонным номером, а Елена, послав ему воздушный поцелуй, быстро растворилась в зарослях сирени.
На следующее утро Фриц снова был в парке. Сидел на той же скамейке, нервно теребил листок бумажки с цифрами несуществующего телефонного номера. В пять утра он услышал постукивание каблуков, из зарослей сирени вышла она.
– Елена Прекрасная! – вскочил он.
Она насмешливо улыбнулась:
– Что же ты не позвонил?
– Такого телефонного номера не существует! – горячо возразил он.
– Ладно, – вздохнула она, недоверчиво его, оглядывая, – тогда пойдем!
И взяв его за руку, повела за собой.
– Фриц или как там тебя по-настоящему, я живу неподалеку, приглашаю к себе на чашку чаю!
Фриц кивнул, соглашаясь. Чаепитие в его понимании не выглядело предосудительным.
Елена Прекрасная уверенно вела кавалера по заросшей тропинке. В который раз, Фриц скривился от презрения, русские ленивы и не любят прибирать в местах общественного обитания, потому и леса у них в буреломах, парки в крапиве, лебеде, а кладбища опутаны вездесущими зарослями вьюнов.
Но наконец, они вышли из парка, и Фриц замер вырвав руку из руки своей спутницы. От панорамы высоких многоэтажных домов у него захватило дыхание.
– Хельга, – обратился он к Елене Прекрасной, от волнения переходя на родной немецкий язык, – что это?
– Мой город, – тоже на немецком, ответила она.
– А ты кто? – испытывая безотчетный ужас, прошептал он.
Она пожала плечами.
– Я – это я!
Он пытался собраться с мыслями и успокоиться, сердце билось в бешеной пляске.
– Хельга – это невозможно! – ткнул он пальцем в сторону высотных зданий. – Русские дома маленькие, с сараями и грязными свиньями.
– Возможно! – кивнула она. – Но это – реальность!
– Хельга! – простонал он, хватаясь за грудь. – Кто ты?
– Тебе плохо? – спросила она.
Он опустился на землю. Спасительная прохлада мягкой травы едва ему помогла.
Елена торопливо набирала на сотовом телефоне «03».
– Что это? – спросил он, с трудом шевеля посиневшими губами, указывая на сотовый.
– Телефон, – бросила она и расстегнула ворот его кителя, – ты что сотовые телефоны никогда не видел?
– Нет, – покачал он головой и начиная догадываться о невозможном, мистическом. Задал вопрос:
– Какой сейчас год?
Хельга ответила, какой.
– А у меня тысяча девятьсот сорок первый, – сказал он и взглянул в ее удивленные глаза, – что происходит, Хельга?
– Я не знаю, – растерялась она.
Фриц пополз обратно, в парк. Она потерянно шла за ним, повторяя, как заклинание, что вызвала «скорую».
Фриц полз так, будто от этого зависела вся его жизнь. Сквозь жгучую крапиву, сквозь заросли травы и лебеды. Дополз до скамейки, взобрался и лег, потеряв сознание.
– Я сейчас! – заметалась Елена, но странный мужчина в форме гитлеровского офицера вдруг исчез. Скамейка опустела…
Спустя какое-то время Фриц очнулся, Хельги рядом не было. Сердце отпустило, и Фриц смог встать. Он направился сквозь заросли, по тропинке, туда, где видел невозможно высокие, многоэтажные дома. Но перед ним открылось привычное пространство запущенности и грязи присущей русскому народу. Все те же покосившиеся серые избы с вонючими сараями, вот и все, что он увидел…
Хельга или Елена Прекрасная вернулась домой, открыла двери в квартиру. Выглянула мать, белокурая, голубоглазая, поразительно похожая на пропавшего Фрица.
– Мама, – начиная догадываться, прошептала Хельга, – мой дед был немцем?
– Ты это знаешь! – утвердительно кивнула мать.
Хельга без сил опустилась на пол, так вот кого она встретила в парке, собственного деда! Бывает же такое! Не призрака, но человека, из плоти и крови!
Долго потом Хельга ходила в парк, сидела на старой скамейке, мечтая увидеться с дедом, теперь-то она была к разговору готова, но Фриц так и не появился, он умер, вскоре, после встречи с Хельгой, больное сердце не выдержало, но за тот короткий промежуток времени, что ему был отпущен Богом, выяснил о родившейся дочери. Посылая в Германию деньги и подарки своей несостоявшейся жене, он писал о Хельге и о высотных домах, но письма заканчивал фразами: «Но все же, парки у них даже в будущем будут запущены, зарастут крапивой и лебедой!»
Женщина, родившая дочь от Фрица, недоумевала на его письма, а после войны, оказавшись на смертном одре, в страшной горячке перепоручила дочь милосердному офицеру советской армии, помогавшему мирному населению восстанавливать немецкие города. Офицер понимал по-немецки.
Дочь несчастной немки он привез на родину, домой, вырастил, как свою, собственную. По иронии судьбы, дом офицера располагался в том самом поселении, где в годы войны квартировала военная часть ее родного отца, Фрица. Мало того, кладбище немецких солдат все заросшее крапивой и лебедой было тут же, за парком, практически неотделимое от парка. Парк был началом кладбища, и кладбище являлось продолжением парка…


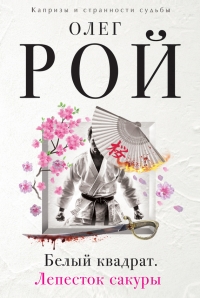

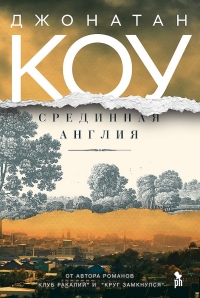


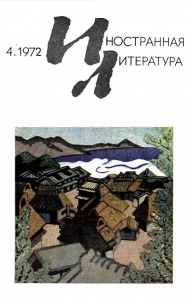
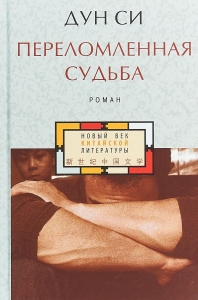


Комментарии к книге «Пьяная Россия. Том 2», Элеонора Александровна Кременская
Всего 0 комментариев